Эмиль Ажар Вся жизнь впереди
Сказали мне: «Безумным стал ты
Из-за того, кого ты любишь».
Ответил я: «Вся жизни сладость
Одним безумцам лишь доступна».
Яфи. Сад душистых травПерво-наперво скажу, что на свой седьмой мы топали пешком, и в этом мадам Роза со всеми ее килограммами и одной разнесчастной парой ног полной ложкой черпала повседневную жизнь со всеми ее горестями и заботами. Она напоминала нам об этом всякий раз, когда не жаловалась еще на что-нибудь, потому что в придачу ко всему была еврейкой. Здоровье у нее тоже было неважнецкое, и я, не откладывая на потом, скажу вам, что если кто и заслужил лифт, так это мадам Роза.
Когда я увидел ее впервые, мне было, наверное, года три. До этих лет у человека нет памяти и он живет в неведении. Неведение я потерял в возрасте трех или четырех лет, и без него иной раз приходится туго.
В Бельвиле было полным-полно евреев, арабов и черных, но семь этажей приходилось топать одной мадам Розе. Она говорила, что когда-нибудь так и помрет прямо на лестнице, и тогда мелюзга хором принималась реветь, как оно полагается, когда кто-нибудь помирает. Нас там набиралось человек шесть или семь, а то и больше.
Поначалу я не знал, что мадам Роза заботится обо мне, только чтобы получать в конце каждого месяца чек. Когда это до меня дошло, мне было уже лет шесть или семь, и меня здорово потрясло, что я, оказывается, платный. Я-то думал, мадам Роза любит меня просто так и мы друг для друга кое-что значим. Всю ту ночь я проревел — это было мое первое большое горе.
Мадам Роза заметила, что я не в себе, и объяснила, что родня там не родня — это ровным счетом ничего не значит и некоторые даже уезжают отдыхать, а собаку бросают в саду на привязи, и каждое лето три тыщи собак мрут вот так, лишившись привязанности. Мадам Роза посадила меня к себе на колени и поклялась, что я ей дороже всего на свете, но я сразу вспомнил про чек и с ревом убежал.
Я спустился вниз, в кафе мосье Дрисса, и сел напротив мосье Хамиля — он был бродячим по Франции торговцем коврами и повидал в жизни всякое. Глаза у него мировецкие — такие, что творят вокруг добро. Уже когда я с ним познакомился, он был очень старым и с тех пор только и знал, что старел.
— Мосье Хамиль, почему вы всегда с улыбкой на лице?
— Так я каждый день благодарю Господа за то, что он дал мне хорошую память, малыш Момо.
Мое имя Мухаммед, но все зовут меня Момо, чтоб короче.
— Шестьдесят лет назад, когда я был молод, я повстречал одну девушку, и мы с ней полюбили друг друга. Это продолжалось восемь месяцев, потом она ушла жить в другое место, а я все еще помню об этом, шестьдесят лет спустя. Я ей говорил: я тебя не забуду. Шли годы, и я не забывал ее. Иногда я боялся, что все-таки забуду, ведь у меня было еще много жизни впереди, и разве мог я дать себе слово — я, ничтожный человек, когда Господь, глядишь, возьмет да и сотрет все в моей памяти, ведь ластик-то в его руках? Теперь я спокоен. Джамилю я не забуду. Слишком мало времени мне остается — я умру раньше.
Я подумал о мадам Розе, помешкал немного и спросил:
— Мосье Хамиль, можно жить без любви?
Он не ответил. Он отпил немного мятного чая, полезного для здоровья. С некоторых пор мосье Хамиль всегда ходил в серой джеллабе, чтобы не быть застигнутым в пиджаке, когда его призовет Господь.
Он посмотрел на меня и промолчал. Должно быть, посчитал, что я еще несовершенных лет и не должен знать. Мне в то время было лет семь, а может, и восемь, точно я вам не скажу, потому что не был датирован, — ну, это вы увидите потом, когда мы познакомимся поближе, если вы дадите себе такой труд.
— Мосье Хамиль, почему вы не отвечаете?
— Ты очень мал, а когда человек так мал, некоторых вещей ему лучше не знать.
— Мосье Хамиль, так можно жить без любви?
— Да, — сказал он и опустил голову, словно ему было стыдно.
Я разревелся.
Долгое время я не знал, что я араб, потому что никто меня не обзывал. Меня просветили на этот счет только в школе. Но я никогда не дрался, ведь бить человека всегда больно.
Мадам Роза родилась польской еврейкой, но много лет боролась за жизнь в Марокко и Алжире и потому знала арабский не хуже нас с вами. По тем же причинам она знала еврейский, и у нас дома часто на нем разговаривали. Большинство наших соседей черные. На улице Биссон есть три общежития для черных и еще два таких, где они живут племенами, как привыкли в Африке. По большей части это сараколе — этих больше всего — и тукулер [[1] ], которых тоже хватает. На улице Биссон много и других племен, да только времени не хватит всех перечислять. Остальная часть улицы и бульвара Бельвиль заселена в основном евреями и арабами. И так до бульвара Гут д’Ор, а дальше начинаются французские кварталы.
Вначале я не знал, что у меня нет матери, и не знал даже, что ее полагается иметь. Мадам Роза избегала говорить об этом, чтобы не наводить меня на всякие мысли. Я не знаю, отчего я родился и как все это вообще произошло. Мой приятель Махут, он на несколько лет меня старше, сказал, что вся причина в гигиене. Сам-то он родился в Алжире, в Касбе [[2] ], и только потом приехал во Францию. В Касбе тогда еще не имелось гигиены, и он родился, потому что там не было ни биде, ни питьевой воды — вообще ничего. Этот Махут узнал обо всем куда позже, когда его папаша вздумал перед ним оправдываться и клялся, что злого умысла тут не было. Еще Махут сказал мне, что теперь у женщин, которые борются за жизнь, есть пилюли для гигиены, но он родился слишком рано.
Мамаши забегали к нам раз-другой в неделю, но всегда не ко мне. Почти все мы у мадам Розы были детьми шлюх, и те, уезжая порой на месяц-другой бороться за жизнь в провинцию, до и после непременно приходили проведать своих ребят. Вот я и начал терзаться из-за матери. Мне казалось, мать есть у всех, кроме меня. У меня начались колики в желудке и судороги — это чтобы она пришла. На той стороне улицы был один парень с мячом, так он сказал мне, что его мать всегда приходит, когда у него болит живот. Живот у меня заболел, и хоть бы хны, а потом начались судороги, и тоже напрасно. Для пущей заметности я даже гадил повсюду в квартире. Без толку. Мать не пришла, а мадам Роза обозвала меня арабским ублюдком — в первый раз, ведь она не француженка. Я все орал ей, что хочу увидеть мать, и еще несколько недель продолжал гадить прямо в доме — в отместку. В конце концов мадам Роза пригрозила отдать меня в Общественное призрение, если я не перестану, и тут я перепугался, потому что Общественное призрение — это первое, чем начинают стращать детей. Я из принципа продолжал свое, но разве ж это жизнь? Нас ведь тогда на попечении у мадам Розы было семеро, и все взялись гадить со мной наперегонки, потому что нет больших соглашателей, чем дети, и под конец кругом стало столько какашек, что мне так и не удалось выделиться.
Мадам Роза была и без того старая и усталая, и чаша ее терпения давным-давно переполнилась за все те годы, что она прожила еврейкой. Ей приходилось по многу раз на день натруженными ногами таскать на седьмой этаж свои девяносто пять килограммов, и когда она наконец входила в квартиру и чуяла запах дерьма, то просто падала с сумками в кресло и принималась рыдать вовсю, но ведь и ее нужно понять. Французов пятьдесят миллионов жителей, и она говорила, что если б все они поступали, как мы, то даже немцы бы не выдержали и убрались восвояси. Мадам Роза близко узнала Германию во время войны, но все-таки вернулась оттуда. Так вот, она входила, чуяла запах дерьма и начинала вопить: «Это Освенцим! Освенцим!» — потому что в свое время была депортирована в этот Освенцим, устроенный для евреев. Однако сама она по части расизма всегда держалась безупречно. Например, у нас был маленький Мойше, так его она сколько раз обзывала вонючим «бико» [[3] ], а вот меня — никогда. В то время я еще не понимал как следует, что при всей ее толщине душа у нее была тонкая. В конце концов я плюнул на это дело: мать все равно не приходила, но у меня еще долго бывали колики и судороги, и даже теперь, когда я об этом подумаю, у меня иногда болит живот. После я пробовал обратить на себя внимание по-другому. Я начал промышлять в магазинах: то помидор стащу, то дыню. И все ждал, чтобы кто-нибудь глянул в мою сторону и заметил. Когда хозяин выходил и давал мне по шее, я принимался скулить, но зато кто-то все же проявлял ко мне интерес.
Однажды я стибрил в бакалейной лавке яйцо. Хозяйкой там была женщина, и она увидела меня. Мне вообще больше нравилось воровать у хозяек, потому что одно про свою мать знал наверняка: что она женщина. Иначе просто не бывает. Я взял яйцо и сунул его в карман. Хозяйка подошла, и я дожидался от нее оплеухи в знак того, что меня заметили как следует. Но она присела возле меня на корточки и погладила меня по голове. И даже сказала:
— Какой ты милый!
Поначалу я подумал, что этими нежностями она просто хочет выманить назад яйцо, и крепко держал его в руке в глубине кармана. Ей полагалось бы влепить мне затрещину, как это делает мать, когда попадаешься ей на глаза. Но эта женщина поднялась, пошла к прилавку и принесла мне еще одно яйцо. А потом поцеловала меня. Тут меня обуяла такая надежда, просто слов нет. Я проторчал перед этой лавкой все утро. Сам не знаю, чего ждал. Время от времени женщина улыбалась мне, а я все стоял там с яйцом в руке. Мне было лет шесть или около того, и я думал, что вот это уже на всю жизнь, а мне всего лишь яйцо подарили. Я вернулся домой и весь день промаялся животом. Мадам Розы не было, она ушла лжесвидетельствовать в полицию, ее попросила об этом мадам Лола. Мадам Лола — это перевертыш с пятого этажа, она работает в Булонском лесу, а перед тем как стать перевертышем, была чемпионом по боксу в Сенегале и недавно здорово отделала в лесу одного клиента, который некстати сунулся со своим садизмом, — откуда ему было знать. Мадам Роза пошла свидетельствовать, что в тот вечер они были с мадам Лолой в кино и потом вместе смотрели телевизор. Про мадам Лолу я вам еще расскажу, это человек и впрямь не как все — такие бывают. Я ее очень за это любил.
Дети все очень заразительные. Стоит завестись одному, как тут же появляются другие. В то время нас у мадам Розы было семеро. Двое, правда, были приходящими: мосье Мустафа, всем известный мусорщик, приводил их утром, перед шестичасовыми отбросами, за неимением жены, которая отчего-то умерла. Под вечер он забирал их к себе и заботился о них сам. Из постоянных были Мойше, у которого возраста еще меньше, чем у меня; Банания, который все время улыбался, таким уж радостным уродился; Мишель, у которого были когда-то родители-вьетнамцы и которого мадам Роза вот уже год — с тех пор как за него перестали платить, — собиралась завтра же выставить за дверь. Эта еврейка была славная женщина, но и у нее были пределы. Часто случалось, что женщины уезжали бороться за жизнь в далекие края, где за это здорово платят, и оставляли своего ребенка мадам Розе, а сами никогда уже не возвращались. Просто уезжали, и с концами. Обычная история: дети, от которых не сумели вовремя избавиться и в которых нет надобности. Иногда мадам Розе удавалось поместить их в семьи, которые чувствовали себя одиноко и нуждались в ком-то, но это было непросто, потому что есть всякие законы. Если женщина вынуждена бороться за жизнь, то не имеет права на родительство — так велит проституция. Вот она, боясь потерять работу, и прячет свое дите, не желая видеть его призретым. Она сдает ребенка на хранение к людям, которых хорошо знает и которые умеют помалкивать. Обо всех, кто на моих глазах прошел через руки мадам Розы, и не расскажешь, но таких, как я, осевших там окончательно, было мало. После меня самыми долгосрочными были Мойше, Банания и вьетнамец, которого в конце концов взяли в ресторан на улице Мосье ле Пренс и которого я теперь и не узнаю при встрече, так это далеко.
Когда я начал требовать мать, мадам Роза обозвала меня юным вымогателем и что все арабы такие: дай им палец, так они всю руку норовят отхватить. На самом деле мадам Роза была вовсе не такая и говорила так только по причине предрассудков, и я знал, что меня она любит больше всех. Но как только заблажил я, загорланили и все остальные, так что мадам Роза оказалась лицом к лицу с семью мальцами, которые один громче другого требовали себе мамаш. Тогда она присоединилась к нам, и мы устроили самую настоящую коллективную истерику. Она принялась рвать на себе волосы, которых у нее уже почти не было, и от неблагодарности у нее полились слезы. Она закрыла лицо руками и продолжала реветь, но этот возраст не знает жалости. Со стен даже штукатурка посыпалась, но не от рыданий мадам Розы, она просто отработала свое.
Волосы у мадам Розы были седые и вовсю выпадали, потому что тоже отработали свое и не особенно держались за свое место. Она страсть как боялась облысеть — это ужасно для женщины, у которой и так мало чего осталось. Правда, задницы и грудей у нее хватило бы на пятерых, и, смотрясь в зеркало, она широко улыбалась, словно старалась понравиться себе самой. По воскресеньям она, вся расфуфыренная, в рыжем парике, отправлялась в сквер Болье, где этакой щеголихой просиживала по нескольку часов. Красилась она по многу раз на день, тут уж ничего не поделаешь. В парике и с краской на лице сама она не так бросалась в глаза, а еще мадам Роза всегда расставляла в квартире цветы, чтобы вокруг нее было покрасивей.
Успокоившись, мадам Роза затащила меня в уборную, где обозвала заводилой и сказала, что заводил всегда наказывают тюрьмой. Еще она сказала, что моей матери известны все мои проделки и если я хочу когда-нибудь быть с ней, то должен вести чистую и праведную жизнь без детской преступности. Уборная была крохотная, так что мадам Роза из-за своей ширины целиком там не помещалась, и даже занятно было видеть столько много всего у такой одинокой женщины. Думаю, внутри всего этого она чувствовала себя еще более одинокой.
Когда на кого-нибудь из нас переставали приходить чеки, мадам Роза не выбрасывала виновника за порог. Так обстояло дело с Бананией — отец его был неизвестен, и потому его не в чем было упрекнуть, а мать посылала немного денег от случая к случаю. Мадам Роза крыла Бананию почем зря, но тому на это было наплевать, потому как у него не было ничего, кроме своих трех лет да улыбки. Думаю, самого Бананию мадам Роза еще отдала бы в Призрение, но уж никак не его улыбку, а раз одно без другого существовать не могло, ей пришлось сохранить обоих. А меня отрядили водить Бананию в африканские общежития на улице Биссон, чтобы он видел черноту, — на этом мадам Роза стояла твердо.
— Ему надо видеть черноту, иначе потом он к ней не привыкнет.
И вот я брал Бананию и вел его к соседям. Все ему были рады, потому что у этих людей семьи остались в Африке, а один ребенок всегда наводит на мысль о другом. Мадам Роза понятия не имела, кем был Банания, которого еще звали Туре: малийцем, сенегальцем, гвинейцем или кем-нибудь еще, — его мать, перед тем как уехать в дом терпеливости в Абиджан, боролась за жизнь на улице Сен-Дени, а при таком ремесле поди-ка разберись. Мойше — тот тоже был очень непостоянен по части платежа, но тут уж руки у мадам Розы были связаны, потому что такие вещи, как Общественное призрение, промеж евреев не делаются. На меня же в начале каждого месяца приходил чек на триста франков, и я был неуязвим. Думаю, у Мойше-то мать была, да стыдилась: ее родители ни о чем не подозревали, она была из хорошей семьи, и вдобавок Мойше родился блондином с голубыми глазами и без ихнего приметного носа, а тут уж никуда не денешься, стоит только на него посмотреть.
Мои железные три сотни в месяц внушали мадам Розе уважение. Мне шел десятый год, у меня даже появились признаки созревания — для этих дел арабы созревают раньше всех. Поэтому я знал, что мадам Розе я представляюсь чем-то надежным и она хорошенько подумает, прежде чем спустить на меня собак. Так и произошло тогда в уборной, когда мне было шесть лет. Вы скажете, я что-то путаю с годами, но это не так: когда до этого дойдет, я объясню, как враз постарел на четыре года.
— Послушай, Момо, ты старший и должен подавать пример, так больше не устраивай мне тут бардак со своей мамашей. Ваше счастье, что вы их не знаете, своих мамаш, потому что годы ваши нежные, а это такие шлюхи, просто спасу нет, в страшном сне такого не привидится. Ты знаешь, что такое шлюха?
— Это кто борется за жизнь передком.
— Хотела бы я знать, где ты нахватался таких мерзостей, но в твоих словах много правды.
— А вы тоже боролись за жизнь, мадам Роза, когда были молодой и красивой?
Она улыбнулась: приятно услышать, что и ты была молодой и красивой.
— Ты славный мальчуган, Момо, но давай-ка угомонись. Помоги мне. Я старая и больная женщина. И так уже после Освенцима у меня в жизни были сплошные неприятности.
Она была такая грустная, что даже незаметно было, какая она страхолюдина. Я обнял ее за шею и поцеловал. На улице ее называли женщиной без сердца, и у нее и в самом деле за душой не было ничего и никого, кто бы о ней позаботился. Она продержалась без ничего за душой шестьдесят пять лет, и бывали минуты, когда ей стоило простить все, даже бессердечность.
Она так ревела, что мне захотелось пописать.
— Извините, мадам Роза, я хочу пописать. После я сказал ей:
— Ну ладно, мадам Роза, я понял, что с матерью у меня дело швах, тогда можно у меня вместо нее будет собака?
— Что-что? По-твоему, тут только собаки и не хватает! А чем мне ее кормить? И кто будет присылать на нее чеки?
Однако она ничего не сказала, когда я умыкнул пуделечка, серого в завитушках, из собачьего питомника на улице Кальфетр и привел в дом. Я зашел на псарню, спросил, можно ли мне погладить пуделька, и хозяйка дала мне щеночка, потому что я поглядел на нее как надо. Я взял его, гладил-гладил да и задал деру. Что я умею, так это бегать. В жизни без этого никак нельзя.
И хлебнул же я горя с этим пуделем! Полюбил я его — ну просто спасу нет. Да и остальные тоже, кроме разве что Банании, которому на него было ровным счетом наплевать, он и так был счастлив, безо всякой причины, да я и не видел ни одного черного, чтоб был счастлив по причине. Я все время таскал щенка на руках, но мне никак не удавалось подобрать ему имя. Стоило мне подумать о каком-нибудь там Тарзане или Зорро, как появлялось чувство, что где-то ждет имя, которое еще ничье. В конце концов я остановился на Супере, но не окончательно, с правом замены, если найду что-нибудь получше. К тому времени во мне много чего скопилось, и я все отдал Суперу. Не знаю, что бы я без него делал, это и впрямь было для меня неотложно, не то я, видно, кончил бы за решеткой. Теперь и я что-то значу, думал я, когда его выгуливал, ведь я — это все, что у него есть на свете. Я его так любил, что даже отдал. Мне было уже лет девять или что-то в этом роде, а в таком возрасте все люди уже думают — кроме, наверное, счастливых. Добавлю, что у мадам Розы, не в обиду ей будет сказано, было не сладко, даже когда ты привычный. Поэтому, когда Супер начал расти для меня с точки зрения чувств, я решил устроить его жизнь — я бы и для себя самого это сделал, если б можно было. Учтите, что и он был не кто-нибудь, а пудель. Как-то одна дама говорит мне: «Ах, какой миленький песик!» — и спрашивает, мой ли он и нельзя ли его купить. Ходил я оборванцем, вид у меня не тутошний, так что ей стало ясно, что собака совсем другой породы.
Я продал ей Супера за пятьсот франков, и он того стоил. Я запросил с этой женщины пять сотен, потому что хотел быть уверенным, что у нее есть средства. Попал я удачно, у нее была даже машина с шофером, и она тут же впихнула Супера внутрь — на случай, если у меня окажутся родители и поднимут хай. Вы не поверите тому, что я сейчас скажу. Взял я эти пятьсот франков и зашвырнул их в сточную яму. Потом сел на тротуар и заревел в три ручья, размазывая кулаками слезы, но был счастлив. У мадам Розы было ненадежно, все мы висели на волоске — с больной старухой, без денег, да еще с Общественным призрением на нашу голову, а такая жизнь не для собаки.
Когда я вернулся домой и сказал ей, что продал Супера за пятьсот франков и швырнул деньги в сточную канаву, мадам Роза прямо-таки посинела от страха, потом глянула на меня и понеслась запираться на два оборота в своей каморке. С той поры она всегда ночью запиралась на ключ, на случай, если я опять свихнусь, возьму и перережу ей горло. Остальные пацаны, когда узнали, подняли страшный гвалт, потому что не любили Супера по-настоящему, он им был нужен просто для забавы.
Нас тогда была целая куча, человек семь, если не восемь. Помню, была Салима, которую матери удалось спасти, когда соседи донесли, что она панельная, и Общественное призрение за недостойный образ жизни устроило на нее налет. Она прервала клиента и сумела выдворить Салиму, которая пережидала на кухне, через окно и спрятать ее на всю ночь в мусорном ящике. Утром она заявилась к мадам Розе с девчонкой, пахшей помойкой и почти что в истерике. Мимоходом побывал у нас еще Антуан — он был всамделишный француз, единственный в своем роде, и все таращились на него, чтобы увидеть, как же это бывает. Но ему было всего два года, так что мы мало чего разглядели. А больше я и не помню, кто был, все то и дело менялись вместе с матерями, которые то приводили, то забирали своих детей. Мадам Роза говорила, что женщинам, которые борются за жизнь, недостает моральной поддержки, потому что сутилеры теперь сплошь и рядом не делают свое дело как полагается. Женщинам нужны дети как смысл жизни. Они приходили часто — когда у них бывала передышка или когда заболевали — и уезжали за город со своим карапузом, чтобы на него нарадоваться. Я так и не уразумел, почему только тем шлюхам, которые зарегистрированы, запрещают иметь детей, другие-то рожают в свое удовольствие. Мадам Роза считала, это все потому, что во Франции постель возвеличивают как нигде, тут из нее делают такой культ, что и представить себе невозможно, коли сам не видел. Главней постели, говорила мадам Роза, да еще Людовика Четырнадцатого у них во Франции нет ничего, потому-то на проституток, как их называют, вечные гонения: порядочным женщинам хочется иметь на постель монополию. Сколько я видел у нас рыдающих мамаш — на них донесли в полицию, что при своей профессии они обзавелись детьми, и они помирали со страху. Мадам Роза их успокаивала и рассказывала, что у нее есть один полицейский комиссар, который сам родился от шлюхи и теперь ей, мадам Розе, покровительствует, а один знакомый еврей снабжает ее липовыми документами, про которые никто ничего не скажет, до того они настоящие. Этого еврея я никогда не видел, потому что мадам Роза его скрывала. Они познакомились в еврейском общежитии в Германии, где их по ошибке не истребили, и поклялись друг дружке, что больше не дадут себя зацапать. Еврей этот обретался где-то во французском квартале и фабриковал поддельные бумаги как бешеный. Его-то заботами мадам Роза и заполучила документы, которые подтверждали, что она — это не она вовсе, а такая, как все. С такими бумагами, говорила мадам Роза, даже израильтянам ни в чем ее не уличить. Само собой, на этот счет она все равно не была совсем спокойна, потому что для этого надо умереть. Жизнь — всегда паника.
Так вот, я говорил, что пацаны долго бузили, когда я отдал Супера, чтобы обеспечить ему будущее, которого у нас не было, — все бузили, кроме Банании, который, как всегда, был страшно доволен. Я вам говорю, этот паршивец был не от мира сего: ему стукнуло целых четыре года, а он все еще радовался жизни.
Назавтра мадам Роза первым делом потащила меня к доктору Кацу — посмотреть, не свихнулся ли я. Мадам Роза хотела, чтобы у меня взяли кровь и проверили, не сифилитик ли я, как всякий араб, но доктор Кац просто зашелся, аж борода от гнева затряслась — да, я забыл вам сказать, что у него борода. Он крепко ругал мадам Розу и кричал, что это все орлеанские слухи [[4] ]. Орлеанские слухи — это когда евреи в готовом платье на самом деле не кололи белых женщин, чтобы отправлять их в бордели, но все вокруг на них были злы. Вечно-то они дадут повод говорить о себе на пустом месте.
Но мадам Розу не так-то просто было утихомирить.
— Как это все в точности произошло?
— Он взял пятьсот франков и выкинул их в канализацию.
— Это его первый припадок?
Мадам Роза, не отвечая, смотрела на меня, и мне стало очень грустно. Я никогда не любил причинять людям неприятности, я философ. Позади доктора Каца на камине стоял парусник с белыми как снег крыльями, и потому как на душе у меня было погано, мне захотелось умчаться прочь, далеко-далеко от себя самого, и я принялся готовить корабль в полет, поднялся на борт и твердой рукой направил его в океанские просторы. Думаю, именно там, на борту парусника доктора Каца, я впервые уехал далеко. Еще и сейчас я не могу сказать, что это просто детские бредни. Я и теперь, стоит мне только захотеть, могу подняться на борт парусника доктора Каца и отправиться на нем в одиночку далеко-далеко. Об этом я, понятное дело, никогда не говорю и всякий раз притворяюсь, будто я здесь, рядом.
— Доктор, прошу вас тщательно обследовать этого ребенка. Вы же сами запретили мне волноваться из-за сердца, а он продал самое дорогое, что у него было на свете, и швырнул пятьсот франков в сточную яму. Даже в Освенциме такого не вытворяли.
Доктор Кац был хорошо известен всем евреям и арабам в окрестностях улицы Биссон своим христианским милосердием и лечил их с утра до вечера и даже позже. У меня остались о нем самые добрые воспоминания, тут было единственное место, где мне доводилось слышать, как обо мне говорят, и где меня обследовали, будто я что-то значу. Я часто приходил туда один, и не потому, что болел, а просто посидеть у него в приемной. И просиживал там подолгу. Он видел, что я торчу без всякой надобности в приемной и занимаю стул, и это при том, что в мире еще столько нужды, но всегда приветливо улыбался мне и вовсе не сердился. Часто, глядя на него, я думал, что, если б мне полагался отец, я бы выбрал доктора Каца.
— Он любил этого пса — ну просто спасу не было, он даже засыпал с ним в обнимку, и что же он делает? Он его продает, а деньги выбрасывает. Этот ребенок — он не как все, доктор. Боюсь, как бы у него в роду не было случаев буйного помешательства.
— Могу вас заверить, что ничего не случится, абсолютно ничего, мадам Роза.
Я разревелся. Я-то знал, что ничего не случится, но об этом впервые говорили так открыто.
— И вовсе ни к чему плакать, малыш Мухаммед. Впрочем, можно и поплакать, если тебе так лучше. Часто он плачет?
— Никогда, — ответила мадам Роза. — Никогда он не плачет, этот ребенок, и однако одному Богу известно, как я мучаюсь.
— Ну вот, теперь вы сами видите, что дело идет на поправку, — сказал доктор. — Он плачет. Он развивается нормально. Вы правильно сделали, что привели его, мадам Роза, я пропишу вам успокоительное. Вы просто-напросто переволновались.
— Когда воспитываешь детей, нужно побольше волноваться, доктор, иначе они вырастают бандитами.
Обратный путь мы проделали рука об руку — мадам Роза любит показаться в компании. Она всегда долго одевается, перед тем как выйти, потому что была когда-то женщиной и это в ней еще чуток осталось. Она сильно красится, но ей уже бесполезно прятаться от возраста. Лицо у нее как у старой лягушки, да еще еврейской, — с очками и астмой. Поднимаясь по лестнице с продуктами, она то и дело останавливается и говорит, что когда-нибудь помрет прямо на ступенях, как будто это так важно — перед смертью непременно одолеть все семь этажей.
Дома нас поджидал мосье Н’Да Амеде, сводник, которого еще называют сутилером. Если вы здешний, то должны знать, что тут вообще полным-полно туземцев, которые, как видно из этого прозвания, приезжают к нам из Африки. У них много общежитий, которые называют трущобами, где у них нет предметов первой необходимости вроде гигиены и отопления города Парижа, которые досюда не доходят. Есть такие дома для черных, где их живет до ста двадцати по восемь человек в комнате, а одна-единственная на весь дом уборная — внизу, и тут уж они облегчаются где попало, потому как с этим делом ждать не станешь. Раньше, до меня, существовали бидонвилли, но Франция их снесла, чтобы не позориться. Мадам Роза рассказывала про одно общежитие в Обервилье, где сенегальцев удушали угольными печками: помещали в комнату с закрытыми окнами, и к утру они были трупами. Их душили вредные веяния, которые исходили от печки, пока они спали сном праведников. Я часто наведывался к туземцам, жившим на улице Биссон, и принимали меня всегда очень хорошо. По большей части они там были мусульмане, как и я, но причина была вовсе не в том. Я думаю, им было приятно видеть девятилетнего пикета, у которого в голове нет еще ни одной идеи. У стариков — у тех всегда идеи в голове. К примеру, неправда, что все черные на одно лицо.
Мадам Самбор, которая им стряпала, нисколько не походила на мосье Дья — это заметно сразу, как только привыкнешь к черноте. Уж смешным мосье Дья никак не назовешь. Глаза у него будто специально были устроены, чтобы нагонять страх. Он все время читал. Еще у него была во-от такой длины бритва, которая перестает складываться, когда нажмешь на одну штучку. Считалось, что он держит ее для бритья, но вы скажите это кому-нибудь другому. Их в общежитии было полсотни, и все слушались его с полуслова. Когда он не читал, то делал всякие упражнения на полу, чтобы стать самым сильным. Он и так был силачом, но ему все мало было. Я не понимал, зачем человек, который и без того силен как бык, тратит столько сил, чтобы накачаться еще. Я у него ничего не спрашивал, но думаю, что он все никак не чувствовал себя достаточно сильным для того, что ему хотелось сделать. Мне тоже иногда до того хочется стать сильным — сдохнуть можно. Иногда я мечтал, что я фараон и ничего и никого не боюсь. Я частенько бродил вокруг комиссариата на улице Дедон, но без всякой надежды — я хорошо знал, что в девять лет это невозможно, я был еще слишком несовершеннолетний. Я мечтал стать фараоном, потому что у них сила безопасности. Я считал, что фараон сильнее всех на свете, и далее не подозревал, что существуют еще и полицейские комиссары. Только потом я узнал, что бывают и посильней, но так никогда и не смог добраться мыслями до Префекта Полиции, это превосходило мое воображение. Сколько мне там было лет — восемь, ну, десять, и я боялся остаться без никого на свете. Чем труднее мадам Розе становилось забираться на седьмой этаж и чем дольше она после этого отдыхала в кресле, тем больше я чувствовал себя меньше и боялся.
А тут еще вопрос с моим днем рождения — он не на шутку меня донимал, особенно когда меня турнули из школы, сказав, что я слишком мал для своего возраста. Как бы то ни было, возраст не имел значения, потому что свидетельство, удостоверявшее, что я действительно родился и что живу по всем правилам, было липовое. Как я вам уже говорил, бумаг у мадам Розы был полный дом, и она даже могла бы доказать, что и в десятом колене не была еврейкой, если бы полиция вздумала забрать ее с обыском. Она прикрылась со всех сторон с тех пор, как была захвачена врасплох французской полицией, которая поставляла немцам евреев, и помещена в Велодром [[5] ]. Оттуда ее переправили в еврейское общежитие в Германию, где их сжигали. Она все время боялась, но не как все, а гораздо сильнее.
Однажды ночью я услышал, как она кричит во сне, и от этого проснулся и увидел, что она встает. Комнат было две, и одну она занимала сама, без никого, если не считать случаев, когда нас набиралась куча мала и мы с Мойше ложились спать у нее. Той ночью как раз так и вышло, только Мойше не было: он подыскал себе одну еврейскую семью без детей, которая заинтересовалась им и брала под наблюдение — убедиться, что он пригоден для усыновления. Домой он возвращался чуть живой, до того из кожи вон лез, чтобы им понравиться.
Когда мадам Роза заорала, я проснулся. Она зажгла свет, и я скосил на нее глаз. Голова у ней тряслась, а глаза были такие, будто черт-те что увидели. Потом она слезла с кровати, накинула халат и достала ключ, спрятанный под шкафом. Когда мадам Роза нагибается, зад у нее становится еще громадней.
Она вышла на лестницу и стала спускаться. Я пошел за ней следом, потому что она была так напугана, что я не посмел остаться один.
Мадам Роза спускалась по лестнице то при свете, то впотьмах: выключатель-автомат из экономических соображений срабатывает у нас почти моментально, управляющий — большая сволочь. Один раз, когда снова стало темно, я сам, как последний идиот, взял и включил свет, и мадам Роза, которая была этажом ниже, испустила вопль: она заподозрила человеческое присутствие. Она глянула вверх, потом вниз и снова начала спускаться, и я тоже, но до выключателей больше не дотрагивался: эта штука нам обоим внушала страх. Я ничегошеньки не понимал в происходящем, меньше даже, чем обычно, а от этого всегда еще страшней. Коленки у меня тряслись, и жутко было глядеть на старуху, которая спускалась по этажам крадучись, словно индеец, как будто кругом полно врагов и даже того хуже.
Добравшись до первого этажа, мадам Роза не стала выходить на улицу, а повернула налево, к лестнице в подвал, где нет электричества и черно даже летом. Нам мадам Роза запрещала ходить сюда, потому что в таких вот местах всегда душат детей. Когда мадам Роза ступила на эту лестницу, я подумал: ну все, крышка, она рехнулась, и чуть было не побежал за доктором Кацем. Но мне было до того страшно, что я затаился и решил ни за что не шевелиться, уверенный, что если сделаю шаг, все это завоет и кинется на меня со всех сторон — все те чудища, которые наконец вырвутся на волю из темных углов, по которым они прятались с тех пор, как я родился.
И тогда я увидел слабый отсвет. Он исходил из подвала, и это меня немножко успокоило. Чудища редко зажигают свет, для них полезней всего темень. Я сошел вниз, в коридор, где пахло мочой и даже кой-чем похлеще, потому что в доме по соседству, где жили африканцы, была всего одна уборная на сто человек и они делали свои дела где попало. В подвале оказалось много дверей, и одна из них была открыта — туда вошла мадам Роза и оттуда шел свет. Я заглянул.
Посреди стояло продавленное красное кресло, засаленное и колченогое, — в нем восседала мадам Роза. Из стен, как зубы, торчали кирпичи, и стены словно ухмылялись. На комоде стоял еврейский семисвечник, в котором горела одна свеча. К моему большому удивлению, тут оказалась кровать — рухлядь, какой самое место на свалке, но с матрасом, одеялами и подушками. Еще тут были мешки с картошкой, плитка, бидоны и картонные коробки, набитые сардинами. Меня это все до того удивило, что всякий страх пропал, зато начал пробирать холод — ведь я выскочил голяком.
Мадам Роза посидела немного в этом убогом кресле, довольно улыбаясь. Вид у нее стал лукавый и даже торжествующий. Как будто она сделала что-то хитроумное и очень важное. Потом она встала. В углу стояла метла, и она принялась подметать подвал. Не стоило бы ей этого делать — поднялась пыль, а для ее астмы нет ничего хуже пыли. Она сразу же стала трудно дышать и свистеть бронхами, но продолжала мести, и рядом, кроме меня, не было никого, кто бы ей сказал, всем было до лампочки. Конечно, ей платили за то, что она обо мне заботится, и общим у нас было только то, что у обоих не было ничего и никого, но для ее астмы нет ничего хуже пыли. Потом она отставила метлу и попыталась задуть свечу, но ей не хватало дыхалки, несмотря на ее размеры. Тогда она послюнила пальцы и таким вот макаром загасила свечу. Я тут же смылся, сообразив, что она все закончила и будет подниматься.
Ну ладно, я ничего в этом не понял, но мне было не впервой не понимать. Я никак не мог взять в толк, что ей за радость спускаться на семь этажей с хвостиком посреди ночи, чтобы с хитрым видом посидеть в своем погребе.
Когда она поднялась наверх, ей уже не было страшно, и мне тоже, потому что это заразительно. Мы проспали бок о бок сном праведников. Лично я много размышлял об этом и думаю, что мосье Хамиль не прав, когда говорит так. Мне кажется, лучше всех спится неправедникам, потому что им плевать, а праведники-то как раз и не могут сомкнуть глаз, портя себе кровь из-за всего на свете. Иначе они не были бы праведниками. Мосье Хамиль всегда найдет выражение вроде «поверьте моему опыту старика» или «как я имел честь вам сказать» и кучу других, которые мне очень нравятся, потому что напоминают о нем. Это был человек — лучше не придумаешь. Он учил меня писать на «языке моих предков» — он всегда говорил «предки», потому что родителей моих и поминать не хотел. Он заставлял меня читать Коран, потому что мадам Роза говорила, что арабам это полезно. Когда я спросил у нее, откуда ей известно, что я Мухаммед и мусульманин, ведь у меня нет ни отца, ни матери и никакого оправдывающего меня документа, она рассердилась и сказала, что когда я стану большим и выносливым, она мне все объяснит, а сейчас не хочет меня шокировать, пока я еще чувствительный. Она часто повторяла: главное, что надо щадить у детей, — это чувствительность. Но мне было бы наплевать на то, что моя мать борется за жизнь, и если бы я ее знал, то любил бы ее, заботился бы о ней и был бы ей хорошим сутилером, как мосье Н’Да Амеде, о ком я еще буду иметь честь. Я был очень рад, что у меня есть мадам Роза, но если бы можно было иметь кого-нибудь получше и породнее, я бы не отказался, черт побери. Я мог бы заботиться и о мадам Розе тоже, даже будь у меня настоящая мать, о которой надо было бы заботиться. У мосье Н’Да Амеде много женщин, о которых он заботится.
Раз мадам Роза знала, что я Мухаммед и мусульманин, получалось, что происхождение у меня есть и я не просто никто. Я хотел знать, где моя мать и почему не приходит меня навестить. Но мадам Роза ударялась в слезы и говорила, что я неблагодарный, что я ее ни в грош не ставлю, раз хочу кого-то другого. И я затыкался. Ну хорошо, я знал, что если женщина борется за жизнь, то не обойтись без тайны, когда у нее появляется дите, которого она не сумела вовремя остановить с помощью гигиены, и это-то по-французски и называется шлюхиными детьми, но занятно было, отчего это мадам Роза так уверена, что я Мухаммед и мусульманин. Не придумала же она это ради моего удовольствия. Однажды я заговорил об этом с мосье Хамилем, когда он рассказывал мне житие Сиди Абдеррахмана, патрона города Алжира.
Мосье Хамиль прибыл к нам как раз из Алжира, откуда он тридцать лет назад совершал паломничество в Мекку. Поэтому Сиди Абдеррахман Алжирский — его любимый святой, ведь рубашка всегда ближе к телу, как он говорит. Но еще у него есть ковер, где показан другой соотечественник, Сиди Уали Дада, — тот восседает на молитвенном коврике, который волокут рыбы. Это может показаться чепухой, когда рыбы тащат ковер по воздуху, но так велит религия.
— Мосье Хамиль, как так получается, что я известен как Мухаммед и мусульманин, коли на меня нет никакого подтверждения?
Мосье Хамиль всегда подымает вверх руку, когда хочет сказать, что да свершится воля господня.
— Мадам Роза приняла тебя, когда ты был совсем маленьким, а метрик она не ведет. С тех пор она приняла и отдала обратно много детей, малыш Мухаммед. Она хранит профессиональную тайну, потому что некоторые дамы требуют. Она отметила тебя Мухаммедом, значит, мусульманином, а после того создатель дней твоих не подавал призраков жизни. Единственный признак, который он подал, — это ты, малыш Мухаммед. И ты прекрасный мальчик. Надо думать, твой отец был убит во время алжирской войны, это великая и прекрасная вещь. Он герой Независимости.
— Мосье Хамиль, по мне, так лучше иметь отца, чем не иметь героя. Лучше бы он был хорошим сутилером и заботился о моей матери.
— Ты не должен говорить подобных вещей, малыш Мухаммед. И не надо забывать, что для этих дел есть еще югославы и корсиканцы, а то на нас и так вечно взваливают всю работу. Да, нелегко воспитывать ребенка в этом квартале.
Но чутье подсказывало мне, что мосье Хамиль знает что-то и скрывает от меня. Это очень достойный человек, и не будь он всю жизнь бродячим торговцем коврами, он стал бы кем-нибудь очень выдающимся и даже, вполне возможно, сам сидел бы на летучем ковре, который тянут рыбы, как другой святой Магриба, Сиди Уали Дада.
— А почему меня завернули из школы, мосье Хамиль? Сначала мадам Роза сказала, это потому, что я слишком мал для своего возраста, потом — что я слишком велик для своего возраста, а потом — что у меня вообще не тот возраст, какой должен быть, и потащила меня к доктору Кацу, который ей сказал, что я, вероятно, буду особенный, как великий поэт.
Мосье Хамиль выглядел совсем печальным. Это все из-за его глаз. У людей печаль всегда из глаз смотрит.
— Ты очень чувствительный ребенок, малыш Мухаммед. Оттого-то ты совсем не такой, как все…
Он улыбнулся:
— Да уж, от чувствительности в наше время не умирают.
Разговаривали мы по-арабски, а по-французски это выходит не так складно.
— Неужто мой отец был таким потрясающим бандитом, мосье Хамиль, что все боятся даже говорить о нем?
— Нет-нет, правда нет, Мухаммед. Я никогда не слышал ничего подобного.
— А что вы слышали, мосье Хамиль?
Он опускал глаза и вздыхал.
— Ничего.
— Ничего?
— Ничего.
Вот так всегда и получается со мной. Ничего.
Урок закончился, и мосье Хамиль стал рассказывать мне про Ниццу — это я люблю больше всего. Когда он описывает клоунов, которые пляшут на улицах, и веселых великанов, которые раскатывают в фургонах, мне кажется, что я у себя дома. Еще я люблю мимозовые леса, которые у них там есть, и пальмы, и белых-пребелых птиц, которые хлопают крыльями, словно аплодируют, так они счастливы. Однажды я подбил Мойше и еще одного пацана, которого звали по-другому, пешком отправиться в Ниццу и поселиться там в мимозовом лесу, добывая себе пропитание охотой. Мы ушли утром и добрались до площади Пигаль, но там перетрухнули, потому что оказались очень далеко от дома, и вернулись назад. Мадам Роза думала, что сойдет с ума, но это она просто любит так выражаться.
Так вот, как я уже имел честь, когда мы с мадам Розой вернулись от доктора Каца, то обнаружили дома мосье Н’Да Амеде, который одевается так шикарно, что вы просто не можете себе представить. Это самый великий сутилер и сводник из всех парижских африканцев, а к мадам Розе он приходит, чтобы она писала письма его родным. Никому другому он не хочет признаваться, что не умеет писать. На нем костюм из розового шелка, который можно даже потрогать, и розовая шляпа с розовой рубашкой. Галстук тоже розовый, и все вместе — как на картинке. Он приехал к нам из Нигера — это одна из многих стран, какие есть у них в Африке, — и создал себя сам. Он все время это повторял: «Я сам себя создал», создал вместе со своим костюмом и бриллиантовыми перстнями на пальцах. У него их было на каждом пальце по одному, и когда его утопили в Сене, пальцы ему отрезали, чтобы забрать бриллианты, потому что это было сведение счетов. Я говорю об этом сразу же, чтобы избавить вас от волнений потом. При жизни он владел лучшими двадцатью пятью метрами тротуара на улице Пигаль и подстригал ногти у маникюрщиц — ногти у него тоже были розовые. Еще у него был жилет, про который я забыл. Кончиком пальца он все время дотрагивался до усов, будто хотел их приласкать. Он всегда приносил мадам Розе в подарок что-нибудь съестное, но она предпочитала духи, потому что боялась еще больше потолстеть. Я никогда не видел, чтобы от нее плохо пахло, только потом, гораздо позже. Духи лучше всего подходили для подарка мадам Розе, и флаконов у нее была пропасть, только я никак не мог взять в толк, почему больше всего она льет их за уши, куда телятам суют петрушку [[6] ]. Этот африканец, про которого я вам рассказываю, мосье Н’Да Амеде, и в самом деле был неграмотный, потому что он слишком рано стал большой шишкой, чтобы ходить в школу. Я не собираюсь копаться сейчас в истории, но черные и впрямь много страдали, так что их нужно понимать, когда можно. Вот почему мадам Роза писала за мосье Н’Да Амеде письма, которые он отсылал в Нигер родным, поскольку знал их фамилию. Там расизм был к ним до того жесток, что это привело к революции, и они получили свой режим и перестали страдать. Мне-то не пришлось терпеть от расизма, поэтому надеяться мне особенно не на что. Ну а черные, должно быть, страдают и от других неурядиц.
Мосье Н’Да Амеде усаживался на кровать, где мы спали, когда нас было не больше троих-четверых, — когда было больше, мы перебирались к мадам Розе. Или же он ставил на кровать ногу и так стоял, объясняя мадам Розе, что она должна сообщить его родным. Мосье Н’Да Амеде, когда говорил, жестикулировал и волновался и под конец далее выходил из себя и прямо-таки бушевал — не потому, что был злой, а потому, что хотел сообщить родным гораздо больше того, что он мог средствами своего низкого происхождения. Начиналось всегда дорогим и почитаемым отцом, а потом он закипал от ярости, потому что был полон замечательных вещей, которые не находили выражения и так и оставались у него в сердце. Ему не хватало средств, ведь каждое слово было для него на вес золота. Мадам Роза писала для него письма, в которых он самоучкой постигал науки, чтобы стать строительным подрядчиком, воздвигать плотины и сделаться благодетелем для своей страны. Когда она читала ему это, он был на верху блаженства. Еще благодаря мадам Розе он строил мосты, и дороги, и все что полагается. Ей нравилось, когда мосье Н’Да Амеде бывал счастлив, слушая про все то, что он проделывал в ее письмах, и он всегда вкладывал в конверт деньги, чтобы получалось правдивей. В своем розовом костюме с Елисейских полей он был весь восторженный и, может, даже больше того, и мадам Роза потом говорила, что когда он ее слушает, у него глаза истинно верующего и что черные из Африки (они ведь бывают не только там) — это пока лучшее, что есть по этой части. Истинно верующие — это те, кто верит в Бога, как мосье Хамиль, который все время рассказывал мне о Боге и объяснял, что такие вещи лучше всего воспринимаются, когда ты молод и способен воспринять все что угодно.
У мосье Н’Да Амеде в галстуке был бриллиант, который сверкал вовсю. Мадам Роза говорила, что он настоящий, а не фальшивый, как можно было подумать, — ведь осторожность никогда не повредит. У мадам Розы дед со стороны ее матери работал по бриллиантам, и она унаследовала от него познания на этот счет. Бриллиант был под самым лицом мосье Н’Да Амеде, которое тоже сверкало, но по другим причинам. Мадам Роза всякий раз не помнила, что она там в последний раз понаписала в письме к его родным в Африку, но это не имело значения, она говорила, чем больше у человека ничего нет, тем больше ему хочется верить. Впрочем, мосье Н’Да Амеде не придирался к мелочам и ему было все равно, лишь бы его родные были счастливы. Иногда он даже забывал про родных и начинал рассказывать о том, кто он уже есть и кем еще будет. Я никогда еще не встречал человека, который мог бы так распинаться о самом себе. Он кричал, что его все уважают и что он король. Да, так и орал: «Я король!» — и мадам Роза записывала это вместе с мостами, плотинами и прочим. После она говорила мне, что мосье Н’Да Амеде совершенно мишуге, что по-еврейски означает «помешанный», да к тому же буйно помешанный, так что лучше ему не перечить, чтобы не нажить неприятностей. Похоже, ему уже приходилось убивать людей, но то было, видать, промеж самих черных, а они не считаются, потому что не французы, не то что американские черные, а полиция заботится только о тех, кто удостоверен. Однажды он схлестнулся не то с алжирцами, не то с корсиканцами, и мадам Розе пришлось написать его родным письмо, которое вряд ли кому доставит удовольствие. Не нужно думать, что у сутилеров не бывает проблем, — они ведь тоже люди.
Мосье Н’Да Амеде приходил всегда с двумя телохранителями, потому что ему не хватало уверенности и его нужно было оберегать. Эти телохранители — они, того и гляди, живыми в рай попадут, до того у них гнусные хари и страшный вид. Один из них был боксером и принял в рожу столько ударов, что все сошло со своих мест: левый глаз был не на той высоте, нос расплющен, брови иссечены, а правый глаз выпирал наружу, словно его заставил выскочить удар, который пришелся в соседа. Но кулаки были дай Боже, да и висели на таких ручищах, каких ни у кого не найдешь. Мадам Роза говорила, что, когда много спишь, быстрее растешь, и кулаки у этого мосье Боро, должно быть, спали всю свою жизнь, до того громадными выросли.
У другого телохранителя голова была еще невредима, но об этом оставалось только пожалеть. Мне не нравятся люди с лицами, на которых все то и дело меняется и расползается в разные стороны — на них не бывает два раза подряд одинакового выражения. Таких называют «фальшивой монетой», и у этого типа, наверное, были свои причины, у кого их нет, все хотят что-то скрыть, но у него, клянусь вам, вид был до того фальшивомонетный, что волосы на голове вставали дыбом при одной мысли о том, что он может скрывать. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вдобавок он всю дорогу улыбался, и хоть это и враки, что черные едят детей с хлебом, все это орлеанские слухи, но мне всегда казалось, что я возбуждаю его аппетит, и что ни говори, а ведь были же они в своей Африке людоедами, этого у них не отнимешь. Когда я проходил мимо, он хватал меня, усаживал к себе на колени и говорил, что у него есть сынишка моего возраста и что он даже подарил ему ковбойское снаряжение, — я о таком всегда мечтал. Вот ведь гад какой. Может, в нем и было что хорошее, как и во всяком человеке, если как следует порыться, но у меня от его глаз, которые так и бегали, так и бегали, все поджилки тряслись. Должно быть, он это заметил, потому что как-то раз даже принес мне фисташек, вот до чего ловко притворялся. Фисташки ровным счетом ничего не значат — какой-то франк за все про все. Если он рассчитывал таким образом набиться в друзья, то здорово ошибался, уж вы мне поверьте. Я об этом так подробно говорю, потому что при этих-то обстоятельствах, не зависящих от моей воли, со мной и приключился очередной припадок.
Диктовать мосье Н’Да Амеде приходил всегда по воскресеньям. В этот день женщины не борются за жизнь, потому что отцы водят семейства по кондитерским, и дома всегда можно было встретить одну-двух из матерей — они приходили за своими малышами, чтобы сводить их подышать воздухом в парк или пообедать в ресторане. Могу вам сказать, что женщины, которые борются за жизнь, иногда бывают лучшими матерями на свете, потому что так они отдыхают от клиентов и к тому же малыш дает им будущее. Есть, конечно, и такие, что бросают на произвол, и больше от них ни слуху ни духу, но это еще не значит, что они не умерли и потому не имеют оправдания. Иногда они приводили своих пацанят обратно только в понедельник к полудню, чтобы подержать их как можно дольше, перед тем как вернуться к работе. Так и в тот день — на месте были только постоянные жильцы, а это в основном я да Банания, который уже с год как перестал платить, но плевать на это хотел и вел себя как дома. Был еще Мойше, но тот одной ногой уже стоял в еврейской семье, которая только желала удостовериться, что в нем ничего наследственного, как я уже имел честь, потому что это первое, о чем надо подумать, прежде чем полюбить малыша, если не хочешь потом хлебнуть горюшка. Доктор Кац выдал ему справку, но эти люди хотели узнать брод, прежде чем сунуться в воду. Банания был еще счастливее обычного: он только что обнаружил, что у него есть пипирка, и это стало для него первым событием в жизни. Я заучивал строчки, в которых ровным счетом ничего не понимал, но это не имело никакого значения, потому что их написал мне мосье Хамиль собственной рукой. Я еще и сейчас могу их вам рассказать, потому что ему было бы приятно: «Элли хабб аллах ла ибри гхирху субхан ад даим ла язулъ…». Это означает, что тот, кто любит Бога, не желает ничего, кроме него. Я-то желал еще много чего, но мосье Хамиль насаждал во мне религию, ибо даже если я останусь во Франции до конца дней своих, как сам мосье Хамиль, мне надлежит помнить, что у меня есть своя страна, а это лучше, чем ничего. Моя страна — это скорее всего какой-нибудь Алжир или Марокко, даже если по документам я нигде не числюсь: мадам Роза была в этом уверена, ведь не для собственного же удовольствия она растила меня арабом. Еще она говорила, что лично ей это без разницы, все люди равны, когда барахтаются в дерьме, и если евреи с арабами вовсю мутузят друг дружку, то не нужно считать, будто евреи и арабы чем-то отличаются от других людей, как раз между братьями драки — дело обычное, не считая разве что немцев, у которых все это еще сильнее. Я забыл вам сказать, что мадам Роза хранила под кроватью большой портрет мосье Гитлера, и когда ее забирала тоска и она не знала, какому богу поклониться, она доставала портрет, смотрела на него и сразу чувствовала себя лучше — как-никак один здоровенный камень с души свалился.
Я могу сказать в оправдание мадам Розы как еврейки, что это была святая женщина. Ну, конечно, лопать она нам совала всегда что подешевле, а меня с рамазаном так вообще доводила до ручки. Двадцать дней без жратвы — сами посудите, да это для нее была прямо манна небесная, и как она торжествовала, когда наступал рамазан и я лишался права на гефилтэ фиш [[7] ],которую она стряпала сама. О да, верования других старая плутовка уважала, но я своими глазами видел, как она уплетает окорок. Когда я ей говорил, что она не имеет права на окорок, она только ухмылялась. Я не мог помешать ей праздновать наступление рамазана и вынужден был воровать в лавках в тех кварталах, где никто не знал, что я араб.
Так вот, у нас было воскресенье, и мадам Роза все утро проплакала — у нее бывали такие необъяснимые дни, когда она плакала все время. Не стоило докучать ей, когда она плакала, потому что то были ее лучшие часы. Ах да, я помню еще, что маленький вьетнамец получил утром взбучку, чтоб не прятался под кровать всякий раз, когда раздается звонок в дверь, — за те три года, что он пробыл без никого, он уже раз двадцать сменил семью, а такое кому хочешь надоест. Не знаю, что с ним сталось, но когда-нибудь схожу взглянуть. Впрочем, звонки в дверь никому из нас не сулили ничего хорошего, потому что все были в вечном страхе перед нашествием Общественного призрения. У мадам Розы были все фальшивые бумаги, какие ей хотелось, она обзавелась ими с помощью приятеля-еврея, который только этим и занимался, с тех пор как вернулся живым. Не помню, говорил ли я вам, но еще ей покровительствовал один полицейский комиссар, которого она воспитывала, пока его мать, как считалось, работала в провинции парикмахершей. Но завистники всегда найдутся, и мадам Роза боялась, что на нее донесут. И не надо забывать, что в одно прекрасное утро ее разбудили предрассветным звонком и отправили на Велодром, а оттуда — в еврейское общежитие в Германии. Вот и сейчас в дверь позвонили, и заявился мосье Н’Да Амеде — диктовать письмо — со своими двумя телохранителями, один из которых выглядел настолько фальшивомонетно, что ни одна касса его бы не приняла. Не знаю, почему я так на него ополчился, но думаю, оттого, что мне было лет девять или десять и мне уже требовалось, как и всем, кого-то ненавидеть.
Мосье Н’Да Амеде поставил ногу на кровать, принялся размахивать здоровенной сигарой, с которой куда попало, невзирая на убытки, сваливался пепел, и с ходу объявил своим родным, что скоро вернется в Нигер, чтобы зажить там честь по чести. Теперь-то я думаю, что он сам в это верил. Я часто замечал, что люди в конце концов начинают верить тому, что говорят, им это необходимо, чтобы жить. Говорю это не для того, чтобы показаться философом, я и в самом деле так думаю.
Я забыл уточнить, что полицейский комиссар, сын шлюхи, все узнал и все простил. Иногда он даже приходил поцеловать мадам Розу — при условии, что она будет держать язык за зубами. Как раз такое имеет в виду мосье Хамиль, когда говорит, что все хорошо, что хорошо кончается. Я рассказываю это, чтобы немножко поднять настроение.
Пока мосье Н’Да Амеде говорил, его левый телохранитель сидел в кресле и полировал ногти, тогда как второй просто не обращал внимания. Я хотел выйти пописать, но второй телохранитель, тот, о котором я рассказываю, перехватил меня на проходе и усадил к себе на колени. Он поглядел на меня, улыбнулся, даже шляпу на затылок сбил и повел такие речи:
— Глядя на тебя, я все время вспоминаю о своем сыне, малыш Момо. Он на море в Ницце со своей мамой на каникулах, и завтра они возвращаются. Завтра у малыша праздник, в этот день он родился и потому получит велосипед. Ты можешь прийти к нам домой, когда тебе захочется, и поиграть с ним вместе.
Убей Бог, не знаю, что со мной сделалось, но уже много лет у меня не было ни матери, ни отца, пускай даже без велосипеда, а тут еще этот тип пришел надо мной изгаляться. В общем, вы понимаете, что я хочу сказать. Ладно, инш’алла [[8] ], но это неправда, это во мне просто говорит мусульманин. Меня задело за живое, и такое накатило, что только держись. Оно шло изнутри, а это хуже всего. Когда оно приходит снаружи, в виде пинков в зад, всегда можно смыться. Но когда изнутри — тут уж деваться некуда. Когда на меня находит, хочется уйти и совсем никуда не возвращаться. Как будто во мне живет кто-то еще. Я начинаю рычать, бросаюсь оземь и бьюсь головой, чтобы оно ушло, но это невозможно, у этого, внутри, ног никогда не бывает. Но когда я поговорю об этом, мне легче, будто оно понемногу выходит. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Ну ладно, когда я выдохся и они все ушли, мадам Роза с ходу поволокла меня к доктору Кацу. Она была до смерти перепугана и сказала ему, что у меня налицо все признаки наследственности и я способен схватить нож и прирезать ее во сне. Понятия не имею, почему мадам Роза всегда так боялась быть убитой во сне, как будто это могло помешать ей спать. Доктор Кац разъярился и закричал на нее, что я кроткий как ягненок и ей должно быть стыдно говорить такое. Он прописал ей успокоительное, которое у него было тут же, в ящике стола, мы вернулись рука об руку, и я чувствовал, что она немного сконфужена тем, что возвела на меня напраслину. Но и ее надо понять, ведь жизнь — это все, что у ней оставалось. Люди держатся за жизнь как ни за что другое, иной раз даже смех берет, когда подумаешь, сколько других мировецких вещей есть на свете.
Дома она напичкала себя успокоительным и провела вечер в кресле, глядя прямо перед собой и счастливо улыбаясь, потому что ничего не чувствовала. Мне она успокоительного никогда не давала. Эта женщина была лучше всех, и я могу тут же подкрепить это примером. Возьмите мадам Софи, у которой тоже подполье для детей шлюх на улице Сюркуф, или ту, которую кличут Графиней, потому что она вдова человека по фамилии Граф, на бульваре Барбэса, так они иной раз набирают до десятка пацанов на день и перво-наперво пичкают их успокоительным. Мадам Роза знала об этом из надежного источника, от одной африканской португалки — она борется за жизнь на рынке и однажды забрала сына от Графини в состоянии такой успокоенности, что тот даже стоять не мог, а только падал. Когда его поднимали, он падал снова и снова, и с ним можно было играть так часами. А у мадам Розы все было наоборот. Когда, бывало, мы не в меру разойдемся или приведут каких-нибудь психованных, она пичкала успокоительным не кого-нибудь, а себя. Тогда можно было драть глотку или колошматить друг дружку сколько влезет, ей это было что слону дробина. Тогда уже мне приходилось воцарять порядок, и мне это очень нравилось, потому что я тогда делался вроде как главным. Мадам Роза сидела в кресле посреди комнаты, сложив руки на огромном животе, в котором все время урчало, и, слегка склонив голову, смотрела на нас с доброй улыбкой, а иногда даже приветственно помахивала нам рукой, как будто мы были проходящим поездом. В такие минуты ее ничто не могло вывести из этого состояния, и тогда уже мне приходилось распоряжаться, чтобы никто не вздумал поджечь шторы, — это первое, что начинают поджигать в малолетстве.
Единственное, что могло немного встряхнуть мадам Розу, когда она была успокоенная, — это звонок в дверь. Она боялась немцев до потери пульса. Это старая история, и про это писали во всех газетах, поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности, но мадам Роза так никогда и не смогла от этого опомниться. Иногда, особенно среди ночи, ей казалось, что все это еще в силе, — она была из тех, кто живет воспоминаниями. Вы можете сказать, что это полнейший идиотизм в наши дни, когда все умерло и похоронено, но евреи очень за все цепляются, особенно если подвергались гонениям, — такие вообще все время вспоминают и вспоминают. Она часто рассказывала мне про нацистов и эсэсовцев, и я немного жалею, что родился слишком поздно, чтобы познакомиться с нацистами и эсэсовцами в полной боевой выкладке, потому что тогда хоть знали, почему и за что. Теперь и знать не знаешь.
Животики надорвешь смотреть на мадам Розу, когда она пугается звонков. Самый подходящий для этого момент — рано-рано утром, когда день еще только подкрадывается на цыпочках. Немцы встают рано и предпочитают раннее утро любому другому времени суток. Кто-нибудь из нас подымался, выходил на лестничную клетку и давил на кнопку звонка. Долго так давил, чтобы все произошло немедленно. Ну и умора! Это надо было видеть. В ту пору в мадам Розе было уже, наверное, килограммов под сто, ну так вот, ее будто ветром сдувало с кровати, она кубарем скатывалась на целый пролет вниз и только тогда останавливалась. А мы все лежали и прикидывались спящими. Когда до нее доходило, что это не нацисты, она приходила в неописуемую ярость и обзывала нас шлюхиным отродьем, на что у нее, впрочем, были все основания. На какое-то время она замирала с выпученными глазами и с бигуди на последних пучках волос, что оставались у нее на голове, — сперва, верно, думала, что ей это приснилось и никакого звонка не было вовсе, что это шло изнутри. Но всегда кто-нибудь из нас не выдерживал и прыскал, и когда до нее доходило, что она снова стала жертвой, она давала волю гневу или же ударялась в слезы.
Лично я считаю, что евреи такие же люди, как все, и нечего за это точить на них зуб.
Часто никому из нас не приходилось даже вставать, чтобы нажать на звонок, потому что мадам Роза проделывала все сама. Она ни с того ни с сего вдруг просыпалась, садилась на свой зад, который у нее был больше, чем вы в состоянии себе представить, потом спрыгивала с кровати, накидывала свою любимую сиреневую шаль и пускалась наутек. Она даже не смотрела, есть ли кто-нибудь за дверью, потому что звонить продолжало у нее внутри, а уж хуже этого не придумаешь. Иногда она спускалась на один-два пролета, но бывало, и мчалась до самого подвала, как в тот раз, о котором я уже имел честь. Поначалу я даже думал, что она спрятала в подвале клад и будит ее страх перед ворами. Я всегда мечтал иметь клад, спрятанный в таком месте, где он укрыт от всех и от всего и чтобы я мог найти его сразу, как только понадобится. Я думаю, что клад — это лучшее, что может быть, когда он действительно твой и в полной безопасности. Я засек место, куда мадам Роза прятала ключ от подвала, и как-то раз отправился туда поглядеть. Ничего я там не нашел. Мебель, ночной горшок, сардины, свечи — в общем, всякая всячина словно для того, чтобы кто-нибудь мог там жить. Я зажег свечу и стал приглядываться, но ничего, кроме щербатых стен, которые будто скалились, не увидел. И тут вдруг я услышал шум и подскочил на месте, но это была всего-навсего мадам Роза. Она стояла в дверях и смотрела на меня. И вид у нее был при этом не сердитый — скорее, наоборот, виноватый, как будто это ей нужно было просить прощения.
— Не нужно никому говорить об этом, Момо. Дай-ка его сюда.
Она протянула руку и забрала у меня ключ.
— Мадам Роза, а что здесь такое? Почему вы приходите сюда иногда даже среди ночи? Это что?
Она поправила на носу очки и улыбнулась.
— Это моя запасная резиденция, Момо. Ладно, пошли.
Она задула свечу, потом взяла меня за руку, и мы поднялись наверх. После она уселась в свое кресло, держась рукой за сердце, потому что семь этажей для нее уже тогда были мукой смертной.
— Поклянись мне, Момо, что никогда никому об этом не расскажешь.
— Клянусь, мадам Роза.
— Хайрем?
Это по-ихнему означает «клянусь».
— Хайрем.
Тогда она пробормотала, глядя поверх меня, словно видела очень далеко и позади, и впереди:
— Это мое еврейское логово, Момо.
— А, вон оно что.
— Ты понимаешь?
— Нет, но это неважно, я привык.
— Там я прячусь, когда мне страшно.
— Страшно чего, мадам Роза?
— Для страха вовсе не обязательно иметь причину, Момо.
Это я запомнил на всю жизнь, потому что это самая правдивая вещь, которую мне когда-либо доводилось слышать.
Я частенько заходил посидеть в комнате для ожидания доктора Каца, потому что мадам Роза твердила, что это человек, который творит добро, но я ничего такого не чувствовал. Видно, слишком мало там сидел. Я знаю, на свете полно людей, которые творят добро, но они занимаются этим не все время, так что нужно удачно попасть. Чудес не бывает. По первости доктор Кац, выходя, спрашивал, не заболел ли я, но потом привык и оставил меня в покое. Кстати, у дантистов тоже есть такие комнаты, но они лечат только зубы. Мадам Роза говорила, что доктор Кац занимается всеобщей медициной, и у него и вправду бывало все и вся: евреи, само собой, где их только нет, североафриканцы (это чтобы не говорить «арабы»), черные и всякие виды болезней. Наверняка там хватало и всяких венерических болезней — благодаря рабочим-иммигрантам, которые подхватывают эти штуки перед тем, как выехать во Францию, чтобы попользоваться социальным обеспечением. Венерические болезни в общественных местах не заразны, поэтому их доктор Кац принимал, но зато запрещалось притаскивать дифтерит, скарлатину, корь и прочие пакости, которые полагается держать на дому. Вот только родители, те не всегда знали, что с ихними детьми такое, и поэтому раз-другой я заполучил там грипп и коклюш, которые предназначались не мне. Но я все равно приходил. Я очень любил сидеть в комнате для ожидания и чего-то ожидать, и когда дверь кабинета открывалась и оттуда выходил доктор Кац, одетый во все белое, и гладил меня по волосам, я чувствовал себя куда лучше, а ведь медицина для того и существует.
Мадам Роза сильно беспокоилась о моем здоровье и говорила, что я настигнут созреванием и у меня уже пробудилось то, что она называла врагом рода человеческого: оно принималось расти по многу раз на день. Второй серьезной заботой после созревания у нее были дядья и тетки — это когда настоящие родители умирали в автомобильной катастрофе, а те не хотели по-настоящему заботиться о детях, но и отдавать их в Призрение тоже не хотели, ведь тогда вокруг стали бы считать, что у них нет сердца. Тогда-то они и приходили к нам, особенно если ребенок был подавленный. Мадам Роза называла ребенка подавленным, когда на него накатывала подавленность, как это видно из названия. То есть он знать ничего не желал про жизнь и становился истуканом. Это самое паршивое, что может приключиться с малышом.
Когда мадам Розе приводили новенького на несколько дней или на рабочую неделю, она обследовала его со всех точек зрения, но первым делом хотела убедиться, что он не подавленный. Она корчила ему рожи, чтобы напугать, или же надевала перчатку, где каждый палец — забавный человечек; это всегда вызывало смех у малышей, которые не были подавленными, а остальные были вроде как не от мира сего, потому-то их и называют истуканами. Таких мадам Роза принимать не могла, с такими нужно работать не покладая рук, а рабочей силы у нее не было. Как-то раз одна марокканка, которая боролась за жизнь в доме терпеливости на бульваре Гут д’Ор, всучила ей пацана, а потом померла, не оставив адреса. Мадам Розе пришлось отдать его в социальное учреждение вместе с фальшивыми бумагами, которые доказывали, что он существует, и от этого она даже заболела, потому что нет ничего тоскливей, чем учреждение.
Да и со здоровыми малышами всегда есть риск. Попробуйте-ка заставить неизвестных родителей забрать пацана, когда против них нет законных улик. Нет ничего хуже, чем бесчеловечные матери. Мадам Роза говорила, что у животных законы устроены лучше, а у нас приютить малыша и то опасно. Если настоящей матери вздумается потом прийти и закатить мадам Розе скандал из-за того, что ее ребенку хорошо живется, то все права будут на ее стороне. Вот почему фальшивые бумаги — лучшие в мире, и если найдется стерва, которая спустя два года обнаружит, что ее ребенку хорошо живется у других, и захочет забрать его назад и показать, где раки зимуют, то, если ему заделали фальшивые бумаги по всем правилам, она никогда его не разыщет, и это дает ему шанс на спасение.
Мадам Роза говорила, что у животных это устроено куда лучше, чем у нас, потому что у них есть закон природы, особенно у львиц. Львицами она прямо-таки восхищалась. Когда я ложился спать, то перед тем как заснуть, часто представлял себе, что позвонили в дверь, — я шел открывать, и там оказывалась львица, которая просилась войти, чтобы защитить своих малышей. Мадам Роза говорила, что львицы этим и знамениты и если бы вдруг какая-нибудь из них не стала защищать своих детенышей, все бы ее осудили.
Я вызывал свою львицу почти каждую ночь. Она входила, запрыгивала на кровать и принималась вылизывать нам физиономии — ведь другие пацаны тоже в ней нуждались, а я, как старший, должен был о них заботиться. Только вот львы пользуются дурной славой, ведь им надо, как и остальным, чем-то кормиться, так что когда я объявлял другим, что сейчас придет моя львица, подымался вой, и даже Банания присоединялся, хотя, видит Бог, уж ему-то на все было наплевать по причине своего баснословно хорошего настроения. Я очень любил Бананию, его взяла французская семья, в которой было место, и когда-нибудь я его навещу.
В конце концов и мадам Роза узнала, что, покуда она спит, я впускаю львицу. Она понимала, что это понарошку и я просто мечтаю во сне о законах природы, но ее система становилась все более нервной, и мысль о том, что по квартире бродят хищники, вызывала у нее кошмары. Она с воплями просыпалась, ведь если у меня это была мечта, то у нее это превращалось в кошмар: она всегда говорила, что мечты, когда стареют, непременно становятся кошмарами. У нас с ней были совершенно разные львицы, но что же вы хотите.
Понятия не имею, о чем мадам Роза могла мечтать во сне. В том, чтобы мечтать назад, я не вижу смысла, а мечтать вперед в своем возрасте она уже не могла. Может, ей снилась молодость, когда у нее была красота и еще не было здоровья. Не знаю, чем занимались ее родители, но дело было в Польше. Она боролась за жизнь сначала там, потом в Париже, на улице Фурси, на улице Блонделя, на улице Синь — везде понемножку, а после принялась за Марокко и Алжир. По-арабски она говорила очень хорошо, без всяких яких. Она обслуживала даже Иностранный легион в Сиди-Бель-Аббесе, но когда вернулась во Францию, все пошло кувырком, потому что ей захотелось вкусить любви, а тот тип отобрал у нее все сбережения и выдал французской полиции как еврейку. На этом месте она всегда прерывала свой рассказ и говорила: «Ну, что было, то прошло», и при этом улыбалась, ей это было приятно.
Вернувшись из Германии, она еще несколько лет боролась за жизнь, но после пятидесяти начала толстеть и стала уже далеко не такой аппетитной. Она знала, что женщинам, которые борются за жизнь, очень трудно держать при себе детей, потому что закон запрещает это из-за морали, и у нее возникла идея открыть внесемейный пансион для малышей, которые родились неправильно. По-нашему говоря — подполье. Ей посчастливилось вырастить таким макаром полицейского комиссара, тоже сына шлюхи, который ей покровительствовал, но теперь ей было шестьдесят пять и пора было готовиться. Больше всего ее страшил рак — это уж точно хана. Я хорошо видел, что она приходит в негодность, и иногда мы молча смотрели друг на дружку и вместе боялись, потому что больше у нас ничего на свете не было. Вот почему в ее состоянии ей не хватало только львицы, разгуливающей по квартире. Что ж, я приспособился, я лежал в темноте с открытыми глазами, львица приходила, ложилась рядом и вылизывала мне лицо, и все это — ничего никому не говоря. Когда мадам Роза со страху просыпалась, входила к нам и воцаряла свет, то видела, что все мирно спят. Но на всякий случай она все равно заглядывала под кровати, и это было даже забавно, когда подумаешь, что львы — это единственное, чего никак не могло с ней приключиться, поскольку в Париже, говоря по правде, их вообще нет, дикие животные бывают только в природе.
Тогда-то я впервые и понял, что она малость тронутая. Ей довелось в жизни хлебнуть всякого, и теперь наступала пора расплачиваться, потому что за все в жизни нужно платить. Она даже потащила меня к доктору Кацу и сказала ему, что я впускаю диких зверей, чтобы они свободно разгуливали по квартире, а это явный признак. Я прекрасно понимал, что они знают что-то такое, о чем не следует говорить при мне, но понятия не имел, что бы это могло быть и чего мадам Роза так боится.
— Доктор, у него будут припадки, я в этом просто уверена.
— Не говорите глупостей, мадам Роза. Вам нечего опасаться. Наш маленький Момо очень впечатлительный. Это не болезнь, и вы уж поверьте старому медику: вовсе не болезни лечить трудней всего.
— Тогда почему же у него все время львы на уме?
— Прежде всего, не львы, а львица.
Доктор Кац улыбнулся и протянул мне мятный леденец.
— Да, львица. А что делают львицы? Они защищают своих малышей…
Мадам Роза вздохнула.
— Вам хорошо известно, доктор, чего я боюсь.
Доктор Кац побагровел от гнева.
— Замолчите, мадам Роза. Вы совершенно темный человек. Вы ничего не смыслите в этих вещах и воображаете Бог весть что. Просто какие-то средневековые суеверия. Я вам повторял это тысячу раз и прошу вас, прекратите наконец.
Он хотел прибавить что-то еще, но тут глянул на меня, поднялся и вывел меня из кабинета. Пришлось подслушивать под дверью.
— Доктор, я так боюсь, чтоб он не оказался с наследственностью.
— Ну вот что, мадам Роза, хватит. Прежде всего, вы даже не знаете, кто был его отец, — при том ремесле, какое было у его бедной матери. Да и как бы то ни было, я вам уже объяснял, что это еще ничего не значит. Тут вступают в игру тысячи других факторов. Бесспорно одно — что этот ребенок очень чувствителен и нуждается в любви.
— Не могу же я вылизывать ему каждый вечер лицо, доктор. Откуда только он таких мыслей набрался? И почему его не захотели оставить в школе?
— Потому что вы снабдили мальчика такой метрикой, которая не имеет ни малейшего отношения к его истинному возрасту. Вы слишком привязаны к этому малышу.
— Я только боюсь, как бы его у меня не отобрали. Заметьте, про него никто ничего не сможет доказать. Такие вещи я помечаю на клочке бумаги или просто держу в голове, потому что девицы вечно трясутся, как бы это не выплыло наружу. Проститутки со своими дурными наклонностями не могут воспитывать детей, потому что лишены родительских прав. Благодаря этому их можно держать в руках и шантажировать годами, они согласны на все, лишь бы не потерять свое чадо. А сейчас среди сутилеров полно самых обыкновенных сводников. Никто уже не хочет делать свое дело как положено!
— Вы славная женщина, мадам Роза. Сейчас я пропишу вам успокоительное.
Так я ничего и не узнал. Только стал еще уверенней, чем прежде, что старуха что-то от меня утаивает, да я не так уж и рвался узнать. Чем больше знаешь, тем меньше остается хорошего. Мой приятель Махут — он тоже сын шлюхи — говорил, что среди нас тайна — дело обычное, из-за закона больших чисел. Он говорил, что если женщина делает все по правилам, но происходит несчастный случай и она решает ребенка сохранить, то ей постоянно угрожает административное расследование, а хуже этого ничего не бывает, это для нее уж точно хана. В нашем случае расплачивается всегда мать, потому что отец охраняется законом больших чисел.
У мадам Розы на дне чемодана хранился клочок бумаги, где я записан как Мухаммед, а еще — три кило картошки, фунт морковки, сто грамм масла, одна фиш, то есть рыбина, триста франков, воспитывать в мусульманской религии. Была там и дата, но это всего лишь день, когда она приняла меня на хранение, и понять, когда я родился, невозможно.
Об остальных пацанах заботиться приходилось мне, особенно по части подтирания, потому что мадам Розе из-за своей толщины нагибаться было тяжело. Талии у нее вообще не было, и зад переходил сразу в плечи без остановки. Когда она шла, будто вся квартира с места сдвигалась.
По субботам к вечеру она надевала синее платье с рыжей лисой и серьги, накрашивалась краснее обычного и уходила посидеть во французское кафе «Купол» на Монпарнасе, где съедала кусок торта.
Я никогда не подтирал пацанов старше четырех лет, потому что имел свое достоинство, а бывали такие, что делали в штаны нарочно. Но я-то хорошо знаю этих паршивцев и научил их таким вот макаром играть, я имею в виду — подтирать друг дружку: я им объяснил, что так оно веселей, чем оставаться при своих интересах. Дело пошло как нельзя лучше, и мадам Роза поздравила меня и сказала, что вот и я уже начинаю бороться за жизнь. Сам-то я не играл с другими пацанами, они для меня были слишком маленькими, разве что начнешь иной раз сравнивать пипирки, и тогда мадам Роза свирепела, потому что ужасно эти вещи не любила из-за всего, что ей пришлось пережить. Продолжала она бояться и львов по ночам, и даже не верится, что можно так нападать на львов, когда подумаешь, сколько для страха есть настоящих причин.
У мадам Розы были сердечные неприятности, поэтому по магазинам из-за лестницы ходил я. Для нее не было ничего хуже этажей. Она все сильней и сильней свистела при дыхании, и я из-за нее тоже начал мучиться астмой — как говорит доктор Кац, нет ничего заразней психологии. Это такая штука, о которой мало что известно. Каждое утро, видя, как мадам Роза просыпается, я был счастлив, потому что и у меня бывали кошмары — я страсть как боялся остаться без нее.
Самым верным другом был мне в ту пору зонтик по имени Артур, которого я разодел с головы до ног. Я сделал ему голову из зеленой тряпки, обмотанной вокруг ручки, и забавную рожицу с улыбкой и круглыми глазами — губной помадой мадам Розы. И не столько для того, чтобы было кого любить, а чтобы выступать клоуном, потому что карманных денег у меня не было и я ходил добывать их во французские кварталы, где они водятся. Я был в широченном пальто до самых пят, а вдобавок нахлобучивал котелок и размалевывал красками лицо, и с Артуром на пару мы выглядели — обхохочешься. Я черт-те что выделывал на тротуаре и порой заколачивал до двадцати франков в день, но приходилось быть начеку, потому что полиция глаз не спускает с несовершеннолетних на воле. Артур, как одноногий, был в одном кеде, синем с белым, в брюках, в клетчатом пиджаке — вместо плеч я приспособил к нему веревочкой вешалку, а еще я пришил ему к голове круглую шапочку. Я попросил мосье Н’Да Амеде одолжить мне одежонки для моего зонтика, и знаете, что он сделал? Он повел меня в «Пул д’Ор» на бульваре Бельвиля, где торгуют самым шикарным, и разрешил выбрать все что захочется. Не знаю, все ли они в Африке такие, как он, но если да, то у них всего должно быть вволю.
Давая представление на тротуаре, я вышагивал вперевалку, плясал с Артуром да подбирал деньгу. Некоторые начинали возмущаться и говорили, что, мол, никому не дозволено так обращаться с детьми. Понятия не имею, кто со мной как обращался, но были и такие, которые расстраивались. Странные люди — ведь все это делалось для смеху.
Время от времени Артур ломался. Вешалку я приколотил к нему гвоздем, так что в плечах он стал шире, но одна пустая штанина продолжала болтаться, что для зонтика дело обычное. Мосье Хамиль был недоволен, он говорил, что Артур похож на идола, а это против нашей религии. Сам-то я неверующий, но когда у вас появляется диковинная, ни на что не похожая штуковина, вы и впрямь начинаете надеяться, что она что-то может. Я спал с Артуром в обнимку, а наутро высматривал, дышит ли еще мадам Роза.
Я никогда не бывал в церкви, потому что это против истинной религии, а уж чего я хотел меньше всего на свете, так это впутываться в эти дела. Но я знаю, что христиане готовы отдать последнее, лишь бы иметь у себя дома Христа, а у нас запрещено изображать человеческое лицо, чтобы не оскорблять Господа, и это легко понять, потому что гордиться особенно нечем. Поэтому я стер Артуру лицо и оставил просто шар, зеленый, словно со страху, и тем пришел в согласие со своей религией. Как-то раз, когда на хвосте у меня висела полиция, потому что своими ужимками я устроил скопление народа, я, удирая, уронил Артура, и тот разлетелся в разные стороны: шапочка, вешалка, пиджак, кед и прочее. Самого-то его я подобрал, но он остался голым, каким его создал Господь. Так вот, самое смешное, что мадам Роза ничего не говорила, когда Артур был одет и я с ним спал, но когда он перестал быть идолом и я захотел взять его с собой под одеяло, она раскричалась, что никому еще в голову не взбредало спать с зонтиком. Вот и пойми ее после этого.
У меня было кое-что отложено про запас, и я купил Артуру новую амуницию на Блошином рынке — там у них чего только нет.
Но счастье начало от нас отворачиваться. До той поры мои чеки приходили хоть и нерегулярно — иные месяца проскакивали всухую, — но все-таки приходили. И вдруг как отрезало. Два месяца, три — ничего. Четыре. Я сказал мадам Розе, думая об этом так сильно, что голос дрожал:
— Мадам Роза, не надо бояться. Вы можете положиться на меня. Я не собираюсь бросать вас только потому, что вы не получаете больше денег.
Потом я взял Артура, вышел и сел на тротуар, чтобы не реветь у всех на глазах.
Надо вам сказать, что дело становилось дрянь. Мадам Розу настигал предел возраста, и она сама это знала. Лестница с ее семью этажами стала для нас врагом общества номер один. Когда-нибудь она доконает мадам Розу, та была в этом просто уверена. Да и я понимал, что доконать ее уже не составляло никакого труда, достаточно было посмотреть на нее. Где у нее грудь, а где живот и задница — и не разберешь толком, прямо как бочка. Пацанов на пансионе оставалось все меньше, потому что девицы не доверяли больше мадам Розе ввиду ее состояния. Они видели, что она уже не может ни о ком заботиться, и предпочитали платить дороже и обращаться к мадам Софи или к матушке Айше, что на улице Алжира. Денег они зарабатывали порядком, так что могли себе такое позволить. Шлюхи, знакомые мадам Розе лично, исчезли по причине смены поколений. Поскольку жила она за счет людской молвы, а на тротуарах молва о ней поутихла, то и репутация ее сходила на нет. Когда ноги еще служили ей, она сама обходила рабочие места и кафе на улице Пигаль и на Центральном рынке, где девицы боролись за жизнь, и помаленьку создавала себе рекламу, расхваливая качество обслуги, шамовку и прочее. Теперь же она этого не могла. Приятельницы все куда-то сгинули, и рекомендовать ее стало некому. К тому же появилась легальная пилюля для охраны младенчества, так что теперь ребенка надо было действительно хотеть, и если он все-таки появлялся, оправданий уже быть не могло — вы знали, на что шли.
Мне стукнуло десять, и пора было помогать мадам Розе. Вдобавок приходилось задумываться и о будущем, потому что останься я один, и Общественное призрение зацапает меня в два счета. От этого я не спал ночами и все глядел на мадам Розу, чтобы убедиться, что она еще не помирает.
Я пробовал бороться за жизнь. Хорошенько причесывался, мазал духами мадам Розы за ушами, как она, и ближе к вечеру отправлялся с Артуром на улицу Пигаль или на улицу Бланш — та тоже годится. Там всегда есть женщины — они ведь борются за жизнь круглосуточно, — и обязательно какая-нибудь из них подруливала ко мне и говорила:
— Гляди, какой славный мальчуган. Твоя мама работает здесь?
— Нет, у меня еще никого нет.
За это меня обычно угощали мятным чаем в кафе на улице Масэ. Но мне приходилось быть начеку, потому что за сутилерами охотится полиция, да и женщинам тоже следовало остерегаться — им запрещено приставать самим. Вопросы всегда были одни и те же:
— Сколько тебе годков, красавчик?
— Десять.
— Мама у тебя есть?
Я отвечал «нет» и всякий раз переживал за мадам Розу, но что же вы хотите. Одна там особенно со мной нежничала, а иногда, проходя мимо, совала мне в карман купюру. Она носила мини-юбку и сапоги до самого верха и была куда моложе мадам Розы. У нее были очень ласковые глаза, и однажды, хорошенько осмотревшись вокруг, она взяла меня за руку, и мы отправились в кафе «Клубничка», которого сейчас там уже нет, потому что в него бросили бомбу.
— Не надо слоняться по тротуарам, это не место для малышей.
Она все гладила меня по голове — вроде как волосы поправляла. Но я-то знал: ей просто хотелось меня приласкать.
— Зовут-то тебя как?
— Момо.
— А где твои родители, Момо?
— У меня никого нет, с чего вы взяли. Я свободен.
— Но в конце концов кто-то ведь о тебе заботится?
Я потягивал оранжад: сначала нужно поглядеть.
— Может, мне поговорить с твоими? Я бы с радостью заботилась о тебе. Отдала бы тебя в школу, ты жил бы как королевич и ни в чем не нуждался.
— Надо поглядеть.
Я покончил с оранжадом и слез со стула.
— Держи, это тебе на леденцы, дорогуша.
Она сунула мне в карман банкнот. Сто франков. Это как я вам имею честь.
Я наведывался туда еще раза два-три, и она всегда приветливо улыбалась мне, но издали, грустно, потому что я был не ее.
Но вот невезуха: кассирша в «Клубничке» была приятельницей мадам Розы еще с тех времен, когда они вместе боролись за жизнь. Она доложила старухе, и какую же я заполучил сцену ревности! Никогда еще я не видел ее в таком расстройстве, она плакала навзрыд. «Не для того я тебя воспитывала», — она повторила это раз десять и все рыдала. Пришлось поклясться ей, что больше я туда ни ногой и никогда не стану сутилером. Она сказала, что все они сводники и уж лучше ей умереть. Но я понятия не имел, чем еще можно заняться в мои-то десять лет.
Мне всегда казалось странным, что слезы предусмотрены заранее. Получается, что люди так задуманы, чтобы плакать. Об этом стоило поразмыслить. Ни один уважающий себя конструктор такого бы не сляпал.
Чеки по-прежнему не приходили, и мадам Роза начала набеги на сберегательную кассу. Она отложила кое-какие гроши на старость, но хорошо знала, что долго не протянет. Рака у нее все еще не было, зато все остальное приходило в негодность прямо на глазах. Она даже как-то раз впервые заговорила со мной про моих мать и отца, потому что, похоже, у меня были оба. Однажды вечером они пришли меня сдать, и моя мать разревелась и убежала. Мадам Роза пометила меня как Мухаммеда, мусульманина, и заверила, что я буду как сыр в масле кататься. А вот потом, потом… Она вздыхала и говорила, что больше ей, мол, ничего не известно, вот только глаза почему-то отводила. Я не знал, что она от меня скрывает, но по ночам это нагоняло на меня страх. Я так и не смог выудить из нее еще хоть что-нибудь, даже когда перестали приходить чеки и у нее не оставалось причин меня щадить. Все, что я знал, — это что отец и мать у меня наверняка были, тут уж природа неумолима. Но они так и не вернулись, и мадам Роза, говоря об этом, принимала виноватый вид и умолкала. Сразу же скажу вам, что мать я так никогда и не отыскал, — не хочу вызывать у вас напрасных надежд. Однажды, когда я уж очень насел на мадам Розу, та придумала такую убогую басню, что слушать было одно удовольствие.
— По мне, так у твоей матери были буржуазные предрассудки, потому что родом она из хорошей семьи. Она не хотела, чтобы ты узнал, что у нее за профессия. И уехала, рыдая, с разбитым сердцем, чтобы больше уж не вернуться, потому что, как считает медицина, предрассудки причинили бы тебе жестокую травму.
И тут мадам Роза сама всплакнула: никто так не любил красивых историй, как она. Думаю, доктор Кац был прав, когда я ему об этом рассказал. Он сказал, что шлюхи — это надуманное понятие. Да и мосье Хамиль, который прочитал Виктора Гюго и прожил больше, чем любой другой старик, с улыбкой объяснил мне, что нет ничего белого или черного и что белое — это зачастую хорошо замаскировавшееся черное, а черное — это белое, которое дало себя захватать. И он даже добавил, глядя на мосье Дрисса, который принес его любимый чай с мятой: «Уж поверьте моему опыту старика». Мосье Хамиль — великий человек, просто обстоятельства не так сложились.
Чеки не приходили вот уже несколько месяцев, а что до Банании, то этих денег мадам Роза и вовсе не нюхала, если не считать того дня, когда его нам сплавили, потому что тогда мадам Роза затребовала плату за два месяца вперед. Теперь Банании бесплатно шел четвертый год, но он вел себя без всякого стеснения, как если бы за него платили. Мадам Роза сумела подыскать ему семью — этому шкету всегда чертовски везло. Мойше — тот все еще состоял под наблюдением и лопал в семье, которая пасла его уже шесть месяцев, желая удостовериться, что ребенок хорошего качества и не страдает эпилепсией или припадками. Именно припадков больше всего боятся семьи, когда прицеливаются к малышу, так что это главное, чего надо избегать, если хочешь усыновиться. На приходящих пацанов и для прокорма самой мадам Розы требовалось тысяча двести франков в месяц, да еще к этому нужно прибавить лекарства и кредит, в котором ей отказывали. Одну только мадам Розу меньше чем на пятнадцать франков в день кормить было нельзя, не будучи извергом, даже если уговорить ее похудеть. Помню, я честно сказал ей, что нужно похудеть, чтобы поменьше есть, но это было очень жестоко по отношению к старому человеку, который один в целом свете и которому поэтому себя самого нужно больше, чем кому другому. Когда вас некому любить, все обращается в жир. Я снова зачастил на улицу Пигаль, где по-прежнему виделся с той дамой, Маризой, которая полюбила меня, потому что я был еще ребенком. Но я страсть как боялся, ведь сутилеров сажают в тюрьму, и потому встречаться нам приходилось тайком. Я поджидал ее в подворотне, она приходила, обнимала меня, наклонялась, говорила: «Золотко ты мое, как бы я хотела иметь такого сына, как ты», а потом совала мне плату за встречу. Еще я пользовался у нас в квартале Бананией, чтобы без помех шуровать на полках. Я оставлял Бананию одного с его улыбкой, чтобы та обезоруживала, и он устраивал вокруг себя скопление народа, потому что своим видом вызывал взволнованные и умильные чувства. К этим чернокожим очень хорошо относятся, когда им четыре-пять лет. Бывало, ущипну его, чтоб он заголосил, люди окружат его заботой и участием, а я тем временем тырю всякие пригодные для еды штуки. У меня было пальто до пят с бездонными, как прорва, карманами, которые мне пришила мадам Роза, и все выходило как по нотам. Голод спуску не дает. Чтобы выйти из магазина, я брал Бананию на руки и примащивался возле какой-нибудь женщины, которая расплачивалась, и все считали, будто я с ней, а Банания тем временем улыбался всем и каждому, как шлюха на панели. К детям все настроены очень хорошо, пока они еще не опасны. Даже мне доставались ласковые слова и улыбки — людям всегда как-то покойно на душе при виде пацана, который еще не достиг бандитского возраста. У меня каштановые волосы, голубые глаза и нет такого еврейского носа, как у арабов, так что со своей физиономией я могу сойти за кого угодно.
Мадам Роза стала лопать поменьше, и это шло на пользу не только ей, но и всем нам. И потом, пацанов стало побольше — наступило лето, и люди разъезжались кто куда. Никогда еще я так не радовался, подтирая попы, потому что они сулили хороший приварок, и даже когда пальцы у меня оказывались в дерьме, несправедливостью тут не пахло.
На беду, мадам Роза менялась прямо на глазах — из-за законов природы, которые взялись за нее со всех сторон, набросившись на ноги, на глаза, на такие известные органы, как сердце, печень, артерии, и вообще на все, что можно обнаружить у сильно изношенного человека. А поскольку лифта у нас не было, ее порой заклинивало между этажами, и нам всем приходилось спускаться и подталкивать ее сзади, даже Банании, который начал пробуждаться к жизни и понимать, что и ему есть смысл сражаться за свой кусок хлеба с маслом.
Самые важные части у человека — это сердце и голова, и за них-то и приходится дороже всего расплачиваться. Если останавливается сердце, то на этом все заканчивается и продолжения ждать нечего, а если отключается голова и уже не варит как положено, человек лишается способности пользоваться жизнью. Мне думается, жить надо начинать сызмальства, потому что после все теряют к тебе интерес и никому ты на фиг не нужен.
Иногда я приносил мадам Розе вещи, которые подбирал без всякой нужды, — они ни на что не годны, но доставляют удовольствие, потому что их никто не хочет и их выбросили. Например, рядом с вами живут люди, у которых дома есть цветы — какая-нибудь годовщина или просто так, чтобы в квартире повеселей было, — и когда цветы засыхают и уже не украшают, их выкидывают на помойку, так что если встать рано поутру, их можно подобрать, чем я и занимался, это называется утилизацией вторсырья. Кое-какие цветы еще не совсем полиняли, они еще помаленьку жили, и я собирал из них букеты, не задаваясь вопросами возраста, и дарил мадам Розе, которая ставила их в вазы без воды, потому что вода была уже ни к чему. А еще, бывало, я тырил целыми охапками с тележек на Центральном рынке мимозу и приносил ее домой, чтобы и там попахло счастьем. По пути я мечтал о цветочных сражениях в Ницце [[9] ] и о дремучих мимозовых лесах вокруг этого белоснежного города, который мосье Хамиль знавал в молодости и о котором порой мне кое-что рассказывал, но мало, потому что сам был уже не тот.
Чаще всего дома у нас говорили по-еврейски или по-арабски, а иногда по-французски — это когда у нас бывали иностранцы или когда мы не хотели, чтобы нас понимали свои, но теперь мадам Роза смешивала все языки своей жизни и говорила со мной даже по-польски — это был для нее самый давнишний язык, и он возвращался к ней, потому что если у стариков что и остается, так это их молодость. В общем-то, если не считать лестницы, за жизнь она еще боролась. Но жизнь эта, по правде говоря, была не повседневной, и требовались уколы. А попробуй-ка найди резвую медсестру, чтобы топала на седьмой пешком да притом не обдирала вас как липку. Хорошо хоть это дело я уладил с Махутом, который кололся на законном основании, — у него был диабет, и потому здоровье ему это позволяло. Он был славный малый, который создал себя сам, но все равно оставался черным и алжирцем. Он продавал транзисторы и другие плоды своего воровского труда, а в свободное время пытался вылечиться от наркомании в больнице Мармоттан, куда у него был ход. Он пришел сделать мадам Розе укол, но дело чуть не кончилось скверно, потому что он перепутал ампулы и загнал мадам Розе в задницу дозу героина, которую берег на тот день, когда закончит курс излечения.
Я сразу заметил, что происходит что-то против природы, потому что никогда раньше не видел старуху такой радостной. Сначала она несказанно удивилась, а потом стала прямо-таки счастливой. Я даже перетрухнул, решив, что она уже не вернется, забравшись на самые небеса. Лично я на героин плевал с высокой колокольни. Пацаны, которые колются, все до одного привыкают к счастью, а это уж точно хана — ведь счастье только и узнаешь, когда его не хватает. Чтобы колоться, нужно и впрямь очень хотеть счастья, а такое приходит в голову разве что полным кретинам. Лично я никогда не сиропился, только иногда из вежливости курил с приятелями «Мари» [[10] ], а ведь десять лет — это возраст, когда взрослые учат вас целой куче вещей. Но я не так уж жажду быть счастливым, я пока еще предпочитаю просто жить. Счастье — штука паскудная, и его не худо было бы отучить соваться в людские дела. Мы со счастьем из разных курятников, и плевать я на него хотел. Политикой я еще никогда не занимался, потому что это всегда на руку только кому-нибудь одному, а вот насчет счастья уже давно пора придумать законы, чтобы помешать ему пакостить. Говорю то, что думаю, и, может, я и не прав, но только я ни за что не стану хвататься за шприц, чтобы стать счастливым. Хреновина. Но хватит мне уже долдонить вам про счастье, потому что не хочется доводить себя до припадка, но мосье Хамиль говорит, что меня тянет к невыразимому. Он говорит, в невыразимом-то и нужно искать — все там.
Лучший способ раздобыть героина — кстати, Махут так и пробавлялся — это сказать, что ты еще ни разу не кололся, и тогда братва мигом устроит тебе дармовой укольчик, потому что никому неохота чувствовать себя одиноким в несчастье. Вы не поверите, сколько типов готово было всадить мне мою первую порцию, но я не собираюсь облегчать другим жизнь, тут мне хватает мадам Розы. Не намерен я нырять в счастье, пока не испробую все, чтобы выпутаться.
Так вот, значит, этот Махут — кстати, это прозвище ровно ничего не значит, потому-то все его так и кличут — приобщил мадам Розу к HLM, как у нас называют героин по причине тех районов Франции, где его тьма-тьмущая [[11] ]. Мадам Роза в тот раз сначала невероятно удивилась, а потом впала в такое радостное состояние, что больно было смотреть. Сами посудите: еврейка шестидесяти пяти лет от роду — только этого ей и не хватало. Я помчался за доктором Кацем, потому что с героином бывает перебор и тогда отправляешься прямехонько в ихний искусственный рай. Доктор Кац не пошел, потому что ему уже запрещено было подниматься на седьмой этаж, разве что в случае смерти. Он позвонил знакомому молодому врачу, и час спустя тот появился у нас. Мадам Роза уже вовсю пускала в кресле слюни. Доктор уставился на меня так, будто в жизни не видывал десятилетнего шкета.
— Что это здесь? Вроде детского сада?
Мне его даже жалко стало, до того у него озадаченный вид был, будто такое невозможно. Махут — тот весь исстрадался, бедняга, ведь это он свое счастье загнал в зад мадам Розе.
— Но все-таки как же так можно? И кто достал этой почтенной даме героин?
Я смотрел на него, засунув руки в карманы, и улыбался, но говорить так ничего и не стал — к чему, ведь это был всего-навсего тридцатилетний пацан, совсем еще зеленый, которому только еще предстояло всему научиться.
Спустя несколько дней мне здорово повезло. Надо было наведаться в один большой магазин на площади Оперы, где на витрине цирк, чтобы родители приходили с малышами задаром. Я бывал там уже раз десять, но в тот день пришел слишком рано, жалюзи еще были опущены, и я покалякал о том о сем с одним африканцем-подметальщиком, которого я вообще-то не знал, но который точно был из Африки. Жил он в Обервилье, где чернокожих тоже полно. Мы выкурили сигарету, и я немного поглазел, как он подметает тротуар, потому что заняться больше было нечем. Потом я вернулся к магазину и там наконец отвел душеньку. Вокруг витрины горели звезды крупней настоящих, которые то зажигались, то гасли, словно подмигивали. А внутри был цирк: клоуны, космонавты, которые улетают на луну и возвращаются оттуда, приветствуя прохожих, акробаты, которые, как им и положено, легко кувыркаются в воздухе, белые танцовщицы в пачках на спинах лошадей и мускулистые силачи, которые играючи поднимают невероятные тяжести, потому что снабжены для этого механизмами. Там был даже пляшущий верблюд и фокусник — у него из шляпы друг за дружкой выходили кролики, делали круг по арене и запрыгивали назад в шляпу, а потом все по новой, потому что представление было непрерывным и остановиться не могло, это было выше его сил. Клоуны были разодеты в пух и прах — голубые, белые, всех цветов радуги, и у каждого в носу загоралась красная лампочка. Позади арены толпились зрители — не настоящие, а понарошку — и без передыху хлопали в ладоши, для того они и были сделаны. Космонавт, достигнув луны, выходил из ракеты и приветствовал зрителей, и ракета послушно ждала, покуда он не кончит кланяться. А когда тебе начинало казаться, что ничего нового уже не увидишь, из своего загона выходили потешные слоны и кружили по арене, держась друг дружке за хвост, и самый последний был еще малыш и весь розовый, словно только что родился. Но для меня гвоздем программы были клоуны, не похожие ни на что на свете: физиономии у всех самые немыслимые, глаза вопросительными знаками, и все такие прохвосты, что все время ужасно всем довольны. Я глядел на них и думал, до чего забавно выглядела бы мадам Роза, будь она клоуном, но в том-то и дело, что она никакой не клоун, и это самое поганое. Штаны у клоунов то и дело спадали и снова надевались, публике на потеху, а из их музыкальных инструментов вместо того, что в обычной жизни, вылетали искры и струйки воды. Клоунов было четверо, и верховодил среди них белый в остроконечном колпаке, в штанах пузырем и с лицом белей, чем все остальное. Другие отвешивали ему поклоны и по-военному отдавали честь, а он награждал их пинками в зад — он только этим всю свою жизнь и занимался и остановиться не мог, даже если б захотел, так уж его настроили. Он делал это не по злобе, а чисто механически. А вот желтый клоун в зеленых пятнах, тот постоянно радовался, даже когда сворачивал себе шею, — он выступал на проволоке и все время оттуда срывался, но воспринимал это с юмором, как настоящий философ. На нем был рыжий парик, который от ужаса вставал дыбом, когда он ставил одну ногу на проволоку, потом другую, пока все ноги не оказывались на проволоке и он уже не мог двинуться ни вперед, ни назад и принимался дрожать со страху, чтобы насмешить, потому что нет ничего смешнее, чем испуганный клоун. Приятель его, весь голубой и ласковый, держал в руках крохотную гитару и пел на луну, и видно было, что сердце у него очень доброе, но он ничего не может с собой поделать. Ну а последний клоун был на самом деле вдвоем, потому что у него имелся двойник, и то, что делал первый, вынужден был делать и второй, и оба пытались покончить с этим, но никак не могли, потому что были связаны круговой порукой. Главное, все было механическое и незлое, и ты наперед знал, что они не будут страдать, не состарятся и вообще ничего плохого с ними не случится. Это было ни капельки не похоже на то, что вокруг, с какого боку ни взгляни. Даже верблюд вопреки своей репутации желал тебе добра. Улыбка у него была такая широкая, что еле умещалась на морде, и он вышагивал важно, как дама-воображала. Все были счастливы в этом цирке, который ничем не походил на взаправдашний. Клоуну на проволоке была обеспечена полная безопасность, за десять дней я ни разу не видел, чтобы он упал, а если б и упал, то, я уверен, ничего бы себе не повредил. Чего там, это было и вправду совсем другое дело. Мне прямо помереть хотелось, потому что счастье нужно хватать, пока не сплыло.
Я смотрел представление и радовался, как вдруг почувствовал на своем плече руку. Я быстро обернулся, решив, что это фараон, но это оказалась милашка, совсем молоденькая — от силы лет двадцати пяти, чертовски хорошенькая, с обалденной светлой шевелюрой, и пахло от нее свежестью и чем-то приятным.
— Почему ты плачешь?
— Я не плачу.
Она коснулась моей щеки.
— А это что такое? Разве не слезы?
— Нет, понятия не имею, откуда оно взялось.
— Ладно, я вижу, что ошиблась. Что за прелесть этот цирк!
— Лучше не бывает.
— Ты живешь здесь?
— Нет, я не француз. Я, наверное, алжирец, а живем мы в Бельвиле.
— А как тебя звать?
— Момо.
Я никак не мог взять в толк, чего это она ко мне прицепилась. В свои десять лет я еще ни на что не был годен, пусть я даже и араб. Руку она все держала у меня на щеке, и я чуток отступил. Надо всегда держать ухо востро. Вам-то, может, и невдомек, но у ищеек Общественного призрения вид бывает безобидный, а потом вдруг бац! — и заполучай протокол с административным расследованием. Нет ничего хуже административного расследования. Мадам Роза прямо-таки обмирала, стоило ей только про это подумать. Я еще отступил, но не намного — ровно на столько, чтобы успеть задать деру, если она попытается меня задержать. Но она была чертовски красива и могла бы, если б захотела, обеспечить себе целое состояние с каким-нибудь серьезным типом, который бы о ней заботился. Она засмеялась.
— Не нужно бояться.
Как бы не так. «Не нужно бояться» — это припевка для идиотов. Мосье Хамиль все время повторяет, что страх — самый верный наш союзник и одному Господу известно, что бы с нами без него сталось, уж поверьте опыту старика. Мосье Хамиль от страха даже в Мекке побывал.
— Ты еще слишком мал, чтобы бродить одному по улицам.
Вот уж где я повеселился. От души повеселился. Но ничего не сказал — не мне же учить ее жизни.
— Ты самый милый мальчуган из всех, что я видела.
— Вы и сами что надо.
Она засмеялась.
— Спасибо.
Не знаю, что со мною сделалось, но меня вдруг обуяла надежда. Не то чтобы я подыскивал, где пристроиться, — я не собирался бросать мадам Розу, пока она была еще на что-то способна. Только стоило все же подумать и о будущем, которое рано или поздно, но обязательно шмякнет вас по темечку, и иногда по ночам мне снилась всякая всячина. Что-нибудь насчет каникул на море и когда меня не заставляют ничего такого чувствовать. Ладно, пускай я чуток изменял мадам Розе, но только в мыслях и когда мне уж совсем хотелось подохнуть. Я поглядел на красотку с надеждой, и сердце у меня заколотилось. Надежда — она всегда сильнее всего, даже у стариков вроде мадам Розы или мосье Хамиля. Стерва проклятая.
Но она больше ничего не сказала. Все на том и закончилось. Люди — штука ненадежная. Она поговорила со мной, сделала мне такое одолжение, мило улыбнулась, а потом вздохнула и ушла. Шлюха.
Она была в плаще и брюках. Белокурые волосы рассыпались по спине. Худенькая, и по походке видно, что ей ничего не стоит взбежать на седьмой этаж, притом не один раз в день, да еще с полными сумками.
Я потащился следом, потому что ничего лучше не придумал. Разок она остановилась, увидела меня, и оба мы засмеялись. В другой раз я спрятался в подъезде, но она не обернулась и не пошла назад. Я чуть было не потерял ее из виду. Шла она быстро и, наверное, совсем про меня забыла — должно быть, у нее хватало и своих забот. Она свернула во двор, и я увидел, как она звонит в дверь на первом этаже.
И не просто так. Дверь открылась, и появились двое малышей, которые бросились ей на шею. Ну там лет семи или восьми. Такие вот дела.
Какое-то время я без всякой цели просидел в подворотне. Вообще-то я мог бы подыскать себе занятие и поинтересней. На площади Этуаль есть магазинчик с мультиками, а когда смотришь мультики, можно наплевать на все остальное. Или можно было пойти на улицу Пигаль к девицам, которым я нравился, и разжиться монетой. Но мне все вдруг опостылело и стало безразличным. Мне вообще расхотелось быть тут. Я закрыл глаза, но от этого мало проку, и я по-прежнему оставался тут — это получается само собой, пока живешь. Я все никак не мог понять, какого черта эта шлюха вздумала делать мне авансы. Надо сказать, что я становлюсь большим занудой, когда нужно что-нибудь как следует понять, — я все время в этом копаюсь, хотя прав, конечно, мосье Хамиль, который говорит, что уже довольно давно никто ни в чем ничего не понимает и остается только удивляться. Я отправился снова поглядеть на цирк и выиграл еще часок-другой, но их все равно оставалось слишком много. Я вошел в чайный салон для дам, слопал два эклера в шоколаде, это мои любимые пирожные, потом спросил, куда здесь можно сходить по-маленькому, а выйдя оттуда, рванул прямо к двери — и привет. После этого я стырил на распродаже в магазине «Прентан» перчатки и выбросил их в мусорный ящик. От этого как-то полегчало.
Как раз когда я возвращался по улице Понтье, произошла и впрямь странная штука. Я не очень-то верю в странное, потому что не вижу в нем ничего особенного.
Я боялся возвращаться домой. На мадам Розу больно было смотреть, и я знал, что, того и гляди, ее у меня не станет. Я думал об этом постоянно и иногда просто не мог заставить себя вернуться домой. Тогда мне хотелось стащить что-нибудь крупное в магазине и дать себя зацапать. Или попасть в засаду при налете на отделение банка и отстреливаться из автомата до последнего. Но я знал, что никто все равно не обратит на меня внимания. Ну вот, значит, я был на улице Понтье и угробил там часа два, глазея на парней, гонявших мяч во дворике за бистро. Потом мне захотелось пойти куда-нибудь еще, но куда — я не знал, поэтому продолжал торчать там. Я знал, что мадам Роза наверняка уже в панике, — она всегда боялась, как бы со мной чего не стряслось. Выходить из дому она почти что перестала, потому что втащить ее обратно наверх не было уже никакой возможности. Поначалу мы вчетвером поджидали ее внизу и, когда она подходила, всем скопом наваливались и подталкивали ее. Но теперь она все реже бывала в своем уме, ноги и сердце ей совсем отказывали, а дыхания не хватило бы даже на кого-нибудь в четверть ее веса. О больнице, где тебя принуждают умирать до конца, вместо того чтобы сделать укол, она и слышать не хотела. Она говорила, что во Франции общество выступает против легкой смерти и тебя заставляют жить столько, сколько ты в состоянии мучиться. Мадам Роза страсть как боялась мучений и все время повторяла, что когда ей действительно надоест, она сама найдет способ от себя избавиться. Она предупреждала нас: если ею завладеет больница, то Общественное призрение всех нас тут же узаконит, и принималась реветь при одной мысли о том, что может помереть в согласии с законом. Закон сделан для того, чтобы защищать тех людей, у кого есть что защищать от других. Мосье Хамиль говорит, что человечество — это всего лишь крохотная запятая в великой Книге жизни, ну а если старый человек морозит такую чушь, я не знаю, что тут еще сказать. Человечество — не запятая, потому что когда мадам Роза глядит на меня своими еврейскими глазами, она никакая не запятая, она скорее вся великая Книга жизни целиком, и я не желаю этого видеть. Два раза я ходил в мечеть ради мадам Розы, но это ничего не дало, потому что на евреев это не действует. Вот почему мне было тяжело возвращаться в Бельвиль и оказываться с глазу на глаз с мадам Розой. Временами она ойкала: «Ой-ей-ей!» — это крик еврейской души, когда у них где-нибудь болит. У арабов это звучит совсем по-другому, мы говорим: «Хай! Хай!», а французы — «О! О!», когда бывают несчастны, — не нужно думать, что с ними такого никогда не случается. Мне вот-вот должно было стукнуть десять лет, потому что мадам Роза решила, что мне пора привыкать иметь свой день рождения, и он приходился как раз на сегодня. Она сказала, что это важно для моего нормального развития, а все остальное — имя отца, матери — это блажь.
Я устроился в подворотне — переждать, пока это пройдет, но время — оно старее всего на свете и потому плетется еле-еле. Когда людям плохо, глаза у них набухают и вмещают больше, чем вмещали до того. Вот и у мадам Розы глаза словно набухали и становились все больше похожи на собачьи. Так смотрят собаки на того, кто ни за что ни про что награждает их пинками. Я прямо видел ее глаза перед собой, а ведь в тот момент находился на улице Понтье, неподалеку от Елисейских полей с их шикарными магазинами. Ее довоенные волосы теперь все больше и больше выпадали, и когда в ней порой пробуждался боевой дух, она отправляла меня на поиски нового парика из настоящих волос, чтобы снова стать похожей на человека. Старый ее парик — тот тоже совсем опаскудился. Надо сказать, она становилась лысой, как мужчина, и на это было больно смотреть, потому что для женщин это не предусмотрено. Новый парик она тоже хотела рыжий, этот цвет больше всего подходил к ее типу красоты. Я ломал голову, где бы его спереть. В Бельвиле нет таких специальных заведений для страхолюдин, которые называются институтами красоты. А на Елисейских — туда я сунуться не решался. Там надо спрашивать, мерить — в общем, дрянь дело.
На душе было препогано. Даже кока-колы не хотелось. Я пробовал убедить себя, что шансов родиться именно в этот день у меня не больше, чем в любой другой, и как бы то ни было, а вся эта шумиха вокруг дней рождения — просто-напросто всеобщий сговор. Я думал о своих приятелях: о Махуте, о Шахе, который вкалывал на бензоколонке. Когда ты еще пацан, то заявить о себе можно, только собравшись в кучу.
Я лег на землю, закрыл глаза и начал вовсю стараться умереть, но цемент был холодный, и я забоялся подхватить какую-нибудь хворь. Я знаю, на моем месте многие загнали бы в себя целую прорву героина, но лично я не собираюсь лизать жизни задницу за такое счастье. И ползать перед этой паскудой на брюхе тоже не намерен. У нас с ней дорожки разные. Когда закон признает меня совершеннолетним, я, наверное, стану террористом, с угоном самолетов и взятием заложников, как по телику, чтобы чего-нибудь требовать — еще не знаю чего, но уж никак не леденцов. Чего-то настоящего, вот. Покамест я еще не могу вам сказать, чего нужно требовать, потому что не получил профессиональной подготовки.
Я сидел на голом цементе, угоняя самолеты и захватывая заложников, которые выходили с задранными вверх руками, и придумывал, что я буду делать с деньгами, всего ведь не купишь. Я куплю мадам Розе собственный дом, чтобы она померла спокойно, опустив ноги в тазик с водой и в новом парике. Я отправлю шлюх с их сыновьями в самые роскошные дворцы в Ниццу, где эти ребята будут надежно укрыты от жизни и смогут впоследствии стать главами государств, прибывающими с визитом в Париж, или представителями большинства, выражающими свою поддержку, или даже важными факторами успеха. А я смогу купить себе новый телик, который присмотрел на витрине.
Я размышлял обо всем этом, но потом делами заниматься что-то расхотелось. Я вызвал к себе голубого клоуна с той витрины, и мы немного подурачились вместе. Потом я пригласил белого, и тот сел со мной рядом и сыграл мне на своей крохотной скрипочке тишину. Мне очень хотелось уйти к ним и остаться там навсегда, но я не мог бросить мадам Розу одну в этом свинюшнике. Нам удалось раздобыть нового вьетнамца цвета кофе с молоком вместо прежнего, которого одна чернокожая француженка с Антильских островов нарочно заимела от своего дружка, чья мать была еврейкой. Сынишку эта чернокожая хотела воспитывать сама, потому что тут была замешана любовь и она приняла все это близко к сердцу. Платила она исправно, потому что мосье Н’Да Амеде оставлял ей достаточно денег, чтобы жить вполне прилично. Он взимал со своих женщин сорок процентов их заработка, потому что это очень бойкий тротуар, ни минуты передышки, а еще ему приходилось платить югославам, с которыми просто сладу не стало. Даже корсиканцы начали встревать в это дело, потому что у них нарождалось новое поколение.
Возле меня стоял ящик из-под фруктов с предметами самой распоследней необходимости — я мог бы поджечь его, и сгорел бы весь дом, но все равно никто не узнал бы, что это я, и уж во всяком случае это было бы неосторожно. Я очень хорошо помню этот момент в своей жизни, потому что он ничем не отличался от всех прочих. Жизнь у меня и так все время повседневная, но бывают минуты, когда я чувствую себя еще поганей. Болеть у меня ничего не болело, так что причин для расстройства вроде бы не было, но казалось, будто я какой-то безрукий и безногий, хотя у меня, конечно, имелось все что полагается. Сам мосье Хамиль не сумел бы такого объяснить.
Не в обиду будь сказано, но мосье Хамиль становился все бестолковей, как это иногда случается со стариками, которым уже недалеко до сведения счетов с жизнью и которым ни к чему оправдания. Они хорошо знают, что их ждет, и по их глазам видно, что они глядят назад, чтобы спрятаться в прошлом, как страусы, когда занимаются политикой. У мосье Хамиля под рукой всегда была его любимая Книга Виктора Гюго, но у него в голове все смешалось, и он считал, что это Коран, потому что у него было то и другое. Некоторые куски в них он знал наизусть и говорил как по писаному, но вечно путал. Когда я ходил с ним в мечеть, где мы оба производили прекрасное впечатление, потому что я вел его, как слепого, а у нас слепые на очень хорошем счету, он то и дело ошибался и вместо молитвы декламировал: «О поле Ватерло! Печальная равнина!» [[12] ] — и тогда присутствовавшие там арабы жутко удивлялись, настолько это было не к месту. А у него аж слезы выступали на глазах от религиозного рвения. Он был великолепен в своей серой джеллабе и с белой гальмоной на голове и молился, чтоб его хорошо приняли на небесах. Но он так никогда и не умер, и вполне возможно, что он станет абсолютным чемпионом мира, потому что в таком возрасте никто не мог говорить лучше, чем он. Самыми молодыми у людей помирают собаки. Уже в двенадцать лет на них нельзя рассчитывать, и их надо обновлять. Когда у меня в следующий раз будет собака, я возьму ее прямо из колыбели — так у меня будет много времени до того, как ее потерять. У одних только клоунов с витрины нет проблем жизни и смерти, поскольку они явились в мир не семейным путем. Они были изобретены в обход законов природы и никогда не умирают, потому что это было бы не смешно. Я могу увидеть их рядом с собой, когда только захочу. Я могу увидеть рядом с собой кого угодно, если захочу: Кинг-Конга или Франкенштейна и стаи раненых розовых птиц — всех, кроме своей матери, потому что тут у меня не хватает воображения.
Подворотня мне уже осточертела, поэтому я поднялся и выглянул на улицу. Справа стояла полицейская машина с фараонами наготове. Я тоже хотел стать фараоном, когда получу совершеннолетие, чтобы ничего и никого не бояться и всегда знать, что делать. Фараоны на все получают приказы от властей. Мадам Роза говорила, что в Общественном призрении полно сыновей шлюх, которые потом становятся фараонами или жандармами, и никто уже не смеет их тронуть.
Держа руки в карманах, я вышел поглядеть и подошел к машине полицейских, как еще иногда называют фараонов. Я слегка дрейфил: они не все были в машине, некоторые рассредоточились на тротуаре. Я принялся насвистывать «По дорогам Лотарингии», потому что физиономия у меня не тутошняя, и один уже начал мне улыбаться.
На свете нет ничего сильнее фараонов. Если у пацана отец фараон, то это вроде как вдвое больше, чем у остальных. В фараоны принимают арабов и даже черных, если в тех есть хоть капелька французского. Все они сыновья шлюх, прошедшие через Призрение, и их уже ничем не удивишь. По части безопасности ничего нет лучше, тут я головой ручаюсь. Даже военные им в подметки не годятся, кроме разве что генералов. Мадам Роза страсть как боится фараонов, но это все из-за немецкого общежития, где ее истребляли, а это не считается — тогда она просто неудачно попала. Или же я уеду в Алжир и там поступлю в полицию — там в полицейских самая большая нужда. Во Франции алжирцев гораздо меньше, чем в Алжире, так что у фараонов здесь и работы меньше. Я сделал еще шаг-другой к машине, где все они сидели и ждали беспорядков и вооруженных нападений, и сердце у меня заколотилось. Я всегда чувствую себя каким-то противозаконным, чутье и сейчас подсказывало мне, что я не должен тут торчать. Но они и пальцем не пошевелили — видно, устали. Один из них даже спал у окна, другой, рядом с транзистором, преспокойно жевал очищенный банан — расслаблялись, в общем. Снаружи стоял светловолосый, у которого в руке была рация с антенной, и его, казалось, ничуть не волновало происходящее вокруг. Я дрейфил, но это было даже приятно — знать, чего боишься, потому что обычно я страсть как боюсь вообще без всякой причины, просто как дышу. Фараон с антенной заметил меня, но не принял никаких мер, и я прошел мимо насвистывая, будто у себя дома.
У некоторых фараонов есть жена и дети — я точно знаю, что такое бывает. Раз я решил обсудить с Махутом, каково это — иметь отца-фараона, но Махуту это быстро надоело, он сказал, какой толк в мечтаниях, и ушел. Пустая это затея — спорить с наркоманами, никакого у них любопытства.
Чтобы не возвращаться, я послонялся еще немного, считая, сколько шагов в тротуаре, и их там оказалось целое состояние, у меня для них даже чисел не хватило. Оставалось еще полюбоваться на солнце. Когда-нибудь я съезжу в деревню — рассмотреть поближе, как оно светит. Море меня, наверное, тоже могло бы заинтересовать, мосье Хамиль отзывается о нем с большим уважением. Не знаю, что бы со мной сталось без мосье Хамиля — он научил меня всему, что я знаю. Он приехал во Францию с дядей и остался один очень рано, совсем мальцом, когда дядя умер, но, несмотря на это, в люди ему выйти удалось. Теперь он становится все бестолковей, но это оттого, что люди не предусмотрены, чтобы жить такими старыми. Солнце было похоже на желтого клоуна, примостившегося на крыше. Когда-нибудь я отправлюсь в Мекку — мосье Хамиль говорит, что благодаря географии там больше солнца, чем где бы то ни было. Но я думаю, что по части всего прочего Мекка тоже не такая уж особенная. Мне бы хотелось уехать далеко-далеко, в места, где полно чего-то совсем другого, чего я даже не пытаюсь вообразить, чтобы не растратить попусту. Солнце, клоунов и собак можно будет оставить, потому что ничего лучше в этом роде не придумаешь. Но уж зато все остальное должно быть невиданным-неслыханным и специально для того устроенным. Однако я думаю, что и там все приспособится, чтобы не выделяться. Иной раз даже смех разбирает, до чего все на свете держится за свои места.
Было пять часов, и я уже повернул было к дому, но вдруг увидел ту блондинку, которая приткнула свою микролитражку на тротуаре, прямо под знаком запрещения стоянки. Я сразу же ее узнал, потому что злопамятный, как репей. Это была та самая шлюха, которая бросила меня после пустопорожних авансов и за которой я протаскался без всякого толку. Удивился я при виде ее до крайности. В Париже полным-полно улиц, и должно здорово повезти, чтобы в этой путанице кого-нибудь случайно встретить. Меня малышка не заметила — я был на противоположном тротуаре, и я быстренько перешел улицу, чтобы она меня заметила. Но она спешила, а может, уже и думать обо мне забыла, ведь с тех пор прошло целых два часа. Она вошла в номер, у которого общий двор еще с одним домом, Я даже не успел ей толком показаться. Она была в верблюжьем пальто и брюках, с копной волос на голове, светлых-пресветлых. Позади себя она оставила никак не меньше пяти метров духов. Машину она не заперла, и поначалу я решил было стянуть оттуда что-нибудь, чтоб помнила, но на меня напала такая великая хандра из-за моего дня рождения и вообще из-за всего, что я даже удивился, как это ей хватило во мне места. Слишком как бы людно получилось у меня внутри. Стоп, сказал я себе, тырить ни к чему, она ведь даже не узнает, что это я. Мне хотелось попасться ей на глаза, но не думайте, что я всего лишь искал семью: мадам Роза могла протянуть еще немного, если бы поднатужилась. Мойше уже нашел куда прибиться, и даже Банания находился на переговорах, так что суетиться мне было ни к чему. Общеизвестных болезней за мной не числилось, возврата с усыновлением тоже, а это первое, на что смотрят, когда тебя выбирают. И этих людей можно понять, потому что бывает, что возьмут себе мальца с полным доверием, а потом на шее повисает наследственный алкоголик, да еще с большим приветом, в то время как вокруг полно отличных ребят, которые так никого себе и не нашли. Я и сам, если б мог выбирать, взял бы чего получше, чем старую еврейку доходягу, которая только заставляла меня страдать и всякий раз вызывала во мне желание подохнуть, когда я видел ее в известном вам состоянии. Будь мадам Роза собакой, от нее бы уже давно избавились, но к собакам относятся вообще не в пример лучше, чем к человеческим существам, которых запрещено умерщвлять без страданий. Я говорю все это, чтобы вы не подумали, будто я увязался за мадемуазель Надин, как она назвалась впоследствии, только затем, чтобы мадам Роза могла умереть спокойно.
Через это здание можно было пройти к другому, поменьше, и едва я туда вошел, как услышал выстрелы, визг тормозов, вопли женщины и голос мужчины, который умолял: «Не убивайте меня! Не убивайте меня!» — и я даже подскочил на месте, так это было близко. Тут же раздалась автоматная очередь, и тот тип заорал: «Нет!» — как бывает всегда, когда умирают без особого удовольствия. Потом наступила еще более ужасная тишина, а дальше… вы мне просто не поверите! Все началось как раньше, с тем же типом, который не хотел, чтобы его убивали, явно имея на то свои причины, и с автоматом, который и не думал его слушаться. Трижды его приканчивали вот так, против воли, словно он был таким отпетым негодяем, что его непременно следовало убивать трижды подряд в назидание. Снова наступила тишина, во время которой он оставался мертвым, а потом они набросились на него в четвертый раз и в пятый, и в конце концов мне его даже жалко стало, потому что сколько ж можно. После они оставили его в покое, и послышался голос женщины, которая проговорила: «Любовь моя, бедная моя любовь», но так взволнованно и с таким искренним чувством, что я задрожал всеми своими фибрами, хоть и не знаю, что это такое. У входа не было никого, кроме меня, да еще дверь с зажженной красной лампой. Не успел я отойти от волнения, как снова начался этот балаган насчет «любовь моя, любовь моя», но всякий раз другим тоном, а потом — еще и еще. Тот тип по крайней мере раз пять-шесть испускал дух на руках у своей подружки, до того ему было любо-дорого чувствовать, что рядом есть кто-то, кому это причиняет страдание. Я подумал о мадам Розе, у которой нет никого, кто бы сказал ей «любовь моя, бедная моя любовь», потому что она осталась, по правде говоря, совсем без волос и набрала в весе добрую сотню килограммов, про которые не скажешь, что они один краше другого. Тем временем женщина умолкла, но лишь затем, чтобы разразиться таким криком отчаяния, что я, как единственный мужчина, кинулся к двери и внутрь. Черт побери, там оказалось что-то вроде кино, только все двигались назад. Когда я вошел, та женщина на экране рухнула на тело трупа, чтобы поубиваться, и тут же после этого встала, но спиной и пошла задом наперед, словно туда она была живой, а обратно — куклой. Потом все потухло, и воцарился свет.
Красотка, которая меня давеча бросила, стояла у микрофона посреди зала перед креслами и, когда все осветилось, увидала меня. По углам было три или четыре типа, но невооруженные. Должно быть, с открытым ртом вид у меня был самый идиотский, потому что все на меня как-то так смотрели. Блондинка узнала меня и потрясающе мне улыбнулась, что немного подняло мой моральный дух, — значит, я таки произвел на нее впечатление.
— Да это же мой приятель!
Приятелями мы вовсе не были, но ведь не спорить же тут. Она подошла ко мне и стала разглядывать Артура, но я-то знал, что интересую ее я. От женщин иной раз прямо смех разбирает.
— Что это?
— Это старый зонтик, я его немного приодел.
— Забавный он в этой одежке, ну прямо как божок. Это твой приятель?
— Что я, по-вашему, недоумок? Это не приятель, это зонтик.
Она взяла Артура и стала делать вид, будто его рассматривает. Другие тоже. Главное, чего никому не хочется, усыновляя мальца, это чтоб он оказался недоумком. Это когда малец, например, встает как вкопанный посередь дороги, потому что ему все на свете опостылело. Этим он подкладывает своим родителям большую свинью, и те не знают, что с ним делать. К примеру, парню пятнадцать лет, а ведет он себя на десять. Заметьте, выиграть тут никак нельзя. Когда парню десять лет, как мне, а он ведет себя на все пятнадцать, его тоже как миленького выставляют за порог школы, потому что он чокнутый.
— Какой он красивый со своим зеленым лицом! Зачем ты сделал ему зеленое лицо?
Она пахла так хорошо, что я подумал о мадам Розе, до того это было по-другому.
— Это не лицо, а тряпка. Лица нам запрещены.
— Как это запрещены?
У нее были голубые глаза, очень веселые и довольно ласковые, и она присела перед Артуром на корточки, но это все было для меня.
— Я араб. В нашей религии лица не дозволяются.
— Ты имеешь в виду — изображать лицо?
— Это оскорбительно для Господа.
Она бросила на меня взгляд, будто мимоходом, но я-то видел, что произвожу впечатление.
— Сколько тебе лет?
— Я вам уже говорил, когда мы виделись в первый раз. Десять. Как раз сегодня стукнуло. Но возраст — это ерунда. У меня есть друг, которому восемьдесят пять, а он все еще тут.
— А звать тебя как?
— Вы уже спрашивали. Момо.
После ей надо было работать. Она объяснила мне, что все это называется залом дубляжа. Люди на экране открывали рот, собираясь говорить, но им отдавали свои голоса те, кто в зале. Как птицы своим птенцам, они заталкивали свои голоса прямо в их разинутые глотки. Когда с первого раза не получалось и голос в нужный момент не входил, все начиналось сызнова. Вот тогда-то и было любо-дорого смотреть: все принималось пятиться. Мертвые возвращались к жизни и, пятясь, вновь занимали свое место в обществе. Стоило нажать кнопку, как все начинало двигаться назад. Машины ехали наоборот, и собаки мчались задом наперед, и разрушенные дома складывались и возводились снова прямо на глазах. Пули вылетали из тела, возвращались в дула автоматов, и убийцы задом убирались прочь и запрыгивали в окна. А вылитая перед тем вода сама поднималась обратно в стакан. Вытекающая кровь возвращалась к тебе в тело, и нигде не оставалось ни следа, а рана закрывалась. Какой-то хмырь, который сплюнул, втянул свой плевок назад в рот. Лошади скакали задом наперед, а один тип, который упал с восьмого этажа, полностью восстановился и вернулся в окно. То был мир шиворот-навыворот, и это самая стоящая вещь, какую мне доводилось видеть в моей паскудной жизни. На какой-то миг я даже увидел мадам Розу, молодую и свежую, со здоровыми ногами, и сделал так, чтоб она отступила еще дальше назад, и тогда она стала еще красивей. У меня даже слезы на глаза накатили.
Там я засиделся порядком, потому что никуда больше не спешил, и как же я отвел душеньку! Особенно мне нравилось, когда ту женщину на экране убивали и некоторое время она оставалась мертвой, чтобы всех огорчить, а потом ее будто отрывала от земли чья-то невидимая рука, она пятилась, пятилась и обретала настоящую жизнь. Тип, для которого она говорила «любовь моя, бедная любовь моя», рожей уж больно смахивал на подонка, ну да не мое это дело. Присутствовавшие там заметили, что мне здорово нравится ихнее кино, и объяснили, что можно взять все что угодно с конца и вернуться к самому его началу, а один из них, бородач, ухмыльнулся и сказал «к раю земному». А после добавил: «Увы, стоит только начать все сызнова, как получается то же самое». Блондинка сказала мне, что ее зовут Надин и это ее профессия — заставлять людей говорить в кино человеческим голосом. Мне уже ничегошеньки не хотелось, так было хорошо. Еще бы — дом полыхает и рушится, а потом тухнет и восстает из обломков. Чтобы в такое поверить, нужно увидеть собственными глазами, потому что когда собственными глазами видят другие — это совсем не то.
И вот тогда-то со мной и произошло настоящее событие. Не скажу, чтоб я вернулся назад и увидел свою мать, но я вроде как сидел на земле, а передо мной были ноги в сапогах до бедер и кожаная мини-юбка, и я вовсю старался поднять глаза и увидеть ее лицо, я знал, что это моя мать, но теперь поднимать глаза было слишком поздно, надо было тогда. Мне даже удалось вернуться еще дальше назад. Я чувствовал, как меня обнимает пара теплых рук, они меня укачивают, у меня болит живот, человек, который так уютно и тепло меня держит, вышагивает взад-вперед, что-то напевая, но живот у меня все болит, а потом я роняю какашку, она шлепается на пол, и у меня уже ничего не болит, мне легко, и теплый человек целует меня и смеется звонким смехом, который я слышу, слышу…
— Ну как, нравится тебе?
Я сидел в кресле, и на экране уже ничего не было. Блондинка подошла ко мне, и они воцарили свет.
— Неплохо.
После мне снова дали посмотреть на типа, который принимал в брюхо гостинец из автомата, потому что был, наверное, или кассиром в банке, или из соперничающей банды, и который вопил: «Не убивайте меня, не убивайте меня!» — как последний идиот, потому что это без толку, всем надо делать свое дело. Мне нравится в кино, когда покойник говорит: «Что ж, господа, делайте свое дело», перед тем как умереть, — это говорит о понятливости, ведь ни к чему действовать людям на нервы, взывая к их добрым чувствам. Но тип никак не мог найти нужный тон, чтобы понравиться тем, в зале, и им приходилось заставлять его отступать еще и еще, чтобы наконец получилось. Сначала он протягивал руки, пытаясь остановить пули, и орал: «Нет, нет!» и «Не убивайте меня, не убивайте меня!» — голосом типа из зала, который сам-то выкрикивал это в микрофон, находясь в полной безопасности. После этого он падал, корчась в судорогах, потому что в кино это всегда доставляет удовольствие, и уже не шевелился. Гангстеры всаживали в него еще очередь, чтобы удостовериться, что он больше не способен им навредить. И когда с ним уже было вроде покончено, все пускалось в обратный путь наоборот, и тип вздымался в воздух, словно рука Господа брала его за шкирку и ставила на ноги, чтобы он еще мог ему послужить.
Потом мы просматривали другие куски, и некоторые из них приходилось пятить по десять раз, чтобы все получилось как надо. Слова тоже пускались в обратный путь и произносились наоборот, и выходило загадочно, как на языке, который никому не известен, но, может быть, хочет выразить что-то важное.
Когда экран пустовал, я забавлялся тем, что представлял себе мадам Розу счастливой, со всеми ее довоенными волосами, которой даже не нужно было бороться за жизнь, потому что то был мир навыворот.
Блондинка потрепала меня по щеке, и вообще-то она была очень славная, и оттого я загрустил. Я подумал об ее двоих мальцах, тех, что тогда видел, и было жаль, чего уж там.
— Похоже, тебе это действительно очень нравится.
— Хохма будь здоров.
— Ты можешь приходить сюда когда захочешь.
— У меня не так уж много времени, я вам ничего не обещаю.
Она предложила съесть по мороженому, и я не отказался. Я ей тоже нравился и когда взял ее за руку, чтобы идти быстрее, она улыбнулась. Я взял клубничного с фисташками в шоколаде, но потом пожалел: надо было взять ванильного.
— Мне очень нравится, когда все можно вернуть назад. Я живу у одной дамы, которая скоро умрет.
Она к своему мороженому и не притрагивалась, а все смотрела на меня. Волосы у нее были до того светлые, что я не удержался, поднял руку и потрогал их, а потом засмеялся, потому что это вышло смешно.
— Твои родители живут не в Париже?
Я не нашелся что ей ответить, и приналег на мороженое — это, наверное, самая моя любимая вещь на свете.
Больше она не стала выпытывать. Меня всегда воротит, когда долдонят а-чем-занимается-твой-папа-а-где-твоя-мама, — мне на эту тему совершенно нечего сказать.
Она достала листок бумаги и ручку и написала что-то, потом трижды подчеркнула, чтоб я не потерял листок.
— Держи, это моя фамилия и адрес. Можешь приходить когда захочешь. У меня есть друг, который занимается детьми.
— Психиатр, — сказал я. Это ее проняло.
— С чего ты это взял? Детьми занимаются педиатры.
— Только когда те еще младенцы. После берутся психиатры.
Она молчала и глядела на меня так, будто я ее напугал.
— Да кто тебе такое сказал?
— У меня есть приятель, Махут, так он в курсе дела, потому что лечится от наркомании в Мармоттане.
Она накрыла своей рукой мою и наклонилась ко мне:
— Ты говорил, тебе десять лет, ведь так?
— Где-то так.
— Хорошенькие же ты знаешь вещи для своего возраста… Так, значит, договорились? Ты зайдешь к нам?
Я лизнул мороженое. У меня не хватало морального духа, а хорошие вещи становятся еще лучше, когда не хватает морального духа. Я это часто замечал. Когда хочется подохнуть, шоколад бывает куда вкусней, чем обычно.
— У вас уже кое-кто есть.
Она ничего не понимала, судя по тому, как на меня смотрела.
Я лизнул мороженое, мстительно глядя ей прямо в глаза.
— Я вас недавно видел, мы тогда чуть с вами не встретились. Вы тогда вернулись домой, и у вас уже есть двое пацанят. Они белокурые, как вы.
— Так ты за мной следил?
— Ну да, вы же делали мне авансы.
Не знаю, что с ней приключилось, но клянусь вам: у нее во взгляде вдруг стало многолюдно. Понимаете, как будто она не одна на меня глядела, а человека четыре, не меньше.
— Послушай меня, малыш Мухаммед…
— Меня обычно зовут Момо. Мухаммед — это слишком длинно.
— Послушай, дорогой, у тебя есть мой адрес, не теряй его, приходи ко мне в гости когда вздумается… Где ты живешь?
Нет уж, шалишь. Такая сногсшибательная малышка, да если б она причалила к нам и узнала, что там подполье для детей шлюх, это был бы полный позор. Не то чтобы я на нее рассчитывал, я знал, что у нее уже кто-то есть, но дети шлюх сразу же наводят порядочных людей на мысли о сутилерах, сводниках, уголовщине и детской преступности. У нас чертовски паршивая репутация среди порядочных людей, уж поверьте моему опыту старика. Они тебя ни за что не возьмут, потому что есть такая штука, которую доктор Кац называет влиянием семейной среды, а уж тут для них хуже, чем шлюхи, не бывает. И потом, они боятся венерических болезней у пацанов, которые все до одного с наследственностью. Я не хотел ей отказывать, просто дал адрес от фонаря. Ее бумажку я взял и сунул в карман, наперед ведь никогда не знаешь, хоть чудес и не бывает. Она начала было задавать мне вопросы, но я не отвечал ни да ни нет, слопал еще одно мороженое, ванильное, и все. Ванильное мороженое — самая лучшая вещь на свете.
— Ты познакомишься с моими ребятами, и мы все вместе поедем за город, в Фонтенбло… У нас там дом…
— Ладно, бывайте.
Я вскочил со стула, потому что ни о чем ее не просил, и пустился с Артуром бегом.
Я немного позабавился: пугал машины, проскакивая у них перед носом в самый последний момент. Люди боятся раздавить пацана, и я наслаждался, чувствуя, что это им не все равно. Они отчаянно жмут на тормоза, чтобы не сделать тебе больно, и это все же лучше, чем ничего. Мне даже захотелось напугать их еще больше, но не под силу было. Я еще не разобрался окончательно, куда податься — в полицию или в террористы, это я решу позже, когда дело дойдет. Во всяком случае, обязательно нужна организованная банда, потому что одному невозможно, одного слишком мало. И потом, мне не так уж нравится убивать, скорее наоборот. Нет, чего бы мне действительно хотелось, так это стать типом вроде Виктора Гюго. Мосье Хамиль говорит, что слова могут все и убивать при этом никого не надо, и когда мое время подойдет, я еще погляжу. Мосье Хамиль говорит, слова — это самая сильная вещь на свете. Если хотите знать мое мнение, то все эти вооруженные типы стали такими потому, что их не приметили, пока они были пацанами, и они остались не пришей кобыле хвост. Пацанов слишком много, чтобы их всех замечать, среди них некоторые вынуждены даже подыхать с голоду, чтобы кто-то их наконец заметил, а некоторые собираются в банды, тоже чтоб на них внимание обратили. Мадам Роза говорит, что в мире мрут миллионы мальцов и кое-кто из них даже дает себя перед смертью сфотографировать. Мадам Роза говорит, что пенис — это враг рода человеческого, и единственный порядочный тип среди врачевателей — это Иисус, потому что появился на свет без помощи пениса. Она говорит, что это исключительный случай. Мадам Роза говорит, что жизнь может быть замечательной, но ее еще по-настоящему не открыли, и в ожидании этого надо как-то жить. Мосье Хамиль — тот тоже говорил мне много чего хорошего о жизни, а особенно о персидских коврах.
Лавируя между машинами, чтобы их попугать, потому что задавленный пацан, клянусь вам, никому удовольствия не доставит, я чувствовал себя значительным, потому что знал, что в моей власти причинить им бесконечные неприятности. Я не собирался дать себя задавить, просто чтоб кому-то подгадить, но уж внимание-то на себя я обратил. Есть один парнишка, Клодо его зовут, так он дал себя сбить, играя вот так в идиота, и получил право на три месяца ухода в больнице, тогда как дома, потеряй он ногу, папаша погнал бы его ее разыскивать.
Уже пришла ночь, и мадам Роза, должно быть, начинала бояться, потому что меня дома не было. Я припустил бегом, потому что уделил себе будь здоров сколько времени без мадам Розы и меня грызла совесть.
Я сразу же увидел, что она еще сильней разрушилась, пока меня не было, и особенно вверху, в голове, где дела у нее шли особенно паршиво. Часто она в шутку говорила, что в ней жизнь чувствует себя неуютно, и теперь это становилось заметно. Все, что у ней имелось, причиняло ей боль. Уже месяц, как она прекратила ходить за продуктами из-за нашего седьмого этажа и говорила, что не будь тут меня, чтобы о ней заботиться, у нее вообще пропал бы к жизни всякий интерес.
Я рассказал ей про то, что видел в том зале, где возвращались назад, но она только вздохнула, а потом мы слегка перекусили. Она знала, что быстро разрушается, но стряпала еще очень хорошо. Единственное, чего она не хотела ни за что на свете, так это рака, и тут ей повезло, потому что одного только рака у нее и не было. Во всем же остальном она была до того изношена, что даже волосы у нее перестали выпадать, потому что та механика, которая делала так, чтобы они выпадали, тоже пришла в негодность. В конце концов я побежал за доктором Кацем, и он пришел. Он был не такой уж старый, но лестниц себе позволять уже не мог, потому что это ложилось ему на сердце. На этой неделе у нас было трое мальцов, из которых двое уезжали завтра, а третий — в Абиджан, куда собиралась удалиться на покой в sex-shop [[13] ] его мать. Свой последний выход на панель она отпраздновала два дня назад, двадцать лет проборовшись за жизнь на Центральном рынке, и сказала мадам Розе, что на праздновании она так переволновалась, что у нее потом было ощущение, будто она разом постарела. Мы помогли доктору Кацу подняться, поддерживая его со всех сторон, и он выставил нас за дверь, чтобы обследовать мадам Розу. Когда мы вернулись, мадам Роза была счастлива: это не рак, доктор Кац — великий медик и хорошо сделал свое дело. После он посмотрел на нас всех, но, хоть я и говорю «всех», то были уже жалкие остатки, и я знал, что скоро останусь здесь один. В квартале ходили орлеанские слухи, будто старуха морит нас голодом. Я уж и не помню имен трех остальных мальцов, которые тогда у нас были, а вот девчонку помню, ее имя было Эдит, Бог весть почему, ведь ей было самое большее года четыре.
— Кто из вас старший?
Я сказал, что, уж конечно, я, Момо, потому что никогда не считался достаточно юным, чтобы избежать неприятностей.
— Хорошо, Момо, я выпишу рецепт, и ты сходишь в аптеку.
Мы вышли на лестничную площадку, и там он посмотрел на меня так, как смотрят, когда тебя хотят огорчить.
— Послушай, малыш, мадам Роза очень больна.
— Но вы же сказали, что рака у нее нет?
— Этого у нее нет, конечно, но, по правде говоря, все остальное очень, очень скверно.
Он объяснил мне, что мадам Роза носит в себе столько болезней, что их хватило бы на десятерых, и ее нужно положить в больницу, в просторную палату. Я очень хорошо помню, как он расписывал эту просторную палату, будто бы для всех этих ее болезней требовалось так уж много места, но мне кажется, это он говорил для того, чтобы изобразить больницу в обнадеживающих красках. Я не понимал названий, которые мосье Кац с удовольствием мне перечислял, потому что видно было, что он многое от нее узнал. Зато по крайней мере я понял, что мадам Роза висит на волоске и болезни могут всерьез наброситься на нее с минуты на минуту.
— Но главное — это старческое слабоумие, маразм, если хочешь…
Я ничего такого не хотел, но не спорить же с ним. Он объяснил мне, что мадам Роза сузилась в артериях, канализация в ней забита и все больше не циркулирует так, как полагается.
— Кровь и кислород уже не питают в достаточной степени ее мозг. Она не сможет больше думать и будет жить как овощ. Это может длиться еще долго, возможно, даже на протяжении многих лет, и хоть порой у нее и будут кое-какие проблески разума, но это безнадежно, малыш, это безнадежно.
Умора была слушать, как он твердит «это безнадежно, это безнадежно», как будто что-нибудь бывает не безнадежно.
— Но это не рак, точно?
— Ни в коем случае. Тут ты можешь быть спокоен.
Это как-никак хорошая новость, и я разревелся. Мне было чертовски приятно, что худшего мы все-таки избежали. Я сел на ступеньку и заревел в три ручья. Ручьев, понятно, никаких не было, но так уж говорится.
Доктор Кац сел рядом со мной и обнял меня за плечи. Бородой он смахивал на мосье Хамиля.
— Не нужно плакать, малыш, это естественно, когда старики умирают. А у тебя вся жизнь впереди.
Он что, попугать меня решил, старый хрыч? Я часто замечал, что старики говорят: «Ты молод, у тебя вся жизнь впереди» — с доброй такой улыбочкой, словно им ужас как приятно такое говорить.
Я встал. Ладно, пускай у меня вся жизнь впереди, но не убиваться же теперь из-за этого.
Я помог доктору Кацу спуститься и помчался наверх, чтобы объявить мадам Розе хорошую новость.
— Ну все, мадам Роза, теперь уже точно: рака у вас нет. На этот счет у доктора нет никаких сомнений.
Она заулыбалась очень широко, потому что у нее уже почти нет зубов. Когда мадам Роза улыбается, то становится не такой старой и уродливой, как обычно, потому что сохранила очень молодую улыбку, которая и наводит ей красоту. У нее есть фотокарточка, где ей пятнадцать лет, задолго до тех немецких истреблений евреев, и, глядя на нее тогдашнюю, невозможно поверить, что эта девушка когда-нибудь превратится в мадам Розу. И то же самое наоборот: трудно вообразить себе такую штуку, как мадам Роза, которой пятнадцать лет. У пятнадцатилетней мадам Розы обалденная рыжая грива и такая улыбка, как если бы впереди, там, куда она направляется, ее ждет полным-полно распрекрасных вещей. У меня даже живот начинал болеть, когда я сначала видел в пятнадцать лет, а потом — теперешнюю. Что и говорить, заездила ее жизнь. Иногда я становлюсь перед зеркалом и пробую вообразить, во что я превращусь после того, как и меня заездит жизнь: я пальцами растягиваю губы и корчу рожи.
Вот так я и объявил мадам Розе самую приятную новость в ее жизни — что рака у нее нет.
Вечером мы откупорили бутылку шампанского, которую выставил мосье Н’Да Амеде, чтобы отпраздновать известие, что у мадам Розы нет злейшего врага народа, как он выражался, потому что мосье Н’Да Амеде собирался заняться в придачу и политикой. Ради шампанского она навела красоту, и даже мосье Н’Да Амеде, похоже, удивился. Потом он ушел, но в бутылке еще оставалось. Я снова наполнил стакан мадам Розы, мы чокнулись, и я закрыл глаза и запустил старуху обратным ходом, пока ей не стало пятнадцать лет, как на фотокарточке, и мне даже удалось ее такую поцеловать. Шампанское мы прикончили, я сидел на табуретке возле нее и пытался делать радостное лицо, чтобы ее подбодрить.
— Мадам Роза, скоро вы поедете в Нормандию, мосье Н’Да Амеде даст вам на это деньжат.
Мадам Роза всегда говорила, что коровы — самые счастливые существа на свете, и мечтала отправиться жить в Нормандию, где такой хороший воздух. Думаю, я никогда еще сильнее не хотел стать фараоном, чем когда сидел на табуретке и держал ее за руку, до того я тогда чувствовал себя слабым. Потом она затребовала свой розовый пеньюар, но мы не смогли втиснуть ее внутрь, потому что это был ее давнишний потаскушечий халат, а с пятнадцати лет она слишком растолстела. Лично я думаю, что старых шлюх недостаточно почитают, а вместо того преследуют их, когда они еще молодые. Лично я, будь у меня средства, заботился бы только о старых шлюхах, потому что у молодых есть сутилеры, а у старых нет никого. Я брал бы только старых, страшных и уже ни на что не годных, я был бы их сутилером, я бы заботился о них и воцарял справедливость. Я был бы величайшим фараоном и сутилером на свете, и при мне никто никогда не увидел бы, как старая шлюха, всеми брошенная, льет слезы на седьмом этаже без лифта.
— А кроме этого что сказал тебе доктор? Я скоро умру?
— Не особенно скоро, нет, мадам Роза, он ничего такого не говорил насчет того, что вам смерть грозит больше, чем кому другому.
— Что у меня?
— Он точно не подсчитывал, он сказал, что всего понемножку, чего уж там.
— А мои ноги?
— Про ноги он ничего особенного не говорил, да потом, вы и сами знаете, что от ног не умирают, мадам Роза.
— А что у меня с сердцем?
— На этом он особенно не останавливался.
— Что он говорил по поводу овощей?
Я прикинулся невинной овечкой.
— Как это «по поводу овощей»?
— Я слышала, что он сказал что-то про овощи, так?
— Нужно лопать побольше овощей для здоровья, мадам Роза, вы нам всегда давали лопать овощи. Иной раз вы нам больше ничего и не давали.
Из глаз у нее полились слезы, и я сходил за бумагой для подтирки.
— Что с тобой станется без меня, Момо?
— Ничегошеньки со мной не станется, и потом, еще рано тревогу бить.
— Ты пригожий паренек, Момо, а это опасно. Надо держать ухо востро. Обещай мне, что не продашься.
— Обещаю.
— Поклянись.
— Клянусь вам, мадам Роза. На этот счет вы можете быть спокойны.
— Момо, всегда помни, что у мужчины самое святое — честь. Никогда никого до себя не допускай, даже если тебе хорошо заплатят. Даже если я умру и у тебя в целом свете только честь и останется, ты не давайся.
— Я знаю, мадам Роза, это ремесло для женщин. Мужчина должен себя блюсти.
Мы посидели так еще часок, держась за руки, и от этого она стала бояться немножко меньше.
Мосье Хамиль решил подняться проведать мадам Розу, когда узнал, что она больна, но в его восемьдесят пять лет без лифта это было против всех законов. Они близко познакомились тридцать лет назад, когда мосье Хамиль торговал своими коврами, а мадам Роза торговала собой, и было несправедливо видеть их теперь разлученными лифтом, которого не было. Он хотел написать ей поэму Виктора Гюго, но почти совсем лишился глаз, и мне пришлось выучить ее наизусть от имени мосье Хамиля. Это начиналось с «субхан ад даим ла язулъ», что означает, что только Вечный никогда не кончается, и я помчался на седьмой этаж, пока оно еще было при мне, и рассказал это мадам Розе, но меня дважды заедало, и пришлось еще дважды носиться вверх-вниз по лестнице, чтобы переспросить у мосье Хамиля недостававшие мне куски из Виктора Гюго. Я говорил себе, вот бы получилось здорово, если бы мосье Хамиль женился на мадам Розе, потому что им это по возрасту и они могли бы разрушаться вместе, что всегда приятней. Я поговорил об этом с мосье Хамилем: мы могли бы поднять его на седьмой этаж на носилках, чтоб он сделал ей предложение, а потом переправить их обоих за город и оставить среди полей, пока не помрут. Я, конечно, не так ему это сказал, потому что так свой товар не навязывают, я только заметил, что приятнее жить вдвоем и иметь возможность с кем-то словом перекинуться. Еще я добавил, что мосье Хамиль может дожить до ста семи лет, потому что жизнь про него, как видно, забыла, а поскольку раньше у него разок-другой появлялся интерес к мадам Розе, то сейчас самое время ловить случай. Они оба нуждались в любви, а раз в их возрасте это было уже невозможно, им следовало просто объединить силы. Я даже принес фотокарточку мадам Розы, где ей пятнадцать лет, и мосье Хамиль полюбовался на нее через специальные очки, которые служили ему для того, чтобы видеть больше остальных. Сначала он подержал фотокарточку очень далеко, а потом очень близко и, несмотря ни на что, должно быть, что-то все-таки увидел, потому что улыбнулся, а потом на глазах у него появились слезы, но не по этому случаю, а просто потому, что он старик. Из стариков вечно льет без остановки.
— Вот видите, какой красавицей была мадам Роза перед теми событиями. Вам бы пожениться. Ладно, ладно, я знаю, но вы всегда можете поглядеть на фотографию, чтобы вспомнить о ней.
— Может, я и женился бы на ней лет пятьдесят назад, если б знал ее тогда, малыш Мухаммед.
Да вы бы друг дружке обрыдли за пятьдесят-то лет! А сейчас вы не сможете даже толком разглядеть один другого, не то что надоесть!
Он сидел перед своей чашечкой кофе, положив руку на Книгу Виктора Гюго, и выглядел счастливым, потому что вообще не требовал от жизни многого.
— Малыш Мухаммед, мне нельзя было жениться на еврейке, будь я даже способен на подобное.
— Да ведь она уже никакая не еврейка, она вообще никто, мосье Хамиль, просто у нее везде болит. И сами вы уже такой старый, что пора уже Аллаху думать о вас, а не вам об Аллахе. Вы же ходили к нему в Мекку, теперь пускай он о вас побеспокоится. Почему бы вам не жениться в восемьдесят пять лет, когда вы уже ничем не рискуете?
— А что бы мы делали, если б поженились?
— Переживали бы друг за дружку, черт подери. Для этого все и женятся.
— Я уже слишком стар, чтобы жениться, — отвечал мосье Хамиль. Будто он не был слишком стар для всего прочего.
Я уже не решался глядеть на мадам Розу — она прямо на глазах разрушалась. Остальные мальцы уже убрались восвояси, а когда заявлялась очередная мамаша обговорить плату за пансион, то ей сразу становилось ясно, что старуха буквально вся разваливается, и у нее пропадала охота оставлять ей своего пацана. Самое паршивое, что нарумянивалась мадам Роза все краснее и краснее, а иногда даже пыталась строить глазки и вытворять разные штуки губами, словно еще работала на панели. Это уж было чересчур, такого мне видеть не хотелось. Я уходил и болтался целыми днями на улице, а мадам Роза оставалась совсем одна зазывать никого своими краснющими губами и всякими ужимками. Иногда я садился на тротуар и заставлял весь мир раскручиваться назад, как в зале дубляжа, только еще дальше. Люди выходили из дверей, а я заставлял их входить задом наперед, а еще становился на мостовую и заставлял машины мчаться от меня задним ходом, и никто не мог ко мне приблизиться. Чего уж там, не был я в олимпийской форме, это точно.
К счастью, нам здорово помогали соседи. Я вам рассказывал про мадам Лолу, которая жила на пятом и боролась за жизнь в Булонском лесу перевертышем и перед тем, как ехать туда — у нее была своя машина, — часто заходила к нам подсобить по хозяйству. Ей было всего тридцать пять лет, и впереди ее ждало еще много успеха. Она приносила нам шоколад, копченую лососину и шампанское, а ведь все это стоит недешево, потому-то те, кто борется за жизнь, никогда не имеют денег про запас. В то время распространился орлеанский слух, будто у североафриканских рабочих холера, за которой они специально ходили в Мекку, и первым делом мадам Лола всегда мыла руки. Она терпеть не могла холеры за то, что та против гигиены и любит грязь. Лично я с холерой незнаком, но думаю, что она не может быть такой сволочной, как считает мадам Лола, — она просто болезнь и за свои действия не отвечает. Иногда мне даже хотелось вступиться за холеру, потому что та по крайней мере не виновата, что она такая, она отродясь не думала стать холерой, это случилось с ней само.
Мадам Лола всю ночь колесила на машине по Булонскому лесу и говорила, что она такая единственная из Сенегала и пользуется большим успехом, потому что, когда распахивает одежду, у нее одновременно и груди, и все мужское. Груди она себе выкормила искусственно, как цыплят, и была до того могуча благодаря своему боксерскому прошлому, что могла поднять стол за одну ножку, но платили ей вовсе не за это. Мадам Лола мне здорово нравилась, потому что была ни на что не похожа и не имела никакого отношения к нормальным людям. Я сразу смекнул, что она интересуется мной, поскольку хочет иметь детей, которых она при своей профессии иметь не могла ввиду отсутствия самого необходимого. Она носила белокурый парик и груди, какие у женщины очень ценятся, — их она ежедневно подкармливала гормонами, — и мучилась, расхаживая на высоких каблуках и виляя бедрами, чтобы приманивать клиентов, но она и впрямь человек не как все и сразу внушает доверие. Не понимаю, почему людей вечно сортируют по всем этим органам и придают им такое значение, ведь они не могут причинить зла. Я немного ухаживал за мадам Лолой, потому что мы в ней чертовски нуждались: она подбрасывала нам деньжат и стряпала, пробуя подливку со всякими ужимками и с выражением блаженства, и серьги болтались у нее в ушах, когда она переступала с ноги на ногу на своих шпильках. Она рассказывала, что когда была молодой в Сенегале, то три раза подряд побила знаменитого Кида Говеллу, но всегда была несчастлива как мужчина. Я говорил ей: «Мадам Лола, второй такой, как вы, на свете не сыщешь», и ей это было приятно, она отвечала: «Да, малыш Момо, я сказочное существо». И верно, она похожа на голубого клоуна или на моего Артура, те тоже совсем особенные. Еще она добавляла: «Когда вырастешь, ты увидишь, что бывают внешние признаки, которые на самом деле ничего не значат, которые просто ошибка природы, например…» Мадам Роза сидела в кресле и умоляла ее выражаться аккуратней, ведь я еще ребенок. Нет, правда, она что надо, потому что вся совершенно наоборот и незлая. Когда она готовилась к вечернему выезду, в своем белокуром парике, и на высоких каблуках, и с серьгами, и с красивым лицом с боксерскими шрамами, и в белом свитере, который очень красиво подчеркивал грудь, и с розовым шарфом вокруг шеи — из-за кадыка, который у перевертышей очень плохо котируется, и в юбке с таким разрезом на боку, что видны резинки от чулок, это было и впрямь сказочное зрелище, чего уж там. Иногда она сутками пропадала где-то в окрестностях вокзала Сен-Лазар и возвращалась измочаленная, с полустертой краской на лице, сразу ложилась и принимала снотворное, потому что неправда, что в конце концов ко всему привыкаешь. Однажды к ней заявилась полиция искать наркотики, но это уж была полная несправедливость, просто ее оговорили приятельницы из ревности. Я вам сейчас рассказываю про ту пору, когда мадам Роза еще могла разговаривать и голова у нее была в порядке, разве что иногда она, бывало, замолкнет на полуслове и глядит перед собой с открытым ртом и с таким видом, словно не понимает, где она и что здесь делает. Такое доктор Кац называет помрачнением. Мадам Роза мрачнела куда сильнее, чем остальные, и это накатывало на нее регулярно, но она все еще очень хорошо готовила своего карпа по-еврейски. Мадам Лола заглядывала к нам каждый день и, когда дела в Булонском лесу шли удачно, ссужала нас деньгой. В округе ее очень уважали, а те, кто себе позволял, получали по морде.
Не знаю, что стало бы с нами на нашем седьмом, не будь шести других этажей с жильцами, которые не искали на свою голову неприятностей и никогда не доносили на мадам Розу в полицию, даже когда у нее бывало до десятка сорванцов, которые устраивали на лестнице погром.
На третьем жил даже француз, который вел себя будто не у себя дома. Он был длинный, тощий и с тростью и жил себе поживал, ничем себя не обнаруживая. Узнав, что мадам Роза приходит в негодность, он однажды поднялся к нам на четыре этажа выше и постучал в дверь. Вошел, поздоровался с мадам Розой — мадам, примите мои уверения, — сел, положив шляпу на колени, очень прямой, с поднятой головой, и вытащил из кармана конверт с маркой и со своей фамилией, надписанной на нем печатными буквами.
— Меня зовут Луи Шарметт, как здесь указано. Вы сами можете прочесть. Это письмо от моей дочери, она пишет мне раз в месяц.
Он показал нам письмо со своей фамилией, словно хотел доказать, что она у него еще имеется.
— Я административный служащий государственных железных дорог в отставке. Вот узнал, что вы занемогли, после двадцати лет, прожитых в одном со мной доме, и решил воспользоваться случаем.
Я вам говорил, что мадам Роза, даже не считая ее болезни, много пожила, и от этого ее порой бросало в холодный пот. Тем более когда происходило что-то ускользающее от ее понимания — ведь когда стареешь, непонимание все копится и копится. Так что этот француз, который дал себе труд подняться на четыре этажа, всего лишь чтобы с ней поздороваться, произвел на нее окончательное впечатление, как будто все окончилось и наступил ее смертный час, а это официальный представитель. К тому нее одет он был очень строго: черный костюм, рубашка и галстук. Не думаю, чтобы мадам Розе так уж хотелось жить, но умирать ей тоже не хотелось — мне кажется, тут не было ни того ни другого, просто жить она привыкла. Лично я считаю, что можно найти занятие и получше.
Этот самый мосье Шарметт выглядел очень значительным и серьезным — сидел весь такой прямой и неподвижный, и мадам Розе стало страшно. Между ними произошло долгое молчание, а потом они так и не нашли что сказать один другому. Если хотите знать мое мнение, то этот мосье Шарметт поднялся к нам потому, что тоже был одинок и хотел посоветоваться с мадам Розой на предмет того, чтобы действовать сообща. Начиная с определенного возраста человека навещают все реже и реже, если только у него нет детей, которых обязывает закон природы. Я думаю, оба они нагоняли друг на дружку страх и смотрели один на другого так, словно хотели сказать: «После вас, нет-нет, после вас, пожалуйста». Мосье Шарметт был старее мадам Розы, но он высох, а ее расперло, и болезням было в ней куда привольней. Старой женщине, которая вдобавок уродилась еврейкой, всегда достается больше, чем служащему государственных железных дорог.
Она сидела в кресле с веером в руке, который сохранился от ее прошлого, когда ей делали подарки как женщине, и не знала, что сказать, до того была ошарашена. Мосье Шарметт смотрел на нее, прямой, со шляпой на коленях, как будто прибыл специально за мадам Розой, и у старухи тряслась голова и по лицу со страху тек пот. Смешно вот так воображать, будто смерть может войти и сесть, положив шляпу на колени, и глядеть тебе в глаза, давая понять, что час настал. Я-то хорошо видел, что это всего-навсего какой-то француз, которому не хватает соотечественников и который теперь ухватился за возможность оповестить о себе, прознав, что мадам Роза уже никогда не сойдет вниз, — эта новость настолько распространилась в обществе, что достигла тунисской бакалейной лавки мосье Кейбали, куда стекаются все важные известия.
Этому мосье Шарметту на лицо уже набежала тень, особенно вокруг глаз, которые первыми как-то проваливаются и одиноко живут в отведенном для них месте с выражением «почему, по какому праву, что со мной делают?». Я очень хорошо его помню, я помню, как он очень прямо сидел напротив мадам Розы, со спиной, несгибаемой благодаря ревматизму, который набирает силу с возрастом, особенно когда ночи прохладные, что нередко случается весной и осенью. Он, должно быть, прослышал в лавке, что мадам Розы надолго не хватит, что у нее повреждены основные органы, которые уже ни на что не годятся, и решил, что такой человек скорее его поймет, чем те, кто еще невредим, и поднялся на четыре этажа. Старуха впала в панику, ведь она впервые принимала у себя французского католика, да еще такого несгибаемого, который теперь молчал, сидя напротив нее. Они помолчали еще и еще, а потом мосье Шарметта вдруг прорвало и он принялся суровым голосом рассказывать мадам Розе обо всем, что сделал за свою жизнь для французских железных дорог, и что ни говори, а это было чересчур для старой, сильно изношенной еврейки, которую и так подстерегал сюрприз за сюрпризом. Они оба боялись, потому что неправда, что природой все устроено хорошо. Природа устраивает что угодно и кому угодно и сама не знает, что творит: иногда получаются цветы и птицы, а иногда — старая еврейка на седьмом этаже без лифта, которая уже не в состоянии сойти вниз. Этого мосье Шарметта мне даже жалко стало, потому что было ясно, что с ним то же самое — ничего и никого, несмотря на все его социальное обеспечение. По-моему, чего всегда не хватает, так это предметов первейшей необходимости.
Старики не виноваты, что под конец на них всегда все обрушивается, и потому я не такой уж сторонник законов природы.
Это было что-то — слушать мосье Шарметта, толкующего про поезда, вокзалы и расписания, словно он еще надеялся выпутаться, сев в нужный момент на нужный поезд и сделав удобную пересадку, тогда как на самом деле прекрасно знал, что уже прибыл на конечную и остается только сойти.
Так у них продолжалось еще порядком, и я начал беспокоиться за мадам Розу, видя, что она прямо-таки ошалела от такого важного посещения, словно ей пришли воздать последние почести.
Я открыл для мосье Шарметта коробку шоколадных конфет, которую дала нам мадам Лола, но он к ним не притронулся — видно, его органы запрещали сахар. В конце концов он ушел вниз на свой третий этаж, и от его визита лучше не стало: мадам Роза лишний раз убедилась, что люди к ней все добрее и добрее, а от этого хорошего не жди.
Отсутствия становились у мадам Розы все продолжительней, и иногда она проводила в бесчувствии целые часы. Мне на ум приходило объявление, которое вывешивал мосье Реза, сапожник, чтобы известить, что в случае его отсутствия следует обращаться к другому, но я так и не понял, к кому же надо обращаться, ведь даже в Мекке, обращаясь к Богу, бывает, подцепляют холеру. Я просто садился на табурет рядом с ней, брал ее за руку и дожидался ее возвращения.
Мадам Лола помогала нам чем могла. Она приезжала из Булонского леса совершенно разбитая усилиями, приложенными по своей специальности, и спала иногда до пяти часов дня. Вечером она поднималась к нам подсобить. Изредка у нас еще бывали пансионеры, но мало — на жизнь их все равно не хватало, и мадам Лола говорила, что профессия приходит в упадок из-за дармовой конкуренции. Шлюх, которые за так, полиция не трогает, она преследует только тех, кто чего-то стоит. У нас был случай шантажа, когда один сутилер, на поверку оказавшийся самым обыкновенным сводником, грозился донести на одного сына шлюхи в Призрение с последующим лишением ее родительских прав за проституцию, если она не согласится уехать в Дакар, и мы десять дней укрывали пацана, которого против всех правил звали Альфонс, но потом дело уладилось, потому что за него взялся мосье Н’Да Амеде. Мадам Лола вела хозяйство и помогала мадам Розе содержать себя в чистоте. Я не собираюсь по этому поводу осыпать ее цветами, но я никогда не видывал человека, который проявил бы себя лучшей матерью семейства, чем мадам Лола, и очень жалко, что природа этому воспротивилась. Это вопиющая несправедливость, потому что если где и могли быть счастливые дети, так это там. Но она даже не имела права никого усыновить, потому что перевертыши, они слишком особенные, а этого не прощают. От этого мадам Лола иной раз ходила сама не своя.
Я могу вам сказать, что весь дом хорошо воспринял известие о смерти мадам Розы, наступление которой ожидалось в благоприятный момент, когда все ее органы объединят свои усилия в этом направлении. Взять, к примеру, четверых братьев Заом, которые были перевозчиками мебели и первейшими силачами в округе по части пианино и шкафов, — я всегда смотрел на них с восхищением, мечтая быть, как они, вчетвером. Они пришли и сказали нам, что мы можем рассчитывать на них в смысле спуска и подъема мадам Розы всякий раз, когда ей захочется прогуляться. В воскресенье, когда никто не переезжает, они взяли мадам Розу, снесли ее вниз, как пианино, усадили в свой фургон, и мы поехали на Марну, чтобы она подышала свежим воздухом. Весь тот день голова у нее была в порядке, и она даже начала строить планы на будущее, потому что не хотела религиозных похорон. Поначалу я подумал, что старуха боится Бога и рассчитывает разминуться с ним, устроив себе похороны без религии. Но это оказалось не так. Бога она не боялась, а сказала, что просто сейчас уже слишком поздно, что сделано, то сделано, и ему нет надобности являться ей и просить прощения. Я думаю, что мадам Роза, когда голова у нее была в порядке, хотела умереть по-настоящему, а не так, чтобы потом еще где-то там странствовать.
На обратном пути братья Заом сделали круг, прокатив ее по Центральному рынку, по улицам Сен-Дени, Фурси, Блонделя, Трюандери, и она расчувствовалась, особенно когда увидела на улице Прованса небольшую гостиницу, где она еще молодой взбегала по лестнице раз сорок на день. Она сказала нам, что ей приятно снова увидеть знакомые тротуары и уголки, где она когда-то боролась за жизнь, и у нее такое чувство, что она честно выполнила контракт. Она улыбалась, и я видел, что прогулка подняла ее моральный дух. Она пустилась в разговоры о добром старом времени и уверяла, что это была самая счастливая пора ее жизни. Когда она после пятидесяти прожитых лет завязала, у нее еще были постоянные клиенты, но она решила, что в ее возрасте это уже неэстетично и пора переквалифицироваться. Мы остановились на улице Фрошо, пропустили по стаканчику, и мадам Роза съела пирожное. Потом мы вернулись домой, братья Заом внесли ее на седьмой этаж как пушинку, и она была так восхищена прогулкой, что прямо на несколько месяцев помолодела. Дома оказался Мойше — он пришел нас повидать и сидел под дверью. Я сказал ему: «Привет» — и оставил с мадам Розой, которая была вполне в форме. А сам спустился в кафе внизу, чтобы встретиться с одним парнем, который обещал мне кожаную курточку с настоящего американского склада и без булды, но его там не оказалось. Я побыл немного с мосье Хамилем, находившимся в добром здравии. Он сидел над пустой чашечкой кофе и умиротворенно улыбался стене напротив.
— Все в порядке, мосье Хамиль?
— Здравствуй, малыш Виктор, я рад тебя слышать.
— Скоро изобретут очки для любых глаз, мосье Хамиль, и вы снова сможете видеть.
— Надо веровать в Господа.
— Еще немного, и появятся потрясающие очки, каких еще никогда не бывало, и действительно можно будет видеть все, мосье Хамиль.
— Что ж, малыш Виктор, хвала Господу, ведь это он позволил мне дожить до таких лет.
— Мосье Хамиль, меня зовут не Виктор. Меня зовут Мухаммед. Виктор — это другой ваш приятель.
Он удивился.
— Ну конечно же, малыш Мухаммед… Тава кальтпу’ала алъ Хайи элладри ла ямут… Веру свою вселил я в Живущего, что неподвластен смерти… Как я назвал тебя, малыш Виктор?
Вот же чертовщина.
— Вы назвали меня Виктором.
— Как я мог? Ты уж меня прости.
— Ерунда, одно имя стоит другого, какая разница. Как ваши дела со вчерашнего дня?
Он крепко задумался. Я видел, что он вовсю старается вспомнить, но все его дни стали похожи друг на друга как капли воды, с тех пор как он перестал проводить свою жизнь с утра до вечера в торговле коврами, и оттого в голове у него пробел налезал на пробел. Правую руку он держал на маленькой затрепанной Книге, которую написал когда-то Виктор Гюго, и Книга, должно быть, очень привыкла чувствовать эту руку, которая на нее опиралась, как это часто бывает со слепыми, когда им помогают перейти на ту сторону.
— Говоришь, со вчерашнего дня?
— Со вчерашнего или сегодняшнего — это неважно, мосье Хамиль. Просто время проходит.
— Что ж, весь сегодняшний день я провел здесь, малыш Виктор…
Я посмотрел на Книгу, но сказать было нечего: уже многие годы они были вместе.
— Когда-нибудь я тоже напишу настоящую книгу, мосье Хамиль. Внутри у нее будет обо всем. Какая книга у него самая лучшая, у этого мосье Виктора Гюго?
Мосье Хамиль глядел далеко-далеко и улыбался. Его рука с дрожащими пальцами шевелилась на Книге, словно ласкала ее.
— Не задавай мне слишком много вопросов, малыш…
— Мухаммед.
— …не задавай мне слишком много вопросов, я сегодня немного устал.
Я взял Книгу, и мосье Хамиль почувствовал это и забеспокоился.
Я посмотрел название и вернул ему. Я положил его руку сверху.
— Вот, мосье Хамиль, она здесь, вы можете ее потрогать…
Я видел, как его пальцы ощупывают Книгу.
— Ты не такой ребенок, как другие, малыш Виктор. Я всегда это знал.
— Когда-нибудь я тоже напишу отверженных, мосье Хамиль. Тут найдется кому проводить вас к себе?
— Инш’алла. Обязательно найдется, ибо я верую в Господа, малыш Виктор.
Мне это уже начало слегка надоедать, потому что его хватало только на того, другого.
— Расскажите мне что-нибудь, мосье Хамиль. Расскажите, как вы совершили большое путешествие в Ниццу, когда вам было пятнадцать лет.
Он помолчал.
— Я? Я совершил большое путешествие в Ниццу?
— Когда вы были молодым.
— Не помню. Совсем не помню.
— Ну ладно, я сам вам расскажу. Ницца — это оазис на берегу моря с мимозовыми лесами и пальмами, и там русские и английские принцы сражаются цветами. Там клоуны пляшут на улицах и конфетти сыплются с неба на всех и на каждого. Когда-нибудь я тоже поеду в Ниццу, когда стану молодым.
— Как это, когда станешь молодым? Разве ты стар? Сколько тебе лет, малыш? Ты ведь малыш Мухаммед, разве не так?
— А-а, об этом никто ничего не знает, и о моем возрасте тоже. Я живу без дня рождения. Мадам Роза говорит, что у меня никогда не будет настоящего возраста, потому что я особенный и всегда буду особенным. Вы помните мадам Розу? Она скоро умрет.
Но тут мосье Хамиль совсем заблудился внутри самого себя, потому что жизнь заставляет людей жить и жить, но не очень-то задумывается над тем, что с ними при этом случается. В доме напротив жила одна дама, мадам Халауи, которая приходила за ним перед закрытием и укладывала в постель, потому что у нее тоже никого не было. Понятия не имею, знали ли они друг дружку или это просто чтобы не пропадать в одиночестве. У нее была витрина с земляными орехами на бульваре Барбэса, а еще — отец, пока не умер. Тогда я сказал:
— Мосье Хамиль, мосье Хамиль! — просто так, чтобы напомнить ему, что есть человек, который его любит и знает его имя, и что оно у него еще есть.
Я побыл с ним еще, давая пройти времени — не тутошнему, французскому, а которое идет медленно.
Мосье Хамиль часто говорил мне, что медленное время приходит из пустыни со своими караванами верблюдов и не торопится, потому что везет на себе вечность. Но все-таки куда веселей слышать, как тебе про это рассказывают, чем видеть это на лице старика, который каждый день позволяет еще немного себя обокрасть, и если вы хотите знать мое мнение, то вообще-то времени самое место среди ворья. Хозяин кафе, которого вы наверняка знаете, потому что это мосье Дрисс, пришел на нас взглянуть. Мосье Хамилю время от времени нужно было по-маленькому, и тогда его следовало отвести в уборную, пока не поздно. Но не думайте, будто мосье Хамиль уже не отвечал за свои действия и ничего не стоил. Старики имеют такую же ценность, как и все прочие, даже если ссыхаются. Они чувствуют так же, как и мы с вами, а иногда это даже причиняет им еще большие страдания, чем нам, потому что они уже не могут себя защитить. Но на них набрасывается природа, которая бывает порядочной скотиной и заставляет их подыхать как на медленном огне. А у нас еще поганей, чем в природе, потому что запрещено избавляться от стариков, которых постепенно душит природа, и глаза у них при этом вылазят из орбит. Правда, у мосье Хамиля случай был не тот, он мог стареть еще долго и помереть, может, в сто десять лет, и даже стать чемпионом мира. Он еще полностью отвечал за свои действия и говорил «пи-пи» когда нужно и раньше, чем это произойдет, и мосье Дрисс брал его под руку и лично сопровождал в уборную. У арабов, когда человек очень стар и скоро избавится от жизни, ему оказывают уважение, потому что на том свете это зачтется, — какой-никакой, а доход. И все-таки было грустно, что мосье Хамиля водят в уборную, и за этим занятием я их оставил, потому что считаю, что грусть искать ни к чему.
Я был еще на лестнице, когда услышал рев Мойше, и вприпрыжку взбежал по ступенькам, боясь, как бы с мадам Розой не приключилось чего неладного. Я вошел и поначалу подумал, что это не на самом деле. Я даже закрыл глаза, чтобы после открыть их поудачней.
Прогулка мадам Розы в машине по тем уголкам где она боролась за жизнь, оказалась для нее чудодейственной, и все прошлое ожило у нее в голове. Она стояла посреди комнаты нагишом и одевалась чтобы идти на работу, как тогда, когда она еще боролась за жизнь. Ладно, пускай я еще ничего не видел в жизни и не имею особого права говорить что ужасно, а что не ужасней прочего, но клянусь вам, что мадам Роза нагишом, в кожаных сапогах с кружевными черными панталонами на шее потому что она перепутала верх с низом, и с грудями, которые превосходили всякое воображение и возлежали на животе, — клянусь, такого нельзя увидеть больше нигде, даже если оно и существует. Вдобавок мадам Роза пыталась вертеть бедрами, как в sex-shop, но поскольку они у нее перешли границы человеческого… ох! Думаю, тогда я впервые в жизни пробормотал молитву — ту, которая за помешанных, — но она продолжала корячиться с плутовской ухмылкой и с такой растительностью на пузе какой я никому не пожелаю. Я прекрасно понимал, что это действие шока который она получила, снова повидав места, где была счастлива, но иной раз от понимания легче не становится, наоборот. Она была до того накрашена что в остальных местах казалась еще голей, а губы складывала этакой мерзопакостной куриной гузкой. Мойше скулил, забившись в угол, а я сказал: «Мадам Роза, мадам Роза» — и кинулся прочь, кубарем скатился по лестнице я припустил бегом. Не для того чтобы спастись, нет, от такого не спасешься, а просто чтобы не быть там больше.
Пробежал я порядком и когда почувствовал что мне полегчало, уселся в темной подворотне, за кучей отбросов, ожидавших своей очереди. Реветь я не стал, в этом уже не было толку. Я зажмурился спрятал лицо в коленях, до того мне было стыдно, подождал немного и призвал к себе фараона. То был самый сильный фараон, какого вы только можете вообразить. Он был в тыщи раз здоровей всех остальных, но еще больше у него было вооруженных сил, чтобы воцарять безопасность. В его распоряжении были даже броневики, и с ним мне уже нечего было бояться, самозащита мне была обеспечена. Я чувствовал, что могу быть спокоен, ответственность он берет на себя. Он отечески обнял меня за плечи своей всемогущей рукой и спросил, нет ли у меня ран от выстрелов, которые я получил. Я ответил, что есть, но в больницу ехать нет смысла. Он обнимал меня, и я чувствовал, что он теперь обо всем позаботится и будет мне вместо отца. Мне стало полегче, и я начал понимать, что самое для меня лучшее — это отправиться жить туда, где все не взаправду. Мосье Хамиль, когда еще не был от нас так далеко, не раз говорил мне, что другой мир создают поэты, и я вдруг улыбнулся, вспомнив, как он называл меня Виктором, — может, это сам Господь давал мне обещание. После я увидел шарики — бело-розовых птиц, надувных и с веревочкой на конце, для того чтобы улетать с ними вместе в дальние страны, — и уснул.
Проспал я довольно долго, а потом направился в кафе на углу улицы Биссон, где всегда черным-черно из-за трех африканских общежитий, что поблизости. В Африке — там совсем по-другому, там у них племена, а племя — это как одна большая семья. В кафе оказался мосье Абуа, о котором я вам еще ничего не говорил, потому что сразу обо всем не расскажешь. Я упоминаю его теперь, потому что он даже не говорит по-французски и кто-нибудь обязательно должен говорить за него, чтобы о нем узнали. Я побыл немного с мосье Абуа, который приехал к нам из Слоновой Кости. Мы взялись за руки и хорошо посмеялись вместе — мне было десять лет, а ему двадцать, и эта разница доставляла ему удовольствие и мне тоже. Хозяин, мосье Соко, велел, чтоб я особенно здесь не торчал, он не желал иметь неприятностей с охраной несовершеннолетних, а из-за десятилетнего шкета запросто можно влипнуть в историю с наркоманами, потому что это первое, что приходит в голову при виде пацана в кафе. Во Франции несовершеннолетние усиленно охраняются, и когда о них никто не заботится, их на всякий случай даже прячут за решетку.
У мосье Соко у самого есть дети, которых он оставил в Слоновой Кости, потому что там у него больше жен, чем здесь. Я отлично знал, что не имею права ошиваться в местах общественного пьянства без родителей, но если уж говорить как на духу, то возвращаться домой мне совсем не хотелось. Стоило только вспомнить, в каком виде я оставил мадам Розу, как по спине у меня начинали бегать мурашки. И без того страшно было видеть, как она помаленьку умирает, сама о том не подозревая, а тут еще это — гадостная ухмылка, стокилограммовая туша, поджидающая клиента, и задница, в которой не осталось ничего человеческого. Нет, тут уж точно требуются законы, которые положили бы конец ее мучениям. Знаете, все призывают уважать законы природы, но лично я больше сторонник запчастей для организма. Как бы там ни было, а в бистро всю жизнь не проторчишь, и я вернулся домой, твердя себе все время, пока тащился по этой лестнице, что мадам Роза, наверное, умерла и, значит, мучиться больше некому.
Я открыл дверь тихонько, чтобы сразу не испугаться, и первым делом увидел мадам Розу — полностью одетая, она стояла посреди комнаты рядом с чемоданчиком. Она смахивала на пассажира, ждущего метро. Я быстро глянул на ее лицо и понял, что она вовсе не тут: счастливая донельзя, глаза устремлены вдаль, и на голове — шляпка. Шляпка ей, правда, не шла, потому что это вообще невозможно, но хоть немного скрывала ее сверху. Она даже улыбалась, словно ей сообщили приятную новость. Одетая в голубое платье с маргаритками, она держала в руке свою потаскушечью сумочку, которую берегла в глубине шкафа из сентиментальных соображений и которую я хорошо знал — в ней до сих пор валяются резинки, — и смотрела сквозь стену, словно уже собралась сесть в поезд в навсегда.
— Что вы делаете, мадам Роза?
— Они сейчас за мной придут. Они обо всем позаботятся. Они велели подождать здесь, они приедут на грузовиках и увезут нас на Велодром с самым необходимым.
— Кто это «они»?
— Французская полиция.
Я ничего не понимал. Из соседней комнаты Мойше подавал мне знаки, стуча пальцем по лбу. Мадам Роза держала в руке свою рабочую сумочку, рядом стоял чемодан, и она ждала так, будто боялась опоздать.
— Они дали нам полчаса и разрешили взять только один чемодан. Нас посадят в поезд и увезут в Германию. У меня больше не будет никаких проблем, они позаботятся обо всем. Они сказали, что нам не сделают ничего плохого, мы будем устроены с жильем, накормлены и обстираны.
Я не знал, что и сказать. Вполне возможно, что они опять увозят евреев в Германию, потому что арабы их не хотят. Мадам Роза, когда голова у нее была в порядке, часто рассказывала мне про то, как мосье Гитлер устроил в Германии общежития для евреев, чтобы дать им домашний очаг, и как горячо принимали их в эти очаги — всех, за исключением зубов, костей, одежды и туфель, которые, если они были в приличном состоянии, с них снимали, приучая к бережливости. Но я никак не мог взять в толк, почему это одним только немцам приходится все время заботиться о евреях и то и дело устраивать для них очаги, ведь по идее для каждого народа должна наступить очередь идти ради них на жертвы. Мадам Роза очень любила напоминать мне, что и у нее была молодость. Ладно, я знал все это, потому что жил у еврейки и, значит, рано или поздно должен был все это узнать, но не понимал, какой толк французской полиции заботиться о мадам Розе, ведь она старая и уродливая и не представляет интереса решительно ни в каком отношении. Еще я знал, что мадам Роза впадает в детство из-за размягчения мозгов благодаря старческому маразму, и доктор Кац меня предупреждал. Видимо, она решила, что стала молодой, как давеча, когда вырядилась шлюхой, и теперь стояла со своим чемоданчиком, счастливая оттого, что ей опять двадцать лет, и ждала сигнала, чтобы снова ехать на Велодром и оттуда в Германию, в еврейское общежитие. К ней снова вернулась молодость.
Я не знал, что делать, потому что не хотел ее разочаровывать, но был уверен, что французская полиция и пальцем не пошевелит, чтобы вернуть мадам Розе ее двадцать лет. Я сел на пол в углу и опустил голову, чтобы ее не видеть, — это все, что я мог для нее сделать. К счастью, ей получшало и она сама начала удивляться тому, что стоит с чемоданом, в шляпке, в голубом платье с маргаритками и держит в руке сумочку, полную воспоминаний, но я решил, что лучше не говорить ей о случившемся, мне было ясно, что она все забыла. Это называется амнистией, и доктор Кац предупреждал меня, что у нее это будет все чаще и чаще, до тех пор, пока она навсегда не перестанет помнить что бы то ни было и будет жить, может быть, еще долгие годы в состоянии помрачнения.
— Что случилось, Момо? Почему я стою с чемоданом, словно собираюсь уезжать?
— Вы просто замечтались, мадам Роза. Немного помечтать еще никому не вредило.
Она смотрела на меня с недоверием.
— Момо, ты должен сказать мне правду.
— Клянусь вам, я говорю правду, мадам Роза. Рака у вас нет, можете быть спокойны. На этот счет доктор Кац абсолютно уверен.
Она немного приободрилась: хорошая штука рак, когда его у тебя нет.
— Как получилось, что я стою здесь, не зная почему и зачем? Что со мной, Момо?
Она села на кровать и заплакала. Я подошел к ней, сел рядом и взял за руку, ей это нравилось. Она тотчас улыбнулась и немного пригладила мне волосы, чтобы я стал покрасивей.
— Мадам Роза, это всего-навсего жизнь, и с этим можно жить до глубокой старости. Доктор Кац сказал мне, что вы вполне соответствуете своему возрасту, и даже дал ему номер.
— Третий возраст?
— Вот-вот.
Она призадумалась.
— Ничего не понимаю, ведь климакс у меня давно прошел. Я с этим даже работала. У меня случаем не опухоль в мозгу, Момо? Она ведь тоже спуску не дает, если недоброкачественная.
— Он ничего такого мне не сказал. Он вообще ничего не говорил о том, что не дает спуску, а что дает. Он о спуске и вовсе ничего не говорил. Сказал только, что у вас возраст, и не говорил ни об амнистии, ни о чем другом.
— Ты хочешь сказать — об амнезии?
Мойше, чье дело вообще было десятое, захныкал — только этого мне и не хватало.
— Мойше, что тут происходит? Мне врут? От меня что-то скрывают? Почему он плачет?
— Да пропади оно все пропадом. Евреи вечно плачутся, мадам Роза, уж вам-то это положено знать. Им даже стену для этого построили [[14] ], черт побери.
— Может быть, это церебральный склероз?
У меня все это уже вот где сидело, клянусь вам. Мне это так обрыдло, что захотелось разыскать Махута и попросить его вогнать мне самый здоровенный шприц, только бы послать их всех к чертям собачьим.
— Момо, это не церебральный склероз? Он спуску не дает.
— А много вы знаете такого, что дает спуску, мадам Роза? Слушать тошно. Слышите, вы, меня от всех вас тошнит, клянусь могилой матери!
— Не надо говорить таких вещей, твоя бедная мать… в общем, она, может, еще и жива.
— Я ей этого не желаю, мадам Роза, даже если она и жива, она все-таки моя мать.
Она странно посмотрела на меня, а потом улыбнулась.
— Ты очень повзрослел, малыш Момо. Ты уже не ребенок. Когда-нибудь…
Она собиралась мне что-то сказать, но прикусила язык.
— Когда-нибудь что?
Вид у нее стал виноватый.
— Когда-нибудь тебе стукнет четырнадцать. А потом пятнадцать. И ты больше не захочешь жить вместе со мной.
— Не говорите чепухи, мадам Роза. Я вас не брошу, не в моих это привычках.
Это ее успокоило, и она ушла переодеваться. Надела свое японское кимоно и подушилась за ушами. Понятия не имею, почему душилась она всегда за ушами, — может, чтоб этого не было видно. Потом с моей помощью уселась в кресло, потому что сгибаться ей было тяжело. При всех своих болячках она сейчас чувствовала себя как нельзя лучше. Лицо у нее было хмурое и обеспокоенное, но я обрадовался, увидев ее в нормальном состоянии. Она даже поревела немного, что доказывало, что она чувствует себя как нельзя лучше.
— Ты теперь взрослый паренек, Момо, и все понимаешь.
Это она ерунду городила — ничего я не понимал, но препираться с ней не собирался, время было неподходящее.
— Ты взрослый паренек, так что послушай меня…
Тут у нее случился небольшой заход в пустоту, и она несколько мгновений была в простое, как заглохший старый драндулет. Я подождал, пока она включится, держа ее за руку, потому что она все-таки не драндулет. Доктор Кац рассказывал мне, когда я как-то трижды к нему из-за нее приходил, что один американец семнадцать лет пребывал в больнице в полнейшей прострации, как овощ, и ему продлевали жизнь медицинскими средствами. Это мировой рекорд. Чемпионы мира — те всегда в Америке. Доктор Кац сказал мне, что ей уже ничем не поможешь, но при хорошем уходе в больнице она может прожить с этим еще долгие годы.
Паршиво было то, что у мадам Розы ввиду ее нелегальности не было социального обеспечения. Со времен облавы, устроенной французской полицией, когда мадам Роза была еще молодой и полезной, как я уже имел честь, она не желала числиться ни в каких бумагах. Между прочим, я знаю уйму евреев в Бельвиле, у которых есть паспорта и много других документов, выдающих их с головой, но мадам Роза ни за что не хотела подвергаться риску и записываться по всей форме в бумаги, которые тебя уличают, потому что стоит людям узнать, кто ты есть, как тебя тут же в этом и обвинят, можете не сомневаться. Мадам Роза не отличалась патриотизмом, так что ей было все равно, кто ты: североафриканец или араб, малиец или еврей, — она не придерживалась никаких принципов. Она часто говорила мне, что у каждого народа есть свои хорошие стороны и потому есть такие люди, историки, которые ведут исследования и специально эти хорошие стороны выискивают. Так вот, мадам Роза нигде не числилась и прикрывалась фальшивыми документами, из которых явствовало, что она не имеет никакого отношения даже к самой себе, так что социальное обеспечение было не про нее.
Но доктор Кац успокоил меня и сказал, что если привезти в больницу тело, еще живое, но уже не способное бороться, то его не посмеют выкинуть вон, иначе до чего мы докатимся.
Я размышлял обо всем этом, глядя на мадам Розу, пока ее мозги где-то шлялись. С маразмом всегда так: поначалу еще бывают уходы и возвращения, а потом маразм побеждает окончательно. Я гладил ее по руке, чтобы она поскорей возвращалась, и я еще никогда так ее не любил, потому что она была жуткая и старая и вскоре должна была прекратиться как личность.
Я уж просто не знал, что делать. Денег у нас не было, а у меня к тому же не было и возраста, позволяющего спастись от закона против несовершеннолетних. На вид-то мне было больше десяти, и я знал, что нравлюсь шлюхам, у которых никого нет, но полиция волком глядит на сутилеров, и к тому же я до смерти боялся югославов — в этом деле они самые страшные конкуренты.
Мойше попытался поднять мой моральный дух, сказав, что та семья, которая взяла его на иждивение, во всем ему подходит, и я, дескать, могу подсуетиться и тоже кого-нибудь себе найти. Он ушел, пообещав приходить каждый день и мне помогать. Надо было подтирать мадам Розу, которая уже не могла справляться с этим сама. Даже когда голова у нее варила как полагается, с этим у нее все равно были трудности. Из-за неимоверной толщины рука просто не доставала куда нужно. Из-за женственности она очень стеснялась нашей помощи, но что вы хотите. Назавтра Мойше пришел, как обещал, и тогда-то и случилась та национальная катастрофа, о которой я имел честь и которая меня враз состарила.
В этот день старший Заом принес нам кило муки, масла и тефтелек для жарки, потому что вокруг оказалось немало людей, которые, с тех пор как мадам Роза пришла в негодность, начали проявлять свою хорошую национальную сторону. Про себя я увенчал этот день лаврами, потому что это красивое выражение.
Мадам Розе стало получше и сверху и снизу. Иногда она полностью отключалась, но в остальное время была вполне ничего. Когда-нибудь я отблагодарю всех жильцов, которые нам помогали, например мосье Валумбу, который глотал огонь на бульваре Сен-Мишель, чтобы заинтересовать собою прохожих, и в тот день специально поднялся к нам, чтобы устроить красочное представление перед мадам Розой в надежде пробудить ее интерес.
Мосье Валумба — это черный из Камеруна, который приехал во Францию, чтобы ее подмести. Всех жен и детей он по экономическим соображениям оставил на родине. Он прямо олимпийский чемпион по глотанию огня и занимается этим все свободное от работы время. Полиция косо поглядывает на мосье Валумбу за то, что он устраивает скопления народа, но сделать ничего не может, потому что разрешение глотать огонь он выправил по всей форме. Когда я замечал, что глаза у мадам Розы пустеют, челюсть отваливается и она принимается пускать слюни в другом мире, я бежал за мосье Валумбой, который делит свою законную жилплощадь в отведенной ему комнатушке на шестом этаже с восемью другими представителями своего племени. Если он был дома, то сразу же поднимался к нам с горящим факелом и начинал изрыгать перед мадам Розой пламя. Это делалось не только для того, чтобы развлечь больного человека, который вдобавок сильно грустит, а чтобы провести лечение шоком, — доктор Кац говорит, что немало людей приходило в себя после такого лечения в больнице, где им с этой целью внезапно зажигают электричество. Мосье Валумба того же мнения, он говорит, что к старым людям часто возвращается память, если их напугать, и он даже исцелил так в Африке одного глухонемого. Старики часто впадают в еще большую грусть, когда их помещают в больницу навсегда: доктор Кац говорит, что этот возраст не знает людской жалости и начиная лет с шестидесяти пяти — семидесяти человек уже никого не интересует.
Так вот, мы долго старались испугать мадам Розу, чтобы кровь у нее пошла в обращение. Мосье Валумба ужасен, когда глотает огонь и тот языками вырывается из его нутра и достает до потолка, но мадам Роза находилась в одной из своих отключек, которые еще называют летаргией — это когда на все наплевать, — так что пронять ее было невозможно ничем. Мосье Валумба битых полчаса изрыгал перед ней пламя, но взгляд у нее оставался неподвижным и пустым, словно она уже превратилась в статую. Статую ничто не может тронуть — их специально для этого делают из дерева или камня. Но в последний раз он так постарался, что мадам Роза внезапно вышла из своего состояния и когда увидела голого по пояс негра, изрыгавшего перед ней пламя, то испустила такой вопль, что вы и представить себе не можете. Она даже попыталась удрать, и ее пришлось удерживать силой. А потом она заявила, что знать ничего не знает и запрещает впредь глотать в ее квартире огонь. Мадам Роза и не подозревала, что она с приветом, она думала, что просто слегка вздремнула, а ее разбудили и напугали. А сказать ей правду мы не могли.
В другой раз мосье Валумба привел пятерых приятелей-племяшей, и все они принялись отплясывать вокруг мадам Розы в надежде изгнать злых духов, которые порой вселяются в людей, если там освобождается местечко. Братья мосье Валумбы очень известны в Бельвиле, где их приглашают специально для совершения этого обряда, когда условия позволяют больным лечиться на дому. Мосье Дрисс из кафе презрительно относился к этой, как он ее называл, «трясучке»: он посмеивался и говорил, что мосье Валумба со своими братьями по племени практикует медицину «по-черному».
Мосье Валумба с родичами поднялся к нам в один из вечеров, когда мадам Роза была в очередной отключке и с тупым видом сидела в кресле. Они все были полуголые и выкрашенные в разные цвета, а лица размалеваны как не поймешь что, чтобы устрашить демонов, которых африканские рабочие привозят с собой во Францию. Двое из них уселись на пол с барабанами в руках, а трое остальных пустились вокруг мадам Розы в пляс. Мосье Валумба играл на каком-то совсем особенном музыкальном инструменте, и всю ночь у нас творилось такое, что лучше и впрямь в Бельвиле не увидишь. Но все оказалось попусту, потому что на евреев это не действует, и мосье Валумба объяснил нам, что тут дело в религии. Он считал, что религия мадам Розы противится и делает ее недоступной для излечения. Меня это здорово удивило, потому что мадам Роза уже настолько развалилась, что религии просто некуда было приткнуться.
Если хотите знать мое мнение, то начиная с какого-то момента даже евреи — уже не евреи, до того они превращаются в ничто. Не знаю, понятно ли я говорю, но это неважно, потому что если б все было понятно, то наверняка стало бы еще паскудней.
Постепенно братья мосье Валумбы начали отчаиваться, потому что мадам Розе в ее состоянии было наплевать на все, и мосье Валумба объяснил мне, что злые духи закупорили в ней все входы и выходы и усилия врачевателей ее не достигают. Мы все уселись вокруг старухи на пол и вкусили минуту передышки, потому что в Африке племена куда многочисленней, чем в Бельвиле, и люди могут работать над изгнанием злых духов посменно, как на заводах Рено. Мосье Валумба принес крепких напитков и яиц, и мы подкрепились вокруг мадам Розы, у которой был такой взгляд, словно она его потеряла и повсюду ищет.
Пока мы перекусывали, мосье Валумба объяснил, что на его родине куда проще почитать стариков и заботиться о них, чтобы облегчить им остаток жизни, чем в таком большом городе, как Париж, в котором тыщи улиц, этажей и всяких дыр, где про них забывают, а использовать армию, чтобы разыскивать их повсюду, где только можно, не годится, потому что у армии главная забота — молодежь. Если б она переключилась вдруг на заботу о стариках, то перестала бы быть французской армией. Он сказал мне, что в здешних городах и деревнях стариковских нор, наверное, десятки тыщ, но в этом вопросе тут полное невежество, потому что исследованиями заняться некому. На старика или старуху в такой великой и прекрасной стране, как Франция, просто жалко смотреть, а у людей и без того печалей хватает. Старики и старухи здесь ни на что уже не годны и не имеют общественной ценности, так что их просто оставляют жить. В Африке живут племенами, и в любом племени на стариков огромный спрос ввиду тех услуг, которые они могут оказать тебе после того, как умрут. Во Франции вместо племен сплошной эгоизм. Мосье Валумба говорил, что во Франции племена полностью разогнали, оттого-то и появляются вооруженные банды, которые тесно сплачиваются, пытаясь возродить что-то в этом роде. Мосье Валумба говорил, что молодые очень нуждаются в племени, потому что без него они становятся как капля в море и от этого звереют. Мосье Валумба говорил, что все в мире становится большим, что меньше чем на тыщи и считать нет смысла. Потому-то всякие старички и старушонки, которые не могут создать вооруженную банду, чтобы существовать, исчезают из поля зрения, не оставив адреса, и неслышно живут в своих пыльных норах. Никто и не подозревает об их существовании, особенно когда они ютятся в чердачных каморках для прислуги без лифта и не могут заявить о себе криками, потому что слишком для этого слабы. Мосье Валумба говорил, что пришлось бы вывезти из Африки целую уйму иностранных рабочих, чтобы те по утрам в шесть часов ежедневно разыскивали стариков и забирали бы тех, кто уже начал попахивать, потому что никто никогда не проверит, жив ли еще старик или старуха, и все выясняется только тогда, когда консьержке говорят, что на лестнице дурно пахнет.
Мосье Валумба говорит очень складно и всегда так, будто он главный. Лицо у него покрыто шрамами, и эти знаки отличия позволяют ему пользоваться в племени большим уважением и говорить со всей ответственностью. Он все еще живет в Бельвиле, и когда-нибудь я его навещу.
Он показал мне одну очень полезную для мадам Розы штуковину, чтобы отличать еще живого человека от совсем мертвого. Для этого он поднялся, взял на комоде зеркало и приставил его к губам мадам Розы, и зеркало в том месте, где она на него дышала, затуманилось. По-другому никак было не распознать, дышит ли она, поскольку ее легкие просто не могли поднимать такой вес. Эта штука позволяет отличать живых от прочих. Мосье Валумба говорит, это первое, что надо делать по утрам со старыми людьми, которых порой находят в каморках для прислуги без лифта, чтобы узнать, действительно ли они всего лишь жертвы маразма или уже мертвы на все сто. Если зеркало мутнеет, то, значит, они еще дышат и не надо их вышвыривать вон.
Я спросил у мосье Валумбы, нельзя ли отправить мадам Розу в Африку, в его племя, чтобы она пользовалась там вместе с другими стариками тамошними преимуществами содержания. Мосье Валумба долго смеялся, показывая свои очень белые зубы, и его братья по племени мусорщиков тоже долго смеялись, они поговорили промеж себя на своем языке, а потом сказали мне, что жизнь не так проста, потому что требует билетов на самолет, денег и разрешений, и придется уж мне самому заботиться о мадам Розе, пока не наступит смерть. В эту минуту в лице мадам Розы обозначилось разумное начало, и братья мосье Валумбы по расе повскакали и принялись отплясывать вокруг старухи, стуча в барабаны и горланя так, что и мертвый проснется, а это запрещается делать после десяти часов вечера по причине общественного порядка и сна праведников, но французов в доме очень мало, и здесь они не такие грозные, как в других местах. Сам мосье Валумба схватил свой музыкальный инструмент, который я не могу вам описать, потому что он специальный, да и мы с Мойше в это включились, и все пустились плясать хороводом вокруг старухи, вопя заклинания, потому что она, похоже, начала подавать признаки и ее следовало подбодрить. Демонов удалось обратить в бегство, и мадам Роза обрела разум, но когда увидела вокруг себя полуголых негров с зелеными, белыми, синими и желтыми лицами, которые отплясывали вокруг нее, улюлюкая, как краснокожие, в то время как мосье Валумба наяривал на своем замечательном инструменте, она до того перепугалась, что принялась голосить: «На помощь, ко мне, спасите!» — и даже попыталась бежать и, только узнав меня и Мойше, успокоилась и обругала нас ублюдками и шлюхиным отродьем, что доказывало, что к ней вернулись все ее умственные способности. Все кинулись поздравлять друг дружку, и первый — мосье Валумба. Они посидели еще немножко, чтобы познакомиться поближе, и мадам Роза убедилась, что они вовсе не похожи на тех, кто избивает старых женщин в метро и вырывает у них сумочку. Голова у мадам Розы была все-таки не совсем в порядке, потому что она поблагодарила мосье Валумбу по-еврейски, который на этом языке называется идиш, но это не имело значения, потому что мосье Валумба хороший человек. Когда они ушли, мы с Мойше раздели мадам Розу с ног до головы и вымыли жавелевой водой, потому что во время отключки она делала под себя. Потом мы попудрили ей где надо детской присыпкой и водрузили назад в кресло, где она любила царить. Она попросила зеркало и навела красоту. Она прекрасно знала, что у нее бывают отключки, но старалась относиться к этому с чисто еврейским юмором и говорила, что во время отключек она по крайней мере не знает забот и хоть в чем-то имеет свою выгоду. Мойше отнес в лавку наши последние сбережения, и она немного постряпала, ничего не перепутав, и никто бы не сказал, что двумя часами раньше она была в полной отключке. Это как раз то, что доктор Кац по-медицински называет ремиссией.
После она вернулась в кресло, потому что всякое усилие давалось ей нелегко. Она отправила Мойше на кухню мыть посуду, а сама какое-то время обмахивалась японским веером и сидела, задумавшись, в своем кимоно.
— Поди-ка сюда, Момо.
— Что такое? Вы случайно не надумали снова туда?
— Нет, надеюсь, что нет, но если так будет продолжаться, они положат меня в больницу. Я не хочу. Мне шестьдесят семь лет…
— Шестьдесят девять.
— Ну, ладно, пусть будет шестьдесят восемь, ведь я не так стара, как кажусь. Так вот, слушай меня, Момо. Я не хочу ложиться в больницу. Они будут меня пытать.
— Мадам Роза, не говорите чепухи. Франция никогда никого не пытала, это вам не Алжир.
— Они будут насильно заставлять меня жить, Момо. В больницах всегда это делают, у них есть на это законы. Я не хочу жить дольше, чем необходимо, а это уже перестало быть необходимостью. Есть предел даже для евреев. Они заставят меня терпеть муки, чтобы помешать мне умереть, у них есть такая штука под названием «клятва Гиппократа», которая предназначена специально для этого. Они вынуждают тебя мучиться до самого конца и отказывают в праве умереть, не желая, чтобы у тебя была такая привилегия. Одного моего друга, который даже не был евреем, но в результате несчастного случая лишился и рук, и ног, они заставили мучиться в больнице еще десять лет, чтобы изучить его кровообращение. Момо, я не хочу жить только лишь потому, что это требуется медицине. Я знаю, что теряю разум, и не хочу годами пребывать в коме, чтобы приносить медицине славу. Поэтому, если до тебя дойдут орлеанские слухи насчет того, что меня вот-вот положат в больницу, ты попросишь своих приятелей сделать мне нужный укол и оттащить мои останки за город. В кусты, а не куда попало. Я была за городом после войны десять дней и никогда столько не дышала. Для моей астмы это куда лучше, чем город. Тридцать пять лет я предоставляла тело клиентам, а теперь не хочу отдавать его врачам. Обещаешь?
— Обещаю, мадам Роза.
— Хайрем?
— Хайрем.
Это по-ихнему означает «клянусь», как я имел честь.
Мадам Розе я обещал бы все что угодно, только чтоб сделать ее счастливой, потому что даже в глубокой старости счастье еще может пригодиться, но тут раздался звонок и произошла та национальная катастрофа, которую я до сих пор не мог вставить в свой рассказ и которая принесла мне большую радость — хотя бы потому, что состарила меня враз на несколько лет, не считая всего прочего.
Позвонили в дверь, я пошел открывать, и там оказался хмырь печальней некуда, с длинным носом, который свисал книзу, и такими глазами, какие видишь повсюду, но только еще более испуганными. Весь бледный и взопрелый, он часто дышал и прижимал руку к сердцу, но не из-за каких-то там чувств, а потому что не всякое сердце мирится с семью этажами без лифта. Воротник пальто у него был поднят, а голова совсем без волос, как у большинства лысых. Шляпу он держал в руке, словно хотел показать, что она у него есть. Я понятия не имел, откуда он взялся, но мне никогда еще не встречался тип, настолько не уверенный в себе. Он дико глянул на меня, и я отплатил ему той же монетой, потому что клянусь вам: достаточно было хоть разок посмотреть на того типа, чтобы почувствовать, что все вокруг сейчас встанет на дыбы и набросится на тебя, а это и есть паника.
— Мадам Роза здесь живет?
В таких случаях всегда надо проявлять осторожность, потому что незнакомые люди не станут забираться на седьмой этаж, просто чтобы доставить вам удовольствие.
Я прикинулся недоумком, на что в своем возрасте имел полное право.
— Кто-кто?
— Мадам Роза.
Я призадумался. В таких случаях всегда надо сперва выиграть время.
— Это не я.
Он вздохнул, вытащил платок, вытер лоб, а потом проделал все это в обратном порядке.
— Я больной человек, — сказал он. — Я только что вышел из больницы, где провел одиннадцать лет. Я поднялся на седьмой этаж без разрешения врачей. Я пришел сюда, чтобы повидать перед смертью сына, это мое право, на это есть законы, даже у дикарей. Я хочу присесть на минутку, отдохнуть, повидать сына, и все. Это здесь? Я доверил своего сына мадам Розе одиннадцать лет назад, у меня даже есть расписка.
Он порылся в кармане пальто и протянул мне листок бумаги, засаленный до невозможности. Я прочел — это я сумел благодаря мосье Хамилю, которому обязан всем. Без него я был бы ничто. «Получено от мосье Кадира Юсефа пятьсот франков аванса на малолетнего Мухаммеда, мусульманского вероисповедания, седьмого октября 1956 года». Что ж, поначалу меня шарахнуло, но шел семидесятый год, я быстренько посчитал, получалось четырнадцать лет, это не мог быть я. У мадам Розы Мухаммедов перебывало, должно быть, видимо-невидимо — уж чего-чего, а этого добра в Бельвиле хватает.
— Подождите, я схожу посмотрю.
Я пошел к мадам Розе и сказал, что какой-то тип с подозрительной рожей приперся к нам выяснять, есть ли у него сын, и старуха перепугалась до смерти.
— Боже мой, Момо, да ведь у нас только ты да Мойше.
— Значит, это Мойше, — буркнул я, потому что если это не он, то, выходит, я. Вполне законная самозащита.
Мойше дрых себе рядом. Он дрых больше всех, кого я когда-нибудь знал из породы сурков.
— Наверное, мамашу собрался шантажировать, — сказала мадам Роза. — Ладно, посмотрим. Уж кого-кого, но не сводников же мне бояться. У меня все фальшивые бумаги в порядке. Зови его. Если станет зарываться, позовешь мосье Н’Да.
Я привел хмыря. У мадам Розы на трех оставшихся волосинах висели бигуди, она была накрашена и одета в свое японское кимоно, и когда этот субчик ее узрел, у него ноги подкосились, он так и осел на краешек стула, не в силах унять дрожь в коленях. Я видел, что мадам Роза тоже трясется, но при такой толщине трясение у нее не так заметно — попробуй-ка встряхнуть такую махину. Зато у нее карие глаза очень красивого цвета, надо только не обращать внимания на все остальное. Мосье Хмырь сидел, держа свою шляпу на коленях, на краешке стула напротив мадам Розы, царившей в кресле, а я примостился у окна, чтобы не особенно бросаться в глаза, потому что наперед никогда не знаешь. Я на него нисколько не был похож, на этого типа, но у меня в жизни золотое правило: никогда не рисковать. Тем более что он повернулся ко мне и внимательно меня осмотрел, словно искал собственный потерянный нос. Все молчали, потому что никто не хотел начинать, до того все перепугались. Я даже сходил за Мойше, потому что у хмыря действительно была расписка по всей форме, и что ни говори, а его полагалось отоварить.
— Так что вам угодно?
— Одиннадцать лет назад, мадам, я доверил вам своего сына, — выговорил хмырь, и ему, похоже, даже и говорить-то было трудно, он все никак не мог дух перевести. — Я не мог подать вам никаких признаков жизни раньше, меня заключили в больницу. У меня даже не было ни вашей фамилии, ни адреса, у меня все отобрали при госпитализации. Ваша расписка находилась у брата моей несчастной жены, которая трагически умерла, как вам, должно быть, небезызвестно. Меня выпустили только сегодня утром, и я пришел взглянуть на своего сына Мухаммеда. Я хочу сказать ему «здравствуй».
У мадам Розы голова в тот день варила как полагается, что нас и спасло.
Я увидел, что она побледнела, хотя для этого надо хорошо ее знать: она так накрасилась, что глаз различал только голубое и красное. Она нацепила очки, что шло ей как-никак лучше, чем ничего, и взглянула на расписку.
— Ну так и что же вы от меня хотите?
Хмырь едва не разрыдался.
— Мадам, я больной человек.
— Все больны, кто ж не болен, — смиренно проговорила мадам Роза и даже возвела глаза к небесам, словно благодаря их за это.
— Мадам, меня зовут Кадир Юсеф. Для санитаров Ю-ю. Одиннадцать лет я пробыл психическим после той трагедии во всех газетах, за которую я не несу абсолютно никакой ответственности.
Я вдруг вспомнил, как мадам Роза все выпытывала у доктора Каца, не психический ли и я тоже. Или с наследственностью. А в общем, плевать, то был не я. Мне десять лет, а не четырнадцать. Фигушки!
— Так как там звали вашего сына?
— Мухаммед.
Мадам Роза так впилась в него взглядом, что мне даже стало еще чуток страшнее.
— А имя матери вы, надеюсь, помните?
Тут мне показалось, что хмырь отдает концы. Он позеленел, челюсть у него отвисла, колени заходили ходуном, да еще и слезы появились.
— Мадам, вы прекрасно знаете, что я был невменяем. Это признанный и удостоверенный факт. Если моя рука и совершила убийство, то сам я тут ни при чем. Сифилиса у меня не нашли, хотя санитары и говорят, что арабы все до одного сифилитики. Я совершил это в момент безумия, упокой Господь ее душу. Я стал очень набожным. Я молюсь за ее душу каждый проходящий час. При том ремесле, каким она занималась, ей это необходимо. Я действовал в приступе ревности. Посудите сами, у нее было до двадцати выходов в день. В конце концов я до того взревновал, что убил ее, я это знаю. Но я был невменяем. Меня признали лучшие французские врачи. Я даже ничего потом не помнил. Я любил ее до безумия. Я жить без нее не мог.
Мадам Роза ухмыльнулась. Я никогда не видел, чтобы она так ухмылялась. Это было что-то… Нет, не сумею я вам это описать. От этого у меня аж спина заледенела.
— Само собой, вы не могли без нее жить, мосье Кадир. Айша из года в год приносила вам старыми сто тысяч кругляшей в день. Вы убили ее, потому что вам, видно, все было мало.
Хмырь издал тоненький крик и ударился в слезы. Я впервые видел, как плачет араб, не считая, конечно, самого себя. Мне его даже жалко стало, до того мне он был до фонаря.
Мадам Роза сразу смягчилась. Ей, должно быть, приятно было осадить голубчика. Дескать, смотрите, я еще женщина.
— Ну а кроме этого, все в порядке, мосье Кадир?
Хмырь утерся кулаком. Ему не хватало сил даже достать платок, до него было слишком далеко.
— В полном порядке, мадам Роза. Я скоро умру. Сердце.
— Мазлтов, — добродушно отозвалась мадам Роза, что по-еврейски означает «поздравляю».
— Спасибо, мадам Роза. Я хотел бы все нее повидать своего сына, будьте так добры.
— Вы должны мне за три года пансиона, мосье Кадир. Целых одиннадцать лет вы не подавали никаких признаков жизни.
Хмыря аж подбросило на стуле.
— Признаки жизни, признаки жизни, признаки жизни! — проблеял он, обратив глаза к небесам, где всех нас когда-нибудь ждут. — Признаки жизни!
При каждом своем выкрике он судорожно дергался на стуле, словно его то и дело без всякого почтения пинали в зад.
— Признаки жизни — нет, вы просто смеетесь надо мной!
— Это последнее, чего бы я хотела, — заверила его мадам Роза. — Вы бросили своего сына, как… как ненужный хлам, вот как это называется.
— Но я ж говорю, у меня не было ни фамилии вашей, ни адреса! Дядя Айши хранил расписку в Бразилии! Я сидел под замком! Только сегодня утром вышел на свободу. Еду к свояченице в Кремлен-Бисетр, они там все умерли, кроме их мамаши, у которой все и осталось. Та насилу вспомнила, что когда-то пришпилила расписку булавкой к фотокарточке Айши, чтоб сын был с матерью вместе! Признаки жизни! Что вы имеете в виду под признаками жизни?
— Деньги, — здраво ответила мадам Роза.
— Где же мне, по-вашему, их было взять, мадам?
— Ну, уж в эти вещи я вникать не собираюсь, — сказала мадам Роза, усиленно обмахиваясь японским веером.
Кадык у мосье Кадира Юсефа ходил как скоростной лифт, так судорожно он заглатывал воздух.
— Мадам, когда мы доверили вам своего сына, я был полностью платежеспособен. Имел трех жен, работавших на Центральном рынке, и одну из них нежно любил. Я мог позволить себе дать своему сыну хорошее образование. У меня даже было вполне официальное имя, Юсеф Кадир, хорошо известное полиции. Да, мадам, хорошо известное полиции, однажды это появилось даже в газете крупными буквами. «Юсеф Кадир, хорошо известный полиции…» Хорошо известный, мадам, а не плохо известный. Но потом я впал в невменяемость, и свершилось это несчастье…
Он рыдал прямо как какая-нибудь старая еврейка, этот тип.
— Никому не дозволено бросать своего сына, как ненужный хлам, без оплаты, — строго заметила мадам Роза и снова принялась обмахиваться японским веером.
Единственное, что меня интересовало во всей этой истории, так это узнать, я ли тот самый Мухаммед или нет. Если это я, тогда мне не десять лет, а четырнадцать, и это важно, потому что в четырнадцать лет ты уже далеко не пацан, а это лучшее, что может с тобой произойти, потому что можно уже не так бояться Призрения. Мойше, который стоял в дверях и слушал, тоже не особенно волновался, потому что раз этого доходягу зовут Кадир, да еще Юсеф, то у него мало шансов оказаться евреем. Заметьте, я вовсе не говорю, что быть евреем — такое уж везение, у них тоже проблем хватает.
— Мадам, я не пойму, действительно ли вы говорите со мной в таком тоне, или же я ошибаюсь из-за своей психиатрической мнительности, но я был отрезан от внешнего мира одиннадцать лет и просто физически не имел возможности… У меня тут с собой медицинская справка, которая подтверждает мои слова…
Хмырь нервно зашарил по карманам — он был из тех, кто уже ни в чем не уверен, и у него запросто могло вообще не быть той психиатрической бумаги, на которую он надеялся, ведь потому-то его и посадили под замок, что он все себе воображал. Психические — это люди, которым все время внушают, что у них нет того, что у них на самом деле есть, и что они не видят того, что на самом деле видят, и от этого они в конце концов и свихиваются. Впрочем, хмырь отыскал-таки в кармане нужную бумагу и протянул ее мадам Розе.
— Да на кой мне документы, которые что-то там подтверждают, тьфу на них, тьфу, тьфу, — проговорила мадам Роза, изображая, будто черту глаза заплевывает, как полагается в таких случаях.
— А сейчас я в полном порядке, — заявил мосье Юсеф Кадир и оглядел всех нас, чтобы удостовериться, что так оно и есть.
— Продолжайте, прошу вас, — сказала мадам Роза, потому что больше ничего говорить не оставалось.
Но по нему вовсе не было видно, чтобы он был в полном порядке: глаза у него так и молили о помощи, потому что глаза больше всего в ней нуждаются.
— Я не мог посылать вам деньги, потому что меня объявили не отдававшим себе отчета в совершенном мной убийстве и посадили под замок. Видно, это дядя моей несчастной жены посылал вам деньги, пока не помер. Я жертва рока! Посудите сами, да разве я совершил бы преступление, будь я в нормальном состоянии, не представляющем опасности для общества? Я не могу вернуть жизнь Айше, но перед смертью хочу обнять своего сына и попросить его простить меня и молить за меня Господа.
Он мне уже всю плешь переел, этот тип, со своими отцовскими чувствами и домогательствами. Во-первых, для моего отца он рожей не вышел — тот должен быть настоящим мужчиной, настоящим из настоящих, а не каким-то там слизняком. И потом, раз моя мать боролась за жизнь на Центральном рынке и боролась к тому же будь здоров, как он сам говорит, то никто, черт побери, вообще не может объявить себя моим отцом. Я родился от неизвестного отца, это уж верняк, благодаря закону больших чисел. Но я был рад узнать, что мою мать звали Айшей. Это самое красивое имя, какое только можно себе вообразить.
— Лечили меня очень хорошо, — продолжал мосье Юсеф Кадир. — Припадков больше не бывает, по этой части я вылечился. Но долго не протяну, сердце волнений не переносит. Врачи выпустили меня ради моих чувств, мадам. Я хочу увидеть своего сына, обнять его, попросить его простить меня и…
Вот черт, заладил как патефон.
— …и иногда молиться за меня. Он повернулся и стал смотреть на меня с ужасом, будто уже предвкушал волнения.
— Это он?
Но у мадам Розы голова варила как полагается и даже лучше. Она заработала веером, глядя на мосье Юсефа Кадира так, словно тоже кое-что предвкушала заранее.
Она помахала веером, помолчала, а потом обернулась к Мойше:
— Мойше, поздоровайся со своим папочкой.
— Здоров, пап, — с готовностью откликнулся Мойше, прекрасно зная, что он, Мойше, не араб и ему не в чем себя упрекнуть.
Мосье Юсеф Кадир сделался белее некуда.
— Простите? Я не ослышался? Вы сказали «Мойше»?
— Да, я сказала «Мойше», ну так что из того?
Хмырь вскочил. Словно на него что-то очень сильно подействовало.
— Мойше — имя еврейское, — заговорил он. — Это я знаю твердо, мадам. Мойше — не мусульманское имя. Конечно, и такие имена бывают, но только не в моей семье. Я поручил вам Мухаммеда, мадам, я не поручал вам никакого Мойше. Я не могу сына-еврея, мадам, мне здоровье этого не позволяет.
Мы с Мойше переглянулись, но нам удалось не заржать.
Мадам Роза вроде бы как удивилась. Потом сделала еще более удивленный вид. И принялась обмахиваться веером. Наступило глубокое молчание, в котором происходило много чего. Этот хмырь все стоял, но весь трясся, с головы до ног.
— Ц-ц-ц, — зацокала языком мадам Роза, качая головой. — Вы уверены?
— Уверен в чем, мадам? Я совершенно ни в чем не уверен, не для того мы явились в этот мир, чтобы быть в чем-то уверенными. У меня ранимое сердце. Я говорю вам лишь о том, что знаю. Знаю я совсем чуть-чуть, но уж на этом буду стоять до конца. Одиннадцать лет назад я поручил вам сына-мусульманина трех лет от роду, по имени Мухаммед. Вы дали мне расписку на мусульманина, Мухаммеда Кадира. Я мусульманин, мусульманин и мой сын. Мусульманкой была и его мать. Скажу даже больше: я отдал вам сына-араба, по всем статьям араба, и хочу, чтобы мне и вернули сына-араба. Я совершенно не желаю сына-еврея, мадам. Я не желаю его, и точка. Мне этого не позволяет здоровье. Был Мухаммед Кадир, а не Мойше Кадир, мадам, я не хочу снова потерять рассудок. Я ничего не имею против евреев, мадам, да простит им Господь. Но я араб, мусульманин, и сын у меня был точно такой же. Мухаммед, араб, мусульманин. Я доверил вам сына в хорошем, мусульманском состоянии и хочу, чтобы вы возвратили мне его в таком же. Позволю себе заметить, что я не в силах переносить подобные волнения. Я всю свою жизнь подвергался преследованиям, у меня есть медицинские документы, которые подтверждают и удостоверяют, что от этого у меня даже появилась мания преследования.
— Но в таком случае вы, может, все-таки еврей? — с надеждой спросила мадам Роза.
У мосье Юсефа Кадира лицо несколько раз дернулось в нервных конвульсиях, словно волны пробежали.
— Мадам, я не еврей, но меня все равно преследуют. У вас нет на это монополии. С вашей монополией покончено, мадам. Есть и другие люди, помимо евреев, которые тоже имеют право на то, чтобы их преследовали. Я хочу своего сына Мухаммеда Кадира в виде араба, каким я доверил его вам под расписку. Я не хочу сына-еврея ни под каким предлогом, я и без того хлебнул горя.
— Хорошо, не волнуйтесь так, тут, возможно, произошла ошибка, — сказала мадам Роза, видя, что хмыря аж прямо трясет; его даже становилось жалко, если вспомнить, сколько всякого арабам и евреям уже довелось выстрадать вместе.
— Ну конечно же, произошла ошибка, о Господи, — воскликнул мосье Юсеф Кадир и был вынужден присесть — ноги уже отказывались его держать.
— Момо, принеси-ка мне бумаги, — велела мне мадам Роза.
Я выволок из-под кровати большой семейный чемодан. Поскольку я часто рылся в нем в поисках матери, никто лучше меня не разбирался в царившем там бардаке. Мадам Роза заносила детей шлюх, которых принимала на пансион, на такие клочки бумаги, где вообще ничего нельзя было разобрать, потому что соблюдение тайны ставилось у нас превыше всего, и заинтересованные лица могли спать спокойно. Никто не мог выдать их как матерей, занимающихся проституцией, чтобы их лишили родительских прав. Объявись какой-нибудь сводник, который захотел бы шантажировать этим женщин, чтобы отправить в Абиджан, он не нашел бы там ни одного ребенка, даже если бы провел специальное исследование.
Я протянул всю бухгалтерию мадам Розе, и та, послюнив палец, принялась искать, глядя сквозь очки.
— Вот, нашла, — торжествующе сказала она, ткнув пальцем в бумажку. — Седьмого октября пятьдесят шестого года с хвостиком.
— Как это «с хвостиком»? — жалобно проблеял мосье Юсеф Кадир.
— Для ровного счету. В тот день я приняла двух мальчиков, одного мусульманского вероисповедания, а другого — еврейского…
Она призадумалась, и лицо ее озарилось пониманием.
— Вон оно что, теперь все ясно! — с удовольствием объявила она. — Должно быть, я ошиблась, я ошиблась религией.
— Как-как? — встрепенулся мосье Юсеф Кадир, задетый за живое. — Как это?
— Видимо, я воспитала Мухаммеда как Мойше, а Мойше — как Мухаммеда, — пояснила мадам Роза. — Я приняла их в один день и перепутала. Маленький Мойше, настоящий, теперь живет в хорошей мусульманской семье в Марселе, где к нему прекрасно относятся. А вашего маленького Мухаммеда, присутствующего здесь, я воспитала евреем. Бармицвэ [[15] ] и все прочее. Он всегда кушал кошерное, тут уж вы можете быть спокойны.
— То есть как он всегда кушал кошерное? — заблажил мосье Юсеф Кадир, который не в силах был даже подняться со стула, до того сокрушительной оказалась для него эта новость. — Мой сын Мухаммед всегда кушал кошерное? У него был бармицвэ? Моего сына Мухаммеда превратили в еврея?
— Я ошиблась в установлении личности, — продолжала объяснять мадам Роза. — Установить личность, знаете ли, тоже можно с ошибкой, не такое уж это бесспорное дело. А в трехлетнем карапузе не так уж много личности, даже если он обрезанный. Запуталась я в этих обрезанных и воспитала вашего маленького Мухаммеда настоящим маленьким евреем — тут уж вы можете быть спокойны. Да что тут говорить, бросают сына на одиннадцать лет, ни разу не навестив, а потом еще удивляются, что он перестал быть арабом…
— Но ведь мне было клинически невозможно! — простонал мосье Юсеф Кадир.
— Да что тут такого особенного, ну, был он арабом, теперь он немножко еврей, но это по-прежнему ваш сынишка, — сказала мадам Роза с доброй материнской улыбкой.
Хмырь встал. Возмущение, видно, придало ему сил, и он встал.
— Я хочу своего сына-араба! — проревел он. — Я не хочу сына-еврея!
— Но ведь это один и тот же, — ободряюще заметила мадам Роза.
— Он не тот же. Мне его окрестили!
— Тьфу, тьфу, тьфу! — расплевалась мадам Роза — всему ведь есть предел. — Да не крестили его, упаси нас от этого Господь. Мойше — настоящий маленький еврей. Мойше, ты ведь правда настоящий маленький еврей?
— Да, мадам Роза, — с готовностью ответил Мойше, которому на религию было наплевать точно так же, как и на отца с матерью.
Мосье Юсеф Кадир оглядел нас глазами, в которых метался ужас. Потом с отчаянием принялся притопывать ногой, словно отплясывал на месте какой-то танец.
— Я хочу, чтобы мне вернули моего сына в том же виде, в каком я его оставил! Я хочу сына в хорошем, арабском состоянии, а не в плохом, еврейском!
— Какая разница — арабы или евреи, у нас это не в счет, — заявила мадам Роза. — Если хотите сына, то и получайте его в том виде, в каком он есть. А то сначала вы убиваете мать малыша, после объявляете себя психическим, а потом устраиваете очередное представление, потому что ваш сын, видите ли, вырос евреем. Умерьте свой аппетит! Мойше, иди обними своего папеньку, даже если это его доконает, ведь это как-никак твой отец!
— Давай-давай, нечего отлынивать, — поддакнул я, потому что был чертовски доволен тем, что мне стало на четыре года больше.
Мойше сделал шаг к мосье Юсефу Кадиру, и тот сказал ужасную вещь для человека, который не знает, что он прав.
— Это не мой сын! — прокричал он. Тоже мне, трагедию устроил.
Он шагнул к двери, проявляя независимость своей воли. Вместо того чтобы выйти, как он ясно выказывал намерение, он сказал «ах», потом «ох», положил руку слева, где сердце, и рухнул на пол, словно ему больше нечего было сказать.
— Гляди-ка, чего это с ним? — спросила мадам Роза, обмахиваясь японским веером, потому что ничего другого делать не оставалось. — Что с ним такое? Надо посмотреть.
Никто не знал, умер ли он, или то было лишь на время, потому что он не подавал никаких признаков. Мы подождали, но он упорно отказывался шевелиться. Мадам Роза уже начинала паниковать, потому что меньше всего на свете нам была нужна полиция, которая если уж начнет, то никогда и не кончит. Она послала меня привести кого-нибудь, чтобы что-нибудь сделать, но я прекрасно видел, что мосье Кадир Юсеф совершенно мертв, — на лице его разливалось то великое спокойствие, какое нисходит на тех, кому уже не о чем беспокоиться. Я ущипнул мосье Юсефа Кадира там и сям и поднес ему к губам зеркало, но у него уже не было никаких проблем. Мойше, само собой, тут же сделал ноги, потому что всегда норовит сбежать, а я помчался к братьям Заом — сказать им, что у нас случился мертвец и его нужно вынести на лестницу, чтоб он умер не у нас. Братья пришли и положили его на площадку третьего этажа, под дверь мосье Шарметту, который, как француз с гарантированным происхождением, мог себе такое позволить.
Я все-таки снова спустился туда, сел рядом с мертвым мосье Юсефом Кадиром и побыл там не много, хотя мы уже ничего и не могли друг для друга сделать.
Нос у него был куда длиннее моего, но за свою жизнь нос всегда удлиняется.
Я порылся в его карманах, чтобы посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на память, но у него была только пачка сигарет «Голуаз бле». Внутри еще оставалась одна, и я выкурил ее, сидя рядом с ним, потому что все остальные из этой пачки выкурил он, и это для меня кое-что значило — выкурить последнюю.
Я даже немного поревел. Мне это было приятно — вроде как у меня появился кто-то свой, кого я потерял. Потом я услышал полицейскую сирену и быстро слинял наверх, чтобы не наживать неприятностей.
Мадам Роза все еще тряслась от страха, и мне стало спокойней оттого, что я вижу ее в этом состоянии, а не в том, другом. Нам вообще здорово повезло. Иногда ее хватало лишь на два-три часа в день, и мосье Кадир Юсеф попал удачно.
Я был все еще ошарашен теми четырьмя годами, что свалились мне на голову, и не знал, какое мне теперь делать выражение на лице, я даже посмотрелся в зеркало. Это было самое важное событие в моей жизни — такое называют переворотом. Я не представлял, как себя теперь вести, — так бывает всегда, когда становишься другим. Я понимал, что уже не смогу думать, как раньше, но пока предпочитал вообще не думать.
— О Господи, — только и сказала мадам Роза, и мы постарались больше не разговаривать о случившемся, чтобы не бередить душу. Я сел на табуретку у нее в ногах и взял ее за руку с благодарностью за все то, что она сделала, чтобы я остался у нее. У нас с ней только и было на свете что она да я, и мы это как-никак отстояли. Лично я думаю, что когда живешь с кем-то очень уродливым, в конце концов начинаешь его любить еще и за то, что он уродливый. По-моему, больше всех нуждаются в ком-то самые что ни на есть уроды, и как раз с ними тебе может повезти больше всего. Теперь, когда я вспоминаю, я говорю себе, что мадам Роза была не такой уж и уродиной, у нее замечательные карие глаза, как у преданной собаки, просто не следовало воспринимать ее как женщину, потому что тут она, конечно, всегда оказывалась в проигрыше.
— Ты расстроился, Момо?
— Да нет, мадам Роза, я рад, что мне четырнадцать лет.
— Так оно и лучше. И потом, отец с психиатрическим прошлым — это далеко не то, что тебе нужно, ведь иногда такое передается по наследству.
— Это верно, мадам Роза, мне подфартило.
— И к тому же, знаешь ли, Айша проворачивала уйму этих дел, так что поди-ка разберись, кто там отец. Она заимела тебя мимоходом — крутилась как белка в колесе.
Потом я сходил вниз, купил ей шоколадное пирожное у мосье Дрисса, и она его съела.
Ремиссия, как выражается доктор Кац, продолжалась у нее еще несколько дней. Дважды в неделю братья Заом на одной из своих спин поднимали к нам доктора Каца, который не мог позволить себе топать на седьмой этаж, чтобы констатировать очередные повреждения в ее организме. Ведь не следует забывать, что у мадам Розы помимо головы имелись и прочие органы, и за всеми ними тоже надо было присматривать. Я не любил торчать там, пока доктор Кац подсчитывал убытки, я всегда выходил на улицу и ждал.
Как-то раз мимо проходил Негр. Его звали так по малоизвестным причинам — скорее всего, чтобы отличать от других черных в квартале, потому что всегда кому-то одному достается больше, чем остальным. Он среди них самый тощий, носит котелок, и ему пятнадцать лет, из которых самое малое пять — без никого. У него когда-то были родители, которые поручили его дядьке, тот всучил его свояченице, а та подсунула его кому-то, кто творил добро, а потом цепь внезапно оборвалась, и концы в воду. Но он не кололся, он говорил, что он злопамятный и не желает подчиняться этому обществу. В квартале Негр был известен как мальчик на побегушках, потому что стоил дешевле, чем телефонный разговор. Иногда он мотался туда-сюда раз по сто на день, зато у него была даже собственная каморка. Он сразу увидел, что я не в лучшей олимпийской форме, и предложил поиграть в «беби» в бистро на улице Биссон, где стояла эта штука. Он спросил меня, что я буду делать, когда мадам Роза протянет ноги, и я сказал, что у меня есть кое-кто на примете. Но он понимал, что я заливаю. Я похвастался, что мне только что враз прибавилось четыре года, и он поздравил меня. Мы немного порассуждали о том, как можно самому бороться за жизнь, если тебе четырнадцать или пятнадцать лет и у тебя никого нет. Он знал адресочки, куда в таком случае податься, но сказал, что такие вещи должны нравиться, иначе уж больно мерзостно. Лично он никогда не собирался зарабатывать на жизнь таким способом, потому что это ремесло не для мужчин. Мы выкурили сигарету и поиграли в «беби», но у Негра были еще ходки, а я не из приставучих.
Когда я поднялся наверх, доктор Кац был еще там и пытался уговорить мадам Розу лечь в больницу. Пришли и другие люди: мосье Заом-старший, мосье Валумба, свободный от дежурства, и пятеро его приятелей по общежитию, потому что подступающая смерть делает человека значительней и его начинают больше уважать. Доктор Кац врал как зубодер, чтобы воцарить в доме хорошее настроение, потому что моральный дух тут тоже очень важен.
— А-а, вот и наш маленький Момо пришел узнать, что новенького! Что ж, новости хорошие, рака по-прежнему нет, могу вас всех успокоить, ха-ха!
Все улыбались, а особенно мосье Валумба, который хорошо разбирался в психологии, и мадам Роза тоже была довольна, потому что хоть в чем-то да преуспела в жизни.
— Но порой нам бывает трудновато, потому что наша бедная головушка иногда лишается кровоснабжения, да и почки с сердчишком у нас уже не те, что прежде, так что лучше бы нам все-таки провести некоторое время в больнице, в просторной и светлой палате, где в конце концов все уладится!
У меня от слов доктора Каца прямо спина заледенела. Все в квартале знали, что в больнице избавиться от жизни невозможно, даже если человек ужасно мучается, и что они насильно заставят тебя жить, пока ты еще не сгнил до конца и пока есть куда воткнуть иглу. Медицина должна оставлять за собой последнее слово и биться до конца, чтобы не дать свершиться воле господней. Мадам Роза надела свое синее платье и вышитую шаль, еще не потерявшую ценности, и была страшно довольна, что представляет интерес. Мосье Валумба заиграл на своем музыкальном инструменте, потому что наступил и впрямь трудный момент — знаете, когда никто ни для кого ничего не может. Я тоже улыбался, но внутри мне просто подохнуть хотелось. Иногда я чувствую, что жизнь не такая, какой кажется, ну совсем не такая, уж поверьте моему опыту старика. Потом они все вышли, гуськом и молча, потому что бывают минуты, когда говорить больше не о чем. Мосье Валумба извлек для нас еще несколько нот, но они ушли вместе с ним.
И вот мы с ней остались одни, чего я никому не пожелаю.
— Ты слышал, Момо? Вот уж и о больнице заговорили. А что будет с тобой?
Я принялся насвистывать — а что я еще мог сказать?
Я повернулся к ней, собираясь выдать ей первое, что в башку взбредет, но тут мне повезло, потому что как раз в этот момент в голове у нее заклинило, и потом она оставалась в отключке два дня и три ночи, не отдавая себе отчета. Но сердце продолжало делать свое дело, и она была еще, так сказать, жива.
Позвать доктора Каца или хотя бы соседей я не решался, уверенный, что на этот раз нас точно разлучат. Я просидел с ней рядом сколько мог, не отходя ни по нужде, ни чего-нибудь куснуть. Я хотел быть рядом, когда она вернется, чтобы оказаться первым, что она увидит. Я прикладывал руку к ее груди и чувствовал ее сердце, несмотря на все разделявшие нас килограммы. Зашел Негр, потому что меня нигде не было видно, и долго смотрел на мадам Розу, дымя сигаретой. Потом он порылся в кармане и протянул мне картонку. Там было отпечатано: «Бесплатно забираем отслужившую мебель, тел. 278-78-78». Потом он хлопнул меня по плечу и ушел.
На второй день я сбегал за мадам Лолой, и та поднялась к нам с дисками поп-музыки, которые орали дай Боже — мадам Лола говорила, что они и мертвого разбудят, — но и это не помогло. Перед нами был тот самый овощ, о котором доктор Кац предупреждал в самом начале, и мадам Лола до того разволновалась, видя свою приятельницу в таком плачевном состоянии, что впервые не поехала на ночь в Булонский лес, невзирая на понесенные из-за этого убытки. Вот это настоящий человек, и когда-нибудь я ее навещу.
Пришлось оставить старуху в кресле. Даже мадам Лола с ее боксерским прошлым не смогла ее поднять.
Самое грустное в таких отключках — что неизвестно, сколько это с человеком будет продолжаться. Доктор Кац говорил мне, что рекорд мира — у одного американца, который удерживал его семнадцать лет с хвостиком, но для этого нужны секунданты и специальные установки, вливающие каплю за каплей. Страшно было подумать, что мадам Роза может стать чемпионом мира, ведь она и так хлебнула горюшка, и побитие рекордов интересовало ее меньше всего на свете.
Мадам Лола такая участливая, каких мало. Она всегда хотела иметь детей, но я вам уже объяснял, что она для этого не приспособлена, как и большинство перевертышей, которые насчет детей не в ладах с законами природы. Она пообещала, что будет обо мне заботиться, она посадила меня на колени и принялась напевать свои сенегальские колыбельные. Во Франции колыбельные тоже есть, но мне ни разу не доводилось их слышать, потому что младенцем я никогда не был, у меня хватало других забот. Я извинился: мне уже стукнуло четырнадцать, и в дочки-матери со мной не поиграешь, это выглядело бы странно. Потом она ушла готовиться к работе, а мосье Валумба выставил вокруг мадам Розы часовых из своего племени, и они даже зажарили целиком барашка, которого мы слопали как на пикнике, сидя вокруг старухи прямо на полу. Это было здорово — как будто ты за городом.
Мы попытались покормить мадам Розу, заранее прожевывая для нее мясо, но она так и сидела с кусками, наполовину торчащими изо рта, бессмысленно уставившись на нас своими добрыми еврейскими глазами. Ну и ладно, жира на ней было достаточно, чтобы прокормить себя и даже все племя мосье Валумбы. Правда, те времена прошли, они больше людей не едят. В конце концов, поскольку царило хорошее настроение и они выпили пальмового вина, все принялись плясать под музыку вокруг мадам Розы. Соседи на шум не жаловались, потому что они не из тех, кто жалуется, и к тому же среди них нет ни одного, у кого документы были бы в порядке. Мосье Валумба немного попоил мадам Розу пальмовым вином, которое продается на улице Биссон в лавке мосье Сомго вместе с орехами кола, без которых тоже не обойтись, особенно в случае свадьбы. Пальмовое вино должно было пойти мадам Розе на пользу, потому что оно ударяет в голову и открывает пути кровоснабжению, но это совершенно ничего не дало, разве только она слегка раскраснелась. Мосье Валумба сказал, что главное — это усердней тамтамить, чтобы отогнать смерть, которая уже, видно, на подходе и которая страсть как боится тамтамов, на что у нее свои причины. Тамтамы — это такие маленькие барабаны, по которым колошматят ладонями, и это продолжалось всю ночь.
На следующий день я был уже уверен, что мадам Роза пошла на побитие мирового рекорда и нам не избежать больницы, где с ней будут делать все, что смогут. Я ушел из дому и отправился бродить по улицам, размышляя о Боге и прочих подобных штуковинах, потому что мне хотелось уйти еще дальше. Для начала я двинул по улице Понтье, в тот зал, где умеют заставить мир раскручиваться назад. И еще мне хотелось снова увидеть ту светловолосую милашку, от которой пахнет свежестью, — я вам про нее, кажется, рассказывал, ее зовут Надин или как-то там еще. Может, это и не очень красиво по отношению к мадам Розе, но что же вы хотите. Мне было так пусто, что я даже не чувствовал четырех лишних лет, которые выиграл, — мне было будто все те же десять, я еще как следует не привык.
Так вот, вы не поверите, но она ждала меня в том зале, хотя я не из тех, кого ждут. Она была там, и я почти почувствовал вкус ванильного мороженого, которое она для меня тогда заказывала.
Она не видела, как я вошел, она как раз говорила в микрофон слова любви, а это всегда захватывает. На экране женщина шевелила губами, но говорила за нее другая, моя. Это она давала той голос. Техника такая.
Я притулился в углу и стал ждать. Пусто было так, что я заревел бы, не будь мне на четыре года больше. Но даже и с ними я с трудом сдерживался. Зажегся свет, и малышка меня заметила. В зале было не так уж светло, но она все равно сразу меня узнала, и тут меня вдруг прорвало, я не смог сдержаться.
— Мухаммед!
Она бросилась ко мне, словно я кем-то для нее был, и обняла за плечи. Остальные вытаращили глаза — имя-то арабское.
— Мухаммед! Что случилось? Почему ты плачешь? Мухаммед!
Мне не очень нравилось, что она называет меня Мухаммедом, потому что так куда длиннее, чем Момо, ну да чего уж там.
— Мухаммед! Ответь мне! Что случилось?
Сами посудите, легко ли такое рассказать. Не с чего было даже начать. Я заглотнул побольше воздуху.
— Случилось… ничего не случилось.
— Послушай, на сегодня я закончила, едем ко мне, там все и расскажешь.
Она побежала за плащом, и мы поехали на ее машине. Время от времени она оборачивалась, чтобы мне улыбнуться. Пахло от нее до того хорошо, что даже не верилось. Она видела, что я не в лучшей олимпийской форме, на меня даже икота напала, но ничего не говорила — к чему говорить? — только иногда благодаря красному светофору касалась ладонью моей щеки, отчего в таких случаях всегда как-то легче. Мы приехали по ее адресу на улицу Сент-Оноре, и она зарулила во двор.
Мы поднялись к ней, и там оказался какой-то тип, незнакомый. Высокий, с длинными волосами и в очках. Он пожал мне руку и ничего не сказал, словно это самое обычное дело. Он был совсем молодой, от силы раза в два или три старше меня. Я огляделся, готовый увидеть тех двоих светлоголовых пацанов, которые у них уже имелись, и услышать, что тут во мне не нуждаются, но там был только песик и тоже не злой.
Они поговорили промеж себя на непонятном для меня языке, английском, а потом угостили меня чаем с бутербродами, отменно вкусными, и тут уж я отвел душеньку. Они подождали, пока я не налопаюсь, словно у них других дел не было, а потом этот тип заговорил со мной, дескать, не лучше ли мне, и я попытался тоже что-то сказать, но внутри накопилось столько всего, что я не мог даже толком продохнуть и мучился икотой и астмой, как мадам Роза, потому что астма — это заразительно.
Битых полчаса я оставался нем, как карп по-еврейски, только икал, и тот тип сказал, что я в шоковом состоянии, и слышать это было приятно, я их, выходит, заинтересовал. После я встал и сказал им, что должен возвращаться, поскольку есть один человек в полнейшем запустении, который во мне сильно нуждается, но малышка по имени Надин сходила на кухню и вернулась оттуда с ванильным мороженым, а это самая вкусная вещь, какую мне доводилось есть в моей паскудной жизни, это я точно вам говорю.
После этого мы поболтали немного, потому что мне стало хорошо. Когда я объяснил им, что упомянутый человек — это старая заброшенная еврейка, которая решила побить все мировые рекорды, и передал то, что доктор Кац рассказывал мне про овощи, они обменялись несколькими словами, которые я слышал и раньше, — маразм и церебральный склероз, — и я был доволен, потому что говорили о мадам Розе, а это мне всегда приятно. Я объяснил им, что мадам Роза — это бывшая шлюха, которая вернулась после депортации из еврейского общежития в Германии и открыла подпольный пансион для детей шлюх, которых можно шантажировать лишением родительских прав за нарушение законов проституции и которым приходится хорошенько прятать своих детей, потому что всегда найдутся подонки соседи, готовые донести на тебя в Общественное призрение. Понятия не имею, почему мне вдруг сделалось лучше, когда я стал им рассказывать. Я удобно сидел в кресле, и тот парень даже предложил мне сигарету и огоньку от своей зажигалки и слушал меня так, будто я и впрямь кое-что значу. Это я не для красного словца, я и вправду видел, что произвожу на них впечатление. Меня понесло, и остановиться я уже не мог, так мне захотелось выложить все, но это, понятное дело, было невозможно, потому что я не мосье Виктор Гюго, я еще для этого недостаточно оснащен. Из меня перло про все понемногу, потому что я все время тянул за первую попавшуюся нитку, рассказывая то про мадам Розу в запустении, то про отца, который убил мать, потому что был психический, но надо вам сказать, что я так до сих пор и не сумел разобраться, где все это начинается, а где кончается, потому что, по-моему, жизнь знай себе продолжается и продолжается. Мою мать звали Айша, она боролась за жизнь на панели и делала до двадцати выходов на день, пока не доигралась до того, что ее убили в припадке безумия, но не следует думать, что я непременно с наследственностью, ведь мосье Кадир Юсеф не мог поклясться, что он мой отец. Дружка мадам Надин звали Рамон, и он сказал мне, что он немного врач и не очень-то верит в наследование и что мне не стоит на это рассчитывать. Он снова дал мне огоньку от своей зажигалки — моя сигарета потухла — и сказал, что быть сыном шлюхи — это чем-то даже лучше, потому что можешь выбирать себе какого хочешь отца, ты ничем не связан. Он сказал мне, что бывало много таких вот случайных рождений, которые впоследствии оборачивались к лучшему и, получались стоящие парни. Я согласился с ним, ведь раз ты уже есть, делать нечего, это не то что в зале мадам Надин, где все можно пустить обратным ходом и даже вернуться в утробу матери, но самое паршивое — это что запрещено избавлять от жизни старых людей вроде мадам Розы, которые уже по горло этой жизнью сыты. Мне и вправду делалось все лучше и лучше, когда я им рассказывал, потому что стоило мне что-нибудь выложить, как начинало казаться, что плохого случилось меньше. Этот парень, который звался Рамоном и на вид был ничего себе, во время моего рассказа все возился со своей трубкой, но я отлично видел, что интересую-то его я. Мне только не хотелось, чтобы малышка Надин оставляла нас с ним один на один, потому что тогда все было уже не так в смысле симпатии. Ее улыбка целиком предназначалась мне. Когда я рассказал им, каким образом мне враз стало четырнадцать лет, тогда как еще накануне было десять, то заработал еще очко, так они заинтересовались. Я уже не мог остановиться, до того их интересовал. И постарался их заинтересовать еще больше, чтоб они почувствовали, что, слушая меня, занимаются важным делом.
— Однажды меня пришел забрать отец, он когда-то отдал меня на пансион к мадам Розе, еще до того, как убил мою мать и был признан психическим. У него были и другие шлюхи, которые на него работали, но убил он мою мать, потому что предпочитал ее остальным. Он пришел и стал требовать меня, когда его выпустили из психушки, но мадам Роза знать ничего не захотела, потому что для меня вовсе не блеск иметь психического папашу, это может стать наследственным. И сказала ему, что его сын — это Мойше, еврей. Правда, и у арабов был Мойше, но тот не еврей, его еще называют Моисеем, он у них пророк. Вот только, понимаете, сам-то мосье Юсеф Кадир был арабом и мусульманином, и когда ему вернули сына-еврея, он сделал из этого трагедию и помер…
Доктор Рамон тоже слушал внимательно, но особенное удовольствие доставляла мне мадам Надин.
— …Мадам Роза — самая уродливая и самая одинокая женщина на свете, и хорошо еще, что ей подвернулся я, потому что никому другому она бы не понадобилась. Я не понимаю, почему у одних есть все: уродство, старость, нищета и болезни, а у других ну совсем ничего нет. Это несправедливо. У меня есть друг, так он начальник всей полиции, и у него самые сильные на свете силы безопасности, он во всем самый сильный, это самый великий фараон, какого вы только можете себе вообразить. Он до того силен, что может сделать все что угодно, как король. Когда мы вдвоем шагаем по улице, он обнимает меня за плечи, чтобы все видели, что он заместо отца. А еще в детстве у меня была львица, которая по ночам иногда приходила и вылизывала мне лицо. Мне было только десять, и я воображал невесть что, а в школе сказали, что я с приветом, потому что не знали, что мне на четыре года больше: у меня еще не было настоящего дня рождения, тогда мосье Юсеф Кадир еще не приходил, чтобы объявить себя моим отцом, и не показывал расписку в подкрепление. Это мосье Хамиль, известный торговец коврами, научил меня всему, что я знаю, а теперь он ослеп. У мосье Хамиля всегда при себе Книга мосье Виктора Гюго, и когда я вырасту большой, я тоже напишу отверженных, потому что такое пишут всегда, когда есть что сказать. Мадам Роза боится, что у меня случится припадок и я перережу ей горло или причиню какой другой вред, потому что подозревает меня в наследственности. Но найдите-ка хоть одного шлюхиного сына, который мог бы точно сказать, кто его отец, а я никогда не буду убивать людей, не для того они предусмотрены. Когда я вырасту большой, в моем распоряжении будут все силы безопасности, и мне никогда не будет страшно. Жаль, что нельзя пустить жизнь наоборот, как в вашем зале дубляжа, чтоб она отступила назад и мадам Роза стала молодой и красивой, как на фотокарточке. Иногда я подумываю, а не уехать ли отсюда вместе с цирком, где у меня друзья-клоуны, но не могу этого сделать и послать все к чертям собачьим, пока старуха жива, потому что я обязан о ней заботиться…
Я заводился все больше и больше и уже не мог остановиться, боясь, что тогда они перестанут меня слушать. У этого доктора Рамона — так его звали — глаза под очками были из тех, что все время на тебя смотрят, и в какой-то момент он даже встал и включил магнитофон, чтобы лучше меня слушать, и я почувствовал себя таким значительным, что даже не верилось. У него на голове была целая копна волос. Впервые я оказался достойным интереса и меня даже записывали на магнитофон. Лично я до сих пор не знаю, что нужно сделать, чтобы стать достойным интереса: убить кого-нибудь, захватить заложников или еще чего, откуда мне знать. Эхма, клянусь вам, на свете так не хватает внимания, что и тут приходится выбирать, как на каникулах, когда нельзя поехать сразу и в горы, и к морю. Приходится решать, на что же все-таки обратить внимание, а поскольку выбор тут громадный, клюют всегда на самое яркое и дорогостоящее — к примеру, на нацистов, которые обошлись в миллионы людей, или на Вьетнам. Поэтому старая еврейка на седьмом этаже без лифта, которая и так уже слишком настрадалась в прошлом, чтобы ею еще интересовались, — это вовсе не то, что может пойти на первые полосы. Нужны миллионы и миллионы, чтобы у людей пробудился интерес, и трудно их в этом упрекнуть, потому что никому неохота разбрасываться по мелочам.
Я развалился в кресле и толкал речь, прямо как король, и самое смешное, что они слушали меня так, словно никогда ничего подобного не слыхивали. Но говорил я в основном для доктора Рамона, потому что малышка — та, по-моему, слушала через силу, а иногда даже казалось, будто ей хочется заткнуть себе уши. Это меня немного смешило, ведь жить-то все одно надо, никуда не денешься.
Доктор Рамон спросил меня, что я имею в виду, когда говорю о человеке в запустении, и я ответил, что это когда у него нет ничего и никого. Потом ему захотелось узнать, как мы выкручивались с тех пор, как шлюхи перестали отдавать нам на пансион малышей, но на этот счет я его сразу успокоил и сказал, что честь — это самое святое, что только есть у мужчины, мадам Роза объяснила мне это еще тогда, когда я толком не знал что почем. Этим способом я за жизнь не борюсь, он может быть спокоен. Просто у нас есть приятельница, мадам Лола, которая работает перевертышем в Булонском лесу, так она здорово нам помогает. Будь все такие, как она, мир стал бы совсем-совсем другим и несчастий куда как поубавилось бы. Она была чемпионом по боксу в Сенегале, перед тем как стать перевертышем, и зарабатывает достаточно денег, чтобы растить собственных детей, если бы против нее не ополчилась природа.
По тому, как они меня слушали, я понял, что к жизни они непривычны, и рассказал им, как работал сутилером на улице Бланш, чтобы разжиться мелочишкой. Я до сих пор заставляю себя говорить «сутенер», а не «сутилер», как в сопливом детстве, — уж больно привык. Иногда доктор Рамон говорил своей подружке что-то политическое, но я не особо понимал, потому что политика — это не для молодых.
Чего я им только не понарассказал, а мне все хотелось продолжать, столько еще оставалось такого, что нужно было выплеснуть наружу. Но я умаялся и даже начал видеть перед собой подмигивавшего мне голубого клоуна, как бывало часто, когда хотелось спать, и я боялся, как бы они его тоже не увидели и не подумали, что я с придурью или что-нибудь в этом роде. У меня уже не получалось рассказывать как прежде, и они заметили, что я умаялся, и сказали, что я могу заночевать у них. Но я им объяснил, что сейчас мне нужно идти заботиться о мадам Розе, которая скоро должна умереть, а тогда видно будет. Они дали мне еще бумажку с их фамилией и адресом, и малышка Надин сказала, что подбросит меня на машине и доктор поедет с нами взглянуть на мадам Розу — вдруг он сможет для нее что-нибудь сделать. Я не представлял, что еще можно сделать для мадам Розы после всего, что для нее уже сделали, но не прочь был доехать до дому на машине. Да только тут случилась одна смешная штука.
Мы собирались уходить, как кто-то позвонил в дверь пять раз подряд, и когда мадам Надин открыла, я увидел тех пацанов, которых уже знал и которые тут у себя дома, ничего не попишешь. Это ее дети — они вернулись из школы или еще откуда-то в этом роде. Белокурые такие и прибарахлены как на картинке, в такие шикарные шмотки, каких даже и не стырить, потому что в магазинах самообслуживания на полках они не лежат, а продаются внутри дорогих магазинов, и чтобы до них добраться, нужно преодолеть заслон из продавщиц. Они сразу же уставились на меня так, словно я из навоза. Вид у меня, конечно, был не ахти, это я сразу почувствовал. Кепка вечно стояла дыбом, потому что у меня слишком много волос на затылке, а пальтишечко доходило до пят. Когда одежду воруешь, примерять некогда, время поджимает. Ладно, они ничего не сказали, но мы были явно из разных курятников.
Я никогда еще не видел таких светловолосых пацанов, как эти двое. И клянусь вам, ими не очень-то пользовались, с виду они были как новенькие. Они и вправду были из совсем другой жизни.
— Идите, я познакомлю вас с нашим другом Мухаммедом, — сказала им мать.
Не стоило бы ей говорить «Мухаммед», лучше бы ей сказать «Момо». «Мухаммед» — это во Франции все равно что «арабский ублюдок», а когда такое говорят, то зло берет. Мне не стыдно быть арабом, наоборот, но Мухаммед во Франции — значит, дворник или чернорабочий. Это даже не то же самое, что алжирец. И потом, Мухаммед — это просто смешно. Это все равно как прозываться Иисусом Христом: все так и покатятся со смеху.
Оба пацана тут же ко мне подошли. Который помладше — ему было лет шесть или семь, потому что другой выглядел примерно на десять, — вылупился на меня так, словно никогда ничего похожего не видел, а потом сказал:
— А почему он так одет?
Я не для того пришел, чтоб меня оскорбляли. Я и так отлично знал, что я не у себя дома. А тут еще второй вылупился на меня еще больше и спросил:
— Ты араб?
Черт меня побери, я никому не позволяю обзывать себя арабом. И к тому же упорствовать не имело смысла, я не ревновал и ничего такого, но это место явно не про меня, и потом, малышка уже при деле, тут ничего не попишешь. У меня вспухла какая-то фигня в горле, я ее сглотнул, а потом выскочил за дверь и задал деру.
Мы из разных курятников, чего уж там.
Я остановился у кино, но шел фильм, запрещенный для несовершеннолетних. Даже смешно становится, когда подумаешь о тех вещах, которые для несовершеннолетних запрещены, а после — обо всех других, на которые они имеют полное право.
Кассирша увидела, что я разглядываю фотографии в витрине, и заорала, чтобы я убирался, оберегая мою юность. Вот же паскуда. Мне уже обрыдли эти запрещения, я распахнул пальто, показал ей свою штуковину и драпанул, потому что для шуток времени не оставалось.
Я прошел по Монмартру, где один sex-shop налезает на другой, но они тоже охраняются, и потом, мне всякая дрянь ни к чему: если захочется возбудиться, я и так это сделаю. Sex-shop — это для стариков, которые уже не могут возбуждаться сами по себе.
В тот день, когда моя мать не сделала аборт, было совершено, я считаю, самое настоящее преступление против человечества. У мадам Розы это выражение с языка не сходило, она получила образование и училась в школе.
Жизнь — она не для всех.
Больше по дороге домой я уже нигде не останавливался, у меня было теперь только одно желание: сесть рядом с мадам Розой, потому что мы с ней по крайней мере с одной и той же помойки.
Когда я пришел, то увидел перед домом санитарную машину и подумал: все, крышка, у меня никого больше нет, но это приехали не за мадам Розой, а за кем-то уже помершим. Я испытал такое облегчение, что разревелся бы, не будь я на четыре года старше. А я-то подумал было, что у меня никого не осталось. Тело принадлежало мосье Буаффе. Мосье Буаффа — это тот самый жилец, про которого я вам еще ничего не говорил, потому что про него и сказать было нечего, он редко показывался. У него приключилась какая-то ерунда в сердце, и мосье Заом-старший, который стоял на улице, сказал мне, что никто не заметил, как он умер, — он даже и почты никогда не получал. Я никогда еще так не радовался, что вижу его мертвым, — это я, конечно, не в обиду ему, а в пользу мадам Розы: значит, на этот раз умирать выпало не ей.
Я взбежал наверх, дверь была открыта, друзья мосье Валумбы ушли, но свет оставили, чтобы мадам Розу было виднее. Она расползлась своими телесами по всему креслу, и вы можете представить себе мою радость, когда я увидел, что по щекам у нее текут слезы, — ведь это доказывало, что она жива. Ее даже слегка сотрясало изнутри.
— Момо… Момо… Момо… — это все, что она в состоянии была из себя выдавить, но с меня и этого хватило.
Я подбежал к ней и обнял. Пахла она неважно, потому что не вставала и ходила под себя. Я обнял ее крепче: не хотел, чтобы она вообразила, будто мне противно.
— Момо… Момо…
— Да, мадам Роза, это я, на меня вы всегда можете рассчитывать.
— Момо… Я слышала… Они вызвали санитарную… Они сейчас придут…
— Это не за вами, мадам Роза, за мосье Буаффой, он уже умер.
— Мне страшно…
— Я знаю, мадам Роза. Значит, вы в самом деле живы.
— Санитарная…
Ей было тяжело говорить, потому что словам, чтобы выходить наружу, тоже нужны мышцы, а у нее все мышцы донельзя износились.
— Это не за вами. Про вас они и знать не знают, что вы здесь, клянусь вам в этом Пророком. Хайрем.
— Они сейчас придут, Момо…
— Не сейчас, мадам Роза. На вас еще не донесли. Вы вполне живы, ведь ходить под себя могут только живые.
Она, похоже, немного успокоилась. Я смотрел ей в глаза, чтобы не видеть остального. Вы не поверите, но глаза у этой старой еврейки были неописуемой красоты. Это как ковры мосье Хамиля, про которые он говорил: «Тут у меня ковры неописуемой красоты». Мосье Хамиль считает, что на свете нет ничего прекрасней, чем хороший ковер, потому что сам Аллах на нем восседает. По-моему, это еще не довод, ведь раз Аллах над нами, то он восседает над огромной кучей дерьма.
— А ведь и правда воняет.
— Значит, внутри у вас все работает как надо.
— Инш’алла, — произнесла мадам Роза. — Скоро я умру.
— Инш’алла, мадам Роза.
— Я рада, что умру, Момо.
— Мы все рады за вас, мадам Роза. У вас здесь одни только друзья. Все желают вам добра.
— Нельзя позволить им отвезти меня в больницу, Момо. Ни в коем случае нельзя.
— Можете быть спокойны, мадам Роза.
— Они в своей больнице насильно заставят меня жить, Момо. У них на это есть законы. Это настоящий Нюрнберг. Впрочем, откуда тебе про него знать, ты слишком мал.
— Я никогда не был слишком мал ни для чего, мадам Роза.
— Доктор Кац донесет на меня в больницу, и они приедут за мной.
Я не ответил. Раз уж даже евреи начали доносить друг на дружку, то соваться в это нечего. Мне-то на евреев плевать, они такие же люди, как все.
— В больнице они меня не избавят.
Я молчал. И держал ее за руку. Хоть в этом не врал.
— Сколько времени они заставили его мучиться, того чемпиона мира из Америки, Момо?
Я прикинулся идиотом.
— Какого еще чемпиона?
— Из Америки. Я слышала, ты рассказывал о нем мосье Валумбе.
Вот же хреновина.
— Мадам Роза, у них в Америке все мировые рекорды, они великие спортсмены. Во Франции, в марсельском «Олимпике» [[16] ], одни иностранцы. Там есть даже бразильцы и не знаю еще кто. Вас они не возьмут. В больницу то есть.
— Ты клянешься мне?
— Пока я здесь, мадам Роза, больница шиш вас получит.
Она почти улыбнулась. Между нами говоря, краше она от этого не становилась, скорее наоборот, потому что это подчеркивало все остальное вокруг. Чего ей особенно не хватало, так это волос. В ту пору на голове у нее оставалось не больше трех десятков волосин.
— Мадам Роза, почему вы мне врали?
Она, похоже, искренне удивилась.
— Я? Я тебе врала?
— Почему вы говорили, что мне десять лет, когда на самом деле четырнадцать?
Вы не поверите, но она слегка покраснела.
— Я боялась, что ты меня покинешь, Момо, поэтому сделала тебя чуточку меньше. Ты всегда был для меня маленьким мужчиной. Никого другого я никогда по-настоящему не любила. И вот я считала года и боялась. Я не хотела, чтобы ты вырос слишком быстро. Прости меня.
Тут я поцеловал ее и, не выпуская ее руки из своей, другой обнял ее за плечи, как будто она была женщиной. Потом пришла мадам Лола со старшим Заомом, и мы ее приподняли, раздели, разложили на полу и помыли. Мадам Лола попрыскала ей везде духами, мы надели на нее парик и кимоно и уложили в чистую постель, и видеть это было одно удовольствие.
Однако мадам Роза портилась изнутри все больше и больше, и даже не могу вам сказать, до чего это несправедливо, когда живешь только потому, что мучаешься. Ее организм уже никуда не годился, и в нем отказывало если не одно, так другое. Нападают всегда на беззащитных стариков, это легче всего, и мадам Роза тоже стала жертвой этой уголовщины. Все ее составные части были дрянными: сердце, печенка, почки, бронхи — среди них не нашлось бы ни одной доброкачественной. Дома остались только она да я, и вокруг, кроме мадам Лолы, не было никого. Каждое утро я заставлял мадам Розу упражняться в ходьбе, чтобы ее размять, и она шаркала от двери к окну и обратно, опираясь мне на плечо, чтобы окончательно не заржаветь. На время ходьбы я заводил ей еврейскую пластинку, которую она очень любила и которая была не такая грустная, как обычно. У евреев, поди узнай отчего, пластинки всегда очень грустные. Так велит ихний фольклор. Мадам Роза часто говорила, что все ее несчастья исходят от евреев и, не будь она еврейкой, она не познала бы и десятой доли тех бед, что ей выпали. Мосье Шарметт прислал ей похоронный венок, потому что не знал, что умер мосье Буаффа, и решил, что это мадам Роза, как ей все желали для ее же блага, и мадам Роза обрадовалась, потому что это вселяло в нее надежду на скорый конец и к тому же такое случилось впервые, чтобы ей доставляли цветы на дом. Племенные братья мосье Валумбы натащили бананов, цыплят, манго, риса и прочего, как это принято у них, когда в семье ожидается радостное событие. Все заставляли мадам Розу верить, что скоро со всем будет покончено, и ей было не так страшно. К ней наведался даже отец Андре, католический кюре африканских общежитий на улице Биссон, но пришел он не как кюре, а сам по себе. Он не делал мадам Розе никаких авансов и вел себя очень корректно. Мы ему тоже ничего не сказали, потому что вы сами знаете, каково с ним, с Господом. Он что хочет, то и творит, потому что сила на его стороне.
Теперь отец Андре уже умер от обрыва сердца, но я думаю, что не сам, ему это устроили. Я вам раньше о нем не говорил, потому что мы с мадам Розой не совсем по его части. Его послали в Бельвиль миссионером, заботиться об африканских рабочих-католиках, а мы не были ни тем ни другим. Он был очень добрый и всегда держался немного виновато, словно знал, что его ведомство есть в чем упрекнуть. Я останавливаюсь на нем потому, что он был славный человек и, когда умер, оставил во мне добрую память.
По отцу Андре было видно, что он побудет здесь еще немного, и я сходил на улицу разузнать об одной неприятной истории, случившейся незадолго перед этим. Обычно парни вместо «героин» говорят «ка-каша», так один восьмилетний лопух прослышал, что ребята постарше делают себе уколы какаши и это мировая вещь, и он сотворил на газетку, загнал себе этого в вену и через то загнулся. За это даже повязали Махута и двух его дружков — они, дескать, неправильно информировали, но лично я считаю, что они вовсе не обязаны были учить восьмилетнего шкета правильно колоться.
Когда я вернулся домой, то обнаружил рядом с отцом Андре раввина с улицы Шом, где кошерная лавка мосье Рюбена, — он, видать, пронюхал, что вокруг мадам Розы рыщет католический кюре, и испугался, как бы та не устроила себе христианской кончины. Он к нам ногой никогда не ступал, зная мадам Розу еще по тем временам, когда она была шлюхой. Ни отец Андре, ни раввин, которого звали по-другому, уж и не помню как, не желали уступать умирающую, прочно обосновавшись каждый на стуле у ее кровати. Они даже поговорили немного о войне во Вьетнаме, потому что это почва нейтральная.
Мадам Роза провела хорошую ночь, а я так и не смог заснуть и лежал с открытыми в темноту глазами, стараясь думать о чем-нибудь ни на что не похожем, но понятия не имел, откуда это непохожее взять.
Наутро пришел доктор Кац провести очередной осмотр мадам Розы, и на этот раз, когда мы с ним вышли на лестницу, я сразу же почувствовал, что несчастье вот-вот постучится в нашу дверь.
— Ее надо перевезти в больницу. Здесь ей оставаться нельзя. Я вызову санитарную машину.
— А что они будут делать ей в больнице?
— За ней будет надлежащий уход. Она сможет прожить еще некоторое время, а может, и довольно долго. Я знавал людей в таком же состоянии, как она, так им сумели продлить жизнь на несколько лет.
Вот же сволочи, подумал я, но вслух при докторе ничего не сказал. Помявшись, я спросил:
— Скажите, доктор, а вы не могли бы избавить ее от жизни, ну, промеж своих, евреев?
Он очень натурально удивился.
— Как это «избавить от жизни»? Что ты городишь?
— Ну да, избавить ее, чтоб не мучилась больше.
Тут доктор Кац до того разволновался, что был вынужден присесть. Он обхватил голову руками и вздохнул много раз подряд, заведя глаза к небесам, как это у них принято.
— Нет, малыш Момо, этого делать нельзя. Эвтаназия строго запрещена законом. Мы здесь как-никак в цивилизованной стране. Ты сам не знаешь, о чем говоришь.
— Нет, знаю. Я алжирец, я знаю, о чем говорю. Там у них есть священное право народов распоряжаться собственной судьбой.
Доктор Кац глянул на меня так, будто я его напугал. Он молчал, разинув рот. Иной раз даже смех берет: не хотят люди понимать, и все тут, хоть кол на голове теши.
— Ведь существует это самое священное право народов, так или нет, черт меня побери?
— Конечно, существует. Это великая и прекрасная вещь. Но при чем тут…
— При том, что если оно существует, то у мадам Розы, как и у всех, есть священное право народов распоряжаться собственной судьбой. И раз она хочет, чтобы ее избавили от жизни, то это ее право. И именно вы должны ей это сделать, потому что тут нужен врач-еврей, чтобы не вышло антисемитизма. Уж промеж-то своих вам бы не стоило друг дружку мучить. Куда это годится?
Доктор Кац вздыхал все сильней, и на лбу у него даже выступил пот, до того я хорошо говорил. Я впервые почувствовал, что мне и вправду стало на четыре года больше.
— Ты не знаешь, что говоришь, дитя мое, ты не знаешь, что говоришь.
— Я не ваше дитя и вообще не дитя вовсе. Я сын шлюхи, и мой отец ухлопал мою мать, а когда знаешь такое, можно сказать, знаешь все и уж никакое ты не дитя.
Доктора Каца аж трясло, до того его оторопь взяла.
— Кто тебе это сказал, Момо? Кто рассказал тебе такие вещи?
— Не имеет значения, кто сказал, доктор Кац, потому что иной раз лучше как можно меньше иметь родителей, уж поверьте моему опыту старика и как я уже имел честь, если говорить словами мосье Хамиля, приятеля мосье Виктора Гюго, который вам, должно быть, небезызвестен. И не смотрите на меня так, доктор Кац, я не психический и не наследственный, и не буду я убивать свою шлюху-мать, это уже сделано, упокой Господь ее тело, которое совершило столько добра на этой земле, и в гробу я вас всех видал, кроме мадам Розы, она единственная, кого я любил на свете, и я не дам ей стать чемпионкой мира среди овощей, только чтобы потрафить медицине, и когда я напишу своих отверженных, я выскажу все, что захочу, никого не убивая, потому что слово может все, и будь вы не бессердечным старым жидом, а настоящим евреем с настоящим сердцем вместо жалкого изношенного органа, то сделали бы доброе дело и сию же минуту спасли бы мадам Розу, избавили бы ее от жизни, которую ей заделал ваш главный еврейский отец, никому не известный и не имеющий даже лица, так ловко он скрывается, и его не разрешается даже изображать, потому что тут работает целая мафия, чтобы не дать ему попасться, и это уголовщина и приговор дерьмовым лекаришкам за неоказание помощи…
Доктор Кац стал белый как бумага, что ему здорово шло при его изящной белой бороденке и глазах сердечника, и тут я придержал вожжи, потому что если б он умер, то не услышал бы ничего из того, что я когда-нибудь им всем еще выскажу. Но колени у него начали подгибаться, и я помог ему усесться на ступеньку, хотя так и не простил ему ничего и никого. Он поднес руку к сердцу и посмотрел на меня так, словно он кассир банка и умоляет оставить его в живых. Но я только скрестил руки на груди и ощущал себя народом, у которого есть священное право распоряжаться собственной судьбой.
— Малыш Момо, малыш Момо…
— Нет тут никакого малыша. Так да или нет, черт побери?
— Не имею я права этого делать…
— Вы не хотите ее избавить?
— Это невозможно, эвтаназия сурово карается…
И смех и грех. Хотел бы я знать, бывает ли что-нибудь, что не карается сурово, особенно когда карать не за что.
— Ее надо положить в больницу, это будет гуманно…
— А меня возьмут вместе с ней в больницу?
Это его слегка успокоило, и он даже улыбнулся.
— Ты славный мальчуган, Момо. Нет, тебя не возьмут, но ты сможешь ее навещать. Только скоро она перестанет тебя узнавать…
Он попытался перевести разговор на другую тему.
— А кстати, Момо, что будет с тобой? Не можешь же ты жить один.
— За меня не беспокойтесь. Я знаю уйму шлюх на Пигаль. Я уже получил достаточно предложений.
Доктор Кац разинул рот, глянул на меня, а потом вздохнул, как они все делают. А я размышлял. Надо было выиграть время, это никогда не помешает.
— Послушайте, доктор Кац, не вызывайте пока больницу. Дайте мне еще несколько дней. Может, она и сама помрет. И потом, мне надо устроиться. Иначе меня упекут в Призрение.
Он снова вздохнул. Этот старикан вообще уже не дышал нормально, а только вздыхал. А я был по горло сыт всякими вздыхателями.
Он посмотрел на меня, но уже иначе.
— Ты никогда не был таким, как остальные дети, Момо. И ты никогда не будешь таким, как другие, я всегда это знал.
— Спасибо вам на добром слове.
— Я действительно так думаю. Ты всегда будешь особенным.
Я немного поразмыслил.
— Это, наверное, потому, что у меня отец психический.
Доктор Кац будто прямо сразу заболел, до того у него стал неважнецкий вид.
— Вовсе нет, Момо. Я совсем не то хотел сказать. Ты еще слишком молод, чтобы понять, но…
— Человек никогда ни для чего не бывает слишком молод, доктор, уж поверьте моему опыту старика.
Он удивился.
— Где ты слышал это выражение?
— Так всегда говорит мой друг, мосье Хамиль.
— Ах вон оно что. Ты очень умный мальчик и очень чувствительный, даже чересчур чувствительный. Я не раз говорил мадам Розе, что ты никогда не будешь как все. Иногда из таких получаются великие поэты, писатели, а иногда… — Он вздохнул. — А иногда бунтари. Но ты не беспокойся, это вовсе не означает, что ты не будешь нормальным человеком.
— Я очень надеюсь, что никогда не буду нормальным, доктор Кац, одни только сволочи завсегда нормальные.
— Всегда. Всегда нормальные.
— Да я в лепешку разобьюсь, доктор, только чтобы не стать нормальным.
Он снова поднялся, и я подумал, что сейчас самое время кое о чем у него спросить, потому что это начинало не на шутку меня донимать.
— Скажите, доктор, вы уверены, что мне четырнадцать лет? Мне не двадцать, не тридцать и не сколько-нибудь там еще, а? Сначала мне говорят «десять», потом — «четырнадцать». А может, мне все-таки еще больше? Что, конечно, лучше. Но я случаем не карлик, черт меня побери? Я ни капельки не хочу быть карликом, доктор, пускай даже они нормальные и особенные.
Доктор Кац улыбнулся в бороду: он был счастлив наконец-то сообщить мне по-настоящему хорошую весть.
— Нет, ты не карлик, Момо, даю тебе честное врачебное слово. Тебе действительно четырнадцать, просто мадам Розе хотелось как можно дольше удержать тебя при себе, она боялась, что ты ее бросишь, потому и твердила, что тебе только десять. Наверное, мне следовало бы сказать тебе это чуть раньше, но…
Он улыбнулся и оттого стал еще печальней.
— …но поскольку это была прекрасная история любви, я ничего не стал говорить. Что касается мадам Розы, то я согласен подождать еще несколько дней, но думаю, ее совершенно необходимо поместить в больницу. Мы не имеем права прекращать страдания, как я тебе уже объяснял. А пока делайте с ней легкую гимнастику, ставьте ее на ноги, заставляйте понемногу гулять по комнате — одним словом, шевелите, иначе у нее появятся пролежни и нарывы. Ей необходимо движение. Итак, два-три дня, но не больше…
Я позвал одного из братьев Заом, и тот на плечах снес доктора вниз.
Доктор Кац еще жив, и когда-нибудь я его навещу.
Я немного посидел на лестнице один, чтоб никто не трогал. Что ни говори, а приятно узнать, что ты не карлик, это уже кое-что. Как-то раз я видел фотографию калеки, который живет без рук и без ног. Я частенько о нем думаю, чтобы почувствовать, что мне лучше, чем ему, — хорошо все-таки иметь руки-ноги. Потом я вспомнил про гимнастические упражнения, которыми надо заниматься с мадам Розой, чтобы ее расшевелить, и пошел звать на подмогу мосье Валумбу, но тот работал со своими отбросами. Я целый день просидел с мадам Розой — она раскладывала карты, чтобы прочесть по ним свое будущее. Когда мосье Валумба пришел с работы, он с приятелями поднялся к нам, они взяли мадам Розу и принялись заниматься с ней легкими упражнениями. Сначала прогуляли ее по комнате, потому что ноги еще худо-бедно ей служили, а потом уложили на покрывало и слегка покачали, чтобы расшевелить ее внутри. Под конец они даже начали смеяться, потому что было забавно видеть мадам Розу в роли большой куклы, с которой они как будто во что-то играют. Это ей здорово пошло на пользу, и она даже нашла для каждого приветливое слово. Потом ее уложили в постель, накормили, и она попросила свое любимое зеркало. Поглядевшись в него, она улыбнулась себе и чуть подправила те тридцать волосин, что у ней еще оставались. Мы все поздравили ее с тем, что она так хорошо выглядит. Она накрасилась, в ней еще оставалась женственность, ведь можно быть страшилищем и все же пытаться измениться к лучшему. Жаль, что мадам Роза не красавица, потому что к этому у нее настоящее призвание и уж тогда бы она просто блистала. Она улыбалась себе в зеркало, и все радовались, что она себе не противна.
Потом братья мосье Валумбы приготовили ей рис с перцем — они уверяли, что ее надо проперчить, чтобы кровь в ней побежала быстрее. Тут появилась мадам Лола, а с этим человеком к нам всегда будто солнышко входило. Единственное, что меня печалит при мысли о мадам Лоле, — что она мечтает пойти и все себе отрезать, чтобы, как она говорит, окончательно стать женщиной. Лично я считаю, что это уж чересчур, и всегда боюсь, как бы она сама себе не повредила.
Мадам Лола дала старухе одно из своих платьев — уж она-то знала, насколько женщине важен моральный дух. Еще она принесла шампанского, а уж лучше ничего не бывает. Потом попрыскала мадам Розу духами, в которых та нуждалась все больше и больше, потому что толком уже не могла уследить за своими выпускными путями.
Мадам Лола — та от природы веселая, потому что благословлена к этому африканским солнцем, и одно удовольствие смотреть, как она сидит на кровати, закинув ногу на ногу, одетая по последней моде. Для мужчины мадам Лола очень красивая, если не считать голоса, приобретенного еще в пору ее чемпионства по боксу в тяжелом весе, но уж с этим она ничего не может поделать, потому что голос напрямую связан с ее мужской частью, которая и есть главная печаль в ее жизни. Зонтик Артур был при мне, я не мог так резко с ним порвать, несмотря на враз заполученные четыре года. Я имел полное право привыкать, ведь другие тратят куда больше времени на то, чтобы постареть на несколько лет, и мне тоже торопиться не стоило.
Мадам Роза так быстро оклемалась, что сумела встать и даже пройтись без посторонней помощи, — это была эмиссия и надежда. Когда мадам Лола с сумочкой в руке ушла на работу, мы сели перекусить, и мадам Роза отведала цыпленка, которого прислал ей мосье Джамаили, известный лавочник. Сам мосье Джамаили уже скончался, но при жизни между ними были очень хорошие отношения, и родственники продолжали его дело. После она выпила немного чаю с вареньем и впала в задумчивость, и я испугался, решив, что это новая атака маразма. Но за день ее так растрясли, что кровь неплохо справлялась со своими обязанностями и добиралась до головы как полагается.
— Момо, скажи мне всю правду.
— Мадам Роза, всей правды я не знаю, я даже не представляю, кто ее вообще может знать.
— А он что сказал тебе, этот доктор Кац?
— Он сказал, что вас нужно поместить в больницу и там они позаботятся о том, чтобы не дать вам умереть. Вы еще долго протянете.
У меня сердце сжималось оттого, что я говорю ей такое, но я даже изобразил улыбку, как будто сообщал ей прекрасную новость.
— Как оно у них называется — ну, то, что у меня?
Я сглотнул слюну.
— Это не рак, мадам Роза, клянусь вам.
— Момо, как это называется у врачей?
— С этим можно жить долго-долго.
— С чем «с этим»?
Я молчал.
— Момо, ведь ты не будешь мне врать? Я старая еврейка, со мной сделали все, что только можно сделать с человеком… Я должна знать. Есть вещи, которые никто не имеет право с человеком делать. Я знаю, бывают дни, когда у меня нелады с головой.
— Это не страшно, мадам Роза, вполне можно жить и так.
— Как «так»?
Больше сдерживаться я не мог. Слезы душили меня изнутри. Я бросился к ней, она приняла меня в объятия, и я проорал:
— Как овощ, мадам Роза, как овощ! Они хотят заставить вас жить овощем!
Она ничего не сказала, только слегка вспотела.
— Когда они за мной приедут?
— Не знаю, может, дня через два, доктор Кац вас очень любит, мадам Роза. Он обещал мне, что нас разлучат только через его труп.
— Я не поеду, — сказала мадам Роза.
— Ума не приложу, что нам теперь делать, мадам Роза. Все подонки. Они не хотят вас избавить.
Она выглядела очень спокойной. Только попросила помыться, потому что сделала немного под себя. Теперь, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что она была очень красивая. Это зависит от того, как о человеке думаешь.
— Это гестапо, — сказала она. И уж больше ничего не говорила.
Ночью мне стало холодно, я поднялся и укрыл ее вторым одеялом.
Наутро я проснулся радостным. Когда я только-только проснусь, я сперва ни о чем не думаю, и потому мне выпадает хорошая минутка. Мадам Роза была жива и даже постаралась мне улыбнуться, желая показать, что у нее все в порядке, вот только у нее болела печень, потому что была гепатической, и левая почка, к которой доктор Кац относился с большим неодобрением, и вообще там было полным-полно всяких неработающих деталей, но не мне вам об этом рассказывать, я в этом ничего не смыслю. Снаружи светило солнце, и я раздернул занавески, чтобы оно вошло, но ей не очень-то понравилось — на свету она была слишком хорошо видна, а это ее удручало. Она взяла зеркало и сказала только:
— Какой же я стала уродиной, Момо.
Я рассердился, потому что никому не дано права плохо говорить о старой больной женщине. Я считаю, что нельзя судить обо всех со своей колокольни, как, например, о бегемотах или о черепахах, которые просто не такие, как все.
Она прикрыла глаза, и оттуда потекли слезы, но не знаю, то ли она сама заплакала, то ли мышцы ослабли.
— Я уродина и прекрасно это знаю.
— Мадам Роза, это просто потому, что вы не похожи на остальных.
Она взглянула на меня.
— Когда они за мной приедут?
— Доктор Кац…
— Я не хочу больше слышать о докторе Каце. Это достойный человек, но он ничего не понимает в женщинах. Я была красавицей, Момо. У меня была лучшая клиентура на улице Прованса. Сколько у нас осталось денег?
— Мадам Лола подбросила нам сто франков. И еще даст. Она борется за жизнь будь здоров.
— Лично я ни за что не пошла бы работать в Булонский лес. Там даже вымыться негде. На Центральном рынке — вот там гостиницы высокой категории, с гигиеной. А в Булонском лесу так даже опасно из-за всяких маньяков.
— Да с любым маньяком мадам Лола расправится одной левой, вы же знаете, она была чемпионом по боксу.
— Она просто святая. Не знаю, что бы с нами без нее сталось.
После она захотела прочесть еврейскую молитву, как ее учила мать. Я не на шутку перепугался, подумав, что она впадает в детство, но перечить не решился. Вот только ей никак не удавалось вспомнить слова из-за размягчения мозгов. Она когда-то учила этой молитве Мойше, и я тоже ее выучил, потому что терпеть не мог, когда они занимались чем-нибудь без меня. Я затянул:
— Шма исраэлъ аденои элохейну аденои экхот бурух шейн квейт малхуссе лоэйлем боэт…
Она повторила это за мной, а потом я пошел в уборную и трижды сплюнул: «Тьфу, тьфу, тьфу», как делают евреи, потому что молитва была не из моей религии. Мадам Роза попросила меня одеть ее, но у меня силенок не хватало, и я отправился в черное общежитие, где нашел мосье Валумбу, мосье Сокоро, мосье Танэ и других, чьих имен я вам назвать не могу, потому что они все там очень добрые.
Едва мы вошли, как я увидел, что мадам Роза снова ослабла мозгами: глаза у нее стали стеклянные, а из открытого рта текла слюна, как я уже имел честь и не хочу больше к этому возвращаться. Я сразу вспомнил, что сказал мне доктор Кац по поводу упражнений, которыми нужно заниматься с мадам Розой, чтобы ее расшевелить и чтобы кровь устремилась повсюду, куда нужно. Мы быстренько уложили мадам Розу на покрывало, и братья мосье Валумбы подняли ее и со всей своей баснословной силой принялись трясти, но в эту самую минуту на спине мосье Заома-старшего прибыл доктор Кац с медицинскими инструментами в саквояжике. Не успев даже слезть со спины мосье Заома-старшего, он пришел в страшное негодование, потому что, дескать, это совсем не то, что он имел в виду. Никогда еще я не видел доктора Каца таким сердитым: ему пришлось даже сесть и подержаться за сердце, потому что все здешние евреи — больные люди, они приехали в Бельвиль из своей Европы очень давно, старыми и усталыми, потому-то и остались здесь и не смогли поехать дальше. Он ужасно накричал на меня и обозвал нас всех дикарями, что не на шутку возмутило мосье Валумбу, который заметил ему, что это уже намеки. Доктор Кац извинился, сказав, что он никого не хотел оскорбить, но он вовсе не предписывал подбрасывать мадам Розу в воздух, как блин, надо было просто дать ей походить туда-сюда мелкими шажками, соблюдая тысячи предосторожностей. Мосье Валумба со своими соотечественниками быстренько усадил мадам Розу в кресло, потому что пришло время сменить простыни по причине ее естественных потребностей.
— Я сейчас же звоню в больницу, — решительно заявил доктор Кац. — И немедленно вызываю санитарную машину. В ее состоянии это необходимо. Ей нужен постоянный уход.
Я захныкал, но ясно видел, что этим его не проймешь. Тут-то у меня и возникла гениальная идея, потому что тогда я вправду был способен на все.
— Доктор Кац, в больницу ее класть нельзя. Во всяком случае, сегодня. Сегодня у нее будут родственники.
Он удивился:
— Как это «родственники»? У нее ведь нет никого на свете.
— У нее объявились родственники в Израиле, и… — я сглотнул слюну, — сегодня они приезжают.
Доктор Кац почтил память Израиля минутой молчания. Он никак не мог опомниться.
— Этого я не знал, — произнес он, и теперь в его голосе звучало уважение, потому что для евреев Израиль — это кое-что. — Мне она никогда про это не говорила…
Ко мне возвращалась надежда. Я сидел в углу со своим пальто и зонтиком Артуром, я снял с него котелок и нахлобучил его себе на голову, чтобы на меня снизошла барака — господня благодать по-арабски.
— Сегодня они приезжают за ней. И увезут ее в Израиль. Все уже улажено. Русские выдали ей визу. Доктор Кац остолбенел.
— Как это «русские»? Что ты городишь?
Вот же чертовщина, я, наверное, ляпнул невпопад, но ведь мадам Роза не раз объясняла мне, что для выезда в Израиль требуется русская виза.
— В общем, вы меня понимаете.
— Ты немного путаешь, малыш Момо, но я понимаю… Значит, они приезжают за ней?
— Да, они узнали, что она выжила из ума, и поэтому увозят ее в Израиль. Они улетают завтрашним рейсом.
Доктор Кац был в полном восторге и задумчиво поглаживал бородку — лучшей идеи мне никогда еще в голову не приходило. Я впервые почувствовал, что мне и впрямь стало на четыре года больше.
— Они очень богаты. У них свои магазины, и они все на собственных колесах. У них…
Стоп, сказал я себе, не стоит перегибать палку.
— …у них есть все что надо, чего уж там.
— Ц-ц-ц, — поцокал языком доктор Кац, качая головой. — Вот это хорошая новость. Бедная женщина столько выстрадала в жизни… Но почему же они не дали знать о себе раньше?
— Они писали ей, чтоб она приезжала, но мадам Роза не хотела меня оставлять. Мы с мадам Розой друг без дружки жить не можем. Это все, что у нас с ней есть на свете. Она меня бросать не хотела. Да и теперь не хочет. Еще вчера мне пришлось умолять ее: «Мадам Роза, поезжайте к своим родственникам в Израиль. Там вы умрете спокойно, они будут заботиться о вас. Здесь вы ничто. Там вы гораздо больше».
Доктор Кац смотрел на меня, ошарашенно разинув рот. У него даже глаза слегка намокли от волнения.
— Впервые слышу, чтобы араб отправлял еврейку в Израиль, — сказал он, с трудом выговаривая слова, потому что у него был настоящий шок.
— Она не хотела уезжать туда без меня. Доктор Кац стал задумчивым.
— А вы не можете поехать туда вдвоем?
Вот это меня задело крепко. Я отдал бы все что угодно, лишь бы куда-нибудь отсюда уехать.
— Мадам Роза обещала мне разузнать там все как следует…
У меня почти голос пропал, до того я не знал, что говорить дальше.
— В конце концов она согласилась. Они приезжают за ней сегодня, а завтра улетают.
— А ты, малыш Мухаммед? С тобой что будет?
— Я подыскал кое-кого на время, пока на меня не придет вызов.
— Придет что?!
Я больше ничего не сказал. Я завяз по уши и не знал, как из всего этого выпутаться.
Мосье Валумба и вся его родня ликовали, поняв, что я все уладил. А я сидел на полу со своим зонтиком Артуром и не знал, где я и что я. Я уже ничего не знал и знать не хотел.
Доктор Кац поднялся.
— Ну что ж, это отличная новость. Мадам Роза может прожить еще порядочное время, хоть и не будет толком этого осознавать. Болезнь очень быстро прогрессирует. Но у нее будут периоды просветления, и она будет счастлива посмотреть вокруг и увидеть, что она у себя дома, среди своих. Передай ее родственникам, чтобы они зашли ко мне, сам я не выхожу, ты ведь знаешь.
Он положил руку мне на голову. Смешно подумать, сколько есть людей, которые кладут свою руку мне на голову. Им это идет на пользу.
— Если мадам Роза придет в сознание до отъезда, передай ей, что я ее поздравляю.
— Хорошо, я скажу ей «мазлтов».
Доктор Кац посмотрел на меня с гордостью.
— Ты, наверное, единственный араб на свете, говорящий на идише, малыш Момо.
— Да, митторништ зорген.
На случай, если вы не знаете еврейского, у них это означает: «жаловаться не на что».
— Не забудь сказать мадам Розе, как я за нее рад, — повторил доктор Кац, и я последний раз о нем упоминаю, потому что такова жизнь.
Мосье Заом-старший вежливо ожидал его у двери, чтобы спустить вниз. Мосье Валумба и его племяши уложили мадам Розу в чистую постель и тоже ушли. А я так и остался сидеть со своим зонтиком Артуром и с пальто и все глядел на мадам Розу, лежавшую на спине наподобие огромной перевернутой черепахи, которая для этого не предусмотрена.
— Момо…
Я даже головы не поднял.
— Да, мадам Роза.
— Я все слышала.
— Я знаю, я сразу увидел, как только вы на меня посмотрели.
— Значит, я уезжаю в Израиль?
Я ничего не ответил, только опустил голову еще ниже, чтобы ее не видеть, потому что нам было больно смотреть друг на дружку.
— Ты правильно сделал, малыш Момо. Ты мне поможешь.
— Конечно же, я помогу вам, мадам Роза, но только не прямо сейчас.
Я даже поревел немного.
У нее выдался хороший день, и она выспалась, но назавтра к вечеру все стало еще хуже: заявился управляющий, потому что мы уже много месяцев не платили за жилье. Он сказал, что стыдно держать в квартире старую больную женщину без никого, кто бы о ней заботился, и что ее из гуманитарных соображений надо отдать в приют. Это был плешивый толстяк с глазами доносчика, и он ушел, напоследок пригрозив, что позвонит в больницу для бедных по поводу мадам Розы и в Общественное призрение — по поводу меня. И его кустистые усы при этом мерзко так шевелились. Я кубарем скатился по лестнице и догнал управляющего, когда тот уже зашел в кафе мосье Дрисса, чтобы звонить. Я сказал ему, что завтра приезжают родственники мадам Розы, чтобы увезти ее в Израиль, и я уеду вместе с ней, так что он может забирать свою квартиру назад. Тут у меня возникла гениальная идея, и я добавил, что родственники мадам Розы заплатят ему за те три месяца проживания, что мы ему должны, а больница — та ни гроша не заплатит. Клянусь вам: те четыре года, что я заполучил, здорово чувствовались, и теперь я очень быстро приучался думать как надо. Я даже пообещал ему, что если он поместит мадам Розу в больницу, а меня — в Призрение, то будет иметь дело со всеми евреями и арабами Бельвиля за то, что помешал нам возвратиться на землю наших предков. Я выложил ему полный набор, пригрозив, что ему кое-что отрежут и запихнут в пасть, как это всегда делают еврейские террористы, а хуже этого ничего быть не может, если, конечно, не считать моих арабских братьев, которые сражаются за право распоряжаться собственной судьбой и возвратиться к себе на родину, и если он свяжется с мадам Розой и со мной, то будет иметь дело с еврейскими и арабскими террористами вместе взятыми, и пусть тогда пеняет на себя. Все на нас смотрели, и я страшно собой гордился, я и вправду был в своей лучшей олимпийской форме. Мне даже хотелось прикончить этого типа, в таком я был отчаянии, и никто в кафе меня еще никогда таким не видел. Мосье Дрисс, который тоже слушал все это, посоветовал управляющему не встревать между евреями и арабами, потому что это может дорого ему обойтись. Мосье Дрисс тунисец, но арабы у них там тоже есть. Управляющий побелел, как лист бумаги, и сказал, что он просто не знал про то, что мы возвращаемся на родину, и первый будет этому рад. Он даже спросил меня, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Меня впервые угощали выпивкой, как мужчину. Я заказал кока-колу, сказал им «привет» и поднялся на свой седьмой. Больше нельзя было терять ни минуты.
Мадам Розу я нашел в состоянии помрачнения, но потом заметил, что она боится, а это признак разума. Она даже проговорила мое имя, словно призывала меня на помощь.
— Я здесь, мадам Роза, я здесь…
Она силилась что-то сказать, и губы ее шевелились, голова тряслась, и она прилагала все усилия, чтобы быть человеческой личностью. Но единственное, к чему это привело, — что глаза ее еще больше округлились, рот раскрылся, и она сидела, положив руки на подлокотники кресла, и глядела перед собой так, словно уже слышала сигнал к отправлению.
— Момо…
— Будьте покойны, мадам Роза, я не позволю, чтобы из вас в больнице сделали чемпионку мира среди овощей.
Не помню, говорил ли я вам, что мадам Роза постоянно хранила под кроватью портрет мосье Гитлера и когда дела шли хуже некуда, она вытаскивала его, смотрела, и все сразу казалось куда лучше. Я достал портрет из-под кровати и сунул его мадам Розе под нос.
— Мадам Роза, а мадам Роза, поглядите-ка, кто это…
Надо же было как-то ее встряхнуть. Она еле заметно вздохнула, увидев перед собой физиономию мосье Гитлера, сразу его узнала и даже издала вопль; это ее совершенно оживило, и она попыталась встать.
— Поторопитесь, мадам Роза, нужно быстрее уходить…
— Они едут?
— Нет еще, но нужно уходить отсюда. Мы едем в Израиль, помните?
Тут она заработала как часы, потому что в старых людях самое сильное — это воспоминания.
— Помоги мне, Момо…
— Потихоньку, мадам Роза, время у нас есть, от ваших звонка еще не было, но здесь оставаться больше нельзя…
Пришлось мне попотеть, ее одеваючи, а она вдобавок еще пожелала и красоту навести, и я держал перед ней зеркало, пока она красилась. Понятия не имею, почему ей вздумалось надеть на себя все самое лучшее, но с женственностью не поспоришь. У нее в шкафу валялась куча шмоток, ни на что не похожих, которые она покупала на Блошином рынке, когда у нее водилась монета, но не для того, чтобы их надевать, а чтобы мечтать над ними. Единственной вещью, в которую она смогла влезть вся целиком, оказалось ее кимоно японской модели с птицами, цветами и восходящим солнцем. Оранжево-красное. Еще она надела парик и пожелала посмотреться в большое зеркало, что в шкафу, но я не дал, так было лучше.
Было уже одиннадцать вечера, когда мы сумели наконец выйти на лестницу. Никогда бы не поверил, что она вообще сможет туда добраться. Я и не подозревал, сколько в мадам Розе еще оставалось сил, — их ей хватило, чтобы заползти умирать в свое еврейское логово. А я-то никогда в это логово не верил! Я никак не мог взять в толк, зачем она его устроила да еще время от времени спускалась туда, усаживалась, осматривалась по сторонам и дышала. А вот теперь до меня наконец дошло. Я тогда еще недостаточно пожил на свете, чтобы набраться опыта, и даже сегодня, когда я все это вам рассказываю, я знаю, что как бы тебе все ни осточертело, а все равно всегда приходится еще чему-то поучиться.
Автомат освещения работал из рук вон, и свет всю дорогу гас. На пятом этаже мы наделали шуму, и мосье Зиди, который приехал к нам из Уджды [[17] ], высунулся посмотреть. Когда он узрел мадам Розу, то замер с разинутым ртом, словно никогда в жизни не видел японского кимоно, и проворно захлопнул за собой дверь. На четвертом мы наткнулись на мосье Мимуна, который торгует земляными орехами и каштанами на Монмартре и скоро воротится к себе в Марокко, вот только сколотит состояние. Он остановился, поднял глаза и спросил:
— Что это, о Господи?
— Это мадам Роза в Израиль уезжает. Он призадумался, потом еще подумал и снова полюбопытствовал все еще испуганным голосом:
— А почему они ее так вырядили?
— Не знаю, мосье Мимун, я не еврей.
Мосье Мимун глотнул воздуха.
— Я знаю евреев. Они так не одеваются. Никто так не одевается. Это немыслимо.
Он достал платок, утер лоб, а потом помог мадам Розе спуститься, потому что видел, что для одного мужчины это чересчур. Внизу он пожелал узнать, где ее багаж и не простудится ли она в ожидании такси, и даже рассердился и принялся ворчать, что никто, дескать, не имеет права везти куда-то женщину в подобном состоянии. Я посоветовал ему подняться на седьмой и высказать все родственникам мадам Розы, которые сейчас как раз пакуют чемоданы, и он ушел, сказав, что последнее, чего бы ему хотелось, так это провожать евреев в Израиль. Мы остались внизу одни, и надо было поторапливаться, потому что до подвала оставалось еще целых полэтажа.
Когда мы туда добрались, мадам Роза рухнула в кресло, и мне показалось, что вот сейчас она и умрет. Она закрыла глаза, и на то, чтобы приподнять грудь, дыхания у нее уже не хватало. Я зажег свечи, сел возле нее на пол и взял ее за руку. От этого ей стало чуточку полегче, она открыла глаза, огляделась вокруг и сказала:
— Я знала, что рано или поздно это логово мне пригодится, Момо. Теперь я умру спокойно.
Она даже улыбнулась мне.
— Я не побью мировой рекорд среди овощей.
— Инш’алла.
— Да, инш’алла, Момо. Ты славный малыш. Нам всегда было хорошо вместе.
— Конечно, мадам Роза, это все-таки лучше, чем когда никого.
— Теперь помоги мне прочитать молитву, Момо. Может, я больше никогда не смогу.
— Шма исраэлъ аденои…
Она повторила за мной все до самого «лоэйлем боэт» и теперь выглядела довольной. Ей выпал еще один хороший часок, но потом она начала быстро разрушаться. Ночью все бормотала по-польски из-за проведенного там детства, повторяя имя какого-то типа, которого звали Блюментаг и которого она, наверное, знала как сутилера, когда еще была женщиной. Теперь-то я знаю, что нужно говорить «сутенер», но так уж привык. После мадам Роза больше ничего не говорила и сидела с пустым взглядом, уставясь в противоположную стену и время от времени делая под себя.
Лично я хочу сказать вам вот что: такому не должно быть места на земле. Я действительно так думаю и никогда не смогу понять, почему абортировать можно только младенцев, а стариков нет. Я считаю, что с тем типом в Америке, который побил рекорд мира в качестве овоща, обошлись покруче, чем с Иисусом, ведь он пробыл на своем кресте семнадцать лет с гаком. Я считаю, что это удивительное паскудство — насильно заталкивать жизнь в глотку людям, которые не могут за себя постоять и не хотят больше служить ни Господу, ни кому еще.
Свечей там хватало, и я зажег их повсюду, чтобы темноты стало поменьше. Мадам Роза снова дважды пробормотала: «Блюментаг, Блюментаг», и мне это начало надоедать — хотел бы я посмотреть, пекся бы о ней этот ее Блюментаг столько, сколько я. А потом я вспомнил, что блюментаг по-еврейски означает «день цветов», и сообразил, что она, скорее всего, видит очередной сон из своей прошлой жизни, когда она была женщиной. Женственность — она сильней всего. Видно, мадам Роза когда-то в молодости выезжала за город, может, даже с типом, которого любила, и это в ней осталось.
— Блюментаг, мадам Роза.
Я оставил ее там и поднялся за своим зонтиком Артуром, потому что привык. Позже я поднимался еще раз — взять портрет мосье Гитлера. Только он еще и мог на нее подействовать.
Я верил, что мадам Роза недолго пробудет в своем еврейском логове и Господь сжалится над ней, — когда силы у тебя на исходе, какая только дурь не лезет в башку. Иногда я любовался ее прекрасным лицом, а потом вспомнил, что забыл взять ее грим и все, чем ей нравилось пользоваться, чтобы быть женщиной, и поднялся наверх в третий раз, хоть это мне уже и поднадоело. Но такой уж она была требовательной, мадам Роза.
Свой матрас я положил к ней поближе, за компанию, но не мог сомкнуть глаз, потому что боялся крыс, о которых в подвалах ходит дурная слава, но они так и не появились. Заснул я не знаю когда, а когда проснулся, горящих свечей уже почти не стало. Глаза у мадам Розы были открыты, но когда я поднес к ее лицу портрет мосье Гитлера, это ее нисколько не тронуло. Просто чудо, что в таком состоянии мы сумели спуститься.
Когда я вышел на улицу, был полдень, я встал как столб на тротуаре, и когда меня спрашивали, как дела у мадам Розы, отвечал, что она уехала к своим евреям в Израиль, за ней приезжали родственники, там у нее навалом будет современного комфорта, и она умрет куда скорее, чем здесь, где для нее вообще не жизнь. А может, она еще немного и проживет и вызовет меня к себе, потому что я имею на это право, арабы ведь тоже имеют право. Все радовались, что старуха наконец обрела покой. Я зашел в кафе мосье Дрисса, который покормил меня задарма, а потом устроился напротив мосье Хамиля, который сидел там у окна, одетый в свою замечательную серо-белую джеллабу. Он совсем ничего не видел, как я уже имел честь, но когда я трижды подряд повторил ему свое имя, он сразу вспомнил.
— А, малыш Мухаммед, как же, как же, помню… Я его хорошо знаю… И что с ним теперь?
— Это я, мосье Хамиль.
— Ах да, конечно, прости меня, я стал совсем слепой…
— Как дела, мосье Хамиль?
— Вчера мне дали поесть хороший кускус, а сегодня днем у меня будет бульон с рисом. Вечером я еще не знаю, что буду кушать, мне очень интересно это узнать.
Он все так же держал руку на Книге мосье Виктора Гюго и глядел куда-то далеко-далеко, очень далеко отсюда, словно пытался узреть там, что у него будет на ужин.
— Мосье Хамиль, можно ли жить, когда любить некого?
— Я очень люблю кускус, малыш Виктор, но только не каждый день.
— Вы недослышали, мосье Хамиль. Вы говорили мне, когда я был маленьким, что без любви жить нельзя.
Лицо его осветилось изнутри.
— Да, да, это правда, я кого-то любил, когда был, как и ты, молодым. Да, ты совершенно прав, малыш…
— Мухаммед. Не Виктор.
— Да, малыш Мухаммед. Когда я был молодым, я кого-то любил. Я любил одну женщину. Ее звали…
Он умолк и удивленно нахмурился.
— Не помню.
Я встал и вернулся в подвал. Мадам Роза была в состоянии помрачнения. Да-да, помрачения, спасибо, в следующий раз буду помнить. Мне прибавилось разом четыре года, с этим не так-то легко освоиться. Когда-нибудь я наверняка буду говорить как все, ведь так оно и задумано, чтоб слова для всех были одинаковы. Я чувствовал себя как-то нехорошо, у меня болело понемногу везде. Я снова поднес к глазам мадам Розы портрет мосье Гитлера, но это никак на нее не подействовало. Я подумал, что она еще годы может жить вот так, и не хотел подкладывать ей такую свинью, но у меня не хватало духу избавить ее самому. Выглядела она совсем не здорово, даже в темноте, и я зажег все свечи, какие только мог, чтоб стало не так одиноко. Я взял грим и раскрасил ей губы и щеки, а еще подчернил брови, как она любила. Я намазал ей веки синим и белым и приклеил сверху маленькие звездочки, как она сама это делала раньше. Я попытался приклеить и накладные ресницы, но они не держались. Я видел, что она уже совсем не дышит, но мне это было без разницы, я любил ее и без дыхания. Я улегся подле нее на матрас со своим зонтиком Артуром и старался почувствовать себя еще хуже, чтобы совсем умереть. Когда вокруг все свечи погасли, я зажег еще, и еще, и еще. И так много раз. Потом меня навестил голубой клоун, несмотря на те четыре года, что мне прибавились, и обнял меня за плечи рукой. У меня болело уже везде, и желтый клоун тоже пришел, и я отказался от четырех выигранных лет, мне стало на них наплевать. Время от времени я вставал и подносил к глазам мадам Розы портрет мосье Гитлера, но это на нее никак не действовало, ее уже не было с нами. Я поцеловал ее раз-другой, но это тоже ничего не дало… Лицо ее оставалось холодным. Она была очень красива в своем артистическом кимоно, в рыжем парике и со всем гримом, что я нанес ей на лицо. Я кое-где подкрасил ее еще немного, потому что лицо у нее выглядело все более серым и синим всякий раз, когда я просыпался. Я спал подле нее на матрасе и боялся выходить оттуда, потому что с ней никого больше не было. Все же я поднялся к мадам Лоле, потому что она особенная, но не вовремя — ее не было дома. Я боялся оставлять мадам Розу одну, она могла проснуться и подумать, что умерла, видя вокруг сплошную темень. Я спустился обратно и зажег одну свечу, но не больше, потому что ее бы огорчило, что ее видят в таком состоянии. Мне пришлось снова подкрасить ее, добавив побольше красного и других ярких красок, чтобы саму ее было видно поменьше. Я опять поспал подле нее, а потом поднялся к мадам Лоле. Она как раз брилась и поставила музыку и яичницу, от которой хорошо пахло. Она была наполовину голая и яростно терлась полотенцем, чтобы уничтожить следы от работы, и брилась и нагишом с бритвой в руках и с пеной на подбородке была вообще ни на что не похожа, и от этого мне как-то полегчало. Когда она открыла мне дверь, то потеряла дар речи, до того я, видно изменился за эти мои четыре года.
— Боже мой, Момо! Что с тобой, ты заболел?
— Я пришел попрощаться с вами от имени мадам Розы.
— Что, они увезли ее в больницу?
Я сел, потому что тут у меня кончились силы. Я не ел уже и не помню с какого времени — объявил им всем голодовку. Лично я с законами природы не хочу иметь ничего общего. Я про них даже слышать не желаю.
— Нет, не в больницу. Мадам Роза в своем еврейском логове.
Не стоило бы мне этого говорить, но я сразу увидел, что мадам Лола понятия не имеет, где это.
— Что-что?
— Она уехала в Израиль.
К этому мадам Лола оказалась до того неподготовленной, что застыла на месте с разинутым посреди пены ртом.
— Но она мне никогда не говорила, что собирается уезжать!
— Они прилетели за ней на самолете.
— Кто?
— Родственники. У нее там оказалось полным-полно родственников. Они прилетели за ней на самолете и с собственной машиной. С «ягуаром».
— И она оставила тебя одного?
— Я тоже туда уеду, она пришлет мне вызов.
Мадам Лола посмотрела на меня еще и потрогала мне лоб.
— Да у тебя жар, Момо!
— Пустяки, пройдет.
— Слушай-ка, поешь со мной, это тебе не повредит.
— Нет, спасибо, я больше не ем.
— Как это ты больше не ешь? Что ты плетешь?
— Лично я с законами природы не хочу иметь ничего общего, мадам Лола.
Она рассмеялась.
— Я тоже.
— В гробу я их видел, эти законы природы, мадам Лола. Плевать я на них хотел с высокой колокольни. Законы природы — это такая мразь, что их надо бы запретить навечно.
Я встал. Одна грудь у нее была больше другой, потому что мадам Лола создана не природой. Я ее очень любил.
Она ласково улыбнулась мне.
— Не хочешь пока пожить у меня?
— Нет, мадам Лола, спасибо.
Она подошла, присела передо мной и взяла меня за подбородок. Руки у нее были в татуировке.
— Ты можешь остаться здесь. Я буду о тебе заботиться.
— Нет, мадам Лола, спасибо. У меня уже есть кое-кто.
Она вздохнула, а потом поднялась и начала рыться в сумочке.
— Вот, держи.
Она протянула мне тридцать франков.
Я подошел к водопроводному крану и открутил его, потому что зверски хотел пить.
Потом я спустился вниз и заперся с мадам Розой в ее еврейском логове. Но я уже не мог терпеть. Я вылил на нее все духи, какие еще оставались, но это не помогало. Я снова вышел и отправился на улицу Куле, где накупил красок для рисования, а еще флаконов с духами в известной парфюмерии мосье Жака — он гномосексуалист и вечно делает мне авансы. Я ничего не собирался есть, чтобы всех на свете наказать, но потом понял, что это напрасный труд, и слопал в какой-то пивной сосиски. Когда я вернулся, мадам Роза из-за законов природы пахла еще сильнее, и я вылил на нее флакон «Самбы», ее самых любимых духов. Потом я раскрасил ее лицо всеми красками, что купил, чтобы ее было поменьше видно. Глаза у нее по-прежнему были открыты, но с красным, зеленым, желтым и голубым вокруг все выглядело не так ужасно, потому что в ней не оставалось уже ничего от природы. Потом я зажег семь свечей, как это полагается у евреев, и улегся подле нее на матрас. И ерунда это все, что я, дескать, провел три недели у трупа своей приемной матери, потому что мадам Роза вовсе не была мне приемной матерью. Это все неправда, да я бы и не смог выдержать, потому что кончились духи. Четыре раза я выбирался наружу, чтобы купить духов на те деньги, что дала мне мадам Лола, и еще столько же натырил. Я их все вылил на нее, и я раскрашивал и перекрашивал ей лицо всеми красками, что у меня были, чтобы скрыть действие законов природы, но она портилась ужасно и повсюду, потому что жалости в природе не существует. Когда они выломали дверь, чтобы разобраться, откуда идет вонь, и увидели, что я лежу рядом, то закричали: «На помощь!», «Какой ужас!» — но раньше-то и не думали кричать, потому что жизнь не пахнет. Они отвезли меня на санитарной машине и там нашли у меня в кармане клочок бумаги с фамилией и адресом. Они позвонили вам, потому что это был ваш телефон, они решили, что он у меня не просто так. Вот вы все и приехали и взяли меня к себе за город без всяких обязательств с моей стороны. Я думаю, мосье Хамиль был прав, когда голова у него была в порядке, и жить нельзя, когда любить некого, но я ничего вам не обещаю, надо поглядеть. Я любил мадам Розу и буду продолжать видеть ее перед собой. Но я не прочь побыть какое-то время у вас, раз ваши ребятишки меня просят. Ведь это мадам Надин показала мне, как можно заставить мир пятиться назад, и мне это очень интересно и я всем сердцем этого желаю. Доктор Рамон даже съездил за моим зонтиком Артуром, а то я за него испереживался, потому что никто другой не захотел бы тратить на него свои чувства ввиду его малой ценности. Надо любить.
Примечания
1
Сараколе, или сонинке, — народ подгруппы манде группы нигер-конго, расселенный преимущественно в Мали, Буркина-Фасо и Сенегале; тукулер — народ западноатлантической подгруппы той же группы, проживающий главным образом в Сенегале и Мавритании. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Касба — старинный мусульманский квартал города Алжира.
(обратно)3
«Бико» («козел») — презрительное прозвище, употребляемое во Франции по отношению к арабам.
(обратно)4
В конце 60-х годов по Орлеану разнесся антисемитский слух, будто в местных еврейских магазинчиках готового платья начали исчезать женщины: в примерочных им, дескать, делают уколы, а затем тайно переправляют в дома терпимости Азии и Африки. С тех пор выражение «орлеанские слухи» стало синонимом самых нелепых и вздорных сплетен.
(обратно)5
Зимний велодром в Париже в период оккупации служил сборным пунктом для отправки в концлагеря.
(обратно)6
В витринах мясных лавок обычно выставляются телячьи головы, украшенные петрушкой.
(обратно)7
Фаршированная рыба (идиш).
(обратно)8
Слава Аллаху (араб.).
(обратно)9
Во время карнавалов в Ницце разыгрываются шуточные цветочные баталии.
(обратно)10
Жаргонное название марихуаны.
(обратно)11
HLM — сокращение от «Habitation a Loyer Modere» — «жилье с умеренной квартирной платой», официальное название кварталов бедноты.
(обратно)12
Строка из поэмы В. Гюго «Искупление» (1853). Перевод Г. Шенгели.
(обратно)13
Магазинчик для эротоманов (англ.).
(обратно)14
Имеется в виду Стена плача в Иерусалиме, оставшаяся от разрушенного в 70 г. н. э. храма Ирода и на протяжении многих веков служившая евреям местом для вознесения молитв.
(обратно)15
Торжественно отмечаемое у иудеев тринадцатилетие (идиш).
(обратно)16
Футбольная команда.
(обратно)17
Уджда — город на северо-востоке Марокко.
(обратно)

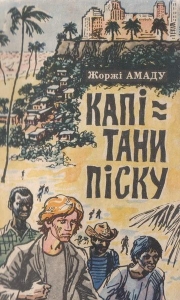

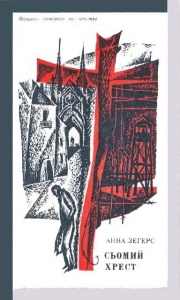
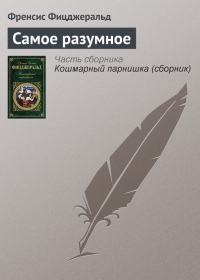
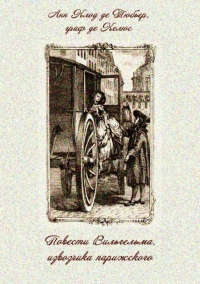
Комментарии к книге «Жизнь впереди», Ромен Гари
Всего 0 комментариев