Шмуэль-Йосеф Агнон Теила
Была в Иерусалиме старушка. Чудесная старушка, никогда такой не видел. Умная, справедливая, скромная удивительно, симпатичная необыкновенно. Глаза внимательно светятся, а морщинки на лице такие мирные, светлые. Если бы женщины могли походить на ангелов, я сравнил бы ее с ангелом Б-жьим. И еще у нее была девичья живость. Не носи она старушечьи платья, вы бы в ней не увидели старости.
Пока я не уезжал из Иерусалима, я не знал ее. Вернувшись, снова в Иерусалим, я с ней познакомился. Как же я не знал ее раньше? А как вы не знаете ее сейчас? Просто каждому на роду написано познакомиться с тем, кого он встречает, и в каком месте, и в какое время, и при каких обстоятельствах. При каких обстоятельствах я с ней познакомился? Было так. Пошел я навестить одного иерусалимского ученого мужа, который живет у Западной Стены, и не нашел его дом. Встретил женщину с ведром в руке и спросил. Она сказала: Пойдемте, покажу. Я сказал: Стоит ли мне затруднять вас? Видно, лучше вернуться обратно. Она улыбнулась и сказала: Вам жалко, если старуха сделает мицву?[1] Я сказал: Если это мицва, — пожалуйста, только дайте мне ваше ведро. Она улыбнулась и сказала: Вы хотите умалить мою мицву? Я сказал: Я хочу умалить не мицву, а беспокойство. Она сказала: Это не беспокойство, это дар Всевышнего, когда Он дает нам силы самим нести свою ношу.
Мы прыгали с камня на камень в извилистых переулках, сторонясь верблюдов, ослов, водоносов, бездельников и любителей новостей. Наконец, остановилась моя провожатая и сказала: Вот дом, который вы ищете. Я сказал ей и вошел.
Я нашел его дома. Он сидел у стола. Не знаю, вспомнил он меня или нет, как раз перед моим приходом он сделал великое открытие. Поэтому, увидев меня, он рассказал мне о нем. Потом рассказал еще раз. Когда я собрался уходить, я хотел спросить его о старушке, показавшей мне дорогу. У нее было такое мирное лицо и такой приятный голос. Но разве можно отвлечь ученого мужа, увлеченного наукой?
Через несколько дней я снова шел в город к одной старушке, вдове раввина, сыну сына которой я перед возвращением в Иерусалим обещал навестить ее.
В этот день начались зимние дожди, и солнце сжалось за облаками. Такой день за границей считается осенним, но жители Иерусалима, которые семь месяцев в году нежатся на солнце, каждый день, когда солнце не палит вовсю, считают зимой. В такой день все прячутся в домах или во дворах — везде, где только есть крыша.
Я разгуливал взад и вперед, вдыхая свежесть дождей, моросивших в цветном тумане, с шумом несшихся по камням, стучавших о стены домов, плясавших на крышах и нисходивших капелью, образуя множество луж, то мутных, то кристальных, сверкающих в лучах солнца, которое выходило справиться из облаков — не убывают ли воды. В Иерусалиме солнце даже в дождливый день не забывает о своем долге.
Я прошел под сводами лавок ювелиров и продавцов ароматов, мимо сапожников и ткачей одеял, мимо варящих пищу и попал на еврейскую улицу. Окутанные тряпками и остатками тряпок сидели нищие, которые ленились даже руку высунуть из-под лохмотьев, и с гневом смотрели вслед проходившим, не протянувшим руку к карманам. У меня было немного мелочи. Я шел от одного к другому и раздавал всем. Затем я спросил, где дом вдовы раввина, и мне его показали.
Я вошел во двор, в один из тех дворов, при виде которых у вас возникает сомнение, живет ли здесь кто-нибудь вообще, поднялся на шесть или семь ступенек по разбитой лестнице и очутился у покосившейся двери. Снаружи я увидел кошку, а внутри — кучу отбросов. Из-за холода не было видно ни души, и только сердитый, мрачный голос спросил: Кто здесь? Я поднял глаза и увидел нечто вроде железной кровати, на которой горой громоздились подушки и одеяла. Под горой лежала испуганная и рассерженная старушка.
Я сказал и сообщил, что приехал из-за границы и пришел передать привет от сына ее сына. Она под подушкой просунула руку, подтянула одеяло под самую шею и спросила, сколько домов у ее внука, есть ли служанка, в каждой ли комнате ковер. Затем она вздохнула и сказала, что этот холод сживет ее со света. Увидев, как ей докучает холод, я решил, что керосиновая печь должна облегчить ее страдания. Я напряг все свои дипломатические способности и сказал, что ее внук дал мне деньги, чтобы купить ей печку, переносную печку, в которую наливают керосин и зажигают фитиль, и она горит и распространяет тепло. Я вытащил кошелек и сказал ей: Вот деньги. Она также дипломатично ответила: Как я могу купить печку, разве у меня есть ноги? Ледышки у меня, а не ноги. Пока этот холод сведет меня на Ар А-зейсим,[2] я раньше сойду с ума. А там, за границей, говорят, что Израиль — теплая страна. Теплая она для грешников в аду. Я сказал ей: Завтра выглянет солнце и больше не будет холодно. Она сказала: Пока утешение придет, душа изойдет. Я сказал: Через два часа я пришлю вам печку. Она сжалась среди подушек и одеял, показывая этим мнимому добродетелю, что нечего на него полагаться.
Я попрощался, вышел на улицу Яффо, купил самую лучшую переносную печь и послал ее старой раввинше. Через час я вновь зашел к ней, вдруг она не знакома с переносными печами и нужно научить ее искусству зажигать их. По дороге я подумал, что, пожалуй, не услышу из ее уст слова благодарности. Есть разные старушки. Та, что привела меня к дому ученого мужа, была мила и приятна, эта же, которой я послал печку, в тягость даже тем, кто желает ей добра.
Тут я должен оговориться. Я совсем не хотел похвалить одну за счет недостатков другой. И тем более не собирался описывать город и его население. Человеческий глаз ограничен, он не в состоянии вместить город Всевышнего, благословенно Его Имя. А если это так, так почему я вспомнил раввиншу? Потому что у входа в ее дом я вновь встретился с той старушкой.
Я посторонился, освобождая дорогу. Она остановилась и спросила о моем здоровье, как спрашивают у близких. Я немало удивился. Не из тех ли она старушек, которых я знал в Иерусалиме до отъезда? Но почти все они умерли, угасли от голода в дни войны, а если и осталась какая-нибудь, то ведь и я изменился. Из Иерусалима я уехал юношей, а теперь годы жизни на чужбине сделали меня стариком, — могла ли она узнать меня?
Она заметила, что я удивлен, засмеялась и спросила: Разве вы не узнаете меня? Это ведь вы хотели нести мое ведро, когда я вам показала дорогу. Я сказал: Это вы показали мне дорогу, а я стою и удивляюсь, будто не знаю вас. Она засмеялась и сказала: Разве вы должны знать всех старушек в Иерусалиме? Я сказал: А как вы узнали меня? Она ответила: Такой уж город Иерусалим, глаза его ждут прихода детей Израиля, и каждый, кто приходит сюда, остается в нашем сердце, и мы не забываем его. Я сказал ей: Холодный сегодня день дождь и ветер, а я стою и задерживаю вас. Она ласково сказала: Я знала холода сильнее иерусалимского. А что дождь и ветер, — разве мы не молимся Приносящему дождь и ветер?[3] Ты сделал великую мицву, ты оживил старые кости. Печка, которую ты прислал раввинше, согрела ей душу. Я опустил голову, пристыженный похвалой. Она почувствовала и сказала: Мицвот даны не для того, чтобы их стыдиться. Наши предки совершали множество мицвот и не разглашали своих дел. Но теперь у нас мицвот немного, и сделать мицву известной — тоже мицва. Пусть и другие услышат и учатся нашим делам. Иди теперь, сыночек, к раввинше, посмотри, как мицва может согреть.
Я вошел к раввинше и нашел ее сидящей у затопленной печки.
Капли света вытекают из дырочек печки, и весь дом наполнен теплом, и тощая кошка у нее на коленях, и она смотрит в печку и обращается к кошке: Мне кажется, ты радуешься теплу больше, чем я. Я сказал: Я вижу, что печка хорошо горит и греет. Довольна ты своей печкой? Раввинша сказала: Довольна? Разве оттого, что я скажу, она перестанет пахнуть или будет лучше греть? В моем доме была печка, так она горела с исхода Суккот и до Песах, а грела, как солнце в середине лета. Все радовались этой печке, не то что сегодня эти печурки греют лишь минуту. Правда, что же требовать от теперешних изобретателей, разве могут они делать хорошие вещи? Хорошо еще, что они делают вид, что что-то делают. Я это сказала в нашем городе после смерти раввина, моего мужа (да почиет он в мире), когда в наш город пришел новый раввин. Я им сказала: вы думаете, он будет таким, каким был ваш покойный раввин? Хорошо еще, если он не наделает бед. И когда соседи пришли посмотреть печку, которую мне прислал мой внук из-за границы, я им тоже сказала: печка стоит нынешнего поколения, а поколение стоит этой печки. Что пишет тебе мой внук? Ничего не пишет? Мне он тоже не пишет. Он считает, что раз прислал мне какую-то печку, то уже выполнил долг.
Расставшись с раввиншей, я сказал себе: я тоже думаю, что выполнил долг, послав ей какую-то печку, и больше не должен к ней ходить. Но в конце концов я снова пришел к ней по милости той же симпатичной старушки. Предначертанное нам число встреч, видимо, еще не исполнилось.
И снова я должен сказать, что не собираюсь описывать все, что случилось со мной в эти дни. Дела наши многочисленны, и если говорить обо всем, не хватит сил. Но о том, что касается старушки, стоит рассказать.
В канун рош ходеш[4] я, как и все иерусалимцы, отправился к Западной Стене. Зима уже почти прошла, появились весенние побеги. Небо высилось во всей своей чистоте, земля уже сбросила с себя грустные покровы. Солнце играло в небе, и город плыл в его свете. И если бы не наши беды, было бы совсем весело. Ой, много бед и много горя было тогда, прямо одно за другим.
От Яффских ворот и до самой Стены идут и идут мужчины и женщины, из всех общин, какие только есть в Иерусалиме. Идут олим хадашим, которых привел Всевышний на это место, а места они все еще не нашли.
Вдоль всей Стены в будках мандатной полиции расселась мандатная полиция, чтобы всем было видно, что только она охраняет молящихся. Видят это наши враги и украдкой выжидают. Кутаются в талесы молящиеся, втискиваются в камни Стены. Кто молится, а кто дивится: а Ты, Г-споди, доколе? Мы уже опустились до последней ступени, а Ты все не спешишь с Избавлением.
Я нашел себе место у Стены и стоял не то среди молящихся, не то среди дивящихся. Я удивлялся народам мира. Мало того, что они угнетают нас во всех странах мира, они то же продолжают и здесь — в нашем же доме.
Пока я стоял и думал, меня согнал с места мандатный полисмен с дубинкой в руке. Что его так разгневало, что он так кипит? Одна болезненная старушка пришла сюда с табуретом. Вскочил полисмен, толкнул табурет, повалил старуху и отобрал у нее табурет. Она преступила закон, начертанный перстом мандата, — нельзя приносить стулья к стене. Все видели, все молчали. Разве добьешься правды у сильного?
Пришла моя знакомая старушка и посмотрела на него. Опустил полисмен глаза и возвратил табурет.
Я приблизился к ней и сказал: Ваши глаза сильнее всех обещаний Англии. Англия дала нам декларацию Бальфура и посылает ее же отменяющие приказы, а вы только посмотрели на этого бандита и сразу же рассеяли все его злые помыслы. А она сказала: Не говори так, он хороший, он увидел в глазах огорчение и возвратил бедняге табурет. Вы уже помолились? Почему я спрашиваю? Потому что если да, то я вместе с вами исполню мицву посещения больных. Раввинша, чтобы она была здорова, заболела. Она сегодня очень больна. Если хотите, я поведу вас короткой дорогой. Я согласился и последовал за ней.
Мы кружим из переулка в переулок, из двора во двор. На каждом шагу она останавливается, чтобы дать кусок сахара ребенку, грош бедняку, спросить мужа о здоровье жены, жену о здоровье мужа. Я сказал ей: Вы каждого спрашиваете о здоровье, позвольте же и вас спросить о том же. Она ответила: Благословенно Его Имя, с Ним мне всего хватает. Всевышний всем людям дает все необходимое, и я в их числе. Я больше всего благодарна Ему, что сегодня Он удвоил мою долю. Я спросил ее: Какую? Она ответила: Я всегда успеваю прочесть один «день» из Теилим,[5] а сегодня я успела два. И, сказав, погрустнела. Я сказал: Ваша радость ушла. Она, помолчав, сказала: Да, сыночек, я была рада, теперь нет. И, сказав это, повеселела. Подняла глаза и сказала: Слава Б-гу, рассеялась грусть. Я сказал: Отчего вы погрустнели и снова повеселели? Она ласково сказала: Если не рассердишься, я скажу тебе, что не так ты должен был спросить, а. Ведь для Него все равно, что радость, что грусть. Я сказал ей: Может случиться, что я и рассержусь, что вы учите меня говорить. Ведь написано:. Она сказала: Ты хороший и хорошо приводишь текст. И я все-таки расскажу тебе что-то хорошее. Ты спросил, почему я была весела, а потом печальна, а потом повеселела. Ты знаешь, наверное, что все дела человека предначертаны ему с рождения и до самой смерти, даже сколько раз он прочтет Книгу Псалмов. Бывает, что удается за день прочесть всю книгу, а бывает, что только. Сегодня после мизморим я пошла дальше и прочла два. Потом я подумала и вдруг поняла: может быть, я больше не нужна на свете и меня торопят завершить то, что я должна завершить? Приятно благодарить, а ведь когда я умру, я не смогу прочесть ни одного псалма, даже ни одной буквы. Увидел Всевышний мою печаль, и тронуло Его мое желание. А если хотел бы Он завершить мою жизнь, так что я такое, чтобы грустить? И Он сразу снял с меня всю мою грусть, благословенно Его Имя.
Я посмотрел на нее: какими же путями приходят к такому смирению? Я начал думать о молодости поколений, отличавшихся добрыми нравами. Я заговорил с ней об ушедших поколениях Я сказал ей: В ваших глазах я увидел больше, чем все сказанное мною сейчас. Она ответила: Когда человеку дано прожить долгие дни и годы, ему многое случается видеть — и хорошее, и даже еще лучше хорошего. Я попросил ее: Расскажите о хорошем. Она помолчала и сказала: В детстве я была болтливым ребенком. С утра и до вечера рот у меня не закрывался. А у нас был сосед, старик. Как-то он сказал, насытившись моей болтовней: Жалко девочку. Если она истощит весь свой запас слов в детстве, то что же она будет делать, когда станет старушкой? Я испугалась, — не может ли так случиться, что завтра я онемею? Но со временем я поняла мысль старика: человек не должен торопиться делать то, на что ему предназначены долгие годы. И я приучила себя взвешивать каждое слово, нужно произнести его или нет. И так как я начала беречь слова, запас мой еще не истощился. А теперь, когда я еще сохранила его, ты хочешь, чтобы я так сразу его и потратила. Если я это сделаю, я сокращу свои дни. Я сказал: Этого я совсем не просил. Что же это, мы идем-идем и все еще не пришли к дому раввинши. Сказала старушка: Ты помнишь, наверное, город был раньше сплошным проходным двором. А теперь, когда его заселили арабы, мы должны обходить их, и дороги стали длиннее.
Мы вошли в один двор. Она сказала: Видишь этот двор? Раньше здесь жило сорок еврейских семей, здесь были две синагоги, здесь молились, и днем и ночью учили Тору, и они покинули этот двор. Пришли арабы и поселились в нем. Мы подошли к кофейне. Она сказала: Видишь этот дом? Здесь была большая иешива, здесь сидели и учили Тору, эту иешиву оставили. Пришли арабы и поселились здесь. Мы миновали стоянку ослов. Видишь этих ослов? Здесь была столовая, и честные бедняки входили сюда голодными и выходили сытыми. И эту столовую тоже оставили. Пришли арабы и поселились в ней. Дома, в которых обитали молитва и Тора и человеческое добро, теперь наполнились криком ослов и голосами арабов. Ну, а теперь, сыночек, мы пришли ко двору раввинши. Заходи, я тоже зайду вместе с тобой. Бедняжка, она видит мнимые сокровища где-то за морем, а подлинных совсем не видит. Я сказал: Какие сокровища? Она улыбнулась: Спрашиваешь? Разве ты не читал Какие же дворы у Всевышнего? Дворы Иерусалима. Когда говорят, прибавляют. Если я говорю, я не прибавляю ни слова, Святость Иерусалима в самом имени. Иди, иди, сыночек, и не споткнись на лестнице. Сколько раз я говорила со старостой иешивы, что лестницу надо починить. И что он ответил? Что двор все равно разваливается, и что его все равно сломают, и что он не станет тратить на него ни гроша. Вот так и ветшают дома Израиля, а потом их оставляют, и приходят арабы и поселяются в них. Дома, которые отцы со слезами строили, покинуты их сыновьями. Но я снова начинаю болтать и укорачиваю свой век.
Придя к раввинше, я нашел ее лежащей в постели, с закутанной головой, с платком на шее, и кашляла она так, что склянки с лекарствами, стоявшие возле постели, содрогались от этого кашля. Я спросил ее: Вы больны? Она застонала и глаза ее наполнились слезами. Я хотел утешить ее и не нашел слов утешения, опустил глаза и сказал: Больна и одинока. Она вновь застонала и сказала: Больна, совсем больна. Во всем мире нет такой больной, как я. Но я, во всяком случае, не одинока. Даже здесь, в Иерусалиме, где меня совсем не знают, не знают, в каком почете я жила раньше, даже здесь нашлась женщина, которая заходит ко мне и приносит поесть горячее. Что слышно о сыне моего сына? Он, верно, сердит на меня, что я не написала ему ни слова благодарности за печку. Но скажите, разве я в силах идти покупать чернила и бумагу и писать письмо? Я с трудом подношу ложку супа ко рту. Странно, что эта Тили до сих пор не пришла. Я сказал: Если вы имеете в виду ту симпатичную старушку, то она сказала, что скоро придет. Сказала раввинша: Я не знаю, симпатичная она или нет, но что она делает, то, правда, делает, посмотри, сколько праведниц в Иерусалиме целый день как пчелы жужжат псалмы и молитвы, а хоть бы одна пришла спросить ребецн, может вам что-нибудь нужно? Ой, голова, если сердечные боли не сведут меня с этого света, это сделают головные.
Я сказал: Я вижу, вам тяжело говорить. Она сказала: Тяжело. Я вся в тягость самой себе. Даже кошка почувствовала и ушла из дома. А говорят, что кошка привязана к дому. Наверно, соседские мыши вкуснее, чем то, что я ей давала. Что я хотела сказать? Все, что хочу сказать, забываю. Не то что Тили. Столько лет у нее за плечами, а голова до сих пор в порядке. Она же вдвое старше меня. Если бы жив был мой отец, праведной памяти, то он перед ней был бы ребенком. Я сказал: Кто она такая, эта Тили? Сказала раввинша: Ты же о ней только что говорил. Теперь уже Тили никто не знает. А раньше все знали Тили, она ведь была необычайно богата. Когда она оставила все и приехала в Иерусалим, она привезла бочки с золотом. Если не бочки, то одну бочку, наверное, привезла. Мне рассказали соседки, которым рассказывали служанки, что когда Тили приехала в Иерусалим, все самые почтенные люди в городе ходили за ней по пятам. Кто для себя, а кто для сына. Но она всех отвергала и осталась вдовой. Сначала богатой вдовой, потом зажиточной и наконец просто старушкой.
Я сказал: Посмотреть на Тили, можно подумать, что она прожила легкую жизнь. Посмеялась надо мной раввинша и сказала: Легкую, говорите? Она вообще не видела ничего хорошего. Врагам своим я не пожелаю того, что было у Тили. Ты думаешь, наверно, что если она не нуждается в милостях иешивы, то жизнь ее — одно удовольствие. Я скажу тебе, что даже нищий, что по домам побирается, с ней бы не поменялся. Ой, боли, какие боли! Я их забываю, а они меня нет.
Я видел, что раввинша знает больше, чем говорит, но чувствуя, что если я спрошу ее, она ни за что не ответит, я встал со стула и собрался уходить. Она сказала: Не успел трубочист залезть в трубу, а лицо уже в саже. Еще не посидел, а уже уходить собрался. Что ты спешишь? Я сказал: Если хотите, я посижу. Она промолчала.
Я завел разговор о Тили и сказал: Расскажите мне что-нибудь о ней. Она ответила: А кому от этого будет легче? Тебе или мне? Не люблю я, когда начинают истории рассказывать. Лепят паутинку к паутинке и говорят: дворец. Я скажу тебе только одно: сжалился Всевышний над тем цадиком и потому вселил нечистый дух в мешумедку,[6] будь она проклята. Что ты на меня смотришь? Не понимаешь идиш? Я сказал, что идиш я понимаю, но не могу понять ее язык. Какой цадик, какую мешумедку она ругает? Сказала раввинша: А что я, хвалить ее должна, надо сказать: молодец, мешумедка, променяла золотой динар на медный грош? Снова уставился, будто я говорю по-турецки. Ты слышал, что мой муж, царство ему небесное, был раввин. Поэтому меня называют раввиншей. Но ты не слышал, что мой отец был тоже раввин, и такой раввин, что все раввины могли бы быть его учениками. Если я говорю раввин, я имею в виду настоящих раввинов, а не таких, что прикрываются плащом учености и только носят имя раввина. О, этот мир, эта ложь, все в нем суета и ложь. Но мой отец, царство ему небесное, был настоящий раввин, с самого детства. И потому все сваты, какие только были в стране, не могли подобрать ему невесту. Была одна богатая вдова. Если я говорю богатая, так она действительно была богатая. И у нее была единственная дочь, лучше бы ее не было. Взяла она бочку золота и сказала сватам — кто сосватает ему мою дочь, тот получит эту бочку, если мало, — еще прибавлю. А дочь не была достойна этого цадика, потому что он был цадик, а она, чтоб душа ее вышла, была мешумедка, как это потом выяснилось, потому что она убежала и поступила в монастырь и перешла в их веру. И когда убежала? Когда вели ее к хупе.[7] Мать ее потратила половину состояния, чтобы вызволить ее оттуда. До самого царя дошла несчастная мать, но даже он не мог ничем ей помочь. Кто попадает в монастырь, больше оттуда не выходит. И ты знаешь, кто была эта мешумедка? Она дочь… Тсс, вот она идет.
Вошла Тили с кастрюлей в руках, увидела меня и сказала: Ты здесь? Сиди, друг мой, сиди. Посетить больную — это великая мицва. Раввинша уже поправляется. Всевышний не заставляет Себя ждать. Каждый час что-нибудь становится лучше. Я принесла тебе немного супа. Подними, дорогая, голову, я поправлю подушку. Вот так, дорогая. Жалко, сыночек, что не живешь в городе и не видишь, как раввинша поправляется, прямо с каждым часом.
Я сказал: Разве я не живу в Иерусалиме? Разве Нахалат Шив'а — это не Иерусалим? Тили сказала: Б-же упаси, кто это может сказать? Наоборот, будет время, когда Иерусалим дойдет до самого Дамаска. Но так уж глаза привыкли видеть Иерусалим только в пределах Стены, они не видят его в том, что строится за стенами. Страна Израиля вся священна, об окрестностях Иерусалима вообще говорить нечего, но внутри Стены — это святая святых. Я знаю, сыночек, ты все это знаешь не хуже меня, так зачем же я это все говорю? Просто хочу что-нибудь сказать в похвалу Иерусалиму.
Я почувствовал взгляд раввинши, понял, что ей неприятно, что Тили говорит со мной, а не с ней, попрощался и вышел.
Меня одолели заботы, и я не ходил больше в город. Потом заботы пришли вместе с туристами. Вы не знаете туристов. Они смеются над нами и над нашей страной, но когда она начинает распространяться по воле Всевышнего, у них появляется желание посмотреть. А уж если приезжают, то смотрят на нас так, будто мы специально родились, чтобы им услужить. Вообще туристы — это не плохо, потому что, показывая им, мы тоже что-нибудь видим. Раз или два я ходил показывать им Западную Стену и встретил Тили. Если я не ошибся, в ней появилось что-то новое. Всегда она ходила без палки, а теперь она шла и опиралась на палку. Из-за туристов я не смог остановиться и заговорить с ней. Они ведь приехали для того, чтобы увидеть страну, а не говорить со старушкой, которая не предусмотрена программой.
Когда туристы покинули Иерусалим, я не знал, что с собой делать. Хотел снова сесть за работу, но не стал работать. Взял и пошел в город, и обошел все места, где я был с туристами. Посмотрел то, что видел, и то, что не видел. Возобновляющий каждый день Творение, каждый час обновляет Свой город. Не то чтобы строили новые дома или сажали новые деревья, — сам Иерусалим каждый день обновляется. Каждый раз, когда я попадаю в город, я вижу его совершенно новым. Что в нем нового, я не могу сказать. Пусть попробуют великие толкователи объяснить.
Нашел меня тот ученый муж, затащил к себе и начал рассказывать про свои открытия. Сидели мы, сидели, я спрашиваю, он отвечает, я возражаю, и он возражает, я запутываю, он распутывает. Что может быть лучше и приятнее, чем сидеть в гостях у иерусалимского ученого мужа, углубляясь в Тору. Дом у него простой, и все в нем простое, и только мудрость в нем растет и растет, вроде тех оттенков цвета, которые можно видеть из окна в Иерусалимских горах. Скучные горы в Иерусалиме. Нет ни дворцов, ни парков. С тех пор как нас изгнали из нашей страны, один за другим приходили сюда народы и продолжали дело разрушения. Но горы стоят во всей своей красе, играют цветами радуги, а посередине — Ар Азейтим. Правда, лес на ней не зеленеет, но зато там могилы праведников, жизнь и смерть которых изучают все жители этой страны.
Когда я собрался уходить, хозяйка подошла к хозяину дома и сказала: Не забудь, что ты обещал Теиле. Он покачал головой и сказал: Чудеса. Сколько я знаю Теилу, она никогда никого ни о чем не просила. А теперь она попросила меня передать, что хочет тебя видеть. Я сказал: Ты имеешь в виду старушку, показавшую мне твой дом? Мне кажется, что ее зовут как-то иначе. Он ответил: Теила[8] — это полное имя от Тили. Ты можешь видеть на этом примере, что уже много поколений назад наши предки давали своим дочерям имена, которые, казалось бы, выдуманы сегодня. Мою жену, например, зовут Тхия.[9] Ты думаешь, наверно, что это имя выдумано возродившимся поколением. На самом деле это имя придумал великий Арим.[10] Он велел отцу бабушки моей жены назвать дочь Тхия, а по ее имени назвали мою жену. Я сказал: Ты говоришь о том, что было четыре-пять поколений назад. Разве она так стара? Он улыбнулся и сказал: На ее лице невозможно увидеть годы, а сама она о них не рассказывает, и если бы не случайное слово, мы бы совсем ничего не знали. Как-то Теила пришла к нам поздравить со свадьбой сына и пожелала ему и его жене дожить до ее лет. Сын спросил: как понять такое пожелание? Мне девяносто и одиннадцать лет, сказала Теила. Это было три года назад. Значит, теперь ей сто четыре.
Раз уж ты вспомнил о ней, скажи мне, кто она такая? Он ответил: Что я могу сказать? Праведница в полном смысле слова. И если у тебя есть желание, — зайди к ней. Но только я сомневаюсь, что ты ее застанешь. Она или навещает больных, или пошла, чтобы сделать еще какую-нибудь мицву, о которой никто не просил. А может быть, ты застанешь ее. Между мицвот она иногда бывает дома и чинит сиротские одежды. Раньше, когда она была богата, она помогала деньгами, теперь, когда у нее лишь остатки, самой едва хватает, она это делает собственными руками. И ученый довел меня до самой двери Теилы. По пути он рассказал еще о нескольких своих открытиях. Потом увидел, что я не слушаю, улыбнулся и сказал: С тех пор как я упомянул о Теиле, ты совсем оторвался от мира сего. Я сказал: Если хочешь, расскажи о ней еще что-нибудь. Он сказал: То, что я знаю о ней сейчас, я тебе рассказал, а что было с ней за границей, я не знаю кроме того, что знают все, — что она была богата, что у нее было крупное дело. Потом у нее умер муж, умерли дети, она оставила все дела и поселилась в Иерусалиме. Когда моя покойная мать видела Теилу, она всегда говорила: Теперь я понимаю, что могут быть вещи хуже вдовства, хуже даже, чем смерть детей. Что это такое, — мать не говорила, так что я не знаю и никто не знает, потому что все, кто ее знал за границей, давно уже умерли, а Теила не любит рассказывать о себе. Даже теперь, когда она изменилась и стала больше разговаривать, она никогда не говорит о себе. Вот мы и пришли. Сомневаюсь, застанешь ли ты ее дома, она большей частью ходит из хедера в хедер и раздает детям сладости.
Через несколько минут я стоял в комнате Тили. Тили сидела у стола, будто ожидая меня. Комната была маленькая, с толстыми стенами и сводчатым потолком, как строили в прошлом. И если бы не небольшая кровать в углу и глиняный кувшин на столе, я бы подумал, что она предназначена для молитвы. И все же скудность предметов: медная лампа, медная кружка для смывания рук, медная разветвленная люстра, а также стол, на котором покоились сидур, хумаш и еще какая-то книга, — придавала комнате вид молельни.
Я слегка поклонился и сказал: Благословенны присутствующие. Она ответила: Благословенны приходящие. Я сказал: По-царски вы здесь живете. Она ответила: Все дочери Израиля царского происхождения, и я, Теила,[11] хвала Всевышнему, я тоже дочь Израиля. Хорошо, что ты пришел, я хотела тебя видеть. И не только видеть, но и поговорить. Хотел бы ты оказать мне услугу? Я сказал: До полцарства. Она сказала: Ты прав, что говоришь о царстве. Все сыновья Израиля царского рода, и их дела — царские дела. И когда один сын Израиля делает другому услугу, он поступает по-царски. Сиди, сыночек, сиди. Сидя, удобнее говорить. Я отнимаю у тебя время. Ты, наверное, занят, ты должен сейчас работать. Прошли те времена, когда времени было вдоволь и мы были рады посвящать его беседе. Теперь все бегут, все спешат. Все совершенствуются в быстроте, чтобы иметь силы бежать навстречу Мессии. Смотри, сыночек, как я стала болтлива. Я забыла слова того старика, который меня предостерегал.
Я сел напротив и ждал, что она скажет, зачем она звала меня. Но вспомнив про старика, она погрузилась в молчание. Наконец, она взглянула на меня, отвела глаза и снова взглянула, словно проверяя посланца, годится ли он для избранной ею миссии. Наконец, она заговорила. Она сказала мне о смерти раввинши, которая умерла этой ночью, в то время как печка ее горела и кошка грелась у печки, потом ее унесли, и кто-то пришел и взял ее печку. Видишь, сыночек, сказала Теила, человек делает мицву, а потом сама мицва делает другую мицву. Ты сделал мицву той бедняжке, а мицва, в свою очередь, сделала мицву другому человеку, которому тоже нужно было согреть свои кости зимой. И она снова взглянула на меня и сказала: Ты, наверное, удивлен, что я просила тебя прийти. Я сказал: Напротив, я рад. Она сказала: Если ты рад, то я тоже. Я рада, что нашла человека, готового сделать услугу. А ты чему рад? Помолчав, она сказала: Я слышала, что ты пишешь. Как теперь говорят, писатель. Я надеюсь, что ты одолжишь мне свое перо для небольшого письма. Я уже много лет собираюсь его написать. Если только ты согласен написать его для меня.
Я вынул вечное перо. Она посмотрела на него и сказала: Ты носишь с собой перо, как некоторые носят ложку, попадется еда на пути, — есть у них ложка. Я сказал ей: Здесь еда в самой ложке. И объяснил ей, что это за перо. Она взяла в руки перо и сказала: Ты говоришь, здесь есть чернила, но я не вижу ни капли чернил. И я снова ей объяснил, где чернила. Она сказала: В таком случае напрасно обвиняют нынешнее поколение, что все его изобретения только во зло. Оно изобрело переносную печку и это перо, вероятно, есть и другие полезные людям вещи. Чем больше живешь, тем больше видишь. Но ты все же возьми мое перо и эти чернила. Я не сомневаюсь в твоем пере, но это письмо ты напиши моим. Вот бумага. Это гербовая бумага, ей очень много лет. Тогда еще делали хорошую бумагу. Столько лет она у меня — и еще совершенно новая. Есть у меня к тебе еще одна просьба: пиши такими буквами, как в сидуре или как в Торе. Писатель, даже если ему не пришлось написать свиток Торы, мегилу, наверно, когда-нибудь написал. Я сказал: Когда я был еще мальчиком, я написал мегилу, кашерную, по всем правилам. Не знаю, поверите ли вы мне или нет, но все, видевшие эту мегилу, хвалили ее. Она сказала: Хотя я ее и не видела, я представляю себе, что ты хорошо умеешь писать. Пойду сварю тебе стакан эзова, а ты пока пиши. Я сказал: Не беспокойтесь, я только что пил. Она же сказала: Так чем я тебя угощу? Я тебе дам кусок сахара, скажи благословение, а я отвечу амен.
Она достала кусочек сахара и протянула мне. Спустя некоторое время она сказала: Возьми перо, обмакни, начнем писать. Я тебе буду говорить на идиш, а ты пиши на лошн койдеш.[12] Я слышала, что теперь девочек учат писать и говорить на лошн койдеш. Видишь, сыночек, Всевышний ведет Свой мир от поколения к поколению и все время к лучшему. Когда я росла, не было такого обычая. Но все же я понимаю молитвы, хумаш и теилим и Пиркей Авот. Ой, сыночек, я же сегодня не кончила. Я знал, что она имеет в виду теилим, и сказал Почему вы сказали? Вы должны быть рады. Рада? Я сказал: Вам свыше прибавили день к вашим дням. Она вздохнула и сказала: Если бы я знала, что завтра придет Мессия, я бы рада была прожить еще день на земле. Но жить день за днем, когда он не приходит, что за радость? Я не ропщу на свои годы, — если такова Его Воля, чтобы я еще жила, почему же, я согласна. Я только спрашиваю себя, до каких пор может ходить по земле этот мешок с костями? Более молодые уже покоятся на Ар Азейтим, а я несу ноги, пока совсем не сотрутся. Разве не приятно прийти туда с целыми руками и ногами и возвратить залог в приличном состоянии? Я, конечно, не тучность имею в виду, это только тяжесть носильщикам, но все же умершему подобает иметь целые члены. Снова я разболталась. Но теперь уже все равно. Словом больше, словом меньше. Я могу возвратить залог владельцу. Бери, сыночек, перо, пиши.
Я обмакнул перо в чернила и стал ждать ее слов, чтобы написать их. Она же погрузилась в мысли, словно забыв о моем присутствии. Я сидел, рассматривая каждую морщинку, каждую складочку на ее лице. Сколько превратностей судьбы пережила она! Она имеет обыкновение говорить, что видела в жизни добрые вещи и более чем добрые. Насколько мне известно, она видела много недобрых вещей. Она мне напоминает речение мудреца: скорбь в сердцах праведных и ликование на их лицах. Вдруг она вспомнила обо мне, повернула ко мне лицо и сказала: Начал? Я сказал: Вы еще не сказали мне, что писать. Она сказала: Начало ты знаешь сам как писать. Начинают хвалой Всевышнему. Я разгладил бумагу, взял перо и написал:… Она выпрямилась, осмотрела написанное и сказала: Хорошо, красиво. Что теперь будешь писать? Пиши здесь. В святом городе Иерусалиме, да будет он отстроен и воздвигнут вновь в наши дни и в ближайшее время. Амен. Просто так когда я говорю, я называю Иерусалим, я ничего не прибавляю, но в письме нужно упомянуть о святости города и еще просьбу о его воздвижении, чтобы сердце того, кто будет читать, обратилось к Иерусалиму, и сжалилось над ним, и вознесло за него молитву. А теперь, сыночек, напиши сегодняшний день, главу из Торы, которая приходится на эту неделю и год.
После того как я написал дату, она прибавила: А теперь, сыночек, постарайся и напиши ламед с высоким хвостом. Написал? Покажи, как вышло. Нельзя сказать, чтобы некрасиво, а все-таки надо хвостик выше. Теперь, сыночек, напиши рядом каф, а за ней бет, а после нее вав. Вав, я сказала. А теперь далет. И вот вышло лихвод. Очень красиво. Тот, которому ты пишешь, стоит красивого письма. А теперь напиши:… Уже? Ты думаешь быстрее, чем я говорю. Пока я соберу свои мысли, ты уже их и написал. Твой отец, да осветит Г-сподь его рай, не зря платил деньги за твое учение. Извини, сыночек, я устала. Отложим письмо до другого дня. Когда ты можешь прийти? Я спросил ее: Завтра? Завтра? Ты хочешь прийти завтра? Какой завтра день? Канун рош ходеш. Канун рош ходеш очень подходит. Итак, завтра. Пусть будет завтра.
Я видел, что она погрустнела, и подумал про себя — канун месяца — это день молитвы, день, когда все едут на гробницу Рахили, — у нее, наверное, нет времени писать письмо. Я сказал ей: Если вы не свободны завтра, я приду в любой другой день. А почему не завтра? Я сказал: Ведь завтра рош ходеш. Она сказала: Сыночек, ты напомнил мне о моем несчастье. Канун месяца, а я не могу поехать на гробницу матери Рахили. Почему? Почему? Потому что ноги меня не несут. Я сказал ей: Но ведь есть извозчики, есть автобусы. Теила сказала: Когда я приехала в Иерусалим, еще не было автобусов, и даже извозчиков не было, и мы ходили пешком. И так как я привыкла всю жизнь ходить пешком, мне уже ни к чему менять привычку. Как ты сказал, придешь завтра? Если хочет Всевышний дать мне завершить то, что я задумала, он продолжит мою жизнь еще на один день. Я попрощался, ушел, и на следующее утро вернулся.
Я не знаю, должен ли был я так поспешно прийти. Может быть, если бы я отложил свой приход, дни ее были бы продолжены.
Войдя, я сразу увидел, что в ней что-то изменилось. Ее лицо всегда светилось, теперь этот свет был еще явственнее. И комната ее светилась так же, как и лицо. Камни пола сверкали чистотой, как и все предметы в доме. На маленькой кровати была разостлана свежая простыня, края стен были покрашены синей известкой. На столе стоял кувшин, прикрытый листом пергамента, рядом с ним — печать, свеча и бумага. Когда она успела побелить стены, когда вымыла пол, начистила все в доме? Если только ей не помогали ангелы, она должна была провести за этой работой всю ночь.
Она с трудом приподнялась и сказала шепотом: Хорошо, что ты пришел. Я думала, что ты забыл, и хотела уже пойти по делам. Я сказал: Если вам нужно, идите. Я приду позже. Она сказала: Мне нужно пойти заверить договор, но раз ты пришел, садись, — будем писать, а потом я пойду заверять.
Она встала, разложила письмо передо мной и принесла перо и чернила. Я взял перо, обмакнул и сидел, ожидая, когда она скажет мне, что писать. Она сказала: Ты уже готов? Я тоже. При этих словах лицо ее просветлело и улыбка тронула губы. Я снова обмакнул перо и посмотрел на нее. Она почувствовала взгляд и сказала: На чем мы остановились? Теперь пиши имя. Я снова погрузил перо в чернила и ждал, когда она скажет имя. Она прошептала: Шрага его зовут. Написал? Написал. Она прикрыла глаза, будто задремала. Потом встала со стула, всмотрелась в написанное и тихо повторила: Шрага его зовут. Шрага. Снова села и умолкла. Потом, наконец, очнулась и сказала: Я вкратце расскажу тебе, что писать. Подождав, она сказала, прищурившись: Придется сначала все рассказать. Ты будешь знать, о чем идет речь и что нужно писать. Это старая история, это было очень много лет назад. Девяносто и три года назад. Она приблизила к себе свою палку и оперлась на нее лицом. Потом подняла голову и некоторое время смотрела удивленно, как будто думала, что она одна, — и вот увидела перед собой постороннего. Не стало вдруг ее спокойствия, на лице проступили горе и гнев. Она поискала рукой палку, оставила ее, снова взяла и оперлась, потом провела по лицу рукой так, что разгладились все морщинки. И снова сказала: Если я все расскажу, тебе будет легче писать. Ты ведь имя уже написал: Шрага. Теперь я тебе все расскажу с самого начала.
Она подняла глаза и огляделась. Убедившись, что мы совершенно одни, она начала: Тогда мне было одиннадцать. Откуда мне известно, сколько мне тогда было лет? Мой отец, благословенной памяти, имел привычку записывать в хумаше рождение каждого ребенка, девочек тоже. В хумаше можно было увидеть. Когда я уезжала в Иерусалим, братья, благословенной памяти, отказались от своего права на хумаши отца и передали их мне. Все это было очень давно, девяносто и три года назад. Но я все хорошо помню. Я расскажу тебе, а ты поймешь и все остальное. Если есть у тебя желание слушать, я начну. Я кивнул головой и сказал: Рассказывайте.
Она снова начала: Так вот, мне тогда было одиннадцать. Однажды после вечерней молитвы приходит отец, благословенной памяти, и с ним несколько знакомых, и Петахия, отец Шраги. Когда они пришли, мама велела мне вымыть лицо и надеть субботнее платье. И она тоже надела субботнее платье, повязала голову шелковым платком, взяла меня за руку и вместе со мной вышла в большую комнату, где отец сидел с гостями. Посмотрел на меня отец Шраги и сказал: девочка недурна. Отец погладил меня по щеке и обратился ко мне: Теила, ты знаешь, кто с тобой говорит? Отец твоего жениха говорит с тобой. Поздравляю, дочка, сегодня ты обручилась, и вот ты уже невеста. Все принялись поздравлять меня, говорить мазал тов, и все называли меня невестой. Мама меня подхватила и увела в свою комнату, подальше от дурного глаза. Там она поцеловала меня и сказала: теперь ты наречена Шраге и с Б-жьей помощью через год, когда жених уже наденет тефиллин, мы поведем вас к хупе.
Я знала Шрагу, мы играли в орехи и в прятки, пока он не вырос и не начал учить Гемору.[13] С тех пор как нас обручили, я видела его каждую субботу. Он приходил к моему отцу и повторял в его присутствии все, что он учил за неделю. Мама давала мне в руки сладости, и я ставила их перед отцом, а он гладил меня по щеке и улыбался жениху.
Тем временем начались приготовления к свадьбе. Отец Шраги сам написал для него тефиллин, мой отец купил ему талит, а я сшила мешочек для тефиллин и большой — для субботнего талита.
В одну из суббот, недели за четыре до того, как была назначена свадьба, Шрага не пришел к отцу. После минхи[14] отец спросил о нем в синагоге, и ему сказали, что он уехал. Куда уехал? Он уехал к хасидскому ребе. Отец Шраги взял сына с собой, чтобы он мог получить благословение ребе перед тем, как в первый раз надеть талит и тефиллин. От этого известия у отца в глазах потемнело. Он не знал, что отец Шраги принадлежит к «секте».[15] Он скрывал свою принадлежность к хасидам, ибо тогда они еще подвергались унижениям и преследованиям. А мой отец стоял во главе их гонителей, и хасиды для него были как бы и не евреи. После авдолы[16] отец разорвал тноим[17] и обрывки послал в дом Шраги. Во вторник Шрага с отцом вернулись из поездки и пришли к моему отцу. Тот прогнал их с позором. И Шрага поклялся, что никогда не простит, а отец даже не считал нужным просить у Шраги прощение, хотя и знал, что если возвращают тнаим, следует просить прощение. И когда мама умоляла его помириться со Шрагой, отец смеялся. Он сказал: только ты этой секты не бойся. Так ничтожны были хасиды в его глазах, что он пренебрег тем, что все строго соблюдают.
Все было готово к свадьбе. Дом был полон мешков с мукой и бочек меда, приглашены были женщины чтобы печь халы и пироги. Словом, все было готово к хупе. Не хватало только жениха. Отец позвал свата, и мне нашли другого жениха, и с ним я пошла под хупу.
Я не знаю, что дальше случилось со Шрагой, отец строго запретил всем в доме произносить его имя. Много времени спустя я слышала, что он и вся их семья переехали в другой город, потому что жить им стало невозможно. С того дня как отец расстроил свадьбу, их уже не вызывали читать Тору, даже в Симхат Тора. Дома у себя собирать миньян[18] они тоже не могли, ибо отец как глава общины запретил. Если бы они не переехали в другой город, где их вызывали читать Тору, они бы не выдержали.
Через три года после свадьбы я родила мальчика. Еще через два года снова родился сын. И еще через два года — дочь.
Годы спокойно текли, мы жили в достатке. Дети росли хорошо, и мы с мужем, благословенной памяти, только радовались. Я забыла Шрагу, забыла, что не получила от него письма с прощением.
Отец и мать ушли в другой мир. Перед смертью отец, благословенной памяти, передал все дела сыновьям и мужьям дочерей и наказал жить дружно. Дела шли хорошо, нашу семью уважали. Для сыновей мы держали хороших меламедов,[19] а для дочери я взяла учительницу-нееврейку. В те времена б-гобоязненные люди избегали брать еврейских учителей, всех их считали безбожниками.
Меламедов мой муж приглашал из других городов, потому что местные меламеды вынуждены брать любых учеников, независимо от их поведения. Если же меламед приглашен из другого города, он должен считаться с хозяином и не берет учеников без разбора. Так как все они были холостыми, они ели в субботу за нашим столом. Мой муж, который, несмотря на свою занятость, никогда не переставал в назначенные часы дня заниматься изучением Торы, был всегда рад такому гостю, потому что мог услышать от него слова Торы. А я и дети были рады услышать пение гостя за столом. Мы не знали, что гость наш хасид и что это хасидское пение. Во всем остальном он вел себя так же, как и все известные нам евреи. Однажды в субботний вечер, закончив, наш меламед начал петь, прикрыв глаза, удивительно красивую мелодию, от которой сладостно ныла душа. Мой муж спросил меламеда: где найти такую набожность? Меламед прошептал: поезжайте к нашему ребе, да продлятся его годы, и найдете в десять раз больше. Через несколько дней мой муж попал в тот город, где жил ребе меламеда. Он привез оттуда новые обычаи, каких я не видела в доме отца. Я знала, что это хасидские обычаи. И я думала про себя: кто снимет прах с глаз отца, он выгнал Шрагу за то, что тот был хасидом, а муж, которого он мне дал вместо Шраги, пошел по тому же пути. Если все это не происходит во искупление греха, то я уже не знаю, зачем.
Мой брат и муж сестры видели все это и ничего не говорили. Пришло новое поколение, и теперь человеку уже не приходилось стыдиться родственников-хасидов. За это время в городе появилось много богатых женихов из других мест, и они следовали хасидским обычаям. Они основали хасидскую синагогу и открыто посещали своих ребе. Мой муж не стал молиться в хасидской синагоге, но вел он себя как хасид, приучал к хасидизму детей и время от времени ездил к ребе.
За год до того как наш сын достиг возраста бар-мицвы,[20] мир поразила чума и многие заболели, спаси Г-сподь. Не было дома, где бы кто-нибудь не заболел. Настигла беда и нас, и старший сын заболел. В конце концов сжалился над нами Всевышний, но ненадолго. Выздоровев, он начал учить законы о тефиллин по большому «Шулхан оруху»,[21] а я радовалась, что хасидизм не отдалил его от учебы.
Однажды встал утром наш сын, и пошел в синагогу, и встретил там человека, облаченного, как покойник, в тахрихим.[22] Человек этот не был мертв, он был не в своем уме, спаси нас Г-сподь, и делал странные вещи. Испугался мальчик, и ушла из него душа. С трудом вернули его к жизни. К жизни, но недолгой. С тех пор он начал угасать, как свечка на исходе Судного Дня. Не успел он надеть тефиллин, как изошла душа его, и он умер.
Я сидела семь траурных дней и думала. Мой сын умер на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней до бар-мицвы. И на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней до того, как мы со Шрагой должны были вступить под балдахин хупы, отец разорвал тнаим. Я сопоставляла дни, и меня леденил ужас. Два несчастья произошли в тот же день и в тот же час. Даже если это случайность, об этом следовало подумать.
Через два года вырос его брат и достиг возраста бар-мицвы. Вырос и не вырос. Он пошел с товарищами в лес принести ветви на праздник Шавуот. В лесу он ушел от друзей и отправился к переписчику посмотреть свои тефиллин. Ушел и не вернулся. Мы думали, что его увели цыгане. В эти дни видели табор цыган в городе. Через много дней его тело нашли в большом болоте возле леса. Так мы узнали, что мальчик заблудился и забрел в непроходимую трясину.
Когда кончились семь траурных дней, я сказала мужу: что у нас теперь осталось? Осталась маленькая дочка. Если мы не попросим прощения у Шраги, ее постигнет участь братьев.
Все эти годы мы ничего не слышали о Шраге. Так как он и его семья уехали из нашего города, мы забыли о них и не знали, где они. Сказал мой муж: Шрага — хасид такого-то ребе, поеду я к нему и, может быть, услышу о Шраге. Мой муж не был хасидом этого ребе, наоборот, он сторонился его из-за спора об одном резнике. Случилось, что один ребе назначил резника, а другой счел его неподходящим. Из-за этого спора один человек был убит, несколько семей покинули страну, несколько хозяев разорились, а некоторые не дожили своих дней от горя.
Поехал мой муж к этому ребе. Не успел он доехать до места, как ребе умер, сыновья его стали ребе — наставниками хасидов и разъехались по разным городам. Ездил мой муж от одного ребе к другому и всюду спрашивал о Шраге, но никто о нем ничего не знал. Наконец, сказали ему: ты спрашиваешь о Шраге? Шрага уже не хасид. Где он, никто не знал.
Хасида ты еще можешь найти. Если он не хасид этого ребе, то он хасид другого ребе. Но просто еврея, если тебе не известно, где он, как ты можешь найти. Мой муж, мир его душе, часто разъезжал, и дела его приводили во многие места. Он ездил и спрашивал о Шраге. Из-за этих поездок его здоровье ослабело, он начал кашлять кровью. Однажды поехал он куда-то, заболел там и умер.
Я поставила памятник на его могиле, вернулась в город и начала смотреть за делами. Еще при жизни мужа я помогала ему вести дела. С тех пор как он умер, я занялась ими полностью. И Г-сподь, благословенно Имя Его, удвоил мои силы, так что подруги обо мне говорили, что у меня силы мужчины. Была бы лучше у меня мудрость, а не силы. Но Г-сподь Б-г исполнен мудрости и не хочет, чтобы сотворенные им сами решали, что для них хорошо. Я думала: все труды мои для доченьки. Чем богаче мы будем, тем ей лучше. И так как я была занята множеством разных дел, домом я могла заниматься только в субботу и в праздники. И даже тогда половина дня уходила на синагогу, а другая половина — на гостей. Да дочь во мне и не нуждалась. Я наняла ей учительниц, и она прилежно училась, и я слышала много похвал моей дочери. Даже неевреи, которые всегда смеются, считая, что мы не говорим на их языке хорошо, хвалили мою дочь, потому что она говорила так же, как самые благородные из них. Учительницы-нееврейки не могли ею нахвалиться и приглашали ее к себе домой. Я позвала сватов, и они нашли ей жениха, большого ученого, уже ставшего раввином. Но не удостоилась я вести ее к хупе. Злой дух вселился в нее, и она лишилась ума. Что я теперь тебя прошу, сыночек, напиши Шраге, что я простила ему все несчастья, которые из-за него меня постигли. И напиши, что и он должен простить, что я уже довольно страдала.
Я сидел безмолвно и неподвижно Потом я коснулся глаз пальцем и смахнул слезу. Потом я сказал Теиле: Скажите мне, пожалуйста, с тех пор как ваш отец разорвал тнаим, прошло девяносто с лишним лет? Вы думаете, что Шрага еще жив? А если жив, то знаете ли вы, где он? Сказала Теила: Шраги нет в живых, Шрага умер. Он умер тридцать лет тому назад. Откуда я знаю, когда он умер? В тот год седьмого адара[23] я пошла днем молиться, и после чтения Афторы,[24] во время поминания умерших, я услышала, что произнесли имя Шраги. После молитвы я спросила шамеса: Кто этот Шрага, которого сегодня поминали? Он сказал мне: Такой-то сын такого-то, его родственник велел помянуть его. Я пошла к родственнику Шраги, и он мне все рассказал.
Я сказал: Если Шрага умер, то куда же вы хотите послать ему письмо? Сказала Теила: Ты думаешь, что от горя помешалась старуха, что она надеется, что почта доставит умершему письмо? Я сказал ей: Так что же вы хотите делать?
Она встала и, подняв кувшин со стола, сказала нараспев: Я возьму это письмо, положу в кувшин, возьму печать и кувшин запечатаю, и возьму с собой этот кувшин вместе с письмом.
Я подумал: если она возьмет с собой кувшин с письмом, я все же не понимаю, как оно дойдет до Шраги. Я посмотрел на нее и спросил: Куда вы возьмете этот кувшин с письмом? Теила засмеялась добрым смехом и мягко сказала: Куда я возьму кувшин? Я его возьму в могилу, в могилу я возьму кувшин и письмо. Там, в горнем мире, Шрагу знают и знают, где он. И верные посланцы Всевышнего передадут ему мое письмо. И Теила снова тихо засмеялась смехом, похожим на смех ребенка, перехитрившего взрослых. Потом она опустила голову на свою палку и, казалось, задремала. Потом подняла голову и, взглянув на меня, сказала решительно: А теперь, когда тебе уже все известно, пиши сам. Сказав это, она снова опустила голову на свою палку.
Я взял перо и начал писать. Когда я кончил писать, Теила подняла голову и сказала: Ты уже кончил? Я стал читать ей. Она закрыла глаза, как будто все это ее уже не касалось и даже слушать не было желания. Когда я кончил, она открыла глаза и сказала: Хорошо, хорошо, сыночек, ты хорошо меня понял. Можно было иначе написать, но и так, как ты написал, все достаточно ясно. А теперь, сыночек, дай мне перо, я подпишу свое имя на письме, и положу его в кувшин, и пойду заверить договор.
Я обмакнул перо в чернила и протянул ей. Она взяла и подписалась. Потом еще раз провела пером по некоторым буквам, чтобы вышло яснее. Потом сложила письмо, положила его в кувшин и обернула горлышко куском пергамента. Потом зажгла свечу, взяла печать и подержала ее над свечой, пока она не стала мягкой. Запечатала кувшин, встала и подошла к кровати. Подойдя, она приподняла одеяло и положила кувшин под подушку. Сделав это, она посмотрела на меня добрыми глазами и мягко сказала: Пойду теперь заверять договор. Дай тебе добра Всевышний, что ты не пожалел для меня трудов. Больше я тебя не обеспокою. Сказав это, она поправила одеяло, взяла палку и направилась к двери, поцеловала мезузу и подождала, пока я вышел. Она тоже вышла, заперла дверь и быстро пошла. Я последовал за ней.
По дороге она добрым взглядом провожала все места и каждого встречного. Неожиданно она остановилась и сказала: Скажи мне, как оставить такие святые места и таких хороших евреев? Я все еще не знал, о чем идет речь. Дойдя до перекрестка, она остановилась и попрощалась со мной. Я пойду с вами, сказал я. Мы прошли еще несколько шагов, она снова остановилась и сказала. Но, увидев, что я хочу с ней идти, она больше ничего не прибавила и поднялась по ступенькам, ведущим во двор погребального общества. Она вошла, и я тоже.
Мы вошли в помещение погребального общества — конторы для живых и для мертвых. Там сидели два писаря. Перед ними были разложены книги, они сидели с перьями в руках и дули в стаканы черного кофе. Увидев Теилу, они почтительно приподнялись и, поздоровавшись, придвинули ей стул. Старший из них сказал, обращаясь к ней: Что вас сюда привело? Она ответила: Я пришла, чтобы выполнить договор. Он сказал: Выполнить договор? А мы думали, что пора уже отменить его. Теила испуганно сказала: Что вы говорите?! Он сказал: Вы уже больше не числитесь в книге (смертных). Улыбнувшись собственной шутке, он, обратившись ко мне, пояснил: Теила, дай ей, Всевышний, долгие дни и годы, каждый год к нам приходит продлить купчую на ее место на Масличной горе.[25] И в прошлом году, и два года назад, и три, и десять, и двадцать, и тридцать лет тому назад. Она будет приходить до пришествия Мессии. Сказала Теила: Придет он, придет, пусть уже приходит скорее. Но я вас больше не буду беспокоить. Писарь спросил удивленно: Может быть, вы собрались в киббуц, как девчонки, которых зовут халуцианками? Сказала Теила: Не в киббуц, я иду к себе. Сказал писарь: Едете обратно к себе за границу? Сказала Теила: Не за границу. Еду туда, откуда пришла. Как написано:. Причмокнул писарь губами и сказал: Ну-ну, вы думаете, нашему обществу уже нечего делать? Послушайте меня, подождите еще лет двадцать-тридцать. Зачем спешить? Она прошептала: Я уже пригласила женщин для совершения омывания. Они хорошие женщины, и нельзя с ними несерьезно поступить. Лицо писаря погрустнело, видно было, что ему не по себе. Затем он сказал: Мы очень рады, когда вы к нам приходите. Каждый раз мы в вас видим пример долголетия. А теперь, когда вы хотите оставить нас, вы как будто лишаете нас его. Сказала Теила: Если мне остались еще годы, я отдаю их охотно и вам и всем, кому хочется жить. Вот договор, подпишите.
После того как писарь скрепил купчую своей подписью, Теила взяла ее, опустила в карман и сказала: Больше я вас беспокоить не буду. Да будет с вами Всевышний, дорогие евреи, а я пойду к себе. Она встала и направилась к двери, остановившись, подняла лицо, поцеловала мезузу и вышла.
Заметив, что я следую за ней, она остановилась и сказала: Иди по своим делам, сыночек. Я сказал ей: Когда вы сказали, что идете заверить договор, я думал, что это касается дома, и вот… Она перебила меня: И вот я пошла, пошла заверить купчую на мой вечный дом. Дай-то Г-сподь, чтобы мне недолго пришлось в нем жить, чтобы встать мне из него вместе со всеми детьми Израиля. Прощай, сыночек. Я тороплюсь домой. Женщины там уже ждут, наверное. Я молча продолжал стоять, а она пошла и исчезла в лабиринте домов и переулков.
Утром я пошел в город справиться о здоровье Теилы. Я встретил ученого мужа, дом которого она мне когда-то показала. Он стоял и задержал меня своими рассказами. Когда я пошел, он вызвался проводить меня. Я сказал, что не иду домой, я иду к Теиле. Он сказал: Ты пойдешь к ней через сто двадцать лет. Видя, что я удивлен, он прибавил: Ты будешь долго жить. Эта праведница оставила нас.
Я попрощался с ним и ушел. Я шел и думал. Теила ушла. И оказался у ее дома. Я открыл дверь ее комнаты и вошел в нее.
В комнате царило спокойствие. Как в молитвенной комнате после молитвы. На полу стояли лужицы воды, которой омыли Теилу.
Примечания
1
Благодеяние.
(обратно)2
Масличная гора, древнее кладбище в Иерусалиме.
(обратно)3
Из молитвы Шмоне Эсрей.
(обратно)4
Первый день месяца, полупраздник.
(обратно)5
Теилим, псалмы Царя Давида, разбиты на дни месяца и недели.
(обратно)6
Ренегатку, отступницу.
(обратно)7
Свадебный балдахин.
(обратно)8
Возрождение.
(обратно)9
Возрождение.
(обратно)10
Инициалы имени рабби Ицхака-Меира.
(обратно)11
Теила — восхваление.
(обратно)12
Святой язык, иврит.
(обратно)13
Талмуд.
(обратно)14
Полуденная молитва.
(обратно)15
Презрительное название, данное хасидам их противниками.
(обратно)16
Благословение, отделяющее субботу от обычных дней Произносится над бокалом вина, ароматами и зажженной свечой.
(обратно)17
Обручение.
(обратно)18
Десять человек минимальное число для общего моления.
(обратно)19
Преподаватель религиозных предметов.
(обратно)20
Тринадцать лет С этого возраста мальчик отвечает за себя, он обязан исполнять все предписания Торы и надевать тефилин.
(обратно)21
Свод религиозных законов.
(обратно)22
Ткань, которой прикрывают умершего.
(обратно)23
Название месяца.
(обратно)24
Отрывок из Танаха, читаемый в дополнение к недельной главе Пятикнижия.
(обратно)25
Древнее кладбище в Иерусалиме.
(обратно)

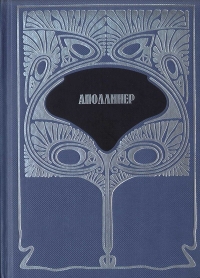
Комментарии к книге «Теила», Шмуэль-Йосеф Агнон
Всего 0 комментариев