Аракелян Алексан Суренович Прощальное танго одинокой цапли
Прощальное танго одинокой цапли
«Это был плохой год», – так она думала каждый раз, когда просыпалась утром, и ей хотелось в туалет. Она лежала на больничной койке. Ноги и руки ее были сломаны, но повезло, что не позвоночник. Левая рука, хотя и в гипсе, но работала, и она могла, когда остальные уходили на обед, раза два затянуться сигаретой, которую приносила тетя Маня, санитарка, когда вытаскивала из-под нее судно с отработанными отходами ее уже стареющего тела.
Нельзя себя обманывать, это поняла она здесь, в больнице. У нее было стареющее тело, а не уставшее, которому нужен отдых. Пальцы на ногах уже работали, с нее сняли гипс, и она стала учиться ходить.
Это был плохой год во всех отношениях. Она точно помнит, что именно эта мысль прозвучала в ее голове, когда она почувствовала удар и полет и где-то в воздухе потеряла сознание. Ее сбила милицейская машина.
Если бы ее сбил приличный автомобиль, не говоря об авто какого-нибудь олигарха, она бы могла лежать в хорошей больнице, а может, и за границей, но ее сбила маленькая отечественная милицейская машина, с двумя постовыми, и самое ужасное, что они были правы. Сначала они думали, что она умерла, когда свалилась на капот и прижалась лицом к стеклу. Капот приличной машины мог бы погнуться, но отечественная, при ее тупых особенностях, капот имела крепкий. Там она сломала все, что возможно сломать, и стала медленно сползать с него, при этом открывая все, что у нее было.
Она это падение представляла, потому что ей сказали, что это было именно так. А у нее было неплохое белье, и, когда она лежала на асфальте, ее ноги не были закрыты, закрыли в летнюю духоту только ее лицо, потому что у нее были приличные ноги, и они думали, что после такого полета она умерла. А ногами напоследок могли бы любоваться прохожие и милиция, чтобы нескучно было стоять в ожидании скорой. Скорая подъехала вместе с труповозкой. Врач прощупал у нее пульс. Он думал, что она скончается по дороге, и лучше было бы отправить сразу в морг. «Но у нее хорошие ноги», – подумал он, – и она может выжить. Почему она может выжить из-за ног, он не подумал, так как была жара, а ноги навевали мысли о море и о молодости, поэтому он подумал сначала о них, и ее отвезли в Склифосовского.
Она шла за билетом, и это были ее последние деньги, которые она собирала целый год, чтобы поехать к морю, потому что там, она знала, что только там, быть может, и окончательно получится то, зачем она ездила туда все эти годы.
Встретить его. Да, она теперь уже знала, что это будет ненадолго. «Но, пускай, – думала она, – хоть ненадолго получу то, что и не держится долго», – потому что все те, которые знакомились с ней, были женаты. У них были семьи и… глаза. Она узнавала их именно по глазам, потому что они были печальны, когда смотрели на нее, потому что хотели, чтобы она их услышала. Чтобы они могли нести ей цветы и говорить о глупостях, которые не могли произносить своим женам, потому что они были им обязаны. А потом они считали, что у них есть обязательства и перед своими детьми. Они женились и заводили детей, а потом этот крест вешали на них: полный, как ей казалось, детский горшок, смешанный с обязательствами, упреками и ухаживаниями, которые становились также обязательством.
Она была больше. Она могла их слушать. Она могла прижать пальцы к его губам, чтобы он просто любовался морем, и когда его теплые руки начинали гладить ее ноги, в них, кроме желания, она чувствовала страсть и нежность. И такой порыв, который в своем исступлении разрывал ее, этого никогда не могли чувствовать их жены. Она собирала сливки их неустроенности, и ей этого было достаточно.
Она пришла в сознание на третий день своего полета. Ей хотелось пить. Она ничего не помнила, но очень хотелось пить. Она попробовала двигать рукой, но почувствовала боль и с этого момента боль начала нарастать. Ей дали воды. Врач наклонился над ней, потом поднял простыню, и она покраснела. Она посмотрела на его лысину, которая была перед ее глазами, и выдыхала только «да», когда он спрашивал: «А здесь вы чувствуете?»
Она чувствовала везде, куда бы он ни прикасался, и иногда краснела, и выдохи у нее получались не совсем приличные.
«Так не бывает, – сказал он, – но если везет, то везет, при таких переломах не задет ни один нерв!» Ее запеленали в гипс и перевели в общую палату. Здесь лежало еще шесть женщин. Сначала она их не видела. Одна нога висела на вытяжке, а вторая в гипсе лежала рядом. Правая рука была сломана в плече, а левая – у запястья. Она могла двигать левой рукой, но не могла двигать головой. Ее соседи уже знали, что ее сбила милицейская машина, и в первые несколько дней сочувствовали ей, потому что к милиции в стране относились прохладно.
Врач, занимавшийся ее лечением, был, как бы выразиться точнее, в этих условиях только врачом, но, как думала она, если бы все случилось на море, то он был бы ее пациентом. Но, как все врачи, он был циничен, уже после первого осмотра в палате все это заметили. Он придвигал к себе стул, садился рядом с ней, щупал ее пульс, поднимал одеяло и начинал мять ее тело. Когда он заметил, что она краснеет, он начал делать это, почти не поднимая одеяла, он касался тех областей, которые заставляли напрягаться все тело, и она стонала от боли и от того, что он касался. В палате были женщины, которые понимали эти стоны, а врачу было наплевать, и он только повторял, что это замечательно.
Первой высказала свои мысли Аня. Она была из деревни, ей нравилось обращение доктора, и она сказала, что жаль, что муж сломал ей руку, а не ноги, тогда, глядишь, ей тоже массировали бы ноги. Она очень многозначительно сказала «ноги». Таня, которая лежала рядом с ней, сказала, что ни один нормальный городской врач не смог бы назвать эти столбы ногами, а заросли посередине – предметом желания. Только в деревне, где уже забыли, что такое цивилизация, бычья порода может покуситься на это, и то, только благодаря запаху.
Ей нужны были деньги, она слушала их беззлобную болтовню и рассуждения, которые всплеском поднимались после ухода врача. Санитарка смотрела за ней очень плохо. Сначала она думала, что к ней будут ходить и давать неплохие чаевые, потому что она красивая женщина, и у нее было очень хорошее белье, которое после прачечной она сама укладывала в шкаф, но ее никто не навещал, а санитарке приходилось три раза в день убирать утку.
Она сказала, что надо платить, что теперь за все надо платить и что она умрет в постели от грязи, если не будет платить.
Ей нужны были деньги. Деньги, бывшие при ней, исчезли, а дома оставалось только несколько вещей из золота, которые были дороги ей, но с которыми ей надо было, наверно, расстаться. Она написала записку своей соседке. Это была одинокая старушка, за которой она всегда смотрела, пока ее родственники ждали, когда она умрет, чтобы забрать ее квартиру. Соседка плохо слышала, но она всегда оставляла ключи, когда уезжала, и та смотрела за ее цветами.
«Уважаемая тетя Ира, – написала она ей, – в моей комнате рядом с кроватью есть маленькая подушечка в виде собачки, откройте цепочку, и там вы увидите несколько золотых вещей, и, если Вам нетрудно, отнесите это в ломбард и принесите мне деньги, потому что я лежу в больнице, и они мне нужны».
Тетя Ира пришла через неделю, в руках у нее был торт и маленький пакетик, где по всей вероятности были деньги.
– Дорогая! – она взмахнула руками вместе с тортом, от чего торт внутри захлебнулся своим кремом и разрушился. От ее громкого крика все удивленно повернули к ней свои головы.
– Дорогая, – повторила она снова, – я думала, вы на море. Хорошо, что вы живы!
Пальцами левой руки больная пыталась ей сказать, чтобы она говорила потише, но тетя Ира все делала с чувством, и в момент когда она подбирала в уме выражения, которые могли бы ей подсказать, что не надо говорить громко, и ничего не находила, старушка продолжала, уже подтягивая стул, чтобы усесться. Она открыла торт, посмотрела на его развалины и сказала, поставив торт на пол и протянув конверт:
– Здесь деньги, дорогая, я положила их всего на месяц. Я надеюсь, что вы выйдете и заберете их обратно. Особенно браслет.
– Да, – продолжила она, – приходила женщина, и не одна, а две женщины, одна была старше, а вторая младше, с детьми. Они стучали в дверь и кричали. Кричали нарочно, чтобы услышал весь подъезд, что вы отняли у детей кормильца. В палате стояла тишина, только болезненный крик Тани, которой машинально и с ненавистью, относившейся не к ней, медсестра сунула шприц, приговаривая: «Вот такая шлюха и у меня мужа увела, а потом вернула в таком состоянии, что и даром был не нужен!»
С этого дня в палате к ней стали относиться хуже. Палата задышала моралью.
Сняли гипс с ног. Тетя Маня, которая порциями получала деньги, согласилась отвезти ее на каталке в душевую и помыть. После двух месяцев это был первый душ. Потоки воды сбивали грязь и отлежавшую под гипсом кожу, а сухая, потрескавшаяся от протирания спиртом кожа на открытых от гипса местах, как земля после засухи, впитывала воду. Ей стало легче дышать. И ей не хотелось в палату, она прикурила сигарету, затянулась, закрыла глаза и вспомнила море и того, чья жена и дети у нее в подъезде читали лекции про мораль. У него были добрые глаза, черные. Он был вежлив. Он носил ей цветы каждое утро, и это ему нравилось, и еще кофе и фрукты. «Интересно, – подумала она, – откуда он их брал?» Он был моложе ее, ну не совсем чтобы мальчик. Она не замечала, а сейчас только поняла, что ей начали нравиться те, кто моложе ее, и улыбнулась. Тетя Маня прервала ее состояние блаженства. Хватит улыбаться. Она помогла ей взобраться на старую каталку, на которых возили еще раненых с последней войны.
Это бывало редко, чтобы после моря она с кем-то встречалась. Ожидание моря было чем-то большим, чем само море, это было ожидание любви, она могла терпеть почти год и не увлекаться местными романами или тем более мечтами о замужестве и о стиральной машине, потому что после моря семья ей представлялась стиральной машиной и телевизором, ну и, самое главное, – постоянными упреками. Она смотрела на своих друзей и подруг и улыбалась их счастью постоянно видеть друг друга и ненавидеть друг друга, и оставаться по привычке рядом, а у нее было больше: она знала это «больше», и это ее ждало на море.
Но с ним она рассталась давно, то есть когда захотела уехать на море и больше не могла его ждать или следить, чтобы он правильно надевал трусы, чтобы не попасться жене. Это было не ее. Она сказала ему, что это не для нее, а он не понял. Ведь им было хорошо, когда они встречались. Мужчины становятся овцами, когда женятся, и редкие из них выдерживают начало и остаются свободными животными. Животными?! «Нет, лучше овцы – это нежнее, – подумала она, – и не бараны, потому что они тупые». Бараны – это, в ее понимании, недоучившиеся овцы, то есть они были ущербны, и они не думали о цветах и чашечке кофе в постель, они не представляли ночь, как ожидание. Ночь, когда простыня казалась туманом, и они пили кофе, ожидая солнца в ночи, потому что то, что должно было случиться, было теплее солнца.
Ожидание ночи и забытье тел… Тела жили отдельно, своей жизнью, и когда они любили друг друга, то растворялись в себе, а потом пили холодное шампанское. Это нельзя променять ни на что другое, потому что в этом есть законченность и мелодия, во всем остальном нет законченности, в этом она была уверена. Как и в том, что это не может длиться долго.
В любом случае ей надо уйти отсюда. Впереди зима, но снова будет лето. Она находила подтверждение своим мыслям, которые не то чтобы оправдывали, но успокаивали ее в одиночестве.
Врачи были циниками. Она не могла отнести их к животным или к подгруппе, потому что постоянно воевала с ними, но это пока была война не в ее пользу.
Лысого врача, который любил проводить осмотр на ощупь, звали Николай Иванович. Он был светилом в хирургии и, наверно, это было правдой, потому что ему удалось ее снова слепить. Когда он касался неких мест на ее теле, она краснела и смотрела ему в лицо. «Странное лицо», – думала она, глядя ему в очки. Они не выражали ничего кроме любопытства при оценке ее гримас. Тело ее напрягалось в это время и наполнялось болью. Он уже реже заходил к ним в палату, но, встретив в коридоре, пытался проводить те же процедуры, что и в постели. Она стояла, опираясь на ходули, и боялась двигаться, в то время как его руки ползали по ее телу. Ей хотелось упасть, но ей нельзя было падать. Систему лысого циника заметили более молодые и старались ее подловить, и делать то же самое, но в этом была шутка, потому что ей было неудобно, она пыталась скрыться, они смеялись. Она старалась угадать время, когда их мало шатается в коридоре, чтобы выскочить на лестницу, прижаться к стене и спокойно закурить сигарету. Ей уже надоело. Наконец сняли гипс с запястья, и она была свободна. Надо было только научиться ходить. В палате было шесть коек, и пациентки часто менялись.
Она уже не пыталась знакомиться с ними. Это место стало ее домом: проходил уже третий месяц. Тете Мане она должна была за сигареты. Та давала их в долг под большие проценты.
Привезли старенькую сухонькую женщину с белой, похожей на ватман, кожей и синими до прозрачности глазами. Когда ее привезли, рядом шел высокий мужчина с белыми, зачесанными назад волосами и такими же синими глазами. Ему было лет пятьдесят и было видно, что он родился львом. На него все посмотрели, как на льва. А она повторяла: «Петенька, ты, пожалуйста, не забудь привести мне это и то». Он молча слушал и мотал головой.
Когда он ушел, женщина сказала, что это ее сын, что она упала с лестницы на даче и сломала себе ногу и ребра. Но врач сказал, что все не безнадежно. Хотела услышать слова сочувствия и ее заверили, что это так.
На следующий день пришел Петя, с маленькой коротышкой женского пола, которая представилась его женой, и все в палате заметили ее взгляд, который застывал на свекрови: он, кажется, измерял размер будущего гроба.
Старушка называла ее Настенькой, она хотела, чтобы родственники остались подольше, она пыталась от них услышать слова о необходимости ее присутствия в доме, но этого не последовало. Приносили фрукты и уходили. Она пыталась звонить, но ей отвечали уже редко, и это ее сломило. Она поняла, что с ней уже расстались. Через несколько дней женщина умерла, ее унесли, а тетя Маня забрала апельсины. Этот «сын» был подвидом скотины, хотя у него были красивая стать и белая грива.
Больная поблагодарила судьбу за то, что у нее были другие. «Ты не знаешь, – думала она, – за кого и за что ты будешь отдавать свою жизнь, чтобы в конце умереть в одиночестве, но у одиночества есть свои оттенки: в ее одиночестве будет покой и не будет обиды, как у той женщины. Она могла бы еще жить, но самый родной, какой у нее был, вынес ей приговор, и она ушла с обидой.
Уже осень. На улице прохладно. Листья падают, и моросит дождь. Надо уходить, а у нее ничего нет, кроме белья в шкафчике у тети Мани и пары костылей, с которыми ей, наверно, еще долго ходить. Это ее не огорчало, потому что до ее солнца, которое должно прогреть песок, ждать еще долго, и ноги к этому времени у нее окрепнут. Надо занять еще денег на такси, но тетя Маня не даст.
Она достала свои вещи из шкафчика, укуталась в больничный халат и вышла на улицу. Она прошла мимо охраны и, стоя на тротуаре, ждала машину. Дождь стекал по лицу, но у нее возникло чувство свободы. Она надеялась, что ее подвезут и не возьмут с нее денег, потому что она хотела домой, в свою крохотную ванную.
Машина остановилась. Она назвала улицу и сказала, что нет денег. Он не отказал ей, и это уже было хорошим знаком. Она села в машину. Водитель, заметив, что на ней только мокрый фланелевый халат, включил на всю мощь печку, а она закрыла глаза, чувствуя теплый ветер, и увидела горы и солнце, и своих заблудших овец, которые ждали ее там.


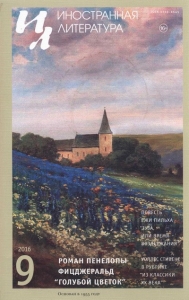






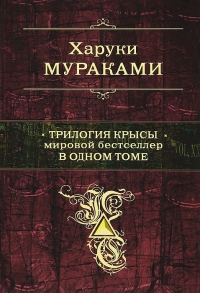

Комментарии к книге «Прощальное танго одинокой цапли», Алексан Аракелян
Всего 0 комментариев