Маргарита Азарова Оцелот Куна
© М. Азарова, 2016
Романтика – очищающий дождь жизни.
Предисловие
Поскольку я звукорежиссёр, а не писатель, то надеюсь на понимание используемых мною приёмов изложения и лояльность к художественным умозаключениям при написании текста от третьего лица, который я доверил моему другу Эндрю. Многое пришлось представлять и домысливать из тех крупиц собранной информации, без которых просто нельзя было обойтись для поддержания причинно-следственных связей, логической цепи и стройности изложения событий, случившихся со мной.
Представляем на ваш суд наше коллективное детище…
Глава первая
1. Голос в оболочке её тела
Я страстно хотел её голос в оболочке её тела. Он ласкал меня прерывистым дыханием, и, казалось, я могу дотронуться до него, поймать руками и прижать к своим, жаждущим его губам. Я открыл глаза и улыбнулся своим обречённым на непонимание мыслям.
– Я тебе говорю серьёзные вещи, а ты улыбаешься.
– Я хочу твой голос, – сказал я.
– А я хочу «Мерседес», дом на Рублёвке, путешествие на шестизвёздочном круизном лайнере…
– Очень прозаично, милая моя.
– Зато правда. Ты разве не хочешь красоты, богатства?…
– Я хочу заниматься тем, что мне нравится, но не ради денег. А деньги мне нужны, не спорю, но для свободы от нудной, неинтересной деятельности, направленной в данном случае лишь на выживание и получение материальных благ, принятых обязательными для признания в определённой социальной среде. И в путешествии я хочу впитать в себя впечатления, которые выражу в творчестве. И машину я хочу не для «пыли в глаза», а чтобы не расшатывала вселенную моего мироощущения, опять же для творчества, то есть – чтобы элементарно хотя бы была надёжной и не ломалась сразу после приобретения. Понимаешь?
– Какой ты приземлённый.
– Я приземлённый?! У нас с тобой разное понимание этого определения. Давай сменим тему. У тебя потрясающе чувственный голос, я его хочу.
– Что за шутки?… Я хочу очень дорого продавать, как ты говоришь, чувственность моего голоса и сам голос. Вот задача номер один. У человека должна быть цель.
Моя цель тебе ясна?
– А как же любовь? Значит, и твой голос не любит меня?
– Мой голос – это я, не обижайся. Секс – это же не любовь…
Наш словесный пинг-понг меня ничуточки не напрягал, а нечаянные мячики слов о сексе и любви сближали нас (как мне казалось) с каждой такой игрой всё больше и больше.
Её ротик завораживал меня своей артикуляцией, я наслаждался зрелищем его воркования: как при улыбке у неё приподнимается верхняя губа, обнажая великолепные белоснежные зубки, или при букве «ю» её трубочка из губ приносит мне вкус карамели из детства.
– Не скажи. Всё очень даже взаимосвязано. Любишь ты кого-нибудь, к примеру, любишь, а он под тобой засыпает, а говорит, что любит – это похоже на любовь-сострадание или чувства родственничка во спасение. Обоюдный, не побоюсь этого слова, оргазм при духовном, так сказать, родстве дорогого стоит, не находишь? По-моему, это и есть любовь.
Моя интуиция подсказывает, что секс всё-таки будет.
– Пригласи меня в ресторан, подари букет роз, своди в театр, наконец. Хотя – нет, в театр, пожалуй, не надо: ты как театральный звукорежиссёр, наверное, и действие-то на сцене не воспринимаешь.
Я её слушаю, но не слышу, вернее, слышу только мелодию её голоса, для секса без любви мне было бы достаточно её стона, вернее – звука стона её голоса. И на том спасибо. Такое вот не обоюдное соглашение. Хотя, наверное, лучше ничего не раскладывать по полкам – где любовь, где секс, а быть в некой оболочке тайны, ведь нельзя предугадать, когда и как прикоснётся к нам любовь: стоном, взглядом или кончиками пальцев…
Звали её Жанна, она училась на последнем курсе вокального отделения Гнесинки. Весьма плодотворный результат влияния профессиональной почвы на ниве знакомств. А мои мечты о свободном от презренного металла творчестве были руководством к действию с самого моего осознания себя в мире музыки, то есть почти с рождения. Мои родители – музыканты: мама – флейтистка, папа – скрипач. Они направили меня в нужное русло, не отбив охоту заниматься музыкой даже в возрасте относительной вседозволенности, когда я мог уже не руководствоваться наставлениями в выборе профессии близких людей, предоставивших мне полную свободу выбора в этом вопросе. И посему редкий день из окон нашей квартиры не доносилась фортепианная музыка моего собственного исполнения, это как кефир на ужин (грубо, утрированно, в части сравнения, но чистая правда). Жизнь казалась мне пустой и никчёмной без музыки.
Чайковский, Рахманинов, Поль Мориа…
Иногда я ощущаю себя затонувшим кораблём, но не на дне моря, а в пустыне. Всё цело – ни одной пробоины, парус ждёт энергию ветра. Я не возвышаюсь над песчаным морем – я часть его, но неуклюже большая, замершая на месте и непонимающая, как идти вперёд, когда вокруг тебя не твоя стихия. По ней же надо приспособиться плыть проторенными путями, и вдруг песок, служивший мне опорой, начинает осыпаться и обнажать мой киль, и я парю в воздухе, а на палубе моей души рождается музыка. Она заполняет всё вокруг, и всё приходит в движение: о мой борт разбиваются солёные волны, и брызги достигают капитанского мостика, и моя грудь как паруса вдыхает дух свободы над рутиной и обыденностью повседневной жизни застывшего песка, способного только перетекать в сосудах времени песочных часов.
– А как ты относишься к бэк-вокалу? – спросил я.
– Положительно.
– Значит, тебе можно предложить материальчик для рассмотрения.
– Не бесплатно, конечно?!
– Нет, не бесплатно. Люди заплатят. Послушаешь?
Я втиснул диск в магнитолу своего раздолбанного авто. Полилась лиричная музыка, и бархатный голос запел о вечном.
– Зацепило?
– Да, в этом что-то есть. Давай, я посмотрю, что можно сделать.
Через день я был опять во власти её голоса. Она так пела на этом чёртовом диске, что я слышал только один бэк-вокал. Что за волшебный тембр…
Этот голос владычествует надо мной, но мысли он излагает очень спорные. Но он на службе у музыки…
За это ему и его хозяйке всё прощается…
Я стал задумываться об особенности этого феномена: любить звук чужого голоса и не просто любить, а страстно хотеть это не материализованное чудо.
Наконец я дошёл до «сути» своих рассуждений. Иных мужчин возбуждают в женщине отдельные части тела, и, найдя их в определённой представительнице, они уже не концентрируют внимание на всём остальном, рассматривая уже это остальное через призму конкретного объекта своего вожделения.
Вот я загнул. Представим, что голос материален, и вот оно, прозрение – он объект моего вожделения. Всё, прекращаю думать на эту тему.
Но как она всё же чувствует нюансы, как она проставляет свои вокальные акценты! Это просто диво дивное. Если даже это не любовь, всё же терять её из виду никак нельзя, несмотря на весь свой багаж желаний, она – воплощение своего голоса.
2. До – пятка, соль – мысок
Сегодня был тот редкий день, когда можно было принадлежать себе и не задумываться о последствиях такого досуга. Погода располагала к прогулке. Снежинки бабочками слетались на рукотворные городские сугробы, под ногами снег скрипел своей постоянной квинтой, и это постоянство настраивало на спокойное циклично-надёжное восприятие мироздания. Это было не дежавю, а какое-то понимание фатальности происходящего, когда ты точно знаешь – именно так всё и должно быть: должен падать именно такой снег, именно так должны плыть облака и должно светить солнце.
– Хочешь, пойдём в кино, – предложил я Жанне.
– Сто лет не была в кинотеатре. По телику всё время какие-то сериалы гоняют.
– Да, по телику теперь фильмы идут в промежутках многосерийной рекламы с быстро меняющейся смысловой нагрузкой. Убегая от этого абсурда, переключая, можно попасть в сюрреализм: услышав какой-либо вопрос на одном канале, тут же получить на него ответ в передаче по совершенно противоположной тематике на другом канале, будто нажатием кнопки пульта управляешь неведомым шоу…
Попытался вспомнить хоть один пример, но, видимо, мои эмоции, сопровождающие это явление, отторгли логику и не дали скрестить ни одну из фраз. Я перестал копаться в уголках памяти и посмотрел на табло с расписанием сеансов.
Билетов, как ни странно, в кассе оказалось мало (не до выбора желанной позиции для просмотра), и мы довольствовались крайними местами от прохода. И народ никак не мог угомониться – сновал мимо туда-сюда, постоянно соприкасаясь с нами невозможным образом: руками, ногами, пакетами с едой, бутылками пива, своим ауристическим настроем…
Сегодня мне этот тусовочный нон-стоп мешал больше, чем обычно, и в какой-то момент у меня возникло желание вообще ретироваться: мне казалось, что публика не уймётся никогда…
– Спокойно, – сказал я себе, – не так всё плохо, надо о билетах заботиться заранее, и я даю себе установку: никто не испортит, не расплещет моего всепрощающего, всеобъемлющего настроения.
Жанну, видимо, этот «хоровод» вокруг нас не напрягал, она сидела спокойно в ожидании сеанса.
– Смотрим? – спросил я её.
– Смотрим, – ответила она.
Я не пытался взять её за руку, хотя до сеанса думал, что этот знак внимания я сегодня себе позволю. Меня целиком захватил сюжет, что бывает нечасто. Обычная мелодрама, но как-то по-иному представил режиссёр тему адюльтера, высматривая в человеческих поступках и мыслях предпосылки и, в зависимости от внутренней, душевной организации героев, результат этих предпосылок. Мужчина женился, но, не задумываясь над мотивацией и последствиями своих действий, идёт на поводу у своих обычных сексуальных потребностей. Ему даже не приходит в голову мысль, что он может лишиться главной женщины в своей жизни, поддавшись мимолётному увлечению. Она – его жена, обладающая более тонкой душевной организацией, встретив своего бывшего возлюбленного, вдруг понимает, что любит его именно той любовью, которая давала бы ей полноту чувств, в которой нет места мелочным подозрениям, банальной ревности… Но – готова ли она перечеркнуть всё то, чем она связана с мужем? И какая измена несёт большую разрушительную силу отношениям между мужчиной и женщиной – физическая или духовная?…
После сеанса Жанна была необычно задумчива и молчалива.
Мы вышли из душного, полного неуёмной энергетики помещения. Снег под моими ногами – как клавиши под пальцами музыканта – выдавал «до», «соль»: «до» – пятка, «соль» – мысок. И слышалось: на октаву выше Жанна – «до» – пятка, «соль» – мысок. Сейчас я готов был к этой музыке, и она не казалась мне однообразной.
Глава вторая
1. Синусоида моих мыслей
Синусоида моих мыслей замерла на полпути, не достигнув очередной своей фазы: туда плюхнулось моё недоумение, накопленное от состояния эмбриона до дипломированного специалиста в области звукорежиссуры. Если в твоей голове звучит музыка и при этом ты думаешь, как технически довести её выразительность до совершенства, значит, ты звукорежиссёр – другого не дано. И выкидывать его, то есть звукорежиссёра, из творческой амплитуды бесцеремонной иллюстрации прозаических взаимоотношений человеческих индивидуумов, по меньшей мере, негуманно.
– Как оказалось это бесформенное создание женского пола в неглиже в святая святых повелителей звука? Как?
До спектакля тридцать минут, а ответ на этот вопрос остаётся риторическим. Над ней не пришлось бы работать костюмеру, а тем более – гримёру, если бы она была занята в апофеозе батальных сцен. Но палитра красок, замешанная на лице и теле, не вызывала сочувствия, а скорее удивляла, вызывала чувство отвращения и какого-то ощущения, похожего на сам объект, скотской брезгливости.
– Да, не ожидал я сам от себя, право, не ожидал.
– Сноб я, что ли, отпетый?
– Нет, ещё не хватало мне моего гороскопо-скорпионского, саморазрушительного анализа восприятия внешнего мира и своей роли в нём.
– Ни за что!
– Тётка, ты как здесь оказалась, такая вся красивая, не побоюсь этого слова, эротично-наглая, на рабочем месте людей высокоинтеллектуального труда?
Ответа не последовало, а я понимал, что только чисто механически для себя задаю вопрос, но ответа на него слышать не хочу. Я не хочу её видеть. Хочу закрыть глаза и, открыв их, обнаружить, что всё это мне просто показалось от чрезмерной впечатлительности. Но, оглянувшись, я понял, что мне так просто не отделаться, я не смогу спрятать голову в песок… не смогу прошагать мимо и – пусть эту пакостную кашу расхлёбывает кто-нибудь другой.
Рядом со мной стоял народ и в глубоком недоумении смотрел на это чудо-юдо, ожидая объяснений её неформальному присутствию в храме служителей Мельпомены. Я пребывал в глубоком замешательстве.
А создание женского пола соизволило открыть рот и выплеснуть нам – невольным слушателям – звуки, причём, коснувшиеся в большей мере почему-то меня:
– Немного подташнивает, но это ничего, главное – тепло. Сейчас симпатичный старикан притащит мне харчика, а может – даже стаканчик водочки…
– И что же ты, малолетка, глазеешь на меня и бормочешь себе под нос, голых баб не видел? Вот ведь молодёжь пошла, а, может, ты хочешь развлечься, сосунок, так я не прочь, только за всё, дружок, надо платить. Ах, да ещё старикан сейчас завалится сюда. Но ничего и с двумя справлюсь, и не такое со мной бывало. Если бы ты меня видел в молодости, какая я была куколка…
– Заходи, вьюноша, будь как дома. ХА-ХА-ХА…
– Что здесь происходит? Кто это??? – это бдительный охранник, очень удивлён присутствием в театре изрядно поддатой голой бабы. Перед ним встал непростой выбор: выкинуть её на улицу голой или всё же проявить некую гуманность и прикрыть наготу, а уж только потом вытолкать взашей.
2. Задрапированная иллюзия
Весь набежавший, взбудораженный зрелищем народ, включая сотрудника службы безопасности театра, растворился в кулуарах «задрапированной иллюзии». А я почему-то стоял на месте. Бог мой, это твоя заповедь: помоги ближнему своему? Заповедь, ставшая моей жизненной установкой, не давала мне оставить эту кустодиевскую красавицу без внимания. Продолжая пребывать в глубоком шоке, ежесекундно борясь с отвращением, и, несмотря на то, что она нагло приманивала меня грязным крючковатым пальцем, я всё же, следуя её призывному жесту, подошёл к ней.
– Молодой человек, а что вы знаете о жемчуге?
Обстановка, а самое главное – вид этой женщины никак не предполагали, что она может внятно говорить, тем более на такую тему, но, тем не менее, вопрос прозвучал. Моя впечатлительная натура не могла сразу совместить множество мелких и глобальных противоречий, и я рефлекторно медлил с ответом.
– Посмотри на меня, думаешь, я всегда была такой?
Я хотел ей сказать, что времени для бесед нет, сейчас начнётся спектакль, и ей нет места за звукорежиссёрским пультом. Я человек суперобязательный, и возникшая дилемма вдруг толкнула меня на неожиданные с моей стороны действия. Не знаю, откуда взялись силы, победившие брезгливость, но я, накинув на неё свой пиджак, быстренько, насколько это было возможно, запихнул её уже прикрытое женское тело в подсобное помещение театра, забитое всяким реквизитом, и приказал ей строго-настрого, чтобы она не высовывалась и ждала меня здесь. Как только появится возможность, я приду к ней, и мы продолжим разговор… о жемчуге…
Второй звонок: мне надо сосредоточиться на моих прямых обязанностях. Надо собрать мозги в кучу – это главная задача. Так, с акустическими системами всё в порядке; ревербераторы, компрессоры, микрофоны, эквалайзеры и главный мой сотоварищ по работе – микшерский пульт, не подведите меня. Помреж ничего не сообщил ни об изменениях в тексте пьесы, ни о замене исполнителей, значит, действую согласно звуковой партитуре спектакля.
Третий звонок: мысленный прогон по партитуре всей фонограммы – каждое место включения, действенный смысл каждого музыкального куска, каждого шума, каждого звукового эффекта…
Не волноваться, «голова в партитуре», но и её наличие на бумажном носителе под рукой и вот ещё – текста пьесы для полноты картины – обязательны.
Визуальный контакт со сценой – есть…
Зрители нетерпеливо дёргаются на своих местах, словно присели на секунду и вот-вот сорвутся и побегут дальше по своим делам.
– Да успокойтесь вы, вот, уже даю начальную увертюру к спектаклю…
Я выдохнул, и вы выдохните или вдохните…
Действие началось. Но всё как-то сразу пошло не по сценарию, хотя я не мог конкретно сказать, что же именно не так. И я покатился на колесе инерции, стараясь не обращать внимания на мелочи.
В середине второго акта обнаружилось некое непонятное действие на сцене. Сценическая площадка, показав свои динамические возможности, заложенные в ней инженерной мыслью, по задумке постановщика спектакля стала вращаться, предоставив нам скрытую от зрителя свою оборотную составляющую, и, о боже, на повернувшейся части сцены, на диванчике в стиле барокко возлежала та самая дамочка в моём пиджаке… распахнув его навстречу зрителю…
Если после этого я не поседел, то только чудом.
Было видно, что партер, а за ним и весь зрительный зал взбудоражен появлением «актрисы» в таком откровенном наряде, вернее – отсутствием оного. Бинокли, как по команде, взметнулись к глазам, и воздух насытился гормональным пресыщением. Некоторые зрители, знавшие содержание спектакля, не успели отреагировать на эту мизансцену, они были в замешательстве, пытаясь анализировать происходящее, но, видимо, решив, что это очередной ход, новая трактовка замысла постановщика спектакля, первыми начали аплодировать, включаясь и одобряя происходящее как новую версию, новое видение сюжета…
Оценив реакцию публики, работники сцены умудрились не дать занавес, но дальнейшее трудно даже описать словами. Оно не поддаётся никакому логическому объяснению.
«Дама» поднялась с диванчика, превратившись при этом ни больше ни меньше в Жанну, обладательницу вожделенного мной голоса и, видимо, насколько я теперь понимаю, не только его, несмотря на весь её прагматизм. Её бархатистая смуглая кожа, прямые длинные волосы, цвета воронова крыла, чувственные губы; вся её точёная фигурка производила завораживающее, необыкновенное зрелище. Но особый магнетизм исходил от красовавшейся на её открытой грациозной шее крупной, чёрной, атласно-матовой жемчужины…
Если бы это всё происходило не на моих глазах, вы понимаете, чего бы заслуживал этот рассказ из чужих уст.
Разум и сознание растеклись по микшерскому пульту. Мой взгляд устремился, казалось, в какое-то туманное облако, мешающее лицезреть этот завораживающий абсурд, и которое просто хотелось раздвинуть руками, проникнув сквозь него, чтобы не пропустить ни одного мгновения.
Что я собственно и сделал, сам не понимая – как.
Повторюсь: на сцене стояла Жанна, она была прекрасна; протянув театральным жестом к публике руки, спросила:
– А что вы знаете о жемчуге?
Как мне помнится, этот вопрос уже звучал сегодня из уст одной особы женского пола. Зациклились все сегодня, что ли, на этом жемчуге? Ах, я ещё мог рассуждать…
Зрители, несмотря на то, что по всем признакам девушка являлась виновницей их внезапного неуправляемого поведения, теперь уже мало обращали на неё внимания. Публика всколыхнулась и, словно проснувшись, стараясь догнать уходящий поезд, стала делать всё то, в чём каждая человеческая особь, находившаяся в зале, сдерживала себя, казалось, на протяжении многих лет. Взрослые дети звонили престарелым родителям, в нецензурной форме высказывая накопившиеся обиды. Родители делали то же самое по отношению к детям. С виду нормальные мужики стали шептать опять же мужикам на ухо какие-то скабрезности, оглаживая их ягодицы, причём, совершенно не обращая внимания на то, что они под визуальным прицелом окружающих их людей. Но и действительно, никому ни до кого не было никакого дела, если это не ущемляло чьи-то сиюминутные желания. Кто-то шарил в карманах чужого пиджака. Кто-то, с необузданным вожделением, не дожидаясь антракта, поедал пирожные, засовывая их в рот без разбора. Сдержанные чопорные дамочки в зале сами назойливо знакомились с понравившимися им мужчинами. Одна из них тут же стала раздеваться, делая характерные телодвижения, видимо, насмотревшись журналов или фильмов определённой направленности. Мужчины, пришедшие в театр с жёнами, переходя границы вседозволенности, вскакивали со своих мест и мчались к девам, которых они заприметили, прогуливаясь в фойе со своей наскучившей «второй половинкой». Один субъект, не добежав до туалета, как самая последняя дворняга, опорожнился недалеко от, не побоюсь этого слова, моего «присутственного» места. Видимо, демонстрируя, что ему давно на всех «опорожниться»…
Влюблённые вдруг отрывались друг от друга и менялись партнёрами. Бедлам стоял невероятный…
Виновница превращения театра в «сумасшедший дом», иронично улыбаясь, прогуливалась вдоль рядов. Она превратилась в незримую эфирную субстанцию, доступную только моему взору. Так как со сто процентной очевидностью можно было утверждать, что люди, сталкиваясь с ней взглядом и телом, не реагировали на неё как на препятствие, проходили сквозь неё, не проявляя никакого замешательства, будто её нет вовсе. И теперь публика в зале – это герои театрального действия, а мы с Жанной – зрители. Только она и я. И от этого становилось жутко.
Вдруг она очутилась рядом со мной, и казалось, что она воспринимает меня как незнакомого ей человека. Вблизи она была ещё прекрасней. Она опустила своё божественно-демоническое тело на микшерский пульт и пропела голосом самой нежнейшей флейты:
– А вы, молодой человек, что знаете о жемчуге?
Жемчужный психоз какой-то, почему всех сегодня мучает этот вопрос?
Даю голову на отсечение: если бы я даже что-нибудь и знал, то вряд ли в этот момент вспомнил. Я даже и не пытался что-либо промямлить ей в ответ. Не на экзамене всё же.
Но она, казалось, и не ждала от меня никакого ответа: ни конкретного, ни отвлечённого…
А дальше случилось необъяснимое, противоестественное: я увидел своё отражение в чёрной жемчужине… и шагнул в него…
3. Ходячий грех
В аппаратной уже было темно, но метаморфозы превращений, галлюциногенные видения и последующие неконтролируемые с моей стороны действия выбили меня из колеи, и я сидел в этой темноте, опустошённый, углубившись в процесс восстановления пазлов своей жизненной активности.
Дверь отворилась, и передо мной предстал Глеб Максимилианович собственной персоной. Не спрашивая ничего определённого, кроме скороговорочного:
– А почему у тебя так темно?
По-хозяйски щёлкнул выключателем и стал как-то, я бы сказал, метаться по аппаратной, заглядывая даже под стулья, которые и так хорошо просматривались без тщательного фокусирования внимания на них. При этом бубнил, эмоционально размахивая руками, как если бы рядом никого не было, из чего я сделал вывод: он мне или бесконечно доверяет, или мой визитёр умеет абстрагироваться, целиком и полностью концентрируясь на своей личной проблеме:
– Вот в костюмерной нашёлся подходящий халатик, в буфете сегодня замечательные сосиски и ещё кое-что для сугрева души, по велению дамы. Что, я не могу встретиться с женщиной? Всё у них хиханьки да хаханьки: «Седина в бороду, а бес в ребро» видите ли, ах-ах-ах, как мы остроумны. Хотел бы я посмотреть на вас в моём возрасте. Я-то ещё о-го-го, дай бог каждому. Я не могу упустить ни единого шанса, даже намёка на шанс проявления женской ласки, потому что я ещё, чёрт возьми, не помер и хочу обыкновенную бабу без всяких богемных капризов, какими кишмя кишит этот насквозь лживый мир театральных, так сказать, подмостков. Вот она была рядом – простая, горячая, и ничего, что от неё непрезентабельно пахло. Я её накормлю, умою, и будет как новенькая…
Чую, сорвали мою ягоду-малину. И что все лезут в мою личную жизнь? Кто сказал, что я не имею права привести её в театр?…
А, может, вы, как всегда, хотите объяснительную? Конечно, где вы ещё найдёте такого ценного работника, такого инженера как я за такие гроши? Слабо выгнать? А на такую объяснительную что скажете:
«Я, Хромов Глеб Максимилианович, по пути на службу в театр, при пересечении аллеи увидел несчастную женщину, взывающую о помощи, я не мог пройти против такого вопиющего факта человеческой несправедливости и привёл её в театр, чтобы дать ей что-нибудь из своей одежды и накормить. О чём нисколько не сожалею.
Я никогда не пройду мимо собачки или котика, нуждающегося в сострадании, а уж мимо человека и подавно…»
Наконец, без всякого связующего перехода между его действиями и вопросом, Глеб Максимилианович прогнусавил:
– Хочешь водички?
И при этом неизвестно из какого потайного кармана извлёк на свет бутылку минералки. После моментально выстроенного в моём сознании ассоциативного ряда я, отнекиваясь, замахал не только руками, но и ногами. Он недоуменно посмотрел на мои телодвижения, но настаивать не стал.
– Самому больше достанется.
Надо отметить, старикан он был, несмотря на преклонные годы, башковитый и ещё полон неуёмного желания самоутверждения в некоторых, не будем указывать пальцем, сферах жизни. Следя за его блуждающим взглядом, я в то же время наблюдал, как он открывает бутылку с минералкой, и насколько мог отошёл от него подальше.
Недавно точно такая же бутылочка с её содержимым наделала очень много шума в театре. Видимо, сдержать естественную потребность в уриноиспускании и при этом отказать себе в возможности быть ленивым – не дойти до писсуара – в определённом возрасте сложно; Глеб Максимилианович нашёл свой способ обхода подобного рода трудностей: периодически своей уриной он наполнял бутылку из-под минералки, затыкал пробочкой и ставил на видное место на полочку. Театр решил почистить свои пёрышки, и бутылка с неплотно, по всей вероятности, закрытой пробочкой, упала на пол и, естественно, что?… разлилась…
Отмыть или как-то отчистить и выветрить это было невозможно на протяжении долгого времени. А эстеты, желающие почему-то дышать в театре воздухом искусства, очень даже были возмущены действиями этого великолепного, но вот только с незначительными поведенческими отклонениями человека. Разумеется, бутылку такой формы, точной копии той минералки, я взять из его рук не мог, иначе пришлось бы пол отмывать от чего-нибудь другого, уже связанного со мной.
Прервав процесс своих размышлений, я спросил:
– Что вы ищете, Глеб Максимилианович?
– Я? Ищу? С чего вы взяли?
– Давайте начистоту (улыбнулся я очень вовремя двусмысленно вылетевшему из меня слову в свете моих воспоминаний о «минеральной воде»), это видно по вашему бегающему взгляду.
– Да? Молодой человек, вы очень наблюдательны…
– И всё же? – настойчиво возобновил я наш диалог.
– Ну хорошо. Только вам, по секрету. У меня в кабинете была дама, которую я хотел облагодетельствовать, а теперь её там нет. Испарилась. Но, говорят, кто-то видел, как вы её куда-то увели, но здесь я её не наблюдаю, следовательно, сплетни…
– Да, Глеб Максимилианович, похоже на то. Люди у нас любят посудачить, вы же сами знаете.
– Да, да, конечно, – задумчиво протянул он.
– А где вы-то её нашли? – на всякий случай спросил я.
– Ах, так значит, всё-таки вы её видели?
– Глеб Максимилианович, чем быстрее между нами возникнет доверие, тем быстрее мы найдём вашу пассию. Её видели многие, в том числе и я.
Сотрудники театра то и дело стали заглядывать в аппаратную, может, они заглядывали и раньше, но я заметил это только сейчас. По беспечному выражению их лиц я понял, что почему-то их ничего не обескуражило в сегодняшнем спектакле и всё для них, видимо, прошло как всегда. Это меня насторожило ещё больше и не давало быть вполне откровенным с Глебом Максимилиановичем. Внутренне я был доволен, что этот «ходячий грех» – осколок былой женской привлекательности – куда-то испарился, избавив меня от лишних объяснений и хлопот…
Хотя?!
– А вы в подсобке смотрели? – спросил я Глеба Максимилиановича.
Глаза апологета женских прелестей масленично залоснились, и он моментально исчез, даже не расшаркавшись на прощание.
Но моё личное состояние, после пережитого, оставляло желать лучшего: я на этом спектакле без прогонов и генеральных репетиций оказался втянутым в роль главного героя, причём, до сих пор не осознавшего, что же произошло на сцене, а что – за кулисами, а не зрителем, как мне казалось вначале. Мой шаг в жемчужину на шее Жанны – розыгрыш или какая-то удивительная фантасмагория, которую я ощутил на себе, чёрт возьми, вполне реально.
Жемчужина, обнаруженная мной в кармане пиджака, таинственным образом небрежно брошенного на микшерском пульте, обескуражила меня окончательно. Она словно уголёк, выхваченный из пепелища, жгла мне руку. В голове от этого жара стали рождаться немыслимые, феерические образы.
Для установления душевного равновесия мне надо было встретиться с Эндрю. Набирая номер его мобильного, я почему-то подумал о том, как редко интересовался его внутренним состоянием, хотя, может, это было бы излишним, захотел бы – сам рассказал, но мне казалось, что из всех моих друзей только он мог оценить степень моего замешательства. За последнее время мы с ним очень сблизились и практически ничего не скрывали друг от друга.
До сих пор я не вступал в кардинальное противоречие с самим собой. Иначе, я думаю, как творческий человек непременно придумал бы себе псевдоним или нацепил на себя какой-нибудь эпатажный образ; или, как Эндрю, кардинально сменил сферу деятельности, чтобы попробовать жизнь с иной стороны, – и не только для получения социального опыта общения и навыков, непривычных для человека интеллектуального труда, каковым являюсь и я, а для эмпирического опробования выживания в незнакомой среде и выбора своей окончательной ниши в этой жизни. Эндрю, придя в наш театр, сразу привлёк моё внимание своей неординарностью, которая проявлялась в первую очередь в поведении и внешнем виде, совершенно не совпадающем с представлением о том, каким должен быть монтировщик сцены в театре. Монтировщики сцены, как правило, были коренастые, мускулистые, не чуждающиеся крепких горячительных напитков, отдыхающие в клубах табачного дыма, использующие для вербального общения крепкие словечки, которые у интеллигентных людей, может, и вылетают, но только в очень экстремальных, можно сказать – мотивированных случаях.
Похоже, для Эндрю пребывание в театре в качестве монтировщика сцены – это своеобразная цоевская кочегарка или долматовская Сорбонна, пути приспосабливаемости, накопления нравственного чуждого опыта или своеобразного получения удовольствия от жизни.
Возможно, он и сам не мог разобраться в своих психологических метаниях, но уважение вызывал тот факт, что в поисках себя он всегда помнил, что главный кормилец в семье.
Но путь, на который он ступил, требовал очень хорошей физической подготовки. Тогда как его субтильные анатомические параметры целиком и полностью соответствовали образу интеллигента в очках (первичном признаке интеллигентской кастовости), с неизменной книгой в руках, которая не способствовала развитию мускулатуры, навыков и смекалки, которой, впрочем, Эндрю было не занимать. Деятельность монтировщиков сцены в театре нельзя переоценить: они собирают и разбирают декорации, задействованные в спектакле до, во время (бесшумно передвигаясь, таскают подъёмные декорации – столы, стулья, шкафы…) и после оного. Собирают целые дома на сцене, потом экстренно разбирают перед демонстрацией другого очередного спектакля, затем собирают вновь – для вечернего, и так далее, и тому подобное. Также для стабильности всевозможных занавесок и портьер придавливают их к полу меточками с песком, так называемыми «крысами» и чугунными грузиками, и занимаются ещё многим другим, без чего невозможен процесс создания достоверности – при всей иллюзорности театрального действа.
К счастью, Эндрю сказал, что у него есть свободный часок до работы.
– Я угощаю, – предупредил я его заранее, испытывая в этом жесте доброй воли потребность и прекрасно понимая, что его карманы как всегда пусты. Бюджетом распоряжалась его жена, а денег на семью – двое взрослых и ребёнок– катастрофически не хватало.
4. Изнанка в отражении жемчужины
– Только, знаешь, – предупредил я Эндрю, с плотоядным удовольствием зацепившего вилкой сосиску из непритязательного меню нашей театральной столовой, – давай обойдёмся без принятых сентенций типа: «Станиславский сказал бы: не верю!».
– Что ты так разволновался? Клянусь ко всему тобой произнесённому отнестись серьёзно, избегать банальных фраз, что зависит, кстати, от твоего повествования…
И он поднял указательный и средний пальцы правой руки в знак клятвенно заверения в сказанном.
– Но поесть-то мы можем, а то очень кушать хочется.
– Ешь, только молча и слушай.
Я для быстроты изложения (время поджимало) достаточно сухими оборотами речи поведал ему о происшествии в театре до момента моего погружения в жемчужину.
– Кстати, – поинтересовался я, а где ты был во время спектакля?
– Сегодня пришлось сидеть с ребёнком, вот ночью буду отрабатывать. Я думал, – разочарованно протянул Эндрю, – с тобой произошло что-нибудь эротичное.
– Произошло, – неожиданно для себя выкрикнул я так громко, что люди за соседними столиками на мгновение оторвались от своей трапезы и вскинули на меня – нарушителя их спокойствия – удивлённые глаза. – Но всё же я до сих пор не могу понять – произошло или не произошло, – произнёс я тише.
Эндрю со скабрёзно-лиричным выражением лица (если, конечно, такое бывает) продекламировал:
– Он провёл своей горячей рукой по её запястью и поднёс её руку к своим губам. Потом он крепко обхватил гибкий стан и привлек её к себе. Обнимая одной рукой, он медленно расстёгивал пуговицы на её блузке. Стал жадно целовать необременённые нижним бельём груди, похожие на два спелых персика, такие же нежные и бархатистые на ощупь. Рука скользнула под юбку, под которой также не оказалось нижнего белья. Он чуть не задохнулся от прокатившейся по его телу волны страсти. Он вошел в её лоно с чувством наивысшей эйфории, не испытанной доселе ни разу, и только несколько мгновений спустя вдруг почувствовал, как течёт кровь по его лицу, которое она с остервенением царапала всё это время, вонзая свои острые коготочки и белоснежные зубки ему в шею как дикая кошка. Состояние аффекта, блаженство, которое он испытал от обладания её телом…
– Заткнись, болтун. Тебе сценарии писать, а он в монтировщики подался.
– Что, угадал?
– Почти. Только фантазия тебя завела очень далеко, ведь ты не видишь на мне следов царапин, нет?… Но, чёрт меня побери, мне и правда кажется, что я испытал примерно то, что ты тут наболтал, несомненно, я чувствовал всё как наяву, и в то же время этого просто не может быть, не может быть – и всё тут. Мы только с ней болтаем на эту тему, по-детски дразня друг друга.
– Ха-ха, по-детски, дразня, насмешил сравненьицем. Единственный способ узнать факт соития – это спросить саму Жанну.
– Нет, я не могу.
– Ты по её поведению поймёшь – что было, а чего не было. Тебе надо с ней встретиться. Но, признайся, где граница вымысла, а где реальность?
– Если бы я знал, – сказал я сокрушённо.
Но что-то из всего этого, вопреки здравому смыслу, всё же было. И я достал из кармана пиджака неоспоримое доказательство – чёрную жемчужину.
Эндрю плюнул на палец и, приложив его к своему лбу, зашипел как утюг, извергающий пар.
– Ты её тоже видишь? – насмешливо спросил я.
– Ну и что ты собираешься с этим делать? – спросил он и, как всегда, когда его что-то озадачивало, потёр правое ухо.
– Надо найти эту загадочную тётку, – предположил я, – да, точно, – расспросить Глеба Максимилиановича, где он её подобрал…
– С Максимилиановичем всё ясно – этот просто на женщинах сдвинут…
– Ну, знаешь, не больше остальных… А вдруг он не расколется?
– Расколется, куда он денется, – и Эндрю продемонстрировал свои напряжённые для острастки Глеба Максимилиановича мышцы интеллигента.
У Эндрю зазвонил телефон; выслушав своего абонента, он молча вопросительно воззрился на меня.
– Что? – не выдержал я.
Эндрю почесал правое ухо и спросил:
– А как ты относишься к детям?
– А никак. Не было прецедентов выразить своё к ним отношение, – сказал я, ещё не понимая, куда он клонит.
– Выручай, Жека, выручай. Надо с моей бэби понянчиться. У тёщи сердечный приступ, жене надо срочно к ней. Прочитаешь ребёнку книжку про Колобка, он заснёт, а утром с петухами я уже вернусь. Может, и я чем тебе пригожусь, а?…
На ближайшие часов двенадцать я был свободен как вольный ветер, отказать не мог, хотя и не понимал, как я смогу справиться с поставленной задачей.
Благо, Эндрю жил недалеко, и мы, быстро свернув нашу трапезу, длинномерными шагами направились к нему.
Жена Эндрю, обеспокоенная случившимся, ожидала нас у открытой двери; поспешно обменявшись поцелуем с Эндрю, убежала к ещё не закрывшемуся лифту.
Бэби по имени Галя, как Эндрю её называл – Галчонок, сидела за столом и с упоением водила по бумаге фломастерами.
– Будешь слушать сказку про Колобка? – забросил я свой первый педагогический шар.
Бэби отрицательно мотнула головой.
– А что ты хочешь слушать?
Дочка Эндрю была презабавнейшим существом, из тех, которые говорили на своём непонятном малышковом языке-лепете, необычайно комическом и совершенно непонятном. На каком-то интуитивном уровне я всё же понял, что она хочет.
– Эндрю, ребёнок хочет сказку, но не про Колобка.
– Ну расскажи какую-нибудь другую, – донёсся его голос из прихожей.
– Я не знаю сказок.
– Тогда сочини.
– Как это – сочини?!
– Да вот так, сочини и всё. Она всеядна у меня. Любую сочиняй.
– Да, я и смотрю, как она всеядна, – пробурчал я, – про Колобка не хочет слушать. Я не умею сочинять, – сказал я для его ушей.
– Ты определись – не знаешь или не умеешь.
– Я не умею обращаться с детьми.
– Вперёд, не робей, в этом, уверяю тебя, нет ничего страшного, – Эндрю вошёл в комнату и ободряюще похлопал меня по плечу, – дети – это тоже люди, но только о-о-очень маленькие, и их ещё многому надо учить и учить. Я когда-то не умел быть отцом. Всё когда-нибудь бывает впервые.
Я услышал, как хлопнула входная дверь. Ну, что ж, была не была, я сел на диван напротив детских выжидательных глаз и стал рассказывать первое, что приходило на ум.
Ребёнок внимательно слушал. Значит, я на правильном пути.
5. Сказка о маленькой курочке Фёкле
Маленькая курочка Фёкла сидела на насесте, наклонив влево – по принятой здесь моде – розовый гребешок. «Так я выгляжу как все», – подумала она, отвлекшись от основных мыслей. А мысли её витали далеко от этого места: этого опрятного курятника, чистенького насеста, всегда полной кормушки и специально приспособленного поильничка.
Фёкла грустила. Она грустила о том времени, когда была маленькой жёлтенькой цыпочкой, самой маленькой среди своих сверстниц. И сейчас она не могла оценить великолепия окружающего комфорта богатой птицефермы, потому что всё, что было дорого её душе, осталось там, за огромной оградой. О, как она впервые в жизни захотела стать птицей с большими крыльями, пусть даже хищной, она бы сумела рассказать, зачем ей нужны такие крылья, способные переносить через высокие препятствия и помочь ей в поиске своего родного курятника. Но забор был очень высокий, и, несмотря на свою мечтательную натуру, она понимала, что никогда не станет обладательницей таких крыльев.
К тому же, можно было попробовать уйти через ворота, но существовало препятствие в виде огромного замка, висящего очень высоко. Замок, как и ворота и всё вокруг, был новым, блестящим, недосягаемым. Как его открыть?
Ведь он рождён, чтобы охранять. У него свой серьёзный характер, навыки бдительности и внимательности к каждому, кто выходит и входит во вверенный ему объект, и доверяет он только тому, у кого есть ключ. Ключ – это часть замка, неразрывно связанная с ним, это ключ от его сердца, которое отличается непостоянством: когда замок закрыт, сердце хочет быть доверчивым и открытым, а когда замок открыт, сердце хочет покоя и замкнутого уединения.
Курочка Фёкла, понимая, что её крылья никогда не дадут ей возможности взлететь, стала присматриваться к замку. Она не умела читать мысли, а внешняя суровость замка лишала её решимости заговорить с ним. Он казался ей грозным и неприступным, как и ворота, на страже которых он висел.
Но в бездушии обвинить замок нельзя. Просто не всё зависело от него. Когда ключ от твоего сердца лежит в чьём-нибудь портфеле или кармане, то ты, безусловно, ограничен, не властен над своими поступками.
Но и было бы глубоким заблуждением думать, что Фёкла – из тех, кто отступает перед трудностями. Она совсем даже не из таких, а скорее наоборот. День ото дня Фёкла всё ближе и ближе подходила к замку, она хотела, чтобы он постепенно привык к её присутствию. Так как для неё было очень и очень важно договориться с ним. Она не знала, что её ожидает в будущем, какое оно будет – это её будущее здесь, вдали от дома. А разговор с замком для неё – это шанс оказаться там, где её любили и где она чувствовала себя счастливой.
«Многоуважаемый замок, – немного запинаясь, произнесла Фёкла в один из пасмурных дождливых дней, когда невозможно отвлечься от своего душевного состояния ни прогулкой вдоль длинного высокого забора, ни разглядыванием камешков, травки и других местных достопримечательностей, ни разговором с подружками, обитательницами здешней фермы, – не соблаговолите ли вы выслушать меня?»
Замок блеснул стальной дужкой, но ничего не ответил. Курочка Фёкла даже подумала: а не обидеться ли ей на него. Потом, успокоив себя мыслью, что, возможно, замок её не расслышал, вытянув насколько возможно свою маленькую изящную шейку, она ещё раз более громко повторила своё обращение к нему.
Замок опять, но теперь ещё более решительно блеснул не только стальной дужкой, но и латунным корпусом. Подружка, которая из любопытства сопровождала Фёклу, со смехом фыркнула то ли по отношению к замку, то ли по отношению к Фёкле, которая, надо отдать ей должное, будь последнее предположение верным, не обиделась бы, так как прекрасно понимала, как это выглядит со стороны. Фёкла уже не однажды интересовалась: не хочет ли подружка убежать вместе с ней, но, в отличие от Фёклы, подружку здесь всё устраивало, а рисковать и отправляться неизвестно куда она не желала.
«Пусть смеётся, сколько хочет, – незлобиво подумала Фёкла, – каждый сам выбирает свой путь, конечно, мне было бы не так страшно бежать отсюда, если бы кто-то был рядом, но – что поделать…»
И тут она заметила, как к ним приближается огромная тень. Испугавшись, стараясь не закудахтать, подружки наперегонки помчались на свой насест. Усевшись на нём, Фёкла замерла в невинной позе, придав своему взгляду равнодушное выражение, наклонив, как принято, гребешок, но вскоре она догадалась, что за чудовище сорвало так долго вынашиваемый план её разговора с замком. И поняла, что зря так испугалась – это был всего лишь пёс, охранявший птицеферму. Он тоже был стражем, и хотя его возможности намного превосходили возможности замка в передвижении по территории, но всё же они занимались одним общим делом: охраняли вверенное им место от непрошенных гостей и, в частности, её, Фёклу, держали взаперти.
Они оба были первым и очень важным препятствием в осуществлении мечты Фёклы вернуться домой, туда, где она родилась, к своей наседке-маме, и где, казалось, помнила каждый шесток, кормушку и каждое пёрышко главного громогласного обладателя самых прекрасных шпор петуха Казимира. И ещё она поняла: если хочешь чего-то добиться, то надо научиться бороться со своими страхами, научиться быть смелой.
На следующий день курочка Фёкла с видом наивной беспечности вышагивала вдоль забора. Было очевидно, что беспечность её внешнего вида обманчива; на самом деле она теперь выискивала хотя бы крохотное отверстие в заборе или рядом с ним. И тут ей улыбнулась удача – она увидела небольшой просвет, углубление у основания забора.
Она решила дождаться темноты и уже тогда действовать. А сейчас, отсчитав от ямки свои куриные шажки, точно зафиксировав направление, сохраняя безмятежный вид обычной ничего не замышляющей курочки, вернулась на своё место и тихо так сидела, экономя силы для побега. Даже приятельницу не стала тревожить известием о своём решении бежать под покровом уже надвигающихся сумерек.
Ночь на редкость оказалась безлунная. Что, конечно, с одной стороны, облегчало Фёкле задачу не обнаруживать своего передвижения, но, с другой стороны, затрудняло ей возможность ориентироваться, так как приходилось полагаться только на интуицию, зрение в данном случае было бесполезно. Она, бесшумно ступая, отсчитала запомнившиеся заветные шажки до нужного места. Ведь она видела, как в своё время её мама считала пшеничные зёрна, а она всё схватывала налету и, как бы там ни было, считать умела почти с самого рождения. Потом Фёкла повернула направо и, нащупав углубление, смело прыгнула в него. Усиленно заработала лапками, увеличивая ямку. Как ни странно, это ей удалось достаточно легко, видимо, кто-то пользовался этой замаскированной лазейкой и до неё.
Оказавшись на противоположной стороне, она не стала стремглав удаляться от злополучного места, а застыла в некоторой нерешительности; это было обусловлено тем, что желание взглянуть на неприступную дверь, неразрывно связанную с забором, с той, другой стороны, стороны свободы, было очень велико. Но было очень темно, и Фёкла решила не отвлекаться, а всё внимание сосредоточить на поиски главного направления, которое уведёт её подальше от этого места и приведёт домой. Тем более что здесь, на свободе за пределами забора, она не знала, куда ей следует идти. Выбор стороны, от которой она сделает шаг вперёд по направлению к своей цели, сократился до одной стороны забора, той, которая была за её спиной. Но это служило слабым утешением, так как правильное направление могло быть где угодно, а исследовать три другие стороны забора, растянувшиеся на много-много куриных шажков, не представлялось возможным.
Фёкла никогда не бродила ночью, но только под её покровом она могла уйти далеко, и её побег мог оставаться долго незамеченным. Но глаза не привыкали к темноте, наоборот, может, от волнения, но она, казалось, различает всё вокруг себя ещё хуже, и курочкой начало овладевать отчаяние.
Светлячок, оказавшийся рядом с Фёклой и засветившийся в этой кромешной непроглядной тьме, так её обрадовал, что она от радости захлопала крыльями, чем испугала его. Темнота вновь сгустилась.
– Где ты, светлячок? – позвала Фёкла, – я тебя не вижу. Мне очень страшно, я натыкаюсь на каких-то страшилищ, мне кажется, что кто-то хочет схватить меня, если тебе не трудно, посвети ещё, и я найду заветную тропинку домой.
И вдруг Фёкла увидела не один, а много светящихся огоньков.
– Спасибо, светлячки, вы светитесь для меня своими добрыми сердцами.
Она более уверенно зашагала по освещённой тропинке и вдруг услышала тяжёлые шаги позади себя. Укрыв свой гребешок крылышком, приготовилась к самому худшему.
А почувствовав жаркое дыхание над самым ушком, чуть не лишилась чувств от страха.
– Я хоть и сторожевой пёс, – услышала она, – но не бойся, я не трону тебя, мне самому не нравятся порядки на ферме, которую я сторожу, но – что поделаешь, хозяев не выбирают. А работа везде одинакова. Мой дом там, где есть крыша над головой, где есть миска похлёбки, где хоть иногда почешут за ухом и похвалят за хорошую службу. Если тебе удалось выбраться, я не буду тебе мешать, иди, но я часто забегаю в лес и точно знаю, что в округе нет никакого жилья и курятников, и прежде чем отправиться дальше в дорогу, ты хорошенько подумай. Здесь ты в тепле и накормлена, а там, куда ты идёшь, может, и дома уже нет, и насеста, и всего того, к чему ты так стремишься.
Фёклу нельзя обвинить в упрямстве: она просто хотела идти туда, где чувствовала себя счастливой своим курочкиным счастьем. Хотя она, как и люди, не находила объяснения этому слову.
Пёс, порычав для острастки в сторону леса, так, на всякий случай, чтобы враг, затаившийся в кустах, в траве или в норе, знал, что, если он обидит курочку Фёклу, то дело будет иметь с ним, сторожевым псом. Курочка немного успокоилась, светлячки передавали эстафету друг другу, и она, чувствуя их поддержку и ещё слыша отзвуки угрожающего рычания пса, предназначенного её незримым недругам, продолжила свой путь.
Начинало светать, а лес всё тянулся чередой огромной высоты деревьев, непроходимых кустарников, густых трав…
Запоздало ухнул филин, пролетел над присевшей от страха Фёклой как огромный лайнер, который она видела однажды высоко в небе, загородив собой блики зарождающегося рассвета. И тут же раздался такой звук, какой она слышала, когда человек сколачивал ящик для перевозки курочек. Так дятел, стучавший по осине, легко ввёл её в это заблуждение. Она споткнулась о щепку, упавшую сверху.
– Ой, – вскрикнула она от неожиданности.
Дятел, увлечённый своим любимым делом, продолжал разбрасывать щепки во все стороны, а голова, украшенная красной шапочкой, прочным клювом продолжала выбивать барабанную дробь, создавая свою партию в мелодии леса. Фёкла остановилась передохнуть и, мечтательно задрав голову вверх, засмотрелась на красивые пёрышки дятла, переливающиеся в лучах предрассветного солнца.
«Нет, – улыбнулась она, – всё же никто не может сравниться с петухом Казимиром: с его красным резным гребешком, радужными перьями, когда он, кукарекая, победоносно хлопая крыльями, созывает своих курочек полакомиться плодами охоты. Да и жить в дупле, наверное, всё-таки не так удобно и не так интересно, как в курятнике. Где так весело рядом с мамой, вместе с подружками играть, клевать овёс и блестящий речной песок, восхищаться бесстрашным задирой – заступником Казимиром, только с ним чувствуя себя защищённой от всего плохого, что может угрожать курочкам. Если уж переживать опасности и лишения жизни, то только вместе с теми, кто любит и понимает тебя и кого понимаешь и любишь ты, а это возможно только в стенах родного дома, в кругу своих родных и близких. Ах, как это важно – быть там, где ты чувствуешь себя совсем-совсем счастливой…»
В то время, пока сверху продолжали падать выдолбленные крепким клювом дятла кора и древесные щепочки, совсем рядом, из соседнего кустарника, она услышала сначала «Ку-ку», а потом глухой пугающий хохот. Фёкла во всю прыть побежала, не разбирая дороги, мелко семеня своими лапками и, насколько было возможно, помогая себе крыльями. Она долго бежала, но хохот, казалось, гнался за ней по пятам. Споткнувшись о торчащие из земли огромные корни, она упала без сил. Кукушка, а это именно она издавала звуки, так напугавшие курочку, присела неподалёку от неё и, всё ещё продолжая смеяться, сказала:
– Хоть мы, кукушки, не строим себе гнёзд, тем более – в виде дупла да ещё так высоко, как это делает дятел, считая это бесполезной тратой времени, но наши кукушата никогда не остаются без дома. Мы их устраиваем на чужие насесты, так, кажется, у вас называются гнёзда, и посторонние сердобольные родители воспитывают их. Ха-ха-ха, – опять раздалось у самого уха Фёклы.
Фёкла не смела возразить, но, открыв пока только один глаз и не приметив ничего страшного в обладательнице голоса небольшой серой птичке, сразу приободрилась и, не вступая в рассуждения, упрекая себя за трусость, пошла туда, где, как ей казалось, находится её дом. Фёкла была ещё очень молода, и её характер только начинал формироваться, но она отлично знала и без всяких объяснений, что жить за счёт других – неправильно, она не одобряла образа жизни кукушки и, мечтая о своём будущем, видела себя заботливой самостоятельной курочкой, отдающей всю себя без остатка своим малышам.
Изложить точно слово в слово ту сказку я, конечно, сейчас не могу, но текст очень близок к оригиналу. Кто заснул раньше – Галчонок или я, и сказка осталась незаконченной, трудно сказать, но то, что Эндрю нашёл меня спящим на коврике на полу, возле детской кроватки, это сомнений не вызывало.
Глава третья
1. Инфернальное облако
Жанна, казалось, родилась в рубашке инфернального облака вселенской нелюбви. Воспоминания матери о родах будили в ней нереальную память или невиданную фантазию возможности того, что она, Жанна, действительно помнит, как специально доставляла матери нестерпимую боль тем, что долго не хотела появляться на свет.
Мать кричала и материлась на стоявших вокруг неё акушерок, старавшихся ухватить головку и вытянуть младенца на свет божий. Когда, наконец, она разрешилась от бремени, проверочный вопрос на вменяемость роженицы: «Кто у вас родился, девочка или мальчик?» – вызвал у новоиспечённой мамаши гомерический хохот. Потом, встретившись со взглядом только что родившейся дочери, могла поклясться: во взгляде младенца она уловила насмешку, если это вообще возможно… Её передёрнуло, как от озноба. Оказавшись в палате среди счастливых мамаш, что-то лепечущих своим новорождённым чадам, она подверглась массированной атаке стадного чувства. С усилием отогнав от себя внезапно нахлынувшую неприязнь и нацепив на лицо улыбку умиротворённого материнства, закрыла глаза и подставила свою грудь для первого кормления, которое впоследствии, следуя спортивной терминологии, она вспоминала не иначе, как первое состязание с новорождённой дочерью; между ними была ничья, никто не добился своей цели: грудь ещё не наполнилась молоком – ребёнок остался голодным, но требовательная хватка беззубой челюсти младенца порядком потрепала её сосок.
Такой «привилегией», как посещение детского сада, Жанна пользовалась сполна. Домой её забирали исключительно только на выходные, и кроме неконтролируемого раздражения, упрёков и недовольства матери одним лишь её присутствием, Жанна по отношению к себе не чувствовала.
– Какая у вас упрямая девочка, – говорили матери Жанны в детском саду. – Ни за что не попросит прощения, а будет упорно стоять в углу вопреки всем разумным педагогическим доводам. Вам, наверное, очень тяжело с ней приходится?
Мать Жанны недоумевала по поводу высказываний воспитателей детского сада: ребёнок как ребёнок. Дома её не видно и не слышно.
– Может, мне наподдать ей хорошенько, внушить, так сказать, как нужно себя вести?
– Что вы, ни в коем случае, несмотря ни на что – они же детки, ещё ангелы, – мягким спокойным тоном возражала педагог-психолог детского сада, – хрупкая детская душа – лист чистой бумаги. Как постигнуть мир и понять, что ты сделал не так, за что тебе взрослые делают больно. За что ставят в угол, бьют ремнём, часто даже не объясняя, в чём же вина ребёнка, совершающего тот или иной поступок в первый раз. И вот – уже сделаны первые тёмные штрихи в этой открытой миру, солнцу детской душе. Появляются ростки обиды и скрытой ответной агрессии на непонятный жестокий мир взрослых. И листок великолепной чистой бумаги – душа ребёнка – постепенно превращается в лакмусовую бумажку, отражение тех, с кем она рядом. Ребёнок становится замкнутым, затравленным, закомплексованным волчонком, желающим только одного: чтобы эти взрослые оставили его в покое. А такие взрослые мамки и папки, ограниченные, нравственные, прямо скажем, уродцы, вершители детских судеб могут даже получить всплеск положительных эмоций от наказания своего ребёнка, убеждённые в том, что они не бездействуют, а очень активно занимаются воспитанием своего отпрыска.
И мать Жанны, удивляясь этим странным речам, даже не догадывалась, насколько сказанное было близко к истине в формировании характера Жанны.
Упрямство? Да, оно проявлялось внезапно, как неуправляемая молния, и здесь уж – бей её хоть чем, даже рукояткой веника, она не будет плакать, не будет убегать или защищаться, а будет стоять и упорно принимать удары без единой слезинки на лице и с отрешённым безразличием в глазах. Но это ж бывает так редко. Пусть не наговаривают. Она обычная – такая, какими должны быть дети в её возрасте.
С упрямством сорняка сквозь плотную кору асфальта Жанна пробивалась к месту под солнцем, – так сказал бы о ней писатель.
Находясь в одном пространстве, мать и дочь редко соприкасались: если мать была дома, то Жанна носилась где-то на улице, не докучая своим присутствием, боясь натолкнуться на грубость. Так и жили: если мать на порог, дочь за дверь, если мать за дверь, дочь на порог. Они почти не виделись в моменты их вынужденного совместного пребывания дома. А если вдруг мать и дочь оказывались вместе, то Жанна вела себя так, что «через неё можно было смотреть телевизор» – настолько её присутствие было незаметным.
Разговоры на общей кухне огромной коммуналки – бурлящей, кипящей, пахнущей всем на свете – делали мать Жанны невольной слушательницей соседки, бывшей актрисы, которая даже нравоучительные темы излагала с театральным эмоциональным накалом мелодраматических страстей. Время от времени разговоры вращались вокруг школы. Племянник, часто гостивший у авторитетной, но, надо заметить, одинокой соседки, был не совсем прилежным учеником и, получив очередную двойку, прятался от гнева родителей под крылом обожавшей его тётушки.
– Нынешние школы, – вещала тётушка-оракул, – просто вызывают отвращение, и кто в них преподаёт: учителя, не умеющие объяснить свой предмет. Они просто прикрывают свою безграмотность наносной строгостью по отношению к школьникам. Я считаю, что, поставив двойку, ты подписываешься в своей несостоятельности учителя, педагога и личности, в способности существовать в этой очень сложной профессии, требующей от человека не только больших знаний в своём ремесле, но и определённой организации мышления, высокого морального уровня. Настоящий педагог – это человек с большой буквы, который не угнетает таланты и достоинства ребёнка, а лишь стремится подавить его отрицательные зачатки проявления характера и не выравнивает всех в одну линию, не измеряет одной меркой, а даёт вырасти индивидуальности.
Последние слова, как правило, произносились не менее чем на тон выше, и для весомости сказанного указательный палец застывал перед глазами ближайшего к ней слушателя; казалось, что для убедительности её напудренный нос почему-то зрительно вытягивался, ставя восклицательный знак под всем сказанным.
– Вот, значит, какие сейчас учителя, – с видом непоколебимой уверенности во всём том, что вещала бывшая актриса, вторила ей мать Жанны, – вот кому мы доверяем своих детей.
Соседка, довольная произведённым её речью эффектом, удостаивала своих слушателей многозначительным взглядом и улыбкой густо напомаженных губ.
В школьные годы Жанна также целыми днями была предоставлена сама себе. Никого не интересовало, где она бывала и с кем, приходила в определённое время домой – и этого достаточно, больше от неё ничего не требовалось. Главное внешнее благополучие и внешнее исполнение материнского и дочернего долга. Ни мать, ни дочь не интересовались делами друг друга. И если Жанна приобретала какие-нибудь навыки в жизни, это только благодаря своему желанию этим чем-то заниматься. Иллюзия семьи, её видимые атрибуты для Жанны были соблюдены: накормлена, напоена, одета. Отношение похожее на кость, брошенную собаке: вроде участие проявлено, а уж подавится она ей или нет – никого не волновало. Положительное мнение как о прилежной матери есть. Что ещё нужно?…
Мать Жанны была очень далека от мысли, что у ребёнка может существовать собственный внутренний мир, в котором она, мать, должна занимать главное место – как пример для подражания, как источник любви и нежности, как опора и советчик в трудностях, с которыми встречается её несформировавшееся в нравственном, человеческом плане дитя.
Жанна не понимала, почему некоторые девчонки, с которыми она общалась, повторяли: «А вот моя мама говорит…» И беспрекословно делали то, что говорила им мать. Она, ни разу не заснувшая под колыбельную, не знавшая материнского поцелуя перед сном, – из какого источника она могла напиться всем тем богатством чувств, которые может дать только мать, если этот источник безнадёжно скрыт под огромным слоем равнодушия и неприязни к ней, Жанне.
Она же испытывала только чувства обиды и неприкаянности. Но, по мере взросления, Жанна запретила себе плакать и стала воспринимать отношение матери и окружающих людей к себе как само собой разумеющееся, другого отношения она просто не знала, и ей казалось, что за дверью каждой семьи живут такие же «зверушки»: «Так устроен мир», – решила она и стала вырабатывать в себе иммунитет независимости.
2. Жемчужные слёзы
Во сне с Жанной происходили необычные, сказочные события, и, пробудившись ото сна, ей так хотелось поменять местами сон и реальность.
И эта ночь не была исключением: во сне она – Жанна – юная принцесса далёкого острова в океане. На острове – изумрудно-зелёные лианы с круглыми листьями и красными цветами, похожими на гигантские колокола.
Лёгкий ветерок, дующий с океана, касается их, они отвечают ему покачиванием и нежным, чуть звенящим пением. Лианы укрывают собой от яркого солнца дворец с колоннами и античными статуями, окнами из разноцветных мозаичных стёклышек, которые, мерцая бликами, создают внутри замка обстановку умиротворения и покоя. Принцесса лежит на кровати под шёлковым балдахином. На мраморном столике рядом с кроватью – вазы с заморскими фруктами, кувшины, наполненные нектаром. Воздух насыщен запахом ванили. К ней подходит принц, становится на одно колено и обращается со словами: «C днём рождения, Жанна. Я так тебя люблю. Будь моей женой», – протягивает шкатулку, в которой – необыкновенной красоты жемчужина. Жанна счастлива, одно огорчает: лицо принца остаётся для неё загадкой, оно всё время ускользает от её пристального взора… Вдруг с моря дуёт сильный ветер, начинается шторм, который смывает в океан дворец, принца…
Слёзы обиды катятся по её лицу. Слезинок очень много. Они падают вокруг, падают ей в ладони… превращаясь в жемчужины… Она судорожно сжимает их в кулачок и тут просыпается оттого, что мать тормошит её со словами:
– Что ты дрыхнешь, соня, а ну вставай, день рождения свой проспишь…
Ей хочется вернуться в сон. Ведь она так и не разглядела лицо принца…
Сквозь смеженные веки видит, как по половице ползёт ленивый таракан.
Жанна зажмуривает покрепче глаза, стараясь тем самым остановить момент пробуждения, вновь погрузиться в небытие сна, потому что реальность такая, что гнуснее не придумаешь…
Сон не возвращается, но она вся во власти его магии, ей хочется верить, что такое сновидение в ночь накануне дня рождения – не случайно.
Окончательно пробудившись, Жанна разжимает кулачок и обнаруживает несколько монет. Игра матери в заботливость не трогает сердце девочки, она отчётливо понимает: сегодня выходной, и мать дала ей деньги не щедрости ради, а главным образом желая сбагрить её с глаз долой, чтобы она не досаждала своим присутствием дома. Жанна отмахнулась от этих мыслей как от назойливых мух, стала вспоминать, как выглядела необыкновенная жемчужина, увиденная во сне, мечтать, что когда-нибудь эта жемчужина волшебным образом перенесёт её к принцу – в тот удивительный мир, на далёкий остров, в ту, другую и красивую жизнь.
3. Потомственный ювелир
Жанне часто снился именно жемчуг: он манил её, завораживал, и она время от времени подходила к витринам ювелирных магазинов, чтобы просто им полюбоваться.
Порой, насмотревшись на жемчуг, она как завзятый грибник, нашатавшийся по лесу в поисках грибов, зажмурив глаза, продолжала его находить.
До открытия ювелирного магазина оставалось около пятнадцати минут. Василий стоял и задумчиво смотрел, как на улице по ту сторону витрины снуют люди, иногда останавливаясь и вглядываясь в украшения на тёмно-синем бархате. Ещё до революции его пращуры по отцовской линии считались признанными мастерами ювелирного дела по изготовлению украшений и изделий в технике скани и зерни.
С младых ногтей Василий, находясь в фееричном блеске драгоценностей, казавшемся ему совершенно обыденным, непроизвольно впитывал азы ювелирной техники – филиграни, объединяющей искусство скани и зерни, – нанесении узоров из тончайшей витой золотой и серебряной проволоки, припаянной к металлическому фону, одному из древнейших видов художественной обработки металла, на котором специализировалась их семья. Он ещё не мог написать слово «мама», но то, что самыми известными сканщиками пятнадцатого века были инок Амвросий и Иван Фомин, он уже знал.
Сейчас Василий добросовестно продолжал дело своих предков, но это происходило больше из чувства долга. Он не мог допустить, чтобы достигнутое мастерство, в которое было вложено столько сил, захирело и сошло на нет. Кроме него продолжить, возглавить и высоко держать марку величия их ювелирного дома было некому. Но, несмотря на всю свою ответственность, он всё же воспринимал свою роль в этом серьёзном деле как игру. Многие пользовались его доброхотством, большей частью полагая, что он этого не замечает, за его спиной часто можно было слышать: «Не от мира сего».
В своём королевстве филиграни он был дружелюбным королём, прельщающим гостей богатым выбором великолепных изделий и украшений из драгоценных металлов и камней. Он являл собой гостеприимного хозяина, хлебосольно предлагающего каждому посетителю испить чаю или кофе, вкусить кондитерского яства, порадоваться скидке, бонусу, подарку, причём не только в дни социально-общественных и личных событий – праздников, свадеб, дней рождений…
Бизнес – и вопреки, и благодаря – процветал.
И сейчас, находясь уже в зрелом возрасте, Василий помнил, будто это случилось вчера, свою первую подвеску из медной проволоки, сделанную собственными руками, без какой-либо опеки со стороны взрослых. Сам собрал горелку из компрессора от аквариума, пластмассовой трубки и колбы для химических опытов с резиновой крышкой. Очень долго добивался тонкого, «игольного» пламени из этого самодельного паяльного аппарата. Молоточком, расплющивая проволоку, повторяя эскиз, завиток за завитком, разогревая пламенем, осыпая волшебно растекающейся по узору вскипающей бурой, пинцетом распределяя припой на стыках кружевных деталей подвески, он не испытал чувства необыкновенной эйфории, чувства власти над металлом, которая, как он слышал, важна в ювелирном искусстве; да, он увидел превращение куска невзрачной проволоки в украшение, но воспринял всё произошедшее как эксперимент, и чувства его были сродни тем, что возникают на уроке химии или физики, когда этап познания путём эмпирического метода удался. При первом подвернувшемся случае он подарил подвеску кому-то, не запомнив даже – кому и не удосужившись показать родителям свою первую ювелирную поделку.
Родители, когда подошёл, по их мнению, момент овладения профессией, не могли заставить Василия всерьёз прислушаться к их наставлениям. В мастерской его привлекали только уже готовые ювелирные изделия, которыми он восхищался, но заставить себя сидеть целыми днями в четырёх стенах и корпеть над их изготовлением, посвятить этому свою жизнь, когда вокруг так много интересного, он не представлял возможным. Как и всякого мальчика интеллигентных родителей, его не миновала участь попробовать свои силы в музицировании, изучении иностранных языков, искусстве рисования, и склонность к последнему занятию предоставила возможность компромисса: использования будущих навыков художника для дизайнерских решений, в разработке эскизов ювелирных украшений.
На том и порешили: родители, смирившись, но всё же надеясь, что в будущем чувство долга возымеет над ним верх, одобрили поступление сына в Государственный университет на факультет изобразительного искусства и народных ремёсел. Василий без особого труда выполнил карандашный рисунок гипсовой головы, натюрморт акварелью и орнаментальную композицию в смешанной технике и написал изложение, что требовалось на вступительных испытаниях. Шесть лет проучился с удовольствием, с упоением осваивая рисунок, живопись и композицию, штудируя философию, историю отечественного и зарубежного искусства и культуры и многое другое, что формировало, отшлифовывало его взгляды на жизнь в целом.
С тех пор много воды утекло, уже нет родителей, он, как и его предки, признанный ювелир. В окружении Василия остались ещё люди, которые работали под началом его отца, ставшие теперь для него опорой, единомышленниками в работе.
Но единоличной спутницей его сердца была грусть, грусть светлая, сотканная из воспоминаний о настоящей любви, о необыкновенных событиях, произошедших с ним в молодости. Эти воспоминания – как некая нескончаемая энергетическая материя, держащая его эмоциональное состояние в вечной близости со своей возлюбленной: он ощущал её присутствие, тепло прикосновения, будто никогда не расставался с ней, и это наполняло его жизнь смыслом. Казалось, он и сам в душе не стареет вместе с ней, своей Лиа, будто наяву вдыхая солоновато-морской запах её кожи, прикасаясь к шёлку её льняных волос, ощущая сладостную истому, утопая в глубине лазоревых глаз прекрасной амазонки. Он перестаёт подбирать возвышенные эпитеты, чувствуя, что их употребление ваяет из возлюбленной холодную статую, отдаляя её от него, возводя на недосягаемый пьедестал. Василий не мучил себя думами о сыне, при рождении которого она ушла в мир иной, успокаивая себя тем, что дитя не страдает – не испытывает боли, холода и голода, если его нет среди живых. Он сделал всё от него зависящее, чтобы отыскать сына или хотя бы его тельце. Попытки не увенчались успехом, но Василий утопически примирил себя с мыслью, что их сын с ней – Лиа – на небесах, и между ними и им есть незримая связь, благодаря которой он, Василий, находит в себе силы жить и заниматься делом своих предков.
Он посмотрел на часы: «Пора», – направился к дверям магазина, приветствуя первых покупателей. Тут его взгляд остановился на девушке, нет, скорее, девочке-подростке: чёрные волосы, смуглая кожа, небольшой рост – весь её облик настолько напоминал амазонок индейского племени из его волнующего прошлого, что он замер, боясь спугнуть видение. Жанна, а это была именно она, зачарованно рассматривала украшения за стеклом витрины магазина, и было видно, что она настолько увлечена их созерцанием, что не замечает ничего вокруг. На улице было зябко, девочка ёжилась от холода, но не торопилась зайти внутрь магазина. Василий, улыбнувшись, постучал по стеклу витрины, Жанна подняла на него светящиеся восхищением глаза, он взмахнул рукой, приглашая её войти. Она оглянулась вокруг себя, сомневаясь, что приглашение относится к ней.
Василий вышел на улицу, желая ободрить её.
– Не бойся, здесь никто не кусается.
– А я и не боюсь.
– А что не заходишь?
– Не хочу.
– Неправда, вон, как глазки твои горят. Хочешь, я покажу тебе эти чудесные украшения, как они выглядят вблизи, а не за стеклом витрины?
– Кто ж не хочет?! – Она была очень рада приглашению, ей хотелось кричать от восторга, но привычка сдерживать свои эмоции в присутствии взрослых взяла верх.
– Ну так вперёд, заходи.
Изнутри магазин показался ей просто волшебным. В нём было много хрустальных люстр на потолке и бра на стенах и ярко освещённых витрин, за стёклами которых лежали украшения. Всё блестело и переливалось. Словно радужная полноводная река заполнила пространство вокруг Жанны. Она как будто только сейчас прозрела от этого света: даже здесь, а не на острове, который она видела во сне, есть другая жизнь и люди живут такой жизнью рядом с ней, Жанной.
– Знаешь ли ты, девочка, что люди стремились украсить себя, как только осознали себя людьми? – обратился Василий к Жанне. – Самые древние найденные образцы ювелирных украшений относятся к эпохе палеолита, первого периода каменного века. А первые бусы были сделаны из ракушек аж 100000 лет назад. Ты только вдумайся в эту цифру, как это было давно. А предки людей украшали себя ожерельями и браслетами из костей, зубов и камня. Даже была найдена каменная статуэтка, в наряде которой были серьги и бусы.
Жанна замерла и слушала его, широко открыв глаза, как будто перед ней стоял чародей, способный превратить этот обычный окружающий её мир в сказку. Ранее никто из взрослых не разговаривал с ней в таком доверительном тоне… Подведя её к одной из витрин, Василий сказал:
– Покажи мне, какое из этих украшений тебе нравится больше всего.
Жанна, не колеблясь ни секунды, ткнула пальцем в жемчужины.
– А ты знаешь, откуда в раковине появляется жемчужина?
– Нет, не знаю…
– Так вот, древние греки были уверены, что перламутровые камни, то есть жемчужины – это застывшие слёзы нимф – богинь морей, рек, их ещё называют океанидами, нереидами, наядами. И были почти правы. Нимфы – это такой особый род моллюсков-жемчужниц. Когда внутрь раковины попадает посторонний предмет, например, песчинка, жемчужница ощущает этот предмет как боль и начинает «плакать» своими красивыми перламутровыми слезами, окутывая ими чужеродный предмет. Так рождается жемчуг.
– А я могу стать наядой? – спросила Жанна.
– Ты и есть наяда, – улыбнувшись, произнёс Василий.
Размышляя о положительной фатальности бытия,
Василий достал жемчужные серьги красивой каплевидной формы и протянул Жанне.
– Это подарок, тебе.
Она вскинула удивлённые глаза, потом, на всякий случай, протянула зажатые в кулаке полученные утром от матери деньги. Не задумываясь над тем, что этих денег не хватит даже на замочек от одной такой серьги.
Он отвёл её руку с деньгами.
Жанна, которая жила в нищете, грязи и зависти, уже впитавшая бездуховность, лживость, алчность окружающей её действительности, была поражена поступком этого богатого, хорошо одетого, вкусно пахнущего и, как она справедливо считала по отношению к своему возрасту, старичка (хотя по годам он годился ей в отцы, а не в деды, но, как известно, переживания могут быть причиной ранней седины и преждевременных морщин, что отразились и на внешности Василия).
– Если захочешь, – сказал Василий, – приходи ещё. Я расскажу тебе много интересного, и о жемчуге тоже…
– Хорошо, приду.
– А как тебя зовут? – спохватившись, что до сих пор не знает её имени, спросил он.
– Жанна.
– Какое красивое имя и как оно тебе подходит. До свидания, Жанна. Приходи непременно.
Василий был рад тем моментам, которые могли приблизить его к далёкому, но такому дорогому прошлому его жизни. Жанна была не олицетворением, а настоящим, живым напоминанием его путешествия к далёким карибским берегам… Эта девочка реальна, и она, будто давняя подружка его Лиа, забежала к нему в гости поболтать о том о сём; она лекарство от тоски и страданий по ушедшим в небытие, дорогим сердцу лицам… Она – глоток чистого воздуха, прилетевшего к нему из другого измерения…
Слова-символы были не в силах передать переполнявшие его чувства.
А Жанна подумала: «Какой забавный старичок, повезло, так повезло мне сегодня. Но надо подарочек-то спрятать от матери. Сейчас пойду и куплю себе на те денежки, что она дала, какую-нибудь побрякушку, и на том спасибо. А сон-то в руку, правда, вместо принца встретила этого старичка, но главное – подарок, старик-то щедрым оказался».
4. Банка на стене
После того как была потрачена мелочь, данная утром матерью, Жанна зашла к соседке Любке – девчонке примерно её возраста.
По радио задушевный голос отвечал на вопросы радиослушателей. Вопрос Жанна не услышала, но в связи с постоянными попытками матери найти ей «папку», будучи уже достаточно искушённой в вопросах половых отношений человеческих особей, первые произнесённые слова диктора искривили её губки в насмешливой улыбке.
– Потребность в мужской близости женщиной и потребность в женской близости мужчиной естественна по своей сути и природе, – вещал задушевный голос. – Но её реализация на глазах несформировавшегося детского сознания может дать непредсказуемые результаты формирования характера отношения к противоположному полу. Это может наложить негативный оттенок на ростки понимания взаимоотношений между полами. В сознании может укорениться представленная модель полового поведения. Увиденные отношения могут вызвать отвращение. Даже может быть отторжение половой близости вообще. Это зависит от того, насколько гибок ум ребёнка. И эта гибкость в большей мере зависит от нас с вами. Ребёнка надо готовить к этой важной, взрослой стороне жизни. Что он может простить своей матери или отцу, которые по тем или иным причинам остались одинокими, но стремящимися наладить свою личную жизнь, невзирая на то, что рядом ребёнок, ещё ничего не знающий об этой стороне взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Надо осторожно, не извращая психику ребёнка, правильно объяснять ему самые тонкие, интимные стороны нашей жизни. У детей отличается восприятие увиденных интимных отношений между отцом и матерью, они определяются в сознании ребёнка как естественные. Но отношения подобного рода между посторонним мужчиной и матерью и посторонней женщиной и отцом противоречат моральным устоям нашего общества, поэтому требуют более внимательного отношения к этому вопросу и недопустимости половых контактов в присутствии ребёнка. Для формирования будущей личности, полноценной единицы нашего общества, недопустимо ханжеское поведение родителей: слова взрослых не должны расходиться с делом, и личный пример всегда важнее тысячи слов. Могу с уверенностью утверждать, что, если с детьми вести разъяснительную работу в сфере взаимоотношения полов, то, несмотря на уже нанесённые моральные травмы, некоторым детям будет достаточно того, что отношения матери и чужого дяди или отца и чужой тёти будут скреплены узами брака. Тогда они могут примириться с противоречиями между словами и делами взрослых и быть в относительном согласии со своими мыслями и поступками…
– Да выключи ты это радио, – воскликнула Жанна, – лучше посмотри, что мне сегодня один старикан подарил.
– Врёшь, где взяла? – с завистью в голосе произнесла Любка, увидев такие красивые серьги.
– Где взяла, где взяла, там уже нет…
– Хочешь послушать? – спросила старшая сестра Любки, выглянув из-за перегородки комнаты.
– Я уже слушала ваше противное радио, очень-то было нужно. Хочешь послушать? Хочешь послушать? – передразнила её Жанна.
– Правда, вот возьми банку, приложи к стене и слушай.
И нагло прильнула ухом к банке на стене, разделяющей их коммуналки.
– Эй, ты что делаешь? – возмущённо крикнула Жанна, выбивая банку из её рук.
– Ты что, дура что ли? – крикнула сестра Любки.
– Нет, я-то не дура, это вы дуры набитые, – бросила в ответ Жанна, громко хлопнув дверью, выбегая от них.
Влетев пулей к себе домой, она поняла, что было предметом развлечения соседей на сегодняшний вечер: мать полулежала на тахте, а рядом с ней молоденький солдатик торопливо шарил руками по её груди, прерывисто дыша, шептал: «Ах, сколько у тебя здесь тряпок…»
Пелена похоти застилала глаза матери.
Помня, что соседи в данный момент приникли банками к стене, Жанна настойчиво отвела руку чужого дяди от груди матери, но они, уже находясь в шальном угаре страсти, не обращали на неё никакого внимания. Жанне было очень стыдно перед соседями и перед всем белым светом. От злости и обиды, чтобы мать всё же заметила её присутствие, она, хлопая дверью, выходила из комнаты и снова входила, но ни мать, ни чужой дядька не реагировали на её попытки привлечь к себе внимание, будто она пустое место. И они стали утолять свой сексуальный голод, невзирая на присутствие Жанны…
Потом, некоторое время спустя, в их доме появился другой дядька, и она стала заложницей бессонных ночей примитивных половых актов, которые вызывали у неё чувство омерзения. Ничего не зная о любовной прелюдии, она испытывала бессознательное чувство стыда за мать, за её мужика, поведение которого было много проще и прозаичней поведения при случке обыкновенного дворового кобеля.
Не было укрытия, не было угла, где бы она чувствовала себя в безопасности и могла принадлежать сама себе, мечтая о том, что никогда не будет видеть и слышать голоса основного инстинкта взрослых…
Мать окончательно пала в её глазах, не говоря уже об особях мужского пола. Она не могла на них смотреть без содрогания. Мать окриками и подзатыльниками требовала в поведении Жанны внешнего соблюдения приличий, даже не понимая, почему она становится всё более неуправляемой.
Только один ювелир, единственный человек из мира взрослых, пока не вызывал в Жанне отвращения.
Глава четвёртая
1. Принцип батута (или в кулуарах театральных подмостков)
Я впервые воочию наблюдал батут. Я никогда не хотел стать актёром, но сейчас я взглянул на людей этой профессии с чувством глубокого сочувствия. На какие подвиги надо идти в своём ремесле, чтобы реализоваться в настоящие артисты! Батут – по задумке режиссёра – способ воплощения идей образов сюжета. С его помощью можно воплотить всё, что угодно. Образ космонавта, летающего в безвоздушном пространстве вселенной, инопланетянина, возвышенность чувств влюблённых, низменную страсть похотливого старика, повторюсь – всё что угодно. И желательно, чтобы тебя – олицетворителя – поняли, и в тоже время что-то осталось тайной, скрытой за занавесом полёта мысли режиссёра. И потом, чтобы обязательно были дискуссии о новом видении, решении идеи, концепции и тому подобное.
Я же, наблюдая за обучением актёров приглашёнными по этому случаю циркачами, просто впадал в какой-то цейтнот при каждом произведённом, казавшемся мне последним в их жизни кульбите. Вот актёр сделал кувырок назад, а вот вперёд, и что же это он нам сказал, кроме жизнеутверждающей формулы батута: «Хочешь быть артистом – умей вертеться».
Иногда этот батут казался мне живым существом, которое само руководило всеми, кто имел к нему хоть какое-то отношение. И это он был главным сценаристом, притворяясь атрибутом театральной сцены. Он был очень прожорлив и на моих глазах просто откусил палец монтировщику сцены, когда тот пытался его сложить. Чёрный юмор, я понимаю, но факт остаётся фактом. А не далее как сегодня я опять пережил шок: похоже, театр – это специальное место шоковой терапии, причём, сами его стены и устраивают все эти невероятные ситуации, от воспоминаний даже о которых трясёт как при турбулентности. Монтировщик сцены – паренёк лет двадцати, метр с кепкой (прямо скажем, ещё одно исключение из правил) очень доверился этому чудищу – батуту и, взобравшись наверх, проявил чудеса лени (видимо, это чувство особенно обострено в стенах театра среди различных его представителей), спрыгнул для сокращения своего маршрута вниз прямо в жерло этого монстра, который его сначала поглотил, а потом выплюнул с неистовой силой в амфитеатр зрительного зала. «Что за люди, что за нравы?» – решил я поковеркать выражение Цицерона.
Сегодня в театре «клубился» антидисциплинарный дух. Он разлагающе и совершенно как-то, я бы сказал, инфекционно воздействовал на всю атмосферу, не давая опомниться, он ловил в свои сети внешне здоровых высокоорганизованных актёров, всегда ранее соблюдавших внутренний распорядок в театре как «Отче наш», заставляя их противоречить всему укладу театра. Опытным путём подтверждалось это очень просто: помощник режиссёра на весь театр глаголил о необходимости приступить к репетиции, но артистическая братия, сидевшая на разных этажах за трапезой и разделившаяся на две группировки: одна оккупировала буфет на первом этаже, а другая – столовую на третьем, никак не могла оторваться от своих тарелок. Сидящие в столовой полагали, что собратья из буфета откликнутся на призыв помрежа, а собратья из буфета рассчитывали на сознательность актёров, находящихся в столовой. И, понятным образом, в нужный момент на сцене никто не появился.
Засомневавшись в исправности доносящих информацию до ушей слушателей приборов, не находя другого логического объяснения, совершенно отметая даже саму возможность игнорирования его обращения к коллегам, помреж с большой претензией воззвал к инженеру, ответственному в театре за звуковую технику. Худо-бедно репетиционный процесс набрал обороты, десятиминутный мелодраматичный диалог, навязший у всех на зубах так, что даже, казалось, заблудившаяся на подмостках мышь могла бы его повторить без запинки, был, ко всеобщей радости, прерван репликой возмущённого инженера, стремящегося к реабилитации своего профессионализма: «Хватит звездеть!» (таким образом самоутверждаясь в добросовестном отношении к своему делу), чем материализовал мечту актёров и всей постановочной части о прекращении этого бредового диалога. Репетиция на какое-то мгновение застыла, выражая себя пластикой тел бессловесной пантомимы, а, придя в себя, совершенно захлебнулась в безудержном хохоте, после которого лицедейство свелось к абсолютному нулю.
И вот в разгар этого репетиционного апокалипсиса я увидел этого необычного человека…
2. Жемчужная лихорадка, или Непредвиденный кастинг
Речь этого человека показалась мне поначалу просто бессвязной, но, прислушавшись, я понял: он говорил, возможно, связно, но только на непонятном наречии, доступном людям, представителем которых он являлся. Внешность его была, как и его речь, необычной – он больше походил на актёра, приглашённого на кастинг, причём уже сразу в костюме для роли. Небольшого роста, коренастый, темнокожий, с прямыми чёрными волосами, зубами – сразу видно, не требующими вмешательства дантиста. Одежда на нём, кроме тривиальных джинсов, была эпатажно вычурной, будто прицельно подогнанная для сцены из спектакля, только вот – неизвестно, какого. Особый интерес вызывала куртка, отороченная ценным мехом зверя, для меня, человека далёкого от зоологии и скорняжного дела, трудно определяемого, возможно, ягуара или оцелота. В процессе разговора незнакомец имел обыкновение поглаживать этот мех и, мне казалось, даже что-то нашёптывать, из-за чего создание образа нормального человека в моих глазах явно не получалось, чем, впрочем, я тоже был сильно озабочен. В руках, как не наигравшийся ребёнок, он держал что-то наподобие деревянной куклы. Несмотря на всю свою карикатурность, этот персонаж внушал почтение, но в то же время какую-то тревогу, руководствуясь которой, мне хотелось поскорее от него отделаться.
– Вы не по адресу, товарищ, обратитесь к режиссёру, к помощнику режиссёра, наконец. А сейчас – извините, мне надо работать, – сказал я, изо всех сил стараясь быть вежливым.
Он продолжал свою иноземную речь, и остановить его не представлялось возможным.
– Вот напасти на мою голову: меня просто преследуют странные субъекты женского, а теперь ещё и мужеского пола.
Жестом (покрутив у виска) известив охрану, что этот странный тип со мной, но бдительности терять не надо, мы стали подниматься по лестнице, ведущей к кабинету директора. И вдруг в какой-то момент из этих клокочущих, звуковых вибраций воздуха или какой-то свыше подсказки я понял, что он имеет отношение к жемчужине, которая неожиданным образом оказалась у меня. Ещё не хватало только для полного набора оккультных странностей, чтобы в этой своей тарабарщине он спросил:
– А что вы знаете о жемчуге?
Это был бы полный аншлаг.
Я изменил маршрут нашего следования. Подсобка (уже не однажды выручавшая меня), – решил я, – самое удачное место для такого рода беседы – подальше от чужих ушей и глаз. Мы сели напротив друг друга, и я с недоумением уставился на него, однако, как у меня хватило смекалки включить диктофон, я определённо сказать не могу, но честь мне и хвала, я это сделал.
– Лиа, «Муу-Пуклип, нигапурбалеле, пурба, пурба», «cuerpo jefe», – произнёс снова странный субъект (благодаря музыкальному слуху, но не понимая смысла, запомнил я).
Очевидно решив, что если он придаст своему изложению больше колорита, я его лучше пойму: он достал трубку и стал её раскуривать, одурманивая дымом себя и меня заодно, у меня даже закружилась голова, сказалось, видимо, бессонное время, проведённое у кроватки дочки Эндрю. Он, слегка раскачиваясь, затянул песню-речитатив, всё больше впадая в какой-то экстаз, вовлекая в него и меня. Я, как болванчик, раскачиваясь вместе с ним в ритме его песнопения, бессознательно опустил руку за жемчужиной в карман, но рука поймала воздух и раскрылась пустой ладонью перед носом незнакомца. Его глаза налились кровью… или мои, точно не знаю…
Потом он внезапно испарился, как будто улетел вместе с клубами табачного дыма своей трубки.
«Мне это всё порядком надоело. Не нужны мне ваши жемчужины, ей-богу».
Я отправился бродить по театру в поисках Глеба Максимилиановича.
«Никого не было в зоне доступности моего пиджака, кроме него, – убеждал я себя, всё больше и больше раздражаясь. – Вот ведь, клептоман какой…»
– Глеб Максимилианович, – обратился я к нему как можно спокойнее.
– Да, друг мой?
– Мы же неплохо с вами сосуществуем. Я обещаю, что никогда не напомню вам о содеянном, но я очень хочу, чтобы в карман моего пиджака снова вернулось то, что из него исчезло.
Совершенно с невозмутимым, каким-то просветлённым взором только что причастившегося грешника Глеб Максимилианович в очередной раз предложил мне минералки, и в очередной раз она была мной отвергнута.
– О чём это вы, Евгений, лучше вот – попробуйте, литиевая батарейка-то ещё действующая, – сказал он, лизнув батарейку, и протянул её мне для точно такой же идентификации, как молочному брату.
Ну как тут к нему относиться? Обижаться, выяснять что-то – просто юродивый какой-то.
Не добившись от Глеба Максимилиановича ничего вразумительного, меня осенило: Эндрю ведь переводчик. Ему и карты в руки. Словом, зная, что сегодня его смена, я пошёл его разыскивать.
– А я иду к тебе, – сказал Эндрю, буквально торопясь мне навстречу.
– А я к тебе. Что не позвонил?
– Я видел тебя с очень странным типом, заметь, наблюдал за вами для твоей безопасности, но не довёл своё благое дело до конца: как всегда мне нашлась срочная работа, но я, как только освободился, пулей к тебе. Ну что, свалил этот комедиант?
– Свалить-то свалил, но головную боль мне оставил.
– А с Жанной своей поговорил? – спросил Эндрю.
– Как ты себе это представляешь? Да и времени пока не было встретиться, а по телефону не хочу, мне надо её глаза видеть – это как минимум…
– Вот и я по телефону не захотел, мне надо твои глаза видеть – как максимум.
– Роль готовишь, монтировщик сцены? Колись, что тебе от меня нужно.
– Как тебе идея посидеть с моей бэби?
– Опять?!
– Андерсен должен рассказать свою сказку до конца. Ты же ответственный человек, я знаю, иначе я бы с тобой не связался.
– А тебе будет партийное задание, – и я передал ему диктофон, рассказав в деталях и красках о своей встрече со странным незнакомцем.
Эндрю был доволен тем, что мне пригодились его знания. Он отдал мне ключи от квартиры, и я пошёл на встречу с Галчонком и «Маленькой курочкой Фёклой».
3. Красный день календаря
Направляясь к дому Эндрю, я вспомнил его рассказ о необычном знакомстве с женой. Мы с ним только начали общаться, и я ничего не знал о его семейном положении, никак не предполагая, что он уже обременён брачными узами, и уж тем более – исключал наличие у него ребёнка. Он мне казался молодым беззаботным интеллектуалом…
Мы тогда с ним пошли в бар недалеко от театра, и я обратил внимание, что он совсем не реагирует даже на откровенный флирт со стороны девушек за соседним столиком. Одна из этих девиц проявляла к нему явный интерес, несколько раз вставала со своего места, стараясь будто ненароком коснуться Эндрю то рукой, то бедром…
Он сидел в этом смысле отрешённо, весь сосредоточенный на разговоре со мной. Я, наблюдая эту мизансцену, решил обратить его внимание на то, что творится вокруг его персоны. Он почесал правое ухо, рассмеялся и рассказал мне историю своей любви:
– Это была очень странная новогодняя ночь. Я постараюсь тебе описать свои чувства и ощущения, которые я испытал тогда, и как они, несмотря на абсурдность их возникновения, кардинальным образом воздействовали на мою жизнь.
Признаюсь, жажда чувственных переживаний била через край. Не могу сказать, что я был неразборчив в своих привязанностях и симпатиях к женскому полу. Но бывают такие моменты, когда хочется «закрыть глаза» и представить, что с тобой та единственная и неповторимая, которую ты пока не встретил, но, если придать своим чувствам немного фантазии, то вполне можно смириться и принять желаемое за действительное. Итак, мы собирались встретить Новый год у моего друга Толика, и он обещал устроить, как он выразился, настоящий сейшн с двумя однокурсницами из его института.
Определённость в его выборе существовала: ему давно нравилась какая-то Тамара, а её подружка предназначалась мне. Кот в мешке, так сказать, но это лучше, чем ничего, вернее – никого. Я не переношу одиночества и не собирался становиться затворником и монахом, да ещё в новогоднюю ночь. Этих девчонок я раньше не видел. И, когда позвонили в дверь, я с лёгким, не отягощённым никакими кармическими предчувствиями сердцем, растворил её перед очаровательными барышнями и с одной из них встретился взглядом, который приковал меня своей какой-то необъяснимой глубиной, в которую очень хотелось заглянуть и увидеть дно или хотя бы узнать – есть ли это дно вообще. У двери возникло лёгкое замешательство, потому что определить глубину глаз я, естественно, не мог, а оторваться от них – также не представлялось возможным.
Кое-как уговорив себя отвести взгляд, я вспомнил об обязанностях джентльмена и стал не в меру суетливо помогать девчонкам разоблачаться от верхней одежды. И тут мой друг подошёл к девушке с бездонными глазами и чмокнул её в щёку. Я всегда считал, что мужская дружба – превыше всяких там отношений с девчонками, и поэтому даже на тот момент без особого сожаления бросил последний взгляд в бездонные девичьи глаза-озёра и более внимательно посмотрел на её подружку. А что, очень даже симпатичная деваха.
Время приближалось к одиннадцати. Пора провожать старый год. И понеслась. Тост за тостом, бокал за бокалом, танец за танцем. И с каждым последующим танцем кровь, бурлящая в наших жилах, вспенивалась как шампанское в бокалах, наши молодые тела всё больше горячились, становились всё ближе и ближе друг другу: Толик держал в крепких объятиях Тамару, а я – её подружку. Выпито было столько, что наши тела и заключённые в них мозги, в силу возраста не умеющие себя контролировать после принятого на грудь алкоголя, ничего не придумали лучше, как плюхнуться на стоящие недалеко друг от друга спальные места. Я, конечно, очень старался не ударить в грязь, так сказать, лицом, но, занимаясь сексом с подружкой Тамары, думал о том, что Тамара непременно должна узнать, какой я классный любовник. После этой мысли я неоднократно обозвал себя дураком и поймал себя на том, что, занимаясь сексом с одной девушкой, наблюдаю за той, которая спрятала от меня свои бездонные глаза-озёра, и в них сейчас тонет мой друг, а не я. Так, тайком следя за Тамарой, я распалялся всё больше и больше, как будто не её подружка, а она сама сейчас была со мной на этом безрассудном новогоднем ложе, и это наши с ней руки и тела переплелись в томной ласке. Каждый шар на ёлке, казалось, запечатлевал наши безумства, но и в этих отражениях я видел себя с Тамарой. Я восхищался её прикосновениями к Толику, её поцелуями, предназначенными не мне, и никак не мог понять, что же со мной происходит. Но в то же время осознавая, что есть в этом какая-то ненормальность: подглядывать в такой момент и тем более – возбуждаться не от девушки, которая с тобой, а от той, которая сейчас в объятиях друга… «Может, я извращенец какой?» – пронеслось у меня тогда в голове. Эта мысль чуть не поставила момент сексуальной кульминации «на полшестого».
После этой новогодней ночи жизнь потекла своим чередом, я старался не думать о Тамаре, ведь она девчонка друга – этим всё сказано. А дружба, повторюсь, это святое. Я не мог и другу признаться, что борюсь со своими чувствами, даже, стараясь отвлечься от них, продолжаю вялотекуще встречаться с её подружкой. Возможно, боясь узнать подробности взаимоотношений друга и Тамары, я вообще старался не спрашивать его о ней.
Однажды я ждал Толика около института, в котором он учился. И вдруг – как будто вспышка молнии осветила всё вокруг. У меня закружилась голова, и на какие-то доли секунды свет померк, то есть, мне кажется, я потерял сознание – не меньше. И всё это оттого, что я увидел её – Тамару, которая с совершенно беспечным видом направлялась ко мне.
Тут меня, наконец, осенило: втюрился я не на шутку. Я как только мог старался нацепить на лицо маску добродушного безразличия.
– Привет, – сказала она, – ты куда пропал?
– Да не пропадал я…
Заглянул ей в глаза – дна точно нет. Надо бежать, бежать… И Толик ещё куда-то запропастился.
– Что с тобой? Что ты так покраснел? – спросила Тамара.
– Со мной? Ничего.
«Боже мой, что мне делать?» – озадаченно подумал я.
– Э-э-э… Толика жду, – нашёлся наконец я.
– А-а-а, так он давно ушёл. Пойдём, проводишь меня, – передразнивая, сказала она.
– Я-я-я не могу, – снова прозаикался я.
– Не хочешь – не надо. Уговаривать не буду.
И я поплёлся рядом с ней как верная собачонка.
Руки держал по швам, шли молча. Это я так верность другу сохранял.
Проводив Тамару, побежал к другу, узнать, куда он от меня смылся из института. Толик оказался дома – и не один, а с какой-то незнакомой мне девчонкой.
Оказалось, он с той памятной новогодней ночи с Тамарой не встречался, объяснив это её странной резкой переменой к нему: «Идти никуда, видите ли, она не хочет, обнимаю – шарахается как от чумного. Ну и скатертью дорога.
Таких, как она – в базарный день пятачок пучок. Ещё побегает».
Я ничего не понимал. Как он мог упустить такую жар-птицу! Совсем что ли ослеп?!
И в следующий раз, когда я уже без мыслей о предательстве друга, конечно, не случайно, оказался у института, изобразил удивление от «внезапной» встречи с Тамарой, окунулся в бездонные глаза-озёра, то без зазрения совести утонул в них…
Теперь-то я знаю, что этот необыкновенный чувственный водоворот закрутил и её, и меня в то самое мгновение, как только мы увидели друг друга. Тамара мне призналась точно в таких же необъяснимых ощущениях, какие пронизали меня в ту новогоднюю ночь: объятия Толика для неё были моими объятиями, его поцелуи – моими поцелуями. И после этой ночи она не могла быть с ним, а думала только обо мне. Что это за чувство, вспыхнувшее между нами? Иначе как любовь не назовёшь.
Если всё примитивно разложить по полкам, получается – я полюбил её как свою единственную, насмотревшись на то, как она занимается любовью с моим другом. И именно новогодняя ночь, так безрассудно проведённая в чужих объятиях, подарила нас друг другу. И я всегда ощущаю магический, необыкновенный душевный трепет в преддверии каждого Нового года. Теперь Новый год для нас с Тамарой – бесспорно главный красный день календаря!
4. Влияние монотонного звука голоса на самого говорящего, или Продолжение сказки
Так, с глупой улыбкой на лице, под впечатлением воспоминаний я пришёл в качестве няньки (будем называть вещи своими именами) к продолжению романтической истории её папки и мамки. Ребёнок в момент моего появления уже лежал в своей кроватке, но, в отличие от взрослых, от меня в частности, был необыкновенно бодр и весел; раскланявшись в дверях с женой Эндрю, Тамарой, я приступил к повествованию:
Фёкла уже привыкла, что её путешествие сопровождает жужжание пчёл, стрекот кузнечиков, пение птиц… и время от времени наступающая тишина немного пугала её, но она не знала, чего именно ей стоит бояться.
Мудрость гласит: осведомлён – значит, вооружён. Её осведомление могло прийти только через опыт, который она приобретала самостоятельно без наставников – тех, кто мог её предупредить об опасности.
Рыжая красавица лиса, обмахивающаяся пушистым хвостом и вальяжно возлежащая перед ней на тропинке, нисколько не испугала Фёклу. Весь её вид был настолько доброжелательным и располагающим к общению, что у неё не возникло и доли сомнения в добрых намерениях лисы. Фёкла точно знала: враг – это тот, кто затаился и ждёт момента напасть. А поведение лисы было прямо противоположным представлениям Фёклы о коварстве. В подтверждение её мыслей лиса улыбнулась масленой улыбкой и произнесла нежным голоском:
– Курочка, ты куда идёшь в такую рань одна, тебя может кто-нибудь обидеть, хочешь – пойдём вместе, а ещё лучше – зайдём ко мне домой, ты отдохнёшь, а я тебя накормлю.
Фёкла была очарована незнакомкой – такая ласковая, гостеприимная, не то что эта кукушка, которая так и норовит сбросить на кого-нибудь свои заботы. Она не хотела задерживаться надолго у лисы, лишь только взглянуть – хотя бы одним глазком – на её дом.
– Это здесь, совсем рядом, – продолжила плутовка и легко прыгнула в сторону кустов, призывая тем самым курочку следовать за ней.
Фёкла доверчиво свернула с тропинки и направилась за лисой. Но раздавшееся из кустов рычание повергло курочку в полное смятение. Она приостановилась, не зная, следовать ли ей за лисой, или оставаться на месте. Из кустов показался хозяин угрожающего рыка – огромный серый волк. Лиса бросилась наутёк, только Фёкла её и видела, а волк помчался за лисой.
Фёкла в растерянности постояла ещё немного на месте, но когда услышала победоносное угрожающее рычание волка и заискивающе повизгивание лисы, опомнилась, то очень быстро, казалось, взлетая над землёй, помчалась вперёд, подальше от этого страшного места.
Только по счастливой случайности курочка избежала реальной опасности: она же не знала, что лиса такая плутовка, из лап которой мало кто может уйти целым и невредимым, а уж тем более – простодушная Фёкла, которая, к сожалению, никогда не слышала сказку ни про Колобка, ни про зайца и многих других, кто доверился лисе, и поэтому не понимала, как надо реагировать на льстивые речи лисы. Лису она не успела испугаться, а вот серый волк с большими клыками и свирепым рыком, казалось ей, вот-вот настигнет её, ведь с ним даже не сможет справиться сторожевой пёс, который до встречи с волком был для неё самым сильным зверем на свете.
Повернуть назад Фёкла уже не могла, слишком много уже пройдено, но ей это и в голову не приходило. Вперёд, только вперёд, только туда, где самое синее небо, где самая зелёная трава и самый лучший рассвет, о приходе которого лучше всех поёт самый лучший петух на свете Казимир, и всё самое-самое лучшее, потому что родное и близкое её сердечку.
«Как жаль, что лиса оказалась такой обманщицей», – подумала Фёкла, когда догадалась, что та не зря хотела увести её с тропинки и настаивала зайти к ней в гости. Она была восхищена красотой и грацией лисицы, но всё же лучше быть правдивой, доброй и доверчивой, чем привлекательной и лживой.
«Обман не может принести счастья даже тому, кто обманывает, ведь обманутые тобой несчастны», – решила курочка, сильно запыхавшись, но продолжая очень быстрым шагом свой путь.
Начало смеркаться, и она не заметила, как налетела на муравейник, и мелкие травинки, палочки, хвоинки упали ей на спинку, а муравьи стали, больно кусая, сновать под крылышками, по гребешку… Фёкла была очень обижена таким отношением к себе, ведь она никому не желала зла, и зачем так кусаться, она же не знала, что это дом, и натолкнулась на него совершенно случайно, – он вырос на тропинке так внезапно, что она не успела остановиться. Но Фёкла всё же побежала дальше, пытаясь взмахами крыльев сбросить с себя сердитых кусачих муравьёв. Убежав на значительное расстояние от муравейника, она обнаружила, что на крылышке остался один муравей, который почему-то не захотел оставить её. Он её не кусал и ничем не беспокоил.
Видно, он очень любопытный или ещё очень юный и не понимает, что расстался сейчас с самым дорогим в жизни: со своим домом, родными и друзьями, с мамой, которая, наверное, сейчас плачет горючими слезами по пропавшему сыночку.
Курочка остановилась.
– Ты же не найдёшь дорогу назад, – сказала она ему. – Мой путь может оказаться очень сложным и опасным.
– Я хочу путешествовать с тобой, – ответил ей муравей.
– Я не путешествую, – сказала Фёкла, – я возвращаюсь домой.
Муравей продолжал упрямиться, и курочка никак не могла его согнать со своего крыла.
Да к тому же она знала, что станет переживать за муравьишку, если оставит его одного.
Так они продолжили путь вдвоём.
Тропинка закончилась, и перед ними возник ручей, казавшийся Фёкле рекой. Она боялась воды, не умела плавать; обойти ручей не могла, перелететь тоже. Её дом находился где-то там, на противоположном берегу, она это чувствовала, её тянуло туда, и она должна была решить, как попасть на ту сторону ручья. Фёкла села и призадумалась; уже достаточно стемнело, а убежища на ночь у неё не было. Но ей не привыкать – она уже провела одну ночь в лесу и даже почти не отдыхала, если не считать того случая, когда она упала, споткнувшись о корни, и один раз остановилась поклевать листики одуванчиков. Она привыкла к тому, что кормушка на ферме всегда полна, но не это главное для Фёклы, она готова к лишениям – только бы знать, что она доберётся туда, куда стремится всей своей курочкиной душой. Наступившая ночь не была такой тёмной, луна отражалась в воде ручья, и это давало возможность хотя бы немного обследовать берег, не теряя надежды попасть на его противоположную сторону.
Совсем не далеко от Фёклы в ручье сидел бобёр в своей хатке и добродушно посмеивался над курочкой, видя бесполезность её действий. Но бобёр был добр и как раз прошлой ночью закончил строительство плотины. Он не поленился, нырнул в воду и вскоре уже стоял около Фёклы, которая очень испугалась, потому что, в отличие от ласковой красавицы лисы, которую она тоже встретила впервые в жизни, бобёр, на первый взгляд, напугал её огромными зубами и чёрным, покрытым чешуёй хвостом. На поверку он оказался хорошим малым и показал место, где начинается плотина. Она была настолько надёжная и прочная, что вполне годилась, чтобы по ней как по мосту перебраться на другой берег ручья. Но Фёкла не решалась даже при лунном свете сделать хотя бы один шажочек на плотину, так как, мы помним, она очень боялась воды. И ещё её беспокоил муравей. Она не хотела его подвергать опасности. Сейчас, когда бобёр был рядом, муравей сидел у неё под крылом, и Фёкла всячески старалась не обнаружить его перед бобром, так как определённо не знала, кто кому друг, а кто враг.
– Не бойся, плотина очень прочная, а если ты упадёшь в воду, я тебя спасу, мы, бобры, хорошо плаваем и ныряем, и ты можешь мне довериться.
Но курочка всё колебалась. Она могла бы преодолеть свой страх днём, но ночью такой переход ей казался особенно опасным. Бобёр вздрогнул, когда Фёкла рассказала ему о своей встрече с волком.
– У волка очень хороший нюх, он может выследить тебя, и тогда я тебе уже не смогу ничем помочь, мы, бобры, сами его боимся.
Тут Фёкле показалось, что помимо луны невдалеке загорелись два фонарика, а бобёр, заметив их, быстро погрузился в воду, лишь махнув ей на прощание хвостом. Фёкле тоже было не до вежливости, она проворно вспрыгнула на ближайшую веточку плотины и насколько возможно быстро, крепко цепляясь лапками и клювом, стала продвигаться на противоположный берег. Она услышала лязг зубов волка у самого своего ушка. Разбуженный суматохой уж зашипел, чем на некоторое время отвлёк волка от курочки. Но при виде волка прикинулся безжизненным телом – так он делал всегда, когда чего-нибудь пугался, расслабленно вытянувшись во всю свою длину, и даже для достоверности высунул раздвоенный язычок.
Но спасло курочку неожиданное появление огромного бурого медведя, рычание которого не оставляло сомнения, что он главный в этом лесу. Волк не стал догонять Фёклу, а, поджав хвост, побежал в противоположном от ручья направлении, а она тем временем успешно перебралась на противоположный берег и, не останавливаясь, побежала дальше, вперёд, придерживая муравьишку крылышком.
Надо убежать как можно дальше и от большого зубастого серого волка, которого боятся и лиса, и бобёр… и от этого лохматого великана медведя, которого боится даже сам волк…
Фёкла очень устала, высокая трава стала её укрытием, и, остановившись, казалось, на минуточку, она тут же заснула. Она не могла понять, сколько длился её сон, но проснувшись, почувствовала прилив сил и снова побежала вперёд…
Немного замедлив бег, отдышавшись, Фёкла заметила, что солнышко вновь появилось на небосклоне, и уже можно было разглядеть каждую травинку. Фёкла полакомилась травкой, остановившись отдохнуть под высоким дубом. А муравьишка, взобравшись на дерево, оглядел окрестности и обнаружил, что он не один такой смельчак.
– Эй, привет, ты что так высоко забрался, это моё место, – окликнул его собрат муравей, сидевший немного повыше муравьишки, несказанно обрадованного такой встречей. – Видишь вон там муравейник – то мой дом!
Муравьишка пригляделся. Муравейник нового знакомца муравья сверху казался маленьким холмиком.
– Это он сверху такой, – пояснил собрат, – а на самом деле – он самый высокий и красивый в этом лесу. У меня очень большая семья, если хочешь, пойдём ко мне в гости.
Муравьишка только сейчас понял, как он соскучился, и почувствовал острую тоску по своим сёстрам и братьям, оставленным ради путешествия с курочкой Фёклой.
А курочка больше не переживала за муравья – он попал к надёжным друзьям, и они позаботятся о нём лучше неё самой. Она помахала ему крылышком, а он в свою очередь подумал, как она была права: не надо расставаться с теми, кого любишь, и как хорошо быть там, где рады тебе, где тебя любят и ценят таким, каков ты есть, но, к сожалению, это можно понять только при расставании и находясь далеко от родного дома.
Фёкла встрепенулась от удивления, даже немного по-взрослому закудахтав, когда к ней каким-то волшебным образом стали приближаться колючки с наколотым на них красивым красным яблоком. Она замерла, когда из-под яблока появился чёрный влажный нос ежа и стал обнюхивать рядом с ней выпавшую из дупла белки шляпку сыроежки. А потом, испугавшись выпрыгнувшего из кустов зайца, свернулся в шар, выставив колючие коричневые иголки навстречу опасности.
А зайчик, даже не заметивший ежа, уплетая за обе щёки травку, предложил курочке ягодку земляники, совсем не удивившись её присутствию в дремучем лесу. Ёжик, учуяв причину своего страха, фыркнул и, наколов на свои острые иголки шляпку гриба, озабоченно засеменил прочь.
«Какой удивительный мир вокруг: рядом с опасностью и злом есть место великодушию и добру», – поблагодарив зайчика, клюя предложенную ягодку, размышляла курочка.
Усталость и переживания последних часов были велики, и Фёкла не заметила, как уснула в тени высоких трав под сенью большого дерева.
Белочка с крепко зажатым в лапках жёлудем вернулась к своему дуплу.
– А я тебя знаю, – сказала она, обращаясь к Фёкле.
Курочка встрепенулась ото сна и несказанно обрадовалась.
– Значит, ты знаешь, где мой дом? – спросила она.
– Конечно, это здесь, недалеко – тридцать прыжков, и ты дома.
– Тридцать прыжков – это сколько?
– А с дерева на дерево, с дерева на дерево, и будет человеческое жильё и твой дом.
Это трудно сосчитать в куриных шажках, сколько же надо идти – день, ночь и ещё день или только день и ночь?…
Но главное, что белочка знает, куда идти, а уж она, Фёкла, постарается следовать за ней и дойти туда, где родилась, где ей всё знакомо, и о чём она всегда вспоминала со щемящей нежностью и любовью. Предвкушение предстоящей встречи с родными местами прибавило ей смелости и выносливости.
– Сейчас только жёлудь положу в укромное место и покажу тебе дорогу.
И курочка стала всматриваться в кроны деревьев, выискивая белое брюшко и бурый пушистый хвост белочки, которая прыгала с дерева на дерево, потом возвращалась, в ожидании Фёклы, сочувствуя тому, что курочка не такая шустрая, как она, и не может взлететь к ней на своих крылышках. Полёты белочки от дерева к дереву были для Фёклы недосягаемой забавой, она старалась изо всех сил, бежала, спотыкаясь и падая, но ни разу не попросила белочку остановиться для отдыха, а только упорно двигалась вперёд и вперёд, с каждым шажком приближаясь к цели своего путешествия. И вот – лучи чуть брезжащего рассвета осветили кромку леса и то последнее дерево, с которого белочка отправилась в обратный путь к своему дуплу.
А перед взором Фёклы в дымке тумана предстала поляна и уже различимые крыши домов невдалеке. А главное – она услышала предрассветное пение несравненного петуха Казимира, и ощущение счастья переполнило всё её курочкино существо…
Периодически меня убаюкивал монотонный звук моего собственного голоса, веки смежились; бэби возвращала меня из объятий морфея каким-нибудь только ей присущим возгласом, и утром, когда Эндрю разбудил меня своим приходом, я не смог бы с уверенностью утверждать, что говорилось в сказке мной вслух, а что рисовалось только в моём воображении…
5. «Сеньора Большая Голубая Жемчужина»
Эндрю вернулся домой рано. Ввиду того, что я не мог на него адекватно реагировать (смертельно хотел спать), он последовал моему примеру, и мы ещё продрыхли пару часов.
С умилением глянув на ребёнка, сладко посапывающего в своей кроватке, мы тихо (примерно так, как передвигаются монтировщики в темноте сцены во время спектакля, а может – ещё тише) отправились на кухню. Нам ведь было, о ЧЁМ поболтать…
– Ну, что я тебе могу сообщить, – такова была вводная фраза Эндрю.
– Ты хочешь сказать, что уже перевёл эту вербальную заморочку? – спросил я с нескрываемым удивлением.
– Было бы желание, а всё остальное приложится, – заложив правую руку, подобно Наполеону Бонапарту, и повернувшись в профиль, Эндрю гордо вскинул подбородок.
– Да ты, братец, полиглот, хватит гнобить себя в монтировщиках сцены, – улыбнулся я, глядя на его позирование.
Эндрю заварил кофе и намазал маслом поджаренные в тостере румяные куски хлеба. В этот момент мне казалось, что ничего вкуснее я не ел никогда.
Не хотелось думать ни о чём – только вот так сидеть под тиканье часов (оказалось, Эндрю любитель всякого хлама – старинных вещей, и эти настенные часы в деревянном корпусе с маятником он обнаружил на помойке и принёс домой), пить ароматный кофе, хрустеть тостом, слушать пространную болтовню Эндрю…
– Так вот, вернёмся к нашим баранам, – пробудил он меня к действительности.
– Так сказать, по существу вопроса: ты был прав – текст песнопения этого странного субъекта изобилует словами на испанском языке или близких к оному, это легко перевести, несмотря на манеру изложения, но также есть слова на неведомом мне диалекте, и я даю голову на отсечение, что словаря этого языка не существует.
Эндрю прошёл в прихожую и вернулся с листом формата А4, на котором я прочёл следующее:
Сеньора Большая Голубая Жемчужина опечалена
Сеньора Большая Голубая Жемчужина окутана чёрным туманом несправедливости
Лиа – избранница богов, хранительница Сеньоры Большая Голубая Жемчужина
Лиа общалась с богами через Сеньору Большая Голубая Жемчужина
Боги учили нас всему, что мы сейчас знаем и умеем
Боги защищали наши посевы, давали нам удачу в рыбной ловле, охоте на дикого зверя
Боги даровали нам здоровье
Лиа перестала слушать богов
Боги не услышали призыва Лиа о помощи
Нучу, её Нучу тоже не помог Лиа
Лиа не захотела слушать шамана Вэле
Муу завладела пурба Лиа и навсегда забрала её нига
Белый человек виноват в слабости нига Лиа
Лиа больше нет с нами
Теперь Луна всё реже выходит из ручья
Чича льётся рекой, обжигая нашу нига, забирая нашу пурба
Женщины отказываются шить молы
Шаман Вэле хотел наказать белого человека
Шаман Вэле призвал дух оцелота и вошёл в пурба оцелота,
Жемчужина вдруг пропала
Нига шамана Вэле вот уже много лун существует без пурба
Нига шамана всё слабее и слабее, но он должен помочь своему народу
Шаман Вэле должен вернуть Жемчужину
Тогда пурба шамана и его нига тоже вернутся к нему
Верни надежду, верни Жемчужину, ты добрый человек, ты так похож на Лиа
Жемчужина у тебя, она выбрала тебя, значит, и боги избрали тебя быть проводником, посредником Жемчужины
Боги хотят, чтобы ты снял чёрный туман несправедливости с Сеньоры Большая Голубая Жемчужина
– Ты что-нибудь понимаешь? – спросил я.
– Ясно, речь идёт о жемчужине, но та ли это жемчужина, которая в какое-то неведомое русло направляет твою жизнь или нет, утверждать мы не можем. Следовательно, нам надо снова потрясти Максимилиановича нашего разлюбезного на предмет его барышни, и тебе надо поговорить с Жанной, уж как – ты придумай сам, – назидательно резюмировал Эндрю.
6. Их имена начинаются с одной буквы
Жанна давно переросла чувство обиды на весь мир и пересмотрела свою роль в нём. Конечно, это случилось в большей мере благодаря тому, что на её пути встретился человек, который проявлял участие к её судьбе, внушал ей моральные ценности общества. К матери она относилась с безразличием и, если сострадала иногда, то не на дочернем уровне – не отталкивая, но и не приближая её к своему сердцу.
Давно не обжигали болью воспоминания о выкраденных матерью и обмененных на выпивку жемчужных серьгах, подарке ювелира. Игра в мать и дочь закончилась. Мать кочевала из одних мужских объятий в другие, редко появляясь в их общем доме, после того как в ультимативной форме Жанна пригрозила ей милицией – в случае, если она будет устраивать пьяные сексуальные оргии дома.
Жанна любила петь и отдавалась этой страсти целиком и полностью, всё остальное было лишь приложением к этой страсти. К любви она продолжала относиться скептически, утверждая, что мужчины и женщины рядом исключительно для совокупления, используют друг друга, удовлетворяя свои потребности, и не более того.
На одном из концертов в Гнесинке она исполняла песню, автором стихов которой была она сама, а автором музыки был её педагог по фортепиано. И хотя внутренне она была далека от любовной лирики, но во власти общепринятых канонов, иногда выражала себя таким образом.
В параллели миров Встречи душ среди снов, И на небе Луна, Как и я влюблена. Я брожу среди звёзд, Среди молний и гроз, И смотрю с высоты, Всё ищу, где же ты. Эхо слов от планет, Но ответа всё нет, Марс стремится к Луне, И советует мне: Не придумывай снов, Параллельных миров, И возлюбленный твой Не пройдёт стороной. Я брожу среди звёзд, Среди молний и гроз, И смотрю с высоты, Всё ищу, где же ты.Спела Жанна и, кланяясь публике, поймала на себе взгляд молодого человека в первом ряду, особенно пристально устремлённый на неё. Это был Евгений, с которым уже после первых минут знакомства они потешались над тем, что их имена начинаются с одной буквы: она – Жанна, а он – Женя.
7. Комбинация из трёх пальцев
Глеб Максимилианович, как и Эндрю, жил недалеко от театра.
Но я предложил Эндрю «это недалеко» проехать на трамвае. Трамвай – особый для меня вид транспорта, некоего ностальгического символизма, на котором хочется иногда прокатиться, слушая только ему присущее постукивание колёс о рельсы, слегка вздрагивая под мелодию его необычного сигнального звонка. Дзынь-дзынь – звук производит специфический эффект, пробуждая во мне терапевтически положительные эмоции: мне хочется всех приободрить, пожать руку; боясь быть непонятым, я, конечно, этого не делаю, отлично осознавая, что в обозримом пространстве такое влияние трамвай оказывает только на меня. Даже Эндрю глядит на меня с недоумением и пожимает плечами, когда я как кисейная барышня растекаюсь в улыбке от звуков, издаваемых трамваем. У каждого, как говорится, свои таракашки-букашки в голове.
«Апартаменты» Глеба Максимилиановича располагались в удивительном старинном аристократическом особняке, приспособленном под коммунальные квартиры. Такие постройки приводят меня в трепет, их архитектурная одухотворённость настолько значима, что невольно хочется относиться к ним как к живым представителям своего времени. Вот и это здание, в котором живёт мой коллега по цеху, одно из них: построенное на рубеже XVIII и XIX столетий (надеюсь, я не ошибся во временных рамках) по всем признакам – довольно эклектично, некое своеобразное отражение московского модерна. В нём сохранились элементы средевекового западноевропейского городского дома: большое окно (находящееся непосредственно над козырьком подъездной двери дома) с подоконной полочкой и нишей, оформленной керамической плиткой неоднородных бордовых оттенков; над окном – три арочные ниши, объединённые обрамляющей дугой. Между окнами второго и первого этажей расположено горизонтальное керамическое панно с изображениями сказочных персонажей, в цент ре которого – рельефное изображение грифона (мифического двойственного существа, символизирующего власть над небом и землёй, объединяющего добро и зло, с туловищем льва и головой орла, с острыми когтями и золотыми крыльями). Несмотря на симметрию в оформлении, сами окна отличаются асимметрией – разнообразием по форме и размеру. Козырёк над подъездной дверью поддерживается двумя металлическими фигурными панелями кронштейна, также с изображением грифона, а сама дверь обрамлена кариатида ми.
– Ты что застыл? – прервал мои созерцательные размышления Эндрю.
– Эндрю, – сказал я мечтательно, – представь: сейчас откроется дверь, и сам хозяин этого особняка пригласит тебя в гости, усадит за изысканный стол, угостит всевозможными холодными закусками, на горячее – индейкой, фаршированной каштанами, или молодым вепрем с трюфелями и печёнкой, на десерт – фисташковым мороженым, и запьёшь ты всё это изобилие розовым шампанским…
Мне показалось, что внутренние органы Эндрю откликнулись на мои слова своим утробным журчанием.
Так, давясь от смеха, мы вошли в этот удивительный памятник архитектуры с толстыми, обшарпанными, облупившимися, непонятного цвета стенами, с причудливой лепниной изнутри.
– Удивительно. Как до сих пор не расселили людей из такой красоты?
– Да, – сказал Эндрю, – сейчас Максимилианович откроет дверь, а за ней – резные дубовые панели, золочёная бронза, стёкла с вензелями, дубовые рамы, опять же фактурная лепнина…
Глеб Максимилианович занимал одну комнату в пятикомнатной коммуналке на первом этаже. Насколько я помню, по его рассказам, соседи его особенно не донимали: в одной из комнат жила старушка, как он её называл, несмотря на своё абсолютное равенство с ней в возрасте, в другой – молодой человек, который всё время был в отъезде, в командировках. Он ещё не обзавёлся семьёй и не доставлял никому из жильцов никаких проблем; две другие комнаты были всё время закрыты, их хозяева показывались иногда, дабы проверить наличие своих квадратных метров. Под пятью вертикально прикреплёнными у двери звонками были чёткие инструкции, сколько звонков каждому жильцу причитается, рядом с фамилией Глеба Максимилиановича стояла цифра 2. Следовательно – звонить два раза, что мы, собственно, и сделали. Тишина и молчание были нам ответом. Мы не унимались; я знал, что родственников у него нет, и потом – ему с утра на работу, а на здоровье он последнее время не жаловался.
Мы набрались наглости: ведь жил-то он на первом этаже, и грех было этим не воспользоваться. Хотя этаж был высокий для решительных действий, для единственно логичного выхода из данной ситуации у нас просто не хватало сил. А сил не хватало только лишь оттого, что они уходили у нас на хохот, с которым мы боролись всеми известными способами: это было похоже на какую-то беззлобную истерию, наверное, для такого хохота есть медицинское определение, поделать с ним мы ничего не могли. В таком идиотском состоянии мы проторчали под окнами Максимилиановича не менее получаса. Наконец, обоюдно сделав над собой психологическое усилие, мы добились того, что окно нашего оппонента оказалось на уровне глаз Эндрю, причём для этого мне пришлось взгромоздить его себе на плечи. И действительно, Глеб Максимилианович шифровался самым незатейливым образом, просто не отвечая на любого рода звонки: ни телефонные, ни дверные.
В комнате, как выяснилось, он был не один: с ним была эта безобразная незнакомка из театра (мой личный комментарий). И Эндрю показалось, что они оба были просто в зюзю пьяны.
Мы позвонили теперь уже один звонок; я знал, что он при надлежит соседке, с которой я уже имел честь чаёвничать ранее, она меня узнала и любезно разрешила нам войти.
Несмотря на всю таинственность момента, дверь в нужную нам комнату была не заперта. Два разнополых возрастных человеческих создания лежали на полуторной кровати абсолютно голые, причём, она возлежала, раскинувшись всей своей необузданной массой чуть ли не по диагонали, а на него было просто жалко смотреть: весь сжавшийся в эмбриональный клубок, он окуклился где-то на уровне её ног. На столе были остатки закуски, стоившей немалую копеечку, бутылка водки, початая до половины, ещё две пустые валялись под столом, и свёрнутая в трубочку засаленная тетрадь. Я должен признать, что вёл себя бесцеремонно, но, как мы помним, цель оправдывает средства: я пытался растолкать Глеба Максимилиановича, дабы всё же внести хоть какую-нибудь ясность во всю эту чертовщину, происходящую со мной в последнее время. Он был не так пьян, каким казался в своём свёрнуто-калачиковом состоянии. Выдавливая из себя слова как из ещё далёкого до опустошения тюбика пасты, он, не изменяя себе в речевых оборотах, деликатно спросил:
– Друзья мои, а что вы, собственно, делаете в моём доме?
– Так это ты с моей дочурой шуры-муры крутишь? – вдруг подало осипший голос женское тело, даже не пытающееся прикрыться, лежащее на ложе любви Глеба Максимилиановича.
Мне показалось, что дубовый паркетный пол уходит у меня из-под ног.
Так вот почему Жанна никогда мне ничего не рассказывала о своей матери. Да, гордиться родственными связями Жанне не приходится.
– И что за дела у тебя с её папашей единокровным?
Сложить логическую цепочку из её вопросов у меня не получилось.
– Ты ко мне его в подсобку в театре засунул, признавайся?! Больше двадцати лет с ним не виделась, а тут – нате, нарисовался – не сотрёшь, он же, ёлы-палы, шаман долбанный. Раньше весь из себя такой гордый, футы-нуты, брезговал мной, но я – не будь дура, обхитрила, его в оборот взяла: у них там праздник местный такой бывает, напиваются они так, что себя не помнят, ну, тут я его и подловила. Не понял, как отцом заделался. Да он и не знал всё это время, припёрся немощный какой-то, весь ссохся. Жемчужина ему, видите ли, понадобилась. Говорит: «Добудь её». Я ему и сболтнула про дочь, в тот день как раз в театре её и увидел. Аж ему морду всю перекосило от известия такого. Им их религия запрещает браки с чужаками из другого народа, они, видите ли, чистоту своих рядов блюдут, – и она рассмеялась, отвратительно при этом рыгнув. – Они и детей таких не признают, топят как котят. Я, когда под него ложилась, и не слыхивала о таком. Так ему – что дочь, что рыба в воде – один чёрт, и то он рыбу предпочтёт, а не дитя своё. А мне она, такая дикая, тоже зачем – вся в папеньку. И вот он как тебя, милок, увидел, так весь затрясся и всё повторял: «Лиа, Лиа». Мало я для него глупостей наделала: ребёночка у одного порядочного человека выкрала. Так теперь вот пришлось и жемчужину выкрасть. Сначала спрятала у тебя в пиджаке, думала, не сразу найдёшь, а ты вон какой прыткий, еле назад забрала. Только вот ему жемчужина, – и она сложила комбинацию из трёх пальцев и потрясла этим кукишем в воздухе. – Накось, выкуси! Теперь не возьмёшь.
– А где она, жемчужина? – задал я вопрос, как только понял, что ко мне вернулся дар речи.
– А тебе зачем?
– А ваш шаман приходил ко мне за ней.
И тут она неожиданно вырубилась. Глеб Максимилианович не дал нам применить «грубую мужскую силу» для её пробуждения под воздействием чар Бахуса. Невольно я оказался в непосредственной зависимости от этой мадам. С другой стороны, пусть этот тип, который приходил ко мне за жемчужиной, сам с ней разбирается, тем более, видимо, её не так пугают его лингвистические пристрастия.
В коридоре послышался телефонный звонок; вежливая старушка, постучав, приоткрыла дверь и сказала:
– Евгений, вас почему-то к телефону.
Мы с Эндрю многозначительно переглянулись.
«Кто мог знать, что я здесь?» – уверен, пронеслось в наших с ним головах как в одной.
Я вышел в коридор, прижал к уху эбонитовую трубку и услышал женский голос, который я не спутаю ни с одним другим: голос Жанны взволнованно сообщил:
– Женя, тут какой-то сумасшедший дал мне номер этого телефона и сказал позвать тебя, он удерживает меня силой и требует вернуть жемчужину. Она у тебя? Прошу тебя, верни её, он очень странный, этот человек, я его боюсь. Сообщи Василию, моему названному отцу, что со мной, может, он тебе поможет…
– А где, – хотел я сказать, – мне его найти, – но связь оборвалась, и телефон начал издавать характерные гудки.
– Вашей дочери угрожает опасность, кто-то удерживает её силой, слышите, вы!!!
Голос отделился от тела матери Жанны (даю голову на отсечение – она продолжала спать, даже ритм сопения не изменился):
– Найдётся это сокровище, у неё такой влиятельный богатый покровитель – он из-под земли её достанет.
Интеллигентный Эндрю покраснел от злости.
Про себя я молчу – я краснел, зеленел, потом опять краснел.
– Чёрт побери, такие страсти из-за какой-то жемчужины, их пруд пруди, нет, им подавай именно эту, – мою тираду прервал Глеб Максимилианович:
– Раз дело приобретает такой оборот, Евгений, я, конечно, помогу вам, чем смогу. Обратите внимание, молодые люди, на столе лежит невзрачная тетрадь, может, она чем-нибудь поможет вам, это во-первых; во-вторых, жемчужину, о которой идёт здесь речь, я, по настоянию моей возлюбленной Виолетты (при этом мы с Эндрю недоуменно переглянулись и уставились на эту в кавычках Виолетту, уж очень ей не подходило сие имя, прямо скажем – она его портила), – извлёк жемчужину из вашего кармана, Евгений, да, да, ради любви и не на то пойдёшь, и продал её хорошо вам известной приме нашего театра Анаиде Адольфовне.
Взяв тетрадь, вежливо отказавшись от любезного предложения соседки зайти к ней в гости и отведать чаю с пирожками, мы вышли на улицу.
Эндрю надо было на работу, и мы побежали вместе в сторону театра, не дожидаясь трамвая.
– Беги, беги, – сказал я ему, прощаясь, – если я что надумаю, то позвоню тебе.
Сказать, что я был растерян, значит, ничего не сказать.
Сгустившиеся сумерки скрыли под своим покровом мои становившиеся неуправляемыми эмоции: защипало глаза. «Это что – слёзы?» – подумал я, вспомнив героев боевиков, которые попадали в подобные ситуации. Они постоянно продумывали план действий по вызволению героинь.
Вот что значит работа в театре: несмотря на переживания, успеваю думать, как я буду выглядеть со стороны.
Но глаза действительно щипало, и текли реальные слёзы. Помимо испытываемых общечеловеческих чувств сострадания, я вдруг понял, что влюблён в Жанну, да, я её люблю. И это не давало мне трезво оценить обстановку.
Для порядка надо было пойти в полицию и написать заявление о пропаже Жанны. Я, конечно, понимал, что история с жемчужиной может выглядеть абсурдной, тем более я не хотел подставлять Глеба Максимилиановича. Надо изложить дело без мистических подробностей, но также мне пришло в голову, что, не зная точных данных о том, где она живёт и без её фотографии, это делать бессмысленно. Я решил вернуться в дом, который мы не так давно покинули с Эндрю и попробовать вызвать Виолетту на беседу для выяснения подробностей жизни Жанны, тащить эту горе-мамашу в полицию в таком виде было себе дороже.
На звонок, прозвеневший дважды, опять никто не открыл дверь. Я, в надежде на положительный исход, позвонил соседке, она открыла, пригласив меня войти. Дверь Глеба Максимилиановича как и прежде была не заперта, но в комнате он был в одиночестве, от его возлюбленной остались только алкогольные испарения, которыми он, видимо, дорожил.
Он встретил меня словами:
– А, это вы, – и посмотрел на меня взглядом провидца, – я знал, что вы вернётесь.
– А почему не открыли дверь, раз знали? – спросил я.
– Всё должно идти так, как идёт, – опять он напустил туману, теперь уже на слова.
– Где ваша красавица? – решил я перейти к делу.
– После того как вы ушли, приехал Василий, погрузил Виолетту в свою тачку и куда-то увёз.
– Кто такой Василий?
– Виолетта называет его благодетелем её дочери Жанны, а как там всё обстоит на самом деле – я не знаю. У вас есть тетрадь, из неё вы можете многое узнать, мне кажется, это дневник этого Василия. Он спрашивал об этой тетради у Виолетты. Если хотите, читайте здесь, может, содержание этой тетради внесёт какую-нибудь ясность…
Он пошёл на кухню ставить чайник. Соседка принесла предложенные ранее пирожки. А я углубился в чтение дневника Василия.
Глава пятая
1. Тетрадь открытий
Годы, годы…
Это лишь время – физическая величина, это не мерило жизни, мерило жизни – это любовь, и чем взрослее любовь, тем моложе душа. Она молода своей нравственной чистотой, стремлением к прекрасному…
И для меня не кощунственна мысль о возврате в прошлое, желание отдать настоящее со всеми его потрохами хотя бы за короткое мгновение прошлого. Мы живы тогда, когда мы счастливы, мы живы, когда мы любим, во всё остальное время – мы только животные, стремящиеся стать людьми.
Я нашёл способ соприкосновения с тем временем, когда я был счастлив, память о котором не оставляет меня ни на мгновенье. Его мне так хочется переживать вновь и вновь.
Я о нём напишу, о моём прошлом, о тех днях, что служат для меня источником жизни и сейчас. Я чувствую в этом потребность, и она неиссякаема.
Давным-давно, а кажется – будто вчера, я, неисправимый романтик, и мой друг Сашка со своей девушкой, обладательницей высокопарного имени Виолетта, отправились в круиз на великолепном лайнере. Денег, выделенных мне родителями по случаю получения диплома о художественном высшем образовании, было предостаточно, они жгли мне руки непреодолимым желанием быть потраченными. К тому же – красоты и тайны берегов Атлантики и Карибского моря влекли меня необыкновенно.
Откровенно говоря, присутствие Виолетты тяготило меня своей вульгарной необузданностью, развязностью, но – чего не сделаешь для лучшего друга, который за внешней привлекательностью своей подруги не замечал того, что было очевидным для всех. Я надеялся, что он со временем образумится, и предпринятая нами совместная поездка поможет в этом. А пока, спрятав подальше от всех предвзятое отношение к его спутнице, я старался быть лёгким в общении с окружающими людьми и получать удовольствие от свободы, от всевозможных обязательств, связанных с учёбой и всем тем, что я оставлял дома в городе…
Перелёт на самолёте до места посадки на круизный лайнер я миновал во сне, так как в буквальном смысле этого слова заснул, только поднявшись на борт и очутившись в кресле, даже не услышав приглашение отобедать, что для меня не свойственно, – видимо, сказались волнения последних дней, связанные с экзаменами.
Судно, на котором нам предстояло путешествовать, называлось «Angel» – это был элегантный уютный круизный лайнер во французском стиле, с морской водой в бассейне на открытой палубе, ресторанами, дискотеками, с комплиментом «five o’clock tea», вместимостью до трёхсот пассажирских мест и сотней членов экипажа. Я был если не счастлив, то умиротворён в преддверии путешествия и неожиданных приключений, и в то же время ощущал себя пружиной, сжатой каждым своим витком, готовой в любой момент распрямиться и выплеснуть накопленную энергию.
Виолетта умудрялась флиртовать со всеми особями мужского пола, а мой друг будто этого не видел, называя такое поведение повышенной тягой к общению, коммуникабельностью, совсем не замечая, что желание общаться его пассии несколько однобоко по половому признаку…
За исключением этого всё шло как нельзя лучше: на борту разместилась библиотека, и я всегда был обеспечен томиком стихов или, на худой конец, детективом, дающими пищу для иного рода размышлений, чем – что надеть на дискотеку, съесть за обедом или выпить за ужином…
Девушек на лайнере было достаточно, но «глаз не загорелся» ни разу.
Я очнулся от своего полудремотного состояния только тогда, когда плещущаяся волна, доступная взору, устремлённому на необъятные просторы океана, покрылась белыми барашками, перерастающими в пенистые гребни, и стала достигать трёхметровой высоты. По всем законам жанра надвигался нешуточный шторм; вместе с увеличением шкалы Бофорта у меня увеличивался не страх, а какое-то безудержное, нервное ликование, будто это не схватка стихий жизни и смерти, а детские качели, подбрасывающие меня к облакам.
Я нашёл Виолетту, целующуюся с официантом в баре. С отвращением передёрнувшись от увиденного, я отправился на поиски друга. Моё беспокойство росло по мере того, как сокращалось количество мест, где я мог его обнаружить. Ни в каюте, ни в бассейне на открытой палубе, ни в одном из трёх ресторанов… его не было ни на одной из пяти палуб… нигде. Надвигался уже не шторм, а настоящий ураган, и не понимать этого он не мог. Я стал вспоминать, когда и где я видел его в последний раз.
Тем временем на корабле произошла авария в машинном отделении лайнера – в моторном отсеке возник пожар, двигатель отключился, а пламя невозможно было унять. Поверхность моря была вся белая от пены. Взбесившийся ветер поднимал очень высокие волны с длинными загибающимися вниз гребнями, они грохотали, подобно тысячам, миллионам барабанов. На счету была каждая минута: капитан принял решение высадить пассажиров в шлюпки и плоты – это был наш шанс на спасение. Берег, по уверениям капитана, находился примерно на расстоянии километра от судна. Я продолжал метаться по кораблю в поисках Сашки, пассажиры в панике сновали мимо меня в спасательных жилетах.
Так и не найдя друга, я, нацепив спасательный жилет, прыгнул в воду вслед за последним жёстким плотом, выброшенным за борт, в надежде на то, что Сашка, как и я, плывёт к берегу в шлюпке или на плоту, но слёзы отчаяния, скрытые солёными морскими брызгами, текли потоком по моему лицу. Очередная высокая волна, с грохотом обрушившаяся на плот, в который я вскарабкался с большим трудом, прервала мои мысли и все ощущения действительности; сознание покинуло меня…
Не знаю, сколько продолжался ураган и что со мной в это время происходило.
Очнувшись, я обнаружил, что лежу на берегу, и набегающие волны раскачивают, словно щепку, моё бесчувственное тело. «Интересно, тот ли это берег, о котором говорил капитан», – это первая моя здравая мысль после того, как я почувствовал, что конечности мои целы. Открывшаяся взору картина больше была похожа на кадры из фантастического фильма, чем на реальность. Кристально белый, похожий на крупицы сахара песок, кокосовые пальмы со свисающими орехами, похожими на гигантские груди, полные молока… и люди… Я начал ощущать нещадно палящее солнце, и мне очень хотелось куда-нибудь спрятаться от его неумолимых лучей. Прежде чем пелена перед глазами вновь стала сгущаться, я попытался встать. Но мои попытки шли в полный разрез с желанием подняться, и туземцы, обступившие меня, будто сошедшие с картинок школьных учебников: темнокожие, черноволосые, невысокие, с крупной головой на мощной шее, с внушительной грудной клеткой и плечами, с небольшими ступнями коротких ног, смотревшие на меня с любопытством, – были невольными свидетелями этого бессилия. Возможно, в тот момент весь их облик дорисовало моё болезненное воображение, пользуясь атрибутами академического образования, отрицая реальность происходящего, воспринимая его словно красочный сон…
Когда я снова открыл глаза, непроизвольно коснувшись рукой лица, помимо умения созерцать ко мне вернулось умение анализировать: волосяной покров, в частности – борода месячной давности, указали мне на временные рамки моего бессознательного состояния. Тело моё, не толще листа бамбуковой пальмы, утонуло на дне тростникового гамака. Взгляд – из-под тяжёлых словно гири век – уткнулся в стену из толстых стеблей бамбука, опутанных лианами, скользнул по непонятным предметам, разложенным на полу из морского песка. Птичий гам заглушал человеческие голоса, доносившиеся снаружи, изъяснявшиеся на непонятном языке, с часто повторяющимся звуками «кина-кина». В уголках моей памяти проснулось эхо, догадка, которая была бы невозможна, если бы на борту «Angel» не было библиотеки: «кина-кина» – это «кора всех кор», не что иное, как хина, применяемая при малярии. Так вот ещё в чём причина моего такого немощного физического состояния…
В хижину зашло несколько представителей местного племени, один из них влил мне в рот мутную жидкость (как я потом узнал – порошок «кина-кина», разведённый в местной настойке на основе кукурузы), а сам, судорожно сжимая и разжимая ладонь с необыкновенно крупной красивой жемчужиной, стал произносить непонятные мне звуки. Его голос становился то тихим и вкрадчивым, то грозным и требовательным; он, постепенно впадая в состояние транса, увлекал в него всех окружающих и меня в том числе; протяжная песня-заклинание и окуривательный дым какао-бобов облаком звуков и дыма заполнили пространство.
Улетая в мир потусторонних сил, я успел заметить присутствие Виолетты среди окружающих меня людей, но счёл её облик издержками галлюцинаций, так легко внушённых мне шаманом, который, как я догадался, пришёл излечить меня от недугов. Кроме того, что уж точно казалось нереальным, рядом с ним была необыкновенная белокожая девушка с голубыми глазами и длинными вьющимися волосами цвета льна. Она, подобно жемчужине в руке знахаря, вся светящаяся изнутри внутренним магическим светом, положила мне на грудь небольшую деревянную фигурку. «Лиа, Лиа», – почему-то позвал я её, простирая руки к эфемерному видению.
Возвращение к жизни было долгим.
Пробуждение – это всегда праздник, а пробуждение в раю на земле – праздник вдвойне.
Наяву или в бреду ярко разукрашенные тела обнажённых женщин суетятся вокруг меня:
– Вы очень гостеприимны, спасибо, кукурузная каша с бананом, спасибо, спасибо, очень вкусно…
Почему в меня вселилось волнение крови? Кого среди этих мулаток ищет мой взгляд? Неужели только в агонии боли я видел девочку – прекрасного ангела, залетевшего утолить мои физические мучения? Или это отголосок тоски по родным просторам и девчатам, совсем не похожим на этих смуглых амазонок индейского племени?
– Ики пе нуга? – голосок, словно ручеёк, ласкающий камешки, бегущий прозрачными каплями сквозь пальцы желающего его испить.
– Что означают твои слова, Лиа?
А это именно ты, тебя нельзя ни с кем спутать, ни с кем сравнить, ты реальна и ты говоришь со мной.
Тень, поглотившая нас, несмотря на небольшой рост её обладателя, произносит:
– На языке нашего племени это вопрос: как вас зовут?
– Это наш шаман Вэле, – с почтением к тени на хорошем испанском поясняешь ты. Напряжённый крупный торс, большая голова, белозубая улыбка и взгляд настороженного оцелота – вот таким предстал предо мной ясновидящий, прорицатель индейского племени во второй раз. Я помню его – это он совершал надо мной свои колдовские обряды, возвращая меня к жизни. Но почему сейчас он так раздражён?
Время растворяется в кружевах волн, набегающих на песчаную преграду берега… в джунглях, с неохотой приоткрывающих тропические тайны… шелесте листьев кокосовых пальм рядом с хижинами индейского племени…
Время дарит мне уроки любви, которые прилежно заучиваются моим сердцем. А сердце мужает, становится крепким, как самое твёрдое дерево бальса, из которого соплеменники Лиа (имя, непроизвольно прозвучавшее из моих уст, так и осталось её именем, по крайней мере – в общении между нами, ей нравилось, как оно звучит, и она не хотела иного), делают фигурки нучу, защищающие племя от злых духов и несчастий. И сердце ждёт продолжения чуда, уже дарованного мне судьбой.
Любовь вместе с заклинаниями шамана влилась в меня, заполнив до краёв, и я не мыслил себя без Лиа.
Я поглощён своими чувствами, и всё, что происходит вокруг, связано только с Лиа. Я понял, что Виолетта тоже спаслась, но практически с ней не общался. Я очень надеялся, что мой друг Сашка тоже – вот так, как я – на каком-нибудь прекрасном острове жив и здоров, и в конце концов мы когда-нибудь с ним встретимся, и наша дружба вновь будет нерушима, как это было с самого детства. Мне надо было в это верить, иначе горечь утраты погрузила бы меня в глубокое уныние, рядом с которым существование чувства любви было бы невозможным.
Стыдно признаться, но, не имея связи с внешним миром, я и не стремился её поскорее установить. Бесполезность метаний по этому поводу была очевидна: может, даже бессознательно, я и сам хотел, чтобы моё пребывание в этом необыкновенном месте, в этом раю длилось как можно дольше. Я понимал возможную степень переживания моих родителей за меня, но эгоистичная эйфория чувств отодвинула всё на задний план.
Мы неразлучны с Лиа, мой испанский довольно сносный, я начинаю немного понимать местный язык, мы продолжаем узнавать друг друга, и это ещё больше сближает нас. Она передаёт мне навыки своего племени: управлять пирогой, нырять на большую глубину за диковинными раковинами, ловить рыбу тонким копьём и деревянным трезубцем, доставать кокосы с высоких пальм, плести неизменное ложе для отдыха – гамаки…
Мне запомнилось ранее утро, когда я впервые отправился на охоту и сбор плодов манго, бананов, апельсинов и других экзотических видов фруктов, название которых мне было неведомо, вооружённый, как и мужчины племени, большим ножом – мачете.
И впервые так близко увидел ярко-зелёную, с чередой тёмных полос на спине, метровую игуану, лежащую на ветках дерева и лениво заглатывающую листья. Она была восхитительна… я пожалел, что в руках у меня нет карандаша и бумаги… так хотелось запечатлеть её ленивое великолепие…
Я был очень огорчён тем, что гарпун, сделанный из длинной трёхметровой палки с крючковатым наконечником, удерживаемым при отделении от древка верёвкой, в руках одного из охотников достиг цели.
Говорят, мясо игуаны напоминает куриное…
Вечером, несмотря на всеобщую эйфорию праздника удачной охоты, источающего дразнящие запахи местного лакомства – мяса игуаны, освещённого огнём горящей шелухи кокосового ореха, я не смог почему-то проглотить ни одного кусочка этого деликатеса.
Это смешно, я понимаю…
Надеюсь, никто из племени не понял моего состояния.
– Я не смогу стать для тебя защитником, если не справлюсь со своими ханжескими ограничениями. Я справлюсь, обязательно справлюсь. Ты даже не узнаешь, что я был таким. Я хочу быть полезен племени, если надо, я готов охранять урожай кукурузы от набегов диких свиней, я могу ездить за пресной водой, я могу нырять за лобстерами, я многое уже могу… – вот о чём я тогда думал, Лиа.
Я во власти любви к тебе, я чувствую обоюдное томление наших тел.
Но где ты, Лиа? День без тебя показался мне вечностью. Тебя нет ни в бамбуковой хижине, ни в наших потайных местах – нигде. Все окружили меня безмолвием. Но отчего-то шаман Вэле не обеспокоен твоим отсутствием. Значит, всё в порядке, но я должен знать, где ты и что с тобой.
Твой мир загадочен и очень суров.
Обряды, обычаи, да, я знаю – у каждого народа они свои. Но я хочу знать, что сейчас, в данную минуту происходит с тобой. Что это за обряд, и почему он происходит сейчас и вдали от меня. Я тоже уже кое-что могу, уроки вашего племени не прошли даром. Я найду тебя, Лиа, клянусь.
Второй день без тебя – всё валится из рук. Я ищу тебя везде. Я крадусь как ягуар, я бесшумен и осторожен. И только на четвёртый день я нахожу тебя. Как ты выдержала эти потоки ледяной воды, выливаемые на тебя твоими подругами, целых четыре дня, почему ты, дрожащая, еле стоящая на ногах, не убежала из наскоро построенной для этой пытки хижины из платанового дерева? И откуда у тебя взялись силы после перенесённых страданий раскрасить своё обнажённое тело соком фруктов? Твоё хрупкое тело – твоя нига – такая же сильная, как твоя душа – твоя пурба, видишь, как я быстро учусь твоему языку, Лиа.
– Так поступают со всеми девочками нашего племени, достигшими определённого возраста… Ты не можешь этому помешать.
Твои слова останавливают меня, но не успокаивают, и во мне закипает злость и нарастает чувство сострадания к тебе.
Ритуал продолжается, и я не в силах ему помешать: меня держат крепкие мужчины твоего племени. Чтобы тебя считали взрослой, ты должна пройти через боль прикосновения к твоей голове раскалённого янтаря, но почему я ощущаю твою боль как свою… я готов убить этого шамана Вэле. Отрешённый взгляд, обращённый вглубь веков, к каким-то потусторонним силам, твой крик от боли – это как подведение черты, как произнесённое заклинание и твой ответ высшим силам… Оскал удовлетворения на лице шамана. Я ничем не могу помочь тебе, Лиа, моё сознание путешествует вместе с твоим…
У меня на родине так не кричат даже на Масленицу, почему твои соплеменники так радуются? Они совершили истязание над тобой; танцуют и кричат, будто на празднике. Святые угодники!
Я постоянно говорю Лиа о своих чувствах. Но тучи различий между нашими межконтинентальными жизнями сгущаются с неимоверной быстротой, и никому до этого, кроме нас, нет никакого дела; и мои бесконечные страстные монологи становятся молитвой, обращённой больше к судьбе, чем к моей любимой:
– По обычаям вашего племени, женщина решает, кто будет рядом с ней, кто достоин её. Ты можешь выбирать себе любого жениха, никто не вправе сказать тебе: нет. Да таких и не нашлось бы нигде, ты совершенство, Лиа. И как быть мне: ты по своим законам не можешь даже смотреть на меня как на твоего суженого, я чужак, наш союз с тобой невозможен. Я понял это слишком поздно. Дай мне хотя бы время, побудь со мной, пока я не свыкнусь с тем, что ты не будешь моей суженой. Ты свободна в своём выборе женской судьбы, но ты не хозяйка себе, Лиа, ты с рождения обречена на исполнение традиций твоего народа. А мне остаётся только мечтать, что разверзнутся небеса и кто-то спасёт нас с тобой от всего того, во что и ты сама свято веришь.
Время безжалостно, неумолимо, как стрела, пущенная в цель опытным охотником, – бьёт без промаха в выбранную жертву. Его жертва – это я, безнадёжно влюблённый в светловолосую прекрасную амазонку, соблюдающую законы своего племени и неизменно уверенную в том, что она чтит правила, диктуемые богами, однажды данными её племени. Но наши живые тела прячутся от глаз богов в укромных уголках и ласкают друг друга. Это выше нас. Твоё золотое кольцо в носу – оно красиво, не спорю, но я не могу тебя поцеловать так, чтобы мой поцелуй стал единственным источником твоих желаний. Твои губы пахнут полевой фиалкой моей родины. Если мы не можем быть вместе здесь на краю света, давай убежим туда, где никто не сможет разлучить нас. Не смейся. Сколько надо собрать кокосов, чтобы твоё племя согласилось отдать тебя мне? Я не шучу.
Вот наступил решающий момент, который является венцом любви.
Ты изменилась, Лиа. Твои бёдра округлились, неприкрытые груди как будто проснулись, и их нежные венчики цвета коралловых бус на твоей шее потемнели.
Ты говоришь страшные слова: наш будущий малыш должен умереть. Твои боги гневаются, что в нём течёт чужая, моя кровь. Я тоже верю своему богу, но он не так жесток, как твой.
Неужели ваша философия не найдёт уголка, места для нашей любви и нашего малыша на матери-земле, и нигде на огромном своём пространстве нас не сможет приютить её величество «Сеньора Большая Голубая Жемчужина», как ты и твоё племя называют нашу планету?
Я растерян. Ты не готова покинуть своих соплеменников. Но наш малыш скоро родится, и я не знаю, как его спасти. Увезти тебя силой я не могу, ты должна решить это сама. Я жду твоего решения.
Двухмачтовая шхуна – это не мираж, не плод моего больного воображения, навеянный нереальностью происходящего со мной в затерянном рае. Я действительно видел шхуну. Такие суда могут плыть по мелководью, вблизи островов благодаря своей небольшой осадке. Кроме того, именно там, где я увидел шхуну, на одном из дальних необитаемых островов, где я с твоими соплеменниками собирал урожай кокосовых орехов, нечаянно наткнулся на занесённый песком, довольно потрёпанный, но ещё целый плот с лайнера «Angel». Да, это большой риск, но это шанс… Если мы не доберёмся до моей родины, Лиа, мы можем затеряться на одном из многочисленных островов в океане…
Я кожей чувствую опасность, исходящую от вашего шамана Вэле.
Я должен признать – он очень необычный человек. Сродни нашим экстрасенсам.
Он духовный лидер, в его ритуалах в повседневной жизни оживают традиции племени. Я много раз видел, как он погружается в транс, и было ясно, что он не с нами; будто он перемещается в другую от нас реальность, по его утверждению – улетает в мир духов.
А духи – его помощники и защитники на страже интересов племени. С их помощью он исцеляет болезни, предсказывает удачную охоту, рыбную ловлю и делает многое другое, что порой недоступно для разумного понимания. Ты знаешь о его способности навести порчу на врага, сейчас его враг – я. Кроме того, вчера пропал мой нучу – человечек из дерева, подаренный тобой, ты говорила – он спасёт меня от злых духов.
Но почему ты так взволнованна, мой нучу у тебя в руках, откуда этот котёнок оцелота? Ты забрала его у Вэле, зачем? Прервала его ритуал перевоплощения?… Ничего не понимаю… в кого?… В оцелота? Всем известно, что главный дух-хранитель – помощник Вэле – это животное оцелот. И Вэле всегда одет в шкуру оцелота и убеждён, что дух, находящийся в этой шкуре, всегда с ним. Но зачем ему живой оцелот? У вашего народа свои мифы, легенды и сказки. Я отношусь к ним с пониманием и долей здорового скепсиса и в силу обстоятельств сам, как и ты, Лиа, стал частью этого фантастического мира…
Трудно понять, но из твоих слов явствует, что сейчас наша безопасность зависит от оцелота, и его присутствие обязательно. Я верю твоей интуиции, я весь во власти твоих суеверий. Что мне остаётся делать? Лёгкая пирога под покровом ночи несёт нас на волнах надежды к острову, где спрятан плот с «Angel». На нём легко преодолеть береговые рифы, а там дальше, в океане, совсем не далеко курсирует шхуна, которая, если нам повезёт, может увезти нас далеко…
Виолетта тоже плывёт с нами; тебя беспокоит то, что будет с ней, когда обнаружится наш побег. Ты добра не только к своим соплеменникам, ты добра ко всем…
Не так я представлял наш побег, но твой страх передаётся мне, и мы убегаем в неизвестность…
Что с тобой, Лиа, наш малыш просится к нам? Но ещё рано. Мы скоро будем на острове, потерпи, и я сделаю всё, что полагается, ты только подсказывай мне. Ты хочешь рожать так, как рожают в твоём племени? Я покоряюсь. Вот гамак с отверстием для лона подвешен от дерева к дереву, лодка, наполненная водой, стоит под ним. Тебе не страшно за него – нашего малыша, ведь он упадёт в эту воду в лодке?
Крепче будет…
Тебя не переубедить. Ладно, доверимся твоим богам, ты продолжаешь им верить.
Вот он, наш малыш, смотри, он весь в тебя… Открой глаза, почему ты молчишь и не радуешься нашему счастью. Не молчи, прошу, я не вынесу этого. Ты в агонии, я должен спасти тебя. Мы с тобой вернёмся назад, последняя надежда – шаман. Странно, я ищу спасения у врага, но сейчас главное – это ты.
Моё отчаяние велико. Я предприму все варианты для спасения, даже ценой собственной жизни. И это решение, я уверен, показалось бы тебе ужасным, но я считаю его единственно верным: нужно вернуться назад… Я буду валяться в ногах у шамана Вэле, умолять, чтобы он сделал всё для твоего спасения, Лиа. Но не потерял ли он свою знахарскую силу, что с ним стало после того, как ты внедрилась в его состояние транса, нарушив его колдовской обряд на моё уничтожение? И что делать с нашим сыном: везти его в племя – означало везти его на гибель. Я боюсь за его жизнь. Твои соплеменники не пожалеют его, ты знаешь это сама. Ты бы тоже так решила, я уверен: я оставлю его с Виолеттой здесь, на острове, она дождётся шхуну и спасёт нашего малыша, уплывёт с ним подальше от этих мест. Ну дай мне хоть какой-нибудь знак, что ты слышишь меня, что ты одобряешь то, что я говорю…
Экспансивная Виолетта затравленно смотрит на меня.
– Шхуна должна подойти к острову со дня на день. Может, даже завтра. Не могу тебе всего объяснить, но ты видишь, в каком состоянии Лиа, поэтому я возвращаюсь назад, а ты будешь спасать нашего сына.
– Нет, нет. Мне нечем его кормить. Я не могу…
– Хоть раз будь человеком. Его здесь убьют.
– Как убьют? Почему убьют?
– Без объяснений, поверь. Здесь такие порядки. Делай, что я тебе говорю. Я не оставлю Лиа. Кормить малыша будешь соком кокоса.
– Я боюсь одна оставаться на острове ночью, подожди до утра, посадишь нас на шхуну…
– Дорога каждая минута. Видишь, как она страдает. Ты можешь спрятаться с малышом на плоту под тентом. На плоту есть запас питьевой воды, рыба, фрукты для тебя и кокосы для ребёнка. Я оставлю тебе нож. Да, вот ещё что: пусть эта фигурка будет всегда при нём, – и я вложил в руки Виолетты нучу – деревянного человечка, уповая на него сейчас больше, чем на кого и что-либо, главное – вера, вера в спасение, а иначе всякая борьба бессмысленна.
Последний раз я взглянул на сына.
Постелив листья кокосовой пальмы на дно лодки, положил на них Лиа, и мы отправились в обратный путь.
Лиа не приходит в сознание, я едва слышу её слабое дыхание… Приналегаю на вёсла, время от времени смачиваю губы Лиа соком кокоса.
– Скажи хоть слово, Лиа, не молчи, мы скоро будем на месте. Не оставляй меня одного.
Разве это справедливо – обретать сына ценой твоей жизни, любимая?…
Нет, это выше моих сил…
Ты осталась на земле своих предков. Твои боги не отдали мне тебя. В последний миг своей жизни ты открыла глаза и протянула мне жемчужину…
Зачем она мне? Ты не успела мне сказать…
Моя жизнь без тебя бессмысленна…
Потом мне снился снег: его крупные хлопья падали на твои обнажённые плечи, которые я хотел укрыть твоим национальным ярко-оранжевым платком, но ты шутливо отмахивалась от моей заботы о тебе…
Столько прошло времени, а сердце всё зовёт: «Лиа, Лиа…»
И не хочет верить, что ты не откликнешься никогда… Я переоценил свои возможности. Моё желание соприкоснуться сознанием с Лиа осуществилось, но по мере того, как оно ложилось из-под пера на бумагу, меня всё больше сковывало горе утраты. И, видимо, моё убеждение в том, что я смогу взглянуть на свои чувства и эти события со стороны, оказалось ложным, потому что ком подкатывал к горлу с каждой написанной буквой так, что невозможно было даже дышать, и в очередной раз я откладываю перо…
2. Разговор с Аспазией
На оборотной стороне обложки тетради Василия был записан адрес и женское имя Нонна с отчеством Георгиевна. Эта запись послужила зацепкой в моих поисках хозяина тетради. Поскольку Эндрю был занят в театре, я отправился по указанному адресу один.
Оказалось, это элитная частная психиатрическая клиника. Медсестрички в регистратуре, любезные и смешливые, беспрепятственно помогли мне найти пациентку с интересующим меня именем.
– Ей разрешены посещения в любое время без предварительной записи. Но она сейчас на прогулке. Я вас провожу, – сказала одна из девушек.
Мы прошли по аллее, где прогуливались пациенты с прибывшими их навестить родственниками и знакомыми, а в воздухе стоял терпкий запах черёмухи, немного кружащий голову. На расстоянии примерно пяти шагов друг от друга стояли скамейки, на которых сидели люди, оживлённо беседуя, читая или молча созерцая происходящее вокруг.
– Да вот же она, – сказала медсестра, указав на одну из скамеек, где в одиночестве, задумчиво глядя в одну точку, сидела благообразная пожилая женщина.
– А можно дальше я сам? – спросил я сестричку.
Она, улыбнувшись, в знак согласия кивнула мне головой и торопливым шагом удалилась в здание клиники.
Я присел на скамейку рядом с Нонной Георгиевной.
Она подняла на меня глаза и заговорила, будто продолжила только что прерванный монолог:
– Зеркало разбилось, я точно слышала этот характерный звук. Осколки были очень острыми, и я не знала, с какой стороны ступить, чтобы кровь из раны не брызнула фонтаном. Привычка ходить босиком по раскалённым углям, битому стеклу сослужила свою службу, и мой иммунитет говорил спасибо этим приобретённым практичным навыкам, но то всё были чужие угли и осколки. Другое дело, когда наступаешь на свои осколки, осколки своего существования, когда они настолько острые и мелкие, что не могут служить для выработки защитной реакции на окружающую действительность. Это то же самое, что наступать на свою боль, на вдребезги разбитую душу. Осколки долго лежат не востребованными. Может, они боятся вновь воссоединиться. Да и прежнее воссоединение невозможно, потому что очень большая часть души разбилась настолько мелко, что даже при помощи микроскопа невозможно различить все осколки.
Осколки иногда вспоминали, какой они были формы и размера, когда были единым целым. Если вернуться в прошлое невозможно, если душа осталась жить, то, хочешь – не хочешь, надо искать способ будущего существования.
Ведь время – главный лекарь – уже вооружилось всем необходимым и начинает кропотливый путь, складывая мозаику из осколков из того, что ещё можно воскресить. Если бы не было даже мельчайших остатков, о восстановлении не могло быть и речи, и появилась бы эпитафия, прочитав которую, никто бы не пытался найти то, что уже никогда не найти в себе и не почувствовать в других.
Душе моей здесь места не нашлось: Ни днём, ни ночью даме не спалось, Искала всюду и любовь звала, Но отклика, как видно, не нашла.Больно, больно, осколки острые, осколки острые, протыкают насквозь, протыкают насквозь, протыкают насквозь…
Время тем и хорошо, что беспристрастно выполняет свою работу.
Но не всё обстояло так плохо, как казалось ранее. Осколки вновь начали движение друг к другу.
Соединяясь, принимая ещё неясные очертания, они опять отправились на поиски тех, кто нуждается в их тепле, потому что это – важная составляющая воссоединения осколков. Для того чтобы увеличиваться и скрепляться, душа отдаёт как можно больше своей энергии и сил, то есть свой жар другим душам, и только тогда она сможет жить полноценной жизнью. Это незыблемый закон.
И вот моя ещё не сформировавшаяся после крушения душа протягивает руку помощи себе подобным…
Например, душа-зайчик пугается всякого шороха, и, конечно, в осторожности ей не откажешь.
«Может, стать зайчиком?» – подумала моя душа. Он такой милый, обаятельный, всеми любим. Не зря влюблённые не обходят стороной ласковое имя – зайка. У него прелестный хвостик, он хорошо уходит от опасности, прыгая в сторону, петляет…
Нет, моей душе недостаточно, недостаточно… зайчиком быть недостаточно…
Может, стать бобром? Такие симпатичные зверьки. Можно много плавать на спине, сложив лапки на груди после нелёгкого трудового дня. Всё время на природе… строить и строить… По выходным ходить в гости к таким же бобрам как ты, за столом восхищаться достижениями друг друга в строительстве плотин, делиться опытом и, выпив чарку-другую, лечь спать, мечтая о новом доме-хатке…
А, может, стать хитрой лисичкой с пушистым рыжим хвостом, умеющей заметать свои коварные следы? Только где их набраться – коварства и хитрости, если этого нет от природы? Строить ещё можно научиться, а вот научиться коварству – точно невозможно; оно или есть, или его нет.
Может, стать овцой? Пастись спокойно, под присмотром на лугах, жевать зелёную сочную травку и ни о чём не беспокоиться…
Или, может, стать сорокой и увлечься сбором блестящих вещиц, украшать себя ими и радоваться, что всё больше и больше вокруг тебя становится блеска, и душа будет переливаться этим блеском, притягивая себе подобных, и жизнь будет похожа на нескончаемый праздник мишуры, фейерверков и беззаботности…
Или, может, стать медведем – сильным, дремучим, пугая другие души, копить жир, сосать лапу…
А, может, душа и не успокоится никогда, ну – пока не найдёт своей сути. Она будет совершенствоваться и снова меняться, расти, и когда-нибудь, если ей только хватит жизни для этого, она найдёт саму себя и объемлет собой весь земной шар, всю вселенную… И всем от этого станет хорошо – и зайчику, и бобру… и многим, о ком не сказала, но они-то знают, что я о них не забыла, и осколки души обязательно встретятся, примеряя на себя их форму и содержание…
Чего я хочу? Чего я хочу? Чего я хочу? Чего я хочу? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю…
Затёртые в пустом, но желающим быть красивым шаре вместо головы мысли текут то приторно сладким липким джемом, то горько-солёно-масляным соком – рыбьим жиром, отравляя существование.
И что мне надо? И что мне надо? И что мне надо? И что мне надо? Да ничего и всё, наконец…
Не хочу испытывать жалость и сострадание. Это испытание делает пространство чёрным, засиженным мухами; скребёшь по нему обломанными ногтями и постепенно вымарываешься снаружи. И не отмыться. Никакие счастливые солнечные дары не отбелят горизонт, черноту безысходности, прихода и ухода черноты, преддверие которой просыпается утром, чаще – вместе с будильником. Он выдёргивает из забытья и навязывает обязаловку действий, и не вырваться из круга, не вырваться. Себе не принадлежишь, а когда вдруг принадлежишь, становится страшно: оголяешься примитивностью выпада ненужной цифры из огромной формулы, которая осточертела, но без неё нет жизни.
Несколько дел одновременно. Одно на мустанге. Он настолько необъезжен, что грива в пальцах – как недосягаемая иллюзия, и после бешеной скачки с мёртвой хваткой в пятерне руки – в конских волосах ни одного дикого волоса, ни на одежде, ни в ладони. А была ли скачка? Нет доверия и тем, кто был рядом и делал вид, что стартует на мустанге вместе с тобой, а сам собирал только искры со шпор и потом, улыбаясь мне, убеждал, что это инстинкт самосохранения, способ выживания и все так делают…
Другое дело – на козе. Оседлав козу, я раскачиваю её выменем, фактически своим выменем, стараясь больше выплеснуть в жаждущие рты жирного тягучего молока. Чем больше отдаю, тем больше вероятность белого проблеска в черноте экскрементов. Больше втягивайте в себя – мне от этого, ой, как хорошо.
В чём смысл прозябания? Да, побольше сцедить любимому молочка, амброзии. Ему хорошо и мне…
А вот ещё – иногда седлаю свинью. Нет, она сама бьёт своим копытцем, требуя внимания. Ну не хочу я биологических протуберанцев. Вспыхнет такой, только ось наклоняет от дел праведных. Свинья – животное умное и чистоплотное и вовремя плюхается на бок, ни разу не придавила, спасибо ей за это…
Я, ошарашенный её монологом, пытался зацепиться за её слова как рыба, неуспевающая схватить приманку с удилища рыбака, заинтересованного не в улове, а в самом процессе.
Так же внезапно, как начала говорить, она замолчала, поднялась со скамьи и мелкими быстрыми шажками направилась к зданию больницы. Я не посмел её остановить и пошёл за ней следом. В регистратуре оказался лечащий врач Нонны Георгиевны, которому в завуалированной форме я изложил причину визита, в надежде получить адрес Василия, поскольку он являлся опекуном этой странной женщины.
– А почему вы не спросили у самой Нонны Георгиевны?
– Не решился. Она так странно разговаривала со мной.
– Она достаточно адекватна для общения, усугубления её состояния в течение суток очень кратковременны.
– Я не мог прервать красноречие такой Аспазии, – переходя на интонацию оправдывающегося (обстановка клиники оставила поведенческий отпечаток), сказал я.
– Ну вы сравнили, молодой человек, красноречие должно быть подкреплено, в первую очередь, здравым смыслом, а сие исключено присутствием этой женщины в стенах нашего заведения…
Заручившись по телефону согласием Василия, доктор передал мне его адрес.
3. Косой дождь долбил по крыше…
Косой дождь долбил по крыше многочисленными клювами, будто хотел достучаться до каждого, кто занимался своим делом, обратить на себя внимание.
Внимание и чуткость… Мы зависимы друг от друга, хотя не всегда хотим это признавать. «Кто бы я был сейчас, – думал Василий, – не будь рядом человека, девочки, ребёнка, о которой мне так хочется заботиться».
Все свои нерастраченные отцовские чувства, причём – не требующие знака равенства в этой формуле жизни, он отдал ей. В последнее время хорошее настроение стало его постоянным спутником.
Он немного нервничал в ожидании Жанны, ему хотелось закрыть магазин и собраться с мыслями перед встречей с ней: ведь его дочка (так про себя он называл Жанну), благодаря его настоятельным просьбам, сегодня – не больше не меньше – сдала последний экзамен в Российской академии музыки имени Гнесиных – вокальный факультет – кафедры сольного академического пения. Он был неимоверно горд этим обстоятельством и ожидал её с минуты на минуту. Но покупатели – как нарочно, будто чувствуя энергетику праздника, – не торопились покинуть магазин.
Василий хранил в сейфе жемчужину Лиа. Он как ювелир, конечно, знал, что жемчуг надо купать и давать ему возможность дышать, казалось, делал всё для поддержания природной красоты жемчужины, но все усилия были бесполезны, и год от года она меркла и наконец совсем утратила своё голубое свечение. После чего он стал очень редко доставать её из хранилища. Он не мог понять – отчего она меняет цвет, боясь ещё больше усугубить состояние жемчужины, он предоставил ей покой. Но сегодня, в этот знаменательный день, он решил достать жемчужину, дать ей покрасоваться на шее Жанны перед людскими взорами, доставить тем самым радость девочке, которой, несмотря на очень доверительные отношения, никогда не рассказывал о своей прошлой жизни и не показывал ей своё сокровище – память о Лиа.
Открыв бархатную коробочку в виде раковины устрицы, он обнаружил, что жемчужина стала матово-чёрной, окончательно изменив свой первоначальный цвет.
Примерно через год после их знакомства с Жанной к Василию заявилась её мать (две соседки-сестрёнки, проследив за Жанной, наябедничали, куда она «шастает»).
Здесь впору подумать о провидении, тесноте мира и не удивляться неизменному промыслу судьбы. Узнав, чья Жанна дочь, Василий ещё больше почувствовал свою сопричастность к ней как возможной дочери его друга Александра, влюблённого в Виолетту и пропавшего без вести в путешествии к заморским берегам, которое они предприняли втроём, будучи молодыми.
Гипотеза отцовства была, конечно, беспочвенна – Жанна не походила на предполагаемого отца, она вообще не походила ни на азиатку, ни на европейку, её облик был ностальгически определённым для него, Василия, что и подтвердила впоследствии Виолетта, её мать. Отцом Жанны был его заклятый враг – Вэле, шаман индейского племени. Но своё отношение к этому персонажу его прошлой жизни он не проецировал на его ребёнка, наоборот, он представил свою возлюбленную Лиа, обожающую свой народ, её радость и одобрение за помощь людям, а тем более её соплеменникам…
Виолетта держала в тайне от Жанны имя её настоящего отца, Василий тоже не торопился открывать секреты, связанные с её рождением, в первую очередь, опасаясь за неокрепшую детскую душу.
Тогда, увидев Виолетту через столько лет, Василий растрогался.
– Ты хоть знаешь, как мой друг тебя любил, – спросил он её, даже сейчас в память об Александре пытаясь понять, как же она на самом деле к нему относилась, – он посвятил тебе стихотворение:
Ты как дыхание рассвета, Как запах нежного цветка, Ты нимфа счастья – Виолетта — Живая влага родника…Её пустой недоумённый взгляд отбил всякое желание продолжать…
Её густо накрашенные губы скривились в подобии улыбки:
– Подумаешь, поэт нашёлся…
И в подтверждение того, что ни времени, ни обстоятельствам не удалось нивелировать её отрицательные наклонности, Виолетта, оттопырив мизинец, закрыв глаза, резким движением одним глотком опрокинула в себя бокал коллекционного вина и занюхала бутербродом с красной икрой (не изменив привычный сценарий: с гранёным стаканом и шматком засохшего сала).
– Вот тебя бы я любила… что ты в ней нашёл, в этом божьем одуванчике, в этой, как ты её называешь, Лиа – дунь и нету…
Василий, не склонный к агрессии, сжал кулаки.
Виолетта, не забывая вилять уже более чем выдающимися бёдрами, подошла к витрине и долго всматривалась неизвестно во что, потом повернула к нему своё заплаканное лицо и, размазывая по лицу пьяными слезами вульгарно нанесённую косметику, сказала:
– А ведь твой сын не погиб тогда; этот чёртов шаман перед нашим побегом угрожал мне, я поклялась ему, что погублю вашего ребёночка, когда он родится…
А когда вернулась на родину, домой, очень боялась его мести, боялась, что он доберётся до меня, не простит, что я не выполнила его волю, и тогда подбросила младенца на порог роддома…
Увидев, с каким выражением лица к ней приближается Василий, Виолетта с криком:
– Убивают, – споткнувшись, растянулась на пороге; несмотря на всю свою крупногабаритную фигуру, быстро вскочила на ноги и выбежала из магазина, сверкая разбитыми коленками, побежала по улице, не разбирая дороги, с нарастающим запоздалым гневом, грозя кулаком и матерясь.
Конечно, Василий после предпринял поиски сына, но они не увенчались успехом. Ещё не раз он пытался вытрясти из Виолетты местонахождение роддома, но она как ни напрягала свою птичью память – вспомнить не смогла…
С тех пор она время от времени заискивающе заглядывала в глаза дочери, пытаясь понять, как ей себя вести и надо ли опасаться гнева Василия, опекающего Жанну.
Но вернёмся в настоящее: только один посетитель, но уже довольный своей покупкой, задержался в магазине, пережидая дождь. Следуя законам гостеприимства, Василий не торопился распрощаться с ним, кроме того, ему захотелось свою радость и гордость за Жанну разделить со всем миром или хотя бы с этим запоздалым покупателем.
Жанна, весёлая, жизнерадостная, влетела в магазин.
– Ура-ура, – закричала она, бросив зонтик на кресло, кружась вдоль торговых прилавков и витрин.
Последний посетитель, свидетель этой сцены, посвящённый Василием в причину бури эмоций, поздравил девушку и с благодушной улыбкой покинул магазин.
– У меня для тебя есть сюрприз.
– Ура-ура, – вновь закричала Жанна и захлопала в ладоши.
Он подвёл её к зеркалу.
– Закрой глаза.
В зеркальном отражении она увидела жемчужину, аккуратно соприкоснувшуюся с её ярёмной ямочкой (ямочкой для жемчужины, – так говорил Василий) на грациозной шее; точно такую жемчужину, а в этом она была уверена, она видела в своих снах. Но почему она чёрного цвета?
– Спасибо, спасибо, это самая красивая, самая совершенная жемчужина в мире, – радуясь, воскликнула Жанна.
Василий был рад её эмоциям, тем более – зная о её сдержанности в проявлении чувств, понимал, насколько важен для неё этот день и, конечно, все те события, которые его сопровождают.
– Я хочу, чтобы сегодня этот символ высшей мудрости, чистоты, человеческой души, скрытой в нашей телесной оболочке, магическая сила жизни – эта жемчужина украшала тебя, – не сдерживая себя от патетики, сказал он.
Празднование окончания обучения они уже наметили на день официального получения диплома, а сегодня, откровенно предупредив о том Василия, Жанна хотела пойти в театр, причём в тот, где работал Женя звукорежиссёром, и удивить его своим внезапным появлением.
Василий знал о присутствии в жизни Жанны хорошего приятеля (так она называла Женю), с которым она проводила больше времени, чем с остальными, но не торопился знакомиться с ним:
«Когда сочтёт нужным, тогда и познакомит, она разумная девочка, глупостей не наделает», – рассуждал он.
Он искренне желал ей счастья и был рад, что на её шейке красуется жемчужина, частичка его возлюбленной Лиа.
Жанна обняла его и благодарно поцеловала в щёку, чего она не делала до этого никогда.
– Ну вот, не хватало мне ещё прослезиться…
– А знаешь, мне сегодня приснился странный сон, хочешь, расскажу?
– А ты разве не торопишься в театр?
– Время ещё есть, мне важно твоё мнение. Представь, – начала повествование Жанна, – я в центре города, ощущаю себя как в этаком мешке, сотканном из бетона асфальта и стекла. Без зелени и воздуха. Нестерпимо душно. Я задыхаюсь.
Мне хочется оказаться на природе, найти источник чистой святой воды, родник исполнения желаний. И мне чудится, если я выпью глоток такой воды, то все мои желания сбудутся. Во сне ведь возможно всё. Я заворачиваю за угол колоссального небоскрёба, и моему взгляду открывается огромное поле, заросшее высокой нескошенной травой. Замечаю неприметную тропинку, иду по ней, она приводит к холму, из которого бьёт этот источник со священной водой. К нему очень трудно подойти: вокруг скользкая глина, вода, я карабкаюсь на холм, несколько раз падаю, скатываюсь назад, но всё же, преодолев это восхождение, я протягиваю чашку к волшебной воде и наливаю до краёв, хотя вижу, что моя чашка не имеет дна, но вода из неё не выливается. Наливая, нужно загадать желание, которое обязательно сбудется, а я растерялась и не знаю, что же загадать первым и какое моё желание самое главное. И удивляюсь, почему я не могу сосредоточиться на одном желании. Потом я вижу, что держу в руке опустевшую чашку, и понимаю: ведь я эту чашку с собой не приносила, она откуда-то взялась у этого родника.
Может, дело не в воде, а в самой чашке. Тем временем к источнику вереницей потянулись люди, но у каждого из них была своя посуда для воды: пластиковые бутылки, чашки, стаканы… Почему-то мелькнула мысль, что вряд ли их желания сбудутся. Что ты скажешь на это?
– Что тебе сказать? Я же не толкователь снов.
– Ну попробуй, мне интересно.
– Возможно, подсознание – это чашка, которую ты обнаружила у родника. А вода – это истинное подсознательное желание. И если бы ты не колебалась с выбором желания и выпила бы эту воду, то тебе открылась бы правда логических жизненных закономерностей, внутренняя правда твоих желаний.
То есть желание – это не то, что ты думаешь, что желаешь в данный момент, например: деньги, машина, дом или ещё что-то, то есть результат сознательного выбора. А твоё желание – это то, что тебе предначертано судьбой, в чём твоё истинное благо, что тебе на самом деле надо и от чего тебе на самом деле будет хорошо… – попытался объяснить сон Василий.
– Мне понравилось твоя версия смысла моего сна. Ладно, я побежала… – взмахнув на прощание рукой, сказала Жанна.
4. Щели ящика Пандоры
Нонна, мать Александра, друга Василия, была очень привлекательной женщиной. Но была настолько скромна, что при проявлении явного интереса со стороны мужского пола к своей персоне замыкалась в себе и общалась скованно. Она так менялась, что мнения мужчин, которые были в ней заинтересованы как в женщине, и тех, для которых она была подругой без полового признака, настолько отличались, будто речь шла о разных людях. Но её скромность была исключительно защитной реакцией, это было своеобразное ожидание настоящей любви, любви необыкновенной, всепоглощающей. И случайные встречи и связи казались ей до жути пресными без романтических клятв в вечной и пылкой любви. Но как избежать некоего апробирования любовных взаимоотношений, в том числе и на физическом уровне, если мы сами в зоне этих чувственных перипетий и находимся?…
И в связи с этим даже умеренного, но всё же опыта проб и ошибок и такой высоконравственной женщине как Нонна избежать было невозможно. Пережитые, в очередной раз казавшиеся глубокими отношения, на самом деле явившиеся всего лишь очередным любовным приключением, естественно, хоть и привели Нонну к разочарованию в мужчинах, но всё же не смогли убить в ней ожидания желаемого чувства как чуда.
Оказавшись на пороге того возрастного периода, когда женщина начинает отчаянно переживать по поводу увядающей молодости, быстротечности жизни и несбывшихся иллюзий, она всё ещё наивно продолжала ждать подарка от жизни. Нонна, отмахиваясь от вуали возрастной дальнозоркости, стала дорожить даже отголосками непонятных, непохожих на настоящую любовь чувств, тем прошлым, которое единственно принадлежало только ей, раскачивая и балансируя лодку своих воспоминаний. Она стала более тщательно следить за своим внешним видом и не намеревалась совсем отказаться от ожидания счастья настоящей любви.
В один из августовских дней, казалось, не предвещавшем ничего выдающегося в жизни Нонны, она, гуляя по парку, вдыхая прощальный воздух уходящего лета, любовалась листьями, пытающимися удержаться на ветках жизни. Силы, покидавшие их с каждым днём приближающейся осени, не могли удержать и отпускали для последнего, самостоятельного полёта на ковёр земли из таких же собратьев, как и они. Грусти не было, а было настроение философского созерцания и умиротворения от логичности природной гармонии.
Карена она увидела во дворе своего дома: ей и в голову не могло прийти, что такой, с её точки зрения, красивый и, в её понимании, очень молодой человек может осуществить её надежды на женское счастье. Проходя мимо, она невольно залюбовалась его чёрными как смоль волосами, глазами, притягивающими и окутывающими своей тёмной магической поволокой, белозубой улыбкой и страстно раздувающимися ноздрями и как музыку восприняла звук его голоса, когда он вкрадчиво – с неярко выраженным акцентом – просто произнёс:
– Здравствуйте…
Сердце затрепетало непонятно отчего, и мелькнула бредовая мысль, что такой мужчина мог бы составить её женское счастье, будь она моложе.
– Уважаемая, – сказал Карен, – я приехал издалека, сейчас работаю в вашем городе, не можете мне подсказать – не сдаёт ли кто-нибудь комнату в вашем доме?
Такого совпадения Нонна и представить себе не могла. Так как после смерти мужа, а замужем она всё же, несмотря на своё стремление к идеальной любви, побывала, Нонна оставалась одна в двухкомнатной квартире и думала в скором времени кого-нибудь взять к себе на постой – не только ради денег, которые, как известно, никогда не бывают лишними, но и для компании. Она не чуралась людей и раньше, они с Костиком, так звали её покойного мужа, любили собирать у себя в доме шумные компании: играли в карты, лото, пели, танцевали…
Без преувеличения можно сказать, что замуж за него она вышла благодаря своим родителям. Нонночка была у них поздним ребёнком, и они очень не хотели, чтобы она столкнулась с проблемами позднего замужества, мечтая дожить до внуков. И когда их Нонночке, дипломированному библиотекарю, стукнуло 25 лет, этот возраст, по их представлениям, уже оставлял мало шансов на хорошее замужество.
– Так как, – рассуждали её родители, – хороших женихов уже разобрали, ну а плохие нам и самим не нужны.
Они решили действовать сами.
Родители, отдыхая в Сочи, случайно познакомились с её будущим мужем. Константин был вдовец, обладал необыкновенно покладистым характером и добродушным нравом. Они обратили на него внимание, потому что он положительно отличался от всей мужской публики в санатории. Его можно было увидеть сидящим на скамейке с книжкой в руках, на экскурсиях, не было случая, чтобы он, при отсутствии свободных мест, сидел в присутствии дамы, был всегда вежливым, опрятным.
Эти мелочи не ускользали от потенциально заинтересованных взглядов родителей Нонны и очень положительно его характеризовали. Но самым удивительным был случай, когда у семейной пары с ребёнком перевернулась лодка, Костик, не раздумывая, как был в одежде, прыгнул на выручку и спас малыша. И очень смущался, когда вечером в его честь был устроен праздничный ужин в столовой санатория.
Для Костика предложение родителей Нонны таким неестественным образом познакомиться с их дочерью сначала показалось странным, но чувство одиночества после смерти жены и нежелание обидеть отказом таких замечательных людей, как отец и мать Нонны, привело его к мысли, что ничего предосудительного в таком знакомстве нет. К тому же – его обуревало любопытство.
При встрече с Нонной он был наповал сражен её обаянием, непосредственностью и, конечно, внешней привлекательностью. Костик был настолько не в её вкусе, что у неё не возникло мысли рассматривать его в качестве поклонника, и она вела себя очень естественно, что быстро привело к тому, что он влюбился. Он начал за ней красиво ухаживать, и Нонна к нему привыкла и, по непонятным для неё самой причинам, даже согласилась выйти за него замуж.
Некоторая мотивация, конечно, была, но всё же – далёкая от тех, по которым женщины обычно выходят замуж.
Она выпорхнула из родительского гнезда в двухкомнатную квартиру Костика. Её, как написано в рукописи, которая не горит, не испортил квартирный вопрос, но самостоятельность очень привлекала Нонну, и она не упустила предоставленной возможности, хотя справедливости ради надо заметить – родителей она своих почитала.
С тех пор они жили с Константином душа в душу до самой его смерти, которая забрала его спокойно во сне после очередного посещения бани.
Нонна часто думала о том, что воспринимала его больше как подружку, чем мужа. Костик в ней души не чаял, и ему было достаточно тех проявлений чувств, которыми она его одаривала, абсолютно не догадываясь о том, что он не мужчина её мечты, а, может, даже и не понимая, что такие мечты могут посещать головку его Нонночки.
Самым близким человеком для Нонны была её подруга Катя. С ней они дружили с детства: ходили в одну группу в детском саду, в школе сидели за одной партой. Нонна была сильно привязана к подруге и могла ей доверить буквально всё, не боясь непонимания, зависти, лжи с её стороны. В общем, самая настоящая подруга в самом высоком смысле этого слова. После того как Нонна вышла замуж, они стали реже видеться. Нонна постоянно по ней скучала. Катя была весёлая, заводная и на раз-два могла развеять плохое настроение. Единственной причиной, по которой Костик иногда ворчал на Нонну, была та, что она безумно долго говорила с подругой по телефону.
Теперь, когда рядом с ней уже не было родителей, и мужа, с которым в супружестве было прожито более тридцати лет, она вечерами, которые казались особенно долгими, без близких, родных ей людей, перебирала, с чувством невероятной потери и тоски, фотографии, с которых они улыбались ей – Нонне, греясь теплом их любви к ней, сожалея о невозвратности того мироощущения, которое они давали ей своим присутствием.
Ведь только благодаря заботе её мужа Нонна выжила после того, как пропал без вести их сын Александр, уехавший, казалось, в безобидное путешествие с другом Василием и подругой Виолеттой, которая никогда ей не нравилась; но Нонна не вмешивалась в их отношения, для неё было главным, что сын счастлив рядом с этой девушкой. Очень долго Нонна надеялась, что Александр, как когда-то Василий и Виолетта, вернётся живым и невредимым. Она продолжительное время жила только этой надеждой, больше ничего её не интересовало в жизни, но постепенно стала проявляться глубина её несчастья: она то замыкалась в себе, переставая реагировать на происходящее вокруг, то подолгу сидела на одном месте, обхватив голову руками, раскачиваясь из стороны в сторону. Когда к ней обращались, она отвечала односложно или вообще не отвечала или же начинала автоматически неоднократно повторять услышанную фразу, заданный ей вопрос. Иногда впадала в восторженную экзальтацию, возбуждённо смеясь, утверждая, что она чувствует, что её сыночек Сашенька уже подходит к двери и сейчас она заключит его в свои объятья. Не получив желаемой встречи, она начинала подолгу с пафосом говорить, перемежая свою речь возвышенными, патетическими цитатами:
– Не может быть двух солнц на небе и двух владык на земле…
Состояние Нонны усугублялось, антидепрессанты не помогали, она отказывалась от пищи; тогда Константин и Катя, беспокоясь за её жизнь, в момент адекватного восприятия ею действительности, сумели убедить Нонну, что ей требуется лечение в клинике. Лечение прошло успешно, рецидивов не было, жизнь наладилась, чувство горя притупилось.
Но это было давно, и сейчас боль утраты не выбивала её психику из нормы, она всё ещё работала в библиотеке, много читала, общалась с соседями и своей любимой подругой.
– Могу я надеяться, – тем временем повторил свой вопрос Карен, – что вы мне поможете советом, подскажете, не сдаёт ли кто-нибудь квартиру или комнату здесь?
Нонна, стараясь не показать своего смущения, ответила, что она сама может сдать ему уютную комнату в своей квартире за небольшую плату. Лицо Карена выразило радость, смешанную с недоверием в такую быструю удачу.
Нонна выразила согласие на его заселение на следующий день, а сегодня она всё подготовит в комнате к его приезду.
– Милости просим, – добавила она.
И, конечно, первое, что она сделала, придя домой, это позвонила своей подруге Кате и, буквально захлебываясь словами, начала быстро рассказывать: как она увидела Карена, что в этот момент подумала и что он ей сказал.
Катю всегда удивляла доброта и наивность подруги, но она давно не слышала в её голосе столько воодушевления и не хотела её огорчать какими-либо критическими замечаниями, тем более что повода пока вроде бы для этого не было.
И когда Нонна спросила её: «Что ты обо всём этом думаешь?», Катя только попросила Нонну переписать данные паспорта её нового знакомого. Нонна пыталась возражать, но Катя ей сказала:
– Ничего в этом особенного нет, простая формальность, вот и всё.
– Катюха, – продолжала свою воодушевлённую речь Нонна, – что ты такое говоришь, если бы ты его видела, то у тебя бы мысли не возникло мне такое советовать.
– Ладно, ладно, успокойся, подруга, – сказала Катя, – от тебя не убудет, если ты посмотришь документы человека, с которым собираешься жить под одной крышей.
На следующее утро Карен пришёл к ней с вещами, которые вместились в компактную дорожную сумку. Нонна стала показывать ему его апартаменты.
Карен поставил сумку, бегло осмотрел комнату и, сказав, что вернётся вечером, заторопился на ближайший рынок, где торговал фруктами. Весь день Нонна суетилась у плиты, порхала по квартире как бабочка, удивляясь пришедшему ей на ум сравнению. Эмоции переполняли её, и желание встречи с Кареном выплескивалось в бурную фантазию по приготовлению блюд.
И ещё – в ожидании его с работы она поймала себя на мысли, что, если мечтам о том, что он хоть как-то откликнется на её женственный призыв, не суждено сбыться, то она готова заботиться о нём как о сыне. И удивилась себе: как можно вот так безоглядно привязаться к незнакомому мужчине, о существовании которого буквально день тому назад она даже не подозревала и о котором не знает практически ничего.
«Ладно, – успокаивала она себя, – в конце концов, я сделала доброе дело, помогла ему – дала кров». Нонна чувствовала, что даже от этого её жизнь наполняется новым, радужным смыслом.
Он пришёл с работы чистый и опрятный, Нонна про себя это отметила, с букетом гвоздик. Она отогнала от себя внезапно возникшее чувство тревоги, списав его на предвзятое отношение подруги Кати к её постояльцу, и поставила цветы в вазу. Пригласила Карена к столу, на котором его ожидал итог её суеты: ариса – армянское блюдо, рецепт которого нашла в книге по кулинарии, основными составляющими коего были курица и пшеничная крупа; тутовую водку Арцах Нонна не нашла и поставила на стол бутылку водки «Парламент», на этикетке было написано: «Очищена молоком», и именно это стало главным аргументом в выборе спиртного для столь торжественного случая.
Ей казалось, что теперь у Карена всё должно быть самым лучшим, по крайней мере – настолько, насколько это зависит от неё. За столом он говорил Нонне о своём одиночестве, о том, что за окном джунгли, и как важно, чтобы рядом был человек, который может выслушать, а главное – понять. Казалось, что взаимопонимание было обоюдным. После выпитой водки кровь быстрее и жарче потекла по жилам, и Нонночка, расчувствовавшись, незаметно для себя самой рассказала Карену буквально всё о своей жизни.
Они разговаривали до глубокой ночи. Карен был галантен, вежлив – вёл себя безукоризненно.
Надо отметить, что с момента появления Карена в жизни Нонны, он постоянно оказывал ей знаки внимания – будь то букетик цветов, коробка конфет, шоколадка и другие мелочи, которые для такой сентиментальной женщины как Нонна были чрезвычайно важны.
Она же в свою очередь делала всё, что в её силах, чтобы создать для него уют и особую семейную атмосферу. Иногда Нонна позволяла себе сходить с ним в кино или прогуляться по парку, хотя подозревала комичность того, как они, находясь рядом, выглядят со стороны. Кроме того, несмотря на возраст, боялась людской молвы или попросту сплетен, наверное, наивно полагая, что кому-то есть до неё дело. А когда встречалась с кем-нибудь из знакомых, то, поздоровавшись, опускала глаза и старалась как можно быстрее удалиться с места неожиданной встречи.
Как сказала бы Катя, ручей её жизни превращался в полноводную реку. Нонну всё устраивало, и даже такие отношения с Кареном доставляли ей истинную радость. Но всё же, конечно, она мечтала о чём-то большем и очень хотела знать, как к ней относится Карен на самом деле. То ей казалось, всё, что он делает для неё – это знак благодарности и признательности за предоставленное жильё и хорошее отношение к нему. А иногда казалось, что он как-то по-особенному на неё смотрит, вопреки её годам и почти увядшей женской привлекательности.
Всё его повседневное бытие было как на ладони, и ей казалось странным, что у такого мужчины нет никакой личной жизни. И вместо того, чтобы заняться поисками женщины, он предпочитает свободное время проводить с ней. Кроме того, время от времени как бы невзначай он опять возвращался к теме своего одиночества, томно смотрел Нонне в глаза, после чего она так млела, что её уже можно было «намазывать как масло на хлеб». Но Карен не «намазывал», а с грустным видом уходил к себе в комнату, изображая душевное смятение.
Так незаметно пролетела осень. Наступила очень морозная зима. Термометр зашкаливал за минус 35 градусов по Цельсию. В связи с морозами рынки были временно закрыты, и Карен много времени проводил с Нонной. Приближался Новый год. «Людей не переделать, – думала Нонна. – Очень странно, что все верят в то, что уж в Новом году их мечты непременно сбудутся. И жизнь точно переменится к лучшему, ведь живём-то мы будущим и думаем, что горести сегодняшнего дня временные, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное». Но всё же Нонна тоже ожидала новогоднего чуда, осознавая противоречивость своих мыслей.
Нонна думала, что на праздник Карен поедет на свою родину, но он сказал, что там его никто не ждёт, и, если она не возражает, то он составит ей компанию в новогоднюю ночь. Она была очень рада такому предложению.
31 декабря сели за стол примерно в 21.00 – проводить уходящий год. Стол ломился от яств. На нём было буквально всё, что в классическом варианте раньше во времена продуктовых заказов у уважающих себя людей было на праздничном столе: неизменное шампанское, красная икра и даже чёрная, сёмга, балык, колбаска сырокопчёная, шпроты, грибочки, свежие огурцы… и холодец, который Нонне удался на славу. Ну, а главным украшением стола был, конечно же, салат оливье. Нонна относилась к нему с таким же почтением, как к одноимённому артисту Лоуренсу Оливье, который восхищал её не только ролью адмирала Нельсона, но и тем, что был мужем «унесённой ветром» Вивьен Ли.
Карен и Нонна выпили за уходящий год. Карен говорил витиеватые тосты. Нонна чувствовала себя окрылённой, опьянённой тайной предстоящей ночи.
Она улучила минутку позвонить Катерине, с которой в последние годы они почти все праздники отмечали вместе.
– Я к тебе обязательно приеду через пару дней, Катюха, подруга ты моя дорогая, – обещала ей Нонна, – как я рада, что ты у меня есть. Ты не представляешь, как мне сейчас хорошо. Ты меня не осуждаешь?
– Не говори ерунды, – сказала Катя, – я приму любое твоё решение, главное, чтобы ты была счастлива или хотя бы чувствовала себя такой. Иначе для чего мы живём? А уж кому, когда и как суждено познать счастье – предугадать нельзя. С Новым годом, дорогая, счастья тебе, Нонночка!
Когда президент поздравлял по телевизору народ с Новым годом, Карен эффектно открыл бутылку шампанского и разлил его в красивые хрустальные фужеры на длинных ножках. И на самом деле Нонна давно уже не ощущала себя такой счастливой. Она опять чувствовала себя молодой, не хотела думать о разнице в возрасте, если это не смущает его, и он хочет её присутствия в его жизни, то почему она должна отказываться от счастья для себя и дать счастье Карену. Казалось, что всё подвластно её чувствам, все фантазии возможны. Шампанское ударило ей в голову…
Карен на неё пристально смотрел, и Нонна, как заворожённая, смотрела на него, в тёмную глубину его глаз, сердце её учащенно билось, и скрыть это никак не удавалось, потому что грудь предательски вздымалась как кузнечные меха. Кофточка на ней была гипюровая, прозрачная, красного цвета, и лицо уже тоже становилось пунцовым – и не только из-за коварного действия шампанского. Нонна не успела выбраться из этого полуобморочного состояния и даже не успела осознать и понять, как очутилась в крепких объятиях Карена и была бесцеремонно брошена на кровать. Сил и желания сопротивляться не было. Нонна сама лихорадочно стала расстёгивать его рубашку и брюки. Он же одним рывком задрал ей юбку и, придав её телу какую-то звериную позу, овладел ею. И после этого моментально заснул. Нонна боялась пошевелиться и вскоре тоже заснула.
Утром, открыв глаза, долго смотрела на спящего Карена. «Это ничего, что он вёл себя так грубо, совсем не так, как ей хотелось бы, – думала Нонна. – У него давно не было женщины – этим всё и объясняется». Карен открыл глаза и встретился с ней взглядом. Нонне показалось странным, что он, ничего не сказав, тут же сорвался с кровати как ошпаренный и бросился в ванную комнату. Звуки доносились странные, какие бывают при сильном отравлении. Что с ним случилось, чем она могла его таким накормить? Ведь ели вместе одно и то же.
Карен долго не выходил из ванны. «Надо его полечить», – подумала Нонна. Развела слабый раствор марганцовки и тихонько постучала в дверь. Карен открыл дверь и вышел, бодрый и улыбающийся.
– Вот и хорошо, что всё с тобой в порядке, – сказала Нонна.
Она думала, что Карен непременно захочет реабилитироваться за поведение ночью, недостойное, как ей казалось, такого мужчины как он. Ведь теперь ни Карену, ни Нонне не надо скрывать свои чувства, наверняка по её поцелуям и ласкам он понял, какой огонь страсти пылает в ней. Но Карен вёл себя как ни в чём не бывало, как будто никакой близости между ними не было. Нонна была очень удивлена и почему-то вспомнила Костика, который дорожил каждым её прикосновением и всегда хотел её ласк и поцелуев.
Снова накрыли на стол, Нонна, думая, что приободряет Карена, старалась словно ненароком коснуться его. На его лице от этих прикосновений появилась гримаса, истинный смысл которой она пока понять не могла.
После того как они сели за стол, Карен пил водку рюмку за рюмкой и, казалось, даже не пьянел, глаза его при этом как-то неестественно перебегали с предмета на предмет, каким-то образом ускользая от прямого взгляда Нонны.
«Ему определённо нельзя пить», – подумала Нонна.
Наконец глаза его затуманились, и её взгляд погрузился во взгляд властного зверя.
Её тело подалось Карену навстречу при первом призывном движении к ней.
Теперь вся процедура эротической сказки происходила настолько медленно, что при вчерашнем неудовлетворённом желании трепетной любви казалось, что это никогда не закончится. Нонна уже ничего не понимала, как воспринимать его действия, ведь при этом Карен не произнёс ни слова, а только молча двигал своим торсом с закрытыми глазами, что она даже успела вспомнить анекдот о том, как жена на брачном ложе смотрит безучастно вверх и думает: «А потолок-то побелить надо».
«Что-то я сделала не так, – думала Нонна, – если Карен расценил её поведение таким образом, что с ней можно вот так – без предварительных ласк, любовной прелюдии – совокупляться. Расценил её любовь к нему как простую готовность к таким прозаичным сексуальным утехам».
После таких мыслей предательские слёзы навернулись на глаза, и она, покинув поле сексуального разочарования, пошла «зализывать раны», вглядываясь в лица любимых людей из фотоальбома.
Так прошло около месяца. Поведение Карена в постели не менялось, а без предварительного алкогольного допинга он и не заходил к ней в комнату, прикрываясь разными причинами. Разочарование в ней росло, но было оно какое-то приглушённое. Нонна всё ещё чего-то ждала, на что-то надеялась, и теперь уже нашла утешительное объяснение для себя. Стараясь его оправдать, она с присущей ей наивностью думала, что он просто стесняется проявить свой бурный южный темперамент, боясь напугать её, или наоборот – природная скромность мешает ему быть самим собой. В этих догадках её бросало из крайности в крайность. Но, тем не менее, события набирали оборот.
Наступил женский праздник 8 Марта, спасибо за него Кларе Цеткин и Розе Люксембург.
Карен пришёл с огромным букетом чайных роз, Нонна сбилась со счёта, когда расставляла их в вазы. Карен взял её руку, она ощутила его вспотевшую ладонь.
«Что это он так волнуется», – пронеслось у неё в голове, и она молча ждала, что будет дальше.
– Нонна, – произнёс Карен, – я безумно счастлив оттого, что встретил тебя. Прошу, ничего не говори о своём возрасте. Это не имеет никакого значения, когда сердце мужчины целиком принадлежит одной женщине, когда только её он видит рядом с собой и не представляет себе жизни без неё…
Несмотря на то, что его поведение по ночам в постели с ней никак не вязалось с тем, что он сейчас говорил, Нонна хотела ему верить. Карен был очень красноречив, как-то, ей казалось, особенно убедителен, может, даже искренен:
«Чем чёрт не шутит?…»
Нонна не заставила себя долго уговаривать, и, когда он сказал: «Ты очень хорошая женщина, хозяйка, и я хочу всегда быть с тобой. Дорогая Нонна, будь моей женой», она покраснела, потом побледнела, но не смогла, ну не смогла ему отказать.
Нонна и не мечтала выйти замуж за Карена, но желание стать невестой было таким сладостным; наполнило её душу необыкновенным счастьем вернувшейся молодости… Свадьбу наметили справить через месяц, в домашней обстановке. Со стороны Нонны были только подружки её возраста и свидетельницей, конечно, подруга Катерина. А со стороны Карена, хоть он и жаловался на одиночество, приехало столько родственников, что столы пришлось выставлять в коридор. Нонна сняла со сберкнижки все свои сбережения и отдала их Карену, полагая, что он сам сможет лучше договориться о продуктах на рынке, где он работал, и обо всём другом.
Церемония бракосочетания прошла быстро и, несмотря на тщательные приготовления, немного скомкано, но Нонну это не огорчило, ведь она была с Кареном, а это самое главное. Никакие недоразумения этого дня она старалась попросту не замечать – и точка. Родственники Карена бурно общались между собой, не обращая на Нонну никакого внимания, как будто вовсе и не она была невестой, а кто-то другой. Она всё терпела и стойко сносила.
«Ничего, – думала Нонна, – пару дней можно потерпеть этих бесцеремонных людей, а потом всё пойдёт по-прежнему, нет – даже ещё лучше, чем было. Они с Кареном успеют насладиться своим счастьем и близостью друг друга».
Нонна не понимала, почему подруга Катя так грустна на её свадьбе, не радуется счастью вместе с ней, как это бывало прежде.
Прошёл второй день и третий, потом неделя и другая, а родственники Карена и не думали покидать её гостеприимный дом. Спали даже в ванной, на полу, где попало. Наконец, примерно через месяц, в квартире осталась лишь одна миловидная родственница по имени Майя. Карен сказал, что это его троюродная сестра, которая будет поступать в техникум. Он настаивал на том, чтобы она у них пожила, пока ей не дадут общежитие.
Нонна не хотела ничем омрачать своего «безоблачного» счастья и смирилась:
– Что ж, если ты так хочешь, – сказала она, – пусть поживёт, поможем девушке определиться в жизни.
Первое время после свадьбы ничего особенно не приносило ей огорчений. Казалось, переступив порог ЗАГСа, она надела огромные розовые очки, которые так преломляют действительность, что рассмотреть и понять, что же происходит в её жизни на самом деле, она не могла или не хотела. Нонна и Карен после свадьбы ещё ни разу не оставались наедине. И Нонна не замечала особого рвения со стороны Карена стать для неё настоящим мужем. Всегда рядом присутствовала его сестра Майя, которая была с Нонной неразговорчива и бросала на неё колючие взгляды исподлобья, от которых мурашки пробегали по коже. Ей становилось не по себе. «Но не навсегда же поселилась у них Майя, – успокаивала она себя. – Скоро она поступит в техникум, ей дадут место в общежитии, и вот тогда они с Кареном заживут по-человечески – как настоящие молодожёны, без посторонних глаз». Нонне всё же казалось странным, что Карен на словах уверяет её в своей страсти к ней, но не стремится на деле поскорее определить сестру куда-нибудь на отдельное местожительство. Потом она начинала обвинять себя в эгоизме, а о нём – думать как о заботливом брате для Майи.
Нонна, ради того чтобы всё время находиться рядом с Кареном, оставила работу в библиотеке, всё время проводила дома и совсем погрузилась в свои мысли и переживания о нём. Когда Карен уходил на работу, они с Майей оставались в квартире с глазу на глаз. Между ними стали происходить мелкие стычки. Нонну удивляло, что девушка бесцеремонно делает ей замечания в её собственном доме, переставляет мебель по-своему усмотрению, переключает программу по телевизору, когда Нонна смотрит свой любимый сериал, вообще ведёт себя как хозяйка, а не гостья.
Нонну всегда все в жизни любили. Ей везло на хороших людей. И она к своему преклонному возрасту не утратила детской наивности, не была злопамятна, хотя и не подставляла для удара другую щёку, но и не отвечала ударом на удар. Поэтому Нонна всячески избегала открытых конфликтов и ждала, что создавшаяся ситуация разрешится сама собой.
Весна вступила в свои права, стало тепло, и Нонна, во избежание ссор с родственницей Карена, очень много времени стала проводить на улице. К ней подсаживались соседки, и они судачили о том о сём. Свою личную жизнь Нонна старалась держать в секрете и, если её спрашивали о Карене, отмалчивалась или переводила разговор на другую тему.
Однажды она засиделась в гостях у подруги Кати дольше обычного. Уже сгустились сумерки, и она поймала себя на мысли, что не хочет возвращаться домой, и с этим непонятным ощущением тяжести на сердце поднялась на свой этаж. Дверь в одной из комнат была приоткрыта, она услышала доносившиеся из неё стоны. Она подумала, что Карену плохо, но то, что она увидела, ошеломило её настолько, что на некоторое время она потеряла дар речи. Обнажённые Карен и Майя лежали на кровати Нонны и с упоением, не замечая её прихода, занимались любовью. Когда Нонна, оправившись от шока, вышла на улицу, она не могла плакать и как рыба на берегу хватала ртом воздух, но его не хватало, как будто она оказалась на другой планете, где нет жизни. Нонна переночевала у соседки. Утром, не заходя домой, поехала на кладбище на могилу мужа. Там она дала волю слезам, поделилась с ним всем наболевшим, искренне веря в то, что он её слышит и не осуждает. Ей стало немного легче.
– Прости, Костик, что не ценила тебя по достоинству, как ты того заслуживал, – говорила Нонна, – поглаживая его фотографию на памятнике, – прости меня, глупую, за то, что так давно к тебе не приходила. Скоро лето, и я буду приходить чаще.
Когда она вернулась домой, Карен и Майя сидели за столом и как ни в чём не бывало пили чай. И если бы она сама не видела сцену их соития, то ни один свидетель, которому пришло бы в голову открыть ей глаза на истинное положение, не убедил бы её в том, что такое возможно. Нонна не смогла сдержать себя, стала плакать и упрекать Карена в измене. И с кем?! С сестрой!!!
– Я всё видела собственными глазами, – несколько раз повторила она.
Он рассмеялся ей в лицо.
– Это ей я изменял с тобой, старая карга. Майя и есть моя настоящая жена. Это даже хорошо, что ты так быстро всё узнала, а то меня выворачивало, как представлю, что мне надо с тобой в койку ложиться, да ещё при такой красавице жене. Тебя, бабка, никто не тронет, если будешь тише воды ниже травы, живи, только нам не мешай.
Теперь уже Майя вела себя как полноправная хозяйка квартиры и совсем не считалась с присутствием Нонны. Запрещала брать продукты из холодильника, ходить по квартире разрешала только в случае крайней необходимости, и не дай бог оказаться рядом с дверью, где они с Кареном отдыхают.
Нонна не хотела расстраивать Катю, но понимала, что если не получит от неё поддержки, то силы точно покинут её. И она позвонила подруге. И, запинаясь, всхлипывая, обливаясь слезами, рассказала ей всё о событиях последних дней.
– Он обозвал меня старой каргой, – жаловалась она Кате, – и теперь я уже многое понимаю в его поведении до нашей свадьбы и после, мне так стыдно, Катя. Почему это произошло со мной? Может, это я так цепляюсь за жизнь, мне же в душе всё ещё 17 лет. Что мне делать, Катя?
– Главное – успокойся, хорошо, хоть ты не успела его прописать в квартире, и всё открылось раньше; неизвестно, куда бы это тебя завело. Осталась бы ты на улице, а он бы поживал в твоей квартире и посмеивался бы над тобой. Надо обратиться к юристу, узнать, как добиться того, чтобы этот негодяй больше не портил тебе жизнь. Обещай мне завтра же сходить к Мироновой, я в своё время обращалась к ней – она классный адвокат. Она быстро восстановит справедливость, поставит этого Карена на место.
– Нет, Кать, ты не права, виновата во всём эта стерва Майка, это она его науськивала, учила, как ему себя вести, ведь ты знаешь, такая девка, если захочет, всего добьётся. Ты же видела её, это же чёрт в юбке – глаза колючие…
Нонна попросила адвоката Миронову поговорить с Кареном о том, чтобы он быстрее дал ей развод и выехал из квартиры. Она не держала на него зла, просто хотела, чтобы этот человек поскорее исчез из её жизни, корила себя за глупость, наивность и романтическую сентиментальность. И, смешно сказать, несмотря на доставленные переживания, Нонна продолжала оправдывать Карена и винить Майю.
Адвокат Миронова пришла рано утром, как договорились, мирно побеседовать с Кареном. Но не успела она переступить порог квартиры, как Карен занёс над их головами неизвестно откуда взявшийся топор и яростно заорал, что сейчас порешит и Нону, и адвоката, если они сейчас же не выметутся из квартиры. Он был ужасен: голос срывался, слюна брызгала изо рта, тело сотрясалось от ярости. Нонне было очень страшно, она и подумать не могла, что Карен так опасен, что он так безжалостен. Она оттеснила своим телом адвоката к выходу, буквально загородив её собой. Чудом удалось им вырваться и выбежать на улицу. Миронову била дрожь.
– Я это так не оставлю, – повторяла она, – Нонна, пишите заявление в суд. Он ещё пожалеет, что на свет родился. – Она ещё долго возмущалась. – Не откладывайте с заявлением, я завтра жду вас у себя. Я не хочу, чтобы этот тип подумал, что это ему сойдёт с рук.
Нонна, оставшись одна, не могла успокоиться, она долго брела в неизвестном направлении, и слёзы текли и текли из глаз.
Василий, после того как к нему обратилась Катя, прося помощи для Нонны, неизменно её опекал. Карен с Майей были выдворены с законных квадратных метров Нонны, и Карен понёс наказание за нападение на неё и адвоката. Но психологическое состояние Нонны вновь вступило в фазу когнитивного диссонанса, оно было очень критичным: пережитое потрясение вызвало давно забытые рецидивы в ещё более сложной форме. И, боясь за её жизнь, попытки суицида, Василий периодически определял мать своего друга в частную психиатрическую клинику с самыми комфортабельными условиями проживания и лучшим набором медикаментов и процедур, требуемых для лечения Нонны.
5. Пиратские замашки
Эндрю, уже окунувшийся в ситуацию, владеющий, как переводчик, её теоретической частью лучше меня, был готов к дальнейшему распутыванию клубка неожиданностей. Повстречавшись с ним у театра, я вкратце изложил ему содержание тетради, и мы направились к Василию.
Фасад здания ювелирного магазина был обращён к дороге с узким тротуаром. Окна-витрины и входная дверь были снаружи наглухо закрыты автоматическими ставнями. Никаких признаков движения внутри здания невозможно было уловить. Я набрал сотовый номер мобильного Василия. Он встретил нас с противоположной стороны, во дворе здания, частично огороженном высокой кованой оградой.
Очень пристальный взгляд Василия некоторое время не давал мне возможности не только изложить причину нашего визита, но и элементарно приветствовать его. Эндрю сгладил неловкую ситуацию, протянув ему руку для рукопожатия, представился сам, представил меня и выпалил без всяких обиняков:
– Жанну похитили.
Василий, предложив нам сесть на диван, сам опустился в кресло напротив нас. Было видно, что он сильно взволнован.
Я протянул ему тетрадь с его записями.
– Значит, мы быстрее поймём друг друга, – произнёс он, беря тетрадь из моих рук.
– Я знаю о случившемся и до сего момента делал всё возможное для вызволения Жанны.
Несколько дней назад я вернулся из Питера, куда ездил с проверкой филиалов магазинов фирмы. Обнаружил, что незваные визитёры проникли в здание магазина, изуродовали и разбили несколько витрин…
– А что, в магазине не установлена сигнализация? – перебил его Эндрю.
– Во всех филиалах установлена сигнализация, а здесь, я полагаю, она мне не нужна, – и, предупреждая вопрос, пояснил, – и вот почему…
По винтовой лестнице из ценных пород дерева (на что невозможно было не обратить внимания) мы поднялись на второй этаж.
Остановились у одной из дверей. За этой дверью оказалась ещё одна дверь из металла, открыв которую мы очутились в тропическом лесу, с тропическими растениями, деревьями, увитыми лианами, диковинными птицами; на одном из деревьев, расположенном в углу, было большое дупло, из него глазами настороженного охотника на нас смотрел зверь, похожий на кошку с массивной песчано-жёлтой головой. Подёрнув округлыми небольшими ушками, он выпрыгнул из дупла и потянулся, грациозно изогнув золотое полосато-пятнистое тело.
Василий потрепал зверя за ухом и сказал:
– Это мой друг – оцелот. Его зовут Куна. Основное время он живёт здесь, я стараюсь поддерживать микроклимат его родной среды обитания.
– Ну, как живёшь, Куна? – напрочь забыв о чувстве самосохранения, я повторил жест Василия – ласково потрепал оцелота по голове.
Овальные зрачки оцелота в тёмно-коричневой радужной оболочке обратились ко мне с полным спокойствием.
Василий с удивлением посмотрел на меня, перевёл взгляд на оцелота и, улыбнувшись, сказал:
– Вы второй человек, кроме меня, конечно, которому Куна позволяет дотрагиваться до себя.
– А кто же первый?
– Жанна…
– Когда я ненадолго отлучаюсь, Куна – полноправный хозяин территории, это его ареал. У визитёров не было шансов. Удивительно, что ещё вовремя унесли ноги. Но на следующий день ко мне явился шаман Вэле, если вы читали тетрадь, то понимаете, о ком я говорю, и сказал, что пираты, которые промышляют в тех краях, помогли ему добраться до России, выкрали Жанну и требуют за неё выкуп миллион долларов.
– Ко мне он тоже приходил, – сказал я, – и просил вернуть ему жемчужину.
– Вот именно. Я передал Вэле выкуп за Жанну, а он пришёл снова и стал утверждать, что этого оказывается недостаточно, и пираты требуют ещё и жемчужину. Потом Вэле передал мне карту, на которой указано место, куда я должен доставить жемчужину в обмен на Жанну. Путь неблизкий, скажу я вам, очень неблизкий… Но даже не это главное, а то, что я не знаю, где жемчужина. Дело в том, что я сам отдал её Жанне…
– Мы знаем, у кого жемчужина, надо идти в театр.
– Почему в театр?
– По дороге объясню. Только нужны деньги для выкупа…
– Выкупа?
– Ну, не выкупа… какой-нибудь эквивалент для обмена на жемчужину, деньги – товар, по Марксу, – неожиданно для самого себя закосноязычил я (какое-то размягчение мозгов от переживаний).
– Большая сумма? – его вопрос и моё объяснение по поводу выкупа прозвучали одновременно.
– Я думаю, что нет, но, сами понимаете, надо подстраховаться. Возьмите деньги и то, что сочтёте нужным для возможного обмена, а там разберёмся, – сказал я.
6. В любви – как на войне, все средства хороши
Анаида Адольфовна служила в театре. Она с детства мечтала стать актрисой и стала ею. И не просто стала, а была приглашена в труппу престижного столичного театра. Родители никакого отношения не имели к миру искусства и очень были удивлены её выбором, а главное – успехами в артистической карьере. У Анаиды было ещё две сестры и брат, и мать Анаиды всё своё время посвящала воспитанию детей и домашнему хозяйству; имея педагогическое образование, очень непродолжительное время работала воспитателем в детском саду. Отец очень любил свою безропотную жену и детей, старался, чтобы у них было всё не хуже других, работая водителем на большегрузных машинах без выходных и проходных. Мать, армянка по-национальности, назвала старшую дочь в честь её прабабушки – Анаида, а глава семьи, имеющий немецкие корни, наградил Анаиду отчеством Адольфовна.
Анаида умела ладить с людьми и обходить острые углы в общении с коллегами, сплетни и интриги – распространённое явление в театральной среде – каким-то волшебным образом не касались её. Взаимоотношения родителей служили для неё примером, пусть хлопотного, но полноценного семейного счастья, и она очень хотела быть женой такого же заботливого мужчины, каковым был её отец. Она и вышла замуж за человека, который предпочитал работать, осязая результат труда, а не витая в мире иллюзий. Её муж – Пётр, окончив техникум, работал мастером на заводе и был у руководства на хорошем счету. Ему очень нравилась его работа, он обладал явными организаторскими способностями, и его непререкаемый авторитет в первую очередь исходил от его колоссального трудолюбия. К тому же – не курил, а если выпивал, то не больше одной рюмки, да и то по праздникам. Анаида в театре оставалась успешной актрисой, но после замужества ощущение счастья для неё стало концентрироваться в муже. В ней произошла некая переоценка ценностей после встречи с ним. И если поставить на одну чашу весов триумф в театре с нескончаемыми криками «Браво», а на другую – вечер, проведённый в романтико-идиллической обстановке с её Петей, то перевес последнего будет очевиден.
И по прошествии даже нескольких лет брака она не накопила в себе раздражения против его храпа и любых других физиологических проявлений его организма.
Её не покидало желание всегда быть вместе с ним.
Он был её гордостью. Его забота о ней, помощь по хозяйству были предметом зависти кумушек в её ближайшем окружении, мужья которых считали ниже своего достоинства сделать и толику того, что делал Пётр. А приготовленный им горячий ужин поздним вечером после спектакля умилял её до слёз.
Чистоплотность у них была в чести, и Анаида, независимо от ненормированной загруженности в театре, считала своей первейшей обязанностью каждое утро обеспечить Петра чистой свежевыглаженной рубашкой и носками, пахнущими лавандой (это она переняла от мамы). Она стала воспринимать мужа как подарок судьбы и сама себе завидовала. Единственное, что порой смущало её – это его излишняя, по её мнению, молчаливость, но и этому она находила объяснение.
Она поняла, что ей достался клад, но «по-настоящему» распорядиться им не могла, потому что Пётр очень хотел детей, она тоже очень хотела детей, но в первую очередь не для себя, а для него, но никак не могла забеременеть. Она и в больницах лежала, и постоянно пробовала на себе всякие новые лекарства и методики, которые ей предлагали в институте репродукции и планировании семьи, но всё было напрасно. И ей казалось, что отсутствие детей и было той главной причиной его прогрессирующей молчаливости. Тяга и любовь к детям сгорали впустую, и нерастраченные отцовские чувства жгли его изнутри, и чем больше он становился накалённым изнутри, тем больше проявлялась его внешняя холодность и как следствие – молчаливость. Это было единственное горе для Анаиды, но оно было настолько огромным, что, казалось, ни одно другое переживание не сможет так сильно изматывать её душу. Она была уверена, что жизнь с Петром – это навсегда, что он такой положительный и порядочный и никогда не сможет ей изменить. Она дорожила им настолько, что будь это не так, она в душе его прощала заранее за все его прегрешения.
Анаида знала, что раньше в жизни Петра была большая любовь: он был со школьной скамьи влюблён в одноклассницу, но так и не решился признаться ей в своих чувствах. Ему казалось, что всё настолько очевидно, что только слепой не заметит, как он сохнет по этой девочке. Но шли годы, и никто ничего не замечал, а он так и не решился ей сказать о своей любви. А после школы она как-то быстро выскочила замуж за его друга. Он даже был свидетелем на их свадьбе.
Женившись на Анаиде, Пётр изредка встречался со своей школьной любовью и её мужем – своим другом, но почему-то никогда не брал её с собой к ним. Анаида знала, что в той семье есть дети: девочка и мальчик и что Пётр к ним очень привязан. Он часто покупал им игрушки, ходил с ними в зоопарк, на мультики… Она немного ревновала его к чужим детям, но не упрекала, полагая, что уж пусть он таким образом отдаёт свои нерастраченные чувства, чем копит в себе раздражение.
Но случилось так, что друг скоропостижно скончался от сердечного приступа. Это было очень неожиданно, так как на сердце он никогда не жаловался и практически никогда не болел, только перенёс операцию на аппендицит.
Примерно через полгода после смерти друга Петя заявил, что уходит, покидает её, что нашёл в себе силы открыть своё сердце любимой женщине.
– Любимой женщине, – стала причитать как под гипнозом Анаида, раньше никогда не позволявшая себе даже намёка на упрёки к нему, – а кто же тогда я – нелюбимая женщина, запасной аэродром что ли, на котором ты отсиживался 15 лет своей жизни?
Несмотря на то, что она эти слова произносила почти шёпотом, Пётр сказал:
– Прекрати истерику, – что тоже было не свойственно ему по отношению к ней.
Она на миг замолчала, удивлённо взглянув на него.
– А я кто, а я кто?… – как заведённая испорченная игрушка запричитала она снова.
И всё же, несмотря на её мольбы и уговоры, он ушёл. Взял только самое необходимое. Даже новый велюровый костюм, который они вместе покупали недавно для него, оставил Анаиде для продажи – на тот случай, если вдруг ей не будет хватать денег.
Мир померк…
Она стала видеть только белое и чёрное, не различая цветов, их полутонов и оттенков. Если Пётр звонил, чтобы узнать, не нуждается ли она в чём – это был светлый день, а все остальные дни без его звонков, без его голоса, запаха, без забот о нём – чёрные. Сплошная, закрытая грозовыми облаками действительность.
Однажды, примерно через год после ухода, Пётр пришёл к ней без предупреждения вечером, в субботу. Она была так рада, что не занята в спектакле в этот день, ей даже было страшно представить степень своих переживаний, если бы он пришёл, а её не оказалось дома. Анаида стала суетливо накрывать на стол. Заглядывала ему в глаза, пытаясь понять причину его столь внезапного прихода, но благоразумно решила, что лучше не накалять обстановку – захочет, сам скажет, что там у него стряслось с его любимой женщиной. Что могло такое случиться, почему ему пришлось искать убежище как загнанному зверю. А Анаида рада и такому его присутствию, она всё стерпит и простит, лишь бы он только не уходил.
Она постелила их брачную в прошлом постель, легла в ожидании…
Но Пётр сначала долго сидел на кухне, после она слышала, как он ещё дольше плескался под душем и вошёл на цыпочках, стараясь не шуметь, тихо лёг на диван, который ей даже в голову не пришло расстелить. «Мужик он, в конце концов, или нет, что ему – жалко полежать с ней рядом, немного приласкать, что она настолько ему противна», – такие мысли крутились в её голове. Напрасно она не сомкнула глаз всю ночь, он к ней не подошёл. За всё время пребывания у неё Пётр не пытался с ней поговорить по душам.
«Как так: она, твоя любимая женщина, может с тобой так обращаться, выгонять тебя, а ты всё равно стремишься к ней, как будто у неё мёдом намазано? Вон какой пришёл: носки не первой свежести, рубашка мятая, с засаленным воротничком, брюки не отутюжены. Раньше ты ценил аккуратность и был внимателен к своему внешнему виду. Теперь ты живёшь с женщиной, которой всё равно, во что и как ты одет, где ты, что с тобой. Она не может любить тебя, как люблю тебя я. Неужели для тебя уже не важен домашний уют, чистота, порядок во всём», – так думала Анаида, ворочаясь и вздыхая в своей одинокой постели. Потом она стала лихорадочно думать, что бы такое сделать, чтобы её соперница уж точно его не простила и не приняла больше никогда: надо, чтобы она узнала, что он был у меня. Петя сейчас не может понять, что с ней – с этой холодной, бездушной женщиной – он не может быть счастлив. Не нужен он ей так, как нужен ей Анаиде. Она ещё молода и хочет быть счастливой. Они с Петей возьмут из детдома ребёночка и заживут как прежде, даже ещё лучше: втроём, а может, даже вчетвером. Они сумеют вместе заработать достаточно денег, чтобы им хватало на питание, воспитание, образование двоих детей, а одного уж и подавно. Она, Анаида, готова для него – своего Пети – на всё. Она даже готова оставить театр и работать на такой работе, что даст больший материальный достаток.
Утром Пётр сказал, чтобы вечером она его не ждала: он возвращается к той женщине, которая для Анаиды остаётся непостижимой преградой к его сердцу. Она не стала спорить и умолять его, зная: если он что решил, его не свернуть с выбранного пути. Идея вкралась внезапно в её бедовую головушку: перерыв быстренько фотоснимки, она нашла своё небольшое фото, на котором она особенно хорошо получилась, и, улучив момент, сделав вид, что чистит ему обувь, положила под стельку его ботинка эту фотографию.
– Посмотрим, как воспримет такой подарочек твоя избранница! – с ненавистью к ней прошептала Анаида.
Пётр, видимо, предполагал прощальные слёзы и истерики и, когда их не последовало, облегчённо вздохнул и тихо произнёс:
– Вот и умница, всё понимаешь. Я позвоню. Если что будет нужно, не стесняйся обращаться ко мне.
Анаида опустила глаза, боясь показать своё замешательство и то, как тяжело даётся ей показное спокойствие в минуты расставания с ним.
Дверь за Петром закрылась, и уже не сдерживаемые слёзы полились по щекам, и громкий всхлип вырвался из груди. Несколько часов она пролежала без движения на диване. Её тело, казалось, жаждало вобрать остатки тепла его присутствия, которое она ощущала очень отчётливо, будто, как раньше, он обхватил её своими крепкими мужскими руками.
– За что, за что? – приговаривала она, всхлипывая, – я не понимаю, господи, верни мне его, верни мне мою жизнь.
Возгласы без ответа.
– Никто мне не поможет, надо действовать, что-то делать.
Отчаяние её было сильнее, чем даже тогда, когда он от неё уходил год назад, тогда оставалась надежда, что Пётр раскается и вернётся к ней, попросит прощения. А теперь, когда он ушёл вот так, не проявив к ней ни капли нежности, хотя бы в память о прожитых вместе годах, даже не попытался приблизиться к ней, немного успокоить, она стала понимать безнадёжность ожидания того, что он к ней вернётся.
«В любви – как на войне, все средства хороши, я ещё поборюсь за себя», – и, резко встав с дивана, решительно подошла к телефону и набрала номер своей соперницы.
Пётр ещё на работе, он никак не помешает Анаиде поговорить с ней.
– Алло, – услышала она на том конце провода женский голос.
Спазм сковал ей горло.
– Алло, алло, – повторил женский голос, потом Анаида услышала короткие гудки. Она перевела дух, набрала номер снова. Теперь уже на той стороне провода воцарилось молчание.
Анаида хриплым прерывающимся голосом проговорила:
– Меня зовут Анаида, я бывшая жена Петра.
– Я знаю, – услышала она в ответ.
– Петя два дня был у меня, и мы с ним спали в одной постели, и он любит меня по-прежнему, – выпалила она.
Опять на той стороне молчание.
Анаида не могла понять, какое впечатление произвели её слова и что за этим последует; она продолжала:
– Вы мне, наверное, не верите, но я вам докажу, что я говорю правду. Вы, когда он сегодня придёт с работы, отогните стельку на его левом ботинке, там вы увидите мою фотографию. Я думаю, это может доказать то, что он вам изменяет.
Она надеялась, что её хитрость возымеет то действие, на которое она рассчитывала. Но иллюзорный лучик надежды быстро померк.
Потому что Анаида услышала:
– Послушайте, я как женщина вас понимаю, более того – не осуждаю и не сержусь на вас, но я не меньше вашего люблю Петра и всегда любила, со школьной скамьи, просто так сложилась жизнь. Я не догадывалась о его чувствах, а женская гордость не давала мне открыться ему самой, и я вышла замуж по молодости и глупости. Но мне грех жаловаться на судьбу – мой покойный муж был человек замечательный, любящий меня и детей и хорошо заботящийся о нас. А то, что эти дни Пётр провёл у вас, я знаю, он мне всё рассказал. Прощайте, Анаида, желаю вам найти своё счастье, мне же оставьте моё.
И Анаида услышала короткие телефонные гудки, уносящие в недосягаемую даль её надежду любить и быть любимой.
Теперь, осознав невозможность возврата человека, который составлял смысл её жизни, находясь в подавленном настроении, заставляя себя ходить на репетиции и вообще чем-либо интересоваться в жизни, она стала обладательницей жемчужины, которая играет немаловажную роль для героев нашего повествования. И вот как это случилось: по окончанию генерального прогона спектакля, в котором впервые ей была предложена далеко не первостепенная роль, к Анаиде подошёл Глеб Максимилианович и, заговорщически улыбнувшись, сказал:
– Анаидочка, а что вы так грустны, могу с вами поспорить, что смогу развеять ваше плохое настроение.
Анаида, державшаяся изо всех сил на людях, при первых тёплых нотках в его голосе залилась горючими слезами.
Глеб Максимилианович, испугавшись произведённого эффекта, поторопился увести её от посторонних глаз.
Задача, стоявшая перед ним, была довольно прозаической: всего лишь пополнить финансовый бюджет, даже не свой, а ненаглядной Виолетты, продав, по её просьбе, жемчужину.
После такого возбуждённого восприятия обычных слов вежливости, он даже не знал, как приступить к самому предмету обращения к этой, как оказалось, сжатой в эмоциональную пружину женщине.
Тем не менее, он достал свой видавший виды носовой платок и развернул его, сделав доступной взгляду чёрную жемчужину. Анаида, уже устыдившись своей внезапной реакции на мнимое участие, посмотрела на жемчужину, потом удивлённо-вопросительно на человека, держащего её на этой тряпке, имевшей далёкое сходство с носовым платком, и, будто вспомнив свои артистические задатки, смахнула слёзы и, улыбнувшись, спросила:
– А что это за прелесть вы демонстрируете мне, Глеб Максимилианович?
«Кремень, а не женщина», – промелькнуло у него в голове.
– Это жемчужина, – ещё более вкрадчивым голосом сказал он.
– Я вижу, но почему вы мне её показываете?
– Анаида Адольфовна, голубушка, только такая прима как вы достойны носить такую жемчужину, кроме того, эта жемчужина не простая – она приносит удачу её владельцу.
– Так почему же вы хотите расстаться с такой уникальной вещицей, которая даже приносит удачу?
– А мне, знаете ли, она уже принесла удачу. А теперь я очень, с вашего позволения, скажу прямо, поиздержался… Но, кроме вас, любезная Анаида Адольфовна, никому не могу её предложить, только вы можете соответствовать ей, только вы…
Достав пудреницу, Анаида, взглянула в зеркало, лёгким движением провела спонжиком, сдобренным матовой пудрой, по лицу и, копируя вкрадчивый голос своего собеседника, сказала:
– А почему бы и нет, мой друг?
Не зная цены вещи, будешь рад и тому, что за неё выручишь.
Тем более чётких указаний сквозь невнятное хмельное бормотание по этому поводу он не получил.
– Аллилуйя! Цель достигнута!
Спрятав деньги, Глеб Максимилианович побежал домой – с отчётом о проведённой сделке.
Анаида Адольфовна немного отвлеклась от мрачных мыслей, размышляя о том, на чём лучше будет смотреться жемчужина: на бархотке или на цепочке красного, а возможно – и белого золота…
7. Стрелки на веках
Скорее, скорее в театр, скоро спектакль, а с меня, как помнится, никто обязанностей звукорежиссёра не снимал. Кровь из носа, а озвучку надо провести по всем правилам. По словам Глеба Максимилиановича, жемчужина у Анаиды Адольфовны – актрисы нашего театра, а она занята в сегодняшнем вечернем спектакле.
Дороги были свободны от каждодневных, надоевших, изнурительных автомобильных пробок, Василий гнал свой джип на хорошей скорости, и мы промчались по городу как по волшебно открывшемуся свободному пространству, или мои мысли были настолько отрешёнными в тот момент, что самого времени, проведённого в пути, я будто не за метил.
К счастью, актриса уже была в гримёрке и готовилась к спектаклю. Нам не надо было метаться по городу в поисках новой владелицы жемчужины. Вот она – так же, как это делала из спектакля в спектакль, – рисует себе лицо, надевает личину сходства с персонажем очередного представления. Сидя перед зеркалом, Анаида Адольфовна чертила себе стрелки на веках.
Было видно, она смущена нашим настойчивым желанием увидеть её немедленно.
– Что случилось? – отложив карандаш, с выражением досады на лице обратилась больше ко мне, чем к моим спутникам.
– Не пугайтесь, Анаида Адольфовна, у меня к вам только один вопрос, вернее два, но начнём с первого, – неожиданно для себя взволновавшись, начиная путаться в словах, указывая на жемчужину, лежащую на её туалетном столике рядом с париком, я спросил, – откуда у вас вот эта жемчужина?
– Ах, эта?! Не правда ли, она прекрасна?!
– Она бесподобна, но это – та жемчужина, что вы приобрели у Глеба Максимилиановича?
– Это жемчужина Лиа, – сказал Василий, исключая всякие сомнения на этот счёт.
«Я тоже узнал жемчужину», – пронеслось у меня в голове, но не вырвалось вслух.
– Это моя жемчужина, – надула губки актриса.
– Дело в том, – сказал я, – что Глеб Максимилианович передал вам жемчужину, которая не является его собственностью. А настоящие владельцы требуют её возвратить.
– Очень жаль, – её глаза неожиданно наполнились слезами. – Он мне продал жемчужину, сказав, что она наделена редким свойством – приносить удачу, и это истинно так, я в этом убедилась, так как сразу, как я её приобрела, мне обещали главную роль в новом спектакле, и даже, мне кажется, в моей личной жизни наметились положительные перемены, – смущённо смахнув слезу, сказала она.
– Я… Мы очень сожалеем. Если не секрет, какую сумму вы заплатили за жемчужину?
Анаида Адольфовна схватила жемчужину со стола, сжав её в руке, поднесла руку к сердцу.
– Мы понимаем, вы к ней привязались, вам жаль с ней расставаться, но, может, вот это послужит для вас утешением? – сказал Василий, положив на столик вместо одной жемчужины целое ожерелье из крупного морского жемчуга. Оно было сказочно прекрасно.
Глаза актрисы выразили кратковременное недоумение, а потом засияли восторженным блеском. Она разжала пальцы и протянула жемчужину Василию.
Договорившись с Василием, что сразу после спектакля я приеду к нему, обменявшись прощальным рукопожатием с Эндрю, я побежал в аппаратную – готовиться к спектаклю.
8. И что теперь.?…
События развивались стремительно, не было времени задуматься и до конца осознать ту резкую перемену, что произошла в моей жизни.
Кто я? Каково моё происхождение?
Совсем не давно это не вызывало во мне никаких сомнений: я считал, что я потомственный – пусть не музыкант, но человек, имеющий именно такие корни.
Оказывается, от меня держали в секрете очень многое, но имею ли я право копить в себе возмущение на этот счёт?
Ведь мне не раскрывали всех тайн исключительно из любви ко мне, и это бесспорно…
И что теперь? Как мне называть Василия? Ведь теперь стало ясно, что он мой отец, и фигурка нучу, которая хранила тайну моего происхождения и была моей спутницей с момента моего рождения, переданная моим приёмным родителям, – одно из подтверждений этого. Он мой отец, а Лиа – моя мать, и я наполовину индеец… Просто фантастика…
Мысли как муравьи в муравейнике отчаянно копошились в моём мозгу, но определённость не приходила.
По окончанию спектакля Василий ожидал меня не дома, как мы изначально договаривались, а сразу при выходе из театра.
Если час назад я был сосредоточен на работе, собран и не позволял довлеть над собой паническим мыслям относительно Жанны и всех волнующих драматических событий последних дней, то, увидев своего кровного отца, понимая, какие чувства его обуревают, поддался захлестнувшему меня волнению, и мы бросились друг к другу в едином родственном порыве.
Мы стояли, обнявшись, и плакали, слёзы счастья текли по лицу моего отца, и слёзы постижения всего происходящего и ответного счастья текли из моих глаз…
9. Игорь Николаевич и Ольга Георгиевна
Игорь Николаевич был скрипачом Большого театра, происходил из семьи потомственных музыкантов. С детства был окружён талантливыми творческими людьми и игре в футбол предпочитал скрипку; заставлять играть гаммы, оттачивая мастерство музыканта, его не приходилось. Любящие своё чадо отец и мать Игоря мечтали, что он достигнет небывалых высот в мире музыки и для достижения своей мечты делали всё, от них зависящее. Он воздавал им сторицей: побеждал во всех конкурсах, в которых принимал участие, и никто, знавший его, не сомневался: этого мальчика ждёт великое будущее. Игорь был необыкновенно привязан к своим родителям, и смерть матери, пришедшаяся на время его поступления на первый курс Консерватории, очень тяжело повлияла на него. Отец не был суров с ним, но Игорь, обладая мягким, чувствительным от природы характером, нуждающимся в теплоте и нежности, очень долго закалял свою душу, приучаясь жить без той важной составляющей поддержки в жизни, которую могла дать ему только мать. И, как оказалось, это играло наиважнейшую роль в его трудоспособности и желании играть на скрипке.
Кроме того, ему, пареньку, приехавшему из провинции, пришлось ещё привыкать к столице, к присущему только ей стремительному ритму жизни. Ему довелось жить в одной комнате общежития с одним из скрипачей, который впоследствии приобрёл мировую известность. Сам Игорь в память о матери, которая верила в его необыкновенное будущее, добросовестно учился, но звёзды, которые он хватал с небес ранее, уже не светили ему тем светом, какой присущ людям, развивающим свой талант в гений виртуозности, всепоглощающего, божественного звучания, рождающегося из-под пальцев и души человеческой. Ему необходима была чуткость, эмоциональная защита от внешнего грубого мира, и поиск душевного комфорта подстегнул его к ранней женитьбе.
Девушка, повстречавшаяся на его пути, очень походила внешне на его мать, да и внутренние качества соответствовали представлениям Игоря о семейном счастье. Но на пути его профессионального развития возникли препятствия другого свойства, которые возникают в семейной жизни; в первую очередь – это обязательства, чувство ответственности за жену и детей, а у него уже через год после свадьбы родилась дочь, в которой он души не чаял.
Так Игорь из подающего большие надежды музыканта стал, не поворачивается язык сказать это слово, посредственностью, обычным ремесленником своего дела. Честолюбие его от этого не страдало: он благодарил судьбу, что она связала его с музыкой и пересекла их судьбы с женой. И до сорока лет он чувствовал себя вполне счастливым человеком. Но внезапно от кровоизлияния в мозг умер его отец; не успев окрепнуть от этого несчастья, его чувствительная натура получила новый удар – от гриппа, принесённого из-за океанских берегов, умерла его жена. От депрессии спасала работа и ещё раз работа. Дочь была достаточно взрослая, самостоятельная и жила с мужем отдельно от него.
Среди музыкантов в его окружении было много женщин, с которыми он поддерживал дружеские, в большей мере основанные на профессиональной почве отношения. Ещё до горестных событий в его жизни, будучи связанным узами брака, многим из них он нравился, но, являясь в нравственном плане совершенно чистым человеком, он никогда себе не позволял даже намёка на адюльтер и никогда не поддерживал никоим образом женского внимания к своей персоне.
Одной из этих женщин была флейтистка Ольга Георгиевна, происходящая из очень знаменитой семьи музыкантов, родословная которых уходила своими корнями к Рюриковичам. Эта биографическая особенность в годы взросления и освоения музыкальным инструментом имела для Ольги особое стимулирующее значение, для стремления во всём быть первой, о чём, опять же, мечтали её родители, иногда напоминая дочери о своей родоначальной фамильной принадлежности. Отучившись в ЦМШ, Консерватории, она, благодаря усердию и связям, вошла в состав музыкантов симфонического оркестра Большого театра. Пусть не в первый, а пока только во второй состав, но это соответствовало её амбициям, которые со временем стали носить умеренный характер, а к годам тридцати пяти покинули первый план и уступили место амбициям самоутверждения в роли жены и матери.
Игорь Николаевич был очень мил её сердцу, и она была вхожа в его семью – как друг и коллега по службе. Его жена с большой теплотой относилась к Ольге Георгиевне и просила её следить за тем, как он питается и не оставлять его при решении бытовых проблем, возникающих при выездах с театром на гастроли. Поэтому, когда Игорь Николаевич впал в уныние после кончины жены, Ольга Георгиевна старалась быть всегда рядом, и в её лице он нашёл хорошего друга, помощницу, а впоследствии и жену. Но в этом качестве он смог её воспринять только через пять лет одиночества; а Ольга Георгиевна, что-то однажды для себя решившая, не могла свернуть с намеченного пути, тем более что за прошедшие пять лет был в её жизни лишь один кратковременный роман, да и то с поклонником, как она считала, недостаточно подходящим ей по статусу, и ненавязчиво вела его к своей цели.
Дочь Игоря Николаевича родила ему внучку, а Ольга Георгиевна разгоняла тоску и грусть своим дружеским участием. И время, выдавшее свою порцию лекарств для лечения душевных ран, примирило его с нынешним течением жизни. Но такое положение вещей стало не совсем устраивать Ольгу. Женские биологические часы обогнали её достижение цели – замужество. Все попытки забеременеть, причём не объявленные супругу, не увенчались успехом, и она, вполне владея стратегическим опытом подведения желаний нужного ей человека к своим желаниям, стала гнуть важную для неё жизненную линию – усыновления мальчика. Почему именно мальчика, она для себя и сама бы не объяснила, но вслух аргументировала тем, что у него есть дочь, есть внучка, для разнообразия не хватает мальчика, а ей всё едино, главное ощутить радость материнства.
Соблюдя все нужные формальности, предусмотренные для усыновления при обращении в районные органы опеки, Ольга Георгиевна и Игорь Николаевич стали законными родителями Евгения, так они назвали усыновлённого мальчика.
Но надо отметить одну немаловажную деталь: полугодовалый младенец, внешне походивший на ангела – голубоглазый, светловолосый, совершенно не имел внешнего сходства с приёмными родителями, ярко выраженными брюнетами с карими глазами. Но это ничуть не смущало Ольгу Георгиевну: когда она, впервые увидев малыша, склонилась над его кроваткой, он улыбнулся и протянул ей ручки, что произвело на неё ошеломляющее впечатление; и если ранее, рассуждая о возрасте ребёнка, будущие родители сходились во мнении, что он не должен быть моложе хотя бы года, то сейчас все связанные с этим опасения были забыты, и Ольга Георгиевна уже никого не могла представить на месте этого ребёнка, названного ею в честь своего деда – Евгением.
Ей пришлось, конечно, глобально «пересмотреть» расписание своего присутствия в оркестре на репетициях и выступлениях. Пришлось прибегнуть к помощи няни, в последствии – к репетиторству и преподаванию в районной музыкальной школе, но она ни разу не пожалела о том, что стала этому ребёнку матерью.
Евгений не знал правды своего рождения, обожал мать и отца и был совершенно счастлив, имея таких талантливых и заботливых родителей, как Ольга Георгиевна и Игорь Николаевич.
По первой же просьбе Василия Женя познакомил его с этими замечательными людьми. Как будут развиваться их дальнейшие взаимоотношения, покажет время…
10. Лодка, отданная воле волн…
Василий, мысленно путешествуя во времени, воссоединяясь со своей возлюбленной, вновь и вновь спрашивал себя: можно ли было избежать гибели Лиа?…
И не находил ответа.
Если бы он успел вернуться к её соплеменникам, когда она, подарив ему сына, лежала на дне пироги, истекая кровью, часто дыша, всё повторяя в бреду его имя?
Может, они спасли бы её, пусть ценой его жизни, он и сейчас готов отдать себя без остатка за эту иллюзию. Долгие годы он жил под гнётом обмана Виолетты, всё же доплывшей на плоту до шхуны в то роковое утро, что малыш погиб.
Судьба свела Василия с дочерью Виолетты – Жанной, а последующая встреча с самой Виолеттой дала крупицу надежды на то, что его сын жив. С её слов (и в них несложно поверить), шаман Вэле угрожал ей расправой, если она не избавится от младенца.
Потом его дух преследовал её во снах и диктовал свою волю. Но счастье, что в ней оставались крупицы сострадания, и она не взяла грех на душу, а только лишь подбросила малыша к роддому, скрыв от измученного страданиями от потери Лиа, душевных и телесных ран Василия правду о сыне, когда он, вернувшись на родную землю, разыскивал его.
Своё спасение он расценивал как настоящее чудо. Долго, очень долго лодка, отданная воле волн, плавала с двумя их прижавшимися друг к другу телами – бездыханным телом Лиа и его, Василия, не желавшего проститься с ней…
Очнулся он на судне королевства Испании.
Он пытался узнать подробности своего спасения, и ему было странно слышать, что в лодке, замеченной далеко от суши, он был без сознания и в полном одиночестве. Организм его был обезвожен… он долго болел…
Но, видимо, не совсем в одиночестве: котёнок оцелота, который стал любимцем команды на судне, будил его по утрам, облизывая лицо своим шершавым языком.
Окончательно он вырвался из лап смерти благодаря своей матери, которая, за то время, когда он, как и его друг Александр, считался погибшим в результате кораблекрушения, похоронила мужа – отца Василия, сердце которого не выдержало известия о сыне. Но, по непонятным причинам, поставив на ноги сына, и сама ушла из жизни, угасла как свеча.
А Василия, самого себя заклеймившего обвинениями в гибели близких ему людей, всё ещё что-то держало в жизни.
Казалось, что это Лиа продолжает и после своей смерти помогать ему, направлять его туда, где он получит поддержку и избежит неверного шага. Даёт ему понять, что кому-то его жизнь, его забота всё ещё необходимы.
Василий долго раздумывал, прежде чем внял настоятельным просьбам Евгения, как две капли воды похожего на Лиа, взять его с собой. Аргументы его были очень весомы: он хотел побывать на родине Лиа – своей матери, он хотел скорее освободить и увидеть Жанну, он хотел вместе с ним – своим отцом – пережить его встречу с прошлым, уберечь его, ещё сам не понимая, отчего и, возможно, таким образом понять свою миссию в этой истории.
Василий очень боялся за сына и в то же время, после того как он его обрёл, не мог с ним расстаться.
И вот они, следуя карте пиратов, используя самый быстрый способ передвижения – самолёт, возможно, уже через двадцать часов прибудут туда, куда их ведёт десница судьбы.
11. Мера ответственности
Что я знал о пиратах? Да ничего не знал. Книгу «Остров сокровищ» – и ту прочитал в своё время, обучаясь технике быстрочтения. А тут – вот они, реальные люди, одержимые своей целью.
А какая цель у пирата? Цель пирата – это нажива. Зло – это нравственный инструмент для достижения цели. Инструмент может выйти из-под контроля. Тогда и сам его производитель может пострадать и прийти к безысходности, в тупик. Это я уже о шамане Вэле.
– Представь себе живущее изолированно племя, – рассуждал Эндрю перед самым моим отъездом на поиски Жанны, – которое свято верит в своё великое предназначение, верит в то, что боги сделали их своими наместниками на Матери Земле, в нашем случае – защитниками покровителями «Сеньоры Большая Голубая Жемчужина» и доверили им реликвию, талисман – жемчужину, олицетворение Матери Земли, при помощи которой они могут общаться с богами и просить у них защиты и вести себя в соответствии с их наставлениями.
Для племени жемчужина – это реликвия, почитаемая вещь, образно – поэтическая, относящаяся к народной мифологии племени, а в их представлении – и всего человечества. А, представь, что для них боги и «Сеньора Большая Голубая Жемчужина» едины, а жемчужина, в их представлении, обладает чудодейственной силой и является главной связью времён прошлого и настоящего от сотворения мира, для них это больше, чем для нас, например, Копьё Судьбы. Эта культовая жемчужина – символ их процветания во всех делах: хороший урожай, удачная охота, защита от наводнения, болезней, врагов, их вера в будущее.
Почитая и оберегая жемчужину, они слышат через неё богов, говорящих устами хранителя жемчужины, проводника между ними и богами.
При помощи жемчужины нельзя совершать зло, она чернеет, она обладает свойством показать истинное лицо каждого.
Племя утратило свою жемчужину, но почему? Да потому что она не может служить злу, и тот, кто пытался через неё совершить зло, обратил его на себя. Его душа, душа шамана Вэле во время прерванного обряда на уничтожение Василия, то есть твоего отца, никак не привыкну, при помощи его покровителя – животного оцелота и жемчужины – переместилась в оцелота, и он сам превратился в бездушную телесную оболочку. И вот уже на протяжении многих лет его телесная оболочка стремится воссоединиться со своей душой и вернуть свой лекарский дар, вернуть уважение к себе.
Но силой и хитростью ничего добиться нельзя, жемчужина не станет делиться своей чудодейственной силой с недостойными.
Истинная история похищения Жанны подтверждала все риторические рассуждения Эндрю, в первую очередь – он был прав в том, что коварство не может способствовать достижению цели.
Ещё оказалось, что исчезновение Жанны – это проделки шамана, обещавшего пиратам большой куш за её похищение: увидев жемчужину на шее Жанны, он хотел любыми способами её заполучить: подговорил пиратов, а сам, прикинувшись невинной овцой, явился к Василию с требованием от пиратов выкупа. Василий, зная гнусную природу шамана Вэле, всё же не мог заподозрить его в обмане, ведь на момент похищения он уже знал, что Жанна его дочь. У него притупилась бдительность вдали от языческих понятий, в которые он был посвящён, находясь в племени с Лиа, в частности – отношение шамана да и всего племени к детям-полукровкам. Но в момент похищения жемчужины у Жанны не оказалось; и этот коварный тип решил не освобождать её, увезти с помощью пиратов далеко, подсунув карту места доставки жемчужины Василию, убедив его в том, что это не он, а пираты требуют в обмен на её жизнь, кроме денег, ещё и жемчужину.
– Жемчужина сильна только с людьми доверенными, – говорил тогда Эндрю, – людьми с чистыми помыслами, которые слышат правду богов, избранных ими, какой была Лиа, а теперь и ты – её сын. Жемчужина была заперта в сейфе, твой отец не знал о её свойствах, он же европейский человек, он хранил её как память о любимой.
– Не хочешь ли ты сказать, что в гиперболическом смысле, являясь сыном избранной богами Лиа, я также и сам могу являться хранителем жемчужины и проводником между богами, «Сеньорой Большая Голубая Жемчужина» и человечеством?…
И что же мне теперь делать?… Уже не первый раз спрашиваю я себя…
– А теперь спроецируй философию отдельно взятого племени на всё человечество, – добавил Эндрю. – Возможно, ты обладаешь какими-то силами, о которых не догадываешься… Может, ты в рамках нашего понимания мироустройства – экстрасенс, и твои предки лучше тебя знают о твоих способностях использовать магические атрибуты, то есть эту жемчужину, для усиления собственных проводимых качеств.
– Не делай меня ответственным за всю планету.
– Каждый из нас за неё ответственен, только каждый по-своему понимает меру своей ответственности.
– Значит, я по твое теории, самый что ни на есть ответственный, я избранный, как и Лиа…
– По крайней мере, мне кажется, ты несёшь ответственность за возвращение жемчужины туда, где её ценят, почитают, а главное – она вновь дышит и омывается чистотой лазурного небесного океана, и каждый через неё станет чище и добрее…
– Но мы же цивилизованные люди, мы же не ставим нашу жизнь в зависимость от реликвий?
– Мы как угодно можем цепляться за объективность бытия… Но взаимосвязь крепка: кто кого наделяет магическими способностями – человек жемчужину? Или…
В масштабах человечества Земля – форма его бытия… Чем планета Земля наделяет человечество? Связь между ними на всех уровнях: на животном и духовном… и от любого человека зависит всё, и даже влияние одного на другого важно для всей вселенной в целом…
И ты сам ощутил на себе влияние жемчужины, ты же не можешь это отрицать…
Это что – результат воздействия каких-то шаманских штучек на тебя? Что это за субстанция, которая ввела тебя в такое состояние, и ты увидел изнанку человеческую; или она всё же на самом деле была продемонстрирована и стёрта из памяти тех, на кого воздействовала, кроме тебя! Потому что ты избранный и способен сам разобраться во всей этой чехарде.
– Но ты упустил одну очень важную деталь, – сказал я ему, тоже напрочь забыв о том, что племя Лиа соблюдает закон – закон чистоты крови своих потомков, а я как раз случайно выживший результат преступления этого закона, – я не чистокровный индеец племени, которое следует велению богов от «начала всех начал»…
12. На краю света
Как странно устроен мир… Мне кажется, я лечу на край света, но, если считать, что родина – это место, где ты родился, то я лечу на родину, именно там произошёл момент моего рождения. Но это вопрос из разряда дискуссионных, неразрешимо спорных, очень зависящих от конкретных людей и конкретной ситуации. Так же, как и вопрос о родителях: родители – те, кто воспитали или те, кто тебя родили… кто?
Поудобней устроившись в кресле авиалайнера, стараясь хоть как-то настроиться на позитивный лад и не накручивать себя переживаниями о безопасности Жанны, я извлёк из рюкзака книгу с поэтическим названием «Жемчужный остров»; это вся литература, которую я второпях отыскал на тему жемчуга и тех мест, которые имеют отношение к карте пиратов, где предположительно находится Жанна.
Ну не фантастика ли то, что можно вот так лететь рядом с облаками и знать, что где-то живут люди, которые верят в деревянные фигурки, охраняющие от злых духов.
Какое сложное переплетение реального и мистического…
Я взглянул на Василия (его имя произносится мной спонтанно, независимо от решения называть или не называть его отцом и от моего отношения к нему… я надеюсь, время расставит всё по своим местам), в очередной раз отодвинувшего шторку в переноске для животных, из которой поблёскивали глаза его верного друга – оцелота Куна. Как он договорился о перевозке оцелота в салоне, в обход весовых норм для животных, принятых в авиакомпании, осталось для меня загадкой, и то, что он ни в какую не соглашался перевозить его в багажном отделении, достойно отдельного повествования. Василий поставил переноску на соседнее, специально предназначенное для пассажира – оцелота – кресло и прикрыл глаза.
Ещё я подумал о том, как может относиться человек к путешествиям по воде, пережив такую катастрофу, как Василий. Но, боюсь, совсем нам его не миновать: если на острова не летает воздушный транспорт, то велика вероятность нашего вступления на борт какого-нибудь плавающего по воде судна или даже пиратского корабля.
Каждый век имеет свои отличительные особенности. Каждый полон своих революций и катаклизмов. Но главным действующим лицом во всех событиях является, конечно, человек. Он сам – главный источник и двигатель прогресса и революционных новаций.
При столкновении интересов очень важно, чьи амбиции победят: того, кто хочет процветания для своей страны и народа, или того, кто печётся только о собственном честолюбии и авторитете, независимо от путей их достижения. Без участия человека не происходит ничего, и во всём хорошем и во всём плохом можно априори указать на человека. Человеческие пороки могут достигать невиданных размеров.
Люди, движущиеся к достижению своей цели под лозунгом: «Цель оправдывает средства», живут и сеют вокруг себя только зависть, злобу и ненависть. Они хотят достичь своей цели, и для них не существует преград морально-этического толка, у них стёрта грань между добром и злом. Добрые поступки высмеиваются как проявление человеческой слабости. Жадность, алчность – один из тех пороков, который, как ни странно, заставляет вертеться колесо жизни более интенсивно. Вот взять, к примеру, жемчуг: сколько необыкновенных преданий, исторических фактов связано с ним. Эпохи ренессанса и барокко… имеют начало и конец или хотя бы имеют относительные хронологические рамки, а эпоха жемчуга всё продолжается и продолжается. Эпоха жемчуга вечна; только она – то тихая, подобная спокойному ручейку, легко текущему и огибающему преграды забвения, то подобна огромной океанической волне, которая поднимается высоко над людскими желаниями и обрушивается к их ногам в надежде, что они с пониманием отнесутся к её уникальности, необыкновенным достоинствам и окружат своей человеческой любовью. И рождаются люди, которые в большей мере, чем остальные, чувствуют свою близость к жемчугу, свою животную связь с ним.
Книга изобиловала описаниями жемчуга, легендами, связанными с ним, и людьми, главными родоначальниками этих легенд.
Желание договориться со своей нервной системой привело к хаотичному чтению книги, перескакиванию от начальных страниц в конец, затем в середину, чтению по диагонали.
Таким образом, листая книгу, я узнал, что в далёком XVI веке, когда испанским конкистадором Васко Нуньес де Бальбоа были открыты Жемчужные острова в Панамском заливе, как раз в тоже самое время из глубин этого залива в Тихом океане была поднята жемчужина «La Peregrina», по-испански её название означает «пилигрим», или «странник», – большая грушевидная белая жемчужина, одна из самых известных жемчужин в мире. Была передана в дар королю Испании Фердинанду V. В 1554 году король Филипп II преподнёс жемчужину в качестве подарка своей невесте, королеве Англии Марии I Тюдор, известной как «Кровавая Мэри». Элизабет Тейлор получила её в подарок в День Святого Валентина от мужа Ричарда Бартона. В книге были красочные иллюстрации, на одной из которых было изображение самой жемчужины в ожерелье, где она занимает центральное место кулона в окружении бриллиантов, рубинов и жемчужин.
Цвет жемчуга зависит от типа воды и географического места, где живут жемчужницы. Для каждого бассейна характерен жемчуг своего оттенка. Жемчуг нежно-розового цвета добывают у берегов Индии, желтоватого – в прибрежных водах Шри-Ланки, коричнево-золотистого – у берегов Панамы; Мексика даёт красновато-коричневый и чёрный жемчуг, Япония – белый и светло-зеленоватый, Австралия – белый и серебристо-белый, у Багамских островов известен светло-розовый жемчуг, у Калифорнии – розовый, тёмно-коричневый и чёрный, в Персидском заливе – нежно-кремовый. Лучший чёрный жемчуг, в том числе культивированный (до 15 миллиметров в диаметре), поступает с Таити.
Отличить натуральный жемчуг от культивированного можно только с помощью рентгена – тогда будет видно использованное ядро. Но человеческий взгляд не обладает способностью проникать вглубь предметов, зато легко оценивает цвет, блеск и красоту жемчужин.
Если руководствоваться картой, которую вручил Василию шаман Вэле, интересующее нас индейское племя, согласно книге, проживает на архипелаге в прибрежных районах Панамы. Это один из крупных и самых замкнутых этносов Америки. В двадцатых годах двадцатого столетия они провозгласили свою независимую республику, свой флаг. Их автономия официально была признана правительством в середине этого же столетия. Пиктографическое письмо панамских индейцев считается некоторыми исследователями связующим звеном между письменными системами Центральной и Южной Америки.
Моя разыгравшаяся фантазия, проникающая сквозь щели иллюминатора, соприкоснулась с движущимся рядом с нашим лайнером воображаемым негативным чёрным облаком – воплощением энергии шамана Вэле. Я мысленно сжал облако до шара, уместившегося в моей руке, как я делал иногда с окружающим меня злом, плохим настроением, и бросил этот ком в чёрную дыру космического пространства и, казалось, услышал свист его полёта. И незримое чёрное облако, преследующее моё и не только моё биологическое поле в уютном чреве стальной птицы, действительно перестало давить. Наверное, Эндрю отчасти всё же был прав в отношении меня: возможно, я владею какими-то пока и для меня самого не ясными метафизическими способностями.
Аэропорт – конечная точка нашего почти двадцатичасового перелёта, оказался функционален и цивилизован.
Гипнотический взгляд шамана Вэле впился в нас своими сканирующими иглами, и мы с Василием, как две безвольные сомнамбулы, направились к нему (по крайней мере, в этом смысле за себя ручаюсь на 99,9 процентов).
Мы не сообщали никому ни о дне, ни о часе, ни способе нашего прибытия. Можно было предположить, что он встречал каждый рейс в ожидании нас, днюя и ночуя в аэропорту, или в копилку его уникальных способностей можно отнести и считывание наших действий на расстоянии.
Впоследствии, когда мне удавалось уловить его взгляд, в нём интерферировало подобострастие с яркими разрядами молний злости. Одежда на нём была точно такая же, в какой он приходил на «кастинг». Обменявшись скудными фразами приветствия (если таковыми их можно вообще назвать), молча мы отправились туда, где на причале мирно покачивалось на волнах пиратское судно. Пиратским его можно было назвать по сути, но внешних атрибутов в виде пиратского стяга «Весёлый Роджер» – чёрного полотнища с изображением человеческого черепа и двух скрещенных абордажных сабель, пирата с чёрной повязкой на глазу, бутылки рома в руках капитана Флинта, поскрипывающего протезом при ходьбе, Джона Сильвера с попугаем на плече, выкрикивающего: «Пиастры, пиастры, пиастры!», – не было и в помине.
– Где Жанна? – остановившись у трапа и наконец прервав молчание, спросил Василий, с трудом сдерживая эмоции.
На корабле Жанны не было, и, следовательно, не было необходимости подниматься на его борт, и Василий категорически отказался от предложенного морского вояжа. Воздушное судно местных авиалиний могло домчать нас к цели за двадцать минут, чем мы и воспользовались.
Я и раньше задавался вопросом: почему шаман Вэле столько лет ждал и ничего не предпринимал, чтобы вернуть реликвию – жемчужину – на землю свою обетованную?
Оказалось, в день исчезновения Лиа самого шамана Вэле нашли лежащим на полу хижины без движения, одетого в свою особую одежду для совершения обрядов. Он не подавал признаков жизни: ни на что не реагировал и, казалось, даже не дышал… только его сердце редкими ударами говорило о том, что он не отошёл в мир иной.
В медицине это состояние называется летаргическим сном. Помнится, у Эдгара По есть описания случаев летаргии.
А как это состояние обозначить применительно к шаманам, я определить не берусь.
В этом, скажем, анабиозе он пребывал долгих… получается – почти всю мою жизнь.
Возможно, состояние шамана Вэле оценивалось соплеменниками как путешествие в потусторонние миры, и, ухаживая за ним, они ожидали его возвращения, которое, как они полагали, было только в его власти. Очнувшись, он стал для индейцев ещё более значимым и могущественным.
Понять сейчас: слышал ли он, пребывая в этом своеобразном трансе, о том, что случилось с Лиа и жемчужиной из разговоров индейцев, находящихся рядом с ним, или узнал, когда вернулся к жизни, не представлялось возможным. Да это и неважно…
Главное – это сама жемчужина, по преданию племени, полученная от богов как уникальная защитная грамота, и решимость вернуть её, подкреплённая физическими возможностями: восстановленной гибкостью суставов, кровью, стремительно бегущей по жилам, окрепшими мышцами.
Тогда-то он и вступил в сговор с пиратами и отправился за тысячи километров, в дальние дали за жемчужиной.
Пока суть да дело (в наши планы совсем не входило выдерживать нашего оцелота в карантинном отделении на протяжении тридцати дней, как это принято для прибывших животных, и это препятствие было преодолено благодаря известным мерам воздействия на человеческую алчность), на острове мы очутились, когда начали сгущаться сумерки и на водной глади сквозь причудливые облака показалась закатно-солнечная дорожка.
Нас никто не встречал, а невдалеке слышалось нескончаемое печальное песнопение, на звук которого мы и отправились. Это была прощальная песнь по усопшему, исполнявшаяся несколько дней и ночей для отпугивания злых духов, песня-проводник индейцев в загробном мире.
В земле был вырыт склеп, в котором в подвешенном гамаке лежал усопший с вещами, фотографиями и всем тем, что было ему дорого при жизни, чтобы его душа не возвращалась за ними в мир живых. Рядом над такими же склепами были сооружены дома как для живых.
Насколько я понял, Вэле нас представил туристами, и, благодаря тому, что он нас сопровождал, нам удавалось посещать места, в которые мало кто допускался из людей, чуждых племени.
Жанны среди соплеменников шамана не было видно. Вэле обещал нам скорую встречу с ней. Нетрудно было понять, почему он не хотел знакомить Жанну с племенем. Суровые законы, запрещающие браки с иноземцами, боязнь потерять свой авторитет среди соплеменников, мягко говоря, не способствовали этому.
На ночлег нас с Василием разместили в традиционной в этих местах бамбуковой хижине с гамаками, подвешенными над земляным полом. Оцелот Куна с обоюдной настороженностью его к людям и людей к нему сопровождавший нас, не ограниченный переноской для животных, лёг у входа в хижину.
Утомлённый впечатлениями последних дней, желая сократить время ожидания встречи с Жанной, я улёгся в удобном (как ни странно) гамаке и моментально провалился в сон. Мне снилась девочка, одетая в блузу с яркой мифологической аппликацией, украшенная браслетами из пунцово-желтого бисера от локтя до запястья и от колена до щиколотки. Она протянула деревянную куклу – защитника от злых духов нучу – Василию (во сне она так была похожа на Лиа), а он снял с себя цепочку, на которой висел крест с распятием Иисуса Христа и протянул ей.
Я проснулся будто от толчка в самое сердце. На пороге стоял шаман Вэле и сверлил меня взглядом. Василий лежал в гамаке, глядел в сторону, противоположную от шамана, будто не замечая его присутствия. Вэле поставил на пол котелок с маисовой кашей. Оцелот не претендовал на нашу трапезу, видимо, его можно было поздравить с удачной ночной охотой.
За стенами хижины нас встретило нещадно палившее яркое тропическое солнце; невдалеке – в оазисе пальмовой рощицы – в ожидании нашего появления сидел шаман.
Жемчужина, надёжно спрятанная в подкладке одежды, до сих пор была у меня.
Как гостям шамана нам была оказана невиданная честь: нас пригласили на конгресс, возглавляемый вождём. Пос редине просторной хижины из неизменного бамбука висели гамаки, по периметру стен стояли скамейки. Я знал, что в этом условном сельсовете обсуждались различные назревшие бытовые проблемы племени: где лучше ловить рыбу, как выгоднее продать кокосовые орехи, решить семейные споры и споры между соседями.
Сегодня вождь, возлежащий в гамаке в центе помещения, изредка с видимым наслаждением затягивающийся труб кой, пел, освежая в памяти внимающих ему соплеменников, сидящих на скамейках, эпос индейцев, сказания о под вигах и жизни предков, их противостояние врагам; таков ритуал передачи истории и законов племени из поколения в поколение.
Нереальный мир проникал в меня, я срастался с ним и действительно становился его немаловажной частью.
Я пытался понять и запомнить то, что слышал, но каким-то непостижимым, удивительным образом у меня слагалась своя песня легенд, песня, которую я помню до сих пор:
Певец-индеец – птица Гамаюн — Для племени затеял песнь святую, Слова, вплетая в голос вечных струн — Преданий и легенд – нить кружевную: О Мать Земля, начало всех начал, Из чрева коего явилось всё живое, С Луной и Солнцем бог тебя венчал, Внезапно твердь твою покрыло море; Упало Древо жизни средь воды, Подточенное белками под корень, Из кроны древа веток и листвы (Вот и волна, я слышу, песне вторит) Возникли крокодилы, рыб не счесть, Гнездо-Земля нам птицы свили, А боги подарили эту весть, Посредника с богами объявили. Он учит жить и как себя вести, Названия даёт в быту предметам, Через шамана нас оповестит, Что ждёт на том или на этом свете, От бед великих предостережёт, Поможет избежать любых напастей; Бобы-какао как всегда зажжёт — Чем гуще дым, тем ближе тонкий мир и ясней… Фигурка нучу – деревянный дух, Он дух-защитник, талисман индейца, Он член семьи, хороший верный друг — От старца каждого до каждого младенца. Прислали боги брата и сестру: Сестра рубашки-молы шить учила, А брат учил мужскому ремеслу… Учили боги, что в единстве сила: Не обижай подобного себе, Сам человек и не бывает плох, Ты помоги ему в его беде — Коли в него вселился злобный дух. В познанье истины не видно даже дна — Она в закатах, утренних рассветах, Она в мечтах, в желаниях и снах, Иль, может, здесь – на этом краю света…Видимо, я заснул под эпическое песнопение и свою интерпретацию услышанного, потому что был бесцеремонно разбужен толчком специального человека, следящего за тем, чтобы песня доходила до сознания всех, даже недисциплинированных верноподданных, в число которых попал и я.
Шаман явно испытывал наше терпение, но соблюдение норм приличия по отношению к гостеприимным хозяевам – его соплеменникам, опасение за возможность своими действиями нарушить положительный ход событий, сдерживали нас от решительных и воинственных поступков.
Мы не знали, от кого сейчас исходило больше угрозы: от самого шамана, желающего заполучить жемчужину, но хранящего тайну её исчезновении, или от вождя, и в целом самого племени – в том случае, если станет известно, кто отец Жанны. Как это отразится на шамане и, как следствие, на его дочери, да и на нас…
И поэтому мы решили до поры до времени не обращаться к вождю.
Оказалось, что наш приезд совпал с праздником чича. Праздник заключается в обычном употреблении алкогольного напитка из сахарного тростника и других неизвестных мне тайных ингредиентов, напоминающего суп с мелкой взвесью.
Задача каждого в этот знаменательный день – напиться до невменяемого состояния, начиная с вождя (с почтением уносимого на руках) и каждого жителя, с достоинством упавшего там, где задача достижения нужной кондиции от выпитого будет выполнена.
Для этого действа предназначалась другая большая хижина, но мало отличающаяся от хижины «сельсовета».
Отчасти было понятно – шаман не мог удалиться с нами незамеченным, уж слишком он был важен для племени во всём, что происходило вокруг, его исчезновение могло бы вызвать панику, а этого допустить он не мог. Ни одна из тайн, связанная с нашим пребыванием, не должна была быть раскрыта.
Дождавшись того, что соплеменники достигли того состояния, при котором Вэле, имитирующий своё веселье вместе со всеми, мог незаметно удалиться, он подал нам знак, чтобы мы следовали за ним.
Мы с Василием, шаман и оцелот разместились в лодке-пироге (одной из тех, что выдалбливают из ствола дерева-гиганта, срубленного под чутким руководством специального знатока, в зависимости от фазы Луны, что связано с предохранением древесины от жучков и гнили) и отправились на какой-то удалённый остров, где должна была состояться наша встреча с Жанной и передача жемчужины.
Плыли мы минут сорок.
Василий и Вэле молча меняли друг друга на вёслах.
Я отметил про себя, что Василий делал это мастерски, будто всю жизнь только этим и занимался. И мне казалось, он знает, куда мы плывём.
Сгустились сумерки, мы подплыли к коралловому острову, на котором в изобилии росли кокосовые пальмы, манговые и апельсиновые деревья, скрывающие небольшую хижину, в которой ожидала своей участи Жанна.
Растроганный Василий прижал её к своему сердцу, и нескрываемые слёзы увлажнили его глаза.
О себе я молчу: я чуть не проглотил собственное сердце, когда встретился с ней только взглядом.
На ум пришла какая-то пустая скабрезность, типа: «Ну, парень, ты попал». Откуда, почему – не знаю, Фрейда приплетать явно не хочу.
Шаман Вэле остался снаружи хижины, и Василий, воспользовавшись моментом, сказал:
– Это только теперь я понимаю, не в жемчужине дело, но и в ней, конечно… мысли путаются, перехватывает горло, когда я вновь и вновь думаю о том, что я виновник гибели Лиа. Спасая меня, ради меня она пожертвовала всем…
Она не могла никому принадлежать отдельно, она хранительница правды, любви и покоя «Сеньоры Большая Голубая Жемчужина». Только такой как Лиа племя могло доверить жемчужину, и только ей жемчужина могла предсказать будущее и как уберечься от бед не только племени, но и всему человечеству. Я пришёл и нарушил естественный ход событий, гармонию и это принесло много бед.
Она была избранной, она сама – как неприкосновенная реликвия. Без неё жемчужина, хранящаяся в моём доме, – красивая безделица, угасшая с годами. Жемчужина выбрала себе хозяйку, а хозяйка предала жемчужину из-за меня.
Нарушился баланс жизни, и не только мой – это принесло беды при взаимодействии людей с планетой на высоком уровне и на уровне каждого человека.
Лиа очень сильная, она противостояла отцу-вождю, целому племени, своему роду, чтобы быть рядом со мной и нашим будущим малышом, с тобой, Евгений. Я так вас люблю, дети мои, но прошу вас, бегите.
Не спрашивайте, как и когда, но я уже в аэропорту узнал, где ты, Жанна, на каком острове и договорился о побеге.
Шхуна стоит здесь неподалёку, я отвлеку шамана, а вы бегите, вот билеты на самолёт.
Я не мог ничего понять. Он что, хочет остаться здесь?
Он, будто читая мои мысли, сказал:
– Все юридические вопросы, связанные с моим отцовством и ювелирным бизнесом, я оформил ещё перед отъездом, думаю, здесь никаких осложнений не будет. Все бумаги лежат в сейфе в основном офисе, – и он мне отдал связку ключей. – Я хочу остаться с Лиа, да и оцелот Куна для меня – не просто животное, он мой друг, я не могу его бросить.
Шаман Вэле вошёл в хижину, Василий впервые по отношению к нему изобразил радушие, достал припасённую бутыль с чича и предложил отметить столь значимое для каждого из нас событие: для Василия и меня – воссоединение с Жанной, для Вэле (как я понимаю) – присутствие оцелота Куны, возвращение жемчужины, что вернёт силы шамана путём возвращения утраченной души в его телесную оболочку.
Недоверие Вэле таяло по мере увеличения выпитого им алкоголя, который он после своего продолжительного анабиоза употреблял впервые; шаман быстро захмелел.
На что, собственно, и был расчёт.
Я демонстративно передал жемчужину Василию, перехватив затуманенный, но всё же цепкий взгляд Вэле, устремлённый на неё.
Оцелот, указывая на своё присутствие, издал лёгкое рычание, подёрнул ушами и, лизнув руку Василия, растянулся у порога.
Но, оказалось, это были не все атрибуты, пропавшие во время ритуала шамана, направленного на гибель Василия и изъятые у него Лиа во время впадения Вэле в транс.
– Тебе нужен твой нучу? – опережая вопрос Вэле, спросил Василий, – он здесь, на острове, я его спрятал ещё тогда.
Было видно, как шамана угнетает бессилие, что он не может навязать нам собственную волю, когда-то утраченную способность повелевать.
– Пусть дети прогуляются, – сказал Василий, – им не надо смотреть на то, как мы пьём и решаем только нас касающиеся проблемы. Нучу ты получишь, когда они будут далеко отсюда. Ты должен обещать, что не будешь их больше преследовать, забудешь об их существовании, я остаюсь здесь; если племя меня не примет, я найду остров, вдали от племени, и буду на нём жить, ничем себя не обнаруживая, не задевая интересов племени и твои личные, Вэле. Я только хочу быть ближе к Лиа и всё, – последние слова были больше обращены ко мне, чем к шаману.
Не думал, что прощание с Василием и Куной будет таким тяжёлым для меня.
А что сделал бы я, будь на его месте? Без сомнения, как это ни печально, поступил бы так же.
Крепко взявшись за руки, мы с Жанной направились к небольшой, довольно старой шхуне, уже ожидавшей нас. На её борту нас встретил только один человек, к моему изумлению, как настоящий капитан Флинт – без ноги (по крайней мере, я так предположил, потому что он хромал и издавал звук, похожий на поскрипывание протеза при ходьбе). Как выяснилось позже, ногу он действительно потерял в юности во время войны в Алжире. Шхуна, обладая невероятно малой осадкой, имела возможность ходить на мелководье между и вокруг островов и при очень слабом ветре проходить опасные мели. Небольшие размеры шхуны позволяли ей прятаться в узких морских заливах и бухтах. Шхуна была вооружена шестью абордажными пушками (по три на каждую сторону) XVI века. Эти пушки нельзя, конечно, называть оружием, поскольку их возраст более восьмидесяти лет – это уже исторический раритет, претендент на музейный экспонат. Но как антураж они производили должное впечатление. И возникало – хоть иллюзорное – но всё же чувство защищённости.
Капитан был очень радушен, угостил нас рыбой. В любой другой момент я бы непременно попал под власть окружающих океанских красот, но ежесекундно возвращался к размышлениям о Василии, шамане, безопасности Жанны.
И вот – мы уже в самолёте, и я мысленно благодарю отца (да, я подумал именно так, не Василия, а отца) за его самоотверженность, за преданность чувств к моей матери – индианке, необыкновенной, загадочной, прекрасной… за заботу о Жанне и понимаю, насколько он велик величием своей души, мой отец.
По телу мурашками расползаются необычные ощущения. Мурашки достигают сердца.
Жанна спит у меня на плече, её чёрные как смоль волосы щекочут мне нос. И я незаметно, стараясь не конфузить её этим фактом, осторожно дотрагиваюсь до него, боясь прозаично чихнуть. Её близость опять окунала меня в киношность нашего соития: лучше фантазировать в воздухе о прелестях любви, чем переживать тяготы перелёта. Я взглянул в иллюминатор – внизу колыхалась зелёным покровом жизнь джунглей, впитывающая свежесть капель дождя, падающих с небес.
Чувственная плоть, красота «Сеньоры Большая Голубая Жемчужина» омывалась романтикой – очищающим дождём жизни.
Память принесла прощальные слова, слетевшие с губ моего отца:
Мать Земля, «Сеньора Большая Голубая Жемчужина» Утратила путь к радужному свету, Радужный свет для неё стал темнее тёмной ночи, «Сеньора Большая Голубая Жемчужина» дана нам богами для жизни. Народ утратил хранительницу «Сеньоры Большая Голубая Жемчужина», Но тем и велика твоя любовь, Лиа, Любовь к «Сеньоре Большая Голубая Жемчужина», К каждой её травинке, каждому живому созданию; Ты – олицетворение этой любви, Если бы ты, Лиа, не спасла меня и нашего малыша Это было бы полным противоречием твоей вселенской, всеобъемлющей нигапурбалеле…



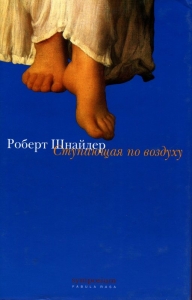







Комментарии к книге «Оцелот Куна», Маргарита Азарова
Всего 0 комментариев