Шахтёрский посёлок… Двухэтажный, бревенчатый дом на два подъезда… Он был до того старый, что уже по документам нигде и не числился вовсе, а значился уже снесённым. И, тем не менее, в нём всё ещё живут люди. До них нет никому дела. И соответствующие организации, согласно документам, дома в упор не видели.
Фундамент под ним искрошился. Верхние брёвна ещё как-то крепились, но, ткнув шилом в нижние, легко загоняешь его по самую рукоять. Сгнили. Иное бревно по стене уж довольно сильно выпирало в сторону. Окна потеряли симметрию. Дом просаживался каждый год, и обитателям его приходилось каждым летом мазать щели и подрубать перекосы после усадки, после чего удовлетворяться вновь ладно входящими в косяки дверьми. Дом стонал. Живущие в нём нередко слышали, как вдруг где-то в стенах что-то скрипело и потрескивало, словно старый человек ворочался в неудобстве – кряхтел, кряхтел, устроился поудобней и притих в сладкой истоме.
В былые времена он был построен совсем не в поселке – дом стоял в другом месте, неподалёку от шахты. Удобства! Вышел за порог, прошёл сто метров, и ты на работе. Потом место, где он стоял, попало в зону обрушения. Раскатали по брёвнышкам и перенесли в посёлок рядом, что в двух километрах от шахты. Теперь тут стоит. Дожидается, когда его черёд подойдёт век свой заканчивать. Давно уже его время прошло. Да и, опять же, как уже сказано, никому не было до него дела.
Перед домом скамья. Две пожилые женщины, пенсионерки – Лиза и Вера. Разговаривают:
– Ноги уж совсем щёй-то покоя не дают, – жаловалась Лиза, – денно и нощно ноють, ломють, будь они не ладны. Как погода на смену, так оно совсем того… хоть волком завой.
– Танька Ползункова так же маялась со своими ногами, из дома уж не выходила, сейчас вон и в магазин ходит, – Вера махнула рукой за спину на гору. – Поднимись-ка потом до дома… Неблизко живёт, аж на самом верху… Ничего… Ходит.
– Ак это щё, щем мазала она нет-ли?
– Сабельник, говорит, пьёт, – отрицательно качала головой Вера. – Настаивает на чём-то… Говорила… Я позабыла – на чём… – Она помолчала, и добавила: – Ещё массаж каждый день сама себе делает.
Вера говорила с растяжкой, замолкала и продолжала. Казалось, что её мысли были заняты совсем другим.
В этот момент из подъезда вышла их соседка – грузная, высокая баба, подвязанная цветным платком. По обыкновению, она всегда ходила в галошах и трико. Колени на трико были вытянуты. Серая роба тесно сидела на ней, растягиваясь на пуговицах в грудях. В одной руке её было ведро. Грузно шагая, соседка шла мимо. Она считалась старшей посёлка, но в посёлке таковой её никто не считал, кроме, пожалуй, только её самой. То была крикливая, взбалмошная баба, сующая свой нос везде, где только можно было. Она сначала остановилась напротив соседок, затем повернулась всем телом к ним и только после этого заговорила:
– Вчерась вон, твой внук за моим сараем… – тут она вдруг замолчала и неожиданно начала с другого: – Слышу, чтой-то чиркает за сараем, выхожу, глядь – спичками чиркает, паршивец этакий, прикуривает. Ну, я ему и показала, как курить. Мал ещё, соску-то сосать. Взяла палку и погнала его, – махала она кулаком. – Пожжет же сараи! У меня ж скотина там. Ты, Вера, коль приваживаешь их, так уж будь, милая моя, посматривай за ними, – с недовольством в приказном тоне говорила она.
Вера брезгливо пожала плечами и тоном на тон отвечала:
– Ты, Наталья, за своим сыном лучше посматривай. Не ровен час, скорее твой нас сожжет, чем мой. Твой вечно пьяный да с сигаретой, диван вон у него уже горел. Тушили…
И указкой тут не ходи, без тебя разберёмся. Не твоё это дело, – бросила она оскорблено.
Лиза помалкивала.
– Как это не моё! – возмутилась она, делая шаг вперёд. – Очень даже моё. Меня старшей посёлка выбрали. И если что не так…
Когда старшего посёлком выбирали – никто не захотел им быть. Кому это нужно – суетиться, что-то делать. Ей это общественное поручение тогда с облегчением спихнули. А она-то рада-радёшенька – при должности, начальствовать доверили!
– Иди давай, Наталья, – перебила она её, – слушать тебя смешно: старшая посёлка… если что не так… да кто тебя слушает! Толк-то от тебя какой? Крик один…
Старшая посёлка захлебнулась возмущением.
– Куда иди, куда иди?! – не унималась она. – Вот ты послушай меня! – навязывалась она.
– Иди давай, коровам хвосты крути. Ими командуй! – отмахнулась Вера. – Даже говорить с тобой не хочу.
И, не желая дальше вести разговор, отвернулась.
Старшая посёлком ещё несколько минут пыталась разговорить Веру, но её никто не слушал. Вера нарочито разговаривала с Лизой и не обращала на неё внимания. Будто её рядом и вовсе не было. Это ещё больше раздражало крикливую поселковую главу. Через какое-то время ей это надоело. Недовольно размахивая свободной рукой, она пошагала к сараям.
– Вот же баба, – уже в спину уходящей скандалистке взорвалась Вера, когда её уже не было слышно, – ни стыда, ни совести. Сколько лет знаю её, ни разу без претензий мимо не ходила. Хоть бы раз у кого здоровьем поинтересовалась.
– Ваську своего в гроб загнала, – вставила Лиза.
– У-у-у! – протянула Вера. – Жил, она из него из живого тянула – дай Бог. Васька бедный покоя не знал. Худющай-то был, сухостойный… довела! В могиле только, наверное, с облегчением вздохнул.
– Ага-ага, – энергично кивала бабка Лиза, – сверлила его денно и нощно.
Они помолчали.
– Гляди-ко, от ведь, и Вадима Роза на днях схоронила, – в сердцах вздыхала Лиза.
– Вот же мужик был! Без работы не мог, всю пенсию работал, плотничал, – с уважением отмечала Вера. – Вон, какую детскую площадку сделал и беседку.
– Пока силы были, всё щёй-то мастерил, – согласно кивала Лиза, – от ведь – рак-то, ак косой скосил. Три месяца тому назад ещё ходил.
– Жизнь не бесконечна. Все там будем, – отвечала Вера. – Он же был шахтёр. Их Бог рано подбирает. Сколь лет под землёй… Семьдесят ему было, – она качала головой, с чем-то своим соглашаясь. – Оно ж немало… Мой вон Николай – тоже в шахте… Моложе был. Раньше ушёл.
– Ак, смотри-ка, никого уж из отцов в доме-то и не пооставалось! – вдруг воскликнула открытием Лиза. – Сыновья одни. Витька вон только, Танькин мужик, самый старший, так и тот ещё не на пенсии. За пятьдесят ему только-то, старше никого нет уж.
– Так и молодёжи кот наплакал. Сашка, мой Серёжка, и вот, две квартиры квартиранты снимают. Ещё Светкин муж. Так квартиранты не в счёт. Сегодня они здесь, завтра нет. Не жители дома. Вот и считай – трое только. Остальные вдовы. Все мужиков пережили. Сколько ж нас? У-у-у! – протянула Вера. – Семь баб на двенадцать квартир. Помниться раньше – при мужиках да компаниями… По вечерам у дома… Соберёмся… ребятня в игры играет, мужики в карты или домино… одной семьёй жили. Были времена.
Мечтательно закатила она глаза к небу.
– Сядем за стол, до темноты в лото бочонки трясём, выкрикиваем.
– Уточки, дед, барабанные палочки! – в молодецком восторге воскликнула Лиза.
– Теперь уж даже и столов-то нет, те посгнивали, новые не ставят… Никому не нужно.
Две женщины сидели и улыбались. Перед ними как наяву всплывали счастливые дни былых времён. Они молчали и улыбались, провалившись в прошлое… Вспоминали… Вера вспоминала Николая. Лиза – Фёдора. И их охватило такое глубокое счастье тех прекрасных дней, что и сами не поняли, сколько они так просидели… Доброе воспоминание на старости – счастье. И они были счастливы.
Лиза вспомнила, как она впервые увидела Фёдора. Ей было только семнадцать. Он пришёл с армии. Моряк. Брюки клёш. Бескозырка. Грудь колесом. Девчонки с намерением на пути становились. Прохода не давали. Вечерами его гитару на весь посёлок слыхать. Запоёт… Заиграет… Так тут девки совсем головы теряли. Лиза скромно, всегда в сторонке была… Её выбрал. Так всю жизнь и прожили.
…Николай долго Веры добивался. Цветы на подоконник клал по ночам. Заберётся по водосточной трубе к окну на третьем этаже в общежитии, положит и – обратно. Вера месяц не могла понять: от кого цветы. На него не думала. Не был он шебутным и хулиганистым. Нравился он ей, но уж тихоня какой-то был. А, как узнала, что его рук это дело, так и сдалась…
Сидели две женщины и обе чему-то улыбались. Счастливые…
Лиза первая как опомнилась, глубоко и с чувствам вздохнула. На глазах её блестели капельки влаги.
– К Ползунковой-то надо сходить, – вытерла она краем платка глаза и стала потирать ладонями колени. – Правду говоришь, давеча я её в магазине видела. Может, доброе что посоветует…
Солнце уже стояло во второй половине дня. В такое время оно заходило за соседний дом. Они оказались в тени. Стало прохладно.
Женщины встрепенулись.
– Пойдём давай, время уже, – говорила Вера. – Скоро Серёжка с работы придёт, кормить надо. Горячим. Греть пойду.
– Ага-ага, пойдём, – согласилась бабка Лиза, – и у меня Андрюшка тоже может после работы по пути заехать.
Бабки встали и не торопясь скрылись в подъезде. Открылась дверь на первом этаже. Скрипели половицы на второй этаж.
– Ты к Ползунковой-то сходи, не забудь, рецепт-то видать хороший.
– Завтра уже поутру пойду… – слышалось из чёрной глубины подъезда.
Хлопнули двери. Одна. Вторая. Наступила тишина.
Дом продолжал жить.
Золотые купола…Бой проходил с переменным успехом. Оба спортсмена были способными ребятами; оба проводили серии ударов; оба навязывали свою тактику; и оба сталкивались с глухой защитой противника. Для Дмитрия Холодова этот боксёрский поединок значил очень много, с победой он получал первый разряд. К концу второго раунда преимуществом не мог похвастать ни один из соперников. Звучит гонг. Остался последний раунд.
– Он устал, открывается, опускает руки, лови его на прямой встречный правой, – негромко наставлял тренер.
Дмитрий, тяжело дыша, кивал головой.
– Сам что делаешь? Пол раунда руки болтались. Закрывайся, жди от него его коронный левый крюк. Если он его проведёт, считай – разряда тебе не видать, как собственных ушей.
Холодов молча кивал головой. Тренер дал ещё ряд наставлений и напоследок проговорил:
– Проигрывает тот, кто соглашается. Согласишься, что он сильнее, и ты проиграл.
Грянул гонг.
– Всё, давай, соберись! – хлопнул он его по плечу.
Дмитрий тот бой выиграл. Он встретил противника прямым правым, вовремя заметив опускающиеся руки соперника. В какой-то миг ему хватило доли секунды, чтобы присесть, резко спружинить и, опираясь на всю ступню и распрямившуюся ногу, жёстко, всей массой своего тела нанести мощнейший удар в челюсть. Соперник поплыл и через секунду рухнул на ринг. Считать было бесполезно. Дмитрий не был согласен, что соперник сильнее. Это был последний бой Холодова.
…Спустя месяц Алексей сидел в старом, потрепанном кресле в своём тренерском кабинете и курил сигареты одну за другой. Пепельница уже давно была битком набита окурками, однако ж он этого не замечал и освободить не удосуживался. Дым в комнате стоял коромыслом – впору хоть топор вешать…
Через неделю суд. Дмитрия осудят. Алексей много общался с этим детдомовским парнем. Бывало, что и в дом к себе приглашал, как бы между прочим пообедать предлагал, доставал из холодильника всё самое вкусное, то, что вряд ли мог видеть парень в детском доме. Дмитрий в такие моменты очень смущался, однако же отказать не смел. В ответ случалось и так, что тренер получал далеко не детские откровения. Алексей в такие моменты делал выводы из своих наблюдений. Ему ясно виделось, что дети, лишенные детства в нормальном понимании этого слова, как бы ни было это прискорбно, просто-напросто минуют его и рано начинают думать по-взрослому, обременённые недетским вопросом: как выживать в этом нашем эгоистичном мире с первых шагов жизни самим.
Однажды в доме Алексея, в большой комнате, в то время, пока его жена готовила ужин, они с Дмитрием, провалившись в огромные велюровые кресла, пили кофе.
– Как это странно, – говорил Дмитрий, – я у кого-то читал, что мысль материализуема, я тогда согласился с этим. Всё-таки мысль родила каменный топор, паровоз, компьютер. Но на себе я испытал эту самую материализацию впервые. Лучше даже будет сказать, впервые обратил на это внимание.
– О чём ты? – спросил Алексей, не понимая.
– О недавнем поединке, – мотнул он головой, – если бы вы мне не сказали тогда той последней фразы, я бы не выиграл бой. За два раунда меня охватило такое отчаяние и бессилие, что я готов был отдать бой, лишь бы всё быстрее закончилось. И эта мысль – не соглашаться, дала мне сил и материализовалась в первый разряд. Чёрт побери, даже самому приятно! – помотал он довольно головой. – И то – я только через несколько дней это понял.
Тренер с неподдельным вниманием смотрел на Холодова. «Немного участия, и из него выйдет достойный уважения гражданин», – думалось Алексею.
– Можно и по-другому сказать, – Дмитрий со всей своей присущей ему любознательностью с интересом уставился на тренера. Тренер продолжал: – Ошибается чаще тот, кто соглашается; реже тот, кто отстаивает свою точку зрения. В жизни ох, как часто приходиться держать удары судьбы! И поверь мне: они гораздо больнее ударов на ринге. Шрамы от них не заживают. Разве можно поверить, что чьё-то мнение – верно, даже если оно кажется правдоподобным? Кто может гарантировать его обдуманность до конца? И уж тем более глупо применять его к себе. Если уж и ошибаться, то по своей вине и велению сердца. В ответ же ошибка даст ценный опыт. Свой опыт, из шрамов, чем он и ценен.
Дмитрий с жадностью внимал каждому сказанному тренером слову. Он уже давно определил для себя в тренере редкий дар наставника, способного одним словом разрешить любую сложную ситуацию. Из каждого разговора с ним он извлекал какой-то урок – это замечал уже не в первый раз. Тренер же видел стремление юноши к познаниям и старался дать хоть толику того, что знает, чувствует и понимает сам.
– Есть ещё одно маленькое моё наблюдение, – говорил он, – которое, как мне кажется, во многом определяет жизнь честного человека. – Предав себя однажды, легко предашь потом и друга. – Он на секунду замолчал и заговорил вновь: – Если держать это в сердце, всегда помнить о них, то жизнь сама тебе протянет руку и будет во всём помогать…
…Душой прилип тренер к парню и никак не мог смириться с тем, что сейчас происходит. Своим опытом педагога и психолога Алексей чувствовал, что если и есть вина парня в чём-то, то эта вина ничтожно мала и до суда можно было бы дело не доводить. Но – кому нужен детдомовец? Кто будет разбираться? Отчаяние охватило и оттого, что он ничем не может ему помочь. Не правильно всё это, ох, как не правильно… Он воткнул сигарету в пепельницу так, что, придавив окурок, потушил огонёк большим своим пальцем. Почувствовав боль, мужчина даже не вздрогнул, только посмотрел на палец и растёр его об указательный.
Алексей дотянулся до телефона, перенёс его ближе к себе и набрал номер. Днём он никого не мог поймать на местах и дождался позднего вечера, когда бы мог позвонить на домашние телефоны. Судью он знал лично – в прошлом он тренировал её сына, и отношения с тех пор протекали определённо дружелюбно. Поговорив с ней минут двадцать, он положил трубку. Теперь он представлял себе картину яснее, но не утешительнее. Выкурив следующую сигарету, глубоко о чём-то размышляя, Алексей вновь взялся за трубку.
– Серёжа не спишь? – спросил он.
– Нет ещё, – услышал он в ответ.
– Встретиться нужно.
– Хорошо, давай завтра, часикам к двенадцати. Пообедаем где-нибудь.
– Нет, Серёга, лучше сегодня.
В трубке воцарилось продолжительное молчание.
– Что-то срочное? – наконец услышал Алексей.
– Очень.
– Хорошо, тогда приезжай, – согласился собеседник.
– Удобно домой? Поздно уже.
– Нормально, жена на дежурстве, сын, пока ты до меня доберёшься, уже десятый сон будет досматривать.
Предупредив жену, что ему ещё нужно заехать к однокласснику и чтобы она не дожидалась его, а ложилась спать, он покинул спортшколу.
Только через час он предстал перед дверью квартиры одноклассника. Звонить не стал – боялся разбудить сына, тихонько постучал; через минуту дверь открылась.
– Чего скребёшься? Я сразу и не понял: ты пришёл или мне послышалось, – пропустил он Алексея в квартиру.
– Сына разбудить боюсь.
Сергей засмеялся.
– Он без задних ног со своего футбола пришёл, сейчас хоть пушкой пали – ухом не поведёт.
– Понятно, – устало сказал Алексей, протягивая другу бутылку водки. – Собери закуски, поговорить надо.
Сергей серьёзно посмотрел на него.
– Значит, точно что-то серьёзное у тебя, раз ты с бутылём пришёл. Я даже и не припомню тебя за рюмкой.
Алексей отмахнулся:
– Айда на кухню.
Водка немного расслабила и сняла усталость.
– Я о Холодове пришёл с тобой поговорить, – спустя какое-то время объяснил причину своего к нему визита Алексей.
– Вот ты о чём, – проговорил приятель.
Какое-то время стояло молчание. Первым заговорил Сергей:
– О чём по поводу него можно со мной поговорить? – спросил он.
– Ты же историю у них преподаёшь.
– Ну и что.
– Да не знаю я что «ну и что»! – нервно бросил Алексей. – Просто, ты там, в их обстановке находишься, и вообще-то для меня важно знать: как настроена администрация детского дома перед судом? Может, слышал что-то?
Сергей усмехнулся:
– Как настроена… – он посмотрел прямо в глаза однокласснику. – Посадить настроена. В колонию для малолеток отправить настроена. Ему такие характеристики к суду приготовили – мама дорогая! Ещё вопрос, – он снова усмехнулся, – возьмут ли ещё с ними в колонию.
Сергей налил себе, затем Алексею и, не приглашая, выпил один.
– Мне тоже этот пацан нравится, что-то в нём есть, – проговорил он, – но тут ничего не поделаешь… Он же любимцу нашей директрисы Надежды руку и челюсть сломал.
– Надежда наш компас земной, – словно в забытьи проговорил Алексей, вертя полную рюмку в руке.
– А ты знаешь, кое-что я пожалуй могу сказать: он среди подростков пользуется авторитетом.
– То-то оно и хуже, – отметил Алексей, – именно таких-то любая администрация всегда и не любит.
– Я не могу понять, – задумчиво говорил Алексей, – все говорят: он сам напал на бедного парня ни с того ни с сего, сломал ему челюсть, руку, организовал сотрясение мозга. При этом нет ни одного того, кто бы это видел. И тут же все утверждают, что сделал он это ни за что, словно решил просто поразвлекаться; от нечего делать захотелось поколотить кого-то, взял и поколотил. Выставляют его в таком свете, что он не ребенок, а изувер какой-то. Я его тренирую уже три года. Он не раз бывал у меня дома. Я не верю, что это произошло ни за что. Здесь есть очень веская причина, которая могла бы оправдать его… Не может быть по-другому! – глаза подвыпившего Алексея стали поблёскивать. – Ну не верю я!
– Верь, не верь, а как директор скажет, так и будет, на то она там и поставлена.
Алексей, наконец-таки заметив в руке налитую ему уже давно водку, выпил её. Поставив пустую рюмку на стол, сказал:
– Я разговаривал с судьёй.
Сергей вскинул заинтересованный взгляд на Алексея.
– Даже при уже имеющейся судимости Холодова, если будет ходатайство со стороны администрации, дело можно будет закрыть прямо на суде. Прокурор будет не против.
Интерес Сергея сменился на удивление:
– У него уже есть судимость? В пятнадцать-то лет?! – недоумевал он.
– Да, – кивнул Алексей, – год назад, в свой день рождения, когда ему исполнилось четырнадцать, он её и заработал.
– Я не знал про это, – протянул Сергей, – я ведь совсем недавно в этой школе преподаю.
– В той судимости, мне кажется, есть и моя вина.
– Ну, ты даёшь! Ты-то здесь причём?
Одноклассник ничего не понимал. Алексей махнул рукой, не желая говорить. Понимая нежелание рассказывать, Сергей не стал настаивать, но всё же заметил:
– Не кори себя, Леха, жизнь ещё и не такие фортеля выделывает.
– Это легко говорить, когда эти, как ты говоришь, фортеля происходят с другими, – с укором сказал Алексей и тут же поправился: – Извини…
– Всё нормально, – скоро ответил Сергей.
– Я ведь почему к тебе пришёл… чувствую, есть надежда. После звонка к судье чувствую. Она же мне прямо сказала, нужна всего лишь маленькая бумаженция, и с парня снимут все обвинения. Прокурор даже не против. Если я только чувствую, то они явно что-то знают, но что именно происходит – не могу своим мелким умишком разобрать. Почему тогда если они что-то знают, ничего не делают?
– Я чем-то могу тебе помочь? – с участием спросил приятель.
– Советом, Серега, всего лишь маленьким советом. Как это ходатайство получить?
Обычная усмешка отчаяния нарисовалась на лице Сергея.
– Это одно и то же, что палить из пушки по воробьям.
– Можно собрать педсовет. У меня есть что сказать.
– Он и так до суда будет. Хотя, тебе только кажется, что ты сможешь как-то повлиять на ход событий. Надежду недолюбливают, есть такое, в то же время никто не захочет искать себе новую работу, а для переворота власти достойных личностей нет.
– Но пацан же гибнет! – воскликнул Алексей.
– Не они же.
Услышал он в ответ короткий и жестокий ответ.
– Я приду.
Сергей в ответ только пожал плечами.
Посидев какое-то время в задумчивости, Алексей хлопнул ладонями по коленям:
– Пора домой, – произнёс он.
Одноклассник с удивлением посмотрел на него.
– Думал, ты у меня останешься ночевать. Теперь же только пешком, спи здесь.
– Нет, пойду, – категорично заявил Алексей. – Всё равно не усну – ворочаться до утра… лучше прогуляюсь.
– Как знаешь, – не стал настаивать Сергей.
* * *К удивлению всего детского дома Дмитрия Холодова, после того, как он сильно избил другого воспитанника, через день отпустили. Для всех было безответной загадкой: почему следователь не арестовала его, а мерой пресечения избрала подписку о невыезде.
Холодов на допросах молчал, как рыба. Соглашался, что избил, за что и почему не объяснял.
Следователь Тихонова была женщиной уже уважаемого возраста, всю жизнь отдала общению с преступниками. Воров, жуликов и бандитов видала-поперевидала. Рассудительность и позиция подследственного поразили её. Иногда ей казалось, что перед ней сидит не пятнадцатилетний юнец, а уже мужчина. На отвлечённые темы он давал чёткие и вразумительные ответы. Он был открыт и даже эрудирован. Однако, как только доходило до причины конфликта, тут же Холодов закрывался. На допросе он выглядел не как все преступники, дёрганые и виляющие. Он был спокоен. Молодой парень в свои пятнадцать лет спокойно идёт на вторую судимость. Впереди тюрьма, колония-малолетка… взрослые зэки ужасаются от творящегося там, от установленных порядков. А этот, как железный – сидит и ждёт приговора, даже не пытаясь хоть как-то смягчить своё положение. На то есть причина – всё больше убеждалась следователь. В деле Холодова было одно единственное светлое пятно – характеристика от его тренера из секции бокса. В остальном, по бумагам, перед ней представал хулиган, отпетый бандит и страшный злодей. На самом же деле перед собой она видела симпатичного юношу, высокого, широкоплечего, аккуратного, с голубыми глазами и открытой улыбкой. Выглядел он чуть старше своих лет. И непонятным образом что-то толкнуло её разобраться в деле поглубже. Если она ошибается, то пусть всё останется как есть, а если нет, если чутьё неспроста свербит внутри, то здесь нужно хоть как-то помочь парню. Настолько, насколько может позволить закон.
При допросе потерпевшего Сметанина она отмечала разительную разницу. Это был скользкий и изворотливый подросток. Этот тоже что-то скрывал и оттого сбрасывал всю вину на Холодова. Сбрасывал открыто, цинично, с явной целью оградить себя от чего-то. Тихонова решила покопаться в нём. Он трус и, если прижать его посильнее то, пожалуй, можно что-то от него и добиться. Трудность заключалась в том, что подростков нельзя допрашивать без родителей или его опекунов, в данном случае без представителя детского дома. Раз здесь что-то скрывается от следствия, то вполне резонно думать, что это скрывается и от воспитателей детского дома. При них он, естественно, ничего не скажет. Так ничего и не придумав, она всё-таки решила вызвать Сметанина ещё раз на второй день после случившихся событий, понадеявшись на авось, объяснив необходимостью уточнения некоторых формальностей. Его привела девчушка лет двадцати двух, по-видимому, практикантка. Тихонова затягивала допрос, делала пометки на никому не нужном листочке. Помог жаркий день и невыносимая духота. Перед приходом Сметанина следователь намерено убрала со стола вентилятор. Уже через двадцать минут у девочки на лбу собрались крупные капли пота. Она нет-нет, да помахивала перед лицом журнальчиком, кстати оказавшимся в руках.
– Если жарко, то сходите, проветритесь, – предложила ей Тихонова.
– А можно? – оживилась девочка.
– Почему бы и нет, – спокойно ответила ей следователь, не отрывая взгляда от бумаги, на которой что-то писала, – мне нужно ещё минут тридцать.
«Тридцать минут» выглядело убедительней.
– Ну, хорошо, – она посмотрела на Сметанина.
– Сметанин пусть пока побудет здесь. У меня могут возникнуть небольшие уточнения, чисто формальные… дело нужно сдавать, а без них – никак, – она ласково посмотрела на Сметанина. – Он же мужчина, он потерпит. Правда ведь, Сметанин?
Сметанин пожал плечами.
– Потерплю, – пробурчал он.
Через секунду практикантка была уже за дверью.
Тихонова в упор смотрела на Сметанина:
– Я всё знаю, – произнесла она.
В один момент Сметанин осунулся и влип в стул. Казалось, он размазался по нему.
– Без протокола я беседовала с Холодовым, – она на мгновение замолчала, брала нахрапом. Сметанин сидел бледный, как молоко, и она рискнула дальше: – И ещё кое с кем. Никто не стал говорить под протокол, поэтому мне нужно знать только для себя: так ли всё это произошло. Не скрою, от этого будет зависеть длительность заключения Холодова. И, если будешь молчать, то завтра эти протоколы будут лежать у меня на столе, чего бы мне это ни стоило. Поверь мне, уж колонию тебе я обеспечу точно.
Тихонова была твёрдо уверена, что в этом деле замешен ещё кто-то. Холодов явно выгораживал кого-то. Не будет же он выгораживать этого самого Сметанина! Она понимала, что действует не по закону и, если эти её методы работы дойдут до руководства, то у неё будут серьёзные неприятности. Её риск был велик, и он, слава Богу, оправдался. Глаза Сметанина наполнились слезами, цвет лица плавно перешёл в красный.
– Тётенька, не садите меня, пожалуйста! – заныл Сметанин.
– Говори, – строго приказала Тихонова, – если ты не хочешь, чтобы вернулась твоя сопровождающая, и о произошедшем узнал весь детский дом.
Сметанин энергично закивал головой. Он вытер сопли рукавом и всё рассказал.
…Теперь Тихоновой стала ясна причина молчания Холодова. После ухода Сметанина она позвонила прокурору, они долго что-то обсуждали и, в конце концов, решили закончить дело и передать его в суд. Ещё немного посидев в задумчивости, глубоко о чём-то размышляя, она оформила подписку о невыезде. Холодов теперь не являлся для неё преступником, – в ней говорил не следователь, в ней говорила женщина, которая поняла его, однако при всём этом она обязана отдать его под суд. Впрочем, прежде она решила дать ему возможность ещё немного побыть на воле.
* * *Директор детского дома, за глаза – Надежда, сухая, высокая женщина в брючном велюровом костюме, в больших костяных очках, с глубоким и проницательным острым взглядом, стреляющим сквозь линзы. Она без колебания разрешила Алексею присутствовать на педсовете. Даже спросила причину прихода. Спокойно отреагировала на неё и предложила подождать конца педсовета где-нибудь здесь же, в директорском кабинете, в сторонке, указав на выбор свободного места. Алексей отметил, что в профессиональной этике ей не отказать. Она не заставила его ждать в коридоре, как нашкодившего ученика. И это вселило маленькую надежду. Вдоль огромных окон кабинета выстроился ряд казённых стульев, добротных, образца примерно тридцатилетней давности. Тогда умели делать добротные вещи. Алексей уселся подальше, в уголочке у окна, на одном из этих стульев. Педсовет немного задержали. Кого-то ждали. Когда, наконец, этот некто появился, то тут же начали. Длился педсовет нудно, долго, часа полтора: обсуждение внутреннего распорядка, досуга, расписание и посещаемость, нарушения, чистота помещений, питание и ещё что-то, Алексею навскидку сразу даже и не вспомнить – что. И всю эту тягомотину ему пришлось выслушать. Поначалу он вслушивался. Когда ему всё это надоело, он повернулся к окошку и принялся рассматривать территорию детского дома. В конце концов, то, что происходило сейчас в кабинете директора, его никоим образом не касалось. На окнах висели тяжёлые занавески, подвязанные по краям, между которыми прекрасно виделось всё, что творится под окнами, да и вообще весь кабинет отличался холодной практичностью. Ухоженный двор детдома отмечал рачительного и аккуратного хозяина. Что тоже делало Надежде чести. Стоял теннисный корт, плутали аллейки вдоль подстриженных кустиков, небольшая, крытая летняя концертная площадка. Жилой корпус напротив недавно отбелен. Опрятность детей также бросалась в глаза. В какой-то момент он услышал голос Надежды.
– К нам на педсовет сегодня, – объявляла она, – пришёл тренер спортивной секции по боксу, где занимаются некоторые наши воспитанники… Алексей Владимирович Нестеренко. Прошу вас, – попросила она.
«Всё так просто», – думалось Алексею. Он поднялся со стула, подошёл поближе к сидящим за столом педагогам. Взгляд его пересёкся с взглядом Сергея. Он смотрел на Алексея спокойно и безразлично. И ещё было десятка два пар, таких же безразличных. Под ложечкой защемило. «На ринге проще, – подумалось ему, – там, у обоих есть цель».
– Здравствуйте, – от растерянности не знал с чего начать Алексей. Идя сюда, он не единожды собирал аргументы в единую цепь, которая в нужный момент рассыпалась и раскатилась звеньями по каким-то тёмным закоулкам. Хорошо хоть «здравствуйте» получилось уверенным. – Меня беспокоит судьба Дмитрия Холодова, – решил он не вилять вокруг да около, не подбирать красивые слова, а начать с самой сути, – на мой взгляд, в данный момент происходит чудовищная несправедливость.
Надежда поверх больших костяных очков смотрела на Алексея. Ничего для себя доброго в этом взгляде он не видел.
– Это порядочный, умный и эрудированный парень, – продолжал Алексей. – Я тренирую его уже три года, это не маленький срок, чтобы разобраться в ребёнке.
Надежда выдерживала паузу.
– За все эти три года с его стороны не было нарушений, ведь характер человека не зависит от места его нахождения, – говорил Алексей. – Кроме того, был ряд поступков справедливых и правильных в нравственном и моральном планах. Это я вам говорю совершенно авторитетно, как педагог и как психолог.
Опять хочется отдать должное Надежде – она не мешала, не перебивала, не сбивала с мысли. Она без сомнения давала выступающему договорить до конца.
В тот же момент Алексей отметил для себя, что говорит каким-то официальным языком, противным ему же самому, совершенно банальные вещи.
– Я не хочу из Холодова сделать героя, он скорее жертва, как и все дети вашего детского дома. Это необычные дети. Они жертвы с самого своего рождения. Ими руководят обстоятельства. Да что вам об этом говорить, вы и сами прекрасно всё это знаете. Невероятная случайность, что Холодов менее чем за два года получил две судимости. В первой есть и моё косвенное и невольное участие. За что я несу ответственность, и именно поэтому я сейчас и говорю с вами.
Безразличие присутствующих сменилось на интерес.
– За неделю до той злополучной кражи, – решился рассказать Алексей, – был день рождения моей младшей дочери. Я пригласил и Холодова. В тот день я заметил, как он был счастлив и пребывал в каком-то глубоком восторге, тщательно скрываемом от окружающих. Он впервые присутствовал на семейном празднике. Помню, я порадовался за него, в нём усматривалась добрая зависть, чистой воды. В тот день мне показалось, что у него родилась мечта о своей семье. Хотя, без сомнения, он и раньше, наверное, мечтал о ней… Дети подобной категории не могут не мечтать о таких простых и обыденных для любого обычного ребенка, живущего вне этих стен, вещах. Не могут не мечтать о любви и ласке, как бы хорошо к ним здесь не относились. На дне рождения Дмитрий понял, что по-настоящему стоит эта самая его детская мечта. «Я тоже отмечу свой день рождения», – сказал он мне тогда. Я не придал особого значения сказанному. Да и в сказанном не было ничего предосудительного. И надо ж было такому случиться! В день своего рождения он украл двадцать килограмм меди и сдал в приёмку цветных металлов… Он не залез в карман, он не залез в квартиру. Он залез в сарай к дельцу, который тоже эту медь не купил. Метал был отлит в промышленные формы, а не в изделия. Почему на тот момент соответствующие органы не заинтересовались им – откуда он их взял – оставляет жирный вопрос… впрочем, ответ тут понятен. А украл Холодов по детской наивности и не осознанию серьёзности того, что делает; оттого, что просто хотел отметить свой день рождения с друзьями, с близкими на тот момент ему людьми, с его – на тот момент – семьёй. Потратить деньги не на сигареты, спиртное или наркотики, а потратить деньги на своё желание – как человеку свой день рождения отметить. Я не оправдываю его, Боже упаси! Провинился – отвечай. И всё же, кто из нас не воровал варенье, не лазил по чужим огородам за яблоками да за клубникой? Кто из нас по той же самой наивности не делал поступки, за которые потом стыдишься долгие годы, если не всю жизнь. А здесь – детдомовский ребёнок, изгой общества с рождения, кто будет разбираться, кому он родной, кто заступиться и отстоит его. Есть закон, пункты и параграфы. Следуй им и спи спокойно. В тот день рождения с ним случился именно тот случай. Он больше месяца не смотрел мне в глаза, избегал разговоров. Молча тренировался и уходил. Поговаривали, что он собирался бросить спорт, отчего впоследствии и состоялся наш с ним долгий разговор. Только почувствовав с моей стороны понимание, а не осуждение, он снова стал тем Дмитрием Холодовым, каким был ранее, – Алексей говорил энергично, ему важно было понимание педагогов, отчего зависело будущее Холодова. – Почему в тот миг на него оскалился весь мир? Даже тот делец не стал забирать заявление из милиции, более того – обжаловал приговор. Мол, мало дали. Нужно было посадить! Пусть другим неповадно будет! – восклицал он. – Почему статьи, пункты и параграфы оказались на стороне и отстаивали жадность дельца и того же беззакония сомнительных сделок? На стороне того, кто рубль поставил выше человека и молится на него. Почему закон на бумаге встал против нравственных законов – против детской неосознанной наивности в четырнадцать лет, против ребёнка и против формирующейся личности, за которую государство в ответе, и для которых издаёт эти же самые законы и требует их соблюдать. Вот эти вот множество «почему» дают такое же множество безответных вопросов.
Он посмотрел на сидящих перед ним людей. Некоторые смотрели ему прямо в глаза, как смотрят на оппонента, этот взгляд ему был хорошо знаком в спорте. А некоторые или смотрели вниз, или отвели глаза в сторону. Их было больше. Эти были согласны с ним. Надежда это тоже заметила.
– Что же касается нынешнего уголовного дела, то я твёрдо уверен, что Холодов избил его по какой-то очень веской причине и не хочет эту причину предавать огласке даже под угрозой суда. Скорее всего, этого боится и тот, кого он избил.
Алексей надолго замолчал. В кабинете директора стояла гробовая тишина.
Надежда немного подождала. Поняв, что говорящий сказал всё, заговорила сама:
– Я только не поняла – чего же вы хотите? – недоумённо произнесла она.
Алексей опомнился. Зачем пришёл – не сказал.
– Ходатайства в суд. Может быть, оно поможет Холодову, – попросил он.
– Мы вас очень внимательно выслушали, – без эмоций говорила Надежда, – надо отдать вам должное за то, что вы так сильно радеете за наших воспитанников. Ваша трогательная речь задела и меня. Поэтому я бы тоже немножечко хотела поговорить о Холодове… да и не только.
Алексей присел тут же за столом на свободный стул. Хоть её и недолюбливали, Алексей начинал её уважать. Если и отказывает, то объясняет почему. Он понял, что визит его был напрасен. Действительно, для свержения власти здесь трудно найти подходящую кандидатуру. Ответ её был более короток и очевидно ясен:
– В том заведении, – продолжала она, – и в том коллективе, которыми я руковожу, существуют определённые порядки, установленные не мной, не кем-то из здесь сидящих, они установлены государством. Это вы очень точно и правильно отметили. И никто из нас не вправе их нарушать. Произошло ЧП. По чьей вине? – спрашивала она и тут же сама и отвечала: – По нашей. Недоглядели. Холодов совершил одно преступление, умышленное, подготовленное, отчего и выбрал, как вы называете, дельца – из соображений, что тот не пойдёт в милицию. Но тут он ошибся – делец оказался не так прост. Есть факт преступления и для закона неважно: против кого оно. За это преступление Холодов получил от государства порицание и возможность исправиться. Но он этого не сделал. Он совершает второе, более тяжкое, через очень короткий срок. Что это? Как вы говорите – невероятная случайность. Случайность может быть только один раз, дальше это уже закономерность. Разве можно позволить детям решать свои споры кулаками, пусть даже если есть какая-то веская причина. Для этого есть мы, взрослая администрация. Но даже здесь не самое главное… Главное в том, что, если я сейчас позволю уйти от ответственности Холодову, то и другие воспитанники почувствуют безнаказанность. А их у меня – сто пятьдесят детских душ. За которые я в ответе перед государством. Что мне потом прикажете с ними делать – пересажать их всех и спать спокойно? Вот тогда-то точно не уснёшь, – как отрезала, произнесла она последнее предложение. Разговор был закончен.
Алексей чувствовал себя оплеванным, и в то же время прежде всего понимал правоту Надежды, ответственной за каждого ребёнка. Кроме того Алексей узнал, что суд над Холодовым решено сделать показательным, с выездом в детский дом. С глубоким чувством досады он покинул детский дом. Это значило, что Холодову не миновать заключения.
* * *Дима Холодов притягивал к себе сверстников своим незаурядным умением обоснованно отстаивать свою точку зрения. Вездесущая любознательность его могла удивить любого, кто с ним пообщается хотя бы час-полтора. И любознательность эта совсем не выглядела навязчивой, а скорее выглядела в виде беседы на выбранную тему. Он обладал хорошей памятью. Вряд ли кто из детского дома при случае, к месту, мог цитировать Пушкина, Островского, Булгакова, Ильфа и Петрова, и многое другое из литературы. Он мог часами просиживать в библиотеке и выйти оттуда с взорванным чувством восхищения прочитанным. Но в последнее время было не до этого. Всё чаще он забирался на крышу жилого корпуса детского дома, и мог подолгу уединяться там, оставаясь со своими детскими мыслями и мечтами вокруг отнюдь не детских событий вокруг него. Сидел и смотрел на золотые с крестами купола возвышающейся на холме невдалеке от их дома церкви. Глядя на них, ему почему-то становилось легче на душе, и он говорил сам себе: «Как бы ни было, я останусь самим собой». Он часто вспоминал беседу, случившуюся однажды с его тренером:
– Предав себя однажды, легко предать потом и друга, – сказал он ему тогда, и ещё: – Реже ошибается тот, кто отстаивает свою позицию, чаще тот, кто соглашается.
И сейчас Димка считал, что он прав. И он стоял на своей правоте молча, никому и ничего не объясняя.
Выйдя под подписку о невыезде, он в первый же день взобрался на крышу перед куполами и, лёжа на спине и закинув руки за голову, наблюдал за летающими в вышине ласточками, слушал каркающих с макушек соседних тополей ворон и мечтал.
…Кончается его детдом, когда-то кончится и колония, которую теперь уже не миновать, кончится всё плохое и начнётся всё хорошее. У него будет свой дом, кто-нибудь будет его любить, кому-нибудь он будет нужен, у него обязательно будут родные ему люди… Он не мог представить их себе, зато знал, что они точно будут, и ради этого своего будущего он никак не мог предать себя, иначе как он посмотрит потом в глаза своим родным людям глазами подлеца…
Забили в полдень колокола, и тут он увидел над собой Ленку.
– Тебе чего? – не шевелясь, спросил он.
– Так, ничего, просто к тебе поднялась… Можно, с тобой посижу? – попросила она.
– Сиди, – безразлично ответил он, – крыша не моя.
Ленка присела рядом, поджав под себя колени. Это была двенадцатилетняя девочка, хрупкая, как тростиночка, в ситцевом, цветастом, простеньком платьице, и на лице её была натыкана кучка веснушек, которых она ужасно стеснялась.
– Ты, наверное, на меня обижаешься? – тихо спросила она.
– Чё мне на тебя обижаться! – ответил он, недовольный, что нарушили его уединение.
– Но ведь всё из-за меня…
Дима резко встал, и взгляд его сверкнул молнией.
– При чём тут ты! – нервно бросил он. – Да окажись на твоём месте любая другая, я всё равно «Сметану» урыл бы за такое.
– Да, – расстроено сказала она, – но ведь ты сейчас уйдёшь на малолетку.
– И что с того! Я не боюсь.
– Дима, – Ленка как-то по-взрослому положила ему руку на колено, – давай переписываться, – робко попросила она.
Дима, выразив удивление, в полуулыбке рассматривал её.
– Ленка, тебе же ещё двенадцать лет, – засмеялся он, – ты же ещё ребёнок.
– Ага, – обиделась она, – кому-то это не помешало сделать меня взрослой.
Глаза Холодова налились кровью.
– Я боюсь, – глаза её заслезились, – меня сейчас никто замуж не возьмёт…
Димке стало жаль девочку, он смягчился и с задором произнёс:
– Ты ещё такого парня себе найдёшь, о-го-го! Другие девчонки тебе завидовать будут! У тебя такие чудные веснушки, они знаешь, как парням нравятся…
Дима намерено упомянул о веснушках, зная, что у Ленки по поводу них комплекс.
– И тебе нравятся? – заглядывала она прямо в глаза Диме.
– Безумно! – закрыл он глаза и помотал головой.
Её мокрые глаза вмиг стали счастливыми.
– А почему тогда меня парни дразнят? – спросила она.
– Тебя хорошие парни дразнят?
– Нет.
– Тогда что же ждать хорошего от нехороших… А вообще ты молодец, что всё мне рассказала, – он потрепал её по макушке. – «Сметана» подонок, и он получил своё по заслугам, жалко только, что я немного перестарался. А его не бойся, Игорь с Олегом за тобой присмотрят.
– Дима, – слёзы снова текли по её щекам, – тебе же мои веснушки нравятся… давай переписываться, а?..
Дима с трудом сдержал смех.
– Давай, конечно, разве ж я против.
– Ага, а сам маленькой обзываешься… Я же вырасту. У меня мамка папки на целых девять лет была младше.
– Дурочка… – Холодов по-отечески обнял её за плечи и прижал к себе. – Только обо всём пиши, чтобы письма длинные-предлинные были, не жалей бумаги, чтобы я их по несколько раз хотел перечитывать.
– Не буду бумагу жалеть, обо всём писать буду, – говорила она.
– Смотри, Ленка, какие купола красивые, – он протянул руку в сторону церкви, – как они над городом царят. Я с утра сегодня был в этой церкви. Раньше я стеснялся креститься перед входом в неё. Останавливался и про себя это делал. А сегодня перекрестился. И правда-правда, мне не было стыдно.
– Я тебе много-много писать буду, – не слушала она его.
* * *Подготовка к суду шла полным ходом. С самого утра из-за дверей актового зала слышалось громыхание стульями, увеличивалось количество мест. Ожидались гости из районо, гороно и ещё ряда курирующих детский дом учреждений. Надежда как всегда не позволит ударить себя лицом в грязь. Даже намёка на отрицательное мнение любой инстанции о себе не могла позволить Надежда. Если это вдруг случалось, то для неё это была личная трагедия, которую она очень болезненно переживала. Поэтому воспитателям была наказана строжайшая дисциплина, дабы и прокурор не сделал неправильных выводов, что всё происходящее есть продукт плохой дисциплины. Дворник Потапыч с рассвета и до самого подъёма по утренней тиши швыркал метлой. Воспитанников детского дома также не оставили в стороне. Со вчерашнего вечера провинившиеся за последний месяц драили полы, косяки, двери, стены, окна, и сегодня здания сверкали на солнце хрусталём. Младшие собрали весь мусор с газонов. Старшие побелили бордюры тротуаров. Казалось, что сегодня состоится совсем не суд, а нечто торжественное, сравнимое с днём рождения детского дома или приездом известных артистов со спонсорским, благотворительным концертом. Яркость солнечного дня придавала наведённому лоску дополнительную праздничность, кроме того почему-то женщины преподаватели пришли сегодня нарядными. Одна только Надежда гарцевала по коридорам в своём неизменном велюровом костюме. Между тем должно состояться далеко не весёлое событие.
Суета успокоилась часа за два до суда. На небе не видно было ни одного облачка. Весь детский дом высыпал на улицу и рассыпался кучками по тенечкам, в ожидании суда.
За полчаса до начала процесса открыли двери актового зала. Первые три ряда предназначались для преподавателей и гостей. На последующие стали заводить и рассаживать воспитанников. Весь этот процесс происходил с соблюдением заранее установленного порядка: строем по двое проходили по рядам, не громко, не хлопая, откидывали сиденья и рассаживались. Первыми рассадили, начиная с четвёртого ряда, самых младших, чтобы они не мешали видеть сидящим сзади, затем постарше и, напоследок, самых старших. Гости и преподаватели проходили и рассаживались как им заблагорассудится и где хочется. Общая картина представлялась приходом солдат в театр. Только там сцена за тяжёлым бордовым, бархатным занавесом, звенят звонки, первый, второй, третий, антракт, буфет… Здесь же всего этого нет. Оставалось только ожидание зрелища. Сцена открыта. В самом центре её стоит стол под зелёным сукном, посреди которого стоит кувшин, на две трети наполненный водой, и три стакана. Справа и слева так же стоят столы, только поменьше, и так же накрытые зелёной материей. В самом дальнем краю сцены ещё один маленький стол. С правой противоположной стороны установили скамейку. В зале, на уровне второго ряда, по среднему проходу стояла небольшая трибуна, коею местный плотник колотил наспех, ночью, и не давал сегодня спать. Покрасили её быстросохнущей нитрокраской, отчего по залу носился запах ацетона. Благо на улице стояла прекрасная погода, и окна были распахнуты настежь. Для пущей светлости шторы на них были широко распахнуты.
От сидящих воспитанников, уже заполнивших весь зал, исходил монотонный приглушённый гул. Первые три ряда были заняты всего только на треть. До начала ещё было немного времени, поэтому гости шатались по коридору и, если кто-то с кем-то был знаком, то болтали от неожиданной встречи о чём угодно.
Алексей Владимирович стоял у окна, подперев задом подоконник и скрестив руки на груди, о чём-то размышлял, плотно сдвинув густые, с завитком брови, когда к нему подошла Надежда.
– Я вас не отвлеку? – замечая его задумчивость, спросила она.
– Да нет, – без настроения ответил он, – я, в общем-то, ничем не занимаюсь, – попытался он отшутиться и глупо улыбнулся.
Алексею было не до неё от понятно, откуда навалившейся на него грусти. И в то же время он был рад от неё отвлечься. Надежда, как ни в чём не бывало, подошла к нему, словно недавней встречи на педсовете вовсе и не было. И так же, как ни в чём не бывало, обратилась к нему:
– Мне бы несколько ребят в ваш спортзал пристроить. Изъявили желание заниматься, а с делом Холодова боятся, что мы запретим или вы не возьмёте, – просила она.
Алексей мысленно стёр с себя недавнюю оплёванность. Он знал, что она не приветствует занятия боксом. Встреча на педсовете все-таки не прошла бесследно. Алексей приятно отметил для себя, что смог расположить к себе этого железного функционера и администратора.
– Ну, так как, – чувствуя его замешательство, переспросила она, – посылать мне их к вам, или же нет?
– Я их даже если и мест не будет, возьму, – едва сдерживая эмоции, спокойно сказал Алексей.
– Ну, вот и хорошо, – она по-приятельски поблагодарила его, приложив на секунду свою ладонь выше его локтя и, поворачиваясь для того, чтобы уйти, проговорила, пожимая худыми плечами: – Все равно не пойму: бить морды друг другу и называть это спортом.
Повернувшись, она направилась к кому-то из гороно. Грустные размышления вновь захлестнули Алексея.
Прошло ещё какое-то время, прежде чем вышла секретарша и пригласила всех пройти в зал. Алексей сел с той стороны, где была установлена скамейка, предполагая, что это и есть та пресловутая скамья подсудимых. Он сел с краю во втором ряду, поближе к ней, с намерением поддержать Дмитрия. Алексей уже предположил, что суд превратится в фарс. Действующие лица так же начали занимать свои места. Прокурор расположился по левую сторону от большого стола, дальше, на краю сцены – секретарь, с правой стороны бесплатный адвокат. «На кой ляд он здесь нужен, – подумалось Алексею, – один чёрт от него как от козла молока, бесплатно ему даже и говорить-то лень будет». И, наконец, на скамейку пригласили Диму. Уже изначально зрелище выглядело трагикомическим. Встретившись взглядами, Алексей подмигнул ему. Дмитрий в ответ улыбнулся и на миг прикрыл оба глаза.
Место слева рядом с Алексеем оказалось свободным, и в какой-то миг, когда все уже расселись и занимались своим благоустройством на местах, ничего не замечая вокруг себя, со словами «дяденька, простите!» на это место, предназначенное для гостей, юркнула хрупкая девчушка лет двенадцати с веснушками на лице. Алексей на мгновение растерялся и глянул на Диму. Тот не сдержал беззвучного смеха и показал ладонью, мол, пусть сидит. Тренер в ответ недоумённо пожал плечами. Временами по залу ходила воспитатель, следила за порядком и, если нужно было, приструнивала больно шумных. Когда она подходила ближе к тому месту, где сидел Алексей, девчушка проваливалась в сиденье так, что её вовсе и видно-то не было, или прижималась ближе к нему, прячась за его внушительной фигурой. В конце концов, она всё-таки была разоблачена и её едва не выдворили на те места, где сидят её сверстники.
– Что вы, – возмутился Алексей, – отсюда же лучше видно. Место всё равно пустовать будет, пусть сидит, – категорично произнёс он.
Воспитатель опешила, она не знала, кто перед ней сидит, и с мыслью «мало ли» ретировалась. Дмитрий показал большой палец на сжатом кулаке. Девчушка заметила это. Наклонившись вперёд, она снизу вверх с наглым интересом несколько секунд глядела Алексею в упор прямо в лицо и, ничего не сказав, откинулась обратно. Тот в свою очередь не на шутку стушевался. Дима на скамейке покатывался, охваченный немым, пантомимическим смехом. «Что сейчас о нём подумают, – забеспокоился Алексей, – парня сейчас судить будут, а он сидит на сцене и гогочет». Он оглядел сцену: слава Богу, прокурор ничего не заметила и он, повернувшись в зал, тут же наткнулся взглядом на женщину, сидящую прямо за девчушкой. Лицо её было красным, она, склонив голову пониже, прикрывала лицо ладонью и тоже едва сдерживала смех. С ощущением, что он – единственный в этом зале, кто ничего не понимает, Алексей повернулся обратно.
Точно в два били колокола на холме. И в тот же момент секретарь объявила:
– Прошу встать, суд идёт.
Все встали, встретили суд, сели. Процесс был скоротечным. Да и что тут было разбирать. Судья зачитал дело целиком. Допросили фигурантов – потерпевшего, подсудимого, да одного свидетеля, врача медсанчасти оказавшую первую помощь Сметанину. «Сметана» подошёл к трибуне в зале, точно его только что огрели поленом по голове, что-то бурчал себе под нос. В зале так никто и не понял, что он хотел сказать. Судья несколько раз делала ему замечания – говорить внятнее и громче, но всё было тщетным. Секретарь мотала головой, она не знала, что писать в протоколе. Наконец судья решила, что всё это пустое и выгнала его с трибуны. Пока «Сметана» стоял за трибуной, Холодов, с застывшей на лице иронией, не отрывал от него презрительного взгляда. Суд продолжался.
Женщина, сидевшая позади девчушки, была следователь Тихонова. Она без труда догадалась, кто была эта девочка и, естественно, тоже не могла сдержать смеха при виде того, что та вытворяла. Тихонова смотрела то на Холодова, то на девочку, и в какой-то момент у неё защемило сердце. Она видела перед собой две ещё не сформировавшиеся личности, которых постигла боль далеко не детской трагедии. Одна в свои двенадцать лет испытала на себе унижение и оскорбление, с детских лет потеряла женскую честь и достоинство. И это всё – только на пороге жизни. Второй, заступившись за неё, совершенно чужого для себя человека, идёт в колонию, дабы для всех её честь была сохранена. Наблюдая уже не в первый раз, как гордо держится Дима, и видя перед собой невинно оскорблённую девочку, у Тихоновой подступил ком к горлу, в глазах появилась подлая влага.
Между тем суд продолжался. Прокурор к тем двум годам запросил ещё два. Адвокат встал и что-то промямлил. Затронул трудное детство Дмитрия. Зачем-то заговорил о трудном экономическом положении в стране. О низкой зарплате воспитателей. Наговорил ещё какой-то ерунды и, наконец, попросил оправдательный приговор, совершенно ничем не мотивировав своей просьбы.
И вот – приговор. Он оказался неожиданным для всех. Судья вновь зачитывала содеянное Дмитрием. Затем сложением по каким-то статьям, действуя согласно пунктов этих статей, потом – на основании чего-то поглощение большего меньшим… в итоге осталось два года колонии для малолетних преступников. Услышав приговор, Дмитрий вскинул глаза на прокурора. Тот, в свою очередь, так же наблюдал реакцию подсудимого. Край губ прокурора заметно дёрнулся и появился слабый намёк на улыбку. Дмитрий перевёл взгляд на судью. Последняя, зачитав приговор до конца, также смотрела в упор на Холодов. И читалось – всего-навсего в её взгляде – «Что смогли!», ей не хватало только руками развести. Он и предположить не мог, что они всё знают, оттого не мог понять: отчего он получает к себе подобную милость. «Если будешь держать ЭТО в сердце, то сама жизнь протянет тебе руку», – вспомнилось ему неожиданно в этот миг.
Провожали Дмитрия в автозак всем детским домом. Кричали слова в поддержку, выкрикивались пожелания.
Дмитрий был доволен, он даже сравнил, что это – как в армию сходить. И мечта его о своём доме нисколько даже не отодвинулась. Он освободится, будучи ещё несовершеннолетним. Всего лишь два года, и он снова вернётся в эти стены. Напоследок Дима глянул на холм, на золотые купола, и запрыгнул в коробку автозака. Лязгнул засов клетки. Конвоир сидел у захлопнутой двери на скамейке, зачем-то безразлично разглядывал свои ногти, стряхивал невидимую пыль с коленей и поглядывал через окно на скопившуюся толпу детдомовцев возле автозака. Машина тронулась. Холодов ехал в колонию, и на душе его было спокойно. Вдруг вспомнились конопушки Ленки, вспомнились её чудачества на суде, вспомнился тренер и ещё, почему-то, следователь Тихонова. Машина уносила его всё дальше и дальше оттуда, где оставались самые близкие для него на сегодня люди.
Как только автозак скрылся за поворотом, детдомовцы стали расходиться. Только одно, совсем юное создание, хрупкое, как тростиночка, в простеньком, ситцевом, цветастом платьице, с веснушками на лице, долго шмыгало носом, размазывая слёзы по конопушкам, которых она уже нисколечко не стеснялась, и смотрела на уже пустую дорогу. А на холме били колокола…
Золотые купола Вторая частьБабье лето! Оно развлекалось с природой, как только могло-выдумывало, кокетливо пестрило и дефилировало, по-разному, с причудами красками хвалилось. Рубинами рябин сотнями гроздьев прогибалось. Уж недолго, прилетят снегири, вволю полакомятся и устелют первый снег жатыми ягодами. Это скоро… А пока бабье лето так хорохорилось! Землю золотом осыпало. Солнечными лучами расстреливало. И всё живое быстрее под эти лучи торопилось – ими насытиться. Скудное лето нынче не баловало. А зима не за горами уж! Отслужив вечерню, отец Серафим направлялся домой. Душу его это самое бабье лето распирало во все стороны так, что и конца краю ей нет вовсе; даже грудь, казалось, для неё – простор бескрайний, и она там по этим просторам песни разные хороводом ходит. Танцы разные вприсядку не стесняется! – О как распирало отца Серафима! Благодать просто! Ноги его сами несли. Отчего он к реке свернул – сам того не понимал. Шёл совсем не туда, где дом был. Шёл и чувствовал непонятное влечение куда-то, словно как тянет его кто непонятно куда. Божий промысел необъясним. Бывает так: делаешь что-то, а потом сам себе же и не можешь объяснить, отчего так делал. Какое-то время он шёл по берегу, пока не вышел к заводи, заросшей густым ивовым кустарником. В одном месте он приметил: из кустов торчит бамбуковая удочка. Раздвигая кусты, преодолел заросли и оказался на маленькой полянке. Малец-рыбачок с бамбуковой двухколенкой удил рыбу. В школьной форме, в кедах… В стороне валялся портфель. В воде, в полуметре от берега воткнута рогатина. На ней висит наполовину в воде пакет, в нём рыба, мелочь – кошке на радость… Пескарь да сорожка.
То, что необъяснимо толкало Серафима – угомонилось. Он понял, что шёл сюда. Ему нужен был этот малец.
– Клюёт? – спросил отец Серафим.
– Не-а, – ответил малец и, помолчав, добавил: – мелочь, иногда, погода сменилась, – со знанием дела он повторял чьи-то чужие слова, слышанные им где-то тут же, на берегу, от взрослых рыбаков, – рыба этого не любит, – утверждал он по взрослому.
– Кошке сегодня пир будет, – говорил Серафим.
Тут малец присел, ловко подсёк снасть и вытащил на берег пескаря… не маленького… с ладонь в длину – для пескаря это возраст.
– Ого, кабанчик! – воскликнул он.
Только тогда, когда малец снимал рыбу с крючка, отец Серафим разглядел его. Он был белобрыс, жидковат на волос, худощав, но крепок. Серафим нередко видел его, порой так, что в то время он должен быть ещё в школе. А он с удочкой и почему-то с портфелем к реке направлялся. И тут – время уже позднее, а он всё на речке.
– Нет у нас кошки, – говорил малец. – Да что кошка, я и сам её жареную люблю.
– Тебя дома-то не потеряли? – забеспокоился Серафим.
– Не-а, – привычно бросил он, – мамка знает, что я на речке. Ждёт. Я ж рыбу принесу.
– Кто твоя мамка? – интересовался священник, не понимая: отчего он задаёт ему эти мало что значащие вопросы. – Город наш маленький, все на виду, многих знаю, тебя часто вижу, а чей ты – не ведаю.
– Учительницей была, – отвечал он.
– А теперь?
– А теперь… – он не знал, что говорить, замолчал. – Болеет, – тихо сказал он.
– Родитель твой чем занят? – не унимался Серафим.
– Вдвоём мы с мамкой. Папка помер, когда мне четыре года ещё было. Я его совсем не помню. В тот же год старшая сестрёнка потонула. С тех пор мамка и болеет.
Не переживал малец того горя, от того и говорил, как и не с ним это вовсе всё было. Мал тогда он ещё был. Не прочувствовал.
– В школу какую ходишь?
– В двадцать вторую, – отвечал малец.
* * *…Встреча та произошла ещё в сентябре. Уже месяц прошёл. Отец Серафим не успокаивался. Странное, непривычное беспокойство одолевало его. Всё время глаза мальца вспоминал… больные… не физическую боль в них видел он. Душа пацана болела. Отрешенный… Без веры тому, с кем говорит. Малец пребывал в каком-то другом мире… Своём. Сам себе его строил и в нём жил… В одиннадцать-то лет! Это непонятное беспокойство и двигало отцом Серафимом. Он побывал в школе, говорил с учителями. В неблагоприятной семье рос парень. Только с матерью. Он постеснялся тогда на речке сказать: болезнь матери было – пьянство. Семь лет назад она схоронила мужа. Он был шахтёром. Получил получку. Шёл домой со второй смены. И – не дошёл. Лихих людей всегда хватало… В кустах и нашли. Голову проломили, деньги забрали. Беда одна не приходит – пришла беда, отворяй ворота! Не предупредит: готовьтесь, мол. Спустя два месяца утонула старшая дочь. Семья была на пример многим. Она закончила пединститут, учила начальные классы. Он – шахтёр, дай Бог заработки были. Всё в доме было. Жили не хуже многих. Кто позавидовал…? Кто сглазил…? Сломила бабу беда. Выпьет стакан, оно и на душе легче, мир сразу в цвете, жизнь радует. Потеряла работу. Друзья отвернулись. В коллективе забыли. Вспоминают иногда, с сожалением – «сломало девку» – этим всё участие и ограничивалось. Стакан к стакану не заметила, как всё потеряла. Искать снова уже и сил нет. Не та уже, с пятном. Пятно это ни одна хлорка не возьмёт… Восстанавливать, не строить… Так и покатилось: встанет с похмелья, сына обстирает, если есть из чего – поесть приготовит, и опять… друзья-собутыльники… пьяной душу изольёт… Они и слушают, по-собутыльничьи так, по близкому поддержат, посочувствуют, слово скажут. Она-то и рада радёшенька – не безучастны к её беде люди.
Вот такая история открылась отцу Серафиму.
Повелось так, что теперь он временами справлялся в школе о мальце. Позвонит, узнает, если на уроках – успокоится. Нет – знает где искать. Найдёт на реке и в школу приведёт. Иногда и после уроков встретит.
* * *Старый опер, мент на пенсии дед Федот служил вахтёром. Суровым стражем стоял на воротах. Впускал, выпускал, следил за порядком как полагается, мышь незамеченной мимо него не пробежит. Дисциплина в нём со службы корнями сидит. Вообще-то любой желающий мог покинуть детский дом через дырки, во множестве имеющиеся в заборе по всему периметру, и тщательно замаскированные от всевидящего ока администрации, беспрестанно следившего за каждым воспитанником в отдельности. Хоть где, но только не мимо деда Федота. Сидит он на своём посту, чаи гоняет, усы гусарские поглаживает и спиной, по шагам знает, кто к воротам приближается. Ленка с ним дружбу завела. Поначалу дед посмеивался над её веснушками:
– Не отмыла! Лицо что, с утра не мыла?! – вечно он пытался ткнуть жёлтым, прокуренным пальцем ей в лицо. – Так с мылом надо! – хватал её за нос, и заливался в безудержном смехе.
Ленку поначалу это выводило из себя, она взрывалась, но дед так умело, по-доброму сглаживал свою вину, что она привыкла и перестала замечать его насмешки. К каждой встрече дед приберегал для неё две-три шоколадные конфеты. Бывало, частенько они сидели на скамейке и болтали от нечего делать, так просто, ни о чём. Конфеты от него она съедала не все. Часть раздавала малолеткам. Не только ради угощения. За информацию. С пользой. Им на радость, и «Сметана», гнида, покоя не имел. Они докладывали ей обо всём, что замечали запрещённого за «Сметаной».
Подружились они с Федотом. И дружба эта по службе в пользу и деду самому приходилась.
Ранним утром Надежда на работу шла. Миновала ворота, и тут вслед ей:
– Мне тут по случаю тайничок один открылся, – говорил ей дед Федот.
Надежда задержалась.
– Интересно, – повернулась она к нему.
– За хоздвором, под досками, в углу – ящичек с детскими шалостями прикопан.
– Как знаете?
– Профессиональное, – пожал он плечами.
– Чей?
– Пришибленного.
«Пришибленным» им звался «Сметана».
– Хорошо, я разберусь, – сказала Надежда, повернулась и пошла.
– Во-во, – кивал дед.
Ящик Надежда обнаружила без труда там, где и указал дед Федот. В ящике сигареты, немного денег, конфеты, отстрелянные охотничьи патроны, колода карт с голыми девицами и ещё разная никчёмная мелочь. «Сметана» отпирался недолго. Положение его было незавидным. Что такое назначенное ему наказание мыть три дня коридор по сравнению с тем, что он перенёс только что за последние пять минут от директора. С чувством облегчения покинул он кабинет директора. Волосы его были растрёпаны, весь красный, уши горят.
…Поздним вечером он драил полы. Ленка шла мимо.
– Вон там, в углу грязь оставил, – указала она ему, – три лучше, старайся, – с издёвкой приказывала она.
«Сметана» из-подо лба зло смотрел на неё. Он понимал, что это она доносит на него. Он не знал, как это она всё про него узнаёт.
* * *Отец Серафим уже какое-то время топтался у школы, пока не прозвенел звонок с последнего урока. Детвора высыпала на улицу. Играла, резвилась. Время развлечений, учёба на сегодняшний день закончилась. Он увидел его сразу, как только тот появился в дверях. Он ни с кем не играл. Или, может быть, с ним никто не играл… Кому он интересен. Сын пьяницы. Ничего у него нет. С завистью внимает чужим домашним радостям: кому что купили, кто где в выходные был, кто куда на следующие собирается… Нечем ему было похвастать перед сверстниками. Попросту неинтересный. Он отделился от школы и шёл прямо на отца Серафима.
– Отец Серафим! – опешил пацан.
Священник стоял и дожидался его. В руках был большой полиэтиленовый пакет.
– На реку с собой возьмешь? – спросил он.
– Рыбу удить умеете? – поинтересовался малец.
– Попробую, – неуверенно говорил Серафим, – не всё же я при церкви был. Было время, я, как и ты, на реке пацаном промышлял. Время было голодное… – отец Серафим сообразил, что ляпнул лишнего, и скорей перевёл разговор на другую тему. – Удочки свои где прячешь?
– Там, – парень махнул рукой, – у реки.
Малец на реке днями пропадал не оттого, что интерес у него особый к рыбной ловле был, а оттого, что дома пьяная мамка покоя не даст. Пьяным воспитанием займётся. И ещё оттого, что дома есть нечего. Наловит рыбы. Нажарит, поест и сыт. Тут ещё, поближе к вечеру, как сумерки сгустятся, слазит в сады невдалеке, как хозяева по домам разойдутся. Нарвёт с пяток яблок и обратно. Ловили его несколько раз. Бывало, одни простят, а на другой раз в комнату милиции сдадут. Кому попадёшь. Чаще отпускали. Иные понимали: что его судить – голоден, не наказывали. Щелки, где он в сады пролазил, только он знал, заборов не ломал, посадки не топтал.
– Пойдёмте, – предложил малец. Своим детским пониманием почувствовал искреннюю, отеческую заботу отца Серафима.
Доселе неизвестными отцу Серафиму тропками вёл его малец к реке. Непонятно как дорогу разбирал. С кочки на кочку, через болотину, не в обход, коротким путём. Малец весом, что лягушонок, кочки держат его, отец Серафим потяжелее, проваливается, все ноги промочил, но ничего, не жаловался, шёл за пацаном.
На сей раз он не к кустарнику не мелководье, а на крутой скальный берег, на глубину пришёл.
– Вчера просидел весь день на мели, хоть какая заблудившаяся бы клюнула, два пескаря, им-то чё нужно было, и те притихли, а мужики вчера тут сидели, окуньков по садку надёргали, – рассуждал малец.
Он привычно стащил ранец с плеча, раскрыл, что-то поворошил в нём, отыскал банку из-под майонеза, вынул из неё червя и наживил на крючок. Священник присел рядышком на корточки. И тут вспомнил о мешке, что таскал до сего времени за собой. С промоченными ногами, обеспокоенный завтрашней лихорадкой, он и вовсе едва не забыл о нём. «Так бы и унёс обратно, дурья башка», – посмеялся он про себя.
– Тебе это, – подал он его мальцу.
– Что там? – не понимал пацан.
– Посмотри, – говорил Серафим.
Парень взял пакет, раскрыл его и какое-то время рассматривал содержимое пакета. В сумке лежали новые вещи и немного еды. По-детски он был не готов к подобному.
– Зачем, – проговорил он. Совсем неожиданно для себя самого подал пакет обратно священнику. – Не надо.
Откуда-то всё то же детское понимание опять: церковь помогает бедным и беспомощным.
– Мы не бедные, – говорил он.
Серафим предполагал, что может обидеть парня подаянием, но думал, что так может случится, если он принесёт старые, ношеные вещи, может быть добротные, но кем-то ношеные, во многом количестве приносимые прихожанами. В пакете лежали вещи, купленные сегодня. Купленные на его скудную зарплату. Они были новые. И, как ему казалось модные. Он покупал их на рынке. Приметив подобное на детях из благополучных семей. Священник растерялся больше мальца.
– Возьми, – попросил отец Серафим. – Это скорее мне нужно, чем тебе подарок, – сухо проговорил он.
Перед мальцом был священник. Как ослушаться. С малых лет поп был для него чем-то непонятным, загадочным, совершенно отдалённым от того, многим большим чем то, где жил мальчик. Что-то обещающее для себя он видел в священнике. Пацан вытащил из пакета куртку – мечту многих его сверстников: тёплую, зимнюю, на пуху, с натуральным мехом оборки капюшона. Джинсы. Кроссовки.
Великоватые, к весне придутся в самый раз; и ещё в пакете был небольшой пакет с продуктами.
– Перекуси, – между прочим сказал Серафим.
Пакет имел в себе два яблока, два апельсина, булку, плитку шоколада и рогалик копченой колбасы. Он ел шоколад со вкусом… Не часто он его видел. Отправлял черные квадратики в рот и долго рассасывал их, растягивая удовольствие. Съел яблоко и апельсин. Остальное… Остальное он:
– Можно я это домой унесу, – попросил, – дома доем.
– Отчего же нельзя-то, – разрешил Серафим, – это же всё твоё.
– А вы что, не хотите? – неуверенно удивился он. Ему было непонятно: как можно не хотеть апельсины или тот же бутерброд с колбасой.
– Нет, – замотал головой священник, – брал-то я конечно же на двоих, видишь – всего по две штуки, но перекусил в церкви и теперь больше не хочу, – врал Серафим.
К колбасе и булке парень не притронулся, оставил на потом. Пацан аккуратно сложил вещи и продукты обратно в большой пакет. Махнул удилищем, булькнуло грузило, поплавок встал торчком и замер. На воде не было и ряби. На душе у двух человек на берегу стало у одного радостно, у другого спокойнее.
* * *Он любил браваду. Его привычку трогаться с места с пробуксовкой, резко, так, чтобы камни летели из-под колёс, так, чтоб рёв двигателя на всю улицу, так, чтоб все знали – это он едет, подростки заметили уже давно.
Компания поклялась не давать ему покоя ни днем, ни ночью. Надолго он запомнит Дмитрия Холодова! Вынесли они ему приговор.
Этим днём он как всегда резко рванул свою «Волгу» с места. Автомобиль быстро набрал скорость. Спидометра для него не существовало. Он наслаждался скоростью. Как вдруг машина совершенно неожиданно врезалась в невидимую преграду. Всё случилось так молниеносно, что он и не понял, что произошло. Головой влетел в лобовое стекло и разбил его. После удара не сразу и в себя-то пришёл. С трудом разбирал действительность. Перед машиной ничего и никого не было. «Волга» медленно, по инерции катилась вперёд только на передних колёсах и издавала страшный скрежет. Задних колёс под ней не было. Мост остался далеко позади. От него тянулся толстый стальной трос метров сорока в длину до бетонного столба, задом к которому он всегда по обыкновению ставил машину. Мост был вырван из-под машины с корнями и маслом истекал на дорогу.
Недалеко над сараем торчало три головы. Они любовались своим злодеянием.
– Е-е-ес! – воскликнула Ленка, спрыгнув с сарая. – Как мы его! А-то всё колёса, да колёса.
Неразлучная тройка «не разлей-вода-компания»: Ленка, Игорь и Олег были очень довольны собой. Они возвращались в детский дом. Их захлёстывали эмоции. Они бурно обсуждали свершившуюся месть.
– Пусть помнит Холодова! – в сердцах повторяла Ленка.
– Думаешь, он понял: за что его? – говорил Олег.
Игорь молчал, шёл и посмеивался.
– Ай! – ехидно махнула Ленка. – Всё равно пусть помнит. Что бы ещё ему придумать… – злорадно потирала она руки.
Никто не видел, как они тайком перед акцией покидали детский дом. Они так же сделали всё для того, чтобы их не увидели и по возвращению спустя три часа. Распахнув окно, они взобрались в читальный зал библиотеки. Комната всегда пустовала. Библиотека – не самое посещаемое детьми место. По целым дням тут никто не бывал. Захлопнув книги три часа тому назад, разложенные здесь на столах, они направились сдавать их библиотекарше.
– Начитались? – листала она сдаваемые книги в поисках порчи.
Библиотекарша была толстая, вредная, расфуфыренная и рыжая, и думала о себе, что она самая модная. Всю жизнь она работала на работах, где совершенно не надо было ничего делать. Сама пользы никому не делала и себе ничего не получила. Прожила жизнь, протирая табуретки. Ждала счастья и не дождалась. Как-то не липло оно к ней. Оттого и обозлилась тётка на весь белый свет. Оттого, что она там, и не любили ходить воспитанники детского дома в библиотеку. Кто только кто с ней повстречается, так уже через секунду ему начинало казаться, что он ей что-то должен. Взял и не хочет отдавать.
– Столы ровно оставили стоять, стулья составили? – злобно говорила она. – Я тут после вас порядок наводить не намерена.
– Всё нормально, – отвечал Игорь.
– Нормально, – передразнила она его. – Знаю я ваше нормально! Небось нацарапали гадостей на столах… Ну, не дай Бог – увижу что, – ворчала она.
Не отыскав в книгах никаких изъянов, она разочаровалась. Повода наказывать не нашлось. Она сгребла подмышку книги и направилась к стеллажам.
– Идите, – разрешила.
* * *Тоскливым серым ранним утром промозглого осеннего дня к подъезду ветхого двухэтажного дома подкатила синяя пассажирская «Газель» с чёрными тонированными стёклами. Из машины вышла группа из четырёх человек: женщина лет тридцати и три крепких мужчины постарше. Форменная одежда мужчин придавала особую официальность их визиту. Даже со стороны виделось: вряд ли кому будет по душе подобная процессия, направляющаяся лично к нему. Замусоленная кожаная папка уже не понятного цвета в руках женщины, три здоровых лба в форме… Подобные компании не приходят с добрыми намерениями, скажем, для того, чтобы поздравить с праздником… Тем более если это происходит так рано, так неожиданно и врасплох. Группа людей прошла в подъезд, старая лестница скрипела и стонала под тяжёлыми ботинками. Топот ног разнёсся по всему дому. Перед одной из квартир второго этажа они остановились. Забывшая про покраску дверь, протёртый порог, засаленное грязное пятно вокруг дверной ручки. От двери, сквозь щели тянуло запахом смеси перегара, прокуренного помещения и спёртого, сырого воздуха. Этот синюшный запах наполнил весь подъезд. Женщина нажала на кнопку звонка. Тишина. Звонок не работал. Провод в полуметре от кнопки был перерезан. Дальше визитёры стали будить обитателей нужной квартиры стуком. Сначала тихо. Не дождавшись ответа из-за двери, они стали барабанить по ней кулаками. Ранним утром слышимость превосходная. За дверью послышалось движение. За ней явно кто-то был. И этот кто-то на цыпочках отошёл от двери, после чего вновь наступила тишина. Один из мужчин в форме вышел на улицу и встал под окном, дабы исключить возможность побега через него. За дверями было всё так же тихо. Стук в дверь продолжили более яростно.
– Если сейчас же не откроете, то мы вынуждены будем выломать двери, – пригрозила женщина.
Продолжали беспрестанно стучать, наконец послышалось шарканье тапочек об пол с другой стороны двери, и они услышали хриплый, заспанный женский голос:
– Чё надо?
– Откройте судебным приставам, – ответили ей.
– Чё надо? – она была так пьяна, что не поняла: кто пришёл и что от неё хотят.
– Откройте дверь, – приказным тоном сказала женщина с кожаной папкой.
– Щяс… – глухо проговорил пьяный голос за дверью.
Время прихода приставы выбрали не случайно. Опыт работы уже научил их. Когда, как не ранним утром можно застать в более или менее понимающем состоянии постоянно пьяного человека.
– Да где же они… Щяс! – кричала она, долго возилась у двери, ушла в комнату, где слышалось недовольное ворчание – она что-то бубнила себе под нос, кричала сына, никто ей не отвечал, она материлась, вернулась к дверям, принялась шарить по карманам, пока не послышался звон ключей.
– Щяс открою, – твердила она, долго не могла попасть ключами в замочную скважину, тупо тыкала в область замка и, наконец, попала. Послышался поворот ключа, и дверь распахнулась.
Расставив ноги на ширину плеч для пущей устойчивости, перед ними стояла пьяная баба лет сорока. На самом деле, судя по документам в папке, ей должно быть только двадцать девять. На одной её ноге надет шерстяной, вязаный носок, подшитый снизу грубой материей, прикрывающей дырявую потертость. На второй ноге носка и вовсе не наблюдалось, одни только хлопчатобумажные колготки с вытянутыми, обвисшими коленями. На голое тело надета выцветшая, вязаная кофточка былого зелёного цвета, превращённая временем и стиркой в цвет хаки. Местами распускающиеся зацепы прошиты черными нитями. Сбоку красовался след в виде треугольника от оставленного утюга. Распухшие с трещинами губы. Жирные в сосульки волосы. Сквозь щелки распухших глаз она смотрела на непрошеных гостей. Она разочаровалась. Это был кто-то чужой и не с водкой.
– Чё надо? – ворчала она, её ещё шатало, она держала себя за дверь.
Не дожидаясь приглашения, визитёры прошли в квартиру. Женщина остановилась перед ней. Раскрыла папку и достала листок с каким-то текстом, печатями и подписями. Размахивая бумажкой перед лицом, она говорила:
– Это постановление на лишения вас материнства. Где ваш сын? – спрашивала визитёрша.
– А я почём знаю, – она совсем не понимала, что от неё хотят, она силилась соображать, и до неё лишь дошло, что они вовсе и не к ней пришли, а к сыну заявились. – Опять чё натворил? – спросила она. – Вчера был, вечером видала: убёг куда-то с утра, прощелыга.
Один из приставов подошёл к окну, отдёрнул штору, посмотрел вниз и остался доволен. Его коллега сторожил под окнами. Он вспомнил крадущиеся шаги за дверью. «Это была не она, – подумал он. – Он должен быть дома», – сделал он вывод.
– Он должен быть в квартире. Сбежать он не мог, – проговорил он.
Среди мужчин он был старший.
Комната в квартире имела привычный для приставов вид притона. Пол давно не мыт, его, может быть, если только подметали, и то – иногда, не чаще, чем хозяйка пребывала в трезвом виде. Со стен местами отваливалась штукатурка, обнажая решётку рёбер стен. Под потолком без люстры болтается на электропроводке одинокая лампа. Диван без покрывала, с подушкой и одеялом. Старый сервант с одной дешевой вазой на полке и разным непонятным хламом за стеклом. Стол. Два стула. Прожжённое кресло. Чёрно-белый телевизор в углу на табуретке. Провод вместо антенны тянулся к гардине, на ней – только тюль во всё окно. На кухне один стол с болтающейся дверцей и полная раковина немытой посуды. В туалете видавшая виды чугунная ванна. Нерабочий унитаз с трещиной на всю высоту. Нужда справлялась в ведро рядом и затем прикрывалась крышкой. По мере наполнения ведро выносили на улицу. В маленькой, дальней комнате порядка наблюдалось больше. Кровать заправлена бельём, не отбеленным, но стираным, не глаженным, пожелтевшим, но чистым. Письменный стол, на нём стопка книг. В углу, под накидкой, подольская швейная машина. Шифоньер. На окне тюль и шторы. Прятаться в квартире было негде.
– Если в туалете удочек нет, то он уже на реке, – говорила хозяйка.
Она была сильно пьяна. На столе ещё стояла бутылка водки, початая наполовину. Шатаясь, она благополучно пересекла комнату наискосок к дивану. Совершенно не отдавая себе отчета о происходящем в её квартире, она завалилась на диван, поджала под себя ноги, натянула на голову одеяло, и уже через секунду по комнате разнеслось пьяное сопение.
Удочки были на месте – в туалете за дверью. Искать было негде. Старший из приставов направился прямиком к шифоньеру и распахнул дверцы. На плечиках висела старая, пока ещё не нужная зимняя одежда, под ней свален разный прочий хлам. Разворошив его с правого угла, он обнаружил сорокалитровую флягу. В левом он нашёл то, что искал. Андрей, сын спящей в беспамятстве в другой комнате пьяной бабы, одиннадцати лет от роду, свернувшись калачиком, прятался под тряпками. Его испуганные глаза дико стреляли с коротко стриженой головы.
– Вот ты где. Давай, выбирайся, – приказал он ему.
Без особого рвения пацан выбрался из шифоньера и вышел в большую комнату. Увидев его, пришедшая с папкой женщина изобразила на лице глубокое умиление и заговорила сладким голосом:
– Андрюшенька, – воскликнула она, – что ж ты прячешься! Мы же добра тебе желаем. Понимать должен… А ты прячешься. Мы сейчас с тобой поедем, и ты какое-то время, до своего совершеннолетия, будешь жить в другом месте, под присмотром государства.
Пацан склонил голову набок и, из-под бровей, с испугом, смотрел не неё. С ней он был знаком. Она уже не единожды беседовала с ним. Это была Татьяна Ивановна – инспектор детской комнаты милиции.
– Не хочу я жить в другом месте, – на глаза его наворачивались слёзы, он вытирал их рукавом, – я же ни чего не сделал! – кричал он.
Он бросал взгляды на диван, как на спасение, он искал защиты матери, но с дивана был слышен только пьяный сап.
– Там тебе будет лучше, – утверждала Татьяна Ивановна.
Она попыталась взять его за руку. Парень вырвался и кинулся к дверям. Путь ему преградил один из приставов. Он схватил его за шкирку, подкинул подмышку и понёс в «Газель». Пацан, как мог, сопротивлялся, брыкался, пинался, кусался, но справиться с силой взрослого мужчины не мог.
– Татьяна Ивановна, – умолял он, – я же не хулиганю, я исправился, у меня уже нет двоек, спросите у отца Серафима! – надрывался он. – Хочу дома, с мамкой! – он захлёбывался и бился в истерике. – Мне не будет там лучше! Я попрошу, мамка бросит пить, я уговорю её… я хочу с ней! – ревел он.
Пацана втолкнули в машину. Люди в форме забрались в неё следом за ним. «Газель» дала газ и уехала.
Надежда прошла мимо деда Федота, кивнула ему и уже было направилась к административному корпусу, как в спину ей прозвучало:
– Имею оперативную информацию, – докладывал дед Федот.
– На этот раз кто провинился? – повернулась и спрашивала она.
– «Пришибленный», – говорил вахтёр.
– Опять он! – удивлялась Надежда.
– Опять, – кивал дед.
– И?.. – спрашивала она.
– Вещи ему за сигареты и сладости младшенькие стирают, – отвечал Федот.
– Зараза… – тихо сказала она.
– Во-во, – кивал дед.
Надежда негодовала. В последнее время Сметанин доставляет ей слишком много хлопот. Это ей не нравилось. «Он чувствует моё покровительство. И нагло пользуется. Он же просто использует меня, – шла и думала она. – Кто-то всё это на вид выносит. Кому-то он занозой сидит».
Вечером «Сметана» драил полы. Ленка шла мимо.
– Тряпку лучше полощи, – указывала она, – разводы вон, какие остаются, – заботливо замечала Ленка.
Не могла она пройти мимо и не съязвить. Выше сил её это было. «Сметана» с тряпкой ей бальзам на душу лил.* * *Весть о том, что в детском доме появился новичок, как и подобает закону физики, по которому живут звуки, разнеслась со скоростью звука. На новичка ходили посмотреть, как на товар. Оценивающе осматривали и уходили. Не принято в детских домах сближаться на первых порах. Принято присмотреться, прицениться, да он и сам должен себе цену показать. Со временем только кто-то возьмёт его в свою компанию. Как обживётся. Как покажет себя. От того-то и будет зависеть его будущее в этих стенах. Не по своей воле он сюда попал, но выживать и считаться с местными порядками придется. Неразлучная троица так же незамедлительно пришла поглядеть на пополнение. Даже скучно. Ничего необычного. Одно и то же. Спившаяся мамаша, лишенная материнства. Сынок полный обормот. Таких, как он – полный детский дом. Ещё он поразил их. Вылитый «Сметана»! Рост, тот же овал лица. Противный и белобрысый. Бубнит что-то невнятное, бессмысленное. Даже походка – они его уже ненавидели – какая-то вкрадчивая и предательская. Какая-то уже натренированная.
– Хоть что-то путное бы появилось, – ворча, покинули они жилой корпус.
Они сидели на улице в беседке, когда увидели самого «Сметану». Тот шёл от административного здания. Заметив компанию, он хотел было свернуть в сторону и обойти их стороной, но поздно, его заметили:
– О, идёт! – брезгливо говорила Ленка. – Стучал на кого-то… вон, как светится.
«Сметана» старался идти непринуждённо, высокомерно, не обращая на них внимания, показать, что он их совершенно не боится, он неприкосновенен, он под крылом администрации. Кичился этим открыто. Но так увлёкся, что запнулся и едва не растянулся перед друзьями на асфальте.
– Чтоб ты лоб себе расшиб! – бросила Ленка.
«Сметана» ей что-то ответить хотел, но промолчал. Трусовато и молча он сдержал свою злость до лучших времён. Он обязательно им отомстит. «Придёт время. Я их проучу», – сверкал он глазами, охваченный бессилием.
– Чё зыркаешь!? – не унималась Ленка. – Зенки повыпадут. Иди давай, там тебе дружка привезли.
Не могла она молчать при виде его.
* * *С утра Надежда сделала все необходимые распоряжения и раздала все указания. К двенадцати у неё высвободилось время. И теперь он сидела в своём кабинете. До обеда оставалось ещё немного времени. Решив потратить его с пользой, она принялась за дело. Беспорядок в бумагах давно не давал ей покоя. Никому не нужные уже, отслужившие службу на ниве бюрократии листочки она комкала и бросала в корзину подле стола. Ещё нужные она складывала в папки, подшивала их или откладывала в сторонку до востребования. Она никого не ждала. Тем неожиданней оказался визит незнакомца. Он был разъярён. Она слышала его ещё задолго до его появления перед ней. Его крик доносился ещё с улицы, спустя какое-то время дверь распахнулась, и он влетел в её кабинет разъярённым быком. Толстый, потный, раскрасневшийся, в дорогом костюме, белой рубашке, расстегнутой по вороту под ослабленным галстуком. Он махал руками и низвергал на окружающих нечленораздельные ругательства.
– Я им покажу, – рычал он, – они у меня увидят, где раки зимуют!! Никакого покоя от них нету! – возмущался пришелец.
Надежда отложила бумаги и спокойно смотрела на мужчину.
– Кто мне восстановит мою машину?! – ревел он. – Я её даже застраховать не успел! Ваши беспризорники меня разорили!!
– Сядьте, – жёстко попросила она. Её едва не вывело из себя поведение мужчины.
– Сядьте?!! – взревел он на неё. – Да я сам их всех попересажаю! Одного посадил, и этих пересажу!!
– Сядьте! – строго прикрикнула на него Надежда, начиная терять над собой контроль.
Она узнала его. Это был тот коммерсант, которого когда-то обокрал Холодов.
– Сядьте и объясните, пожалуйста, – сдерживала она себя, – в чём, собственно, дело. Что случилось?
– Случилось! – рычал он. – Да они уже у вас совсем обнаглели! Мало того, что они по три раза в неделю колёса прокалывают, сразу все четыре зараз, – он махал руками, брызгал слюной с матом через каждое слово, – сегодня моё терпение лопнуло!! Они подчистую уничтожили мою машину! Я её только неделю как купил! Кто мне её восстановит?!!
Многоярусный мат дополнял колорита в негодование мужчины. Надежда не выдержала:
– Я попрошу вас контролировать свой лексикон, – попросила она сдержанно, – всё-таки здесь детское заведение, а не пивная.
Посетитель, не спрашивая, совершенно бесцеремонно схватил со стола графин, налил в стакан воды и осушил его одним махом. Пододвинув под себя стул, сел, склонил голову и снизу вверх спрашивал Надежду:
– Кто мне восстановит мой автомобиль, я вас спрашиваю?
Надежда выслушала мужчину. Он вызывал у неё отвращение.
– Не обязательно, что это были мои воспитанники.
– Кто же ещё! – вспылил он.
– Мало ли, – пожала она плечами.
– Дык они ж, – заикался он, – наглые, наблюдали, умилялись, когда у меня мост вырвало! После чего скрылись. Их же видели!!
Надежда постукивала колпачком ручки о стол.
– Как они выглядели? – спросила она.
– Два крепких парня и конопатая девка, – отвечал мужчина.
«Компания Холодова», – поняла Надежда.
– Я разберусь, – заверила она. – Заявление подавать в милицию будете?
– Уже подал! – бросил он.
– Хорошо, – кивнула она, – в таком случае попрошу меня больше, пожалуйста, не отвлекать от дел по этому вопросу, – давала она понять мужчине, что разговор окончен. – Милиция разберётся.
Надо отметить, что претензии к её воспитанникам не совсем беспочвенны, даже правомерны. Это – очередное ЧП в её заведении. Тень на неё – как на плохого руководителя, никчёмного педагога. Это её беспокоило больше всего. Недоглядела. Со стороны пришедшего не прекращались ругательства без разбора, теперь уже и в её адрес.
– Их надо держать в ежовых рукавицах, – кричал он, – не занимаетесь детьми! Пораспустили их тут! У меня бы они шага боялись ступить! Наберут директоров!! Не хотят работать! За что деньги вам платят!
Выслушивала она молча.
– Оставьте, пожалуйста, мой кабинет, – наконец спокойно попросила Надежда.
Только к концу разговора она отчётливо различила, что у мужчины с психикой не совсем всё в порядке и стала вести себя подобающе сложившейся ситуации.
– Если виноватые есть, заплатим, – уверяла она.
– Заплатят они… – ворчал посетитель.
– У меня много дел, – намекала Надежда.
Нежелательный посетитель хлопнул дверью и ушёл. Надежда перевела дух. Она устала от общения с ним. Недолго сидела, о чём-то размышляя, после чего попросила секретаря вызвать к ней всю подозреваемую компанию.
Их нашли быстро. Только за ними закрылась дверь, Надежда спросила:
– Это что за выходки? – сурово сверлила она их взглядом.
– Какие выходки? – спросил Игорь.
– А вы не знаете? – усмехнулась она их наглости.
– Не знаем, – спокойно говорил Игорь.
Друзья дружно пожимали плечами.
– Мстить задумали… – она встала и подошла ближе к детям.
– Кому? – говорил Олег.
Она прошлась вдоль кабинета туда-обратно и остановилась.
– Ну, хватит! – ударила ладонью по столу. – Кто теперь восстановит повреждённую вами машину? В тюрьму захотели? Вслед за своим дружком? Вас видели! В милиции уже есть на вас заявление.
– Какую машину? Какое заявление? – не понимали дети.
– Вы тут из меня дурочку-то не делайте! Где вы были сегодня утром?
Уверенность детей все же смутила её.
– В библиотеке, всё утро, в читальном зале, – в один голос отвечали они. – Спросите у Нины Фёдоровны.
– Я спрошу, я-то спрошу! – совсем ничего не понимала она. Надежда была твёрдо уверена, что месть коммерсанту – это их рук дело. – Я так с вас спрошу!
Она открыла дверь и с порога приказала:
– Вызовите ко мне Нину Фёдоровну.
Дети виновато переминались с ноги на ногу. Весь их вид говорил за них. Они совершенно не понимают, о чём идёт речь.
– Ох, если это вы! – трясла она перед ними указательным пальцем. – Вы у меня поплачете! Ишь чё, мстить они вздумали!
– Да не мстили мы никому! – вставила Ленка.
– Не мстили, – передразнила её директор. – Выясним вот, мстили или нет…
Дверь отворилась и в кабинет вошла Нина Фёдоровна.
– Были они у вас сегодня? – тут же спросила её директор.
– Как же, всё утро штаны протирали.
Говорила она с таким видом, словно сегодня они помешали случиться чему-то очень важному в её жизни, и что это очень для неё важное теперь из-за них не случится больше никогда. Должно было исчезнуть то, что до сей поры мешало ей жить. И теперь уже не исчезнет. И всему виной – они. Эти, ещё пока недочеловеки. От неё прямо таки излучалось: эх, если бы не их сидение в библиотеке… Она так выразительно подтвердила их алиби, что даже дети заулыбались. Надежда же пребывала в замешательстве.
– Хорошо, вы свободны, – отпустила она её.
После ухода библиотекаря надежда прошла к себе за стол и, не смотря на детей, произнесла:
– Вы тоже.
«Даже если это всё-таки они, – думала она, – то против этого алиби не устоит никакое обвинение».
Скрип тормозов отвлёк её. Она выглянула в окно. У ворот стоял милицейский уазик. Два милиционера шли к ней по аллее.
* * *Поместите в железную бочку несколько крыс. Самая сильная съест других. Так выращивают крысоеда.
Воспитанники присматривались к Андрею с расстояния. Не отталкивали и не приближали, любили и не любили, уважали и не уважали, понимали и не понимали, «навидели» и ненавидели. Относились – никак. Присматривались… Просто оттого, что он есть такой… Уж совсем какой-то неинтересный…
Андрей и не стремился с кем-то сойтись. Привык… Он всегда был один. Одиночество не было для него чем-то новым. Пристальные взгляды не смущали. Он далёк от многого, чем они жили. Впрочем, тоже для него не явившегося чем-то новым. Просто, здесь всё виднее. Достать покурить, нанюхаться клея, выпить водки, украсть, накуриться анаши, попробовать наркотик посильнее. И потом бравировать тем, что он пробовал запретное. Смог попробовать! Вот я какой! Всё это он и дома видел, но там оно как-то расползалось по поверхности и было не так заметно. Здесь всё это всплывало где угодно. Стремления жить тем же у него не было.
Щемило детское сердце. Снились мать и река. Их отобрали. Рукой подать. За забором. Не достать. Теперь всегда должен жить по расписанию, по порядку, ходить на собрания, после которых ничего не меняется. Бесполезные линейки. Называть семьёй то, что семьёй никогда не считал и считать никогда не будет. Должен! Не понятно кем сделанный для него долг… Должен быть благодарен за это. Должен с утра до вечера, и ночью – тоже. Сверстников, что вокруг, он не боялся. Будут бить, за своё буду зубами грызть. Чужого не трону. Он этого не помнил, но мамка говорила, что так ему говорил папка, когда ещё был жив. Не помнил, но верил и чувствовал. Хотел верить, что он так говорил. Навещал отец Серафим, непременно с гостинцами. Часть Андрей съедал сам, частью угощал, – безразлично кого, кто оказывался волей случая рядом, кому повезёт. Часть припрятывал.
За забором шли день за днём…
…Андрей ел медленно, дождался, когда за столом никого не останется, быстро сложил котлету, хлеб и булочку в приготовленный заранее пакет и спрятал всё это за пазухой. Никто не видел. Он ещё раз огляделся по сторонам – никто. Видела конопатая девчонка, она сидела через несколько столов от него, но он боялся воспитателей, девчонку в расчёт не брал. И напрасно…
Спустя полчаса Ленка уже рассказывала об увиденном Олегу и Игорю:
– Этот – «Сметана» два, – возмущалась она, – не наедается. Глядите-ка, какая цаца. Привык дома сколь угодно и когда угодно. Ещё с наглой рожей со стола тащит. Весь оставшийся хлеб со стола сгрёб, обжора! – негодовала она. Он так напоминал «Сметану», что её ненависти не было предела. – С общего стола воровать! – не могла успокоиться она.
– Его надо проучить, – говорил Олег.
– Надо, так проучим, – соглашался Игорь. – Вечером.
– Мы его так накормим! – предвкушала уже вечер Ленка. – Навек забудет, как со стола воровать! Уж я подготовлюсь! – пообещала она.
За ужином всё снова повторилось. Хлеб, сосиски и печенье исчезли за пазухой у Андрея. Компания наблюдала за ним. Для того, чтобы проучить новичка, у них уже всё было готово.
Они поймали его возле лаза в заборе в тот момент, когда он собирался покинуть территорию детского дома.
– Эй, оголодалый! – окликнула его Ленка.
Он остановился. За спиной конопатой девчонки стояли два крепких спортивных парня. Андрей молчал. Хорошего от них ждать не приходилось.
– Чё молчишь? – надвигалась она на него.
– Крыса! – сказал Олег.
– Я не крыса, – ответил Андрей.
– Крыса! – неприятно-спокойно утверждал Игорь.
Андрею стало не по себе оттого, что они так о нём думают. Однако он не мог сказать им и правды. Отчего он ушёл в себя и замолчал.
Компания обшарила его. Нашла котлету, сосиски, хлеб, печенье и невесть откуда ещё и шоколад. Заставили его съесть всё это у них на глазах. В руках Ленки был пакет. Из него она извлекла литра на три кастрюлю, до краёв набитую кашей, две буханки хлеба и две полуторалитровые пластиковые бутылки с чаем. Так Ленка приготовилась преподать урок новенькому. Всё это они заставили его есть прямо сейчас. Его правда мешала ему. Ему было стыдно. Он не знал детдомовские законы и порядки. По щекам текли слёзы. Он ел. Его рвало… Он снова ел… Он давился и ел… Бледный. Его тошнило.
– Это стол, с него едят, – назидательно утверждала Ленка. – Будешь ещё со стола таскать?
– Нет, – обещал Андрей, теряя сознание.
Им нужен был повод, и они нашли его. Удовлетворённая уроком, который она преподала новичку, компания удалилась.
Андрей остался сидеть на земле. Рядом валялась пустая кастрюля и две пластиковые бутылки. Чуть в стороне облёваны кусты. Он откинулся на забор и плакал от бессилия. Горечь переполняла его. Ещё горше было оттого, что это теперь был его дом. И так будет надолго…
* * *Ранним утром Надежда направлялась прямиком к деду Федоту. Склонившись к окошечку, она спросила:
– Ну?
Дед Федот сидел к ней спиной. Он швыркал горячим чаем из блюдца, прикусывая его комковым сахаром.
– Дань берёт с младшеньких, – сказал он.
– Что-то новенькое, – удивлялась она.
Дед Федот швыркал чаем и не поворачивался.
– Мелкие в электричках промышляют, попрошайничают. Он с них дань берёт. За то, что вам не докладывает. Двадцать процентов берёт, – выкладывал старый опер.
– Убью! – вырвалось у неё.
– Во-во, – соглашался дед Федот.
* * *Вечером после тренировки компания собралась в беседке по событию. Они получили письмо от Холодова. Извлекли письмо из конверта и кружочком читали:
Салам-папалам! Привет, братцы! Привет, Ленка!
Получил от вас желанную весточку. Молодец, Ленка, как обещала – каждая строчка заполняет воспоминаниями. У меня все по накатанной. Тут тоже жить можно. Что там забор, хоть и без колючки, что тут клетка. Отличий особых я и не приметил. Все одно – и там люди, и тут люди. Скучно, быстрей бы увидеть вас. С администрацией я опять почему-то не поладил. Наверное, оттого, что стучать не стал… Очень просили… Пишу так открыто и не боюсь, потому что знаю, письмо мое получите. Я его, минуя читку, через «вертухая» отправляю. Кушать везде хотят, немного конфет детишкам, и письмо уже в дороге. К тому же еще я его на адрес Алексея Владимировича послал. Он вам его на тренировке и отдаст. Кстати, он вас хвалит. Он мне тоже часто пишет. Говорит, успехи ваши заметные. В каждом письме вас хвалит. Пишет только, что Олег ленится. Вес набирает. Вес в боксе, это хорошо. Ты, Игорь, проследи, пусть кушать не прекращает, чтоб ел так же, как при мне, я то помню: ел без меры – как аллигатор. Ха-ха! Пусть ест, только что бы в пользу было. Гоняй его на тренировках, чтоб жирок не образовывался, на мышцу его жевательный аппарат должен работать. Гоняй без меры, так же, как ест он. Тебе говорю это, потому что ты посерьезнее этого шалопая. Ха-ха! Шучу, Олег, не обижайся. Ленку в обиду не давайте. У нас два солнышка – она, и на небе. Берегите ее…
– Ага, – воскликнул Олег, – дашь её в обиду.
– Не говори, – усмехнулся Игорь и продолжал разбирать каракули в письме:
…Проследите, чтоб одежда на ней была самой лучшей в детском доме среди всех девчонок. Она это заслужила…
– Отстал от жизни, – снова встревал Олег, – ей только волю дай. Прошлым днём она сама мне такую рубаху подкинула. Где взяла?
– Где взяла, там её уже нет, – бросила Ленка. – Не мешай.
От неожиданной такой тёплой заботы от старших друзей лицо её зарделось, она зарозовелась, веснушки под розовым попрятались. Плечики приподнялись. Внимание куда-то потерялось. Глазки улыбались. Юное, девичье «я» порхало.
…А о тех приветах, о которых вы мне постоянно пишите, которые вы постоянно шлете всем моим недоброжелателям. Как-то они у меня из головы не выходят. Думаю вас просить о следующем: прекратите и простите их. Приветами ничего не решишь. Они не поймут, а еще одно зло родилось. О себе думайте. Их и без вас Бог обидел. Надо ж было такими на свет уродиться! Ха-ха. Пусть живут, как живут, это их жизнь. Не уподобляйтесь. Они не виноваты, что они такие. Простите их.
Вот еще, вспомнил, чуть не забыл. Вы мне писали, что появился, как его Ленка называет, «Сметана-два». По письму вижу, вы его уже заранее приговорили. Но то, что он на «Сметану» похож, это еще не о чем не говорит. Присмотритесь. Раньше времени на него не стоит ярлыки навешивать. Знаю я вас! Дров наломать всегда успеть можно. Сначала разберитесь. А он, «Сметана-один» – тот еще тип. Но и снаряд в одну воронку два раза не падает. Ха-ха! Имейте это ввиду…
– Сколько каши сожрать? Видел бы он его, – перебила Ленка, – проглот, копия «Сметана», убила бы! – И рассмеялась.
…На этом буду заканчивать свое короткое к вам послание. Надеюсь на недалекую встречу. Не залетайте. Не доставляйте удовольствия вас наказывать. С вами Бог! Бог им судья. Обнимаю, жму руку! Ваш друг и брат Димарик.
С уважением – Я!
* * *Через пролом в заборе сначала пролез новичок. Оглядываясь, он в спешке удалялся от детского дома. Прошло немного времени, и в этот же самый пролом пролезла конопатая Ленка. И так же, в том же направлении, торопилась скорее скрыться из вида. Она заметила, как новичок сегодня в столовой снова украл продукты со стола. «Неймётся ему! Ладно, посмотрим!» – негодовала она. Сегодня был день тренировки. Поэтому её друзей с ней не было. В одиночку она задумала проследить за новеньким. Она не видела и, скорее, даже и не ожидала, что в это же самое время, следом за ними, через тот же самый пролом выбрался ещё один человек – «Сметана». По их следам он торопился тоже. Попадись и его накажут. Делай. Не попадайся. За это его, может, и ценила Надежда. Торопился он ещё и из боязни упустить следящую друг за другом парочку. Ему-то это наблюдение как раз-то и приходилось в самый раз на руку. Стремление отомстить закадычной компании его не покидало никогда. И тут – такая удача. И теперь: Андрей шёл по каким-то своим делам, за ним, соблюдая конспирацию, следовал Ленка, за ней, совсем без всякой конспирации потому, что она и подумать о слежке за собой не могла – «Сметана». Он даже насвистывал мелодию, не боясь быть замеченным. Настроение его было хорошее. Друг за другом троица пересекала весь город. Андрей, петляя, шёл улицами и закоулками, через пустырь, вроде как следы запутывал, на самом деле шёл путями короткими, экономил время. «На речку бы забежать», – мечталось ему. Но никак. Успеть нужно вернуться. Заметят, наказания не избежать. «В следующий раз как-нибудь», – решил он. Город он хорошо знал. В то время, когда дома жил, весь город вдоль и поперёк избегал. Дойдя до дома, он поднялся в свою квартиру. Пока тот поднимался на второй этаж, Ленка забежала в подъезд и на слух определила, в какую примерно квартиру он пришёл. Ей ничего не оставалось, как подслушивать под окнами. Она безошибочно определила нужное окно и слушала:
– Сынок! – услышала она. Возглас матери утонул в пьяном гаме. – Ты что, опять сбежал? – спрашивала она. Ленка едва различала слова.
В квартире шла пьянка. Громкие разговоры, споры, ругань – кто о чём. Возбуждённое пьяное сознание – кто в лес, кто по дрова. Что на уме, о том и говорим. О таких семьях Ленка много слышала. Пьют круглыми сутками, допиваются до ручки, потом пьют от безысходности. Таких, как новенький, в детском доме пруд пруди. Вагон и маленькая тележка. А видеть таких семей сама – не видела. Её беда в другом. Без беды в детский дом не попадают. Родители её на машине разбились. С дачи ехали. Родственники её не взяли. Вот в детском доме и оказалась. Счастливые дни теперь только снятся. Мама блины печёт… Папа на шее катает, или на спине… «И-и-го-го» кричит. Куклы в кроватках… Даже ей, ещё не взрослой, стало жаль новенького. И мать жива, и как нет её.
Слышимость была никудышная.
– Пойдём в другую комнату, – попросил новенький.
Ленка тоже перешла от одного окна к другому. Двери в комнате они за собой притворили, пьяные голоса притихли, форточка немножко открыта, тем чётче под этим окном различались голоса новенького и его матери. Скрипнула сетка, кто-то сел на кровать. Шелест развёртываемой бумаги. Дробный стук о стол дешёвой, без фантиков, карамели. «Сегодня их давали на ужин», – сообразила она.
– Это тебе, мам, – говорил новенький. – Не носи им, – просил он.
…Затянулось продолжительное молчание…
– Зачем ты, сынок… – послышалось наконец.
– Мне хватает там, – говорил сын, – нам там много дают, остаётся…
Ленка не видела, только редкие всхлипы доносились сверху. Пьяная мать сидела в обнимку со своим сыном. Он по-детски прижимался к ней. Текли слёзы, и они оба шмыгали носами.
– Ты ж мне душу всю клочками рвёшь, – встала она.
– Не пей, мам… Они вернут меня! Я домой хочу! – просил он.
Она промолчала.
– Коли просто было бы… – говорила она через время.
Она вытерла слёзы. Глаза от них были красные. Её пошатывало. Она прошла к гостям. Подошла к столу. Сын стоял позади в дверях.
– Уходите, – попросила она.
– Куда? – возмутились пьяные голоса. – Не на улице же пить, не май месяц, холодина такая! – просились они остаться.
– На улице допьёте, – настаивала она, – не видите, у меня сын пришёл.
– Что теперь, свет клином сошёлся? Сын пришёл! – возмущался кто-то.
Гости нехотя засобирались. Своё недовольство кто как выражал. Кто под нос, кто выговаривал. Недовольные, что её обормот не дал им допить, они сгребли всё спиртное со стола и вскоре покинули квартиру. Андрей приметил перемену. Раньше бы она их не выгнала. Мать села на край дивана. Водку собутыльники унесли всю с собой. Она слила в один стакан разлитое и не выпитое ими. Получился целый стакан. Опрокинула его залпом, и прилегла на диван. Из её стекленеющих глаз бежали слёзы.
– Тоже уходи, – попросила она. – Не бей душу.
Он продолжал сидеть, он соскучился по ней, он держал руку матери в своей руке. Она уснула. Он немного ещё посидел и ушёл. Могут хватиться.
Ленка возвращалась вперёд. Она не сдержалась. Она ревела навзрыд. Новенький казался ей счастливым. У него есть, кого любить. Ему есть, о ком заботиться. Она прятала глаза от встречных прохожих и бежала к детскому дому.
Мать не уснула. Она только делала вид, что уснула. Как только стихли шаги сына в коридоре, она открыла глаза. Долго смотрела сквозь пространство. Отчаянно схватила пустую бутылку и швырнула её в стену. Стекла рассыпались по всему полу и напоминали ей её слёзы. Она хотела встать и закрыть двери на замок, но локти её провалились и она, наконец, уснула.
* * *– Я случайно увидел, смотрю, он конфеты в карман складывает, сосиски в пакет и тоже в карман, весь хлеб несъеденный со стола собрал, – докладывал «Сметана», – думаю, что-то тут не чисто, стал следить. А он после ужина сквозь забор и на волю. Хотел за ним идти, тут у дырки я чуть с Ленкой конопатой лоб в лоб не столкнулся. Вовремя у кустов присел. Она меня не заметила. Гляжу, а она-то тоже за ним следит. Ну, тут и я за обоими. Он как по лабиринту, переулками петлял. Я их уж было…
– Давай покороче, – перебила она, – меня уже ждут.
Сметанин появился совсем не вовремя. Надежда торопилась. Она уже опаздывает в милицию. Сегодня будут очные ставки с пенсионерами, видевшими детей на месте порчи автомобиля. В то же время Сметанин никогда не приходил с пустым. Опять эта компания. Вернее, член этой компании. Что с девкой случилось. За последнее время она слишком много напоминает о себе. Ещё год назад скромница, прилежная ученица, не имела нарушений. Не слышно и не видно было. Теперь – что? Правду говорят – в тихом омуте черти водятся. Она взглянула на часы. Времени уже было в обрез.
– Я и говорю, – осёкся «Сметана», – домой он к себе сбегал, полчаса там побыл и обратно. Ленка, та вперёд него вернулась. Чё ей от него надо было, ума не приложу?.. – пожимал он плечами.
– Хорошо, молодец, иди, – приказала она.
«Вот новость, этого ещё не хватало! Дети уже начали продукты пьяницам таскать», – думала Надежда. Она задержалась ещё ненадолго. Вызвала к себе воспитателя и приказала наблюдать за новеньким. После выбежала на дорогу и поймала такси.
Следующим днём у забора детского дома была замечена женщина. Выглядела она очень бедно. Зелёный однотонный тканный шерстяной платок, косынкой подвязанный, прикрывал жирные рыжие крашеные волосы. Серое в мелкую ёлочку осеннее пальто висело на ней как на вешалке. Или женщина за последнее время сильно похудела или же оно с другого плеча. Коричневые хлопчатобумажные колготки. На ходу подол пальто распахивался, и мелькали вытянутые коленки. На ногах дешёвые боты из кожзаменителя на каблучках. От женщины несло перегаром. Она ходила вдоль забора и ждала, беспрестанно выглядывая кого-то за кустами у забора.
Надежда стояла у окна и заметила её, занятая своими делами; сначала она не придала значения увиденному. На днях у неё должна состояться плановая проверка. С проверкой будет Сам из гороно. Вчера у неё отлегло от сердца. Пенсионеры не указали на компанию. Пожалели или и правда – не они. Тем не менее, ЧП получилось избежать. И всё же могут обнаружиться мелкие недочёты, но это не в счёт. Их всегда находят. Слишком хорошо – тоже плохо. Для профилактики пожурить всегда найдут за что. Чтоб не расслаблялись. Поэтому она не боялась результата проверки. Так, присутствовал лёгкий озноб от предстоящей суеты. Она вызывала к себе сотрудников и рекомендовала устранить ещё имеющие место быть недочёты. Через полчаса она снова стояла у окна. Женщина всё так же ходила вдоль забора. «Что ей тут нужно?» – подумала она. Сейчас её насторожило нездоровое любопытство женщины по отношению к забору не у ворот, а там, где её не видно со всех сторон. Надежда видела только потому, что её кабинет находился выгодно на высоте. Больше ни дед Федот, ни кто-либо другой видеть женщину не могли. «Это что ещё за номер?» – возмутилась Надежда. Через минуту она увидела совсем уже удручающее. От забора к женщине бежал белобрысый воспитанник. Новичок, которого недавно определили в её детский дом, радостно бежал к своей матери. «Вот оно что!» – взорвалась она. Надежда тут же вызвала воспитателя, которому днём раньше поручила наблюдать за новеньким. Слова Сметанина – это одно, его выдавать нельзя, новенького нужно поймать с поличным. Вот как, значит, выполняются её поручения! Она пребывала в диком бешенстве.
– Я вам поручала наблюдать за новеньким! – с порога набросилась Надежда на воспитателя.
– Я глаз с него не спускаю, – ничего не понимала воспитатель.
– Где он сейчас? – спрашивала Надежда.
– Отпросился в библиотеку, – отвечала воспитатель.
– Подойдите сюда, – попросила Надежда.
Она приглашала её к окну. Под окном, вне территории, за забором детского дома, сквозь ветви, освободившиеся уже от листьев, отчётливо различались два человека. Женщина и новый воспитанник. Ребёнок что-то хотел передать ей, та отказывалась. Он настаивал. Женщина сдалась и положила свёрток в карман.
– Это что, по-вашему, библиотека? – спрашивала Надежда.
– Но… – начала было воспитатель.
– Что – но?! – перебила её директор. – Знаете, что вы сейчас увидели?
Воспитатель окончательно ничего не понимала. Всему детскому дому, всем без исключения известно, что детей, у которых имеются родители, последние посещают тайно. Негласно. Это было обычным делом. На подобные вещи всегда смотрелось сквозь пальцы. Воспитатель отказывалась понимать директора. Она не видела в сложившейся ситуации той проблемы, от которой мог отталкиваться такой, столь категоричный тон. Словно вдруг небо свалилось на землю.
– Мать, – робко говорила воспитатель.
– И всё!
– Всё, – пожимала плечами воспитатель.
– Этот новенький уже который день таскает ей продукты из столовой. Что вы только что и видели.
Воспитатель от удивления раскрыла рот. Надежда продолжала:
– И меня, – и как директора и, в первую очередь, как человека задевает за живое то, что продуктами с того стола, который предназначен для того, чтобы напоить и накормить детей, закусывают водку пьяницы, бомжи и разного рода конченые и никчемные личности. И ещё меня задевает то, что это происходит в том заведении, которым руковожу я!
Надежда едва не сорвалась на крик. Виновато хлопая глазами, воспитатель произнесла:
– Я приму меры.
– Уж примите! – приказывала директор. – Попрошу вас более ответственно относится к поручениям и к своим обязанностям. Любая работа любит порядок.
Скрытая угроза слышалась в её словах.
– Но я же выполняю свои обязанности, – совсем неуверенно пыталась оправдаться воспитатель, – среди моих детей нет нарушений, и дисциплина на уровне.
– Вот эта дисциплина! – указала она за окно. – Ваше «без нарушений и дисциплина» – это выполнять распоряжения руководства. Этого новенького готовьте к переводу в другой детский дом. В другую область. На другой конец страны. Подальше от этой его мамаши. Они переводов не любят. И другим назидание, чтоб неповадно было. Я добьюсь его перевода.
Вновь известие о переводе новичка в другой детский дом, как и полагается звуку – со скоростью звука, рикошетом со стен донеслось до всех слышащих.
Надежда задумала действенную меру. Ей не нравилось настроение детского дома в последнее время. Многие задумаются. С переводом нужно обживаться на новом месте. Вот это-то их и пугает страшно.
* * *Временами забирал резкий прохладный ветер и подбрасывал ещё не успевшие слежаться опавшие листья. Бросал их позёмкой с места на место и не давал им покоя. Погода стояла беспокойная. С порывами ветра деревья верхушками крон, как девицы косынками в танце, махали и совершали наклоны из стороны в сторону. Полоской петляла среди деревьев тропинка и прямиком выходила к жилому корпусу. По тропинке шёл отец Серафим. Неподалёку от тропинки, среди кустов, стояла скамейка, со стороны она видна не была. Над растительностью торчали детские головы, и слышался разговор:
– Так не всегда было, – говорил хорошо знакомый священнику голос. – Мамка у меня ещё молодая. Она, когда трезвая, часами со мной сидела. Мы о разном мечтали…
Отец Серафим остановился и слушал.
– Почему ты нам сразу тогда не сказал, кому продукты несёшь? – спрашивал голос девочки.
– Стыдно было… – отвечал малец.
– Дурачок, – говорила она снова, – всё равно ж узнали бы. Здесь всё рано или поздно узнаётся.
– К мамке бегал. А отец твой что, бросил вас что ли? – говорил подросток постарше.
– У меня два отца, – говорил малец.
– Отчим что ли? – слышался голос ещё одного подростка.
– Не-а, – бросил своё привычное малец, – один помер, второй отец Серафим.
– Это тот поп, что к тебе приходит? – спрашивали его.
– Ага, – отвечал малец. – Видели его? Он добрый! Рыбачить со мной ходит… – хвалился он.
Тут отец Серафим услышал шаги. Он увидел высокую худосочную женщину в больших костяных очках. Директор детского дома направлялась к нему. Заочно он знал её. Наслышан был слухами. Совершенно противоречивыми. Кто-то говорил о ней как о хорошем хозяйственнике, но как о человеке отзывались как о непонятном и сложном. Кто говорил одним словом: с ней всё ясно – карьерист! Много разных мнений было о женщине, идущей к нему. Слышал много. Несколько раз видел издалека. Сам, лично, знаком не был. Вот и выдался случай.
– Вижу, идёте, – говорила она, приближаясь, – уже не в первый раз к нам зачастили в последнее время, а ко мне всё никак не удосуживаетесь зайти.
«Строгая, консервативная», – так отметил для себя автоматически Серафим.
– Всё каждый раз думаю, да как-то не успеваю, всё второпях, – отвечал священник. – Мальца одного нет-нет между делом проведаю, – степенно говорил отец Серафим.
– Знаю, – осведомлённо говорила Надежда, – новенького.
– Тяжело мальцу здесь, – продолжал Серафим.
– Не хуже, чем другим, а уж тем более не хуже, чем дома, с пьяной мамашей, – говорила директор.
– Хуже, – коротко сказал Серафим.
– Отчего же? – недоумевала она.
– Мать есть мать. Дитё есть дитё. Оно при матери должно быть.
Полный протеста вскинула она на него взгляд.
– Каждый божий день пьяницы-собутыльники, мат-перемат!
Отец Серафим смолчал.
– Значит, думаете, неправильно суд постановил – к нам ребёнка определить?
– Думаю, неправильно, – к великому её удивлению говорил он эти свои слова.
– Интересное дело получается! – недоумению её не было предела. – Вы меня совсем обескуражили. Как так! Вы – божий человек, и такие слова от вас слышу. Вы мне о том говорите, чтобы ребёнка оставить в пьянстве, голоде и разврате? Прости меня, Господи!
Она перекрестилась.
– Разве я это сказал?
Отец Серафим был спокоен. Тогда как Надежда вся из себя выходила.
– Как же вас понимать, если вы так говорите!
– Я говорю, что не решение – дитё от матери отбирать.
– И…! – запнулась она на миг, слова её закончились. – Что же будет решением?
– Не знаю, – пожимал он плечами. – Но и это не решение.
Наступило замешательство. Молчали оба. Каждый думал о чем-то своём. Каждый шёл и думал о неправоте своего спутника. Надежда так уверенно чувствовала себя в своей правоте, что все её «я» негодовало в ней. Отец Серафим думал по-другому.
– Лучше никому не стало, – продолжал он совсем неожиданно, – было две беды. Одна – мать пьяница. Вторая – сын при матери пьянице. Стало: одна – мать пьяница. Вторая – сын без матери. Третья – малец в детский дом определён. Для него старались, да перестарались.
– Так что же – лучше всё как есть оставить?
– Не лучше, – удивлял опять он её противоположностью своих ответов. – Только раньше время упустили. Теперь самое простое сделали. Закон исполнили. Проблему с плеча своего сняли. А лучше никому не стало. Только нам спокойнее. Инструкции выполнены.
– Нянчиться с ней, что ли, надо было? – ухмыльнулась она.
Ухмылка её эта… Всегда боялся отец Серафим таких ухмылок.
– А хоть бы и так, – произнёс он. – Не жалеть, это обязательно. Мы часто любим это делать. Для своего успокоения. Мол, словом помогли. И успокоились. Оставили. От жалкого слова ещё сильнее выть хочется.
Священник недолго молчал и продолжал:
– У меня знакомая одна есть, из прихожан. У её собаки зуб золотой вставлен. Клык. Самый тот, что на виду. Очень богатая женщина.
Совсем неожиданно для себя он это ей говорил.
– К чему вы мне это говорите? – она также не понимала: почему он говорит ей это.
– Не знаю… только часто её вспоминаю, как прихожан вижу в безысходности или вот здесь, – он провёл рукой, – мальцов с мечтой несбыточной в глазах.
– Персонал из сил выбивается, условия им создаёт, – попробовала неуклюже заступиться она.
– Заболел у её любимой собаки зуб, – не слушал он её. – Она ему его вылечила. Заодно и золотом украсила. Хозяйка собаки раньше очень бедной была. Всё в церковь ходила. Молилась. У образов помощи просила. Исповедовалась. Прощения за грехи просила. С пониманием была. Сама небогато жила – нищему подавала. И не копейку – видел! А чтоб наелся подавала. Сейчас же зуб собаке вставила… В церкви за год только пару раз и видел…
– Так её это дело, – говорила Надежда.
– Может быть, – пожимал он плечами. – Только за неё тогдашнюю спокойней было… – Тут он как вспомнил: – А о решениях… Нет у нас механизма, такие сложные ситуации решать. Во всём мире есть. Психологи работают. Без работы не сидят. Такой беды везде навалом. Не всегда получается. Но бьются. Если при больших трудах одного спасут… Большое дело.
– Переводим мы парня, – неожиданно открылась она.
– Знаю, – не удивился отец Серафим. – Бог вам судья. Образовалась проблема. С плеч долой её.
– Порядок тоже должен быть. Я не могу позволить таскать со стола продукты пьяницам. Пусть даже если это для матери. Не могу оставить без действия. Другие видят.
– У него всего один единственный человек на свете есть. Пусть пьяница. Не о ней сейчас. Он видит, что она голодует. Неважно – почему. В нём дело. Близкий человек голоден. Он её накормить хочет. У него есть любовь к близкому человеку, к матери. Давайте добьём его за это.
Отец Серафим повернулся и пошёл прочь, не прощаясь. «Отчего людям в миру так близко сострадание, и так далеко – участие?» – задавался он вопросом.
* * *Три дня Света не пила. Три дня она пролежала на диване, обливаясь холодным потом, преодолевала похмелье. Дверей никому не открывала. Всё опостылело. Видеть никого не хотела. Иногда кто-то подходил к её дверям, стучался, слышала пьяные голоса. Вскоре они уходили. Сна не было. Иногда впадала в забытье. Тогда её начинали мучить кошмары. Просыпалась. Думала. Слава Богу, что это сон. Думала. Неужели я этого хотела? Кто проклял меня! Кляла себя. Скажи ей кто семь лет назад… Что это она, опухшая от пьянки, валяется на диване. Она бы в глаза тому человеку рассмеялась! До сегодняшнего дня она даже не задумывалась. Сегодня почему-то поняла – она алкоголичка! Всё пропито. Семь лет назад в глаза плюнула бы. Сегодня лежит, глазами сверлит потолок и соглашается: Я – алкоголичка!
Света встала, прошла в ванную, посмотрелась в зеркало… Поморщилась. Все тело наполнял непонятно откуда взявшийся страх. Пугал любой шорох. Тело плохо слушалось. Координация давалась с трудом. Она сбросила с себя всю одежду, встала под душ и долго обливалась водой. После душа стало легче. Вода придала сил. Вышла из ванной и прошла к шифоньеру, сняла с вешалки вещи, о которых уже успела забыть. Они пришли из прошлого, от которого она так упорно хотела спрятаться за бутылкой. И к которому она сейчас так безудержно стремилась. Нашла в белье на полке чистое полотенце и насухо вытерла волосы. Мягкие, они лоснились. Пусть без стрижки! Уложила, как смогла.
На стене два портрета. Муж и дочь. Они всегда тут висят. Как давно она их не видела. Около часа она просидела без движения. Думала. Что дальше? Сын… В детдоме… Страх! Одна! Скорей на люди! Она встала и вышла из квартиры. Закрыла двери на ключ. Она шла к сыну. За долгое время – шла трезвой. Она уже решила. Она шла с обещанием, что больше не будет пить.
От этого её решения почему-то всё стало представляться совершенно по иному. Одежда, по которой даже соскучилась, как-то по родному облегала её тело. Мягкие, пахнут мылом, волосы. Улица. Не за водкой иду! Хвасталась она ей. Погода, паскудница, промозглит дождём, а на душе радость мандражит. Домой даже и возвращаться не хочется. Ветер пробирает! Скоро снег ляжет! Осень уж что-то затянулась. Тучи снеговые клубнями клубятся. Бьют колокола на горе. Зайду! Она свернула в сторону церкви. Денег нет… Подать бы нищенке… У ворот церкви сидела женщина в лохмотьях непонятного возраста с идиотским выражением лица. «Не от праздной жизни руку протягивает… Куда там, и на свечку нет… Просто постою…» – думала она. Вошла в храм. Как надо не знает. Сразу окрик услышала:
– Голову то прикрой! – прикрикнула на неё старушка.
Света посмотрела, куда ей указывала бабка, и увидела корзину, полную косынок. Подвязалась одной и сделала шаг в храм.
– Перекрестись сначала, – ворчала опять старушка. – Потом заходи.
Света неумело перекрестилась и прошла по храму.
Справа увидела лавку. Она присела на неё и стала разглядывать прихожан. Пожилая женщина у иконостаса усердно крестилась, шептала молитву и беспрестанно кланялась низко-низко. Не каждый молодой так наклонится. «Жизнь согнёт ещё не так», – вдруг отчего-то подумалось ей. Вошла молодая девушка. Очень приятной внешности. Аккуратная. Благополучная. Светло от неё. Встреть её на улице, не подумаешь, что в её жизни есть нерешённые проблемы. И решать которые надо в церкви. Девушка сначала прошла к свечной лавке, купила свечу и пересекла весь зал к иконе святой богородицы. Немножко постояла, совсем недолго, перекрестилась и ушла. Свете показалось, что девушка пришла, сделала что-то для себя очень привычное, но обязательное, что-то как поесть, попить, и дальше шла по своим делам. В тени за колонной стояла другая скамья, на ней сидел мужчина. Изначально она его и не приметила, с улицы сразу в тени помещения глаза не видели. Теперь свыклись, и она его рассмотрела. Внешне он недалёк был от Светы. Такой же помятый и замученный ежедневным похмельем. Позднее он встал и, не замечая её, вышел из церкви. Света вспомнила его. Несколько дней тому назад он был в её квартире. Пришла одна знакомая, он был с ней, принесли водку, им негде было её выпить, и Света их пустила. Тогда она сильно болела и они опохмелили её. Сейчас он её и не узнал. В дверях появился другой мужчина лет сорока, скоро поставил свечу за упокой и так же быстро удалился. Бабка с внучатами. Три сорванца поначалу шалили, для них приход в церковь пока представлялся вроде экскурсии, но их мигом приструнили посторонние, угрожая пальцем. Посетителей было не много, но кто-то постоянно входил, был недолго и выходил. Редко получалось так, что в церкви никого нет. Бабка, которая на неё прикрикнула при входе, ходила от иконы к иконе и выколупывала огарки сгоревших свеч из подсвечников. Она освобождала место в подсвечнике для других прихожан. Устав, бабка притомлено присела на дальнем краю скамьи, где сидела и Света – перевести дух. Годы ей диктовали своё.
– Какие все разные, – отмечала в её сторону Света.
Бабка не сразу сообразила, о чём говорит женщина рядом с ней, а как поняла, что женщина сидела и наблюдала за людьми, так и нашлась чем ответить:
– Каждый со своим, – проговорила она.
– Молодая ж ещё была только что…
– Жизнь ведь без разбора бьёт, будь ты ребёнок или старик.
– Не видно, чтоб она бита была, – продолжала Света о молодой девушке.
– Эта… Эта часто ходит, – кивала бабка. – Бита, не бита, а причина знать есть, наверное. Она тут недалеко живёт. Уж лет пять, как замуж вышла, а дитё родить – ещё не родила. Догадаться только можно, о чём просит.
«Люди просят, а я пропила», – думала Света.
– Не сберегла, – вслух тихо произнесла она.
– Что? – не расслышала бабка.
– Родит, – пожелала Света молодухе.
– Бог даст, и родит, – соглашалась бабка. – А не даст, так и не родит.
– Эта – родит, – почему-то уверенно за неё говорила Света. – Не может не родить.
– Не видала тебя… не местная? – тихо спрашивала бабка.
Кивком головы, молча, Света подтвердила. «Я оттуда. Только сегодня», – думала она. Передохнув, бабка встала и ушла к свечной лавке, и уже о чём-то говорила с продавцом церковной утвари.
Лики всех святых вокруг, со всех стен, в киотах и окладах, с золотого иконостаса разглядывали её. Намоленные. Тысячью тысячами молитв. Не таких видали. Ни одного не прокляли. Кто понял, тот прощён… Кто не понял, тот тоже… Нужно понять. Я поняла… Что моя беда в сравнении с их бедами! Моя вся только во мне сидит.
– Дай силы мне.
Вслух просила она и неумело крестилась.
«Если хочешь понять – поймёшь. Я поняла потому, что хотела. Здесь нельзя не понять. Тут так намолено. Всё за меня. Я поняла…»
Света сама не своя уходила из храма. В забытьи. Она не знала, как нужно. Она даже не перекрестилась на выходе образам. Она просто посмотрела и произнесла:
– Я поняла.
Повернулась и вышла.
Мужчина. Тот, которого она видела на скамейке у колонны в церкви, теперь сидел рядом с нищенкой и просил милостыню. «На эти деньги я с ним несколько дней назад заливала своё похмелье!» – вспыхнуло в ней.
«К сыну! Быстрей! К нему! Мне есть, что сказать! Я скажу ему – я поняла!» – твердила она про себя.
Она ходила вдоль забора в надежде, что сын увидит её и выбежит. Так уже не раз бывало. В пьяном порыве неожиданной любви к сыну она приходила к этому забору. Сын видел её и выбегал. Даже гостинцы готовил… «Дурачок!» – улыбнулась она. Сердце неистово трепетало в её груди. Она представляла, как Андрюшка обрадуется тому, что она сейчас скажет ему. Это будет всего несколько слов. Она даже ещё не знала – каких. Он так долго ждал их от неё. Это будет коротко и ясно. И как будет он рад!
Света сияла.
– Опять пришла! – услышала она за спиной.
Воспитатель руки в бок грозно смотрела на неё.
– Что, снова есть дома нечего? – говорила она. – Иди отсюда!
– Мне бы сына…
– Иди отсюда, – надвигалась воспитатель, – сына ей! Раньше надо было о сыне думать. Иди прочь, а то милицию вызову.
Света попятилась.
– Мне только два слова! – умоляла она.
– Нету его, – бросила воспитатель. – Перевели. В другую область…
– Как – перевели?! – не понимала Света.
– А вот так, подальше от тебя. Чтоб ты ему тут жизнь не портила.
Света взялась за голову и стащила с себя косынку, которую она только что, счастливая, унесла из церкви.
– Как пер…
Не понимала она. Света замолчала, повернулась и пошла.
«Отчего мне всё открылось… Чтоб больнее мне ударить, – шла и думала она. – Не иметь мне счастья. Не простили». Вспомнила образа.
На лестнице в подъезде её дожидались два знакомых мужика и баба лет шестидесяти, которую она видела впервые. Они уютно, как дома, расположились прямо на лестнице, сидели сами, и стояла бутылка со стопкой.
– О, Светка идёт! – радостно воскликнул один.
– Мы уже тут позамерзали, тебя дожидаючись, – говорил другой, – без тебя уже и по маленькой разогрелись.
Света молча перешагнула через них, прошла мимо. Открыла дверь и вошла в квартиру, оставив дверь за собой раскрытой настежь. Компания ввалилась следом.
– Чё хмурая такая? – с каким-то подхалимажем заискивала незнакомая баба с боязнью, что её не пустят в незнакомую квартиру. – Щя мы тебя развеселим! – икала и обещала она.
К той начатой в подъезде бутылке на столе появилась ещё одна, не раскрытая. Света, никого не дожидаясь, взяла начатую, налила себе целый стакан и залпом осушила его.
– О, это по нашему! – громко кричала баба.
Компания сидела, пьянствовала. Света лежала на диване. Ни с кем не разговаривала. Она никого не замечала. Иногда она вставала, наливала себе, выпивала и вновь заваливалась на диван. Из стекленеющих глаз текли слёзы.
– Почему…? – шептала она изредка.
Она куда-то проваливалась. Туда, где к ней тянулись тонкие детские ручонки сына.
– Я поняла…! – шептала она.
Золотые купола Третья частьБывшее здание небольшого подразделения спортивного общества «Динамо», до поры используемое как городское объединение «Клуба моржей», из-за трудностей в финансировании давно было продано в частные руки. Быстро перестроилось и превратилось в кафе. Собственно говоря, само слово – кафе, тут звучит достаточно громко, даже скорее пафосно. Так, получилось что-то похожее на общепит в прошлом, вроде забегаловки с дешёвым пивом, с обшарпанными, редко видевшими краску стены, сколоченной наспех барной стойкой, с обратной стороны которой дефилировала внушительных размеров баба-барменша; также в том стиле были сколочены столы и скамьи вместо стульев. Плетёные плафоны светильников спускались низко над столами и создавали хоть какой-то уют в холодном, неприветливом помещении. Хотя и претерпело здание кардинальные перемены, название за ним осталось прежним. В народе так и говорили:
– Пошли в «Моржатник» пиво пить.
Над кафе с названием «Пиво с раками» красовался морж с пенной кружкой пива и подмигивал, приглашал в забегаловку. Раков там отродясь не бывало, может быть, и предвиделись изначально, но столь хлопотное дело для заведения далеко не высшего ранга не возымело иметь место. Дешевое же пиво присутствовало всегда с избытком. Оттого и стекался сюда напиться окрестный похмельный люд разного пошиба, как стада в засуху на водопой. Заведение расположилось на горке над прудом, вдоль которого растянулся небольшой городской пляж, совершенно в последнее время не пользующимся спросом у горожан ввиду крайней своей запущенности и неэкологичности. На пляже можно чаще видеть компании, распивающие под грибками пенистый напиток, чем желающих понежиться под солнышком у воды жителей окружающих районов. Хотя, впрочем, изредка встречались и безалаберные к себе людишки из числа непьющих, нисколько не пугающиеся качающихся местами на волнах сизых маслянистых полос, и ныряющих без страха в мутные волны, повизгивая от восторга.
Заведение имело ещё одну славу. Кроме помятых выпивох под его крышу стекались и игроки в карты. Порой вполне цивильно, по моде одетых, да и суммы их игры составляли довольно-таки внушительные цифры. Удобные кабинки вдоль глухой стены позволяли уединиться играющим и отдаться с головой своему пороку, совершенно без боязни быть обнаруженными властями врасплох при своём вполне незаконном занятии. Рейды милицейские бывали, не без этого, но хозяин заведения знал о них ещё до того, как представители власти успевали выехать из ближайшего отделения милиции. К тому же заведение стояло так удобно, что незамеченным к нему не мог подойти ни один незнакомец. Специально посаженный и обученный человек на дверях замечал его, и тут же оповещал хозяина. Конспирация соблюдалась безукоризненно. Хозяин старался. Игроки делились с ним, он в свою очередь делился со своими хозяевами. Бизнес процветал. Заведение приносило уверенный доход уже не один год.
Хозяин заведения – толстый армянин, он всегда сидел на одном и том же месте, в углу, за небольшим двухместным столиком. Передвигаться ему было тяжело от того, что вес его составлял сто пятьдесят–сто шестьдесят килограммов, не менее. Когда он сидел, ему приходилось раздвигать ноги так, чтобы его живот свисал между ними. Шарообразное лицо удовлетворялось вместо шеи вторым подбородком, в свою очередь уютно лежащем шалью на плечах и груди. Круглые слезящиеся глаза стреляли по столам. При каждом вздохе из груди вырывался свист и сам мужчина кряхтел при любом движении. Наблюдая за порядком в зале, он непременно постукивал по столу сарделькообразными волосатыми пальцами.
Шла игра. Играл Михалыч. Он по маленькому не играет. Будет немаленький куш. И уважение к деньгам заставляло хозяина кафе лично присутствовать во время игры и отслеживать должный порядок. Михалыч не любит накладок. Раз от разу из угла доносился глухой свист его лёгких и слышался дробный стук пальцев.
Не первый день Михалыч за карточным столом. Он не играл – играть для него было бы слишком просто. Пятидесяти пяти лет от роду, не мокрогубый зелёный юнец, он научился видеть соперника насквозь, и играть, зная ещё и карты в его руках, совершенно не интересно – скучно. Перед ним сидел очередной охваченный наркотической тягой к игре человек в клетчатой рубашке с коротким рукавом. Старомодные очки делали его похожим на инженера конструкторского бюро, бухгалтера, юриста, про таких дети ещё говорят – ботаники. Михалыч быстро определил, сколько именно парень может проиграть и вёл игру к этой цифре. Он отметил, что парень обладает неплохой памятью, знает, что осталось в колоде, понимает, на чём играет Михалыч. Таких много. Каждый второй. Знать и видеть – этого мало для того, чтобы уверенно сидеть за карточным столом. Заставить прийти нужные карты в твои руки – этим искусством владеет редкий игрок. Встречались и такие, но Михалыч чудесным образом и таких игроков обыгрывал с лёгкостью. Он не играл, он просто перебирал карты в нужной последовательности. Михалыч уже давно усвоил для себя, что играть, чтобы выиграть, ещё к тому же выиграть как можно больше, без ума считать кота в мешке – это не для него. Нужно понимать прописные истины – проигравший не сможет расплатиться больше, чем он может. Карточный долг священный. Это не он придумал. Это не взять в долг и не отдать. За него нередко ставят на ножи. Не в правилах Михалыча было ломать людские судьбы. И пустое, и суета никчёмная.
Михалыч хоть и был уже уважаемого возраста, выглядел лет на десять моложе. Любил свободную одежду. Его можно было увидеть чаще в спортивном костюме или в джинсах и ветровке. Костюмы он почти не одевал. Галстуки называл удавками.
– В них, как в скафандре с петлёй на шее, – говаривал он.
При всём этом он уважал соперника, но в то же время быль минуты, когда он был неуправляем. Это был совершенно разнополярный человек. Имея превосходство ему легко было играть в благородство. Но, прежде чем стать благородным, он раздавит соперника ногтём, как клопа. Игра брала верх. Он не мог быть вторым. Было как-то – он просто ради того, чтоб скоротать время, сел поиграть в шашки и проиграл безобидному зеваке. На беззлобную иронию окружающих он не смог сдержать себя и едва насмерть не забил ногами выигравшего. Он знал, что в игре ему нет равных, а тут, на доске, где всё как на ладони – он оказался совершенно беспомощным. Он не смог простить своего поражения.
Игра шла без лишней суеты. Для затяжки времени Михалыч то отдавал партию, то опять выигрывал, а то и опять отдавал. Он видел, когда нужно закончить, и не торопясь раскладывал карты. В противном же случае ботаник был охвачен азартом. Получив подачку в виде лишней взятки, моментально воспарял духом и уже был уверен: вот она – удача. Теперь он своего не упустит! Он же знает, что осталось в колоде, и маловероятно, что всё пойдёт к Михалычу. Он ёрзал на стуле. Но карта почему-то волшебным образом шла не к нему, и в его руках появлялись совершенно бесполезные наборы мастей.
Прошло пять часов, когда, наконец, Михалыч посмотрел на противника и произнёс, как приговор:
– Всё, хватит, пора заканчивать.
Ботаник побледнел, лоб его от напряжения покрылся холодной испариной.
– Ещё несколько раздач, – умолял он в надежде на реванш.
– Твой долг растёт и растёт, – заявил Михалыч, – ты подумал, чем отдавать будешь?
Он надевал куртку и собирался уйти.
– Оформите расписки и выясните сроки расчёта, – приказал он сопровождающему его человеку.
– Ещё несколько конов! – не терял надежды ботаник.
– Я не играю на туалетную бумагу. Если есть живые деньги – ставь, если нет – думай, как за это рассчитаться.
– У меня нет живых денег, это правда, – торопился он задержать Иваныча, – но… – он замолчал.
Иваныч остановился.
«Неужели я в нём ошибся?» – молнией мелькнула мысль.
Михалыч стоял в дверях и снисходительно смотрел на ботаника. Он был похож на удава, пожирающего глазами кролика. За последние пять часов ему впервые стало интересно. У него просто не укладывалось в голове, что он, Иваныч, мог ошибиться. Его удерживало в кабинке уже не желание выиграть что-то ещё, а интерес. Чувство необычного, нерутинного охватило его…
* * *В самый разгар лета, в то время, когда белые ночи теплы, как парное молоко, а вечера кажутся бесконечными, что кажется – день вовсе и не заканчивался, а так, просто немного утомился, передохнул и вновь забагровел на горизонте. И солнце – если и пряталось за холмами, то, посидев там совсем недолго – соскучилось, и опять подпрыгивало мячиком из-за горизонта с криком «А вот и я!» И давай лучами в листве играть, по росе искрить да своих зайчиков пускать. А к полудню совсем – такой зной напустит, что всяк живой спасение у водоёмов ищет.
В такие дни совершенно не хочется ничего делать. А если и хочется, то что-то такое эдакое, из ряда вон выходящее – сверхъестественное. Что-то как, и вечный двигатель – плёвое дело! И машина времени – сей же час сядем и придумаем. А горы, – те, что ещё не свернули, обязательно сегодня пойдём сворачивать. Но, если вдруг почему-то это, из ряда вон выходящее, по совершенно непонятным причинам в голове не образовывалось, то тут же на свободном месте несостоявшегося сверхъестественного образовывалась восторженная лень, а вместе с ней безудержное желание мечтать!
Трое неразлучных друзей валялись на песке, купались и болтали, попросту ни о чём. Ленка читала книгу. За последний год она повзрослела. Возмужали и Игорь с Олегом, но она стала особенно бросаться в глаза. Её мать была очень красивой женщиной. Она показывала фотографию матери, и друзья не без гордости отмечали, что она всё больше и больше становится похожа на свою мать. Появилась женственность. Девичье тело обрело округлости. До помады дело ещё не дошло, но реснички она уже помечала тушью.
Ленка отложила книгу и мечтательно произнесла:
– Когда я вырасту, – говорила она и рассматривала бугристые облака в небе, – я обязательно рожу детей… трёх… или нет, лучше четырёх, – быстро поправилась она. – У меня будет большой дом с собственным садом. В саду весной будут цвести яблони, а летом они будут плодоносить огромными яблоками. Сколько хочешь рви и сколько хочешь ешь. На втором этаже будет детская, полная-полная игрушек.
Рядом лежал Олег. Он лежал на животе и подпирал подбородок кулаком. Чёрный жук копошился в песке под самым его носом. Олег играл с ним. Подкопнёт под него, песок осыплется, завалит жука, и через секунду уже жук снова на поверхности – сам выкопается и бежать. Олег опять за своё. Жук снова быстро оказывается на поверхности. Вроде, безмозглый, а туда же – к солнцу стремиться.
– Ты даёшь! – воскликнул он. – Трёх или четырёх! – мотал он головой. – С одним-то хлопот не оберёшься, а она – трёх или четырёх.
– Если ещё в тебя характером пойдут, то тут совсем караул кричи, – улыбнулся Игорь.
Ленка надула губы.
– Ну и пусть, – обиделась она оттого, что друзья насмехаются над ней, и не понимают её. – Зато у них всегда будут близкие люди.
– А родители, – возбуждённо говорил Олег, – ну, то есть, ты – что, не близкие люди что ли будешь им? Ближе-то тебя всё одно никого нет, не будет и быть не может.
– Ага, а если вдруг с нами что-то случиться, – вспылила Ленка, – они тогда одни не останутся, друг дружке помогать будут.
Олег, видя, что Ленка начала заводиться, решил дальше не выводить её из себя, перевернулся на спину и самодовольно произнёс:
– А я куплю себе машину, новую, и путешествовать поеду, – он с удовольствием поджал губы, – весь мир объеду.
– Так тебя и пустили по всему миру, – всё ещё обижалась на него Ленка. – Заждались тебя там, – поджала она губки. – Надул трусы парусом, – Ворчала она.
– Куда пустят, – вздыхал, соглашаясь, Олег.
Все замолчали… Молчали минут пять… Каждый думал о своём… Игорь сидел, скрестив под собой по-узбекски ноги. Во рту торчала соломинка, которую он бросал языком из стороны в сторону.
– Я тренером буду, – вдруг заговорил он. – Как Алексей Владимирович.
– Так это работа, – не понимая, протянул Олег, – для себя в жизни тоже что-то сделать нужно.
– Я и говорю – тренировать буду охламонов, вроде тебя, – засмеялся Игорь.
Опять все молчали… Ленка взяла в руки книгу и продолжила чтение. Игорь неожиданно обратился к Олегу:
– Вчера мужики поговаривали в раздевалке.
Олег повернулся к нему и слушал.
– Зять Надежды проигрался в пух и прах Михалычу.
Олег усмехнулся:
– Сам же сунулся с ним играть. С Михалычем играть – себе дороже. Я слыхал, что за последние несколько лет он никому не проигрывал. Сам виноват.
– Михалыч-то, тот – да! Этот только игрой живёт, – безразлично заметил Игорь, – при такой жизни хочешь ни хочешь – сиди, играй, выигрывай.
Ленка подняла глаза от книги.
– Вот отчего Надежда сама не своя ходит! На глаза ей лучше не попадаться.
– Ей-то чё! – воскликнул Олег.
– Как – чё? Дочь-то у неё одна, – возразил Игорь.
– Чё-ж она, когда Димку осудили, во всеуслышание твердила, едва только кулаками в грудь не стучала – мои дети себе такое не позволят! Они у меня воспитанные! – кривлялась, передразнивая и пожимая плечами, Ленка. – Натека вот – воспитанные номера ещё хлеще выкидывают.
– В тихом омуте черти водятся, – заметил Игорь.
– Рассчитаются, – говорила Ленка.
В этот момент они услышали совсем рядом чей-то кашель. Они одновременно повернули головы в сторону, откуда он доносился. Наступила гробовая тишина. Ребята онемели. Они не верили своим глазам – в нескольких шагах от них стоял… Дмитрий. Они растерянно хлопали глазами. Прошло ещё только пол срока, на который его осудили! И, тем не менее, перед ними стоял Холодов собственной персоной во всей своей красе. Тишину прервал Ленкин визг, она подпрыгнула и повисла у него на шее, ногами обнимая за талию.
С трудом отцепив Ленку от Холодова, ребята обнялись и расселись на песке. Завели разговор.
– Я опешил сначала, ну, думаю или мерещится, или сбежал! – возбуждённо жестикулировал Олег.
– Что я, себе враг – бегать! – отвечал Холодов. – Амнистия, статья не тяжелая, малолетки и женщины многие амнистировались.
Ленка сидела подле Холодова и постоянно щипала его за бок. Она не могла сидеть спокойно.
– Это шило сегодня успокоится в конце концов? – не выдержал он.
Она опять ущипнула его в ответ.
– Бесполезно, – махнул рукой Игорь, – сидеть спокойно – это выше её сил.
Долго ещё друзья говорили. Все события, случившиеся за время его отсутствия в детском доме, узнал Холодов. Расстраивались оттого, что перевели новичка. Ребята успели полюбить его. Методы Надежды не изменились. Есть проблема – прочь с плеч долой.
Холодов снял с себя футболку, спортивные штаны, и стоял в длинных семейных трусах до самых колен, в цветочек. Ленка прыснула не удержавшимся смешком.
– Да ты модный такой…! – и тут не смогла сдержать себя она.
Холодов оттянул резинку и хлопком отпустил. Состроил гримасу Ленке, передразнивая её, с разбега бухнулся в воду и поплыл на другой берег. Друзья бросились за ним…
…До самого позднего вечера пробыли они на реке. Только когда уже совсем было невмоготу от комаров, зверевших ближе к полуночи, вернулись они в детский дом.
* * *По городу поползли слухи. Поначалу тоненьким ручейком, с каждым днём угрожающе набирающем силу и грозившим превратиться в масштабное бедствие для отдельного гражданина, невнимательного в своих действиях. И, если этот город маленький, то постепенно о событии непременно узнавал абсолютно весь город. Обязательно нашлись доброжелатели, и информация попала на слух Надежде.
Слухи были совершенно противоречивы. Кто на что был горазд. Каждый говоривший добавлял что-то своё, какие-то уж совсем интересные детали, придающие совершенную невероятность сказанному. Придумывали и сами, тут же начинали верить в придуманное и с чувством людей, убеждённых в правде того, о чём говорят, с неподдельным участием передавали из уст в уста чужую сокровенную тайну. Поговаривали, что он проиграл квартиру. Кто-то говорил, что ко всему прочему он проиграл ещё и машину, но так, как её у него нет, то он должен оформить кредит на неё в банке, и в ближайшем времени покрыть ею свой долг. Даже были совсем невероятные: якобы он должен отрубить в счёт карточного долга себе руку, а если не отрубит себе, то должен отрубить кому-то другому, впрочем, кому – не уточнялось. Тут непременно должно что-то произойти уж очень интересное, потому, как карточный долг – священный долг. Ещё невероятней промелькнул слух, что проиграл вовсе не он, а Михалыч. Михалыч такого позора пережить не смог и слёг с инфарктом. Михалыч и правда находился на лечении в больнице, но не по причине инфаркта, а по причине обострения его давнишнего недуга – язвы желудка. По городу только и было разговоров о случившемся нелицеприятном, до боли любопытном инциденте. Город кипел не всплывшим целиком событием.
Изначально Надежда не придала значения слухам. Несерьёзность их представлялось ей несостоятельной в виду того, что её семья состоит из весьма серьёзных людей – она директор детского дома, на хорошем счету и по праву относит себя к знатной элите города, дочь преподаёт русский язык и литературу, пользуется уважением. Зять был хорошей партией для её дочери – программист. Хороший программист, редкое предприятие в округе обходится без него – профессия денежная и чистая. Дочь любит, грубым словом не обидит, культурный. От того и слухи о нём для неё не имели под собой никакой почвы.
Но за зятем она всё же стала наблюдать, сказались издержки профессии – не верить словам, верить фактам. И тут зять вёл себя как обычно – был спокоен и уверен в себе. На слухи о себе самом совершенно никак не реагировал, словно они распускались не про него.
Слухи уже были столь навязчивые что, в конце концов, наступил момент, когда Надежда уже больше не могла терпеть недопонимания и ей стало необходимо объяснение. Она пришла в дом к дочери. Сели с дочерью пить чай. Зять был на работе и, когда пришёл, она дала ему помыть руки и, как только он появился в дверях кухни, Надежда попросила оставить их вдвоём. Дочь в недоумении пожала плечами и ушла в комнату. Надежда затяжным взглядом смотрела на зятя.
– Слухи слышал? – наконец спросила она.
Зять стоял у плиты и копошился с посудой. На мгновение он замер. Это не ускользнуло от пристального взгляда свекрови.
«Значит, слышал», – отметила она.
– Пустое всё, – ответил он.
– Из ничего что-то не берётся, – говорила Надежда.
Зять не поворачивался и продолжал что-то бессмысленно переставлять на разделочном столе.
«Что-то всё-таки произошло», – поняла она окончательно.
– Присядь, пожалуйста, – приказала. – Поговорим.
Сколько раз её пытались обмануть. Каждый божий день, сплошь и рядом. На каждом шагу – завхоз, воспитатели, воспитанники. Комок интуиции внутри неё сжался. Зять боролся с растерянностью, не смотрел ей в глаза. Её внутреннее чутьё утверждало – зять врёт. Насколько? Это она и хотела узнать.
– Ну, так как? – устало настаивала она. Вот этой самой реакции, которую она видела от зятя, она и боялась изначально. Но неопределённость давила сильнее.
Зять сел напротив.
– Тебе лучше всё самому рассказать, – просила она.
– Немного проиграл, – выпалил он одним вдохом.
– Сколько?
Строгий командный тон, присущий ей в такие моменты, превратил его одномоментно в ничтожное существо. Она действительно в один миг переменила мнение о нём. Четыре общечеловеческих греха она считала непростительными – распутство, наркомания, пьянство и карты. Все, кто носил в себе эти пороки, для неё не имели будущего. Даже кражу она считала менее значительным пороком, преступлением… да, но пороком – не всегда. Иной раз вопрос греха здесь спорный. Большинство краж совершается от безысходности, зачастую, когда человек просто-напросто хочет есть; даже убийство она наверняка могла бы понять. В гневе человек неуправляем, может случиться всякое. И не всегда всё зависит только от него. Но тут… эти пороки! Человек носит их в себе, вынашивает. Человеческий фактор тут не уместен, исключений не бывает. У человека болезнь, его тянет. Он готовится совершить их. Это слабые люди и, по её убеждению, они не должны составлять опору общества. Они не способны противостоять соблазну. И самое страшное – ЭТО они могут передать по крови своим детям. Теперь она радовалась, что дочь в своё время не послушалась её и прекратила беременность, отложив рождение ребёнка до окончания института. Ах, как она тогда правильно сделала! Таких людей, как он, нужно уничтожать. Не залезть в гены, не вырвать тот маленький молекул, который породил эти пороки. Только уничтожение. Вытравить, как паразитов – единственное приемлемое средство. Клещ, крыса и таракан всегда останутся клещом, крысой и тараканом. Мнение надежды переменилось – она видела его даже не клещом и не крысой, она видела его ничтожным тараканом. Таких – только дустом.
Зять соврал. Он назвал какую-то совсем незначительную сумму денег. Она поняла это без труда. Но это уже не имело для неё совершенно никакого значения…
Зятю и самому было невыносимо вспоминать прошедшие дни. Кошмарный день! Он гнал от себя мысли о неминуемом расчёте с Михалычем. До времени расчёта ещё оставалось время. Он надеялся что-то придумать.
При воспоминании о нём его пробивал холодный пот…
– Но… – не решался говорить ботаник, – есть… – сбивался он, – я могу… – ком в горле мешал ему говорить.
Им вдруг овладело странное безумие. Последние прикупы он брал один за другим. Его проигрыш – это досадная случайность. Он же теперь знает, как играть с Михалычем! Он просчитал всё за секунду. Точно, он знает! Его мозг перерыл всю память в поисках возможностей последней ставки. Ещё одна ставка, и я отыграюсь. Вдруг невесть откуда появились силы.
– У меня молодая жена, – наконец выпалил он.
Он произнёс это так уверенно, что любой, видевший его в эту минуту, тоже не засомневался бы в его скором отыгрыше. Так же и он сам… «Я знаю! Я просчитал. И ещё… Эта ставка! Разве я могу с такой ставкой проиграть… Да нет же!»
– И ты готов поставить её на кон?! – крайне изумлённый, спрашивал Михалыч.
– Да! – безумно твердил Голиков.
– Ну, что ж, давай поиграем, – спокойно согласился тогда Михалыч.
Искорка Надежды, доселе теплившаяся в душе игрока, превратилась в пламя. Он снова в игре. Блаженная дрожь охватила его. От нетерпения он ёрзал на стуле. Руки его дрожали.
Михалыч снял куртку и повесил на спинку стула. Раздали карту… Через пятнадцать минут он проиграл жену… Михалыч одевал куртку. Он сидел перед ним белее снега.
– Уж и не знаю, как теперь быть… – озадаченно произнёс Михалыч. – Долг как теперь отдавать – тебе думать. Срок – месяц.
Голиков пребывал в шоке.
– Только один раз, – в надежде спрашивал он.
– Это уж как получится, – усмехнулся Михалыч, – время покажет.
Ему больше не хотелось находиться с мерзостью в одном помещении. Он многих видел. Этот отличился особой ничтожностью. Брезгливо сплюнув ему в ноги, он направился к дверям.
На выходе Михалыч остановился. Он не забыл о присущем ему благородстве.
– Денежный долг я списываю, хватит с тебя и жены.
Михалыч вышел, оставив Голикова сидеть в оцепенении. Он дал денег армянину и покинул заведение.
Теперь Голиков клял себя какими только мог словами, но слезами горю не поможешь. Он не мог понять, как так могло случиться, что он поставил на кон свою жену. Казалось, что происходящее случилось вовсе не с ним. Что это – просто кошмарный сон. Он проснётся, и всё будет не так, как во сне.
– Как ты намерен рассчитываться? – безразлично спрашивала Надежда.
– Я уже рассчитался, – врал Голиков.
Её безразличие основывалось на её решении. К чему ей проблема, сидящая перед ней. Она разведёт его с дочерью. Перед ней сидел человек без будущего.
* * *Дмитрий Холодов с возвращением стал ещё больше выделяться среди своих сверстников. Колония для малолеток, как, впрочем, и всё происходящее – что бы ни было – для любого из нас всегда неминуемо оставляет свой след, не могла пройти для него бесследно. В детский дом вернулся он уже юношей, повидавшим мир. Он создал его сам для себя. Сложил кирпичики виденного. И сформировалось. Куда взрослее. Пришла ранняя зрелость. И только годы не позволяли ему покинуть эти стены. Повзрослел он не только внешне. Человек, прошедший через испытания, обязательно меняется. Каждый непременно делает для себя выводы. Так произошло и с Холодовым. Он твёрдо поклялся сам себе, стоя под иконами, что в своей жизни он никогда и никому не сделает подлости. Не предаст. Он видел уже много своих ровесников – легко предающих… и преданных… С лёгкостью обманывающих, и обманутых… «Сметана» в этом списке далеко не первый. Он так – мелкий подлец, не понимающий, что творит. И Дима его простил. Зачем держать злобу на то, что тебе не изменить. Есть рядом… нужно знать об этом, не уподобляться… А не порождать новое зло, даже по отношении к недругам, это в его силах. А есть и хуже… Он видел в колонии случаи, способные разрушить любую веру в правильное. Одного, редкого, это закаляет, другого – ломает… В то время, когда был повод подумать об условно-досрочном освобождении, когда на горизонте замаячили лучики свободы иной, и не редкий из осужденных, не имел брезгливости и шёл в оперативный отдел или к начальнику колонии и рассказывал всё, что знает из того, что они ещё не знают. Подобная мера уже давно с успехом прижилась в колонии. Администрация колонии не обманывала – отпускала. Надо отдать ей должное – действенная мера… В колониях осужденные живут маленькими группами, именуемыми семейками, по три-четыре человека. Едят вместе, добывают хлеб, одежду. На столовских харчах много не протянешь. Члены семейки считают себя больше, чем братьями. Бывали случаи, когда перед освобождением кто-то из семьи наведывался в администрацию и заслуживал преждевременное освобождение, рассказав о своих же братьях… «Вот где высшая подлость», – считал Холодов. Но даже и тех, кто просто обыгрывал в карты, пользуясь недалёкостью, или выманивал вещи хитростью, пользуясь наивной доверчивостью, даже таких Холодов недолюбливал, хотя они и пользовались авторитетом. Высшая бравада – найти лоха и лохануть его. От всего этого попахивало какой-то гнилостью. И авторитет такой был покрыт плесенью. Простой вопрос «Правильно ли это?» расставлял всё по своим местам ответом на него – «Нет». Всё просто и понятно.
Когда человеку в жизни не сладко, когда человеку уже не во что верить, он вспоминает о Боге.
Холодов свято верил, что в его силах прожить честную и достойную жизнь. Такую, чтобы его дети могли гордиться им. «Если у меня так получилось, пусть случиться мне уроком». О семье всё чаще и чаще думалось Дмитрию. Как-то понималась ему легко его предстоящая жизнь, на пороге которой он находился. И понимание это к нему пришло через… нет, не безразличие и холодность. Судьба таких, как он, далеко не безразлична многим. Безучастие… Безучастие из обстоятельств. Суета разделяет два мира. За забором с одной стороны и за забором с другой стороны. Суета у одних, и безысходность других. У них свои заботы. Остаётся пребывать со своими обстоятельствами. Он много думал. В колонии долгими бессонными ночами отдаёшься мечтам. Легко никогда не приходилось. И, когда совсем было невмоготу, он брал в руки библию. Открывал её безразлично на какой странице и обязательно находил в ней ответ. Он научил себя не винить людей в происходящем. И он решил: руки ноги есть, голова – слава Богу, не жалуюсь: сам смогу расставить всё по местам в своей жизни. С этими мыслями он стал по другому относиться даже к так ненавистным любому заключённому люду воспитателям, надзирателям, оперативникам и всей братии юстиции, осуществляющей за ним надзор. Нет, не душа нараспашку, конечно, к ним, но со словами «к чему винить того, кто сам не ведает, что творит». «Так есть… И это обстоятельства… Считаться с ними придётся», – думал так, и ему становилось легче. Злоба если и появлялась, то от этих мыслей она куда-то мигом улетучивалась. «Если бы на земле жил хоть один ангел, то земля представлялась бы Раем», – думая так, он поднимался духом, и обстоятельства начинали представляться ничтожными, что помогало преодолевать их.
При всём он видел себя в будущем. Но ситуация, сложившаяся вокруг него сейчас, ввела его в затруднение. Его задела история новичка, переведённого в другой детский дом. Друзья успели полюбить того. Безучастие, которое всегда преследует его, играло сейчас над ними обоими злую шутку. Он не мог и не хотел оставаться безучастным. Холодов знал, что нужно делать… но тогда ему придётся нарушить собой же данное перед иконами обет не порождать зло, не быть источником его. Самое неприятное, что его задерживало, так это то, что для достижения своей цели ему придётся использовать методы, присущие тому миру, с которым он был глубоко не согласен. Но зато он может вернуть пацана обратно, ближе к матери. В этом он был он твёрдо уверен. Так что важнее?
Было трудно… Дмитрий запутался. Он вспомнил о Боге…
Неразрешимая стояла перед ним задача. Холодов шёл в храм.
Войдя в церковь, он осведомился в свечной лавке – можно ли поговорить с кем-то из священнослужителей. Торговавшая там пожилая женщина указала в дальнюю часть помещения, где говорил с прихожанами отец Серафим.
Не колеблясь ни минуты, Дима направился к нему. Дождался, когда тот освободится, и заговорил:
– Мне совет нужен, – говорил он, – не могу всего сказать вам оттого, что не только мои тайны затронуты здесь. Сомненья точат изнутри. Вроде и не правильно, а делать нужно. Не по мне делать неправильно… Опять же – неправильно, но зато справедливо. Как тут разобраться?
Отец Серафим задумался и проговорил:
– Раз говорить не хочешь, не говори. Предать себя, значит не стоять твёрдо на земле. Опять же, как можно совет дать, не зная – в чём. Противоречий много в каждом из смертных – чёрное и белое, доброе и злое. Как хочешь называй лукавого. Как я в твоих разберусь? Они тебе одному ведомы. О них только ты знаешь. Тебе в них и разбираться. Сам решай для себя.
– Как тут решишь, – развёл Холодов руками, – когда такие сомнения одолевают.
– Это хорошо, когда они тебя одолевают. Знать, не всё в тебе потеряно. Тут, скорее, в другом дело…
– Так в чём же, отец Серафим, скажите? – настаивал Дмитрий.
Отец Серафим помолчал и проговорил дальше:
– Важнее вот что: всё, что делает человек, он должен понимать – в каком его месте зародилось это желание, откуда оно идёт. Лукавый не дремлет, денно и нощно, на каждом шагу капканы под ноги подставляет. Если оно от порока, алчности, соблазна свою родословную ведёт, то как же оно может быть справедливо и правильно? А если оно идёт оттуда, – Серафим положил руку себе на грудь, – от сердца, от души… Если это неправильное вопреки рождает не зло, а служит добру – наверное, вот это и праведно, – неуверенно договорил Серафим.
Дмитрий внимательно вникал в то, что говорил отец Серафим. Священник спросил:
– Ответил ли я на твой вопрос?
– Да, отец Серафим, – отвечал Дмитрий.
– Но помни: коль что-то праведное желаешь сотворить, добро не вознаграждается, праведники всегда жертвовали собой, – продолжал Серафим, – подобно Иисусу, за нас выбравшему крест. Не один ещё при жизни не жил счастливую жизнь. Искупление чужих грехов человеческих – вот удел праведного человека. Это особенные люди. И испытания ниспосланы им также особенные.
– Спасибо! – проговорил Дмитрий.
Отец Серафим перекрестил Дмитрия и приказал:
– Ступай с Богом, слушай своё сердце, похоже, есть оно у тебя. Запомни ещё одно: добро и зло твориться человеческими руками.
И неведомо было отцу Серафиму, ради кого Дмитрий задумал то, что тот задумал. Кабы знал, бальзам на душу излил бы…
* * *Алексей находился в тренерской, когда в дверь постучали. Мгновение спустя в дверном проёме появилась голова Холодова.
– Можно? – спросил он.
Встревоженность или, уместней тут скорее сказать – возбуждение, с которым он спрашивал разрешения войти, бросалась в глаза.
– Заходи, – разрешил Алексей.
– Мне нужно поговорить с вами, – с ходу выпалил Холодов.
Алексей взглянул на стену, где висели часы.
– Пацаны пока разогреваются… минут пять у нас есть.
Дмитрий и сам видел, что пришёл не совсем вовремя.
– Не хватит, – проговорил Дмитрий.
Алексей пожал плечами, развёл руками, хотел попросить отложить разговор на другое время, после тренировки, но, встретившись с взглядом Дмитрия, передумал. Парень пришёл к нему с чем-то важным. Он приоткрыл дверь и крикнул кому-то в зале:
– Займи их пока на спаррингах.
Прикрыв дверь, он повернулся к Холодову. Дмитрий присел на стул. Собирался с мыслями и говорить не торопился. Алексей ждал.
– Мне нужна ваша помощь.
Алексей ждал… Всегда собранный и уверенный, Холодов не мог скрыть волнение. Он собирался с мыслями. Тренер не торопил.
– В ближайшие дни я сяду играть за карточный стол. Эта игра очень много значит для меня и не только для меня. Мне крайне необходима ваша помощь. Если не вы, то больше мне не к кому обратиться.
Алексея едва не хватил удар… Всего, что было противозаконным и ещё хуже – аморальным, он сторонился всю свою жизнь. Будь это хоть банальный безбилетный проезд в автобусе. Учил этому своих воспитанников. Учил и сидевшего сейчас напротив него Холодова. «Этот сопливый юнец совсем спятил, придя ко мне с такой просьбой!» Слова Холодова вскипели внутри подобно воде, попавшей на раскалённый метал. Подобно бомбе. одов овернулся и вышел. ели неожиданно навернувшейся влагой. а. Вот-вот сдетонирует. К кому он пришёл! О чём просит!
– Ты, сопляк, понимаешь, к кому ты пришёл? – едва сдерживая себя, растянуто говорил тренер.
Минуту назад сидевшего на стуле Холодова переполняло волнение. Неуверенность, с которой он пришёл к своему тренеру, бесследно исчезла с началом разговора. Трудно было ему начать столь необычный для обоих разговор. Разговор начат. Сейчас Холодов смотрел уверенно. Он был уверен, что наставник ему поможет. Вместо ответа Холодов слегка кивнул головой, прикрыв на секунду глаза, показывая полное понимание момента и адекватной реакции тренера.
– Говори, что ты удумал? – холодно спросил Алексей. – На помощь можешь не надеяться. В подобные игры играй без меня. – Он помолчал и продолжил: – Я знаю тебя. Если ты решил играть, то будешь играть. – Его сейчас больше волновал вопрос: «Почему, заранее зная о моём отношении к подобным вещам и бесполезности разговоров на эти темы, он всё же пришёл ко мне?» – Придя ко мне либо ты спятил, либо…
– Либо, – резко прервал Холодов наставника.
Алексей так же знал, что это он учил его быть всегда самим собой, в любой ситуации, что бы ни случалось. Холодов не юлил, пришёл с трудным вопросом к нему. И ещё тренер знал, что этот безусый юнец, за свою, хоть ещё и совсем маленькую жизнь, успел сделать поступки такие, каких многие не сделают за всю свою жизнь из-за своей неспособности делать их. Тренер подошёл к парню, положил руку на плечо:
– У меня есть сбережения. Я тебе их дам. Вернёшь, когда начнёшь зарабатывать.
Алексей предположил, что это денежный вопрос толкает парня на необдуманные шаги. И предложил деньги, как ему казалось – этим можно решить данный вопрос.
– Дело вовсе не в деньгах, – совсем неожиданно сказал Дима.
Алексей растерянно смотрел на парня… Опешил, без возможности говорить что-то дальше.
– В чём дело, Дмитрий? – полный непонимания, наконец спрашивал тренер.
– Я не могу вам рассказать больше, чем могу. Именно поэтому я пришёл к вам. В надежде на вашу помощь.
Алексей вскинул ладони.
– Давай разберёмся.
– Я всё равно ничего не расскажу, – упорствовал Холодов, – просто потому, что это не только моя тайна, это тайна нескольких человек. Кем я буду, если разболтаю? Они даже не подозревают о моих действиях. Хоть не до конца, но в большей мере я верю, что вы мне поможете. И не делать то, что задумал, я не могу.
Алексей беспомощно опустил руки. Холодов продолжал:
– Я и сам в постоянных сомнениях: нужно ли? Даже в церкви был, – усмехнулся он, – даже со священником говорил… Он и разрешил мои сомнения.
Парень выговаривался. Алексей не мешал ему.
– Ему я тоже ничего не рассказал. Он мне сказал: если это не соблазн, не алчность, не порок, то разве ж добро приносимое может быть неправедным.
Алексей стал сомневаться в своей первоначальной реакции. Он уважал Холодова за чужую тайну, которую тот хранит. Ведь это он учил его этому. Более того, парень отдаёт отчёт своим действиям. Он старается не для себя, для других. Может, попавших в беду. Однажды он спас от позора девочку. Алексей был после суда у следователя. После того раза Алексей чувствовал – он не вправе не верить Холодову… Даже если, поверив, ошибётся… А если не ошибётся?!
С глубоким сомнением он спросил:
– Что ты от меня хочешь?
Сомневался он, сможет ли он сделать то, что просит Холодов. Не сомневался он твёрдо в том, что парню нужна помощь. Насколько всё серьёзно – он понял только теперь. Неспроста Дмитрий сначала разбирается в себе. Священник тоже понял его… Почувствовал…
– Говори: в чём просьба?
– Сам я не могу предложить игру, меня никто не знает. И доверяться первому встречному я не хочу. Вас знают все. По вашей рекомендации игра вполне может состояться.
– Ты используешь меня? – прямо спросил тренер и откинулся в старом, видавшем виды кресле.
– Я так не думал, но, похоже, что это выглядит именно так. – Не противился Холодов.
– Хорошенькое дело! – продолжал удивляться в который раз разговору между педагогом и учеником.
– Хозяин «Моржатника» вам знаком. Нужно подойти и предложить организовать игру с Иванычем.
Уже настолько сегодня удивлял Холодов Алексея, вроде больше некуда. Но с упоминанием имени Иваныча глаза Тренера округлились.
– Абы с кем он играть не будет, – закончил Холодов.
– Это же лучший из играющей братии! Не только в нашем городе. О нём легенды ходят! Не каждый опытный игрок с ним за стол сядет.
– Я выиграю, – твёрдо сказал Холодов.
– Но это не бокс, где ты действительно что-то умеешь. Морду, пожалуй, ты ему набьёшь без труда. Но…
– Я выиграю, – твердил Холодов.
– Тебе же нет восемнадцати. Не будет он играть! – пускал тренер в ход все средства.
– Он же этого не знает, – спокойно говорил Холодов, – если вы ему не скажете, то он этого и не узнает. Хотя бы до игры. А там… уже… да какая разница! – махнул он рукой.
Алексей пожал плечами. Нужно что-то сказать парню. Теперь и его одолевали сомнения.
– Ты уверен, что это тебе действительно нужно? – тянул с ответом Алексей.
– Да, это мне нужно. И это не самое главное. Есть люди. Некоторые из них близкие мне люди. Им это намного нужней.
– Это им поможет?
– Это сделает их счастливыми.
– Ладно, – громко уронил ладонь на стол Алексей, – можешь на меня рассчитывать.
У парня гора с плеч свалилась. Он облегчённо вздохнул. Трудный разговор закончился.
– Когда нужно сходить в «Моржатник»?
– Я ещё не готов, но очень скоро, – Дмитрий встал. – Ну, я пойду.
С окончанием разговора и Алексею почему-то стало спокойнее. Так всегда бывает, когда приходишь к решению.
– Иди.
«Если уж я сам помогаю ему в сомнительном мероприятии то…»
– Дмитрий, – остановил он Холодова уже в дверях, – я буду с тобой на игре. Ты и правда уверен, что выиграешь?
«…то уж пусть я вместе с ним в петлю… чему учил..?»
Холодов кивнул:
– Я секрет один знаю.
Дмитрий благодарно улыбнулся. В этот момент Алексею показалось, что глаза парня заблестели неожиданно навернувшейся влагой. Холодов резко повернулся и вышел.
Алексей остался в тренерской. Раз от раза он мотал головой и пожимал плечами: «Что делаю?»
* * *Ранним утром Надежда шла на работу. Она часто ходила по утрам пешком, когда не было срочной работы. После таких прогулок в кабинет она заходила бодрой, вялый от сна организм просыпался. За время пути она собиралась с мыслями, и весь предстоящий день представлялся в деталях. С приходом на работу нужно было только сделать необходимые указания. Она уже прошла дом пионеров, находившийся как раз на полпути от дома до детского дома. Спустилась к реке. Прошла вдоль берега к паромной переправе. Только прибыл паром с того берега. На пристань высыпала толпа народа, обременённая утренней суетой. Она смешалась с толпой и выделялась в общем потоке неспешностью. Люди, в противоположность ей, торопливо обгоняли в толчее, пихаясь плечами. Она шла и думала о предстоящей работе. Неожиданно она услышала:
– Зять проиграл вашу дочь.
Сказанное было так неожиданно, что она остановилась… Люди обгоняли её. Ей подумалось, что она ослышалась. Кто произнёс эти слова – она не видела и озиралась по сторонам. Никому до неё не было никакого дела. Обгоняя, люди оборачивались, проявляя интерес к застывшей в оцепенении женщине, растерянно крутившей своей головой, пристально вглядываясь в толпу.
Она уже не могла видеть, как вперед уходила высокая худая фигура человека, сказавшего ей эти страшные слова. Мужчина свернул в проулок и скрылся совсем.
Холодный пот прошиб Надежду. В один миг тело её стало мешкообразным и повисло, она побрела на работу. Всё тело её дрожало. Провалившись в забытье, не видя перед собой дороги, она брела в детский дом, где машинально поднялась в свой кабинет. Сотрудники ждали в приёмной начала утренней планёрки. Сухо поздоровавшись с ними, прошла к себе, оставив дверь за собой не закрытой, чем приглашая всех пройти следом. Планёрка шла недолго, раздав поручения, она попросила провести утреннюю линейку с воспитанниками без неё и осталась одна.
Несколько секунд Надежда сидела молча. Потом тишину разорвал стон – не имеющий более возможности сдерживаться внутри, он вырвался наружу. Упираясь локтями в стол, закрывая ладонями лицо, она рыдала, острые плечи вздрагивали. Были слышны её причитания: «За что?!.. Есть много подлецов, жизнь которых должна состоять из одних наказаний. Почему мне приходиться принимать на себя подобную кару, чем я заслужила подобную немилость от тебя?.. Почему – я?.. Я, всю свою жизнь посвятившая детям… семье…, – Она силилась вспомнить, за какой такой грех ей всё это. – Дочь!.. – Она замерла… – Ей нужно быстрее сказать… Предупредить… – Надежда схватила телефонную трубку… И тут же бросила её обратно. – Если знает, то мой звонок ничего не изменит, если нет, то лучше и совсем не знать… Пока не знать… Что делать?!.. Что же делать?!.. – громко стонала она.
Погружённая в тяжёлые раздумья, она едва услышала стук в дверь кабинета. Утерев платком слёзы, быстро одела очки и пригласила:
– Войдите.
Дверь приоткрылась, и в дверях появился воспитанник, недавно вернувшийся из колонии.
– Можно? – спрашивал он.
– Что тебе, Холодов? – делая вид, что занята бумагами, низко склонив голову, спросила она.
Глаза Надежды были полны горя и слёз. Ей сейчас очень не хотелось показывать себя в подобном виде воспитаннику.
– Мне нужно поговорить с вами, – отвечал он.
– По личным вопросам понедельник и пятница с пятнадцати до семнадцати. На дверях всё написано, – она говорила столь категорично, что любой другой сей же час ретировался бы за дверь.
Так было всегда, когда она говорила подобным тоном. К удивлению своему она обнаружила, что воспитанник всё ещё стоит в дверях, при этом даже не собираясь уходить. К ещё большему её удивлению он прикрыл за собой дверь.
– Я не по своему вопросу, – произнёс Холодов.
Громкий хлопок её ладони о стол срезонировал по кабинету. Она глубоко вздохнула, набирая в лёгкие воздух, но вспылить не успела.
Холодов перебил её.
– Я по вашему вопросу.
Она услышала.
Подняла полные страдания глаза на него. Гневный взгляд, брошенный на Холодова, заставил его отступить на шаг назад.
– Мне известно о карточном проигрыше.
Надежда привстала со стула с намерением выгнать воспитанника из кабинета.
– Прошу выслушать меня до конца, – продолжал Холодов.
И только нехватка воздуха, вдруг захлестнувшая её от неимоверной наглости воспитанника, сдерживала женщину от этого.
– Я смогу сделать так, что ОН больше ничего должен не будет, – не останавливался Холодов.
Надежда держалась за сердце и не могла сказать ни слова. Дух её перехватило.
– Я неплохо играю, и смогу отыграться за него. Всё пройдёт тихо и без разговоров. – Холодов был уверен: в случае проигрыша Михалыч будет молчать, как рыба, к чему ему позор – проигрыш малолетке. В Алексее Владимировиче он был уверен больше, чем в себе. – Если и будут слухи, так только те, что уже и так есть. – Холодов поднял взгляд и в упор смотрел на Надежду. – Только у меня будет одно условие: верните пацана обратно, к матери… да и мы к нему тоже привязались.
Дмитрий закончил. Он не просил её. Он просто поставил её перед фактом своих намерений. Он понимал, что диалог «ты мне – я тебе» тут не уместен. Вслух она никогда не согласиться с его намерением. Так же она не станет и препятствовать ему из боязни огласки постигшего её несчастья… Своя рубашка всё ж ближе к телу… Спасаться… Маленький, но шанс… Сделки не заключить. Всё будет зависеть только от её порядочности. Она и Дмитрий находятся в разных мирах. Законы, которыми приходиться жить Дмитрию, ей не понять. Но порядочность есть и в том, и в другом мире. Вот на что и ставил свою главную ставку Дмитрий.
– Вон!! – взорвалось в кабинете.
Холодов вышел, не слышно прикрыв за собой дверь.
* * *Дмитрий не врал, он действительно знал секрет. Он узнал его от старого вора. Это случилось на этапе, когда его везли в колонию. В транзитной камере, на пересыльной тюрьме они встретились…
…По какой-то причине свободных камер для того, чтоб содержать малолетних преступников отдельно от взрослых, тогда не оказалось. Проходила то ли какая-то плановая дезинфекция, то ли ещё что-то… Вопреки всем правилам временно поместили всех вместе в одну камеру. Дмитрий присел в сторонке у стены, не наваливаясь на неё из боязни наловить на себя вшей или клопов. Они в изобилии присутствовали в шубе: особого рода тюремной штукатурке из щебня и раствора, накиданного на стену. Во множестве дырочек, ямочек и щербинок так и кишели подобные насекомые. Набили камеру битком, человек тридцать. Хотя, по современным меркам для камеры размером пять метров на восемь это немного. Ближе к вечеру будет ещё больше, не продохнуть. Вечером придёт этап с севера. После полуночи опять станет свободно – уйдёт на север уже обратный этап. От повышенной влаги стоял синий туман вперемешку с сигаретным дымом. В углу у двери, где через глазок надзирателю не видно, варили чифир. Зэки – народ смекалистый, вместо топлива – таблетки от туберкулёза, тубозит. Прекрасно горят и не дымят. Проку от них в лечении нет, так хоть тут польза. Двух упаковок как раз хватает, чтоб вскипятить кружку кипятка. С другой стороны двери, где тоже не видно, и стоял стол – играли в карты. Двухъярусные нары с одной стороны занимали всю стену. На нарах отдыхали по очереди. Противоположная оставалась свободной, вдоль неё сидели осужденные, ожидая своего этапа. Середина оставалась свободной для того, чтоб можно было походить и размять затекающие ноги. На нарах перед окном, у свежего воздуха занимал место старый вор. Интересы зеков: карты, чифир, пустые разговоры не привлекали Холодова. С собой была книга, Дмитрий сидел на корточках и читал. От тусклого света глаза быстро уставали, он отрывался от чтения, давая им отдохнуть. За столом играли и один из играющих блефовал. Он это делал как-то бесхитростно, по-детски. Засаленные доски стола под карты застилали газетой. И он натренированным движением отправлял ненужную карту под газету. Взяв взятку, складывал её на неё, впоследствии без труда ногтем по газете выталкивал её в низ колоды. Детский приём, на новичка… В тусклом, туманном свете единственной лампочки сметённым противником подобные мелочи не замечались.
Парень уже проиграл всё, что у него было. Долг начал расти из денег, которых нет, и долг такой, что в тюрьме его не отдать. Игра явно направлялась на кабалу для одного из них. Холодов уже захлопнул книгу, пристально наблюдая за происходящим за столом. Играть, чтоб выиграть носки, чай сигареты, зубную пасту – это понятно. Иной в этих стенах только этим и может пополнить свой гардероб. Играть, чтоб уничтожить – не понятно. Самый лютый зверь берёт только столько, чтоб быть сытым сегодня. Так что же?.. Холодов встал, подошёл к столу и вынул из-под газеты спрятанную карту. Мгновенно наступила тишина. Случилось так, что долг автоматически списался с проигрывающего. Случилось ещё и так, что теперь долг автоматически перешёл на Холодова: не имеющий отношения к игре не имеет право вмешиваться. Проигравший сам виноват. Его никто силком играть не садил. Между тем тот, который до сей поры выигрывал, молча встал, взобрался на нары и о чём-то минут пять говорил со старым вором. Спустившись с нар, он сказал, что теперь вор будет решать его судьбу, и просит Холодова подняться к нему. Старик полулёжа облокачивался на подушку. Это был вор в законе. Ему было пятьдесят пять лет от рождения, но выглядел он гораздо старше. Тридцать пять лет своей жизни он провёл в тюремных стенах. Бледное, вытянутое, страшно худое лицо болезненно смотрело на Холодова побелевшими от катаракты зрачками, не предвещая ничего хорошего. Жёлтые от курева пальцы играли колодой карт. Колода вдруг ловко делилась на три части, делала замысловатые кульбиты меж пальцев, превращалась в веер и сдвигалась вновь в колоду, опять делилась на две точно равные части, которые втыкались одна в другую ровно через одну карту, колода перегибалась и шелестом ровнялась сама собой. Делал всё это он одной рукой, не смотря на карты. В этот момент он смотрел на Холодова…
Выглядел он болезненно, и тем удивительней был его уверенный голос.
– Зачем в игру влез? – спросил он.
Холодов хотел ему что-то ответить, но тот сказать не дал.
– Сможешь убедительно объяснить свой поступок – спроса не будет.
Сбитый с толку Холодов тут на секунду растерялся.
– Это не игра, – только и бросил он.
– А что же это по-твоему? Это и есть игра. Карты только повод.
Вор говорил медленно.
– Математика три плюс два наука не сложная. Многие видят движение карт. Попробуй обмануть. Обмани и не попадись.
– Он попался.
– Ты не имел права встревать.
– Не имел, – согласился Холодов.
– Помешать игре сумел. Теперь сумей объясниться.
– Играли на сумму, которую уже никогда никто не получит.
– Тебе-то что?
– Не отдаст долг – опустят парня.
– Его жизнь. Ему ею и распоряжаться.
– В каждом деле есть предел. В этой игре предела не было. Когда нет предела – это беспредел.
Вор громко рассмеялся.
– Это значит: в камере, где я, твориться беспредел.
– Разве я так сказал. Я только озвучил, как я вижу подобную игру. Ты спросил, я сказал.
– Подобные слова говорить – недюжую смелость нужно иметь.
– Мне есть что терять? – спросил Холодов.
– Решив подставиться вместо него, не скрою, порядком меня удивил. На что идёшь – понимал?
– Дело уже сделано. Почему – я тебе сказал, – не ответил на вопрос Холодов.
– Приговор с собой? – неожиданно спросил вор.
– В сумке, – кивнул вниз Холодов.
– Принеси, – попросил он.
Холодов спустился вниз, достал из сумки десяток листов, скреплённых скрепкой, и подал вору. Просмотрев листки один за другим, он чему-то хмыкнул. Ещё раз посмотрел шапку приговора и улыбнулся.
– Сам в карты играешь? – опять его вопрос оказался неожиданным.
– Я ж детдомовский, умею. Говорят – неплохо, хотя и не любитель.
– Со мной будешь играть, – приказал вор.
– Я слышал, что ты в карты не играешь.
– Не играю, – сказал вор, помолчал и добавил: – Без надобности. Дело-то твоё, – кивнул он на листочки, – менты не раскопали. Друга отмазал?
– Следователю не рассказал, почему ты решил, что тебе всё скажу?
Вор странно улыбался.
– Попробуй-ка отыграться теперь. Другого с крючка снял, теперь о себе подумай.
Игра началась…
* * *У входа в кафе «Пиво с раками» на летней террасе сидел мужчина. Его сухостойная фигура несуразно размещалась в стуле, явно несоответствующем его росту. Закинув ногу на ногу, он читал журнал. Незаинтересованный взгляд, устремлённый на страницы, говорил, что ему скучно. Временами он поднимал голову и осматривал близлежащие окрестности. Опустив голову, опять читал журнал. Увидев высокого, крепкого мужчину, идущего в сторону кафе, он встал, на секунду скрылся в кафе, затем появился вновь, сел на своё место и уже не отрывал пристального взгляда от приближающегося посетителя. Свёрнутым журнальчиком он постукивал по колену.
При всей своей внушительности мужчина лихо преодолел ступени и толкнул двери. Оказавшись в кафе, он огляделся. Было немноголюдно: два пенсионера пили пиво, в другом конце сидел ещё один, о чём-то думал, рассматривая пространство за окном, полкружки стояли перед ним, и казалось, что о ней забыто. Кто-то находился в кабинке, откуда доносились приглушённые разговоры. Четверо молодых людей встали и ушли совсем. После них в зале стало совсем пусто. В углу, за привычным своим местом, широко раздвинув ноги, сидел хозяин кафе и стучал сарделькообразными пальцами по столу. Узнав гостя, воскликнул:
– Вай, какой гость!
Армянин развёл руки, привставая на встречу. Живот не дал ему подняться, уткнувшись в стол. Крепко пожав руку, Алексей сел напротив.
– Какими судьбами? – удивлённо спрашивал Армянин.
Высокий, крепкий мужчина был не кто иной, как Алексей Владимирович. Вчера к нему забегал Холодов и сказал, что пора назначать игру.
Они перекинулись несколькими, ничего не значащими фразами.
– Так что же занесло тебя в столь несвойственное для тебя заведение? – недоумевал толстый армянин.
– Уж конечно не пиво пить, – посмеялся Алексей.
– Это понятно, – кивал армянин.
– Михалычу соперник достойный есть, – сказал Алексей.
Армянин минуту размышлял.
– Местный? – наконец спросил он.
– Нет, недавно в городе, – отвечал Алексей.
– Я и думаю: местных всех знаю, без посредников подошли бы.
Армянин быстро обдумал неожиданный приход Алексея. Подставить он не может. Человек он принципиальный, слов на ветер не бросает. Ещё он слывёт, как правильный. Это и смущало больше. Карты… и он – как-то не совмещалось. Явно не подставит. Что же?.. Хотя, не моё это дело. Человек он серьёзный. Необдуманных шагов делать не будет. Авось… зависимость от Михалыча последнее время не давала покоя. Может получиться что-то серьёзное. Денег он подкопил, а дружба с Михалычем на этом этапе дискредитировала его в глазах общественности города. Мысли о создании более серьёзного заведения посещала его голову всё чаще и чаще. Авось… Если Михалыч проиграет, то за один присест всё. Тогда он никто.
– Молодой он, из другого города, но за столом неплох, – говорил Алексей.
«Молодой… – разочарованно вздохнул армянин. Потом на его лице появилась усмешка разочарования. – За время знакомства с Михалычем сколько он уже повидал самоуверенных безусых юнцов. Михалыч магнитом притягивал их к себе. Обыграть Михалача – заслуженная слава. Мнится многим. Пока никому не удалось только. Вот и ещё один. Пустит он его по миру, в чём мать родила», – думал армянин.
– Сыграть не проблема, – пообещал он, – только при деньгах ли он? Сам же говоришь – молод ещё.
– При них, – кивал Алексей.
Алексей кивал своими деньгами. У Холодова их нет. Если и смог собрать – то тысячу–другую. Это не те деньги, чтоб с Михалычем играть. Без хорошего банка наличными на столе он и разговора вести с незнакомцем не будет.
– Когда и во сколько играть – пусть Михалыч сам определит. Если он, конечно, будет с молодым играть.
Алексей намеренно придал ироничности сказанному, подчёркивая молодость Холодова. Предполагая, что это будет передано Михалычу. Михалыч не может быть вторым. Он, несомненно, захочет наказать зарвавшегося юнца.
– Я позвоню, как только переговорю с Михалычем. Думаю, игра состоится, – заверил армянин.
* * *Игру назначили на пятницу. Армянин в этот день с самого утра неизменно сидел за своим столиком в углу, откуда раз от раза слышался свист лёгких на вздохе и нервный стук пальцев по столу. Обычно он появлялся в заведении только после обеда. Сегодня день требовал его особого внимания: будет большая игра. Михалыч играет с парнем, которого представил тренер спортшколы. Каким-то звериным чутьём, неуютно ворочавшимся внутри, армянин чувствовал, что эта игра будет иметь нежелательное для него продолжение. Чувствуя на себе нежелательное внимание городских властей после игры с Голиковым, игры – как механизм пополнения бюджета – перестали его интересовать. Цветок растёт, цветёт и вянет. Всему когда-то приходит конец. Хозяина кафе заботил конец с выгодой для него. Только резкая смена направления коммерческой деятельности может теперь его спасти от банкротства. Покровительствующие ему лица прямо говорили: если так будет продолжаться и дальше, их влияния будет недостаточно для обеспечения ему нужных условий спокойной работы. Они так же прямо говорили и ещё об одном: о Голикове, о его проигрыше. Как, каким образом могла просочиться подобная информация на городские языки – он ума не мог приложить. Если даже он, хозяин заведения, в стенах которого произошло столь нелицеприятное, теперь уже известное всем событие, узнал тонкости о нём так же из слухов. Да и теперь, столь неправдоподобные, они представлялись ему только слухами. Это мнение усиливалось ещё и тем, что Михалыч никоим образом не воспринимал их. Словно слухи, сочинённые про него, являются как раз-таки сочинением. В глубине души ему, в качестве славы в играющем мире, они явно должны льстить. Однако внешне он не выражал это никак. А наоборот – в последнее время какая-то беспечность больше преобладала в его поведении. В противоположность же ему армянин был охвачен боязнью. Поди объясни всему городу, что это слухи. Закроют, пустят по миру, продадут с молотка. Рычаги найдутся… Не проблема… Впервые за годы существования пивнушки он обратил на себя такое негласное и пристальное внимание в глубоко аморальном представлении, разлагающем общественную и культурную жизнь города. Такое, что даже сам начал ловить себя на мысли в своей неуверенности и правоте… В заведении под удар попал гражданин города, относящийся к его элите. Хорошую репутацию зарабатываешь годами. Плохая же прилипнет в один миг. Попробуй, отмой. Чёрной тучей нависло над ним будущее…
Михалыч пришёл за час до игры. Был беспечен и пребывал в отличном настроении. Взял себе кофе и сел за столик. Хорошему настроению не предшествовало предвкушение сегодняшней игры. Его действительно приятно волновало произошедшее несколькими днями раньше. Выиграть в карты молодую жену беспечного игрока. В свои годы молодых женщин ему приходилось покупать. А тут…! Выиграл… И у кого…? Муж сам предложил её в качестве ставки… В скором времени открывается охотничий сезон. Михалыч этого дела любитель, на несколько дней едет в охотничий домик. Он намерен ехать на охоту вместе с ней. Любимое увлечение, природа, красивая, молодая женщина – что ещё может желать уже не юный, но полный сил мужчина!
Тем же временем к кафе направлялись ещё двое мужчин. Оба были спортивного вида. Крепкие и широкоплечие. Один – лет восемнадцати-двадцати, второй много старше. Сухостойный мужчина, сидевший на стуле террасы, поднялся и скрылся в кафе, через мгновение появился вновь и занял своё привычное место. Предупредив хозяина, он с чувством выполненного долга, уютно расположившись и не отрывая глаз разглядывал две приближающиеся к кафе фигуры внушительного вида.
Алексей с Холодовым с лёгкостью преодолели ступеньки крыльца и скрылись внутри кафе.
Михалыч сидел в сторонке. Он не без интереса разглядывал одного из пришедших. Парню лет двадцать. Научился считать, узнал сколько карт в колоде, и быстрей за карточный стол. Михалыч прекрасно понимал, что когда-то придёт момент, и он проиграет. Юнцы, подобно этому, ему были не страшны. Жить картами – это опыт, накопленный годами. Не больной азарт, а холодный расчёт и опыт. В парне не было ни первого, ни второго, ни третьего. Безразличие и любопытство в глазах. Этого мало для того, чтоб обыграть Михалыча.
Холодов действительно с нескрываемым любопытством разглядывал мужчину, беспечно попивающего кофе в сторонке. Он впервые воочию видел перед собой живую легенду карточного стола.
Карты для Михалыча – средство существования, работа, чем он кормит и одевает себя. Он сидел, пил кофе и ждал, когда он приступит к этой своей работе. Подобно токарю перед сменой: в восемь начнётся смена, он возьмёт болванку, превратит её в полезную деталь, получит за работу деньги, закончится смена, придёт домой, обернётся в тёплый халат, включит лёгкую музыку, потом посмотрит что-то по телевизору, примет ванну и ляжет спать. Беззаботный сегодняшний вечер его на сей момент интересовал больше, чем предстоящие ближайшие два часа. Немножко удивляло безразличие, сквозившее из парня. Осмелившиеся бросить вызов ему обычно вели себя несколько по-иному. Возбуждённую кровь они скрывали под маской напускной бравады и беспечности. Как правило, это им было несвойственно и выдавало их. Этот же на удивление спокоен и любопытен. Про второго мужчину Михалыч слышал много. С ним его ничего не связывает, и связывать не будет. Потому интереса к нему он не проявлял.
Михалыч так же был не один. Как всегда его сопровождал угрюмый молодой человек со щербатым лицом. За всё время тот не обронил не одного слова и казался глухонемым. Короткими фразами обговорили первые ставки. Каждый, кто был намерен сесть за карточный стол, показал, что необходимая наличность находится при нём. Во избежание игры краплёными картами, нарезали десяток бумажных листочков, написали на них магазины, в которых есть в продаже карты, и вытянули один из них по жребию. После этого Алексей с угрюмым спутником Степаныча быстро съездили на такси и купили несколько колод.
Необходимые приготовления были закончены. Все четверо скрылись за дверями одной из кабинок.
Игра началась.
На столе появились ставки. Раздали карты. Первый банк взял Холодов.
Угрюмый из глухонемого превратился в статую. Он сидел, даже и не шевелясь.
Алексей же с первой минуты игры был слегка озадачен. Не к добру… Роились мысли. Коварство игры ему известно: завлечь… заманить… Возбудить бесконтрольный азарт… Заставить ошибаться… Не к добру… Не к добру!
Второй банк так же был за Холодовым.
Михалыч раздал очередную игру. Поднял карты, посмотрел и положил их обратно на стол. Холоднокровию обоих можно было только позавидовать.
Третий банк забрал Холодов.
Алексей забеспокоился. Что он делает? Так нельзя! Тактика игры, которую применял Михалыч, сыграет злую штуку с Дмитрием. Холодов горяч, проигрывать не в его характере. Он сам его учил: не выходи на ринг проигрывать. С каждой раздачей банк на столе всё больше и больше. Михалычу только забрать один из них. И почва уйдёт из под ног Холодова. Банк достиг уже такого размера, что отдай его, и ставить будет нечего. Смысла проигрывать для Михалыча уже не было. Но Алексей этого не замечал. Холодов безумно ставит все деньги, которые только что выиграл. «Нельзя… Нельзя…» – твердил Алексей про себя.
Спокойствие Михалыча совсем обескураживало. «Он знает, что делает», – уверен был Алексей.
Между тем, теперь уже Михалыч примерил себе маску. За напускным спокойствием им овладело смятение. Ни в одной сдаче он не смог понять, на чём играет Холодов. Смятение оттого, что не ожидал. С каждой новой игрой он тешил себя надеждой, что вот сейчас он обязательно разберётся и бездумно соглашался на любые ставки. Но догадка была закрыта от него на крепкий замок.
Холодов действительно знал секрет. В той игре, случившейся в транзитной камере, старый вор и поведал его Холодову…
…Как Холодов тогда ни старался, какие только ухищрения не применял… Он знал их много. И детские хитрости, подобные той, от которой возникла конфликтная ситуация в камере, и вполне серьёзные: получать нужную карту при растасовке. Умел менять движение карты из прикупа путём отдачи вроде важной взятки. Ничего не помогало! В нужный момент карта волшебным образом оказывалась в руках старого вора. Так не должно было быть, но так было. Ставка на кону плёвая – чай, сигареты. Дело в другом… Дело принципа. И ещё… Нависал спрос… Спрос за карты в тюрьме – дело не шуточное.
Игра шла час.
Неожиданно старый вор сгрёб карты и объявил:
– Игра окончена.
Если это конец игры, то он объявляется заранее. И не так, когда даже в прикупе оставалось ещё полколоды. Для Холодова действия вора были полной неожиданностью. К тому же отыграться он не сумел. В недоумении он уставился на вора.
– Тебе и не отыграться, – усмехнувшись, сказал вор.
Холодов сидел перед ним, скрестив под собой ноги по-турецки.
– Не понимаю, – вопрошающе смотрел он на него.
– И не поймёшь, – с издёвкой говорил вор. – У меня не сможет выиграть ни один из играющих.
– Может быть, – с сомнением соглашался Холодов, – вопрос во мне, а не в том, как ты можешь играть.
Прямолинейность, с которой говорил Дмитрий, понравилась вору.
Слово коронованного вора в стенах заключения не оспаривается. Как он скажет, так и будет. Дмитрий нарушил неписаные законы, он ясно понимал это, и не ждал для себя снисхождений.
– Я владею маленьким секретом, – вор помолчал немного и начал с другого: – Когда-то, очень-очень давно, мне пришлось повлиять на судьбу одного математика. Сидел он по политической статье. Политические жили в одних бараках, уголовники – в других. Если и соприкасались, то только на производстве. Вот там всё и произошло. Уголовников редко кто навещал. У него что – ни родины, ни флага. Передач и посылок почти не было. К политическим же всегда что-то приходило. Были, конечно, без права переписки, но не все. И потому у них всегда можно было чем-то разжиться. Одежонкой, едой, мылом. Зеку ведь много не надо – помыться, поесть и не замёрзнуть. С этим и коротаешь годы заключения. Но это ж надо добыть! Тут магазинов нет. Отобрать – нельзя, украсть в тюрьме – самое позорное, сам знаешь, что за это может быть… Могут и опустить! Карты – одно спасение. Узнают уголовнички, кого из политических на воле не забывают, затянут на производстве его или его дружка за карточный стол, обдерут, как липку, загонят в долги – тут тебе и еда, и мыло, и одежда. И общак пополнился.
Холодов слушал старого вора и пытался понять: с какой целью тот ведёт с ним эту задушевную беседу. Он ему не кум, не брат, не сват. «На кой ляд мне нужно знать про какого-то там математика», – думал он. Ему было много интереснее знать решение вора относительно его недавнего поступка.
Старый вор тем временем продолжал:
– Так было до поры до времени, до тех пор, пока в лагере не появился он. Как только кто-то из политических проигрывал, следом садился играть он и отыгрывал всё обратно. И, что самое интересное, отыгрывал ровно столько, сколько проиграл политический, и тут же покидал карточный стол. Из сего было ясно, что он просто показывал своё неуважение к уголовному миру, что, конечно же, не могло не задевать его завсегдатаев. Его никто не мог обыграть. Обвиняли в мошенничестве. Обвинять одно, поймать – другое. Пойман он не был. Беспочвенные обвинения – ничто. Кормушка уголовнику закрылась, общаг скудел не по дням, а по часам. В конце концов ему готовили несчастный случай на производстве. Зэк в этом деле навык имеет. Бревно ли вдруг скатиться на тебя, провод ли под напряжением оборвётся… да мало ли что, методов много, тут всё на соплях держится, чихни вот, что-то да отпадёт.
Старый вор говорил медленно, не торопясь, иногда его рассказ прерывал приступ затяжного, сухого кашля. Он прикрывал рот носовым платком и, когда убирал его, на нём оставались капельки крови. Прокашлявшись, он говорил снова:
– Я тогда был молод, меня только короновали и, как вор в законе, я должен был решать судьбу математика. Я с ним встретился и задал ему один единственный вопрос. «Почему ты только отыгрываешь чужие проигрыши и не играешь на свой интерес? Ведь с такой игрой ты мог бы жить кум-королём до конца срока… да что срока, можно и на воле обеспечить себе приличное состояние». И знаешь, что он мне ответил? – вор бросил вопросительный взгляд на Холодова.
Холодов пожал плечами.
– Он ответил: «Неправильно всё это!» Удивлению моему не было предела. Я, хоть и был молод, но повидал немало. И тут я впервые вижу перед собой человека, так безалаберно относящегося к своей шкуре. Для него было неправильным то, что кто-то у кого-то что-то забрал. Для него не важно – каким путём это было проделано. И даже суть не в несправедливости. Совсем не в этом. Удивило то, что он, совершенно не имея выгоды для себя, поставил под удар свою единственную жизнь. Мне стал интересен этот человек. Я наложил запрет на его устранение. Чтобы сохранить ему жизнь, мне пришлось с ним договариваться: хотя бы на время нашего общения повлиять на политических и не играть в карты, дабы не злить уголовников. Я стал часто встречаться с ним. Если для политических нет дороги к уголовникам, то для уголовника преград в лагере не было, он в любом заборе дырочку для себя найдёт, если это ему нужно будет. И встречи наши выливались в продолжительные разговоры и споры. Это был умный и добрый человек.
Тень грусти появилась на лице вора.
– Его правда была чистой, наивной и бессмысленной. Для него было трагедией, что его правда обречена. И он это прекрасно понимал и ничего изменить не мог. Я всегда говорил ему, что так, как он думает, не бывает. Любой, кто бы он ни был, будет делать то, что удовлетворит его внутренний мир; если он жаждет убийства – он будет убивать; если он жаждет насилия – он прибегнет к насилию; если он жаждет уважения к себе – он будет его добиваться, и будет делать это любыми путями, даже если к этому нужно идти через несчастья других. Каждый будет искать удовлетворения, пусть то будет плотское удовлетворение или это удовлетворение тщеславия… Не важно! Он будет добиваться своего, невзирая ни на кого. Важно дойти до цели. Какой дурак откажется от своего благополучия? «Неправильно всё это», – говорил он в ответ. Он стоял на своём, опираясь на свою неземную, совершенно нереальную правду. В наших лицах столкнулись две правды. Одна росла на законах реального мира, в которой каждый найдёт себе объяснение и оправдание своим гадким поступкам. Вторая родилась в голове человека и корнями уходила в сотни прочитанных книг. Хоть и спорили мы с ним, но каждый из нас не мог отрицать правды другого. Было две правды, и обе были правдой. Но время нашего общения прекратилось. Воров, во избежание непорядков, подолгу в одном лагере не держат. Меня готовили к этапу на другую зону. Наверное, я приглянулся математику. При нашей последней встрече он открыл мне свой секрет. «С этим секретом ты всегда будешь выигрывать, – говорил он мне, – я не шельмую, я пользуюсь правилом исключения. Я раскрою его тебе при одном условии. Поклянись честью вора, что ты будешь им пользоваться только в том случае, если обстоятельства сложатся так, когда будет крайняя необходимость помочь другому человеку. А сытым ты будешь и без карт». Я поклялся – мне жутко интересно было узнать секрет. Играет, как новичок, а постоянно выигрывает. «Это простое правило, – говорил мне математик, – просчитав его, я назвал его правилом исключения». – «Почему исключения», – спросил я его. «Этого тебе не понять», – отмахивался математик.
Приём оказался очень прост. Потом меня перевели, увезли на другой конец страны. Математика я больше никогда не видел. Скорее всего, его правда его сгубила. В лагере он был жив только потому, что я так хотел.
На минуту его рассказ прервал затяжной сухой кашель. Спазмы встряхивали всё тело вора. Попросив тёплой воды, он сделал несколько глотков. С минуту приходил в себя. После чего он снова заговорил:
– Сегодня ты мне сказал «не правильно всё это». Сказал так же, как и он. Имея в виду именно то, что имел в виду математик. Теперь мне уже за шестьдесят. И я снова встречаю такого человека. Математик не дорожил своей жизнью и лез на рожон из-за того, что где-то с кем-то поступили не по справедливости, и вот теперь ты делаешь то же самое. Если бы он был один, я бы мог объяснить его поведение психическим отклонением. Теперь есть ты, и не псих, – мыслящий, дерзкий, со своей правдой, за которую способен бороться. Это достойно уважения. Ты таким получился, ты молод, впереди жизнь, ты всегда будешь не согласен с её законами. Вокруг нет равновесия, согласия. И никогда не будет. И то, что ты считаешь неправильным, будет всегда происходить рядом с тобой. Посмотри туда, – он показал вниз, где зеки суетились в ожидании решения вора, – маленький червь пороков точит большое человека. Многий из них боится этого червя. Не хочет так жить, но и деться ему некуда. Он не согласен, но он должен так жить. Потому что этот червь всегда голодный и когда-то он доберётся и до него. Приходит момент, когда большой человек больше не в силах сопротивляться ему. И тогда ему приходиться воровать или делать ещё какие-то гадкие поступки. Потом он попадает сюда. Он не хочет так жить, в то же время ему некуда деться. Так будет всегда. И не он в этом виноват. Он просто слаб. Подобно спичке в ручейке – он не поплывёт против течения. Ты и математик для меня – два инопланетянина. Вы не на земле живёте. Если бы ты ответил по-другому, я не знаю, что было бы с тобой… знаю только, что тебе было бы в дальнейшем несладко, тебя просто не стало бы как человека. Теперь я знаю, что делать.
Вор снисходительно посмотрел на Холодова. Взял в руки колоду карт, перетасовал, раздал и стал играть в открытую.
– Следи за картой, – сказал он, – это секрет математика.
Вор делал совершенно нелогичные ходы, нужные карты сами шли к нему в руки. Хватило только несколько пояснений, как Холодову стало всё ясно.
– Но это же совсем нелогично! – воскликнул Холодов.
Вор самодовольно посмеивался.
– О логичном уже давно все всё знают, весь секрет как раз в нелогичности. А секрет этот я тебе раскрыл потому, что не могу я его в могилу с собой унести. Мне осталось-то всего ничего, несколько месяцев. Мне уже давно на погосте прогулы ставят. Боялся я, что некому его передать будет. Таких, как вы – раз в жизни встретишь, мне вот, наверное, повезло: два раза встретил. А секрет-то знатный! Я его для своего обогащения никогда не использовал. Математик тоже не использовал. И ты тоже, я думаю, не будешь с ним свои закрома набивать. Не той ты породы человек. Обещай, что, если и прибегнешь к нему, то только во благо. Об этом мы тебя с математиком просим. Мы с ним с этим секретом не одну жизнь и судьбу спасли.
– Обещаю, – сказал Холодов.
* * *…Обладая этим секретом, Холодов забирал один кон за другим. Михалыч проиграл всё. Алексей наблюдал и не верил своим глазам: перед Холодовым лежала куча денег, расписки, ключи от квартиры, документы на машину.
– Ставлю все, – подвинул он кучу в центр.
– Мне больше нечего ставить, – подавленно произнёс Михалыч.
Желваки хищно плясали на его лице. «Сопляк издевается надо мной», – думал он.
– Против проигрыша ботаника, – сказал Холодов.
Четверо сидели за столом, и только двое из них знали, какая ставка стоит на кону.
– Согласен, – воспрял духом Михалыч.
Выиграл Холодов. Хладнокровно отделив деньги, взятые для игры в долг у тренера, остальное оставил на столе.
– Я не играл на деньги, – произнёс он, – мои друзья были в беде, теперь уже нет.
Возврат денег Михалыч принял, как оскорбление. «Сопляк хочет меня унизить!» Он вышел из-за стола и, не взяв денег, вышел, хлопнув дверью кабинки. Через секунду он покинул кафе. Теперь это был нищий человек.
* * *К обеду следующего дня Михалыч, как ни в чём не бывало, появился в кафе. Ничто в нём не напоминало о вчерашнем инциденте. На ночь он выпил снотворного, хорошо выспался и был бодр. Вчерашний удар, нанесённый ему Холодовым, он простить не мог. Его отказ взять выигрыш – это издевательство. Так за карточным столом не поступают. Сопляк намеренно делал из Михалыча ничтожество. Если б он забрал выигрыш, то Михалыч согласился бы со своим поражением. Всё в мире имеет своё объяснение. В природе на каждого хищника есть другой хищник. Если нет хищника на человека, то природа поселила его в другого человека. Но выигрывать только для того, чтобы сделать из Михалыча ничтожество – этого он простить никак не мог. Вчерашним вечером Михалыч узнал ещё одну нелицеприятную новость: как оказалось, он играл с малолеткой из детского дома. Его подставили, и инициатором этого стал хозяин кафе. Это он предложил ему играть с ребёнком. Именно поэтому он сегодня и пришел сюда на разговор с армянином.
– Где хозяин? – резко спросил Михалыч.
Барменша за стойкой кивком головы указала на кухню. В то же время за её внушительной спиной появился сам армянин в цветных шортах ниже колен, его провисающий живот плотно обтягивала серая футболка, волосатые ноги заканчивались одетыми на босу ногу коричневыми сандалиями. Увидев гостя, он привычно воскликнул:
– Вай, какой гость, проходи дорогой! – развёл он руки в стороны для объятий.
– Отойдём-ка, поговорим, – без ответного дружелюбия предложил Михалыч.
Они присели за дальний угловой столик. Михалыч попросил коньяк. В ассортименте кафе не было крепких спиртных напитков, но он знал, что для него всегда есть армянский коньяк самой высшей выдержки. Он налил себе рюмку и выпил, не закусывая.
– Как ты вышел на пацана, с которым я вчера играл? – спросил он.
– Боксёр привёл, – ответил армянин.
Михалыч задумался. Он сидел, крутил рюмкой, постукивая то одной, то другой её стороной о стол.
– Деньги, которые вчера в игре были у меня – все до копеечки, я сейчас принесу их, – с готовностью вскочил армянин.
Взгляд Михалыча гневно прострелил армянина, от чего тот тут же замолчал и сел обратно.
– Тебе было известно, что он малолетка? – холодно спросил он.
– Как – малолетка? – удивился армянин.
– Малолетка, – утверждая, кивал Михалыч.
– Да ему все двадцать пять на вид будет! – не верил армянин.
– Ему семнадцать. Вчера меня обыграл пацан, которому впору в машинки играть, а не в карты. Теперь ты понимаешь, насколько меня расстраивает мой вчерашний проигрыш?..
Михалыч говорил холодно. Самолюбие внутри него негодовало. Но внешне он был спокоен.
– Тебе хорошо в кафе сидится? – неожиданно спросил он.
Армянин промолчал.
– В твоём кафе играют на деньги в карты, в твоём кафе играют на людей, в твоём кафе играют малолетки, отыгрывая этих людей… Не слишком ли много для дешёвой забегаловки?
Агрессивный настрой пугал армянина.
– Мне терять уже нечего, – продолжал он, – ты должен будешь сделать то, что я тебе скажу. В противном же случае я сделаю так, что ты потеряешь всё. Ты мои возможности знаешь. Любой авторитет в этой ситуации примет мою правду. Слухи, которые ходят по городу, для меня – плюнуть и растереть. Для тебя они могут стать твоим концом. И ты прекрасно это понимаешь.
– Эй, почему ты меня пугаешь, – вспылил армянин, размахивая руками, – у меня тоже есть связи!
– Если ты не исправишь свою ошибку, а это именно твоя ошибка, – не обращая внимания на вспыльчивость армянина, холодно продолжал Михалыч, – и исправить ошибку нужно так, как я этого хочу. Вчера состоялась игра, которой не должно было быть. Я потерял всё: деньги, квартиру, машину и самое главное – репутацию. Первое всё наживное. Последнее, потеряв один раз, больше уже не вернуть.
– О чём ты говоришь, – воскликнул армянин, – всё тут, всё до копеечки, забирай, дорогой, он ничего не взял.
– Ты хочешь, чтобы я, Михалыч, унизился до того, чтоб взять эти деньги? Деньги, которые проиграл, – Михалыч горько усмехнулся. – Ты совсем спятил! Да тогда со мной за карточный стол не сядет играть даже самый паршивый игрок, даже в дурака.
– Что тогда мне с ними делать? – развёл руками армянин.
– Деньги, те, что осталось после игры – хорошие для тебя деньги? – Спросил Михалыч.
– Да, целое состояние, – пытаясь понять, к чему клонит Михалыч, кивнул армянин, – мне такие деньги и за десять лет в своём кафе не заработать.
Михалыч согласно кивнул головой.
– Он их не взял, не возьму и я. Я их тебе оставлю.
В городе меня больше никто и никогда не увидит. Я уезжаю. Начну жизнь с чистого листа. В этом даже что-то есть. Тряхну стариной. Я вправе спросить с тебя за игру, которой не должно было быть. Но я не буду этого делать. Кроме того я оставлю тебе весь свой проигрыш, а взамен ты сделаешь так, чтобы этого пацана не было.
– Убить что ли? – опешил армянин.
Михалыч пожал плечами.
– Сам думай, что делать. Либо ты теряешь всё, либо станешь много богаче. Сам взвешивай, где плюсов больше.
– Крест потом нести всю жизнь за пацана…
– Все мы свои кресты несём до конца.
– Я подумаю, – произнёс армянин.
Не простил Михалыч Холодову своего унижения. Холодов же не имел цели наносить обид, он просто сделал своё дело. Сделал, как обещал. Обещал тренеру, что выиграет, и выиграл; пообещал Надежде, что отыграет, и отыграл; пообещал старому вору, что не будет наживаться на секрете, и сдержал слово; себе он обещал, что сделает это только потому, что так будет правильно, и сделал это. Откуда было Михалычу знать про это всё…
* * *– Через неделю соревнования. Ты два года не выступал. Соперники всё это время не сидели, сложа руки. Они тренировались. Руки опускаешь. Как кусок ваты. Корпусом работай.
Холодов тренировался в поте лица. За короткий срок он должен привести себя в нужную форму. За два года он заметно прибавил в весе, и выступать теперь будет в другой весовой категории. В ней и удары потяжелей, и противник иной раз такой попадёт, что бьёшь в него, как в бетонную стену.
– Бабу так свою ласкать будешь, – кричал Алексей, – бей, не стесняйся, чаще, чаще!
Удары по груше сыпались один за другим.
– Не приведёшь себя в форму, не выставлю на соревнования.
После игры Холодова с Михалычем прошло два месяца. Последнего с тех пор никто в городе не видел. Поговаривают, что он всё продал и уехал. В его квартире теперь живёт армянин, хозяин кафе «Пиво с раками». Он же ездит и на его машине.
– Нет, так дело не пойдёт, – негодовал Алексей, – подотри сопли и бей, руки не опускай. Это не груша перед тобой. Это тот, на кого у тебя есть злость.
Надежда не замечала Холодова. Впрочем, и не домогалась. Дмитрий отметил, что нет того пристального внимания со стороны воспитателей, каким он был окружен ранее. Пацана она обратно в детский дом не вернула, что, пожалуй, его в данный момент больше всего и огорчало. При воспоминании об этом на грушу сыпался град молниеносных ударов.
– Вот, вот, – поддерживал его Алексей, – можешь, же когда захочешь!
После тренировки Холодов зашел к тренеру. Алексей согрел чайник, и они сели пить чай.
– Сколько уже времени прошло, – говорил Алексей, – мне всё не верится: Михалыч – величина в карточном мире, легенда, а ты его, как пацана, сделал. Не одной ставки ведь ему не отдал!
Холодов с прищуром смотрел на тренера.
– Я ни одной и не хотел отдавать.
– Признаться, я прилично струхнул, думал: он тебе специально взятки отдаёт, заманивает.
– Я знал, что делаю, и притом – я же обещал, что выиграю.
– Ты и правда знаешь какой-то секрет? – сгорал от любопытства Алексей.
Чай Холодов допил и, с готовностью уходить, встал.
– Знаю, – ответил Холодов.
– Скажешь, что за секрет такой? – спросил тренер.
– Скажу, – он перебросил спортивную сумку через плечо и направился к выходу. У двери он остановился и, повернувшись, произнёс:
– Садясь за карточный стол – садись выигрывать.
Прикрыв за собой дверь, он оставил Алексея сидеть с ироничной улыбкой на лице. Покинув спорт-школу, Холодов брёл по улице в своё удовольствие. В детский дом рано возвращаться ему не хотелось. По пути он зашел в книжный магазин, купил томик стихов, потом присел на бульваре на скамейку и раскрыл книгу. Немного погодя на оборотной стороне обложки стал что-то торопливо записывать.
Всё это время с той минуты, как он покинул спортшколу, за Холодовым следовал высокий, худой мужчина…
* * *…Следующим утром люди шли на работу и не обращали внимания на сидевшего на скамейке и склонившегося с ручкой над томиком стихов молодого человека. Со стороны казалось, что он занят какой-то пометкой на обложке книги, состоящей из двух четверостиший.
Никто не видел, что сзади, между досок скамьи, из-под левой лопатки торчала рукоятка ножа. Холодов был мёртв…
* * *Были похороны Холодова. Было много народа. Не было на похоронах только неразлучной троицы. Для Игоря, Олега и Ленки Димка был жив. Они не могли и не хотели видеть его в гробу. Они забрались на крышу, где любил проводить время в одиночестве их друг. Сидели и молчали. Золотые купола, искря солнцем, царствовали на холме. Обычно наполненный шумом детский дом окутала скорбная тишина, где притихли даже вороны на ветвях тополей.
Между тем отец Серафим провёл отпевание.
Холодова похоронили. Он обрёл себе вечное пристанище у большого дерева, под деревянным крестом, недалеко от золотых куполов.
Воспитанников детского дома увезли несколькими автобусами. Народ стал расходиться. Несколько человек ещё оставались стоять у могилы. Стоял Алексей, стояла Надежда и её дочь, стояла следователь, стояла помятая женщина и прижимала к себе сына. Стоял отец Серафим, и думал: «Долго ещё люди не будут верить друг другу…»
Через два дня на кресте появилась написанная кем-то от руки надпись:
…Добро и зло творится человеческими руками…
МетелицаВ одном большом-большом городе, в обычной многоквартирной многоэтажке жили-были две девочки. Родились они в один день и в один год, а потому были двойняшками. Сёстры были уже большими девочками, потому что исполнилось им целых пятнадцать лет, и учились они уже в девятом классе. Звали их Юля и Настя.
Приближался Новый год. Девочки, как всегда в преддверии праздника, с любопытством пытались узнать, какие подарки им приготовила мама, и как всегда эти попытки оказывались тщетными. Мама всегда знала, что бы хотели получить дочки в подарок на этот Новый год. В совсем-совсем маленьком детстве это были всякие пупсики; в не совсем маленьком – куклы постарше; позднее – мягкие игрушки и фотоаппарат. Мама клала желанные штучки под ёлку, где утром их и находили дочки. Мама же говорила, что она к подаркам не имеет совершенно никакого отношения, и что это метелица прилетала и положила под ёлку эти вещички. Ещё она говорила, что купила бы такие подарки только тогда, когда девочки были бы послушными… но она бы на самом деле, наверное, купила бы что-нибудь не такое дорогое. «Метелице виднее», – в конце разводила мама руками.
Девочки свято верили в сказку до тех пор, прока не начали взрослеть.
31 января с самого утра готовились к встрече Нового года. Девочки наряжали ёлку. Ёлка была пушистой и большой, аж под самый потолок. Обмотали её дождём и мишурой, забросали конфетти, навесили стеклянных шаров, сосулек и разных лесных зверушек. На макушку водрузили старую-престарую звезду, с ней ещё мама, когда была маленькой, встречала Новый год. Десятками огоньков переливалась гирлянда, и вместе с другими нарядами лесная красавица превратилась в кокетливую модницу. Под ёлку насовали ваты, получились что-то похожее на снежные сугробы, среди которых поставили Деда Мороза и Снегурочку. Ёлка получилась на славу! Тут они хотели помочь маме и бабушке, но кухонька в их квартире была уж очень маленькой, и они только мешались у взрослых под ногами. Им ничего не оставалось, как смотреть праздничные передачи по телевизору. И – ждать полуночи.
Наконец-то наступило застолье. На столе стояло столько всякой вкусной всякости, что к часу ночи их животы были битком набиты этой самой всякой всякостью, и им даже стало жарко. Взрослые пили вино и шампанское, девочки газировку. Потом все вместе пели и танцевали. В этом году, так как девочкам исполнилось уже по пятнадцать лет, им разрешили отмечать праздник не до двух часов ночи, – как это было в прошлые года, а до целых четырёх. И, хотя сами они к этому времени уже валились с ног, спать им нисколечко не хотелось. Ведь Новый год только раз в году. Хотелось, чтобы праздник не кончался.
– Спать, спать, спать! – скомандовала мама. – Скоро метелица прилетит с подарками и тех, кто не спит, заморозит.
Шантаж мамы не подействовал на девочек. Хоть и устали они, и с ног валились, но всё же готовы были петь и танцевать подольше.
– Ну, мама, – улыбнулась Юля, – хватит уже, наверное, мы же уже большие и всё понимаем.
– Подари нам сейчас подарки, – сгорала от любопытства Настя.
– Как же я их вам подарю, если метелица ещё не прилетала! Вы же знаете, она приносит подарки, пока все спят. – И категорично, как отрезала, приказала: – Спать, спать, спать!
Девочки знали маму – спорить было бесполезно, себе дороже, и они отправились укладываться спать в свою комнату.
… Стояла жуткая тишина, когда послышался стук в окно.
– Юля, ты слышала? – проснулась Настя.
– Слышала, – ответила сестра, – это, наверное, метелица, – засмеялась она.
– Ага, – говорила Настя, – подарки занести не может.
Девочки шутили и хихикали, пока стук вновь не повторился, только теперь уже в соседней комнате, где стоит елка, и где некоторое время назад проходило застолье. Мама и бабушка уже спят. Раннее утро, но на улице ещё темно. Кто же это может быть? Девочкам стало не по себе до мурашек. Стук повторился. И – снова тишина. Вдруг окно соседней комнаты распахнулось, и в квартире загудело, засвистело и завыло. Юля и Настя повскакивали со своих постелей и кинулись к дверям. Заглянув в комнату, они увидели, как по комнате вьюжит и гудит, мечась по всей комнате, снежный столб. Настоящая метель залетела в окно! Вихрь кружил, кружил и остановился. Миллионы снежинок осыпались, и на месте снежного столба осталась стоять сказочная фея неземной красоты. «Это Метелица!» – догадались девочки. Подобной красоты девочки не видели за всю свою жизнь ни разу. Им не верилось. Метелица стояла перед ними. «Значит, она не сказка!» Взгляд голубых бездонных глаз сказочной феи пронзал девочек насквозь. Приподнятый подбородок придавал ей величие. Платиновые волосы пышно ниспадали за прямые плечи до самого пояса. Голову феи венчала ледяная корона, украшенная драгоценными льдинками – изумрудными, рубиновыми и бриллиантовыми. На груди метелицы висела большая хрустальная брошь в форме снежинки с хитрым и причудливого переплетённым узором. Брошь отбрасывала множество лучей, отчего по стенам вьюжила снежными зайчиками метель. Воздушное, серебряное платье от плеч до пола переливалось удивительными живыми картинками: то зайчонок пробежит, оставит следы, на только что выпавшем снегу и скроется в лесной чаще, то на платье появится белка – она сидит на огромном кедре и терзает кедровую шишку. Картинка менялась! И снова – теперь уже появлялся город. Во дворе домов – ледяная площадка, много-много детей катается на коньках и носится на санках с ледяных горок. Восторженные рожицы смеются и визжат, потирая красные от мороза носы и румяные щёки. Везде, где бы ни была метелица, всё, что бы она ни видела, переливалось сейчас на её платье.
– Метелица! – одновременно воскликнули девочки.
– А вы те две верушки-неверушки, Юля и Настя? – проговорила она.
– Это мы, – одновременно отвечали сёстры, – только почему – верушки-неверушки?
– Да потому, что вы, как и ваша мама. Та тоже не верила в сказку, и бабушка ваша не верила… До тех пор, пока я не навестила их так же, как сейчас вас.
Девочки сильно удивились.
– Ты к ним тоже приходила?
– Конечно! – в первый раз улыбнулась фея.
– Они нам ничего не рассказывали.
Фея звонко рассмеялась.
– Вот смеху-то было бы, вот посмеялись бы вы над ними! – с последними словами она махнула рукой, и по комнате вновь завьюжило и загудело. – А теперь – прощайте! Таких, как вы, у меня ещё много. Пока всех облетишь, никаких ветров не хватит. Принесла подарок, показалась и будет… – Сама метелица так же превратилась во вьюгу. И две уже вьюги металось по комнате. Одна вылетела в окно, другая осыпалась, превратившись в новенький компьютер под ёлкой. До девочек ещё долго доносилось всё тише и тише, пока совсем не стихло: «Вот смеху-то было бы! Вот посмеялись бы вы! Вот смеху-то было бы! Вот посмеялись бы вы!»
Сильный сон одолел Юлю и Настю. Они прилегли на свои кровати и тут же заснули.…Проснулись они одновременно. Почему-то с самого рождения у них всё происходило одновременно. Они вбежали в большую комнату – посмотреть, как и всегда утром первого января, что им подарили. Под ёлкой их ждал новенький компьютер. Сёстры прыгали от радости, хлопали в ладоши и, взявшись за руки, кружили по комнате. Запыхавшись от головокружительных танцев, они попадали в кресла. Неожиданно Юля замерла.
– Смотри, Настя! – Юля что-то подняла с пола. – Закатилась за кресло…
Она держала в руках хрустальную брошь.
– Метелица… – тихо сказала Настя.
– Ты тоже видела её? – спросила Юля.
– Да, – ответила Настя.
Хрустальная брошь стала таять, терять форму, пока, наконец, не превратилась в маленькую лужицу в ладонях Юли. Девочки слили воду в блюдечко и увидели в воде отражение лица метелицы, теперь платиновые волосы уже развевались на ветру и переливались живыми картинками. Она улыбнулась, подмигнула девочкам и исчезла. Больше они её никогда не видели, сколько бы ни заглядывали в блюдечко. Вода испарилась, и остались лишь одни воспоминания.Оп-ля! Армия – это я! (Рассказ-быль)Трамвай остановился, двери раскрылись, и в салон тяжело поднялся ветеран войны. На верхней ступени он остановился, дабы перевести дух. Пассажиров по обыкновению для этого времени было не много. Следом за ним никто не поднимался и он, никому не мешая, простоял, пока трамвай не тронулся с места. Он был высок, худ, сутул. Одет был в коричневый пиджак, угловато висевший на худых плечах, левая сторона которого было украшена несколькими рядами орденских планок. Под пиджаком – клетчатая фланелевая рубашка, заправленная в мешковатые брюки, давно не видевшие утюга, севшие от частых стирок и потому высоко свисающие над ботинками образца моды семидесятых. В руках он держал трость с резной ручкой. Опираясь на неё, он медленно прошёл на свободное место и сел. Ехать долго, на другой конец города, и он заскучал. Он сидел и бессмысленно, устоявшимся взглядом старца разглядывал мелькающие за окном картинки. Лицо его было сплошь изрезано глубокими морщинами. Седые редкие волосы, с залысиной ото лба до затылка, опоясывали голову. На какой-то остановке в трамвай подсели солдаты. Старик перевёл взгляд на них и наблюдал. Один из них держал наперевес гитару. Обычное дело. Солдат без песни, как невеста без жениха. Они столпились около водительской двери, и кто-то из них выкрикнул:
– Вас приветствует Российская армия!
И они запели:
Я шел, отбрасывая тень,
На каменистую дорогу,
Портянка мне натерла ногу,
Сбилась каска набекрень.
«Молодцы – подлецы! – вспыхнул душой ветеран. – Не унывают!»
Солдаты пели складно, без фальши, на четыре голоса, в разных тональностях – то был явно поставленный, спетый концертный номер.
По ляжкам бухает приклад,
А я все думаю о бабах
И, спотыкаясь на ухабах,
Вспоминаю русский мат.
«Но как поют! – восхитился ветеран. – За душу теребит. Хоть и песня современная… Мы такие не пели… Демократия…. Что делать, времена и вкусы меняются… Всё одно смачно поют… Не стесняются… Всё правильно… Солдат из топора кашу сварит… Да и что унывать… Служба – она и есть служба…»
Вдруг ему вспомнилась его далёкая молодость. «Тогда была война. Ну и что. Солдату в любые времена не сладко. Эвано чё говорят по телевизору!» Вспомнился друг Лёха. Вспомнилось: тот как возьмёт в руки гармонь, тряхнёт кудрями, затянет «Катюшу» – аж мурашки по телу разбегаются! Затишье между боями – фрица зло берёт, жрёт свой паёк по расписанию да зубами от злости скрипит. Время было тяжёлое, военное, и не мудрено, что поющие время от времени нет-нет, да и менялись – кого-то в госпиталь, а кого-то и сыра земля приберёт. Все менялись, одно только Лёха был неизменным – не брала его ни пуля, ни бомба, как заколдованный был. «Ох, и голос был – соловьи замолкали, заслышав его… Как на Лехин голос похож этот, у солдатика, у запевалы… В армии оно как не сладко, а они вона – не унывают, поют. Не всё ещё видать потеряно – выживем. Молодцы!»
Оп-ля! Армия – это я!
«Сам Леха остался там – по своему уразумению: прорвался один «тигр», гадёныш, сквозь танковое ограждение. Так Леха с гранатой на него кинулся… знал, на что шел, не мог не знать – прям под дуло пулемёта вскочил из окопа. Торопился он с намерением тем же танком брешь в заграждении прикрыть. Только гранату бросить-то и успел, как немец из пулемёта полоснул. Брешь-то прикрыл, токмо вот сам там и остался… Мог бы и не геройствовать, он не стал, пожертвовал… Оно как поют! И эти бы закрыли… Молодцы!» В который раз повторял ветеран про себя. Слёзы умиротворения наворачивались на его глаза – за молодёжь, за смену, отчего он сидел и часто-часто моргал.
Усатый прапорщик, маньяк,
Сказал, что наши ягодицы
Должны все время находиться
Крепко сжатыми в кулак.
Неожиданно из-за поющей кучки появился ещё один солдат, его и видно-то вовсе не было до сей поры, он в компании не пел. С приближением конца песни он вышел из-за них, – стоял в тенёчке, позади, снял солдатскую кепку и пошёл вдоль вагона…
А я и так с казенных щей
Давно похож на Буратино,
Еще полгода карантина –
Буду вылитый Кощей.
Как же… Чего это… Погоны ж… Ветеран не верил своим глазам. В кепку сыпалась мелочь, летели бумажные купюры. Что это… Нельзя же… Топтать… Погоны, как знамя – святое… На паперть… Старик в миг ссутулился ещё больше, опустил голову и какое-то время сидел в оцепенении, придавленный тяжестью увиденного.
Оп-ля! Армии – это я!
Распрямив плечи, он поднялся. Уже почти совсем не опираясь на трость, опустив отрешенно голову, разглядывая пол под ногами, он направился вперёд салона.
А на гражданке – выходной,
Девчонки ходят в мини-юбках,
И где-то там моя голубка
Отдыхает не со мной.
Неслось по трамваю. Встав перед ними, он с презрением переводил взгляд с одного на другого. Когда-то он так же смотрел смерти в глаза, только тогда он не боялся, а теперь в его взгляд был наполнен страхом и отчаянием.
А мы исходим на говно
Во славу матушки России,
И лишь одно дает нам силы –
Дембель будет все равно.
Под взглядом замолчал первый, второй, третий, четвёртый. Песнь смолкла. Ветеран горько усмехнулся и плюнул в сторону «защитников» Родины. Развернулся и побрёл к выходу. Теперь по щекам стекали слёзы горечи. Он даже не силился вытереть их, оттого, что он их не стыдился. Стыдно должно быть им, поющим, и тем более – подающим. Стыдно перед ним, стыдно перед теми кто жизней своих не пожалел ради них. Под этими же погонами шли, под танки ложились, себя не жалели. Пассажиры молчали, если бы не мерный стук колёс, то, наверное, в трамвае установилась бы гробовая тишина.
– Прости меня, Леха! Простите, братцы! – шептал он. – Пожалел вас Бог, не дал видеть этого…
Дверь открылась. Старик вышел и побрёл в сторону ближайшего сквера. Сев на скамейку, он упёрся головой в трость и заплакал:
– Как же… – шептал он. – В погонах… Почему… На паперти… Куда мы…
В голове, из неоткуда, назойливо крутилось:
Оп-ля! Армия – это я!
Приключение Энелонка КлякаЭта необычайная и удивительная история произошла в одном небольшом лесочке. В таких лесочках обычно дети не играют, потому что одних их родители так далеко от дома не отпускают. Поэтому дети и представить себе не могли, что такие чудесные истории происходят, и вовсе даже совсем они и не сказки. Взрослым же, среди своих взрослых забот, делать там вообще нечего, если только летом, в грибную пору, в поисках груздей да красноголовиков забредут, погуляют среди деревьев, поищут, соберут грибов – если найдут, и уходят. Ещё реже бывает – пройдёт охотник. И всё, больше их никто не тревожил. Постоянные жители этого лесочка знали все повадки людей, и знали, как спрятаться у себя дома, чтобы их никто не смог увидеть. Жили они сами себе на уме спокойной и размеренной жизнью. Никто им не мешал, и они никого не трогали. Обитателей было немного. Дни их протекали совершенно однообразно. Играли и спали, кушали, иногда просто все вместе скучали от безделья на самой большой поляне. Все было точь-в-точь, как в жизни маленьких детей. Если бы не то, что произошло…
Спасение ЭнелонкаОднажды летним днём, примерно в июне месяце, когда лето было в самом разгаре, и произошла эта удивительная история.
День был солнечный, и многие обитатели лесочка собрались на самой большой поляне. Собрались просто: кто-то погреться на солнышке, кто-то поиграть, а кто-то обсудить новости, которые произошли за день.
В самом центре поляны кувыркались и носились друг за другом волчонок и лисёнок. Лисёнок был похитрее волчонка, и все время дурил последнего. Вот как сейчас: разбежался и, вместо того, чтобы перескочить через поваленное дерево, он нырнул под него, отчего волчонок, замешкавшись, влетел в это дерево лбом, да так, что искры из глаз посыпались. Он был немного покрупнее лисёнка и под деревом не проходил. Или до этого, точно так же, только на тот раз лисёнок проскочил между близко растущими берёзками, и снова волчонок, проиграв в размерах в единоборстве, застрял между деревьями, и какое-то время беспомощно болтал ногами, пока лисёнок не сжалился над ним и не подтолкнул сзади лапками. Но так не всегда. Бывает и так, что и лисёнок попадал в лапы волчонку, вот тогда-то он получал таких тумаков, что бывало даже и до самых слёз. В такие моменты обычно вмешивался медвежонок и разнимал драчунов. Сегодня такого инцидента не случилось. Набегавшись, уставшие зверята увалились на траву – отдыхать. Ещё не остывшие от игры, они нет-нет – тихонько давали тычков друг другу лапками в бок. Из-под сосны за всей этой картиной, с интересом и посмеиваясь, наблюдал медвежонок – чем вся эта катавасия закончится. Он был, как все большие, немножко ленивый и подобным образом резвился довольно редко. Его самым большим другом был мышонок. Страшный трусишка. Он боялся всего, даже с таким большим другом. Все знали, что они друзья, никто и пальцем не смел тронуть мышонка, а он всё равно боялся всего на свете и чуть что – так он сразу шмыг в норку. Медвежонок был страшно добрый и любил мышонка большой медвежьей любовью. Вот и сейчас по греющемуся на солнышке медвежонку мирно ползал его маленький дружок мышонок. Тут же был галчонок, он тараторил без умолка, рассказывая новости со всей округи.
Таких дней было множество из множеств… Не перечесть… Отдыхая и, наконец-таки успокоившись, волчонок с лисёнком лежали на спине, закинув передние лапки за голову, и рассматривали голубое небо и причудливо клубящиеся на нём облака. Они находили в них причудливых животных, видели в них соседа – медвежонка, мышонка, разных других сказочных животных и вообще находили в них всякие интересные интересности, давая волю своим фантазиям.
В одно мгновение взгляды обоих остановился на одном облаке. От него отделился клубок и начал стремительно приближаться к земле. Зверята взглянули друг на друга. «Не почудилось ли…» – подумали они одновременно. Но нет, они вместе видели это странное явление. И тут они снова устремили свои взгляды в небо.
Прямо к ним на поляну стремительно приближался небольшой прозрачный шар. Что было внутри него – пока нельзя было увидеть. Перед самой землёй, только сравнявшись с кронами деревьев, шар резко затормозил, плавно опустился на поляну и завис, едва касаясь земли.
Все обитатели лесочка замерли в изумлении и заворожено смотрели на невесть откуда появившийся шар. Настала глубокая тишина. Не было слышно даже шелеста листьев на раскачивающихся ветвях. Казалось, что и деревья так же были удивлены происходящим.
Приземление необычного шара, похожего на мыльный пузырь, заметили не только те, о которых уже было сказано выше. Вокруг места приземления огромного мыльного пузыря собрались все обитатели лесочка. На высокой сосне, на самой её нижней ветке, сидели белка и галчонок. Белка замерла с сосновой шишкой в передних лапках и, не отрывая глаз, иногда хлопала ресничками. Галчонок, обычно не умолкающий ни на минуту, тут словно онемел. Он не отводил взгляда от пришельца и, иногда заваливаясь с ветки, махал крыльями, улавливая равновесие. Из-под разлапистых пихтовых веток шевелил ушами и разглядывал чудеса, происходящие на поляне, серый зайчишка. На этой же пихте наверху, в самой её кроне, спряталась старая сова, только она единственная ничего не могла видеть, но и она недоуменно и слепо вертела головой – почему вдруг ни с того, ни с сего вокруг воцарилась необычайная тишина. А не видела она просто оттого, что совы по обыкновению своему, от природы, днём видеть не могут. Она только чувствовала – что-то необычное происходит на поляне.
Были и непрошеные гости. Сверху, с макушек деревьев, за шаром наблюдало несколько ворон, живущих за полями, там, где людская свалка, всегда что-то постоянно горит, и там, где живут полчища ужасных и противных крыс, встреча с которыми не сулит ничего приятного. Так же было нежелательно и присутствие ворон над поляной сейчас. Но о них позже…
Сейчас же всё внимание обитателей было приковано к шару. Стенки шара были насквозь прозрачными. В шаре мирно спал маленький динозаврик.
Чудеса на этом не прекратились. Первым вышел из оцепенения волчонок. Он всегда отличался храбростью – осторожно приблизился к шару и ткнулся в него носом, принюхиваясь. Динозаврик зашевелился, открыл глаза и уж совсем неожиданно для всех расплылся в хлопающую двумя огромными глазами бесформенную кляксу. Увидев перед собой невиданное, глаза кляксы улыбнулись, и в одно мгновение бесформенная масса в шаре превратилась в волчонка. И вот уже двое смотрят друг на друга: растерявшийся волчонок снаружи, и его копия из пузыря. Разглядывая друг друга, они одновременно моргали глазами. Состояние, охватившее всех, уже не поддаётся описанию. Вся поляна была очарована и немножко напугана.
Опомнившись, волчонок отскочил в сторону. Его копия в шаре снова превратилась в голубую кляксу с глазами. Немного понаблюдав за поляной изнутри шара и не увидев для себя угрозы со стороны её обитателей, клякса просочилась сквозь оболочку своего убежища и оказалась на поляне перед обитателями незнакомой для него планеты. Это было что-то неведомое для всех: клякса в центре своего тела – если это можно было назвать телом – имела некую возвышенность, на которой и находились до удивления добрые глаза. Она, как и шар, в котором прилетела, не касалась земли, а как бы висела над ней. Снизу клякса волнообразно шевелилось. Увидев сидящего на плече медвежонка мышонка, глаза кляксы снова расплылись в улыбке оттого, как он смешно шевелил в испуге маленьким мокрым носом с редко торчащими из него усиками. Клякса превратилась в копию мышонка, в точности передразнивая все его движения. Тотчас же мышонка как ветром сдуло. Через секунду он уже трясся от испуга в своей норке.
Медвежонок раньше всех осознал отсутствие опасности от незнакомца.
– Ну и дела, – произнёс он.
Его голос вывел всех из оцепенения, а пришелец превратился в медвежонка и произнес, копируя так же и его голос:
– Ну и дела.
Все рассмеялись.
– Он на нас дразнится, – зашептали на поляне, – он с нами играет!
Уже никто не боялся пришельца, его облепили со всех сторон и только старая сова да злые вороны остались там, где и были ранее.
– Ты кто? – спросила его белка.
Он повернул на неё глаза, разглядывая. Клякса ничего не ответила. Все заговорили между собой.
– Он нас не понимает, – сказал волчонок.
– Конечно, – сказал зайчонок. – Он же с другой планеты. У них там свой язык.
– Как же нам с ним теперь разговаривать? – вступил в разговор лисёнок.
Все были растеряны. А клякса вертела своей головкой, разглядывала всех и улыбалась своими чудными глазами.
* * *В то же время в логове главного Крыса тоже видели приземление странного, неопознанного объекта. Поэтому-то и находились три вороны там, где приземлился объект.
Они были разведкой Крыса. Это он отправил их на поляну. Крыс был страшно жаден, ужасно зол и очень коварен. Он был невероятно огромных размеров, гораздо больше своих собратьев, которые заполонили всю территорию его владений, ограничивающуюся размерами свалки. Его полчища так быстро размножалось, что бывало так, что и сам главный Крыс не знал его количества. Такую орду ему было трудно прокормить в эти тяжелые времена. Поэтому для того, чтобы сократить поголовье своей армии, ему приходилось делать набеги на своих соседей, то есть не на самих соседей, а на их закрома. С самими хозяевами этих закромов – людьми – он пока справиться не мог, силы его были не столь велики, но всю жизнь мечтал победить их. Пока он довольствовался только налётами на их продуктовые запасы. После таких налётов он, как правило, возвращался побеждённым. От людей ему не на шутку доставалось. И всё же те, кто оставался в живых, возвращались жирными, отъевшимися в закромах людей. Это было ему выгодно. Кроме того, что они в таких походах отъедались, получалось, что они были и самыми сильными, раз они смогли выжить в неравной битве с людьми, а, значит, жирные и сильные – они родят ему сильное потомство и армия его станет ещё сильнее. А нарожают новую армию они очень быстро. Крыс был умён. Крысы уникальны и приспосабливаются к любым условиям. Таким образом, он шёл к своей главной мечте. Ему было мало размеров свалки и он хотел большего. Он хотел владеть всем миром. Всем тем, докуда видят его глаза. Всё, что есть до самого горизонта, должно быть его. Весь мир для него ограничивался горизонтом. Он хотел завоевать весь мир, захватить людей и животных, чтобы они работали на него: люди растили пшеницу, а звери в лесу добывали пропитание для его армии.
Он шпионил за всеми и всем, что происходит вокруг. Кроме полчища крыс он имел в своей армии и ворон. Они были его глаза и уши за пределами виденья его глаз, там, где он не мог находиться. Он знал всё, что творится в мире.
Вороны платили ему шпионажем за возможность питаться с его свалки.
Крыс ходил взад вперёд от кучи до кучи и ждал возвращения своих разведчиков.
* * *Между тем, вся поляна обсуждала приземление необычного пришельца. Нужно было найти контакт с инопланетянином, а то, что перед ними инопланетянин – никто уже не сомневался. Предлагали, кто что мог. Лисёнок предлагал объясняться жестами, но не всё можно объяснить жестом. Белка, в свою очередь, предложила рисовать на земле рисунки и объяснить, что бы это значило. И опять же – не всё можно нарисовать. Перебрали всё, что могли, но ни один метод для общения не подходил. Медвежонок всё время что-то бурчал себе под нос, почёсывал затылок и уже не в первый раз произнёс:
– Разберёмся, – хотя как – и сам не понимал. Даже если сейчас у зайчонка вырастут крылья, и он начнёт летать, как галчонок, или вдруг мышонок станет самым смелым… В общем – даже если сейчас весь мир встанет с ног на голову, контакта с Энелонком без помощи его же самого им не найти.
Энелонок всё это время сидел перед ними, хлопал глазами, иногда на потеху или, может быть, чтобы самому развлечься, дразнился. Наконец, когда ему всё это надоело, он произнёс уже осмысленно.
– А вот интересно, куда я попал? – и улыбнулся.
– Он опять нас разыграл! Он прекрасно нас понимает! – в восторге воскликнул лисёнок. – А мы тут голову ломаем…
– Не могу же я с вами разговаривать, не разобравшись в вашем языке, – говорил он. – Я просто вас слушал.
Что тут началось! Вопросы Энелонку сыпались один за другим. Он рассказал, что он прилетел с планеты Кляков и, как и всех на этой планете, его зовут Кляк. Всей поляной его дружно назвали Энелонок Кляк, но звали во время разговора по-дружески Энелонок или просто – Эн. Пришелец очаровал всех. Встретили его тепло. Много рассказали о земле и её обитателях. Оказалось, что он совсем ничего не знает о нашей планете. Стояла такая доброжелательная обстановка, что осмелел даже мышонок:
– Как тебя сюда одного занесло? – смело спросил он на удивление всем.
– Я опять заблудился. Мы с мамой и папой были в гостях на планете динозавров, я заигрался с моим другом Дино, потом устал и заснул. Папа спящего меня положил в мой шаролет и мы улетели. По дороге на Кляк мой шаролет забарахлил, я отстал и заблудился.
– Плохо дело, – проговорила сверху ничего не видящая, но всё слышащая сова, – они сейчас переживают.
– Конечно, переживают, – грустно заметил Энелонок, – папа сейчас места себе не находит, мечется, наверное, из галактики в галактику… Правда, шаролёт уже подал им сигнал, и скоро они прилетят за мной. Так уже было. Мой шаролёт не в первый раз барахлит, уже давно нужно было сдать его на регулировку. В прошлый раз я припланетился на неизвестной необитаемой планете. Там так скучно было одному! Родители сразу прилететь не могут. У нас был долгий перелёт через галактики. Пока шаролёты не зарядятся, они прилететь не смогут.
Спокойствие, с которым он это говорил, поражало всех, ведь он потерялся, он один, и в огромном космосе с ним могло произойти всё что угодно, но Энелонок сам всё разъяснил:
– Меня в космосе никто обидеть не может, мы, Кляки, так устроены. Просто, без родителей одиноко, – закончил он и опустил глаза.
Всем стало жалко Энелонка, он был таким очаровательным, что всем захотелось, чтобы родители быстрее за ним прилетели.
В этот момент над головами неожиданно закаркали вороны, перелетая с макушки на макушку деревьев. Всем обитателям прекрасно известно, что они так себя ведут, когда видят, что к ним приближается кто-то чужой. Галчонок тотчас же устремился к опушке леса, чтобы посмотреть, кого они увидели. Через секунду он уже торопился обратно с криком:
– Охотник, охотник идёт! Он уже совсем рядом!
Обитатели поляны не на шутку всполошились, но прятаться никто из них не торопился. Они не знали, что делать с Энелонком: куда его спрятать вместе с его шаролетом. Энелонок тем более ничего не понимал: Почему нужно куда-то прятаться? И кто такой – этот страшный охотник?
– Это охотник, – подбежал к нему заяц, – он охотится на нас!
– Зачем? – удивился Энелонок.
– Азарт у людей такой есть, хобби, увлечение, – говорил заяц.
Энелонок окончательно ничего не понял, но, видя, как все на поляне напуганы, произнёс:
– Прячьтесь за меня и не беспокойтесь – меня никто не увидит.
Звери кинулись врассыпную по берлогам, дуплам и норам. Заяц прыгнул за поваленное дерево рядом с Энелонком и залёг там, – всё бы хорошо, да вот только дерево было недостаточно толстым, и над ним торчали два серых, трясущихся уха. Энелонок сообразил, что страшный охотник может заметить уши зайца, и прикрыл их. От Энелонка со звуком «кляк!» отделился небольшой голубой шарик, повис над зайцем, превратился в огромный лопух и упал поверх ушей. Когда уже хруст веток был совсем рядом, Энелонок просочился внутрь своего шаролёта и вместе с ним превратился в воздух.
Через некоторое время вороны замолчали. Охотник ушёл. Звери вернулись на поляну, и воцарилась прежняя обстановка.
– Спасибо за лопух, – благодарил заяц Энелонка.
– Ерунда, – ответил тот гордо, – мы, Кляки, умеем всё, только понемногу – делаем, убываем, немного восстановимся и снова всё умеем.
«В этот день чудеса, наверное, никогда, ни кончатся», – думали все.
Между тем этот, переполненный чудесами, день клонился к закату. Солнце уже наполовину село за горизонт. Пора было укладываться спать. Расставаться не хотелось, но утро вечера мудренее. Энелонок предупредил всех, чтоб его утром не будили, что они – Кляки – любят поспать и спят столько, сколько положено. Раньше их не поднять – бесполезно, так устроена их природа. Укладываясь поудобнее в шаролёте, он услышал:
– Ты волшебник?
Рядом с шаролётом стоял галчонок. Энелонок улыбнулся и ответил:
– По вашему, наверное, да.
* * *Крыс пребывал в хорошем настроении. Причиной тому стал доклад ворон, вернувшихся из разведки. Возможности Энелонка не давали ему покоя. «Так близко к осуществлению своей мечты я ещё никогда не был». В его голове созрел хитрый и коварный план. «Я завоюю весь мир. Я выкраду пришельца. Я смогу создать армию, достаточную по величине для завоевания мира. Пришелец поможет создать мне эту армию! Я захвачу людей и зверей. Они станут моими рабами. Я стану владыкой мира. Горстка мелких зверушек не окажет мне сопротивления. Труднее будет с медвежонком. Все-таки он достаточно большой… Трудно будет даже лучшим моим крысам. Его я одолею количеством. Но бой с ними будет только в том случае, если они проснутся. За ним должны прилететь, нужно торопиться, завтра и только завтра, пока он спит, иначе время будет упущено. Если зверей разбудит сова, то бой неизбежен. Она не спит по ночам, видит в темноте лучше, чем я днём, и обязательно заметит приближение моего войска. С ней необходимо что-то придумать», – так размышлял главный Крыс. Он решил вызвать к себе своего главного военного советника. Всё-таки на то он и военный советник, чтобы решать военные задачи.
Военный советник был похож на бобра – такой же жирный и без хвоста. Хвост он потерял в один из налётов на склады людей. Ещё в молодости по неопытности он угодил хвостом в капкан и, чтобы освободиться, ему пришлось отгрызть его. Должность венного советника он занимал согласно своей величины: он был больше всех крыс, но меньше главного Крыса. Ещё его отличал более жестокий и злобный оскал, чем у остальных.
Главный Крыс рассказал ему о своих намерениях. Советник воспрял духом: наконец-то снова драться, да еще так много! Он довольно крутил обрубком хвоста. Приказ подготовить план завтрашнего захвата он принялся исполнять сиюминутно, как и положено генералу, а в стане главного Крыса он был именно генералом. Через час уже докладывал:
– Я подведу армию на расстояние чуть дальше, чем видит сова, – он явно был доволен своим планом – хвост крутился, как пропеллер. Справедливости ради нужно отметить: план был хорош и мог легко получиться на деле, а он продолжал: – Дальше я отправлю вперёд маленьких крысят, сове они покажутся сверху мышами и отвлекут её. Норки для укрытия от когтей совы я приготовлю для них заранее днём, – хвост продолжал вертеться, – всё пройдёт тихо и спокойно.
Крыс был доволен своим военачальником.
– Прекрасно! – ответил он. – Готовь армию к завтрашней ночи. – Помолчав, он добавил: – Приготовь где спрятать пришельца. За ним должны прилететь, нужно, чтобы никто не видел, где он.
Наступил вечер следующего дня. В полчищах крыс объявили боевую готовность. Свалка походила на огромный муравейник и шевелилась тысячами крыс. Весь вечер и половина ночи орда готовилось к предстоящему походу за пришельцем. Главный Крыс отдавал последние распоряжения. Военный советник отобрал несколько десятков лучших крыс, чтобы в случае необходимости бросить их на медведя.
Наступило 4 часа утра… Это время Крыс выбрал не случайно. Это время самого крепкого сна. Армия Крыса выступила… Длинной колонной, шаг в шаг, не издавая ни звука, крысы двигались в сторону лесочка.
Лесочек мирно спал. Зверятам даже в головы не могло прийти, какое злое дело задумал главный Крыс. Ночью они никогда никого не боялись. Ещё ни разу ночью лесок не посещал никто из непрошеных гостей. Поэтому никто даже не посоветовал Энелонку лечь спать невидимым. Тем более что не спала сова.
Отбрасывая длинные, лунные тени, через поле шло несметное количество крыс. Первым шёл военный советник, последним – главный Крыс. Недалеко от лесочка колонна остановилась. Сверху, в свете луны, колонна походила на головастика, голова которого увеличивалась по мере того, как подтягивалось всё войско, пока совсем не превратилась в огромное, шевелящееся, чёрное пятно на фоне светлеющего в ночи поля. В этот момент Военный советник дал команду, и три маленьких крысёнка устремились в поле, в сторону от пятна, ближе к лесу.
Сова сидела на высокой ели на краю леса, иногда ухала и вертела головой, разглядывая поле в темноте. Увидев шевеление в траве, она слетела с ветки и, паря, полетела в сторону первого отвлекающего её крысёнка. Но тот уже спрятался в заранее приготовленной для него норке, и она ничего больше не увидела. Чуть подальше она снова увидела шевеление. Повторилась та же история. И снова шевеление, ещё дальше от леса. Ничего не подозревая, сова удалялась от леса.
Советник дал команду на похищение шаролёта. Шевелящееся в ночи пятно стремительно двинулось к поляне. На краю поляны оно остановилось и окружило её, только десятка три крыс отделились от основного войска, подхватили шаролёт с Энелонком и понесли его с поляны. Ряды крыс расступились, пропуская их. «Отборные» стояли первыми. Они были готовы в случае необходимости броситься в драку хоть с сами чёртом, что для них медведь. Слаженность и дисциплина были в войске Главного Крыса.
Сова кружила над полем. Увидев шевеление третьего крысёнка, она тихо спланировала и успела схватить его. Наконец разобрав, кого она поймала, она брезгливо ухнула и отшвырнула добычу. Только теперь она поняла, что её обманули. В поле крыс не может быть, не живут они в полях, они живут только там, где живут люди или ещё на свалках. Её отвлекали! Часто хлопая крыльями, она сломя голову кинулась обратно в лес, к поляне.
Шаролёт вместе с Энелонком сразу спустили в главное хранилище припасов крысиного полчища. И, только когда поступил сигнал со свалки о том, что Энелонок на месте, военный советник дал команду на отступление. Пятно двинулось к свалке. Энелонок так и не проснулся.* * *Энелонок открыл глаза и увидел, что находится в подземелье. Это была огромная нора, посреди которой возвышалась огромная гора отходов. Корки хлеба, зерно, огрызки пирожков, батонов и всякая съестная всячина была свалена в кучу и источала невыносимую вонь. В подземелье кроме Энелонка никого было. «Что произошло? Где я? Почему я здесь? Где мои друзья земляне? Что с ними случилось? Что делать дальше?» – задавал он себе вопросы. Ответов не было. Прошло много времени, пока в дальней части норы не послышались шаги. Энелонок с интересом повернулся на звук. Из темноты появилась огромная крыса.
– Проснулся… ну, вот и хорошо, – голос Крыса заискивал перед пришельцем.
Энелонок не испугался. Он вообще никогда в жизни ничего не пугался. Он уже говорил, что кляки так устроены, что во всей вселенной им никто не может нанести хоть какой-то, пусть даже маломальский вред. Он спокойно и добродушно смотрел на приближающегося Крыса.
– Что случилось? – спросил он и слегка улыбнулся.
Он сильно подружился со зверятами на Земле. Из их рассказов он слышал о землянах много хорошего, так что и предположить не мог, что на Земле у него могут быть враги.
– Случилось страшное, – отвечал главный Крыс, – сегодня ночью на вас напали охотники и переловили всех обитателей лесочка.
При этом Крыс по-лакейски прогибался и заискивающе заглядывал в полные недоразумения глаза Энелонка.
– А я почему здесь? – спросил Кляк.
– Ночью я услышал шум со стороны леса и со своим войском поспешил на выручку к твоим друзьям, – нагло врал главный Крыс. – Но было уже поздно. Твои друзья уже сидели в клетках, мы успели отбить у страшных охотников только тебя.
Энелонок внимательно и доверчиво слушал главного Крыса.
– Что с ними будет? – спросил он.
– Это же охотники, – оскалился Крыс, – самые страшные из людей. Твоих друзей или отправят в зоопарк, или – что ещё хуже того – съедят. Только для этого они и ловят зверей. Нас они так вообще просто травят… просто оттого, что мы есть, – тут уже он не врал.
Энелонок вспомнил, как испугались звери, когда проходил охотник. Он никогда и ничего не боялся, но впервые в своей жизни почувствовал испуг. Энелонок испугался не за себя, он испугался за друзей. Ему было страшно. Ему было страшно за то, что может произойти с его друзьями. Он не мог не доверять Крысу. Ведь он спас его от страшного охотника. Ему казалось, что он и здесь среди друзей. Энелонок был взволнован.
– Нужно их выручать! – воскликнул он.
– Нужно, – согласился Крыс, сердце его злорадно билось в груди —план обмана получается! – Но мы слишком слабы, – он с трудом сдерживал злорадство внутри себя, чтобы Энелонок ничего не заподозрил, – мы не можем сейчас выступить против людей. Они сильнее нас. Подожди, мне нужно время, соберу армию, и мы выручим твоих друзей из беды.
– Сколько времени ты будешь собирать свою армию? – спросил Энелонок.
– Полтора–два года, – ответил Крыс.
– Но это слишком долго! – не соглашался Энелонок. – Они могут погибнуть!
– Быстрее не получится. Нужно очень много, чтоб иметь сильную армию. В первую нужно много пропитания, – Крыс приступил к завершению своего гениального плана, – необходимо напасть на склад людей, а там я обязательно потеряю большую часть армии… но только с припасами, которые мы там захватим, я выращу новую армию. И получится всё это только при условии, если налёт будет удачным.
– А если неудачным? – с испугом спросил Энелонок.
– А если неудачным… – скорбно ответил Крыс. – А если неудачным, то мы ничем не поможем твоим друзьям. Бывают вещи, которые невозможно сделать, – сказав это, он тяжело вздохнул.
Совсем испугал Крыс Энелонка.
Крыс на слух слышал биение своего собственного сердца. Он понял – хитрость его сработала. Теперь весь мир будет его. И только он один будет править им.
– Я помогу вам, – произнёс Энелонок, – скажи мне, что нужно сделать из питания, и я сделаю это из себя. Не трать войско в битве за еду, потом сильнее будете.
Крыс ждал, что Энелонок сам это предложит. И дождался. Теперь уже точно: всё, докуда он видит, будет его. Он уже представлял себя на троне властелина мира.
– Мы, Кляки, – продолжал Энелонок, – можем делать из себя всё, что угодно, – он не знал, что Крыс это всё уже знает, и что именно поэтому Энелонок сейчас находится здесь. – Делать начну прямо здесь и сейчас, – Энелонку казалось, что дорога каждая минута, он хотел как можно скорее увидеть своих друзей. – Мне нужно будет восстанавливаться, для этого необходимо находится на улице. Как отсюда выйти? – Он и не подозревал, что в плену. – Нас восстанавливает космос.
Крыс не ожидал этого. В его планы не входило выпускать его на свободу. Не выпускать – тоже нельзя. «Много зерна он так не наделает… Вот незадача!» – думал Крыс, и всё же:
– Хорошо, – согласился он, – но это слишком опасно. Чтобы выйти днём даже и речи быть не может. Только ночью. Люди коварны! Они подстерегут тебя. Если с тобой что-то случится, я никогда не прощу себе этого и мы никогда не сможем освободить твоих друзей.
– Ночью я сплю, нашу природу не изменишь.
– Я выставлю сильную охрану рядом с тобой. При опасности они спрячут тебя. А ты, пока спишь, заодно восстановишься.
Так Энелонок вполне мог восстановиться, и он согласился.
Крыс объяснил, что ему нужно, он показал Энелонку пшеничное зёрнышко и тут же услышал – «клак!». Пришелец не заставил себя долго ждать. Под ноги Крысу просыпалось несколько зёрнышек. Крыс покидал подземелье, и за спиной его слышалось сладкое – «к-ляк»… «к-ляк»… «к-ляк».
* * *Громкое уханье совы разбудило обитателей лесочка. Звери спешно собрались на поляне. Было раннее утро. Разгорался рассвет. Похищение Энелонка потрясло собравшихся на поляне. Потрясение было настолько сильным, что каждый из зверей просто не находил себе места от злости, так же, как и не находил себе слов для объяснения того, что случилось. Сова рассказала, как всё произошло.
– Их было видимо не видимо, – говорила она, – даже если бы мы попытались что-то сделать, нам бы сильно не поздоровилось.
Крыс было превеликое множество. Главный Крыс приводил всё своё войско. Он готов был в случае необходимости дать зверям бой. Там, где стояло его войско, вокруг поляны трава была просто вытоптана крысами.
Звери сильно переживали. Медвежонок ходил по поляне, как маятник, мотал головой и недовольно рычал. Он сильно сожалел, что его не было с Энелонком, когда подлые крысы похищали его друга. Волчонок сидел на поваленном дереве и молча рисовал что-то на земле палкой, низко склонив голову: «Почему меня не было рядом с ним…» Нос мышонка торчал из норки и словно разглядывал соседей: «Я должен был услышать, моя норка находилась рядом с шаролётом, в котором спал Энелонок…» – «Энелонок спас меня от охотника, а я…» – думал заяц. Над головами ухала сова: «Обманули! Как наивного маленького совёнка обманули…» Все считали, что могли бы помочь Энелонку и, если бы они помогли, то он был бы сейчас с ними. Каждый был в этом уверен. Звери долго переживали потрясение. В центр поляны вышел медвежонок. «Сколько не переживай, а Энелонку легче не станет. Нужно действовать!» – думал он.
– Вы как хотите, а я пойду выручать Эна, – решительно заявил он, – я переверну всю свалку вверх дном, найду Энелонка и верну его, во что бы мне это ни стало.
– Правильно, – подхватил волчонок, – я с тобой пойду.
Медвежонок был доволен. Он был не один. У него есть друзья.
– Мы все пойдём! – воскликнули остальные.
В то время, когда коварный Крыс подлым путём завоёвывал доверие Энелонка, гнев зверей не давал им думать, звери хотели идти на свалку и выручать Энелонка, пока не вмешалась сова.
– Это глупо, – проговорила мудрая птица, – идти ради неудачи и погибнуть самим, крыс тысячи.
Звери в гневе хотели одного – быстрее помочь Энелонку.
– Мы им покажем, мы разнесём их в пух и прах! – кричали, негодуя, они.
Медвежонок возбуждённо ходил по поляне. Он так же понимал правоту совы.
– Сова права, нужно, что-то придумать, – произнёс он. – Эна выручать всё равно нужно. Кто же ему поможет. У него на Земле кроме нас никого нет.
Звери согласились и слушали.
Сова заговорила снова:
– Освободить его можно только перехитрив Крыса.
– Эх, если бы знать, где они его спрятали, – говорил лисёнок. – Эн же сказал, что никто не в состоянии принести ему вред. И если, проснувшись, он сам не вернётся, то, значит, его удерживают на свалке обманом.
Гнев постепенно угасал. Нужно действовать, действовать хладнокровно и расчётливо. Лисёнок продолжал:
– Если бы знать, где его спрятали, – повторял он, – то нужно было бы его только предупредить, дать понять, что его обманывают, он тогда сам поймёт, что ему делать… Но как его предупредить?
– Если с ним кто-то и общается, – сказал волчонок, – так это только сам главный Крыс.
– Да, незадача… – медвежонок вновь мерил шагами поляну взад и вперёд.
Галчонок, до сих пор сидевший на ветке старой берёзы, слетел на поляну.
– Я выслежу Крыса, – заговорил он, – я небольшой и похож на детёныша вороны, – если какое-то время и побуду на свалке, то никто ничего не заподозрит.
– Да, наверное, – согласилась сова, – только как его предупредить? Его наверняка держат где-то в подземелье. Туда тебе не попасть.
Затруднение, перед которым оказались звери, длилось недолго. Послышался писк мышонка:
– Наверное, я смогу это сделать, – пропищал он, – я ведь тоже вполне могу сойти за детёныша крысы. Они же выдали крысят за мышей, отвлекая сову.
Сказал мышонок и сам же испугался того, что предлагал.
– Но тогда была ночь, – заметила сова, – днём они обязательно разоблачат мышонка – у тебя хвостик не похож на крысиный.
– Привяжем похожую верёвочку, – предложил лисёнок вполне резонно, – и станет рысёнком.
– Заметят, – сомневалась сова, – они сейчас Энелонка охраняют, как зеницу ока. Точно заметят!
– Не заметят, – проревел медвежонок, – мы с волчонком отвлечём их. Ввяжемся в драку и покажем им, где раки зимуют! Будет так жарко, что в суматохе им будет не до мышонка.
Звери радостно загалдели.
– Мы все пойдём драться за Энелонка! – снова кричали они, теперь уже точно понимая, что освободить их друга можно.
Хорошо продуманный план – это только половина дела. Другое дело – осуществить этот план. План галчонка ни у кого не вызывал сомнений в том, что он справится. Беспокоил мышонок. Самое ответственное в операции по освобождению Энелонка они поручили самому трусливому. Не сомневался только один медвежонок, только он был твёрдо уверен в своём маленьком, близком друге.
* * *Уже полдня галчонок находился на свалке. Разведка его затянулась. Главного Крыса не было видно. Он уже рассмотрел, как охраняется свалка. Крысы окружили её в два кольца заслона. Первый круг был дозорным: крысы расположились друг от друга на расстоянии видимости по всему радиусу вокруг свалки. Мимо них и комар незамеченным не пролетал. Второй круг оцепления выглядел иначе: здесь крысы стояли плечом к плечу и по сигналу первого круга оцепления были готовы дать отпор нападающим и задержать противника до подхода основных сил. Крыс знал, что звери не оставят в беде Энелонка, обязательно придут на выручку, и он готов был к встрече с ними.
День уже клонился к вечеру, галчонок всё летал и летал с кучи на кучу. Крыс так и не появлялся. Он уже начал отчаиваться, как увидел военного советника главного Крыса. Советник подошел к большой коробке и отодвинул её. Открылся огромный лаз в подземелье. Галчонок подумал: «Энелонок наверняка здесь!» Догадку подтверждало и то, что лаз был необычайных размеров. Видно было, что его увеличили совсем недавно. Не для того ли, что бы в него мог протиснуться шаролёт Энелонка?.. Советник скрылся в норе и через минуту они появились вдвоём. Советник и Крыс, что-то энергично обсуждая, прошли мимо галчонка, совершенно не обратив на него никакого внимания. Возле большой коробки стоял пост охраны. Жирная крыса сторожила вход в подземелье. Галчонок подлетел ближе и сел прямо на коробку. Из-под коробки, из подземелья, едва слышно, доносилось – «к-ляк», «к-ляк», «к-ляк». Крыса, охраняющая нору, заметила галчонка.
– Кыш! – вскричала она. – Иди, играй в другом месте! – прогнала она галчонка, не узнав в нём чужого. Она и вправду подумала, что он воронёнок.
Зато галчонок нашёл Энелонка. Вернувшись к друзьям на поляну, он нарисовал план свалки и точно указал месторасположение входа в нору, где держат Энелонка, так же не забыл отметить и два круга оцепления вокруг свалки.
Наступала очередь мышонка. Он сидел на плече медвежонка и заранее дрожал от страха. Как только он представлял себе, что ему предстоит сделать, как тут же едва не падал в обморок.
А медвежонок уже знал, как перехитрить главного Крыса.
– Первый круг оцепления преодолеть большого труда не составит, – говорил он, – второй – тоже… но вот когда из нор повылазит основное войско Крыса, тут уж нам придётся поработать кулаками.
Звери слушали молча и внимательно. Медвежонок был большой, сильный и только он один из всех зверят знал толк в военном искусстве. Звери доверяли ему.
– Ты, – обратился он к белке, – обоснуешься на высокой сосне. Она растёт на краю свалки. На ней много шишек. Будешь кидаться ими в крыс.
Дальше он обратился к волчонку и лисёнку.
– Перед свалкой есть небольшой холм, – говорил он им, – займёте его, встанете спинами друг к другу, и тогда с тыла вас будет не взять. Отвлечёте на себя часть войска, и будете драться, пока мышонок не встретится с Энелонком и не будет после в безопасном месте.
Друзья кивнули головами.
Перед зайцем встала задача измотать крыс, отвлечь их на себя и носиться по свалке от них пока они, эти коротконогие твари, не попадают без задних ног. От загнанных крыс в драке проку мало. Заяц выслушал и понял – с поручением он справится.
Медвежонок наконец взглянул на каждого из друзей и остался доволен. Друзья были настроены решительно. С ними он высвободит Энелонка! Он заговорил вновь:
– Ну, а я им задам такого жару, что поход по закромам людей им покажется лёгкой прогулкой!
Тут он погладил лапой друга мышонка.
– Тебе останется уже самое малое, они все будут заняты нами. Шмыгнешь в подземелье, предупредишь Энелонка и бегом обратно. Галчонок на всякий случай будет рядом с тобой и при необходимости поможет тебе. После встречи с Энелонком быстро беги через поле домой, мы будем драться до тех пор, пока ты не окажешься на поляне.
Медвежонок говорил ему это так спокойно и уверенно, что мышонок понял: сделать это ему будет легче лёгкого. Он немного успокоился, ведь рядом будет его друг. Он не даст его в обиду!
Наступил вечер. Ночью Энелонка не предупредить. Он спит.
Освобождать Энелонка они решили утром следующего дня.
* * *Ранним утром шум и крики донеслись сверху. «На улице что-то происходит!» Крыс выскочил на улицу из своей крысиной норы – то звери пришли выручать Энелонка.
Он их ждал, и они не заставили себя долго ждать. Дисциплина в армии Крыса была железной. Первый круг оцепления дал сигнал второму, и противник был встречен во всеоружии. Военный советник уже командовал крысами. Он бросал на противника всё новые и новые силы. Лучших он бросил на медвежонка. Десяток крыс носились по всей свалке, пытаясь догнать зайца. Другой десяток уже пыхтел, еле волоча без сил ноги. Заяц бегал от них, дразнился, строил им гримасы и обзывал их «жалкими помоечниками». На бугорке волчонок и лисёнок вели неравный бой с полчищем рвущихся на холм крыс. Главный Крыс забрался на самую большую кучу, чтобы получше разглядеть, как его армия одолеет зверят. Для любого полководца лучшее счастье – видеть победу своих отважных воинов. Главный Крыс считал себя таковым и не мог отказать себе в этом удовольствии.
Медвежонок, ещё перед боем, приготовил себе огромную дубину и теперь махал ею налево и на право.
«Ух!» в одну сторону, и крысы летели на несколько десятков метров. Некоторые из них быстро приходили в себя и, злобно шипя, снова бросались на медвежонка, некоторые насмерть разбивались о торчащие из земли камни и деревья, кто-то просто далеко кувыркался, пока не остановится.
«Ух!» и та же картина повторялась, только в другую сторону.
Медвежонок задал им жару! С поля боя выносили множество едва живых, израненных крыс. У них были выбиты зубы, переломаны лапы и рёбра. Белка на сосне так приноровилась, что каждая шишка достигала своей цели. Количество крыс с синяками, заплывшими глазами и разбитыми носами заметно увеличивалось.
С холма, где отпор давали волчонок и лисёнок, крысы кубарем скатывались вниз, стаскивая за собой карабкающихся следом за ними, образовывая вкупе с нижними кучу малу, по которой проходил своей дубиной медвежонок:
«Ух!» летели они в разные стороны.
Бой был в самом разгаре. Хвост, привязанный к мышонку, смешно волочился за ним. Издалека он вполне походил на настоящий. Вспоминая чертёж свалки, который нарисовал на земле галчонок, мышонок быстро сообразил, куда ему нужно и юркнул под большую коробку, прикрывающую лаз в подземелье. Все крысы были задействованы в драке. Они толпились и суетились возле отбивающихся зверей, попадали под тумаки, очухивались и лезли за следующими тумаками, как очумелые.
Главный Крыс никак не ожидал, что его могут перехитрить, он считал себя самым умным и самым хитрым и поэтому был уверен, что какие-то звери не способны на хитрость. «Скоро они изрядно устанут, и тогда мы их славно пощиплем! Больше уже потом они на свалку не сунутся, я победю их!» – думал главный Крыс.
Друзьям и не нужна была победа. Они и сами прекрасно понимали, что войска Крыса им не одолеть. Тысячелетиями их не смогли одолеть могущественные люди и, конечно же, горстка зверят с ними точно не справится. Им нужно было только предупредить Энелонка.
Но вернёмся к мышонку. Он какое-то время петлял по лабиринтам подземелья, пытаясь на слух определить, откуда доносится «к-ляк». Звук эхом отдавался от стен и поэтому путал мышонка. Наконец он нашёл его. Энелонок, измученный, лежал прямо на земле. От его тела отделялись со звуком «к-ляк» голубые шарики и рассыпались по земле зёрнами. Тело его покрылось морщинами. Он иссякал. Он изнемогал, но делал зёрна.
– Эн! – пропищал мышонок.
Усталые глаза Энелонка повернулись в сторону мышонка, обрадовано раскрылись и измученно улыбнулись.
– Тебе удалось спастись? – тихо произнёс он.
– От кого спастись? – не понял мышонок.
– От страшных охотников, – говорил Энелонок.
– Не было никаких охотников! – ответил мышонок.
– Как – не было?! – воскликнул Энелонок.
– Тебя похитил Главный Крыс. Когда нас разбудила сова, тебя на поляне уже не было.
– Они меня обманули… – разбито произнёс Энелонок. – Зачем они это сделали?
– Я не знаю, – отвечал мышонок, – от главного Крыса можно ожидать всё, что угодно.
«К-ляк» прекратилось. Чтобы помочь своим друзьям Энелонок едва не извёл себя насмерть. Он торопился и не жалел себя, делая зерно для крыс. Он хотел быстрее помочь друзьям, и теперь оказалось, что делал он это всё напрасно.
– Где все остальные? – голос его угасал.
– Наверху, дерутся с крысами. Они отвлекли их, чтобы я мог тебя предупредить.
– Возвращайся, им трудно наверху… Утром я сам вернусь, сейчас силы мои иссякли, – произнёс Энелонок и без сил закрыл глаза.
Мышонок шустро выбрался из норы и побежал со свалки домой. Внезапно ему преградил путь военный советник. Он распознал в мышонке вражеского лазутчика. Советник наступил на хвост и оторвал его. Сердце мышонка билось к этому моменту уже в пятках. Мышонок пустился наутёк, что есть сил, но советник в два прыжка настиг его и преградил путь к отступлению. В этот момент сверху на него налетел галчонок, и как клюнет его в глаз! Да так, что, если до этого он был только без хвоста, то теперь он остался ещё и без глаза. Галчонок налетел с такой силой, что советник кувыркнулся назад тройным сальто. Мышонок страшно перепугался. Он растерялся и бегал в разные стороны, только не в сторону дома. В панике он совсем не мог ориентироваться на местности. Его заметила жирная крыса и кинулась на него. Но её настигла шишка, она угодила ей прямо в лоб, а белка на сосне захлопала в ладоши. Крыса присела, скосила помутневшие глаза к носу и лапы её обмякли. Мышонок пуще прежнего испугался и без ума метался по свалке. Увидев медвежонка, он кинулся к нему через самую гущу крыс. С испуга ему было всё нипочём. Тот его в обиду не даст. Благо медвежонок заметил его и одним махом – «ух!» – со словами: «Да сколько ж вас тут поганых!» расчистил для него дорогу. Перепуганный мышонок пулей влетел на плечо медвежонку и судорожно вцепился в его шерсть. Теперь он был в безопасности.
– Я предупредил Энелонка! – крикнул он ему на ухо.
Между тем заяц, волчонок и лисёнок истратили все свои силы, и крысы всё чаще и чаще умудрялись ухватить их зубами. Их тела кровоточили ранами.
– Мышонок со мной, – прокричал медвежонок, – отходим домой.
Маша дубиной, он расчищал дорогу для отступления.
Крыс ликовал. Он победил. Они больше сюда не сунутся.
* * *Чуть свет звери собрались на опушке леса и пребывали в ожидании. Они ждали возвращения Энелонка и бросали нетерпеливые взгляды в сторону свалки. Звери были твёрдо уверены, что Энелонок прилетит. «Быстрей бы только», – думали они. Вчера им сильно досталось от крыс. У лисёнка была сильно поранена лапка и висела на подвязке. Заяц хромал и передвигался, опираясь на палку. Волчонок скулил и зализывал раны. Медвежонок лениво развалился на траве, подперев голову лапой, с добром над ними посмеивался – серьёзных ран ни у кого не было – и приговаривал:
– До свадьбы заживёт.
«К-ляк», «к-ляк», «к-ляк» донеслось до них. Звери возбуждённо подскочили и стали всматриваться вдаль, где за полем дымилась свалка, но там, никого не было.
«Клак», «клак», «клак» вновь услышали они.
«Клак» доносилось со стороны поляны.
– Энелонок вернулся, он опять перехитрил нас! – вскричали они и побежали на поляну. Но это был не Энелонок. На поляне стояли два шаролёта. Это были большие шаролёты. Гораздо больше размером, чем шаролёт Энелонка. «Это родители прилетели за Энелонком», – догадались звери. Две большие кляксы перемещались по поляне и звали Эна:
– К-ляк! К-ляк! К-ляк!!
Из-за спин зверят неожиданно появился Энелонок и бросился в объятия родителей. Пока звери возвращались с опушки на поляну, Энелонок догнал их. Проснувшись утром вне подземелья, он, ни с кем не разговаривая, поднял свой шаролёт и покинул свалку, оставив Крыса с носом. Он мог бы отомстить главному Крысу, но есть космический кодекс, который, хоть он и был ещё маленьким, уже чтил. Кодекс, в свою очередь, гласил, что, если тебе или твоим родственникам или друзьям не угрожает опасность, нельзя вмешиваться в жизнь обитателей других планет. Он выполнил этот пункт кодекса. Он оставил Крыса с носом, и больше никому ничего не угрожало.
Энелонок познакомил родителей со своими новыми друзьями. Как и любой маленький ребенок, он хвастался какие они замечательные, надёжные, а особенно – мышонок. У мышонка теперь стало два самых близких друга: самый сильный и добрый медвежонок на Земле и в космосе – Энелонок, который ничего не боится.
– Мама, – говорил Энелонок, – давай возьмём мышонка к нам в гости.
Мышонок в секунду оказался в норке, высунул нос и произнес:
– Чё это, – испуганно говорил он, как будто его силком засовывали в шаролёт и везли в какой-то там космос, – мне и здесь хорошо! – Вчерашних приключений ему хватит надолго, но всё же, чтобы не обидеть Энелонка, добавил: – Давайте в следующий раз.
Звери смеялись над трусостью мышонка, при этом совсем не считая его трусом. И вообще, звери пребывали в непонятном состоянии – они гордились собой, они гордились друг другом, они гордились мышонком.
Если, мой маленький друг, ты когда-нибудь совершал поступки, подобные тем, что совершали наши герои, жертвовал ради друзей самым дорогим, не предавал, не оставлял друга в беде, то тебе обязательно известно чувство, охватившее друзей на поляне, непонятное и счастливое.
Главный Крыс отчаянно метался по свалке. Его мечта захватить весь мир рухнула, как карточный домик.
Звери ведь даже и не подозревали, что своей крепкой дружбой они не только освободили Эна, но и победили зло, которое мог принести Крыс всей Земле. Они не подозревали, что спасли и нас, людей. Злобный и жадный главный Крыс – теперь уже и нам понятно – не остановился бы ни перед чем. Он же не учился в школе и не знает, что по мере приближения к горизонту он от тебя удаляется. Он всё захватывал бы и захватывал весь мир, пока не вернулся бы с другой стороны Земли. Обманутый Энелонок делал бы зерно, потом и захваченные люди стали бы выращивать ему то же зерно, а звери также добывали бы ему провиант для его армии… Вот какое большое зло сумела остановить маленькая кучка зверят.
Но мы забыли об Энелонке. Ведь ему пришло время улетать. Звери прощались с ним. Я не буду описывать сцену прощания, даже для меня она оказалась очень трогательной. Из глаз зверей катились слёзы, они не стеснялись их, потому что это были добрые слёзы, не засунешь же их обратно. Даже медвежонок, большой и сильный, тоже пустил скупую, медвежью слезу величиной с вишню.
Родители и Энелонок сели каждый в свой шаролёт, поднялись вверх и зависли ненадолго над верхушками деревьев.
– Прощай, Энелонок! – кричали звери и махали ему лапками.
Шаролёты резко взмыли в небо, и из них доносилось:
– До встречи! – кричал Энелонок.
Шаролёты сначала превратились в облака и, уменьшаясь, совсем исчезли из виду. А звери всё стояли и махали лапками своему новому другу.
* * *Вот такая история произошла на нашей планете, в маленьком лесочке на маленькой поляне. Мой дорогой читатель посмотри: нет ли рядом с твоим домом или городом лесочка, поля и свалки. Если есть, то, может быть, эта история произошла где-то рядом с тобой. Мы, взрослые, в детстве не знали этой истории потому, что она произошла совсем недавно, и поэтому нередко причиняли вред зверюшкам. Некоторые из нас ходили в лес и стреляли по ним из рогатки ради развлечения. Потом эти некоторые становились охотниками и теперь развлекаются уже по-взрослому – с ружьями и капканами. Ты уже видел, как их боятся наши лесные соседи. Но теперь-то мы с тобой знаем эту историю, а если кто-то из твоих друзей её ещё не слышал, то обязательно расскажи ему её. Только обязательно расскажи! Ведь если главный Крыс соберёт всё-таки своё войско и захочет завоевать весь мир, то кто же нам тогда поможет?.. Берегите зверят и дорожите дружбой, как это делали они.
Маленький друг с большим, бесстрашным и благородным сердцемПутешествуя по галактикам, Энелонок не забывал о своих маленьких друзьях землянах. Космический кодекс гласил: что дружба, как и бескрайний космос, не имеет границ. Если не мог пока Кляк отплатить какой-то помощью, то отблагодарить своих новых друзей он был вполне в состоянии. Где бы он ни был, в какой бы галактике не находился, увидев что-то полезное и практичное для них, он обязательно приобретал это им в подарок. Когда уже вес накопившихся подарков стал превышать предельно допустимый вес багажа, Кляк дал шаролёту курс – на землю…
…Шаролёт Энелонка стремительно приближался к земле. Следом за ним неотступно следовал ещё один, точно таких же размеров. Под ними, накрывая землю, расстилался покрывалом густой, клубящийся серый туман, и краёв его не было видно до самых горизонтов. В прошлый свой прилёт он различал ландшафт земли с гораздо большей высоты. «Странно всё это, – подумалось ему. – Необычно как-то». Тревога закралась в его желеобразное тело. Туман уж очень похож на дым. «Быть может, на Земле за время моего отсутствия произошла космическая катастрофа? Что, если земляне погибли? Бедные мои друзья! Если это так, то мне уже не помочь им, и я никогда больше не увижу их!» – отчаянно думал он.
Серое покрывало дыма не предвещало ничего хорошего.
– Включи радиобуксир и присоединись ко мне, – скомандовал он пилоту следовавшего за ним шаролёта. Затем Кляк переключился с автопилота на ручное пилотирование и бесстрашно устремился в неизвестность…
Вслепую пробиваясь сквозь серую мглу, он окончательно ничего не понимал. Его обычно добродушные огромные глаза в эту минуту тревожно и сосредоточено разглядывали серую стену дыма перед шаролётом, сквозь которую, непонятно в какую неизвестность, и нёсся Энелонок. Каждую секунду он ждал, что вот-вот появится знакомый ландшафт Земли. Чем ниже он спускался, тем сильнее нарастала его тревога. Он уже видел белые хлопья, летящие вниз и очень похожие на хлопья пепла. Они облепляли шаролёт и мешали видимости, отчего Энелонку приходилось включать стряхивающую систему, которую иногда приходиться использовать для сброса с шаролёта накопившейся в долгих перелётах космической пыли.
Приборы чётко показывали, что Земля уже совсем близко.
Каждую минуту он бросал взгляд на второй шаролёт и, убедившись в том, что радиобуксир работает исправно, удерживая его на безопасном расстоянии, и не отпускает за пределы видимости, он одобрительно кивал головой, продолжая дальнейший спуск к Земле.
Неожиданно по шаролёту начало что-то хлестать. Кляк резко нажал на тормоз. И вовремя. Это уже хлестали ветви деревьев. Если бы не включённый вовремя радиобуксир, то второй шаролёт непременно налетел бы на резко тормозивший шаролёт Энелонка. А, не затормози вовремя Кляк, они непременно ударились бы об землю, и им обоим сильно не поздоровилось бы.
Но всё минуло. Шаролёт Энелонка и его спутника плавно приземлились на знакомую поляну. С неба сыпал белый пепел. Он толстым слоем окутал землю и тяжелыми ватными кусками облепил деревья так, что ветки, потрескивая под тяжестью, казалось, вот-вот переломятся.
Вновь встрепенулась тревога: «Бедные мои друзья!»
Два шаролёта стояли посреди поляны на густом белом пепле. Кляк просочился сквозь оболочку шаролёта. Он едва-едва узнавал поляну. Выглядела она совсем по иному, но сомнений быть не могло – это именно она. Приборы так же показывали приземление в точно заданном месте. Несколько минут он перемещался по поляне. Его друзей нигде не было видно.
– Будь пока в шаролёте, – попросил он спутника, а сам устремился с поляны.
Перелетев через поле, увидел свалку. Над ней кружили вороны, противно каркали и ворошили горы мусора. Крысы сновали от кучи к куче, раскапывали съестное и грозно шипели, отстаивая найденное пропитание. Они переживали не лучшие времена, были худы и злы.
Крысы и вороны живы… Затеплилась надежда. Нужно искать! Друзья тоже должны быть живы. Энелонок кинулся назад на поляну. Спутника в шаролёте не было. На поляне два совершенно одинаковых зайца разглядывали друг друга, в точности копируя движения другого. С приближением Энелонка один заяц превратился в кляксу, очень похожую на Кляка, только с двумя хвостиками на голове и чёлкой между ними. А так они походили друг на друга, как две капли.
У Кляка отлегло на его невидимом сердце. Не было никакой катастрофы! Капли пепла, падающие с неба, соприкасались с разогретой оболочкой шаролёта, таяли, превращаясь в воду. Это был снег. На земле шло, незнакомое для Кляка природное явление – зима.
Зайчонок узнал Энелонка. Он тут же на радостях кинулся по норам. Все, кроме медвежонка, собрались на поляне. Он спал в своей берлоге, сосал лапу и совершенно не знал ничего о прилёте Энелонка.
На поляне стоял шум да гам такой, что Кляк не всегда понимал, с кем он говорит, и кто о чём говорит.
– Мне тут, – Кляк слегка впятил грудь вперёд, показывая где, – что-то подсказывает, – говорил он, – что вам без приключений немного скучновато, я и прилетел вас навестить.
– Зима, Кляк! – отвечал волчонок. – Холодно, скучно, делать нечего…
Энелонок воспрял духом.
– Так это называется зимой… – сказал он. – Я уже думал, не увижу вас. Вот страху на меня нагнала эта замёрзшая вода с неба! Да еще приземлился, и вас не могу найти.
Звери смеялись.
– В такую погоду мы по норам сидим, – говорил Лисёнок. – Иногда только от скуки в гости друг к другу ходим.
– Со мной не соскучишься, – лукаво прищурил один глаз Энелонок. – Знакомьтесь, – он указал на спутницу, – Кляка, моя подружка.
Все звери, не скрывая любопытства, разглядывали спутницу Энелонка. Кляка стояла посреди поляны и подолом своего тела, от нечего делать, туда-сюда разгребала тонкий слой снега. Услыхав, что заговорили о ней, она тут же опустила глаза, запереливалась всеми цветами радуги и, приподняв край подола, в смущении стала накручивать им кончик своего чудного хвостика, слегка склонив голову набок.
Уж у Энелонка были большие глаза. А у неё они были куда больше и – выразительней. Против его карих глаз её глаза были бездонно голубыми, и каждый смотрящий на неё проваливался в них.
– Теперь мы всегда вместе, – гордился Кляк своей Клякой, – на всю жизнь! У нас, у Кляков, по-другому не быв а ет.
Кляка ещё ярче запереливалась красками.
– Ты женился? – пищал мышонок.
– Не-е, – протянул Кляк, – рано пока… Ей ещё по-вашему, земному летоисчислению всего только четыреста пятьдесят лет, а мне – шестьсот. Мне уже можно, а ей ещё рановато. Но это не важно, – глаза его блестели счастливой искрой, – у нас, у Кляков любовь приходит только раз в жизни, так что всё уже давно решено. Подожду ещё лет сто пятьдесят и женюсь.
Звери были рады за него – он был счастлив, что ещё нужно друзьям.
– А это те мои друзья, о которых я много тебе рассказывал, это они спасли мне жизнь, – говорил он своей Кляке, – не побоялись сразиться с самим коварным Главным Крысом.
– Почему они все тонкой травой покрыты? – неожиданно спросила она. – Какие они смешные.
Земляне от неожиданности растерялись.
– Это не трава, а шерсть, – обиделся за всех волчонок, – и она для того, чтобы мы не мёрзли.
– Который из них тот самый смелый мышонок? – на удивление всем со знанием дела спросила она.
Кляк кивнул головой в сторону прячущегося за зайчонком мышонка.
– Вон он, скромничает.
– Такой маленький! – хихикнула Кляка.
Мышонок от стыда бросился в норку.
Он не любил, когда из него постоянно делают героя, но ему это было приятно.
– Вы мне совсем зубы заговорили, – хлопнул Кляк подолом своего тела по снегу, – что ты будешь делать – склероз! Память, как у стотыщлетнего.
Он заторопился к шаролёту.
С виду шаролёт, казалось, был прозрачным и пустым внутри, словно мыльный пузырь. Но это было не так. Что откуда бралось? Энелонок с каждым просачиванием в него, высачивался, что-то вынося с собой. Правда, зверей это нисколько не удивляло. От Кляка можно ожидать всего, что угодно.
– Мы тут с моей Клякой подарки вам привезли…
Кляка так же что-то выносила из своего шаролёта.
Кляк побыстрей, первым делом, хотел одарить подарком Маленького мышонка, невзначай обиженного его Клякой. Хоть и маленькое сердечко билось в его в мышином тельце, но было оно бесстрашным и благородным, а это – по глубокому убеждению Энелонка – многого стоило. К тому же это его маленькое сердечко было чересчур ранимое. Кляк немедля торопился задобрить его. Первый подарок предназначался мышонку. Это была маленькая серебряная пуговка. Кляк купил её на планете Японании, маленькой, перенаселённой планетке на задворках всех галактик, где живут такие же маленькие, как мышонок, жители – Японанийцы. Такие же маленькие и с таким же открытым и бескорыстным сердцем, как у мышонка. Мышонок, получив подарок, смотрел на него с непониманием. В самой серединке пуговки сверкало хрусталиком какое-то круглое стёклышко, а по краям – две какие-то кнопки. Мышонок вертел перед собой подарок, не зная, что с ним дальше делать. Кляк не стал заставлять друга путаться в догадках и объяснил предназначение серебреной пуговки.
– Это видогалопроэкционная камера, – сказал он.
– Название-то какое-то мудрёное! – бурчал мышонок. – Одного названия и с пятого раза не запомнишь… Поди разберись, что там у неё ещё внутри.
Мышонок с ещё большим непониманием бестолково таращил глаза на видеогалопроэкционную камеру.
– Видо-галко-протрекцетонную… тфу-ты, язык сломаешь! – ворчал он.
– Отойди от нас в сторонку, – попросил его Кляк, – направь на нас стёклышко в серединке… – Энелонок подождал, пока мышонок выполнит все его указания. – Нажми красную кнопку, – продолжал Кляк, – подержи её… – Через несколько секунд он остановил его: – Теперь отверни стёклышко в сторону и нажми зелёную кнопку.
Мышонок сделал так, как его просил Кляк. В сторонке, в нескольких метрах, на поляне, как по взмаху волшебной палочки, появилась группа зверят, точь в точь такая же, как их. Таким образом, на поляне уже находилось зверят в два раза больше. К тому же та, вновь появившаяся, совершенно беспардонным образом дразнила первую группу, в точности повторяя всё, что происходило некоторое время назад на поляне. Второй Энелонок там дразнил нашего Энелонка здесь и руководил действиями мышонка, не того, который стоял сейчас здесь, ошеломлённый, а того, другого, который не ошеломлённый и там, а те другие звери – точно такие же, только не удивлённые, как здесь, наблюдали чего-то, ожидая там.
Мышонок хоть и считался уже отважным и бесстрашным, но не до такой же степени. Увидев ТАКОЕ, мышонок взвизгнул, подпрыгнул, бросил «видо-галко или как там её ещё…» на снег и в одно мгновение скрылся скорей в норке, да так, что даже и носа не высовывал. Звери стояли в удивлённой растерянности. Кляк со своей Клякой радостно подпрыгивали, хохотали и хлопали подолами своих тел, как в ладоши.
– Это же не настоящие звери! – смеялись они. – Это только ваши изображения, видогалопроэкционная камера запоминает, записывает, когда нажимаешь красную кнопку, а затем, после нажатия зелёной кнопки, проецирует голограмму увиденного в пространстве точь в точь, как всё происходило. Это Японанийцы придумали. Они маленькие, но очень умные. У вас на Земле до такого ещё не додумались. Выключишь камеру, так тут же всё и исчезнет! – Кляк с Клякой с трудом сдерживали смех над необразованностью землян – как же, не знать таких элементарных вещей.
И правда – ведь как только мышонок бросил камеру, тут всё и исчезло.
«Что это – крыс не боялся, а тут таких же зверей, как мы, испугался. Да разве ж Кляк подарит мне какую-то гадость?!» – так думал мышонок, возвращаясь из своей норки.
– Теперь при помощи этой штуковины мышонок сможет запомнить любое радостное для вас событие, а как захочется вспомнить, так можно будет заново прокрутить его в пространстве.
– Ух ты! – счастливый и важный стоял мышонок. – И это мне!
Кляк, довольный тем, что угодил мышонку, кивнул своей шатроподобной головой. Мышонок схватил видогалопроэкционную камеру и давай записывать всё подряд – что ни попадя.
– Если она ослабнет, то её достаточно только подержать на солнышке, и она снова будет в порядке. Это тоже изобрели Японанийцы, – говорил Кляк.
– Ух ты, – не переставал дивиться мышонок, – вот это, да! – не верилось ему.
Мышонок запоминал и запоминал происходящее, бегая вокруг, как корреспондент с фотоаппаратом, словно дитя малое с новой игрушкой. Звери уже начали ворчать на него, просить, чтобы он прекратил записывать и присоединился к ним, но мышонок им отвечал:
– Да ну вас! – отмахивался он. – Чё мне с вами о пустом болтать, я лучше всё запишу, а как «Потапыч» весной проснётся, так я ему всё записанное и покажу, порадую его.
– Кто такой «Потапыч»? – в недоумении спросил Кляк – по его мнению, он знал всех на поляне.
– Медвежонок, – ответил мышонок.
Энелонок в суматохе не заметил, что не хватает медвежонка.
– Так давайте же разбудим его, – попросил он.
– Нельзя, – отвечал мышонок, – его природа так устроена: медведи всю зиму спят и сосут лапу. Вот вас, кляков, нельзя разбудить, пока вы сами не проснётесь. А их зимой нельзя будить, им зимой есть нечего, вот они и спят.
Энелонок в задумчивости потёр подолом своего тела там, где у землян должен быть подбородок.
– Мы вот что сделаем, – озарено воскликнул он.
От Кляка со звуком «Кляк!» отделился голубой шарик, завис в воздухе, превратился в бочонок мёда и упал к ногам зверят на поляне.
– Вот, это ему! – торжественно говорил Кляк.
– Ух, он обрадуется, – вторили звери, – когда проснётся.
– Зачем же ждать, пока он проснётся, – удивлялся Энелонок, – что он пустую лапу сосёт! Вы ему её сейчас намажьте, пусть во сне лакомится. Сон слаще будет, выспится лучше, – заключил Кляк.
Волчонок тут же покатил бочонок к берлоге. Мышонок записывал всё на пуговку. В берлоге он отложил свой драгоценный подарок в сторонку, затем они с волчонком вскрыли бочонок и шлёпнули медвежонку в лапу огромную ложку мёда. Тут же схватив видогалопрэкционную камеру, он начал записывать на камеру то, что будет происходить далее. «Потапыч» между тем, учуяв во сне мёд, начал жадно сосать лапу; поняв, что мёда много, он начал облизывать лапу и, наконец, сообразив, что мёд все-таки закончился, он повернулся на другой бок, сытно крякнул и продолжил сон сладким посапыванием.
Вернувшись на поляну, мышонок показал сцену зверятам. Вот смеху-то было.
Подарки получили все. Сове Кляк подарил очки дневного видения. Очень незаменимая вещь для неё. Сова сидела на высокой ели, на самой её макушке, галчонок подхватил очки и отнёс их ей. Став зрячей днём, она тут же слетела на поляну в общую компанию зверят. Сова беспрестанно ухала на радостях от подарка, но больше всего ухала оттого, что впервые видела Энелонка. Галчонок получил приёмничек космических новостей. Остальным не в радость. Он и так болтает без умолку, а тут его вообще не остановишь, пока всё не выскажет. Радости его не было предела. Нужно только нажать в справочном каталоге интересующую галактику, дальше уже дело техники – сам поймает нужную волну, сам переведёт, сам расскажет. Сиди и слушай, а потом… рассказывай! Галчонок вот уже целых пять минут недалеко на ветке сидел и, плотно прижав к уху приёмничек, слушал новости с неведомых планет. Бельчонку достался спальный мешок, набитый шелухой кахетийских орехов. Кахетия – это планета, населённая только растительностью. На ней растёт кахетийский орех. Никто не знает, почему он всегда тёплый, даже сорванный, и даже его шелуха. Кляк подумал, что бельчонку там, наверху, в дупле холодно, когда постоянно задувает ветер. И тепло ему вовсе даже и не помешает. Зайчонку Кляк привёз невидимую накидку. В случае опасности ему нужно только будет набросить её на себя, и он тут же станет невидимым. Тогда зайчонку никакие охотники будут не страшны. А когда нет опасности, ее можно повязать на шее как шарфик и носить для тепла.
Мышонок носился по поляне со своей видогалопроэкционной камерой и записывал, стараясь ничего не упустить. Когда он уже совсем притомился и намеревался прекратить своё занятие, в голову ему пришла совершенно неожиданно шальная мысль – снять поляну и её обитателей глазами Энелонка из его шаролёта. «Вот сниму и отдохну», – решил он, уверенно направляясь к шаролёту. Просочившись в шаролёт, он дался диву. Высочившись обратно, он, не веря своим глазам, стал пристально рассматривать шаролёт снаружи. Даже оббежал вокруг. «Прозрачный», – пожал он плечами. Продолжая, не верить собственным глазам просочился обратно в шаролёт. Прозрачный снаружи, внутри он выглядел совершенно иначе. Внутри он был напичкан электроникой и всякой космической атрибутикой, которую должен иметь каждый межпланетный корабль. И ещё поражало то, что внутри он был так огромен, что, пожалуй, в нём могли бы поместиться все обитатели поляны и, пожалуй, ещё осталось бы место. Зато снаружи он был не более полутора метра в диаметре. В самом центре стояло кресло астронавта. Перед ним – приборная доска, напичканная всевозможной электроникой, стрелками, кнопками, тумблерами и рычагами. Десятки лампочек перемигивались, контролируя работу всех систем космического корабля. Позади провисала объёмная, прозрачная карта галактик. За приборной доской начиналась сфера, обрамляющая шаролёт так, что астронавт мог видеть всё, что происходит вокруг. Мышонок взобрался в кресло астронавта, с него – на приборную доску, откуда сквозь сферу стал записывать события, происходившие на поляне. «Вот все удивятся!» – думалось ему, занятому съёмкой. Сняв всё интересное, он полез обратно. И невзначай наступил на маленькую кнопку. Полилась тихая приятная мелодия. Сладкий аромат заполнил шаролёт. Запинаясь, ничего не соображая, он доплёлся до какого-то рычага и рухнул за него, погрузившись в глубокий сон…
Лисёнку с волчонком Кляк привёз один подарок на двоих. Это был небольшой экран, квадратный и очень тонкий, величиной с телевизор. Это была довольно интересная штуковина, называемая космовизор. Он мог определить и показать в любом месте космоса местонахождение любого интересующего объекта, когда-либо находящегося возле него. И ещё, если переключить его в другой режим, можно посмотреть множество самых разнообразных историй, бесчисленное количество которых было записано в его памяти. Теперь у зверят появилось что-то вроде своего домашнего кинотеатра. Долгими земными зимними вечерами им будет, чем заняться. Они будут собираться то у лисёнка, то у волчонка и смотреть забавные и невероятные приключения инопланетных героев. Скучать будет некогда.
Долго ещё веселились зверята, рассказывая, друг другу разные разности. Вспомнили события прошлого прилёта Энелонка, Главного Крыса и его генерала. Последний теперь ходит с повязкой, под которой прячет свой выбитый белкой глаз и злобно шипит от своего бессилия. Наступил вечер, очень скоро сумерки превратились в непроглядную тьму. Если бы не луна, то совсем ничего не было б видно. Совсем неожиданно в лесной ночной тиши пронзительно заверещала сирена. Энелонок замер. Шаролёт мигал ярко красным цветом.
– Сигнал от Дино! – встревожено воскликнул он. – С ним что-то случилось. Летим к нему! – крикнул он своей Кляке. – Он в беде.
Кляки наспех попрощались, торопливо просочились в свои шаролёты и взмыли в небо.
Звери остались стоять в растерянности. Так всё хорошо начиналось… Надежде на то, что Энелонок задержится у землян на несколько дней – погостить – не суждено было сбыться. Они недоумевали…
…Шаролёт стремительно пронзал пространство. Кляк торопился. Если Дино послал тревожный сигнал, то дело обстоит очень и очень серьёзно. В космосе подобным образом не шутят. Не гадая попусту на кофейной гуще, Кляк вёл свой шаролёт на одну из планет динозавров. Набирая разгон, Энелонок преодолел сверхзвуковой барьер скорости и продолжал ускорение. Кляк потянул на себя рычаг стабилизатора и ахнул. Он не хотел верить тому, что видит. За рычагом мирно спал мышонок. Второпях он увёз с собой мышонка! Что теперь с ним делать? Разворачиваться? Мышонок сладко посапывал. Кляк смотрел на него и думал, что делать дальше. В этот момент шаролёт тихонько тряхнуло на космической яме, и от этого мышонок проснулся. Спросонья он смотрел на Кляка и ничего не понимал. Потянувшись, он посмотрел сквозь сферу вперед и… дар речи покинул его. Он пищал что-то нечленораздельное и указывал лапой вперёд:
– М-м-мы чт-о-о-о, ле-те-т-ти-м-м?!? – кое-как сложил он звуки в едва понятное предложение.
– Да, – кивнул Кляк, – всё произошло так неожиданно, что я взлетел, даже не заметив тебя.
Мышонок начал приходить в себя.
– Что случилось? – дрожа всем телом, спросил он.
– Я получил тревожный сигнал с планеты динозавров, – отвечал Кляк, – с моим другом Дино что-то случилось, и я спешу к нему на помощь… Но теперь придётся вернуться и отвезти тебя на землю, – с досадой закончил Кляк.
Мышонок собрал всю свою храбрость, какую только можно было собрать в его маленьком тельце, в кулак. «Энелонок уже шестьсот лет летает по всему космосу и ничего, жив и здоров. Что со мной может случиться от одного путешествия. Энелонок же рядом. Он всё может. Он меня в беде не оставит», – подумав так и, хотя ему было всё-таки очень страшно, мышонок сказал:
– Не надо возвращаться, сначала позаботимся о твоём друге, а потом и обо мне подумаем.
Энелонок с благодарностью посмотрел на мышонка. Дорога каждая секунда. Кляк повернул рычаг скорости до упора. Шаролёт преодолел сверхсветовой барьер скорости. Теперь они летели быстрее света.
– Что могло случиться с Дино? – спросил мышонок, стараясь как-то отвлечь себя от пугающих мыслей о предстоящем.
– Ума не приложу, – отвечал Кляк, – на той планете, где живёт Дино, с ним ничего не может произойти. Это-то меня больше всего и беспокоит… – Кляк немного помолчал в задумчивости и заговорил вновь: – Это на других двух неспокойно, никак не на ней… – он обратил внимание, что мышонок что-то недопонимает.
– Сколько планет динозавров? – спросил мышонок.
– Вообще, планет динозавров три. Они перемещаются в космосе, удерживаясь на орбитах друг друга. Вот, скажем, как Луна на орбите Земли всегда рядом, так и они. В отличие от Земли и Луны они совершенно одинакового размера.
Мышонок беспокойно ёрзал, сидя на приборной доске возле рычага скорости. Он намеренно сидел спиной к «туда», куда летит на свой страх и риск. Как только он видел надвигающийся на него космос, так ему становилось не по себе. Помимо этого ему всё-таки хотелось узнать об этих планетах побольше.
– Чем они отличаются? – спросил он.
Динозавры разные живут, – отвечал Кляк, – на одной из них живут только кровожадные. Кто сильнее, ест слабого. Ест до тех пор, пока не придёт кто-то сильнее его и не съест его же самого. Так и живут… на съедение друг другу. В общем, ел, ел, а потом и сам съелся.
– Жуть, – поморщился мышонок.
– На второй, – продолжал Кляк, – живут другие динозавры, у них всё по-другому. Уж слишком они любопытные уродились, всюду свой нос суют, а себя считают самыми умными во всём космосе. Всю планету в поисках тайн и загадок раскопали, шахты да карьеры вокруг. Фабрик и заводов видимо, не видимо. Трубы дымят так, что и дышать-то уже нечем. Всё в природе нарушили, не выдерживает она, и теперь то смерч, то ураган, то цунами, то наводнение, то землетрясение, а то и засуху на них пошлёт. Учит их уму разуму своими методами, а им всё нипочем. Одно своё гнут. Загадки перед собой себе на голову ставят – почему это вдруг природа меняться стала? Природа всё равно умнее их, хозяев да командиров над собой не любит.
– А третья? – спрашивал мышонок.
– А тре-е-тья, – протянул Кляк, – третья – другое дело, на неё мы сейчас и летим, там всё сам увидишь. Она к своим динозаврам, как к детям малым относится. И они её как родную мать любят. В карьерах да шахтах не копаются. Трубами заводскими воздух не портят. Дышится на ней легко и свободно. Живут на ней динозавры в точности, как вы на своей поляне – в любви и согласии.
Мышонком овладела глубокая гордость за свою планету и землян в целом, и в первую очередь – за себя, ненаглядного.
– Самое грозное, что бывает на этой планете, – продолжал Кляк, – так это если гроза, и та только в радость – свежести придаст, помоет деревья и опять мир да лад. Красота на той планете после дождя, маленькие летучие динозаврики – калбриусы – на деревьях соловьиной трелью заливаются. Освежившись, деревья голубой листвой сверкают… Красота! – умилялся Энелонок.
– Что они едят на планете? – не унимал своего любопытства мышонок. Какой там страшный надвигающийся космос впереди – он про него и вовсе забыл, когда Энелонок такие истории рассказывает! – Для существования всё равно ведь нужно добывать необходимое.– Динозавры обходятся самым необходимым, – отвечал Кляк, – тепло, пища на земле растёт, их природа благодарит, как ребёнку малому – послаще да повкусней плодородит. Как сговорились они промеж собой – друге о друг заботятся и живут ладно. Большего-то ведь и не нужно.
– Если она так бережёт своих обитателей, то что же могло произойти с Дино? – недоумевал мышонок.
– Это и беспокоит, – соглашался с ним Кляк.
Осмотрев приборы, Энелонок убедился, что все приборы космического корабля работают в рабочем режиме без отклонений, после чего переключил шаролёт на автоматическое пилотирование и произнёс:
– Теперь спать. В перелётах нужно спать. Завтра будет нужна свежая голова. День выдастся трудным.
Кляк достал мышонку подушку, на которой тот мог поместиться целиком и покрепче, с удобством выспаться. Сам поудобнее устроился в кресле пилота и спросил:
– Ты сны будешь смотреть или так поспишь?
– Я сны посмотрю, – попросил мышонок.
– Хорошо, – согласился Кляк.
Он нажал кнопку снов, затем – кнопку искусственного усыпления, заиграла тихая приятная мелодия, по шаролёту расстелился сладкий аромат, на плечи нагрузилась истома, и оба астронавта погрузились в глубокий искусственный сон, обеспеченный снами…
…Сладко мышонок уснул, крепко… И снился ему сон: …Бежит он от страшного, огромного динозавра, со всех своих задних ног улепётывает, только пятки сверкают. Лес тёмный вокруг… Бурелом… Солнца не видно… Бежит, где поверх корней толстых выступающих перескочит, там, где можно, под ними юркнет. Позади, динозавр… Следом… С трёхэтажный дом величиной. Зубами клацает, словно ковш экскаватора. Вот-вот нагонит. Нашёл слабее себя и рад от головы до хвоста, что обед скоро. Не выбирая дороги, напролом, сквозь бурелом ломится. Деревья с корнем выламывает, просеку чистую за собой оставляет. Стволы деревьев как перья в разные стороны разлетаются. Того и гляди – вот-вот мышонка ухватит и съест. Тут лес кончился. И оказался мышонок на берегу океана. А здесь дело не лучше. С океана гул страшенный, волна огромная, с двадцатиэтажный дом величиной, прямо на него несется. «Цунами», – догадался мышонок. Полнеба собой закрыла. Бежать некуда. Слева – карьер глубоченный, яма, дна не видать. Справа – забор, завод трубами дымит. Под ногами земля трясётся землетрясением. Спереди волна гулом гудит. Сзади динозавр, ошалелый с голоду, бурелом ломает. Ужас!!! Метался так мышонок между волной и динозавром, то к яме, то к забору – убежище искал, пока не проснулся…! первая мысль его камнем с сердца свалилась: «Слава Богу, что это был только сон!»
Шаролёт уже припланетился на планете динозавров. Энелонка в шаролёте не было. Припланечивание пришлось прямо на вершину высоченной горы, откуда взгляду представлялись необъятные просторы незнакомой планеты. Мышонок просочился сквозь оболочку. Планета особенно не отличалась от Земли. Так же её покрывала трава, такими же пахучими лугами, только здесь она, зелёная, имела слабый голубой оттенок. Росли неимоверно огромные деревья разных и причудливых форм. То как обычные на Земле, а то вдруг – острые, устремленные ввысь, как иглы, а то и вообще низкие и широкоразлапистые, аж на десятки метров. Воздух чист и прозрачен. По синему небу плыли розовые облака. Высоко-высоко на деревьях зрели плоды, очень похожие на земные арбузы, но с полосками не сверху вниз, а поперёк. Длинношеие, огромные динозавры с пузатыми телами срывали их и с аппетитом уплетали за обе щёки, набивая пуза. Внизу, под горой, по богатым лугам паслись динозавры поменьше. Кроме обыкновенного земного солнца средь розовых облаков в синем небе виднелись ещё две планеты, похожих на луну, только раз в десять покрупнее её. А так всё было совершенно по-земному. Грело солнышко. Дул лёгкий ветерок. Воздух был наполнен незнакомыми, но приятными луговыми и лесными ароматами. Даже шмели были с кулак величиной и жужжали как-то более воинственно.
Чуть поодаль Энелонок разговаривал с ребёнком динозавра. Это был Дино, друг Энелонка. Мышонок подошёл поближе и услышал то, что произошло. А произошло вот что: отец Дино, большой и многоуважаемый Дино Старший, оступился на краю высокой скалы и, падая с неё, уцепившись за эту же скалу, целиком завалил её всем своим весом на себя. Скала сложилась так, что сам большой и многоуважаемый Дино Старший совсем не пострадал, но вот выбраться из-под неё самостоятельно не может. Камень так плотно сложился над ним домиком, что остались только узенькие щёлочки для поступления воздуха. Природа пожалела его, но за безалаберность и невнимательность к себе наказала. Иначе и быть не могло. Не могла «Динозаврия» ни с того ни с сего взять и погубить большого, многоуважаемого Дино Старшего, пусть даже он и неправильно себя вёл, но уму разуму поучила. Все обитатели чудесной планеты это прекрасно понимали. Уже который час большой многоуважаемый Дино Старший подавал жалобный, глухой голос из-под камней. Без преувеличения сейчас на «Динозаврии» нет более несчастного динозавра. К несчастью своему он ничего не мог сделать изнутри. А друзья ничего не могли сделать снаружи. Берут они камень сверху, вроде и просто лежит, безобидно, а горка вдруг, да немного покосится. Вообще перестали камни трогать. Боязнь, что они совсем завалят большого, многоуважаемого Дино Старшего останавливала их. Долго сидели динозавры, думу думали: как им из беды вызволить большого, многоуважаемого Дино Старшего. Думали-думали, да так ничего придумать и не смогли. Тогда и решил младший сын большого многоуважаемого Дино Старшего – маленький Дино Младший —позвать на помощь Энелонка и нажал тревожную кнопку.
Кляк усадил мышонка к себе на голову, и они спустились к подножию горы, к завалу. Камень сложился на удивление ровным холмиком. Из-под холма большой, многоуважаемый Дино Старший что-то говорил. В лабиринтах щелей слова теряли свои очертания, превращались в глухое мычание, так, что и разобрать-то ничего было невозможно. Теперь уже с Энелонком стали думу думать, как помочь несчастному. Думали-думали, да так ничего и не придумали. Как ни крутили, как ни вертели, а всё одно – вставала угроза дальнейшего обрушения. Долго голову ломали, пока, наконец, мышонок не вмешался.
– Я вам помогу, – пропищал он, дрожа от страха, как обычно сам испугавшись сказанного.
Все динозавры устремили свои взгляды в ту сторону, откуда был слышен писк. С трудом разглядели пропищавшего в траве мышонка, и тут же всех их охватил невоспитанный смех. Как такой маленький обитатель чужой планеты сможет справиться с такими неимоверно огромными и тяжеленными глыбами камня. Ну и рассмешил же он их. Динозавры покатывались от хохота, держась за животы. Не смеялись только Кляки. Они знали, что мышонок зря говорить не станет.
Мышонок хотел обидеться и не помогать динозаврам, но жалость к большому, многоуважаемому Дино Старшему и сочувствие к маленькому Дино Младшему взяли верх. Не принято так поступать на Земле. Не обращая внимания на усмешки, он предложил:
– Я пролезу через щели и посмотрю, где и как лежит камень изнутри.
Динозавры перестали смеяться. Им показалось, что что-то в том, о чём говорит их маленький гость с чужой планеты, есть. Но всё равно они совершенно ничего не понимали. Наступила тишина. Динозавры ждали, что скажет мышонок дальше. И тут он вспомнил о подарке Энелонка:
– Вот этой штуковиной я завидогалкопротрекцетоннирую положение камней изнутри и покажу вам, – говорил он.
Динозавры тупо, не понимая, смотрели на мышонка. «Какие-то они уж совсем несмышлёные, совсем как дети малые», – подумал мышонок и продолжал:
– Там, где мы увидим угрозу обвала, сможем подставить распорки, и тогда никакого завала не произойдёт.
– Правильно! – подхватил Кляк. – И мы с Клякой ему поможем, обернувшись маленькими мышатами, как и он. Так мы станем в три раза сильней и сможем втащить подпорки внутрь.
Обрадованные динозавры тут же взялись за дело. Работа закипела. Решение было найдено. Друзья многоуважаемого, большого Дино Старшего с уважением смотрели на маленького, не по размерам мудрого обитателя далёкой неизвестной планеты. Больше они над ним не смеялись. Мышонок то и дело исчезал под завалом и с криком:
– Видо-галко-протрекцетоннирую, – выбегал обратно.
Динозавры по изображению рассчитывали размеры подпорок, изготавливали их, и уже три мышонка волокли их в завал и устанавливали под камни. Как только подпирали одни камни, так тут же мышонок вновь хватал свою видогалопроэкционную камеру и снова исчезал под завалом. Эти самые опасные съемки он никому не доверял и делал только один. И нисколько не думал об опасности. Динозавры восхищались им. Они бы так не смогли.
В это время большой многоуважаемый Дино Старший лил под завалом большие динозавровые слёзы величиной с яблоки и беспрестанно ревел:
– Ой, завалит меня, ой завалит! Никто меня не спасёт, никому я не нужен! – А, как только в его поле зрения попадал мышонок, он тут же снова начинал причитать: – И тебя завалит, и меня завалит, всех нас завалит, – не унимался он.
Мышонку уже изрядно поднадоело его причитание, так что он даже позволил себе прикрикнуть на большого многоуважаемого Дино Старшего.
– Да помолчи ты в конце-то концов! – нервно прикрикнул он на него. – И без тебя страшно! Не до тебя…
Плутая по лабиринтам щелей, он недовольно бубнил себе под нос, как обычно, когда был чем-то недоволен:
– Его же спасаешь, нет бы – помолчать, так нет – он сам ещё пуще прежнего страху нагоняет.
Выбегая из-под завала, он кричал:
– Видо-галко-протрекцетоннирую.
Так мышонок, рискуя собственной жизнью, рискуя быть погребённым под камнями заживо вместе с большим, многоуважаемым Дино старшим, спасал жизнь совсем незнакомых ему обитателей совсем незнакомой ему планеты. Но он не унывал. Когда-то же надо узнавать и знакомиться.
Между тем работа кипела. Маленькими мышатами ставились подпорки, большими динозаврами разбирались камни сверху. Пока, наконец, совсем не вызволили из каменного плена большого многоуважаемого Дино Старшего. Динозавровой радости не было предела. Слава о маленьком, мудром и очень смелом обитателе другой планеты со смешным названием – мышонок, пронеслась по всей планете «Динозаврии». Сам же герой дня вёл себя скромно, и всё время снимал пейзажи на видогалопроэкционную камеру. Его долго уговаривали остаться и погостить на «Динозаврии» подольше, но он отказался. Мышонок сильно не любил, когда из него делали героя. Но это ему очень нравилось. Кляк, Кляка и мудрый, маленький и отважный мышонок просочились в шаролёты и улетели.
…Всю обратную дорогу они опять проспали. Сны теперь мышонку снились добрые. Вот только во сне из него опять делали героя, отчего его спящая мордочка то вдруг морщилась, а то вдруг совсем неожиданно довольно улыбалась.
…Если случалось какое событие – плохое ли, хорошее ли – звери всегда всей своей компанией собирались на самой большой поляне. Так и сейчас. Пропал мышонок. Потеряли они его и забеспокоились не на шутку.
Догадывались, конечно. В последнее время мышонок посмелее стал. Подумывали, что с Энелонком улетел. Испариться же не мог. Но мог же и предупредить. Не догадывались они только, что он совершенно случайно улетел. Так и переживали да гадали до тех пор, пока на поляне не приземлились два шаролёта.
Первым из своего шаролёта просочился Кляк, затем из своего – Кляка. И только потом появился мышонок. Он был в шляпе фасона «сомбреро» из голубой соломы, подаренной ему в знак уважения большим многоуважаемым Дино Старшим. На груди его бряцали бусы из цветных морских камешков с морей «Динозаврии». Это был подарок маленького Дино Младшего. За собой он волок засушенный корень дерева арбузов наоборот.
– Привет, – только и бросил он не находящим из-за него себе места зверятам, – ему было не до них, недавно же виделись. – Весной посажу, – заботливо гладил он свой корень.
Авторитет мышонка неимоверно возрос. Он теперь был не больше, не меньше – астронавтом. Кляк со своей Клякой наперебой рассказывали о геройстве мышонка на планете «Динозаврии». О том, как он, рискуя собственной жизнью, спасал жизнь инопланетянам. Его и так друзья уважали, а тут совсем зауважали и наперебой давай с расспросами приставать. Теперь мышонок сам для них был как инопланетянин или что-то в этом роде. Кто же ещё из землян на всей Земле был на других планетах! Теперь они и дышать-то на него боялись. В общем, теперь мышонку и среди друзей не было покоя. Хоть и было ему приятно, но все же он не любил, когда из него делали героя. Сказав, что сильно устал, он удалился к себе в норку. А как только звери перестали из него героя делать, так он тут же и вернулся. Порассказать ему и без своих геройств было что. Пуговкой своей он столько назапоминал, что на несколько дней друзьям будет что посмотреть. И ландшафтов неземных назапоминал, и динозавров разных пород, сортов, видов да подвидов; и друга Дино с Кляком вместе запечатлел; и планеты, – ещё две, между которыми солнышко точно земное светит. Рассказал, что на одной из них одни кровожадные живут на съедение друг другу, где друг друга едят, пока сами не съедятся. И про ту, другую тоже рассказал, где заводы трубами дымят, динозавры-шахтёры в шахтах роются, ямы копают, леса в печах жгут, таких дел натворили с природой, что она бедная не выдержала и теперь их уму разуму учит. Про сон свой так же не забыл рассказать.
– Да-а-а! – протянул волчанок.
– Угу! – подхватили звери.
– Хорошо, что мы на Земле живём, – сказал зайчонок. – Они там в постоянном страхе живут… – качал он головой.
Друзьям и невдомёк, что все, о чём говорил сейчас мышонок, давно уже и было и есть на нашей огромной планете – Земля. Ну и хорошо, пусть уж лучше они ничего и не знают. Не надо их разочаровывать. Пусть лучше верят, что они живут точно так же, как живёт друг Энелонка, а теперь уже и мышонка – маленький Дино Младший на своей планете. И мы будем верить, что сможем изменить наш мир к лучшему. И слава добрая о земных прелестях разлетится по всем вселенным. И тогда мы будем жить в лучшем, лучшем, лучшем из миров. Когда мы с гордостью сможем посмотреть в глаза любому из инопланетян.
Не хотели звери, чтобы Энелонок так быстро улетал, но время пришло. Кляки – путешественники, и в одном месте подолгу сидеть не могут, так же, как не могут и без приключений. На прощание Энелонок оставил землянам маленькую кнопку. Теперь если вдруг с друзьями-землянами случиться несчастье, они смогут сообщить о нём Энелонку, и Кляк, в свою очередь, немедленно примчится на помощь к друзьям. Сели Кляк с Клякой в свои шаролёты и улетели до следующих приключений.
Прощание было не таким трогательным, как в прошлый раз, но всё же все прослезились. Только не мышонок. Он уже чувствовал себя выше этого и не мог себе позволить подобной слабости.
– Хватит крокодильи слёзы лить, – ворчал он, – прилетит ещё… Как дети малые! Прямо не знаю…
Он взял в руки свою видогалопроэкционную камеру, нажал зелёную кнопку и крикнул:
– Видо-галко-протрекцетоннирую!
И на поляне появились пейзажи неведомой, далёкой планеты.
О том, как медведь проспал все следующие приключенияРанним утром, весеннего дня, случилось так – попал галчонок в беду…
…И вновь вокруг друзей Энелонка потянулась цепочка невероятных событий…
…По обыкновению своему галчонок слыл отъявленным болтуном. По его собственному мнению, если не о чем говорить, то для чего ж тогда жить. Поэтому он болтал, болтал, болтал и болтал без умолку. По этой причине он не мог долго спать и с рассветом всегда отправлялся по окрестным полям и лесам в поисках последних новостей. Друзья проснутся, а ему уже есть, что им рассказать. Вот это жизнь – узнавать обо всём первым и рассказывать друзьям! Весенним утром, не предвещавшим ничего неприятного, когда ещё не рассвело, он, уже довольный и наполненный новостями, возвращался на поляну. Под впечатлением этих самых новостей, в предвкушении удовольствия рассказа, галчонок совершенно забыл об осторожности. А в это время высоко в синем небе над полем перед лесочком парил в поисках своего обеда ястреб. И, когда уже до лесочка оставалось совсем рукой подать, с самой высоты он камнем свалился на бедного галчонка, а галчонок и не ожидал этого вовсе. Славный обед для себя и своих ястребят он увидел в несчастном галчонке. Схватил его острыми когтищами и понёс в своё гнездовье; глухо хлопая широкими крыльями, хищник стремительно набирал высоту.
Тем временем сова как всегда сидела на макушке высокой, густой ели и всё видела. Благодаря очкам дневного видения, подаренным ей Кляком, она смогла рассмотреть случившееся в свете дня. Не раздумывая, она бросилась выручать своего друга. Не так просто догнать стремительного ястреба. Ястреб – птица сильная и быстрая. Но как ни старался он, увидев погоню, оторваться от совы с галчонком в когтях, это у него это не получалось. Далеко-далеко от поляны сова смогла настичь хищника и бесстрашно, с лёта напала на него. Ястреб разжал острые когти, и галчонок с высокой высоты упал прямо на твёрдую землю. С раненным крылом, он беспомощно бился в пыли. Ястреб с совой сошлись в жестокой схватке. Они разлетались и стремительно сходились, лоб в лоб ударялись грудью и вновь разлетались и вновь ударялись. Снова и снова они атаковали друг друга, яростно защищая каждый своё. Ястреб – добычу, сова – друга. Уж над самой землёй бились они. Около самого галчонка! Ястреб хотел схватить его, но сова каждый раз отчаянно преграждала путь к галчонку. Очки её спали и валялись в пыли недалеко от галчонка. Едва различая противника по силуэту, сова выбивалась из сил.
Туго бы им с галчонком пришлось, если бы не маленькие люди, тоже жители Земли, передвигающиеся на задних лапах – дети больших людей. Они ещё сами себя называют «человек». Говорят, что они на Земле самые всемогущие и с ними лучше не связываться. Об этом знал и хищный ястреб. Маленький человек махал на него палкой. Ястреб испугался и улетел, бросив свою добычу. Палкой от маленького человечка едва не досталось и сове. Маленький человек же не знал, что сова – друг галчонка, и тоже спасает его. По слухам при встрече с людьми происходят весьма странные вещи, то они добрые, а то прямо изуверы какие-то – охотники с самым страшным, что есть на земле: ружьями. У этих ружей не было, но кто его знает, что в их маленьких головках, если они с палками кидаются… Сове также ничего не оставалось, как отступить. Она подхватила очки и, став вновь зрячей, взлетела на высокую ель и скрылась в густых ветках макушки, не прекращая следить, что будет дальше. Она уже теперь ничем не могла помочь галчонку. Маленькие дети больших людей прыгали от восторга и кричали:
– Смотрите, смотрите, сова в очках!
Маленьких людей сопровождал большой человек в юбке с длинными, ниже плеч волнистыми волосами, которые росли только на голове. У людей вообще почему-то волосы растут только на голове, отчего они так уродливо и выглядят. Свои тела им приходиться прятать под одеждами – от стыда и холода. Они такие неприспособленные! Почему-то те же волосы у одной половины людей короткие, а у другой – длинные, заплетённые в косы или же болтаются хвостиками. Маленькие человечки прыгали и показывали на макушку ели. Большой человек им не верил. Как можно: сова в очках! Где это видано. Большой человек в юбке не успел заметить сову и теперь не мог различить её среди ветвей. Большой человек подумал, что маленькие люди шутят над ним. Разгневанный, он прикрикнул на стаю маленьких детей и погнал их к норам – не норам, гнёздам – не гнёздам, берлогам – не берлогам – к жилищам, ни на что не похожим. Странными они их для себя строят – с дверями и прозрачными дырками в стенах. Они завернули галчонка в свою одежду и унесли с собой.* * *– Ух-ух-ух, – ухала сова, – они замотали его в тряпки и унесли с собой, я ничего не смогла сделать, они как налетят на меня с палкой, как налетят, так я едва ноги унесла, чуть очки не потеряла, ух-ух-ух! – не унималась сова.
Звери собрались на центральной поляне.
– Сколько раз говорили ему: будь осторожней, будь осторожней, нет, не послушал! – говорил волчонок.
– Раненный, он не сможет убежать от маленьких человечков, – говорил зайчонок.
– Что сейчас с ним? – говорил бельчонок.
– Где сейчас он? – говорил лисёнок.
– Что делать? – говорил мышонок.
– Ух-ух-ух! – ухала сова.
Друзья очень переживали за галчонка, но что им было делать – они не знали. Долго они переживали. Как вдруг, совсем неожиданно, мордочка отважного мышонка счастливо озарилась, и он воскликнул:
– Кляк! – вскричал он. – Он нам поможет! У нас же есть тревожная кнопка!
Звери оживились. Теперь они не выглядели так беспомощно, как пять минут назад. Кнопка хранилась в норе лисёнка. Он в один миг обернулся туда и обратно. Заветную кнопку держал в своих лапах, словно драгоценность.
– Нажимаем? – в волнении спросил он.
– Нажимаем! – ответили все.
* * *…Кляк со своей Клякой на планете Кляков отдыхали от долгих и утомительных перелётов. Шаролёт стоял на зарядке и регулировке. И они без дела слонялись по планете и развлекались. Планета не отличалась ничем достопримечательным. Это была планета с совершенно ровной поверхностью. На ней не было ни гор, ни оврагов, ни рек, ни морей, ни лесов, ни полей. Даже воздуха – и того не было, Клякам он не нужен, они прекрасно обходятся без него. Поверхность планеты имела идеально ровную поверхность. У Кляков вообще не было своей планеты. Никто во всём большом целом космосе не знал, откуда вообще появились Кляки. Рождались они в космосе, там же через сотни тысячелетий и прекращали своё существование. Дальние-дальние предки Кляков миллионы лет назад нашли в космосе пустынную планету и превратили её в свою базу – огромный космодром величиной с планету в центре всех вселенных. Стартуй в разные стороны, куда захочешь. Для развлечений они построили подземные города, расположение которых определялось скоплением шаролётов на стоянках и регулировочных центрах. В подземных городах Кляки обычно были заняты пустой болтовнёй о новостях с разных галактик или развлекались, играя в разные игры. Если посчастливится, то можно повидаться с родителями, которых дети Кляки не видят десятки, а то и сотни тысяч лет. Кляки – путешественники и не самые внимательные дети.
…Играя с Клякой в игровом клубе в пространственные игры – последняя разработка японанийцев – он услышал тревожный сигнал. К тому времени отрегулированный и заряженный шаролёт уже стоял на стоянке. Незамедлительно Кляк с Клякой отправились на Землю. Лететь было далеко, они включили искусственный сон и без приключений пересекли космос. На самом подлёте к земле будильник отключил искусственный сон и разбудил путешественников.
Звери ждали на поляне, встревоженные судьбой галчонка и радостные скорому прилёту Энелонка. Время подходило к полудню. С момента трагедии пошло четыре часа.
Кляк выслушал друзей, ненадолго задумался и произнёс:
– Включите поиск объекта в космовизоре, – предложил он.
– Как же мы сами не догадались! – воскликнул мышонок.
– Растерялись, – говорил Кляк, – обычное дело, вы же переживали.
– Мы и о тебе не сразу вспомнили, – согласился волчонок.
Все кинулись к норе волчонка, где был установлен космовизор. Кляк ввёл нужные координаты и включил поиск. Звери окружили прибор и замерли в ожидании – прибор сканировал пространство космоса, заданное Кляком. Прошла всего минута… Но всем эта минута показалась вечностью. Экран вспыхнул, и на экране появился галчонок… Он был с головы до ног обмотан белыми лентами, из-под которых видны только клюв и глаза. Галчонок был без сознания…
– Они его мучают!! – в один голос заголосили звери.
– Он гибнет, ему плохо! – пищал мышонок. – Они его замотали, чтобы он не сбежал от них. Какие они жестокие!
– Нужно спасать Галчонка! – сказал Кляк.
– Но как? – спросили звери.
– Там будет видно, – отвечал Кляк. – Ждите нас здесь… Летим! – крикнул он своей Кляке.
И Кляк с Клякой просочились в свои шаролёты, поднялись над поляной и стали невидимыми.
Превратившись в воздух, Кляк с Клякой летели к жилищам людей. Космовизор показал им, где искать галчонка. Они, невидимые, зависли перед окном верхнего этажа серого трёхэтажного здания. Галчонок лежал на столе, с ног до головы обмотанный бинтами. Сквозь стекло Кляк наблюдал за губами маленьких людей. Он ещё не знал, о чём говорят люди, и по губам старался разобрать их язык. Через несколько минут он стал понемногу понимать их. Серое здание, возле окна которого они висели в воздухе, называется школа. Здесь маленьких человечков делают большими людьми, умеющими читать и писать, и ещё учат всяким разным наукам, которые могут им в жизни пригодиться. Маленькие человечки рассказывали о сове, которую видели сегодня утром в лесу. Их удивляло, что сова была в очках. Большой человек в юбке продолжал не верить им. Кляк превратился в сову в очках, стал видимым и сел на подоконник так, чтобы изнутри его было видно.
– Смотрите, смотрите! – закричали маленькие человечки. – Опять она.
Большого человека в юбке, которого дети называли учительницей, едва не хватил удар. Ноги перестали держать его, и он беспомощно распластался на стуле. Это была – как вы понимаете – учительница. Учительница часто-часто хлопала ресницами, протирала глаза, мотала головой, но видение не исчезало. Сова в очках продолжала сидеть на подоконнике. Потихоньку учительница стала приходить в себя, но сова тут же учудила очередной номер. Она посмотрела осмысленным взглядом в глаза учительнице и поправила крылом сползающие с носа очки. Тут дар речи совсем покинул учителя. Она что-то мычала, бурчала, бубнила себе под нос совершенно невнятное. Маленькие человечки соскочили со своих мест и облепили окошко. В следующий момент появилась ещё одна сова, тоже в очках, да ещё к тому же с чёлкой и хвостиками на голове.
– Ещё одна, поглядите! – кричали маленькие человечки. – С причёской на голове.
Учительница растерянно сидела на стуле и щипала себя за самые разные места. От щипков она чувствовала боль. Значит, это не видение, не сон и не галлюцинации. Но от этого ей легче не становилось. Наоборот – её начинали одолевать сомнения: здорова ли она. Бесконечными щипками она привела себя в чувство, насколько это было возможным, собрала в себе все остатки смелости и скомандовала:
– Рассаживайтесь по местам, это дрессированные совы. Конечно, дрессированные! – говорила она больше сама себе. – Какими же им ещё быть… В природе не бывает сов в очках. Они сбежали из цирка или из зоопарка. Сейчас я позову учителя физкультуры, и мы вместе попробуем поймать их.
Учительница поручила дежурному следить за порядком, а сама ушла за помощью. Дети послушно остались сидеть на своих местах, прерывая тишину тихим шепотом. Две очкастые совы сидели на подоконнике и беспрестанно ухали. Кляк уже хорошо понимал по губам, о чём говорят маленькие человечки. Оказалось, что они совсем не мучают галчонка, а наоборот – спасли его от хищного ястреба, и ещё – как они думают – и от совы тоже. Маленькие человечки хотят вылечить галчонка. Для этого им нужен какой-то звериный врач – ветеринар. Только он может помочь галчонку. Этот звериный врач есть в зоопарке. Если они понесут его туда, то галчонок останется там навсегда и остаток жизни проведёт в клетке. Кляк понял всё это из разговоров маленьких человечков. Ему уже однажды приходилось слышать о зоопарке. В самый первый свой прилёт на землю ему главный крыс говорил, что охотники ловят птиц и зверей для зоопарка. Он помнит, как вся поляна испугалась страшного охотника, всего только проходившего мимо поляны. Кляк сделал вывод: зоопарк – это самое ужасное место на Земле. Кляк совершенно запутался: если они спасли галчонка, лечат его, то они добрые. Но, опять же, если они хотят его отдать в зоопарк, то тогда они – злые. Люди оказались так непредсказуемы! Кляк не знал, чего от них ждать. Знал только одно – галчонка нужно спасать. В невидимом состоянии, в виде воздуха, им галчонка не поднять. Лететь в шаролётах средь белого дня, на виду у всех людей – об этом не могло быть и речи. Космический кодекс гласит: нельзя давать неразрешимые загадки обитателям планет, уровень развития которых слишком низок. Как бы там ни было – галчонка нужно спасать любой ценой.
Кляк решил навестить галчонка. Кляку он попросил в случае необходимости отвлечь больших людей. Две совы слетели с подоконника и превратились в воздух.
Большие люди собрались в учительской. Кляка прямиком направилась туда. Невидимая, она села на шкаф и наблюдала за большими людьми. Учительница класса, дети которого спасли галчонка, возбуждённо рассказывала об очкастых совах. Директор школы слушал, смотрел на неё и размышлял: «Здорова ли… в уме ли… совы в очках, с хвостиками!» Подобного в здравом уме не придумать.
– Да-да, в настоящих очках, – твердила учительница, – сидят на окошке, вертят головами и ухают.
Она нервно жестикулировала и ходила по учительской взад и вперёд.
– Они сбежали или из цирка, или из зоопарка, – не унималась она.
Директор поднял телефонную трубку и позвонил в цирк. Рассказал о совах в очках. По телефону ему посоветовали показаться психиатру. Похожий ответ он получил и в зоопарке. Учитель физкультуры в то время, пока его не видела обезумевшая учительница, крутил пальцем у виска, свидетельствуя директору о её сумасшествии. Директор пожимал плечами, разводил руками, мол «я всё понимаю, но что делать?».
– Их необходимо срочно поймать! – просила она физрука. – Раз они не из цирка, и не из зоопарка, то, значит, это разумные совы. Сегодня утром первый урок природоведения проходил в лесу, и дети ещё там их заметили. Потом они прилетели в школу. Они ищут общения с нами!
Физрук дразнился, строил гримасы за спиной учительницы и крутил пальцем у виска.
– Да-да, конечно, мы примем меры, – директор школы находился в смятении. «К детям её одну пускать нельзя», – подумал он.
– Пойдёмте со мной, – хватала учительница за рукав физрука, – вы поможете мне поймать их! – тянула она его к двери.
Физрук насилу вырвался. Ему было не до шуток. Ловить очкастых сов с обезумевшей учительницей?! Кроме того, он был крайне невоспитан.
– Ловите сами своих очкастых сов, если они вам мерещатся, мне они не мерещатся. Мне больше делать нечего, как бегать за вашими приведениями! – бросил он ей. – Сами с ней возитесь, – сказал он уже директору, – а меня увольте.
– Это не приведения! – сквозь слёзы вторила учительница. – Это умные совы, они ищут общения.
– Вот и общайтесь с ними сами, – засмеялся он.
Кляке уж очень не понравился физрук. Она едва сдерживала себя, чтобы не сбросить огромную кипу бумаг со шкафа ему на голову. На его счастье прозвенел звонок, не то было бы быть беде. Он вышел из класса и пошел в спортзал. Кляка провожала его……Спустя минуту, следом за ним, в спортзал вошёл директор школы.
– Вас срочно вызывают в гороно, – объявила она, – вы выиграли городской конкурс «Учитель года». Через пять минут вы должны быть на награждении. Гороно недалеко, успеете.
Окрылённый и счастливый, ничего не подозревая, побросав все уроки, физрук умчался в гороно за наградой.
Директор школы хихикал в спину физруку и потирал ладонями. Как только физрук скрылся из вида, директор школы превратился в учителя физкультуры и направился в учительскую.
– Хорошо, я помогу вам поймать ваших сов, – сказал, входя, учительнице.
– Вот и чудненько! – она благодарно посмотрела на преподавателя физкультуры, неожиданно вернувшегося ей на помощь.
Пока Кляка развлекалась, невидимый Кляк пробрался в класс и сел на книжную полку. Галчонок мирно посапывал на столе. С ним было всё в порядке. Его безмятежный сон успокоил Кляка. Рядом стояла небольшая клетка с ручкой сверху. «Галчонка готовятся унести в зоопарк», – подумал Кляк. Это жестокие маленькие человечки – сделал он вывод.
– Мы не можем позволить отдать его в зоопарк ветеринару, – услышал Кляк.
– Его больше не выпустят на волю.
– Не отдавать тоже нельзя. Ему может помочь только ветеринар, иначе он погибнет.
– Там – неволя, тут – погибель.
– Для него неволя – та же погибель.
– В неволе он хоть жить будет.
– Это ещё неизвестно, когда родители накажут, один день на улицу играть не выпустят, так и то – каторга. А тут на всю жизнь.
Так спорили маленькие человечки.
– Что же делать? – зашли они в тупик.
«Они не хотят отдавать его в зоопарк, маленькие человечки не жестокие! Жестокие большие люди, – так думал Кляк. – Они так же обеспокоены судьбой галчонка!» Ему ничего не оставалось делать. Он обратился уже в знакомую им сову.
– Ух-ух-ух! – ухал он.
В классе первоначально установилась тишина, затем послышался шепот:
– Опять она, – слышалось со всех сторон.
– Это не сова, – сказал кто-то, – это что-то похожее на сову. Сквозь неё виден рисунок обоев на стене.
Так шептались они.
Кляк исправил свою оплошность и увеличил плотность собственного тела.
– Уже не видно, – сказал кто-то.
Кляк ухал, ухал, ухал и произнёс:
– Ух-ух-ух, мне нужно поговорить с вами.
– Ого!
– Ух-ты!
– Класс!
– Ничего себе!
– Вот это да!
Неслось со всех сторон.
– Я не сова, – говорил Кляк. – Я лишь принял облик совы. На самом деле сова, которую вы сегодня в действительности видели утром, сейчас в лесу, и она действительно носит очки. Я же просто Кляк с планеты Кляков. Не пугайтесь меня.
Он слетел с книжной полки на пол и превратился в себя. Перед маленькими человечками предстало голубое, прозрачное, желеобразное тело, очень похожее на кляксу. Он уже твёрдо был уверен, что маленькие человечки не из числа злых охотников. Ему казалось, что обретает себе новых друзей. Милая рожица и огромные, добрые глаза улыбались им с головы.
– Ух-ты!
– Ну, блин, скажи кому – не поверят!
– Надо же!
– Бывает же!
– Ничего себе!
Кто-то присвистнул.
– Какой чудесный!
Маленькие человечки пребывали в недоумении.
Кляк коротко рассказал о себе и своей Кляке; о друзьях с лесной поляны; о галчонке, которого спасала очкастая сова, а спасли они. И, наконец, он произнёс:
– Я всё слышал, и все-таки галчонка необходимо отдать в зоопарк, звериному доктору.
– Но как же! – воскликнули маленькие человечки.
– Так будет лучше, пусть жестокие большие люди окажут ему первую помощь, а потом я освобожу его, – сказал он.
Дети поверили Кляку. Вообще, Кляк обладал удивительной способностью – давать другим веру в себя. Он подлетел к галчонку, пообщался с ним на галчачьем языке, и галчонок теперь уже ничего не боялся – Кляк с ним, в беде он его не оставит.
Закончился один урок, прошла перемена, и только в середине следующего урока в класс вошли учительница и физрук. Энелонок едва успел превратиться обратно в сову. Кляка не могла не предупредить своего Кляка заранее. Поэтому на мгновение, пока учительница не видела, на плечах физрука появилась голова Кляки и тут же исчезла. Класс прыснул смешком. Все поняли, что это вовсе и не физрук.
– Вот, посмотрите на это чудо, – говорила учительница, – она уже и в класс пробралась! Где-то ещё вторая должна быть.
– И правда – в очках, – прикрыл ладонью рот и округлил глаза физрук, а потом как закричит: – лови его, а то убежит!!
Кляка, поймав момент, опять на секунду головой кляки подмигнула классу, мол, помогайте, и голова тут же снова головой физрука и закричала:
– Лови-и-и его-о!
Дети соскочили со своих мест, и давай сову по всему классу гонять. Физрук бегал по партам, как непослушный хулиган. Учительница металась между партами.
– Не пораньте её! – кричала она.
В классе стоял шум, гам, тарарам! Заводилами выступала учительница, а подзадоривал её физрук – детям в развлечение. Ловили-ловили, ловили-ловили, ловили-ловили, наконец – поймали. Кляк поддался. Посадили они его в клетку.
– Я отнесу его в учительскую, – сказал физрук.
– Несите-несите, пусть все посмотрят, а то за сумасшедшую меня приняли! – возбуждённо говорила учительница.* * *До гороно физрук домчался даже не за пять, а аж за три минуты. Он знал, что он – хороший учитель; он знал, что совершенно не случайно победил в конкурсе. Он единственный в городе достоин носить это звание. Иначе и быть не могло, ведь он такой умный, сильный, стройный и красивый. Никто кроме него, только он, и это – правильно. И почему он не знал, что гороно проводит этот конкурс? «Ну, да так оно и лучше, – думал он, – сюрприз получился». Он вбежал в приёмную, от своей невоспитанности не поздоровался с секретарём и без стука влетел в кабинет председателя.
– Вот он Я! – вскричал он.
В кабинете шло совещание. Физрук подумал, что всё руководство собралось чествовать его. Ему это так польстило, что от стеснения он раскраснелся и пыхтел от счастья.
– Вы кто? – спросил его председатель.
– Это же Я! – отвечал физрук.
Следом за ним в кабинет вбежала секретарь. Глаза физрука горели как у сумасшедшего.
– Кто – я? – не понимал председатель.
– Учитель года!
– Какой учитель года?
– Победитель.
– Поздравляю вас, – говорил председатель, – только в чём победитель-то.
– В конкурсе.
– В каком конкурсе?
– В конкурсе «Учитель года».
Председатель, совершенно ничего не понимая, пожал плечами.
– Товарищ, покиньте кабинет сейчас же! – и обратился к секретарю: – Как он вообще сюда попал? Выведите сейчас же отсюда этого сумасшедшего!
– А как же мой приз?! – ревел физрук на всё гороно.
Он понял, что директор сыграл с ним злую шутку.
* * *Когда физрук вышел из класса, учительница задержалась ещё ненадолго. Дети находились в сильном возбуждении. Нужно было успокоить их. Она любила свой класс. Дети также любили свою первую учительницу. Скоро их выпуск в средние классы. Она очень сожалела, что впереди предстоит расставание. Она очень привязалась к ним. Учительница всегда относилась к ним с пониманием и, если нужно было, то, бывало, она и защищала их, будь то хоть сам директор школы. Вот и сейчас – она не оставила их до тех пор, пока они не успокоились. Они до конца урока обсуждали прилёт очкастых сов. Как бы школьники хорошо ни относились к учительнице, они не выдали ей своей тайны. Это была их тайна. Их и Кляков. И ни в коем случае – не взрослых. В этом не было ничего предосудительного. Уже после звонка на перемену учительница объявила:
– После уроков отнесём галчонка в зоопарк.
И ушла в учительскую. Клак со своей Клакой в это время, невидимые, сидели на подоконнике и ждали ухода учительницы. Она вышла из класса и увидела брошенную на полу пустую клетку.
– Упустил-таки. Э-эх, ничего нельзя доверить! – качала она головой.
Она подобрала клетку и пошла дальше. Клак с Клякой просочились сквозь дверь и стали видимыми самими собой.
– После урока мы несём галчонка в зоопарк, к ветеринару, – в один голос провозгласили маленькие человечки.
Кляк не знал, что такое зоопарк, он ведь только слышал о нём.
– А что такое зоопарк? – спросил он.
– Это зоологический парк, – ответила одна из девочек.
– Парк! Это, наверное, так красиво… – сказал Кляк. Он понимал значение слова «парк».
– В зоопарке собраны звери со всего мира, они сидят в клетках, – сказал мальчик.
– Как – в клетках! – воскликнул Кляк. – Зачем?
– Для того, чтобы любой желающий смог на них посмотреть, – отвечали маленькие человечки.
– Для чего? – негодовал он.
– Для развлечения, – услышал в ответ.
– О, ужас! – вырвалось у него. – Земляне землян держат в клетках для развлечения! – возмущался он.
Для него это было таким неожиданным! Такая добрая планета. Он столько верных друзей обрёл на ней.
– Для развлечения одних других сажают в клетки… – повторял он.
В этот миг третья планета динозавров ему казалась гуманнее, чем Земля.
– Даже динозавры едят друг друга только потому, что по-другому им не выжить, – произнёс он. – Мы с моей Клякой, невидимые, будем следовать за вами в зоопарк и посмотрим, что это за парк такой…
В этот момент из-за парты встала девочка и обратилась к клякам:
– Никто не поверит учительнице в то, что здесь она видела. Её будут считать сумасшедшей. Помогите ей. Она добрая и хорошая. Она же здесь не причём, – попросила она.
– Разве могут большие люди быть добрыми и хорошими? – с сомнением, спросил он.
– Могут-могут! – заголосили в классе. – Их много, хороших.
Кляк подумал: «И правда, если она добрая и хорошая, то она действительно тут не причём». Спасая галчонка, он нарушил космический кодекс и причинил вред невиновному. Пусть даже ради спасения собственного друга. Пусть даже большому человеку. Так не принято. Всё-таки не веря до конца в доброту больших людей, он произнёс, доверяя маленьким людям:
– Хорошо, её не будут считать сумасшедшей.
Пока Кляки разговаривали с маленькими человечками, в учительской, среди больших людей, происходили не менее интересные события. Учительница сидела за столом и плакала. А физрук, так тот вообще над ней прямо-таки издевался.
– Вы же сами поймали её! – всхлипывала она.
– Ага, поймал, зажарил и съел, – посмеивался он. – Где они? А-у! Совы, вы где?
– Но вы же сами вызвались помочь поймать сов! – поддержал её директор.
– Совсем уже с ума посходили, делать мне больше нечего.
– Это было при мне, – настаивал директор.
– Вы вообще помолчите, – бросил он ей, – так подло разыграть меня. А ещё культурным и образованным человеком себя считаете! Детей учите.
– О чём это вы? – не понимал директор.
– Вы сами знаете о чём.
Он намерено не говорил – о чём. Если никто ещё не знает, то позора меньше.
Перепалку директора и физрука прервал телефонный звонок. Директор поднял трубку и через секунду ответил:
– Да, есть такой.
Он слушал ещё минут пять молча. Затем положил трубку и повернулась к физруку.
– Зачем вы ходили в гороно? – строго спросил он.
– Интересное дело, – возмутился физрук, – он же ещё и спрашивает!
– Как вы разговариваете с директором! – властно остановил она его. – Отвечайте на мой вопрос сейчас же.
Физрук весь вдруг сжался и ответил:
– За призом.
– За каким? – спрашивал директор.
– За которым вы же сами меня и послали, – отвечал физрук.
– Никуда я вас не посылал, – говорил он.
– Как же не посылали! Пришли в спортзал и отправили меня в гороно, сказали спешить, не то опоздаю! – чуть не ревел физрук.
– Но я не выходил из учительской. И не ходил ни в какой спортзал.
– Что я, по-вашему, с привидением разговаривал?!
– Ничего не понимаю… – развел он руками.
Теперь в школе уже было два сумасшедших. Первая всё время говорит о каких-то очкастых совах. Второй мчится, сломя голову, в гороно и выпрашивает там у председателя приз, утверждая, что за ним его отправили. Причём в то же самое время, находясь там, он здесь с первой ловит её очкастых сов, куда, в действительности, я и правда послал его.
– Ничего не понимаю… – повторял он.
Если так будет продолжаться дальше, то скоро школа превратится в психбольницу.
– Вы же сами прыгали по партам и ловили сову, а, когда поймали, так в учительскую и понесли! – не унималась учительница.
– Ага, сейчас совы в очках, завтра я медведей-милиционеров ловить буду, послезавтра ещё что-нибудь придумаете! – он махал перед учителями указательным пальцем. – Не получится у вас сделать из меня сумасшедшего! Сами тут уже с ума все сошли!
– Но ведь это же вы бросили в коридоре клетку, когда сову упустили!
Учительница трясла перед собой пустой клеткой. Физрук был много выше учительницы, он стоял над ней, строил ей разные гримасы, совершенно никого не стесняясь, показывал язык, что-то улюлюкал, крутил пальцем у виска и кричал:
– Не сделать вам из меня сумасшедшего, не сделать! Ляля-ля! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! У-у-у! Не получится у вас ничего!
Не желая больше слушать бред коллег, он бросился вон из учительской. В тот момент, когда он открыл дверь, в учительскую влетели две совы. Обе были в очках. Одна из них – с хвостиками и чёлкой. Учителя, которые находились в это время в учительской, онемели, разинули рты и в недоумении хлопали глазами. Совы немного полетали под потолком. Кляка не отказала себе в удовольствии – шкаф находился как раз около двери, где в этот момент и стоял физрук школы. Она свалила на голову ему кипу пыльных бумаг, – об этом она мечтала с того момента, как увидела его, и только затем вылетели в незакрытую дверь. Большие люди, как только опомнились, тут же бросились вслед за совами, но тех и след простыл.
Кляк со своей Клякой, оказавшись в коридоре, стали невидимыми и отправились в класс к школьникам.
– Вы видели, я не обманывала вас! – говорила учительница.* * *Зоопарк располагался на другом конце города. Пешком до него идти долго, и поэтому маленькие человечки, сопровождаемые большим человеком в юбке – учительницей – поехали земным транспортом. Это были человековозки, этакие большие коробки с дверями, сиденьями, мотором и пилотом-водителем. Внутри них ходят кондуктора и берут плату за проезд, взамен они дают бумажки с номерами. Эти человековозки курсируют по городу по заданным траекториям – маршрутам, туда-сюда и развозят людей туда, куда им нужно по асфальтированным полосам. Кляк со своей Клякой, будучи невидимыми, проехали без бумажек с номером – «зайцами».
Зоопарк оказался не самым лучшим местом на Земле, которым люди могли бы гордиться. Люди понастроили рядами клетки и павильоны, посадили в них зверей со всей планеты, и теперь маленькие человечки вместе со своими родителями могли гулять по этим рядам, есть мороженое и дивиться, с удовольствием тыча пальцами в направлении клеток с бедными животными. А, чтобы звери не умерли с голода, им время от времени ставили воду и кидали в клетки еду. Звери, словно неприкаянные, слонялись по клеткам из угла в угол. С глубокой грустью они смотрели на жизнь за клеткой. Их удел – пожизненная клетка и безысходность. Они завидовали воробьям и голубям, в превеликом множестве обитающем на территории зоопарка. Завидовали оттого, что те могли делать всё, что им захочется и когда заблагорассудится.
– Посмотрите, какой красавец! Ну, прямо, хозяин тайги! – восторгаясь, говорила учительница, показывая на клетку с огромным бурым медведем.
«Хозяин тайги» стоял в центре клетки и раскачивался из стороны в сторону, тихо рычал что-то себе под нос, словно напевая грустную медвежью мелодию.
Маленьких человечков охватило непонятное чувство, какое-то совершенно новое, им казалось, что они открыли для себя что-то очень важное, ещё до конца не понятное, но очень-очень важное. И ещё им казалось, что они узнали о себе что-то уж очень, совсем плохое. Они не восторгались, как учительница. Их охватило чувство стыда. Энелонок со своей Клякой в это время, невидимые, следовали за ними. Они знали об этом. Теперь во всём космосе будут знать, что земляне так жестоки к своим братьям меньшим! Они видели слона, бегемота, крокодила. Их были сотни, разных – павлины, змеи, птицы, обезьяны. Даже маленького таракана – и того им было жаль. Но что они могли сделать! Они ещё очень маленькие, и от них ничего не зависит.
Никто ничего не видел, но, если бы Кляк со своей Клякой вдруг стали видимыми, то все б непременно заметили, что голубой оттенок их желеобразного тела переливался чёрно-красным от возмущения.
– Неправильно всё это! – говорил он постоянно своей Кляке. – Совсем не правильно!
Кабинет ветеринара находился в здании администрации, в самом дальнем углу зоопарка. Пока Кляки вслед за школьниками перемещались через весь зоопарк, их желеобразные сердца обливались кровью от вида звериной рукотворной тюрьмы в самом центре города для развлечения. Отдав на лечение галчонка, они быстрей торопились покинуть это страшное место.
Покинув зоопарк, большой Человек в юбке усадила маленьких людей в человековозку и перевезла их к их жилищам. После чего с чувством выполненного долга отправилась в своё жильё. Дети не стали расходиться сразу, они собрались у скамейки, подальше от дороги, за кустами, чтобы их никто не мог увидеть. Кляк со своей Клякой стали видимыми. Тела их иногда вспыхивали красным светом.
– Встретимся завтра на поляне, – пригласил он маленьких человечков в гости.
Кляк объяснил, как можно найти поляну. Оказалось, что это совсем не далеко. Маленькие человечки и не подозревали, что лесные жители так рядом с ними. Кляк верил своим новым друзьям. Если уж они с самого начала не предали, то теперь точно никому не расскажут их общую тайну.
Твёрдым намерением Кляка было спасти не только галчонка, но и всех зверей вместе взятых…
* * *…С наступлением темноты Кляк со своей Клякой сели в свои шаролёты и улетели в зоопарк. Звери остались ждать.
Они не знали о намерениях Кляка. Они только ждали спасения галчонка. Они не сомневались, что Энелонок спасёт галчонка. Не тот он инопланетянин, что слова на ветер бросает, и уж тем более – не сдерживает своих обещаний.
В зоопарке они приземлились в самом его центре под большим тополем. По ночам зоопарк охраняли только три больших человека-сторожа и три огромных пса. Их псиное чутьё в один миг учуяло приход непрошеных гостей. Они надрывно лаяли на пустоту под чёрным тополем. Сторожа пытались их хоть как-то утихомирить, видя, что те лают совершенно не по делу. Они махали на них руками, кричали на них, но всё было попусту. Собаки не обращали на них совсем никакого внимания и продолжали лаять.
«Этого ещё нам не хватало! – подумал Кляк. – Хотя, это и к лучшему» – вдруг подумалось ему.
– Поговори с ними, – попросил он свою Кляку.
Кляки без слов понимают друг друга. Она залетела за толстый ствол тополя так, чтобы её не было видно, и превратилась в собаку. Через мгновение непонятно откуда перед сторожами и сторожевыми псами вдруг появилась собака дворовой породы.
– Понятно, отчего они взбесились, – заговорили сторожа.
На собачьем языке Кляка попросила их полаять на неё ещё немного. Тем временем Кляк беспрепятственно пробрался в сторожевую каморку. Пока сторожа успокаивали собак, он сделал копии ключей от всех клеток. Ключи висели на стене, на крючочках, под номерками. Увидев их, Кляк на мгновение замер. От него отделился голубой шарик и со звуком «кляк!» рассыпался по полу точными копиями ключей. Кляк подхватил их и был таков.
Со стороны казалось, что собаки бестолково лают на невесть откуда появившуюся дворнягу. На самом деле они разговаривали с Клякой. Благо люди не научились ещё понимать собачьего языка. Они поддержали Кляка и его Кляку. Им тоже было жалко зверей. Псы тоже были подневольные, они тоже были бы рады куда-то сбежать, но, в отличие от заключенных в клетках зверей, бежать им было некуда. У них уже и места-то нет, кроме как быть всегда при людях. Договорившись с ними поджав хвост, Кляка сделала вид, что убегает – она протиснулась под воротами и скрылась в темноте. Сторожа, считая, что они навели порядок, с чувством выполненной работы вернулись в сторожку и сели пить чай. А ещё больше сторожа радовались тому, что теперь им никто не мешает смотреть футбол. Превратившись в себя, невидимая Кляка возвращалась в зоопарк. Она заглянула в сторожку. Большие люди сидели за столом и пили варёную воду из кружек, в которых плавали бумажные пакетики и торчали нитки с ярлычками. Они смотрели в ящик, очень похожий на космовизор, только гораздо толще и с постоянными помехами. «Далеко им ещё до японанийцев!» – подумала она. Они смотрели, как в ящике бегают большие люди, только уменьшенные до размеров этого ящика. Бегают, пинают пятнистый шарик и отбирают его друг у друга. А те, что смотрят, кричат, ругаются и переживают за них.
«Странные они, – пожала телом Кляка там, где у людей должны быть плечи. – Переживают за уменьшенных играющих в ящике человечков, в то же время зверей им совсем не жалко. Долго нам еще, наверное, их не понять…» – подумала она и заторопилась к Кляку на подмогу. Собаки учуяли её, но больше не лаяли. Они всё понимали.
Кляк уже распахивал клетки. Он выпускал зверей. Но, прежде чем открыть, он ставил одно единственное условие. Он просил не обижать людей, не наносить никакого вреда и прямиком всем улепетывать в лес по домам.
– Люди примитивны, – говорил он. – Нельзя на них обижаться, – просил он зверей.
Звери не были так умны, как люди, и так мудры, как Кляк, но своим звериным чутьём они понимали Кляка.
Кляка взяла у Кляка ключи от кабинета звериного врача – ветеринара – и отправилась за галчонком.
Кляк тем временем всё открывал и открывал клетки одну за другой.
Шум, что подняли разбегающиеся звери, насторожил сторожей. Сторожевые псы для порядку подняли лай.
Сторожа слышали хлопанье крыльев сотен птиц, топот зверей, шорох ползущих змей. Они выглянули в окошко, но, глядя из света в темноту, они не сразу смогли всё различить. Но вот глаза их привыкли к темноте, и от удивления у них отвисли челюсти. Весь зверинец хаотично носился по зоопарку в поисках выхода. Небо усеялось сотнями птиц так, что не было видно ни звёзд, ни луны. Звери никак не могли отыскать выход. Но вот, наконец, к главным воротам подбежал огромный африканский слон. Кляк просил не причинять никакого вреда людям, слон помнил это, и поэтому он осторожно поддел ворота хоботом, снял их с петель и так же аккуратно поставил их в сторонке, совершенно ничего не поломав. Звери пустились наутёк в разные стороны, кто куда.
В один миг зоопарк опустел.
Последними зоопарк покидали Кляки. Подлетая к проходной, Кляк превратился в кенгуру и запрыгал через проходную. У окошка сторожей он остановился:
– Что рты раззявил? – сказал он им человеческим голосом. – Кенгуру ни разу не видели? Домой я поскакал, в Австралию.
Кенгуру показала им язык и упрыгала в темноту.
Одновременно лязгнув, рты сторожей разом захлопнулись.
Многие большие люди, волею судьбы оказавшиеся в ту ночь на улицах города, видели кто страусов, кто слона, кто бегемота, кто обезьян, направляющихся в сторону леса по освещённой проезжей части и соблюдающих правила дорожного движения. Видели, но никому ничего не рассказывали, беспокоясь, что их сочтут за сумасшедших.
Всё встало с ног на голову той ночью. Кляк был доволен. Зверям хорошо, и люди – те, что добрые – не пострадали. Вреда он никому не принёс.
Кляк, Кляка и галчонок в гипсе летели над ночным городом к лесной поляне.
* * *Следующим днём лесная поляна была полна гостей. Весь до единого ученика третий класс, спасший галчонка от коварного ястреба, пришел на поляну. Они уже слышали по телевизору из новостей, что звери, непонятно как, одновременно, все разом разбежались из зоопарка кто куда. Они подозревали, чьих рук это дело! Перехитрил мудрый Кляк больших, злых людей. Распустил он всех зверей на волю вольную. Нарушил он, конечно же, чуть-чуть, ну, самую-самую малость космический кодекс – нельзя вмешиваться в жизнь обитателей других планет. Ничего он не смог с собой поделать! Чудовищную несправедливость он видел в содержании в клетках землян землянами. Не мог он оставить в беде бедных животных.
Маленькие человечки перемешались по всей поляне. В разные игры играли. Кто в жмурки, кто в ляпы, кто в чехарду. Галчонок сидел на самом почётном месте: в центре поляны, на пенёчке. Для него, наверное, сегодня был самый счастливый день в его жизни. И совсем даже вовсе не оттого, что он спасся, а оттого, что ему так много есть, о чём рассказать своим друзьям. Счастливый он болтал, болтал, болтал без умолку.
– Я вам ещё не говорил, что вы говорите, вы много потеряли, так вот слушайте.
Находил он того с кем, как ему казалось, он ещё не разговаривал. И он начинал свой рассказ последних приключений заново. Всем уже давно была известна вся история от начала и до конца, но из уважения к галчонку слушали его вновь и вновь, что бы невзначай не обидеть его. Не хотели расстраивать его, ведь если бы не он, то не произошло бы то, что произошло.
Весело было тем днём на поляне. Так бы всем землянам дружно жить! Сколько новых имён Кляк узнал – Веры, Вовы, Тани, Маши, Саши, Вити – всех и не упомнить за раз, хоть записывай. Честными оказались маленькие человечки, никому не рассказали общей тайны.
Зато Кляку они поведали об учительнице. После того, как по учительской всем на удивление полетали две очкастые совы, так тут же её перестали считать сумасшедшей. А физрука в психушку-таки увезли. Как он увидел этих очкастых сов, так совсем обезумел. Тут ему ещё директор выговор влепил в трудовую книжку… Чтобы он больше по гороно не бегал и призов не просил, людям работать не мешал. Для взрослого выговор в трудовой – это всё одно, что единица в дневнике у школьника. Так после этого он с кулаками на всех стал кидаться и кричать:
– Меня, лучшего учителя в городе и самого красивого в дураки записывать! Сами же меня туда послали! Не ловил я никаких сов! – не унимался он. – Мне приз полагается. Я победитель! – совсем свихнулся физрук.
Что бы он ни говорил, всё одно ему никто не верил. Все могли подтвердить, что директор никуда из учительской не выходил, и никак разыграть физрука не мог. Так же, как и в гороно врать не станут. Весь класс тоже видел, как он по партам непослушным безобразником бегал и сову ловил. А как поймал, так в учительскую и понёс. Всем классом третьеклашки в один голос подтверждали слова учительницы.
– Не я это был! – ревел на всю школу физрук. – Вы специально из меня дурака делаете! – И ну как, давай снова на всех с кулаками кидаться.
Тут директор совсем не выдержал и вызвал психушку. Приехали санитары, долго физрук от них по школе бегал, по классам да под партами прятался – поймали-таки. Скрутили его, связали в смирительную рубашку и увезли.
Пока маленькие человечки рассказывали, Кляка с хитрецой так, с загадкой в сторонке похихикивала, словно знает что-то, а сама вроде и не причем вовсе.
– А давайте посмотрим, где ваш физрук! – воскликнул храбрый мышонок.
– Давайте, давайте! – поддержали другие животные.
– Но как? – разводили руками маленькие человечки.
– Мы знаем – как! – загадочно отвечали звери.
Они вынесли из норы на поляну космовизор. Кляк настроил нужную волну, и появилось изображение: в небольшой серой комнате с решетками на окнах стояло четыре кровати, четыре тумбочки, четыре стула и один стол. Это была больничная палата. Четыре больных человека находились в ней на излечении. Три сторожа из зоопарка рассказывали четвёртому о говорящей кенгуру, которая дразнится и показывает язык.
– С кем меня поселили, – сетовал четвёртый, – они же сумасшедшие!
Потом он в ответ рассказывал об очкастых совах в школе. Правдоподобно так рассказывал, без выдумки, без обмана, в точности, как оно и было на самом деле. О том, что он есть лучший учитель, и ему нет равных в педагогике.
…Маленькие добрые человечки стали просить не оставлять сторожей и физрука в психбольнице – им стало жалко их. Они говорили, что злые большие люди исправятся, и больше не будут так делать. Но Кляк был неумолим.
– Пусть пока там побудут, а там видно будет, – как отрезал он.
Не верил он, что они исправятся. «Нечего космос хламом засорять», – думал он.
– Ему же место в дурдоме! – шептались сторожа.
– Слон – так тот вообще со знанием дела разобрал ворота и в сторонке поставил, – продолжали сторожа. – Все звери и давай в разные стороны разбегаться…
– Нужно завтра кончать этот балаган. Кенгуру… Звери, слон?!! Нужно выписываться отсюда, что мне с этим сумасшедшими делать здесь! – шептал четвёртый себе под нос. – Завтра пойду к главврачу и расскажу о медведях-милиционерах. Какой же они порядок наведут? Только дров наломают. Без меня, красивого, им с ними всё равно не справиться.
– Кому тут медведи не нравятся?
Прорычало над поляной. Послышался тут треск ломающихся веток и показался медвежонок. Он катил перед собой бочонок меда, подаренный Кляком ещё зимой.
Правда, это уже был не бочонок, а полбочонка – друзья за зиму уже скормили ему, спящему, добрую половину. Докатив до центра поляны, он поставил его на попа и сказал:
– Вот, угощайтесь, потерял кто-то, в берлогу ко мне в самый раз закатился, – широким жестом угощал он. – Правда, я пока спал, немного попробовал, но тут ещё много осталось, всем хватит! – Вся морда его была в мёду.
Проспал он все приключения, горько сожалел об этом потом, но его природа – спать зимой, и ничего тут не поделать. А, когда ему все приключения рассказали, так он долго смеялся, аж до самого отлёта Кляка с Клякой.
Улетел Кляк со своей Клякой, а на земле дружбы стало ещё больше.
Рассказ ветеранаВ тыл к немцам нас отправляли двоих: меня и еще одного, из другого батальона. По расстановке сил, да и интуиция подсказывала, я мог с львиной долей уверенности предположить исключительность заброски нас в логово неприятеля. Без мнимой скромности хочу заметить – я был парень не промах. Да и тот, второй, понаслышке знаю, тоже отчаянный малый. Идти должны были порознь, один позднее другого на сутки, опираясь только на свои собственные силы. Тут обычная математика: не дойдёт один – дойдёт второй, 50 на 50, по пятьдесят на брата, а, значит, очень может быть – идти, чтобы не вернуться. И вот еще одно подтверждение исключительности – идут лучшие. И льстит и колется. Не вернутся двое лучших, тогда и другим это мероприятие окажется вряд ли под силу. Командованию определенно нужен только положительный исход дела.
Задача предстояла не из легких: проверить точность информации, полученной несколько дней назад от захваченного «языка». По его словам немец концентрировал силы в 10 километрах от линии фронта, собираясь нанести сокрушительный удар по нашим позициям. При всем этом до поимки этого «языка» наше командование про подготовку противника не имело никаких сведений – сбой где-то в тыловой разведке. А ведь недооценить противника – значит проиграть. Я выходил вторым, с вечера, спустя сутки после первого, как запасной, страховочный вариант. До места должен добраться только к утру. 10 километров хоть и не слишком большое расстояние, а все же не по тропке идти – болотом пробираться. Немец чванлив, болот не любит, чистюля, любит тепло и сухость. Без особой надобности он туда и носа не сунет. Сколько раз уже это, такое родное наше жидкое месиво выручало русского солдата! Вот и сейчас оно как нельзя лучше расположилось по нашим фронтам. Начиналось от нас и уходило далеко в тыл к немцам.
Не буду углубляться в повествование моего путешествия по болоту: трудно, холодно, мокро, силы вымотал. В общем, обычное дело… Война ведь! Сахар здесь, чтоб послаще было, на каждом углу не раздают. К утру я был на месте. А оно, место это, выглядело вот так: сразу недалеко от края болота, метрах в 150, лес заканчивался, и за его опушкой начиналось то самое селение. Собственно, это было уже не селение, а заброшенная деревушка, о которой и говорил захваченный в плен фриц. И правда – не врал он! Враг собрал мощные силы. Все бы ничего, но вот беда: из низины, где я находился, подсчитать полное количество немцев мне не представлялось никакой возможности. Сунуться ближе, значит поставить себя, а заодно и всё задание на грань провала. Слева и справа по равнине продолжался лес, ничего на этот предмет мне пока не предлагая. Суворов как-то сказал: «Из любого безвыходного есть как минимум два выхода». Я был согласен с историей в том, что он слыл умным малым и искал в своем положении хотя бы один – два мне было бы лишковато. «Я не Суворов, мне и одного было бы достаточно», – шучу я теперь. Тогда мне было не до шуток. В самом начале я подумывал, уж, было забраться на дерево, но не решился: карабкаться пришлось бы по крайнему стволу – немцу на мушку. А если глубже, то что же тогда увидишь сквозь ветви крайних деревьев? Не может столько техники секретной располагаться без обеспечения должной безопасности. И все-таки дерево не выходило из головы, потому как другой альтернативы не было. Немец, падла, хоть и чванлив, но хитёр, бестия! Я искал и нашёл: подсказка оказалась совсем рядышком, прямо перед глазами. Опушка леса напротив изгибалась и хорошо просматривалась. И над ней, словно исполин, величаво возвышался на добрые несколько метров густой, зелено-ватной шапкой его величество благородный дуб. Даже сердце неистово заколотилось. Я отполз назад, вглубь леса, поднялся, огляделся и – вот он, ещё один, совсем рядом, точно такой же. Стоит, предлагает мне взобраться на него и посчитать, сколько их там, врагов наших. Гордо так предлагает, усмехается и шепчет, шелестя кроной, мол: «Суворов ты наш». Я и вскарабкался на него. Хитер немец, да нам не чета: как на ладони танки свои по укрытиям распихал. С нами ли ему тягаться! Когда каждый кустик нам в бою – укрытие, каждое дерево, как вот этот дуб – друг. Не по силам взвалил он на себя ношу! Осмотревшись, я остался доволен. Даже отметил: не далее чем вчера его кто-то словно потрепал. Был взорван топливный склад, бочки разбросаны по большому радиусу, некоторые из них ещё курились слабым дымком. Так вот, оказывается, что так хорошо шарахнуло у него в тылу, когда я вчера собирался к нему в гости. Как не порадует такая картина! И, порадовавшись от души, я от всего сердца пожелал ему скорейшей кончины. После чего, удовлетворенный увиденным даже поспал перед обратной дорожкой, привязал себя к стволу дерева, чтобы, не дай Бог, ненароком не свалиться, и вздремнул до вечера.
Ну и опять же углубляться в пустословия не стану: дождался я темноты и давай вниз спускаться, домой уже было пора, к месту дислокации батальона. Спускаться – не подниматься. В сумерки тихо, каждый шорох уши режет. Весь взмокший от перенапряжения, я слез как можно ближе к земле, спрыгнул и давай отряхивать с одежды остатки коры. Вот тут-то и произошло неожиданное. Я и ППШ свой вскинул не успел, как он снес меня с ног и повалил на землю, как ураган. И в тот же момент, в один момент, как моё туловище коснулось земли, с другой стороны, из кустов, полоснула очередь «шмайсера». Десятки пуль буквально истерзали ствол кедра как раз там, где мгновение назад стоял я. И около своего уха я услышал едва слышный шепот. Наверное, роднее русского языка для меня в тот момент ничего не было.
– Жив, чертяга? – спросил он.
– Вроде, – ответил я, ещё пребывая в шоке.
– Ну, тогда ползи отсюда. Немец в болото ночью не сунется.
Ползли тихо и молча, только забравшись подальше вглубь болота, заговорили вновь.
– Что ты так неосторожно? – заговорил он первым. – Весь лес переполошил. Немец патрулём идет, а ты довольный, как медведь, меда наевшийся, с улья карабкаешься.
– А ты-то как здесь очутился? – к чему было оправдываться, не до оправданий было, и так ясно, что едва на тот свет, к чёрту в лапы, не угодил.
– Кто же, как не наш брат немец, в тылу всполошить может. Услыхал вот и пришел подсобить.
– Тоже что ли разведчик? – задал я глупый вопрос, ещё не отойдя от происходящего.
– Отгадай с трёх раз, – иронично ответил он на мою глупость. И такая добродушная улыбка состроилась на его лице, что тяжесть того света с моих плеч сползла, как словно стряхнула её это улыбка.
И, только подавив в себе возбуждение, я более отчетливо разглядел своего случайного спасителя. Это был не солдат, это была сама ошибка природы. Маленького роста, на коротких ножках, с острым лицом, уши перпендикулярно оттопыривались далеко в стороны, нос задирался маленьким пятачком, тонкие губки, круглые глазки. Короче, так ошибаться и собрать всё это на одной голове в состоянии только природа. И все же взгляд его и улыбка крест-накрест перечеркивали все эти природные недоработки – он был симпатичен. Я скрутил самокрутку и подкурил.
– Как звать тебя? – протянул я ему.
– Серёга, – ответил он и отмахнулся: – Не куру, откурил я своё.
– Бросил что ли?
– Что-то вроде этого, – кивнул он, после чего поднялся и направился в лес. – Поосторожней будь, – попросил он напоследок, удаляясь.
– Серега! – окликнул я его.
– Ну? – задержался он.
– Спасибо тебе! Даст Бог, свидимся ещё.
– Когда-нибудь и свидимся! – махнул он рукой даже не повернувшись, и скрылся из виду, как словно и не было вовсе, как словно растворился он в темноте.
К утру я был в расположении своей части. После официального доклада комбат задержал меня ещё на секунду, подошёл и, крепко сжав мою руку, произнес:
– Тот, первый, не вернулся.
Несколькими днями позднее это гнёздышко скопления гитлеровцев разбомбила наша авиация. А ещё позднее за своё ползанье по болоту я получил орден.
На этом, наверное, можно было бы и закончить свой рассказ и поставить под ним жирную точку. Геройство моё рассказано. Вот, только один эпизод того времени не даёт мне сделать это именно сейчас. На язык просится ещё некоторое количество слов.
Нашим сокрушительным ударом немец был отброшен далеко назад, а мы преследовали, наступая ему на пятки. Как псина подзаборная бежал он, поджав хвост, и бросал испуганные оглядки взад: как бы наша оглобля не пришибла его ещё раз по хребту. В преследовании путь наш пролегал через ту же деревеньку, на окраине которой вашему покорному слуге в уже известных событиях пришлось просидеть целый день на дереве. Колонна проходила скорым маршем, но в одном месте шаг неожиданно замедлился, и на какое-то время наступило затишье. Бойцы почтенно обнажили головы и молча шли, обратив взгляды на небольшой, наспех сооруженный памятник. Они отдавали эту последнюю дань солдату, нашедшему здесь своё последнее пристанище. Это ему мы были обязаны вот этим своим наступлением. Это он задержал вражеский удар, к которому мы были так не готовы, оставив танки противника без бензина. Бойцы отдавали ему скорую молчаливую дань. Как же, ведь живут они и идут сейчас мимо него для того, чтобы дальше гнать фрица обратно в его волчье логово, стереть его совершенно с земли русской. Все это – только потому, что у него хватило духа умереть ради них. Какое-то непонятное чувство оттолкнуло меня от колонны, и я подошел к могиле. С прикрепленной к памятнику фотографии в рамочке, из-под стекла, на меня смотрела «ошибка природы»: то же острое лицо, те же оттопыренные уши, та же самая улыбка… мне она была понятней, чем другим – «Живи, братуха!». А в ушах стоял шёпот: «Жив, чертяга?». Это был он, Серега, мой ночной спаситель. Два раза так ошибиться не может даже природа.
– Он шёл на сутки раньше тебя, – за спиной стоял комбат, – подошёл слишком близко, пробрался прямо к топливному складу. А вот обратно выйти не смог… – горечь мешала ему говорить, – вместе с собой и взорвал.
Если сказать, что в этот момент на моей голове зашевелились волосы, то, пожалуй, может сложиться впечатление, что я порядком преувеличиваю. И в то же время даже это высказывание не дает полного представления о моем тогдашнем состоянии, хотя, впрочем, было оно очень даже недалеким от истины. Нет, это был не испуг и даже не удивление. До меня дошло осознание духа русского…? Ведь невозможно! С топором да на танки?!! И победили! Только дух, нечеловеческий или, может, наоборот – именно человеческий… Где уж нам тут разобраться. Как же после этого не верить в победу, если у простого солдата не только хватило духу умереть, но и подняться из могилы призраком, чтобы доделать то, зачем шёл, чтобы мы смогли вот так, как псину поганую, гнать фашиста с земли нашей. Я стал перед могилой, и он улыбался мне загадочно. Это наступление, и то, как оно оказалось возможным – наша с ним тайна… И орден на моей груди – тому подтверждение. Только один я знаю: на двоих он нам дан.
РодникиСолнце уже касалось верхушек деревьев, когда Виталий шёл домой после утренней смены. Горизонт к погоде полыхал алым знаменем. «Лето удалось нынче, – думалось ему. – И сено есть, и картошка, ягоды в лесу, грибы вон пошли…» Давно такого лета не бывало. Два часа назад клеть подняла его из забоя наверх, посидел при душевой в парной, как следует отпарил тело от подземелья и, истомлённый, теперь по пути домой наблюдал природу. Сызмальства, он вокруг неё. Город – что? Коробки, коробки, коробки… Цветы на балконе – и те слоем пыли за день покрываются. Тут – нет, вон какие пестики-тычинки! Дождями с росой моются. Каждый своим раскрасом завлекает, заговорить пытаются, да рта не имеют. Молча просят, качаются, кокетничают – порадуйся, мол, за нас. Не хочешь, а заговоришь с ними. Обязательно при хорошем настроении поговоришь про себя… Они понимают… В ответ ноздри на радостях до чиха ароматами защекочут.
Жёлтыми пальцами достал он из пачки сигарету. Размял, прикурил и пустил за собой облако сизого дыма. Виталий на шахте числился старшим взрывником. Потому и работу свою знал до самых малых мелочей, как оно и полагается старшему. По необходимости мог подменить заболевшего, или в отгул кто отпроситься, а то и загуляет кто. Тоже не редкое занятие в шахтёрском деле… Сам иногда этим делом грешит. Все люди. Ещё Демидову в укор ставили, что трезвости учил. «Отсутствие кабаков – казне убыток», – говорили министры, царю докладывали. Потом не раз с этим боролись, да куда там! Труднолечимая то болезнь. Из века в век шлейфом тянется за рабочим людом. Работка не из лёгких. Душа отдушину просит. Посиди в сотнях метров под землёй, подыши-ка сыростью да селитрой. Пальцы вон, и не отмываются от неё вовсе. Сегодня много её по своим рукам пропустил. Массовый взрыв на завтра в графике, а помощник где-то не вышел. Вот и подменил. Ярко жёлтые. Три не три – въелась.
К дому аккурат вокруг отвала идти. Большой отвал. Он давно сделался. Когда всей страной социализм ещё строили. За шахтой карьер есть. Пока там до руды дорылись, он и получился. Пустую породу свозили. Теперь он растительностью обрастает. Летом это – самое грибное место. Волнушки… их никто и не берёт уж. Так только, для разнообразия – баночку-другую на зиму засолить. Их там видимо не видимо – усыпано. Больше за маслятами, красноголовиками да подберёзовиками тихие охотники охотятся. Ещё там разные предприимчивые жители то провод откопают, оставленный расточительными временами социалистического строительства, бюджет семейный поправят, в скупку барыге снесут, а то и рельсы отслужившие поснимают на перекрытия. Всё в доме в строительстве сгодится. Отсыпь отвала как раз перед его домом прекратили. Домик ему этот от работы выделили. Маленький такой, всего пять на пять в длину брус по бокам. Кто-то умер, площадь освободилась, его и осчастливили. С жильём всегда при социализме проблемно было. Временно дали, пока очередь на квартиру не подойдёт. И, как говориться: ничего нет более постоянного, чем временное. Виталий всё ещё первый в очереди на жильё числится. Как социализм распался, так уже лет пятнадцать, как первый. Ютится на двадцати метрах. Три девки на плечах поднял, легкостью жизнь не баловала. Не жалуется. Работа есть, огород – всё своё. Крыша не течёт. С детства не барствовал, богато не жил. Привычно. Для души – лес рядом, река под боком. Есть чем удовлетвориться. Нет никакого стремления к городской жизни. Диван да телевизор – вот и все развлечения городские. С годами совсем в многоэтажных клетушках от безделья скуксишься. Здесь душе раздолье, вздохнёшь, грудь распирает. Тут только новости по ящику иногда и глянешь, чтоб совсем от жизни не отстать. К вечеру ног под собой не чуешь, валишься. Здоровьем он тоже вроде не жаловался… А что жаловаться?! «Язва – так в мои годы пора бы и сломаться уже чему-то, не железный», – говорил он. Варикоз вот, зараза, этот пристал, спасу нет от него… ни на минуту не отпускает! Полежать просится, ноги поднять и отток венам дать, узлами выпер, шельма. Туберкулёз… так то – шахта. Кому она когда на пользу была. Кто не болеет? Согласился он со своими недугами, дал прописку им в себе и живёт так, как оно, вроде, так и должно быть.
Дома он скинул ботинки, лёг на диван, закинул ноги на подлокотник, начался отток в венах.
В сенях загремели вёдра, скрипнула несмазанная дверь, и в дом кто-то вошёл.
– Когда ты успел?
Услышал он за головой.
– Вот, вроде, только-то баранов поить и ушла.
Его ни в коей мере не удивляло её присутствие. Ключ всегда под дощечкой. В его дом при желании можно попасть кому угодно и без ключей. Замок так, для виду. Зайди в калитку и обойди дом – со двора всегда открыто. Красть у него – многим не разживёшься.
– Комбикорм насыпала? – спрашивал он дочь.
– Дала, – отвечала она.
Боль в ногах потихоньку утихала.
– Ещё немного полежу и за водой пойду, – говорил он.
– Лежи, я уже принесла.
– Челентано пьёт?
Сожитель у неё весь какой-то как на шарнирах ходил – на Челентано похож. Дочь среди недели приезжала только когда он напьётся.
– Да ну его! – махнула она.
– Бил?
– Кидался.
– Скоро здесь появится, жди.
– Навряд ли, последний автобус уже был.
– Ха! – воскликнул Виталий. – Бешеной собаке семь вёрст не крюк. Об заклад бьюсь: до темноты появится, извиняться примчится.
– Не прощу! – категорично мотала она головой. – Надоел хуже пареной репы.
– Чья бы корова мычала, – тяжело поднимался он с дивана, – не мели зря.
– На этот раз – всё! – категорично заявляла дочь.
– Ну-ну… – кряхтел он, распрямляя спину.
– Лежи, – пыталась остановить дочь.
– Дрова ты будешь колоть? Больно-то не разбежитесь. Челентано твой только стакан держать умеет, да на шее на твой сидеть. Картошку сумками таскаете. Жука собрать – нет, не дождёшься вас, всю картошку вон поел… Вам хоть бы хны!
– Чё он у меня на шее-то сидит, ничё не сидит! – возмутилась дочь.
– Уработался, глядите-ка! Сколь уже не работает? Три, четыре месяца? Что-то не сильно исхудал! На нём пахать можно.
– Он подрабатывает, – неуверенно защищала она его.
– Грузчиком! – восторгался Виталий. – Достойная профессия, ничего не скажешь! – Сказки тебе рассказывать его профессия. Уши развесила и слушаешь. Уж не маленькая, а всё в них веришь.
– Где мужики то? – обиделась она.
– А ты пооглядывайся, мужик хороший, что гриб – поиска просит. Белый гриб вон, поди-ка не на каждом шагу. А и грибница из него знатная, жарёха – не наешься, и маринованный, и сушёный, и вареный и пареный – король гриб! Найти его – походить и понагибаться нужно. По трудам и награда. Тебе всё синявки почему-то в корзинку лезут… синявки, да бычки. Никто не берёт, Ксюха подберёт.
– Ну, завёлся! Чё, как старый дед, ворчишь…
– Ай, на вас ворчи не ворчи – толк маленький! – махнул он рукой.
Виталий вышел во двор, глянул на кучу дров у калитки и почесал затылок. Лесник Сергей привёз дрова без него. Был бы дома, так обязательно развернул бы его вместе с этими его гнилушками. Насобирал валежника по лесу. Топор такие поленья даже и не рубит – крошит. А сколько взял! Половины цены не стоят. Везде, наверное, такие люди есть. «И по ночам же не ворочается, крепко спят», – сплюнул он. Правду говорят – деньги не пахнут. Хотя и впрок такие деньги не пойдут. «Надо с дороги малость прибрать, да поколоть хоть сколько-то», – думалось ему. Помянув лесника какими только мог недобрыми словами, он вернулся в дом за варежками.
В этот день дрова колоть ему не пришлось, ровно как и в несколько последующих. Только он собирался пойти опять на улицу, как собаки во дворе залаяли, почуяв чужого, следом за ними и звонок залился трелью. Дочь прильнула к окну.
– Кого там нелёгкая принесла? – спрашивал он её.
Она с трудом всматривалась сквозь запотевшее стекло, пытаясь разглядеть гостя.
– «Чёртик» приехал! – наконец сказала она.
– Дядька! – обрадовано воскликнул Виталий.
В малом возрасте дочки Виталия звали его «Чёртиком» за смуглое лицо и худобу. Вадим Сергеевич, как его теперь звали, тоже не настоящее его имя. Татарин по национальности, он с рождения имел совсем другое имя, но оно было столь трудно произносимым, что редко кто сейчас, кроме его самого, это имя и помнил уже.
Двор был не заперт, и поэтому гость не стал утруждать себя ожиданием, когда кто-то его встретит. Через минуту он уже стоял в дверях, гордо выпятив колесом худую грудь. Посему было видно, что с утра он осчастливил себя стопкой водки, и теперь всё это его счастье веселилось на лице вдоль и поперёк. Это был старый шахтёр-проходчик. Оттого и был в большей степени рад Виталий встрече.
– Наливай, а то уйду! – весь светился старый шахтёр.
– Проходи, проходи давай! – поторапливал его Виталий.
Дядька был уже на пенсии. Порода – загулял, гармонь порвал. Так же работа. Зубилом и молотком часы ручные ремонтирует. Проживал в другом шахтёрском посёлке километрах в восьми, такие посёлки располагались подле каждой шахты и соединялись между собой большим крюком через город. Иной раз потребуется полдня, чтоб попасть из одного в другой. Потому и встречи их были не часты.
– На шахтёра не кричи, мал ещё! – самодовольный, делал он замечание племяннику.
– Давай, давай, – торопил его Виталий, – мух напустишь.
Из кармана старика торчала початая бутылка водки, заткнутая скрученной в пробку газетой. Заметив её, Ксюха выпалила:
– Опять на несколько дней.
– Поворчи ещё на отца! – прикрикнул на неё Виталий. – Учить будешь Челентану свою. Залезь-ка в погреб картошки с грибами достань, да на стол поставь.
Дочь спустилась в погреб за провиантом. Виталий склонился над дырой в полу и, указывая пальцем, приказал:
– Бутылочку прихвати, – и хихикнул.
Бутылочкой оказалась трёхлитровая банка первача.
– На работу завтра опять не выйдешь, – водружая её во главу стола, говорила дочь.
– Как не пойду, обязательно надо идти, – уверял Виталий, впрочем, и сам в это безоговорочно веря. – Деньги сами домой ещё не имеют свойство приходить. Зря, конечно, – смеялся он.
– Ага, когда такое было! Пока банку не осушишь, не успокоишься.
– Что такое эта баночка для шахтёра, всё одно, что понюхать, и не проберёт… правда, дядька?! – воскликнул Виталий.
– Не хватит, в магазин сходим, – вторил ему старый шахтёр.
Старик с утра поддал на радостях и по случаю. Путёвку ему в санаторий дали от рудоуправления. В тубдиспансере он на учёте стоит, вот и выделили.
– Поеду лечиться! – хвастал он. – Только за дорогу заплачу, а путёвка бесплатно.
Виталий другое знал. Путёвка, которую дядьке дали – горящая. Горит оттого, что аврал на шахте. Управление молодых не спешит отправлять. Каждый, кто работать может, в надобности. Отправь – кто руду добывать будет. Молодёжь не очень под землю торопиться. Рук не хватает. Вот и выискивают ещё живых пенсионеров. А на него попали только потому, что фамилия его на А начинается и в списке первая. И в отчётах отчитаться тоже не лишнее – забота о пенсионерах.
– Вернёшься, как новенький, – поддерживал его Виталий.
– Помнят! – гордо выпячивал вперёд грудь старый шахтёр. – Заботятся, не забывают, – не в первый раз с самодовольством повторял он.
От картошки на столе струился пар, высоко, под самый потолок, стояли солёные грузди, свежие огурцы и колбаса. Отец пьяный обязательно поучать начнёт. Чтоб не слушать его, Ксения ушла в огород…
…Он проснулся оттого, что кто-то шлёпал его по лицу. Маленькая Вика сидела на груди и пыталась разбудить. В конце концов, это у неё получилось. Он открыл глаза и долго не шевелился. Разглядывая потолок, он с превеликим трудом силился понять – где он. Не мог вспомнить вчерашний день. Обрывками что-то всплывало; дочь, дядька, Челентано; вспомнил – плясал во дворе, какие-то фильдеперсы выдавал ногами на гора. Это помнит. Дальше… дальше провалы, день как корова языком слизала. «Так пить нельзя», – думал он. Теперь он ненавидел себя, клял хуже Гитлера. Расстрелял бы сам себя! За окном уже стоял день. Сообразив, он в миг снял с себя внучку и вскочил с кровати:
– Ё-моё! – воскликнул он.
В комнату вбежала испуганная дочь.
– Да что ж ты так пугаешь-то! – держала она ладонь на груди.
– Мне же на работу. – Искал он, и не помнил, где снял брюки.
– И вчера надо было, – ошарашила его дочь.
– Как?!! – опустил он руки. – Прогулял…
– И позавчера, и позапозавчера нужно было, – не унималась она.
– Ой-ё-ё! – провопил он. – Сколько?
Виновато смотрел он на дочь.
– Неделя уж.
– Ой-ё-ё! – взялся он за голову и осел на диван. – Это ж всё… с работы враз погонят, уж не простят!
– Может, выгонят, а, может, и не выгонят.
Последние свои слова дочь произнесла с какой-то хитрецой. Это не ускользнуло от больного растревоженного внимания Виталия.
– Предупредила?
С надеждой смотрел он на неё.
– Я же не пила, моя-то голова соображает.
– Чем же объясняла мои прогулы?
– А они совсем дураки, не понимают!
– И то ладно… хоть не выгонят! По шапке надают… ну, это уж ладно. Взрыв был?
– Был.
– Напарника с выходных вызвали… Хорошо предупредила, взрыв не сорвался, – точно выгнали бы.
– Пива налить? – спросила дочь.
– Ни-е-е! – замахал он руками. – Убери подальше, вырвет, запаха не переношу.
– Вчера другое говорил.
– Убери, говорю! – прикрикнул он. – Не шучу же, полы мыть будешь.
От пивного запаха он заспешил на свежий воздух. Перед воротами развалилась гора дров. «Как их колоть? Одна труха!» – матерился он.
За спиной стояла дочь.
– Челентано был? – вспоминал он, что вроде помнит его.
– Был, – отвечала она.
– Дрова мог с дороги убрать.
– Он хотел, ты же не дал.
– Отчего не дал?
– Он только на порог, как ты его гнать давай, – разводила она руками, – чтоб не трогал ничего, всё по твоему должно быть, сложит, потом перекладывать после него, руки не под работу у него заточены… уж не буду повторять подо что – говорил ты ему – они у него заточены.
– Ну и правильно говорил! Какой толк с него? Дел по горло, он объявится два раза в лето, удочки схватит и цельный день на реке прохлаждается. Поделом и прогнал. Тут не дом отдыха.
Искурив сигарету, он вернулся в дом.
– Дядька когда уехал? – спросил он.
– Вчера.
– Он что, целую неделю со мной тут?..
– Ещё б сегодня здесь был… внучки приехали, забрали, у него сегодня поезд в санаторий, он уж и ехать не хотел, силком в такси усадили.
– Это они меня в таком виде вчера видели?
– А то они тебя в таком виде впервой видят! Ты такой интересный! – удивлялась дочь.
«На родник, – думалось ему. – Он восстановит, приведёт в форму». Виталий приказал внучке собираться. Взял ведро и медленно побрёл к отвалу. Внучка едва поспевала следом за ним. Он останавливался иногда и поджидал её. Временами прошибал похмельный холодный пот. Он растирал его рукавом и шёл дальше. Родник бил прямо из-под отвала, метрах в двухстах от дома. Со временем до него протопталась тропинка. Долгое время ключ бил беспризорником. В одно время Виталий взял и обустроил его – подкопал, обложил для удобства, не только для себя сделал. Так народ тут и совсем зачастил к нему за водой.
В то же самое время, когда Виталий брёл к роднику, старый шахтёр уже ехал в поезде. Мерный стук колёс с болью отдавался ему в голову. Да ещё звон в ушах. Этот-то всегда в голове, никогда не прекращался, вот уже лет тридцать. Столько лет долбил отбойным молотом. Все мозги за годы перевернуло, перетряхнуло и набекрень уложило… От неудобства звенят… Не переложишь… После нескольких дней праздника с племянником ещё и похмельный чугун в голове. Звон… Невыносимо! «Зачем пил?» – задавался он вопросом. Ему доктор категорически запрещает пить спиртное. Говорит – вредно. Смешной человек! Когда кому пьянка в пользу шла? Сам-то, небось, тоже не трезвенник. Старик томно встал, прошёл к титану, набрал кипятка и заварил чай. Не первый стакан уж по счёту. Ехать ему ещё долго. «Отдохну! – радовался он меньше за себя, больше за тех, кто вспомнил о нём. – Помнят!»
За окном мелькали деревья. Поезд мчался по полям, отбивая стыками дробь, перепрыгивал речушки. Чай взбадривал, и в голове старика роились разные добрые мысли…
…Виталий сел на камень и закурил. Вика кидала палочки в ручей родника и наблюдала, как они кувыркаются в водоворотах. Она представляла их утлыми суденышками, на которых есть маленькие человечки-моряки, яростно пытающиеся спастись в бушующей штормом стихии. Впрочем, это ей нисколько не мешало ещё и без умолка тараторить. Она совсем забросала деда вопросами. «Где она их только берёт?» – думал Виталий. Пытался что-то ответить. Отвечал с похмельной головы, как мог. Она не понимала его и смеялась в ответ, тыча в него пальцем:
– Ты чё, деда, совсем ничего не знаешь штоли!
И дальше заливалась смехом. Смотрел он на родник и думал тут же ещё и о своём: «Вот ведь как оно складывается… – размышлял он. – Пока отвала не было, лес был, родник в нём был. Лес порубили. На родник целый карьер грунта навозили. Насмерть засыпали. Вроде – всё!
Ан нет, вот он, жив себе, журчит, радуется! – Восхищался он. – Прорвался! Ключом бьёт! Живёт!»
Вспомнил дядьку. Сравнил. Сколько ни ломила его жизнь – голод в войну, детский дом, скитался, целина, шахта, туберкулёз, от пенсии до пенсии рубль считает, и ничего – не сломила! Слезы ни разу не пускал. Живёт! Радуется! Душа, как родник – прозрачна, ключом бьёт, светится!
Зачерпнув ведро студёной воды, Виталий целиком облил себя с ног до головы. Тут же почувствовал прилив сил. Зачерпнул ещё одно и опять вылил себе на голову. Долго ухал от восторга и растирал возбуждённое тело жёлтыми мозолистыми руками. Ключевая вода вернула к жизни, толкнула кровь. «Работы невпроворот… У Ксеньки сапоги порвались… Дров не хватит… – недовольно он мотал головой. – Завтра на работу… Напарник бы не загулял… Тогда точно премии лишат… Больше пить не буду!» – клялся он себе, как обычно почему-то сам в это свято веря. С этими правильными мыслями он набрал третье ведро с собой, усадил не умолкающую ни на минуту внучку на плечи, и бодро зашагал обратно к дому…* * *…«Помнят! – Поезд продолжал мчаться по просторам, отстукивая километры. – Заботятся о стариках! Не забывают! Дай Бог им здоровья!» – раз от раза повторял про себя старый шахтёр, почёсывая на радостях затылок.
Сельский докторСей россейский гражданин страшно-располагающей наружности был квадратного вида. Развалив плечи на 60-й размер, при своем росте в метр семьдесят расправлял их назад так, что живот его выпирал вперед на добрый локоть. Ноги он имел похожие на два столба – короткие и крепкие. Ходил носками внутрь и передвигался с такой скоростью, что редкий человек смог бы за ним угнаться. Сверху на его мощную шею был низко, венцом насажен шар головы, покрытый короткой стрижкой, напоминающей щетку, подобно той, что чешут шерсть при линьке собак. Этот ворсистый шар превращался в голову благодаря пришлепнутому к нему добродушному лицу, глядя в которое никогда не подумается, что вот этот вот милый человек сделает кому-то худо – открытая благая улыбка, растущая из лица, была привычным делом. Уши по бокам были воткнуты круглыми монетками, точно застрявшими в монетоприемнике. Подбородок редкий день не покрывала трехдневная, с сединой щетина, на манер шведской моды, а по-нашему так ужасно похожую на свиную щетину в шмате сала, что на столе ленивого хозяина встречается. Бывает, он потрет этот свой небритый подбородок, подумывая о чем-то вдруг взбредшем на ум, и отметит привычно так для себя: «Так ведь на все это Божья воля…» И тогда в глаза бросаются круглые ногти, отличающиеся светлостью на коричневых от загара руках.
Мужикам он был по нраву. Они находили в нем широкого собеседника и всегда были рады обществу с ним. Зачастую через них он становился не чужим и в их домах. Бабы, встретив своим практическим складом мышления по одежке, принимали его по уму и еще – корысти ради, потому как обстоятельства сближали его с женской частью аж до приличной «интимной» близости (!) – он был доктор, сельский фельдшер. По долгу службы лечил все болезни и знал о многих такие подробности, которые может знать только муж или, может, еще только подружка, самая что ни на есть ближайшая. В эту-то треугольную группировку вокруг, можно сказать, каждой женской единицы, проживающей в этом населенном пункте, затерявшемся в уральской глубинке, он втискивался четвертым, правда, конечно же, справедливости ради нужно отметить, что это все – исключительно по долгу службы. Раз уж перед ним раскрывались подобные тайны, то что другие? – Тьфу, да и только! В рамках присущей ей приличности каждая могла говорить с ним о чем угодно. Как с подружкой. Тогда как мужики в то время были спокойны и занимались своими делами, нисколько не беспокоясь, что их благоверная позарится на это добро под боком. Имея на себе столь невзрачную, не блистающую очарованием внешность, следовательно, для бабских бесстыдных, тлетворных помыслов он был совершенно неинтересен. В их неприличных фантазиях, рождающихся время от времени в бессонные, мартовские ночи, когда весна-блудница так беспардонно влияет на умы, до безумия будоража плоть всего живого, наделенного матушкой природой естественной потребностью в противоположном поле, в самую такую ночь «как их благоверный, в усмерть уставший за день нести в дом добро и благополучие, спит, их мысли эгоистично взметались ввысь и блуждали там по заоблачным далям аж до самого рассвета. И там, на седьмом небе безудержной, некрасивой фантазии на поверхность булькающей, улюлюкающей, восторженной, возбужденной серой жидкости всплывает какой-нибудь Радж Капур, Ален Делон, Муслим Магомаев или, на худой конец, сын председателя колхоза – пользы ради или, в таком ряде, лучше уж и сам председатель. А он – почему-то нет. Хотя тоже был человек хороший. Все его донжуанские похождения заканчивались одинаково – ничем. И проходили вот как, например: однажды встреча с Клавкой, повстречавшейся как-то ему на пути. Нет мужика в деревне, кому бы она не вскружила голову. Вскружит, положит в свою конфетницу, а как захочет, достанет и съест. Сегодня эту начинку, завтра – другую. И огонь, и вольный ветер в голове.
– Привет, Клавдия! – поздоровался он.
А она, как обычно не здороваясь:
– Ты опять куда-то со своим чемоданчиком намылился, – всколыхнула студнем и без того манящие формы под широким халатиком, что по обыкновению всегда был на ней. Ее плодово-яблочное лицо смотрело на него широко раскрытыми ядреными глазами. – Что пропеллер по деревне носишься, мигалку еще на лоб нахлобучь! – заразительно смеялась она.
– Что поделаешь, – состроил он все своё добродушие, как на параде, сквозь которое из-за угла пялил алчный взгляд на ее животрепещущее пламенем тело, – а ты все мужикам кровь кипятишь.
– На то они и понатыканы кругом да рядышком, чтобы кипятить их, – говорила она и, склонившись ближе к его уху, чуть тише, лукаво, толкнув локтем в бок: – Только твоя что-то, как антифриз в радиаторе.
– Да иди ты! – отмахнулся он.
– А ты пригласи на чашечку чаю да стопку водки, там вместе и сходим! – звонко рассмеялась она.
Он потер подбородок.
– Хм! – хмыкнул он и на ум пришло: «Ведь не придет!» – а вслух: – Заходи, время будет! – А про себя снова отметил: «Авось!»
Клава кокетливо повернулась так, что халат слегка распахнулся, вознаграждая его скрытые надежды до умопомрачения глубоко вскрывшейся на мгновение только для него ляжкой.
– Что бы вы без нас делали! – напоследок сказала она и, порождая новые скрытые надежды, добавила: – Как-нибудь. – И заторопилась дальше по своим бабским делам.
«Огонь баба!» – думал он, глубоко вздыхая и шагая дальше, и вслед за сожалением о Клаве закружились в голове мысли разные, от нечего делать коротая дорогу. В голову забредало все, что ни попадя. Злой человек на его месте, к примеру, думал, негодуя черной завистью, видя поднявшийся добротный сруб нового дома соседа «Чтоб он сгорел!», а добрый по тому же поводу, от доброй зависти, захочет сделать что-то получше. Ему же в тот момент ничего такого на ум не захаживало, а все больше что-то попроще, например как: «К Петьке надо бы забежать, укол поставить. Угораздило же его посреди лета простудиться… Так, глядишь, и без сена нынче останусь, не поспею, – думал он, с тревогой видя свежие чужие стога. – А у Клавки и дочь уже невеста, – думалось ему, уже заприметившему подрастающую юную красоту, идущую навстречу: – Все уже про мать понимает. Нет на Клавку мужика, разок-другой вожжами по ней пройтись… А по другому-то ведь и золото баба… Как все это запутано… Видать, на все на этой божья воля», – потирал он подбородок.
Откуда он появился, никто не знал. Вся его история для всех начиналась со дня появления его в недавнем прошлом в этой Богом забытой деревушке. Отчего он выбрал именно эту деревушку – всем тоже было неведомо. Появился из ниоткуда, купил себе за бесценок старый, ветхий домишко, неказистый, покосившийся боками, довольно-таки уставший и нуждающийся в человеческом сочувствии. Подлатал его, поддомкратил, приподнял с колен, придал вид, как подобно придает себе вид приличный человек – и с тех пор живет себе преспокойненько, определив для себя в этом месте пребывание в этом мире. Лечил людей. Лечил от малого до великого, что, впрочем, вряд ли покажется странным для сельского доктора. Какой-то сгусток живительной энергии забрался в него всем своим целиком и сидит там сам себе на уме, благотворно влияя на больных.
Однажды довелось мне быть свидетелем того, как он делал небольшую операцию одному бедолаге на его указательном пальце, извлекая из него занозу. Когда-то этот пришедший к нему невнимательный к себе гражданин сунул куда-то свою руку и, судя по последствиям, туда, куда ее совать не следовало бы. И порезался невзначай о стекло. Тогда-то и остался обломившийся маленький кусочек от этого стекла в пальце, да так и зарос в нем, нет-нет, время от времени напоминая о себе неприятным покалыванием. Несколько месяцев собирался он к доктору, да все откладывал, духом собирался… Ну и решился наконец-таки. На беду на свою для смелости принял двести на грудь и предстал перед известным нам доктором во всей своей отважной наружности. Вывалил руку на стол, а тот укол, что обезболивает, поверх тех его двухсот взял, да и не подействовал. Доктор – тот свое ремесло знает. Дело делает. Полоснул палец, аккуратно так – даст Бог, потом и шрам поменьше останется. Да и давай в его трепетающих развернутых внутренностях выискивать так беспокоящее пациента инородное тело. Скальпелем его чувствует, скребется об него, а пинцетом ухватиться не может – мал уж очень осколок этот чертов, все за живую плоть норовит ухватиться. Больной весь бледный, что снег сидит, ни рыба, ни мясо, зубы стиснул – вот-вот в обморок опрокинется. В тот момент вся его двухсотграммовая храбрость в один момент выветрилась. А на высвободившемся месте смелые мысли пытались сформироваться, в хороводы выстраивались и в дырки глаз с испугом выглядывали – что там творится? и мелькали: «Раз уж пришел, то обязательно досижу… Еще чуть-чуть… Нет, вот еще самую малость… Вот он уже, скребется! Досижу! …?» А доктор снова за мясо.
– Ой! – вскрикивает бедолага.
А в ответ слышится.
– Ничего-ничего, уже почти все.
И вот это одно его «почти» его едва не роняет бедолагу в обморок. Но он смелый, пыжится, крепится и… досижи-в а ет.
Если б кто-то видел в тот момент доктора, то непременно сам бы взялся этот рассказ рассказать: и пыхтит, и кряхтит, губы кусает, каплями пота, что окно в дождь покрылся. Промеж дела вздохнет глубоко и дунет себе на нос – это он так пот с носу сдувает… глупый! Да разве ж соленую каплю так просто с носу сдуть? Она ж хитрая – в ответ примет обтекаемую форму, пропустит по себе направления ветра из его рта и опять за свое, поганая – давай снова стекать на кончик носа и там собираться, назойливая собака. Себе на голову выводит, дура, пока, наконец, он ее с психом по рукаву не размажет. И копошит, и ковыряет, точно это зараза с ним игру затеяла в прятки, а он в галях числиться. Как все приличные доктора он обязательно давал клятву Гиппократу, а, когда я видел его, склонившимся над чужой болью, мне подумалось: может быть он и зря тогда этим занятием себя утруждал? Она и так над делом вся вырисовывалась до последнего слова на сморщенном от напряжения лбу, прямо промеж вздувшихся усердием вен.
Был еще случай и со мной. Прихватил как-то у меня зуб. Стоит ли говорить, что это такое? Стены начинают казаться скалами, которые жутко хочется облазить вдоль и поперек. Нет такого человека, кого бы та моя беда хоть разок не коснулась. Докторов я боюсь, как черт ладана, за версту завидев, обхожу, а тут боль меня за руку взяла и к доктору бегом пригнала. С должным гостеприимством он принял меня, усадил в кресло, взял сверло в руки и глянул на меня (!), так тут вся кровь, что была в моих жилах, разом остановилась и попятилась вспять. Лучшее, что тогда я мог сделать, так это закрыть глаза от греха подальше. Душа к тому времени уже прочно обосновалась в пятках. Сижу и с перепугу разглядываю веки с той стороны в ожидании – что будет. И что чувствую? Ощущение такое, что этот доктор, такой милой наружности, всей объемностью этой своей наружности нырнул в мой зуб, и только носками ботинок уцепился за кромку дырки зуба, и в таком вверхтормашечном состоянии прямо на таком весу лаз для себя внутри высверливает. Так и просидел я, с силой жмуря глаза из боязни, что они сами непроизвольно откроются. И я его перед собой не увижу – чем черт не шутит, ведь ощущения-то были! Тогда следующий мой медицинский кабинет – кабинет психиатра. А как почувствовал, что он оттуда все-таки выбрался и лаз за собой заделал, так я глаза и открыл. Вместе с возвращением к свету мир перевернулся обратно в мою сторону передом, и широко, приветливо улыбался лицом этого доктора. Вместе с тем охватило облегчение – зуб как и не болел вовсе. Даже хотелось этого доктора в знак благодарности покусать. Рассыпавшись в благодарности глупыми похвалами, я пытался хоть на мизерную долю выразить свое облегчение. В ответ он только добродушно скалился и, разведя руки в стороны, щурясь, приплюснув один глаз, говорил:
– Доктора вату не катают!
Только дома, длинными, одинокими вечерами забирала тоска. Дело себе ищет: то постирает что, то приборку совершенно необязательную на сегодня устроит, то что-то по хозяйству отыщет что сделать. А то и просто затопит печь – потрескивает, душу колет, наварит картошечки в мундире, достанет из погреба грибочков да огурчиков, выпьет водочки в одиночестве, усадит котёнка, что давеча около магазина подобрал, себе на колени и бурчит, захмелевший, известный мотивчик себе под нос. Развеет тоску и на боковую – под пуховое одеяло. А котёнок по обыкновению мурлыкается в головах. Одно только тешило – завтра снова к людям.
Че откуда беретсяВсяк добрый человек, впервые вступивший на верхо-турскую землю. Тотчас же начинает на себе испытывать благодать, внезапно непонятно как образовывающуюся вокруг него. Местные жители этого состояния уже и не замечают, может, оттого, что они сами, в какой-то мере, пропитаны ею, может быть, самую малость, но обязательно пропитаны. Потому что живут внутри неё. Потому и не замечают. Внешне по ним это совсем не заметно. Тут в шутливой форме можно было бы привести сравнение: это как если бы северный гражданин из тех широт, где растут жимолость, земляника и ещё десяток даров – небольшой выбор, кроме которых остальное он мог видеть только в сезон на рынке, и вдруг он оказался в южных широтах, изобилующих различными фруктами. Где что ни палка в земле с листочками, так фрукт – во рту тает. Оказался в тот момент, когда, скажем, спеют абрикосы. И этих деревьев вокруг стоит, прямо посреди города, столько же, сколько ёлок в лесу в тех местах, откуда он прибыл. Вся земля сплошь усыпана спелыми абрикосами. Ветки до земли провисают. Ешь – не хочу! Дворники не успевают их с тротуаров сметать, точно листья в осень. Так только она ж никчёмная. А тут – абрикос! Южане идут и топчут их! И северный гражданин тут не выдерживает и от изумления восклицает:
– Вы их что, не едите что ли? – рассеянно пожимает он плечами озираясь вокруг себя.
Для местных жителей, мало видавших другие края, сей северный гражданин представляется в непонятном и комичном образе.
«Удивляться абрикосам!? Чудные они, эти северяне!»
Так и для Верхотурца благодать эта является обычным и каждодневным делом. Живут в ней и не замечают её. Привыкшие они просто.
Морозным январским утром, искрящим от сугробов ослепляющими лучами холодного низкого северного солнца, на привокзальной площади стояла старая шестёрка. Хотя было уже светло, но на крыше над водительским местом горел фонарь с шашечками, и со стороны сразу становилось ясно, что этот автомобиль есть местное такси. Движок мерно трудился, нарушая утреннюю тишину. Таксист спал… Из выхлопной трубы паром, клубками вылетал тёплый воздух, остывал на морозе и растворялся. Возраст машины определялся во всём. Начиная с номеров, отчеканенных ещё в те времена, когда регионы не обозначались номерным кодом. Кузов не единожды подвергался шпаклёвке и покраске. В бликах солнечных лучей все неровности различались особенно. И сейчас совсем недавно зад машины претерпел аварию – нанесена шпаклёвка и ещё не закрашена. Крылья по контуру колеса просвечивали ржавчиной. Вопреки своей внешней невзрачности двигатель Жигулей работал чисто и ровно. Диски колёс врезались в утрамбованный снег новыми зимними покрышками с серебреными точками шипов. Приборная панель отполирована до блеска. Под ногами – мытые резиновые коврики. На сиденьях – новые чехлы. Машина вся была обласкана вниманием; хозяину оставалась не подвластной только ржа на кузове, автомобиль неумолимо старел вместе с ним…
Спящий таксист имел на себе довольно не броскую внешность лет шестидесяти от роду. Всю свою сознательную жизнь он отработал в таксопарке таксистом, и принадлежал к поколению строителей сначала социализма, и затем коммунизма. Свято верил в партию и Бога. Как это одновременно в нём сочеталось в одном – было непонятно, как, впрочем, не понятно и то, что это сочеталось так же и в любом другом его современнике. Это непростое положение вещей он объяснял просто: коммунизм – это понятно, это на земле, это чтоб жить достойно, это чтоб внуки достойно жили. А Бог – это то, что после… там… по завершении, когда на земле поживёшь… Когда помрёшь…
От этого вопрос перед ним стоял всегда один: с каком виде появится он там…?! Когда помрёт… Оттого и всю жизнь старался. С полной самоотдачей строил коммунизм, ставил свечку по церковным праздникам у иконостаса за дверцей в шкафчике, чтоб никто не видел, и бормотал себе под нос одну и ту же молитву, за незнанием других.
Грянули перемены… Пришёл капитализм… Таксопарк себя изжил… И извоз, как в старые добрые времена, перешёл в частные руки. Отца он своего не помнил, в войну сгинул, без вестей пропал. А деды – те все в поколеньях извозчики. И они тоже о внуках тогда тоже помнили. А то как же! Старики сказывали: давно, ещё в позапрошлом столетии, тянули железную ветку под паровоз на север, города промеж собой соединяли. Когда черёд до Верхотурья дошёл, так извозчики местному начальству хитрость одну подсказали: деньги городу сэкономить, угол срезать. Ветку эту железнодорожную в нескольких верстах мимо города пустить. И извоз увеличится: мужики при деле и деньге, и казне прибыток и экономия. Начальство выгоду углядело. Налог не с чего брать, производства нет, монастыри одни, у них своя бухгалтерия, а тут какая никакая – деньга. Извозчик в те времена в спросе был. Так и сделали. Станция и сейчас в восьми километрах от города. Хош не хош, а пешком далековато. Так деды и нынешним мужичкам работку дали. Правда, времена изменялись, дорог настроили. Паломник нынче автобусом едет. Группой в автобусе дешевле. Да Бог без хлеба не оставляет. Одиночками тоже едут… Немного…
Таксист был небольшого роста, под метр семьдесят, около того, имел худое остроконечное лицо со стреляющими из него глазками, оценивающим взглядом. Взгляд его с годами отработался самопроизвольно, из необходимости в одно мгновение определять пассажира и его возможную платёжеспособность. Несмотря на зиму, одет он был легко. В здешних местах, недалёких от заполярного круга, морозы по зиме встают крепкие. Случись что, машина вмиг стынет. В куртке да летних кроссовках много не наремонтируешься посередь дороги. Голову туго обтягивала спортивная шапочка. Тут он и в мыслях не допускал поломки – все винтики сам закручивал, не должно, уверен.
У вокзала он ждал электричку. Она вот-вот должна прибыть из соседнего – Нижнего Тагила. Редким днём он не брал с неё пассажира. Хотя и тут время года не очень обнадёживало. Самое неприбыльное. Редко кто в это время едет к святым местам. Рождество прошло, школьные каникулы закончились, крещение минуло. Теперь до пасхи… Если только кто случайный, отпускник соизволит или командировочный прибудет. Может случиться и так, что и никого не будет. Не стоять тоже нельзя. Мигом место конкуренты облюбуют. Двигатель Жигулей мерно работал, таксист мирно посапывал, бензин тратился.
Он проснулся под знакомые звуки. Электричка, гудя на всю округу подшипниками колёс, влетела на станцию, резко затормозила, двери с шипением хлопнули, распахнулись. Прошло меньше минуты, как двери вновь зашипели, захлопнулись, и электричка умчалась дальше. Человек пятнадцать со всего состава остались на перроне. Добрую часть забрало маршрутное такси, остальных встречали со своим транспортом. Случилось так, как и предполагал – пассажиров не было. Степаныч лениво включил передачу, хотел было трогаться, как в эту минуту увидел запоздавшего гражданина, растерянно стоявшего в том месте, где только минуту назад стояла маршрутка. Расстроенный, он беспомощно озирался по сторонам. Степаныч выключил передачу. Отставший гражданин с досадой махнул рукой и направился к нему. «На этом много не накатаешь», – думал Степаныч.
Пассажир тяжело шагал к нему.
Это был старик, худой и сутулый, в пальто с каракулевым воротником, весьма модным в семидесятые года и выглядевшим сегодня весьма раритетно, голову покрывала белая кроличья шапка с бурыми пятнами, придававшая его облику ещё большего раритета.
– Тута монастырь есть, мне бы от до него… – неуверенно просил старик приоткрыв дверцу..
– Так их тут два, тебе мужской или женский нужен? – спрашивал Степаныч.
Старик переминался с ноги на ногу. Нежелание тратить деньги на такси свербело во всем нутре.
– Ак это… к мужскому, – говорил старик.
Услыхав цену, он воскликнул:
– О-о-о! – протянул пенсионер удивлённо. – Ты меня никак на край свету! – он замялся: – Монастырь, он от за городом чтоль? Далеко? – спрашивал он.
Старик не ожидал этого. В уме прикинул – туда, да потом оттуда. То ж сколько получаться будет?
– Монастырь в городе, станция стоит за городом, – объяснил таксист.
«И так тоже дорого, – считалось у него на уме. – Не поеду».
– Я этим… автобусом, – отказался он, чувствуя себя виноватым оттого, что зря побеспокоил человека при деле, – дождусь, – закрывал он дверь.
Степаныч пожал плечами.
– Следующая маршрутка к дневному поезду будет. Часов шесть просидишь.
Старик закрыл дверь и побрёл в вокзал.
Степаныч ехал и думал: «Старика и взять можно было… Пустой еду. Не на себе ж вез бы. И в половину сошло бы. Не велики деньги… Но хоть что-то… Бензин вернуть – и то дело. Мне бы, дураку, сегодня на безрыбье и этим довольствоваться! Что ты! Скряга. Зажадничал. Разжирел. Хапуга!» – обзывал он себя.
Уже с километр проехал Степаныч, да тут не выдержал. У ближайшего придорожного магазина развернулся и помчался обратно.
– Чё откуда берётся?! – удивлялся он сам себе.
Он нашёл стрика в пустом зале вокзала, тот сидел на скамейке и пусто рассматривал улицу в окно.
– Айда, давай поехали, – подхватил он с соседнего места суконную котомку старика, – вполовину увезу, – воскликнул Степаныч. – А и совсем не уплатишь, так беднее не стану, – щедрился он.
Старик шустро семенил за Степанычем. Он на добрых десятка полтора, а то и два постарше Степанычу приходился.
– От ведь, на минутку токмо в вокзал, расписанье глянул, она и хвост уже указала! – досадовал пенсионер на водителя маршрутного такси. – Эдь оно это… понимать же должон! Может, кто в туалет, аль билет в обратно, всё торопятся, не успеть боятся, только куда не успеть – сами не смыслют… – ворчал старик.
– Чё откуда берётся?! – соглашался Степаныч.
– Такая известность местности, – не унимался старый, – и такие неудобства. Не правильно всё это. Организация никудышная.
– Сократили рейсы, не выгодно, – говорил Степаныч, – какой смысл полтора человека возить, объясняют: технику насиловать, бензин жечь. Паломники нынче автобусами едут – выгоднее и дешевле, и по расписанию, и комфорт известный. Экономия! – язвительный оттенок пробивался в интонации.
– Экономия! – безобидно дразнил старик.
Дальше ехали молча… Минут пять…
– А я вот дикарём решился! – вдруг неожиданно, с восторгом воскликнул старик.
– Чё так? – удивлялся Степаныч. – Экскурсией ж дешевле. Всё расписано. По порядку. Без накладок.
– К святым мощам, – восторг старика неожиданно сменился на грусть, – и по расписанию… – он помолчал немного и добавил: – Неправильно это.
Степаныч кивал головой, соглашался.
– Ак это, гостиница тута есть? – сменилась грусть старика на интерес.
Степаныч удивился. Или что-то не допонимал.
– Есть одна, «Соболь», – отвечал он.
За день все места не торопясь осмотреть можно. Есть ночной поезд.
– На кой ляд тебе гостиница понадобилась? – недоумевал он.
– Так это, я ж не одён тут завтра буду, мне ж не сегодня надо, ночью внучатки свердловским будут. Я тэк это, поранее, в разведку… Опять ж, кскурсовод – он тут нужон. Всё чин по чину буду сорганизовывать. Чтоб не без толку глазеть, а рассказ услышать, с пояснениями. Всю жизнь мечтал тут побывать. На иконках видал. Вроде рядом совсем, недалече живу, быват и гордость возьмёт, а в иной раз аж стыд забирает. Всё суета, всё не до Бога. А щас, к концу-то, что-то места не находит от тута, комок, – он постучал себя в грудь, – спокою не даёт. Одним временем с детишками думал, с ими не обдосужился, повырастали мать их, ничё не надо имя… так внучаток уж не пропущу, покажу, и себя старого уважу. Деньжат копил, тяперяче только сподобился, боялся, не успею. Как жо тут без кскурсоводу-то.
Степаныч чесал затылок.
– Есть и гостиница, и экскурсовод. Только одна гостиница тебе встанет в полпенсии, а то и поболе, да экскурсовод около того же. Не малые деньги. Так ты и машину намерен брать небось. Если всё смотреть собрался.
– Всё, – соглашался старик, – никак не менее. Тогда зачем я здесь… – он насторожился: – А машина то зачем?
– Мощи Семиона Вехотурского обретены были далеко от города в семидесяти верстах, в Меркушено. В копеечку влетит.
Старик снова замолчал… Расстроился… Слеза накатилась ему на глаза. Он то и дело загибал пальцы. Не получалось. Махал рукой и начинал снова гнуть. Потом шептать начал:
– Ну, от… в гостиницу не пойду, на вокзале заночую, полторы тыщы экономии, – гнул палец, – без транспорту… без него тут никак, – держался он за другой палец и не гнул, – кскурсовод… эх ты, мать честная, как же тут без кскурсоводу-то.
Глаза старика намокали ещё больше.
– Как же без него-то? – повторял он раз от разу.
Бухгалтерия старика никак не выходила в его сторону. Степаныч понимал состояние старика. Выходило, что не получается у старика всё, что он задумывал. Следующего раза может и не быть. Оттого и плакал старик, не стыдясь, только отвернувшись в окно…
– Зря ты в автобусе паломником не поехал, – заметил Степаныч, – для таких, как ты, это хороший выход: и экскурсовода, и автобус на всех поделят, доступнее получается. Сущий пустяк был бы в сравнении, чем вот так.
Полные слёз глаза с удивлением смотрели на Степаныча.
– Чудак человек, – он не мог понять – как так, не понимать простые правильные вещи, – я же говорю: я хочу тута побыть, подышать, всё своим мозгом осмыслить, а не на часы глядеть. Чтоб не по расписанию. Чтоб правильно. Чтоб по душе получилось. Подороже маненько… Пусть…
Старик опять замолчал.
– Кскурсовод не получается, – с горечью заговорил он вновь.
Пассажир пассажиру – рознь. Иного с удовольствием везёшь. Этот и вовсе за душу взял. А иного и на первом километре ссадить хочется. Вчера вёз одного.
– Чё откуда берётся?! – вспоминал он.* * *…Он заглядывал сквозь приоткрытое окно.
– Свободен?
Степаныч в ответ молча кивнул. Пассажир ввалился на переднее сиденье. Салон наполнился пивным перегаром. В слащавом его лице совмещалось два зверька – хитрый лисёнок и злобно подлая крыса.
– В монастырь, – приказал он.
Степаныч молча глянул на него и тронулся с места.
– В какой? – безразлично задал он привычный вопрос. Редкий приезжий знал о втором.
– Их тут что, много?
– Два, – отвечал Степаныч. – Мужской и женский.
– Женский! – в восторге воскликнул пьяный пассажир. – Ха-ха! Вот бы туда на пару деньков… а, дед! – воодушевленно хлопнул он Степаныча по плечу.
В ответ Степеныч не поддержал пьяного задора неприятного пассажира, брезгливо посмотрел на него… Промолчал… Вёл машину дальше…
– Мне в тот, где святой местный лежит… Проведать хочу. Как его? Ну, похоронен тут который? – он не мог вспомнить. – Да как же его? – силился он.
– Святые у нас в трёх храмах покоятся, – говорил Степаныч.
– Да! – удивлялся пассажир. – Я одного только знаю, и того вспомнить не могу, – не стеснялся он своей малограмотности. – Самый главный который… Во! Верхотурский! Он там, где раньше тюрьма была.
– К Симеону.
– Во-во, к Семёну Верхотурскому.
Степаныч ехал и злился. На что – и сам понять не мог.
Чё откуда берётся?!
Ему почему-то вдруг казалось, что это он виноват в том, что вот этот вот гражданин, а по его разумению: низшей ступени развития, сам не понимает того, насколько низок. Ещё в том виноват, что он не в силах ничего изменить. Становилось грустно и тошно. Чтоб погасить неприятное состояние, Степаныч начинал думать о постороннем. Но в таком тошнотворном состоянии и мысли лезли в голову какие-то соответственные.
Он вспомнил, как недавно ехал порожняком, так же не было пассажиров, так ещё и в аварию попал. «Чё откуда берётся?!»
…Ночью было дело. Ехал после свердловского, понедельник… пустой день. Ближний свет не отрегулирован тогда у него был. Фары новые поставил, настроить не успел. Близко очень фары били, метров в пять, дальше ночь стеной – черным-черно – тёмная встала… А ведь уже по городу ехал! На столбах освещение к тому времени потухло уж. И не быстро ехал… И на тебе! Из подворотни прямо под колёса шасть дворняга. Степаныч по тормозам… Стукнул… Скулит под машиной. С досадой ударив руль он крикнул: «Чё откуда берётся?!…» И тут… он одно мгновение видел в зеркале заднего вида яркий свет, визг тормозов, удар… и Жигули прыгнули на несколько метров вперёд.
– Да что ты будешь делать! – в сердцах бросил он. – Одно к одному!
Отстегнув ремень безопасности он вышел из машины и заглянул под машину. Пса под машиной не было. Он был уже метрах в двадцати: припадая на правую сторону, давал дёру. Отлегло…
– Добро, залижется.
Шестёрку сзади подпирал мощный джип. Бампер иномарки лопнул, треснула решетка радиатора, осколки фар рассыпались по асфальту. В окно высовывалась коротко стриженная голова и материлась. Зад шестёрки – в лепёшку. Степаныч отмахнулся, сел к себе в машину, достал мобильник и вызвал гаишников.
Громила из джипа уже стоял около Степаныча. Кричал на Степаныча что-то вроде, как его долбаной шестёрки не хватит рассчитаться с ним. Хозяин джипа брал на арапа.
Степаныч не спасовал. Всю жизнь за рулём. Этот во внуки годится. Взять бы ремень да по голому заду, чтоб знал, как со старшими разговаривать, коль родители не научили.
– Правила надо соблюдать, – бросил он ему.
Вышел из машины и, успокоившись, начал рассматривать разбитый зад шестёрки. «Обратно время не отсчитать. Страховка будет. Мастера есть. Восстановлю за недельку», – думал Степеныч, сожалея о потере недельного дохода. В шоферском деле такое с каждым может случиться.
– Какие правила?!
Надвигался громила, задетый тем, что какой-то паршивый таксист смеет ему указывать.
– Дорожные, – спокойно отвечал Степаныч.
Он опять сел в машину. Громила не посмел развивать конфликт со стариком дальше оскорблений… Чувствуя возможность неприятностей с законом. Напугать старика он не смог. Степаныч думал: «Не мой день».
– Давил бы её, сучку! – свирепел громила, узнав причину внезапной остановки Степаныча.
…Через два часа Степаныч ехал домой. Аварию запротоколировали быстро. Вопросов в виновнике не возникло.
– Чё откуда берётся?! – не первый раз повторял он.
«Живая же тварь… Железка ремонтируется… Она ж сколь теперь болеть будет… Пока залижется. Неужто и правда не жалко им…»…
…«Вот ещё один»…
Пассажир пил пиво. Только выехали со станции.
– Пожар что ли был? – вертел он головой.
Проезжали пожарище. Погорело домов без счета.
– Был, – немногословно отвечал Степаныч. Не хотел он говорить с ним. Он хотел скорее от него отвязаться.
– Во полыхнуло! – восторгался он, не прекращая вертеть лисью голову.
– Горе тут прошло, столько домов сгорело – тебе радость! – не удержался Степаныч.
Пассажир на минуту примолк.
– Вот тут, в самом центре пожарища, видишь избёнка – то лавка, утварь церковную торговали здесь, иконки, – почему-то говорил Степаныч. – Всё пожгло, чё откуда берётся, она осталась, убереглась.
«К чему я ему всё это говорю?» – ловил он себя на мысли.
– Не чудо ли? Спрашиваю я тебя. Тлела боками, а устояла.
– Хе-хе! – смеялся Пассажир. – Какое же тут чудо! Повезло лавке. Пожарче случись, и она полыхнула бы. Вы старики такие интересные, всё в чудеса верите.
– Не чудо ли? – совсем осерчал Степаныч. В спор бесполезный кинулся. – Пять святых с махонького клочка землицы уральской. Где ты такого видал? Да сюда с верой люд с самого Киева пешком ходил, не по одной паре лаптей стаптывали, со всей России шли! – кипел он.
– У-у-у! – слышал Степаныч в ответ, – когда это было, – безразличие пассажира заводило, подобно детонатору. Вот-вот сдетонирует. – Слухи и бредни всё. Из века в век сарафанили языком. Почему тогда, ты мне дед ответь, в наше время святых нет. А я тебе отвечу. Да потому, что в наше время мозги трудней пудрить. Телевизор… Интернет… Газеты… Всё на виду. Век информатики. Любое ваше чудо можно проверить и доказать, что никакое это вовсе не чудо. Враньё… И доказывают. Предки сами придумали и сами же поверили. Через поколения сказки передавали. Нет чудес! Их чтоб вас малограмотных за нос водить и управлять вами безграмотными придумали. Нет чудес!
– Есть! – зло бросил Степаныч.
Степаныч хотел рассказать об одной женщине. Она сейчас в городе живёт. Великой души человек! Большой души человеческой баба! Святой её никто не считает. По-соседски кто за луком иль спичками разжиться забежит. Кто просто поболтать. Русская баба. Бывает, с кем и поругается. Не без этого. Так фольклором наподдаёт, мало не покажется. Но тот, кто её историю знает, тот в первый раз даже теряется. Верить ли, не верить ли. Правда ли. Святой души человек! А так – просто баба! Хочется верить – ещё такие есть, не одна она. Для Степаныча она всегда являлась сотворённым чудом. Кто знал её, похоже думал. Про себя, не желанием сменным показаться. Хотел он о ней рассказать, да передумал. Толк в этом не видел. Как представил, как вот это «хе-хе» осквернит дорогое, так его передёрнуло.
Сдетонировало:
– Ждут ли тебя мощи нетленные человека, что нёс веру и помощь бедному люду, мощи того, кто шил одежды бедняку и денег не брал, уходил, не пришив только последнюю пуговицу или не сделав последний стежок, такой, который любой сам мог сделать, уходил, пообещав назавтра вернуться доделать и не возвращался. Хотят ли они видеть твою пьяную харю! Попроведать он приехал! Клониться к ним добрый человек едет. Проведывальщик! – Степаныч съехал на обочину и приказал: – Выходи!!
Пассажир заёрзал.
– Ты чё, дед? – не ожидал он такой прыти от молчавшего доселе Степаныча. – Пошутил я, – не хотел он идти дальше пешком.
Как раз на половине пути встал Степаныч.
– Выходи! – Твёрдо приказывал он.
Не впервой Степаныч возил неприятных пассажиров. Впервой высаживал. Не сдержался. Многие не с тем умыслом едут. Скромнее правда. С любопытством. Этот совсем тяжелый какой-то. Пусть едут. Здешний дух в другие места с собой привезут. Возле себя подержут… Выветрится… Хоть сколько-то подержут. Месяц… День… Час… Этот? Пьяный же. Куда его?! Путался Степаныч. Осерчал он от ухмылки, которую мог увидеть в ответ на рассказ, который хотел было уже рассказать. Может, зря… Веру бы увидел и то штришок добрый на его сердце, хоть маленький, да вдруг задумается… Да будет. Сделано…
Пассажир вышел, психом хлопнув дверью. Денег не предложил. Степаныч бы их и не взял. Такие деньги впрок не пойдут. Не верил Степаныч, что деньги не пахнут. Пахнут, ещё как пахнут! Не раз он это говаривал.
– Чё откуда берётся?! – рванул он своего жигулёнка с места.* * *Старик сидел, вытирал платком глаза. Этот совсем душу растеребил. Куда ж его?
Асфальт не торопливо подстилалось под колёса.
«Чё откуда берётся?!»
– У меня переночуешь, – сказал он старику, – ночью детишек встретим и экскурсию я тебе лучше всякого экскурсовода расскажу, – и чтоб старик совсем не беспокоился, добавил: – Не горюй, дед, решим твою проблему, много не возьму.
Старик всё же засомневался… Не в цене. В другом…
– А выдюжишь? – склонился он вперёд и снизу вверх заглядывал в глаза Степаныча. – Кскурсию справную дашь?
Удовлетворённый молчаливым ответом, выразившимся всезнающей улыбкой, пассажир уже в поднявшемся настроении стал размышлять:
– За ночлег благодарствую, экономия, тебе деньжонки полезнее станутся. Семьдесят вёрст, говоришь, ехать нужно? С тобой тоже не прогадаю… – Он снова засомневался: – Но пояснишь ли всё, сможешь? Правильно будет, коль соглашусь?
– И не сомневайся даже! – радостно воскликнул Степаныч. Радовался он, что завтрашний день без работы не будет, и ещё тому, да как-то по детски – сэкономленным стариковским деньгам. Глянулся старик Степанычу. Тут любой местный горожанин сызмальства историю лучше всякого учёного экскурсовода рассказать может, да поинтересней расскажет. Тут как-то случай был, – рассмеялся он. – Экскурсоводша молоденькая такое загнула: хош стой, хош падай. Она говорит: в месте, где обитал Семион, в Меркушино – Христа распяли. Те, кто до этого в экскурсии были, у виска пальцами покрутили и слушать дальше перестали. Вот и смотри, что они тебе в следующий раз расскажут. Где только их учат? Чё откуда берётся?! Весь город смеялся.
– Согласен я, – сказал старик, – машина твоя справная, тёплая, детишки не помёрзнут. Согласен я.
Он так обрадовался разрешенной проблеме, что, сам того не замечая, отстукивал кончиками пальцев по коленям. Первый раз он здесь. Вертел головой по сторонам. Глаза его просохли. Земля чудес завораживала.
– Ко мне едем, – подмигнул Степаныч.
– Погодь-ка, – встревожился старик, – домочадцы твои противиться не станут… чужой человек… не знакомый… в дом.
– Из домочадцев только баба моя – Лиза. Лиза, Лиза, Лизавета, зимы теплее, краше лета, – пропел Степаныч. – Ей новый человек в радость только будет. Лиза за день так намолчится, я уставший приеду, ей поговорить нужно, мне не до неё, донимает… Вот я и отдых дам себе за счёт тебя, – хихикнул он. – Опять выгода. Она сейчас баню топит, попаримся, косточки твои прогреем. Баба моя квасок знатный настаивает. Достанем холодненького из погреба. Ядрёного… – самодовольно ёрзал Степаныч по сиденью. – Так что готовься, прорвёт её…
Через несколько минут они въехали во двор дома Степаныча.
Старик проснулся поздней ночью. Спать его положили в большую комнату на широкую кованую кровать, какие ещё до войны ковали, заправленную взбитой по старинке пуховой периной и этажеркой сложенными на ней подушками разных размеров от большей к малым. Наполненная теплом перина окутала старика, согревая его тело: кум королю, барин барином! Старику у доброго человека в добром доме было уютно и чувствовал он какое-то умиротворение. Взволнованное ожидание предстоящего дня разбудило его и уже не давало ему спать дальше. Он лежал, закинув руки за голову, и слушал звонкую темноту ночи. Иногда до него доносились скрипучие звуки с морозной тропинки под ногами запозднившихся путников, отдалённый лай собак, в ответ которым отзывалась и собака доброго человека под окном во дворе. В такой момент добрый человек ворочался за стенкой в соседней комнате и недовольно ворчал через сон себе под нос: «Чтоб тебя побрало…» И опять засыпал, уже привыкший к подобным пробуждениям. Полной грудью старик вдыхал уже давно забытые запахи, какие бывают только в срубленных деревенских домах, в которых непременно сложена русская печь; запахи такие совершенно напрочь отсутствуют в городских каменных клетушках; и они, вдруг неожиданно пробравшись в ноздри, начинают баламутить в сознании и обязательно найдут там ностальгию, в которую тут же тот человек, корни которого идут из деревенского образа жизни, через чей нос они в него попали, обязательно в эту ностальгию и впадает. Различались запахи печных углей, а то вдруг пахнёт опарой. Жена доброго человека задумала побаловать гостей пирогами, и опара уже дображивала на печи, кисло-сладкий аромат её расстилался по горнице. Аромат этот он помнил с детства… с тех пор… ещё до войны… когда его и ещё трёх братьев и двух сестёр не определили в детский дом… и мать ещё тогда жива была. И этот совсем невинный аромат всколыхнул горькие воспоминания счастливых времен, которых уже никогда не вернуть и которые тогда были так коротки. Потревоженная память выстроилась в воображение, в котором мать с самого рассвета хлопочет возле печи и этот же кислосладкий аромат опары, потревоживший старика, перерастал в плотный насыщенный аромат пирогов и свежеиспечённого хлеба. Казалось, что сейчас, с последним вытащенным пирогом, мать начнёт будить нас, но этого делать уже было совсем не нужно: запах пирогов сделал за неё это дело. Никто уже и не спал вовсе, и каждый из ребятишек, притаившись, ждал той минуты, когда мать позовёт к столу… Но была тишина… Ночь… Добрый человек посапывал за стенкой… И у печи никого не было. Пироги будут только утром, но запах опары уже рождал их вкус на его губах… Сорванцом он вскакивал с кровати, подбегал к столу, отрезал ломоть от каравая, наливал в крынку молока и уплетал, хрустя поджаристой коркой, за обе щёки… Старик лежал и тело его тихонько вздрагивало. Все спали, и слёз его никто не видел. Иногда он смахивал их рукой и впадал дальше в воспоминания…
Будильник отзвенел ровно в три ночи.
Старик услышал, как в соседней комнате добрый человек сначала ворочался, потом встал и начал одеваться. Затем он прошёл через горницу и вышел во двор.
Открывались и закрывались какие-то двери во дворе, послышался звук заведённого для разогрева двигателя. Когда добрый человек вернулся, старик уже сидел, свесив ноги с высокой кровати.
– Проснулся, – проговорил Степаныч.
– Я чутко сплю, – отвечал старик.
Он не стал говорить, что уже давно не спит. С малых лет он не чувствовал того, что пришлось ему почувствовать этой ночью и, по-детски жадный, не хотел ни с кем этим своим чувством делиться.
– Чай будем пить, или потом с детками позавтракаем? – спросил Степаныч.
Старик из одного возбуждённого состояния тут же впал в другое: в беспокойство о наступающем дне.
– Потом поедим, – как отрезал он, – не опоздаем к поезду-то, – встрепенулся старик, – поспеем?
– До поезда ещё час, ехать минут двадцать, ещё ждать придется, – спешил успокоить старика Степаныч.
– Ждать – не опаздывать, – отвечал удовлетворённо старик.
Поездка на вокзал и обратно заняла чуть больше часа. Машина опять въехала во двор. И из машины кроме Степаныча и старика выбрались два отрока шести и одиннадцати лет. Лица их были сонными, и глаза их закрывались на ходу. Попав в чужое, не знакомое им жилье, они пребывали в стеснении и вели себя смирно. Но это только, впрочем, пока; это только до тех пор, пока они не обвыкнуться.
С порога пахнуло пирогами. У старика с новой силой вспыхнуло ночное воображение, вновь всколыхнулись воспоминания, не дававшие ночью спать. Только теперь запах пирогов присутствовал в натуральном виде. И воспоминания эти так живо колыхнулись в его груди, что ему в буквальном смысле пришлось раздавить в себе желание: кинуться к столу, наполнить крынку молоком и, ёрзая за столом, со смаком уплетать ещё горячий хлеб. На мгновение он опять провалился в те далёкие детские годы. «Уходили, спала, – подумалось ему. – Не было-то нас всего ничего, а уже пироги в печи на подходе». Лизавета ловко управлялась у печи. Сразу тут же и на стол накрывала. Пацаны сидели смирно в сторонке. Они косились на печь, от которой до них доносился незнакомый им и так возбуждающий их аппетит аромат. Ждали… Наконец-то на столе появились пироги. Все вместе расселись вокруг стола. И – отзавтракали… Съели так помногу, что даже тяжко было: вкусно и тяжко. Время было ещё столь раннее, и можно было бы ещё спать. Уложили детей. Уложили на кровать, где прежде спал старик. Он же спать отказался наотрез.
– Жалко на сон тратиться, – категорично сказал он, – я от у печи побуду, посижу, русской печи-то почитай, сызмальства не видывал. Пахнет… – провёл он ладонью по воздуху.
Долго всё ж не усидел.
Опять тишина чуткая. Всё слышно. Добрый человек делом каким-то занят во дворе. Не получается это дело у него. То сплюнет впопыхах, то матюгнется в сердцах… Никак не получается.
– Чё откуда берётся! Мать её…! – неслось с улицы.
Старик подумывал выйти подсобить, да не всегда в руку помощь приходиться, зачастую только мешаешься. Поди разберись, как тут придется. Сдерживал себя.
Не выдержал потом, оделся, вышел. Степаныч копошился у двери жигулёнка.
– Замок вот в двери заедает, – увидев гостя, сказал Степаныч. – Старенькая уж, регулировке не поддаётся, мать её, – не стеснялся он старика.
Не пришлось чем-то доброму человеку подсобить. В этом деле совсем старик ничего не смыслил. Он повертел головой, разглядывая двор. Неожиданно глаза его по-молодецки вспыхнули: на верстаке лежал топор, топорище было сломано и торчало из него тёщиным языком. Тут же лежало и новое топорище. Нужно было только его подогнать и насадить. Ловким движением он выбил из топора обломок и умело насадил топорище. Степаныч видел, чем занят старик. Он бы и сам его насадил, как время б выдалось. Но старик был так увлечён и удовлетворялся работой, что он не стал ему мешать.
– Помнят ещё, – показывал он на руки, в которых красовался ладный инструмент, – не забыли. Складный нструмент в деле – первейшее дело, – гордо вертел он топор в руке. Я-то до пенсии плотником был. Поговаривали, что знатным. А мне до знатности то, что до этой… – он помолчал немного. – Куда её девать… А от сруб срубить: оно аж руки чешутся! Отдавать рукоять тебе не хочется! У меня грамотки, – хвастал он, – от колхозу, так их цельный пруд пруди: много, – мотал старик головой. – Я их по первости шытал, а потом и шытать перестал. Стопа их, в общем, цельная. Я своим так сказал: мне энти грамотки аккурат всей энтой стопкой под опилкову подушку в гробу положите – то мне память, что ни на есть самая памятная в том свете о земной жизни будет. Грамотки энти, они ж только формалистически от колхозу будут. А по натуральному – так это спасибо людское, печатью закреплённое. Спасибо сказали, и оно тут же и забылось. А енто нет – глянул, вспомнил, от тута каждый раз от самодовольствия свербит! – поколотил он себя в грудь. – С емя тама, – он показал указательным пальцем в небо, – и предстать не стыдно.
Пока разговаривали, не заметили, как во двор вышла жена Степаныча.
– Чай горячий, идёмте пить, согреетесь, – позвала она и скрылась в доме.
– И то верно, руки застыли, – согласился Степаныч, – пойдём погреемся.
Они поспешили в дом. Внуки старика этому времени уже проснулись, ворочались и моргали сонными глазами в ожидании, что скажут им делать взрослые. Их заставили помыть лица и руки, и только после этого пустили за стол. Пироги уже остыли, прежний аромат был уже не таким сильным, но были они не менее вкусные, чем прежде. Старик на прежнюю сытость поел немного. Чаю он много выпил. Три кружки. Лиза вытащила какой-то мешок, насыпала из него разнотравья каждому в кружку, залила кипяточком и только после этого добавила заварки. Отпивавшему из кружки в нос стремился пар, наполненный запахами лимонника, смородины и ещё чего-то неразличимого и кружащего голову старика. В городе он покупал чаи со всякими ароматами: так то ли всё это. Выпьешь, потом кружку от красителей не отмыть. Пьёт старик, носом над кружкой водит, в ароматы таким манером вникает… Тут ещё медком подсластит… другой глоточек малиновым вареньецем приправит… «Надо ж такому получиться, – думалось старику. – Доброе дело делаю, так невесть как добрые люди откуда-то на пути тебе сопутствуют. Ещё вчерась они обо мне слыхом не слыхивали, сегодня вон, как родного привечают. Через них и на других за их несовершенство недовольство пропало: уж и любить готов всех тех, на кого зол был. Как-то стало казаться, что они не виноваты в своём несовершенстве. Природа их такими задумала. Редкий из них собаку не погладит: знать, есть в них доброта, сидит… Коль не виноваты, что их судить: простить остается только». Так, глядя на добрых людей, простил старик всех, кто когда-то его обидел – если б не они, разве ж можно было бы понять доброту вот этих добрых людей.
– Чё откуда берётся, – стоял на пороге Степаныч с топором в руке, – насадил-то как! – хвастал он им своей жене Лизе. – Вожусь с дверью, смотрю: старик с топором возится. Думаю, пусть старый потешится, не мешаю. Если что не так, так потом сам заново насажу. Сейчас вышел, дай, думаю, гляну – старик знатностью плотницкой хвастал, топорище как влитое сидит, так ещё и рукоять под ладонь подправил. Славно! – протягивал он топор Лизавете.
Тут только старик заметил, что за столом он уже давно один сидит и без стеснения пьёт одну кружку чаю за другой. Остался собой недоволен за то, что уж совсем как-то чересчур пользуется их гостеприимством. Ему даже стало неловко перед добрыми людьми.
– Я бы как взялся, своим не плотницким умом, так обязательно бы перекосу где-то дал. Не так, чтоб совсем дело загубил, нет, конечно… тесать рубить можно будет. Удовольствия от работы не будет. Это как едешь за рулём, а движок то чихает, то троит, то руль в сторону ведёт, то чё брякат. С таким топором – это как движок тебе песни поёт! – вертел он топором перед Лизаветой, всё намереваясь ей его в руки сунуть, чтоб и она его подержала.
Лизавета ему в настроение улыбалась. Для поддержания. Ей самой до топора и дела-то не было никакого. Ей он, что дверь в стене: вещь нужная, так оно и должно быть – закрывается и открывается. Радости мужниной совсем не понимала. Больше за него радовалась.
Старику до того неловко было хвалебные слова о себе слушать, так тут он совсем от слов Степаныча в краску впал.
– Не пора нам ехать? – тихо спросил он, торопясь сменить тему для разговора.
Пузатый будильник на комоде показывал девять утра. Собрались быстро. В десять уже были около белокаменных стен монастыря. Степаныча тут редкий человек не знает. Ватага ребятни тут же кинулась к машине. Интерес их проявлялся вовсе не в Степанычу, а к тому, кого он привёз. Пацаны народ смекалистый. Если Степаныч кого привёз, знать, монетку можно выпросить побольше, чем у паломников, которые в автобусах приезжают, где по рублю, да по пятьдесят копеек подают. Тут и не десятку, а то и на пятьдесят рублей можно разжиться.
– А ну, остепенись! – кричал Степаныч. Для большей убедительности он высунулся в окно и махал кулаком. – Не видите – пожилой человек со мной! – экономил он деньги старика.
– Ничего, я подготовленный, – останавливал он Степаныча.
В руках старика появился потрёпанный холщёвый мешочек, набитый пятирублёвиками. Мешочек этот он давно готовил: пятирублёвики копил. Где от сдачи оставались, откладывал. Иной раз с пенсии зайдёт, где в игровые автоматы играют, поменяет рублей тридцать–сорок, а играть не играет. Разменяет и уйдёт. Он так думал: поеду, а там милостыньку надобно подать, без этого никак нельзя. Рупь, два – не серьёзно. Десятка – по бюджету не по карману. Пятирублёвиком подать: в самый раз получится.
Пацанов было семь. Дал по монетке каждому. А кто во второй раз, с другой стороны руку норовил протянуть, так он его примечал и не давал:
– Я хоть стар, да не слеп. Чуб твой заметлив, – говорил он ему.
Раздал сорок рублей. Математика не получалась. Кто-то всё таки сшустрил… Досадовал старик. Он подозвал внучат, дал и им монет да послал подать тем, кто у ворот монастыря просит. Кто из них и правда немощный есть, а кто подобный заработок за место работы себе определил.
Степанычем не всегда приветствовалась подобная раздача денег. Оно вроде и ладно, когда лишняя копейка в кармане завелась или кто занимается чем по коммерческой части, тогда оно можно себе позволить. Тут нет слов. Старик с грошовой пенсии подаёт. Не приветствовалось Степанычем подобное.
– Пацаны прокурят, тот пропьёт, – недовольно замечал он.
– Пусть, – отвечал старик. – Сам-то в детстве не курил чтоль? Ничё, вырасли.
– Я не попрошайничал.
– И я не попрошайничал. Братья мои младшие попрошайничали, и мне как старшему несли. Я уже одёжку и еду покупал. Без обид… Все в равных были, – старик бесцеремонно уставился в глаза Степанычу. – Оно что, разве ж в твоём детстве знакомые не побирались? Все богаты и сыты ходили?
– Были такие, как не быть, одни в соседстве жыли… Мать их одна поднимала семерых. Мужика на делянке деревом задавило. Мал мала меньше… Не хош, с протянутой рукой пойдёшь. Так ведь тогда и времена-то другие были.
Старик нервно встрепенулся.
– Ничем те твои времена от нонешних не отличаются. Как тогда выходили с протянутой рукой, так и теперь идут. Одинаково. Не от хорошей жизни руку тянут. А тот, – он кивнул на помятого мужика лет пятидесяти на ящике у ворот монастыря, – пусть пропьёт, обязательно пропьёт, кабы я не понимал, что это болезнь тяжелее других привычных нам хворей – не давал бы. На моём веку много эта гадость сгубила. Иному не в силах с собой справиться. Спроси его: хочет ли он быть тем, что он есть? Себя другим тешу: наберёт он сейчас сколь надо и в лавку, а там случись так, что мой пятирублёвик поверх останется, так это полбуханки хлеба зараз. Коль так, то больной человек рядом сыт. Чем не успокоение.
Старик не на шутку заводился. Степаныч что-то хотел сказать, но не успел.
– Знаю, знаю, что сказать хочешь, – отмахнулся он от него, – какие-то и не из бедности тут вовсе. Так что ж теперь, мил человек, сортировать мне их прикажешь? По моему разумению на твои слова другое умозаключение у меня присутствует: если один из десяти тут из бедности. И этот один нонче сыт будет, для меня тоже будет это успокоением. А другие не на моей совести – на своей оне совести. Им самим за себя ответ держать. От я, быват, иду по городу, вижу бомж сидит – грязный, запах от его, как мимо помойки идёшь. Иной раз молча пороюсь в кармане, хоть рупь, но дам. Что он за порошком в хозмаг устремиться, иль в баню? Знамо дело – нет. Другой раз с матом на него, дармоедом, тунеядцем назову… И опять всё равно рупь дам. Куда ж от него денешься. Жалко…
Старик вдруг замолчал и сколько-то шли молча. Неожиданно он опять заговорил:
– Я, быват, как с кем заговорю: вот, мол, в Верхотурье еду, как деньжат насобираю… Так мне не раз говаривали: бывали, знаем, город попрошаек. Тьфу, слово то какое! – сплюнул старик. – От них я даже подготовился, – посмеивался он и тряс холщёвым мешочком. – При монастырях всегда так было. И не зря я мешочком обзаводился… – Он помолчал и добавил: – Вот такие вот мои умозаключения… Никому их не навязываю, а себе, коль ты с ними не согласен будешь, строй сам какие тебе нравятся.
Опять шли молча. Шли по монастырю к храму. Уже к собору подходили. Старика здорово задело вот это вот «Город попрошаек». За живое задело… Задело оттого, что другое он тут видел: храмы с золотыми куполами видел, воздухом тем же, которым святые дышали, дышит, доброго человека видел, жену его видел. За них обидны эти их слова ему были. Он остановил Степаныча.
– Не вижу ничего плохого в попрошайничестве, – Опять начал старик. Степаныч хотел остановить его, но передумал. – Я вот тебе один сказ скажу, со мной это было. Недавно совсем: сынки мои по большим городам разбежались. Один в одном обосновался, другой в другом. Гостил как-то у старшего, домой возвращаюсь – чин-чинарём, в плацкарте, значит, еду. Поезд проходящий, с югов к нам идёт. Так вот, в эту самую плацкарту, в которую мне билет получился, до меня с моря девка с сыном села. Девка не девка – лет тридцать пять будет ей. Пацан с ей. Вот ему, – он показал на старшего внука, – ровесником будет. Так они цельных полтора месяца на югах провели. Слово за слово, выясняю: она вдова, поварихой где-то пристроена. Пацан рассказывает, как на дельфинах в дельфинариях катался, экскурсии разные пересказывал. В дороге едут, себя ни в чём не ограничивают: фрукты разные, самые лучшие покупают. На станции бинокли продают, она ему бинокль – на. Сама в ситцевом платьице; туфельки опрятные, но старомодные; косметики на лице нет; есть садится – крестится, поела – крестится. Спонцер нонче с привередием, на простушку, подобную ей, не зарится. Откуда у её такие деньжища, чтоб позволять себе такие немыслимые в её положении деньги? Это ж сколь денег за полтора месяца на югах потратить нужно! Мои вон обеспеченные, всё есть, в отпуска каждый год, – он опять указал на внуков. – А ей-то где деньги взять. Так я тебе скажу, откуда они – пацан её к музыке был способен, на каком-то нструменте играл, называл название на каком, не припомню теперь. Вроде нашей балалайки, токмо округлый какой-то и четыре струны на ём. Так вот, оне на том струменте по побережью народ скоморохами развлекали. Я о таком, вспоминаю, про времена эти при царе читал. А ты вот мне говоришь: времена другие. Рад был бы ему, если б сейчас средь этих пацанов того мальца встретил. Я от за того пацана более спокоен, чем за своих внучат.
– Тут таких нет, – сказал Степаныч.
– С Верхотурья та мать с мальчонком были, – говорил старик, – что б сын мир повидал: мать людей веселит, сына к этому делу приобщает. За труды его – деньги ему давали. Сможет она тута те деньги заработать, чтоб сына своего счастливым видеть? Мир малец увидел; мать кормит; цену деньгам знает. Славный пацан. Нет говоришь таких, времена другие… Пошли давай, – уверенно старик направился в собор, – делай обещанную кскурсию, меня не остановишь, так я без конца философствовать могу, дай только о чём.
Внуки старика тем временем обвыклись, в обстановке разобрались и как всегда в таких случаях принялись баловать, так как энергия в них, пока они сдерживались и присматривались, откладывалась и накапливалась; вот и накопилась с лишком, и начала плескать через края, не в силах больше удерживаться внутри их телец. Они комкали снежные комки, комки не получались, были рыхлыми, они швыряли их в друг друга, комки не долетали, рассыпались на лету, и это и приводило их в восторг, отчего они дразнились языками.
– Ну, прекратите немедля! – прикрикнул старик и погрозил пальцем, – чай не на улице.
– А где же мы? – удивлённо спрашивали дети.
Лица их были раскрасневшимися, на щеках – капельки снега от растаявшего снега. Пальтишки в снегу. Старик принялся их отряхивать.
– Вы в монастыре, – показал он на собор, – сюда идут молиться, а не баловать.
Экскурсию подробную дал Степаныч своим гостям. Провёз их по всем значимым местам Верхотурья. О Симеоне сказал подробно, и как обретены вновь были мощи его – чудесным образом гроб вышел на поверхность земли; о Козьме Юродивом, семьдесят вёрст проползшем с больными ногами на коленях за мощами Симеона, когда его несли на руках монахи из Меркушино в монастырь; о том, как потом монастырь был колонией для малолетних преступников; поведал ещё и о том, как местный воевода медаль вешал в пуд весом пьянице на груди, не в силах дольше бороться с нищенским положением в их семьях. И пьяница этот носил её на себе до тех пор, пока пить не переставал. Много услышал старик того, что хотел слышать. С полным удовлетворением от поездки старик возвращался из Меркушина в город. И ещё жалел немного, что раньше тут не был. Уж точно что-то по-другому тогда в жизни своей сделал бы.
Молчал всю дорогу. Думал о чём-то… Глубоко думать он не мог, образованности мало было, не всегда объяснений находил, а понимание житейское имел. Вспоминал он свою прожитую жизнь… Деды его свято в Бога верили… Сам он, случилось так – в коммунизм… И жили же с этой верой! Всегда с ней были… «Нету сейчас веры, нету! – говорил он себе. – А без веры как жить? Нельзя без её. Никак нельзя. Приходят в церковь, прощения просят. Выходят, и тут же делают то, за что только-то вот пять минут назад прощения у Господа просили. Разве ж это вера…» – думал он.
– Я вот давеча прикинул, так картина совсем нерадостная вырисовывается. Горькая даже, можно сказать, картина-то, – на волне дум своих, совсем вдруг неожиданно для Степаныча, заговорил с ним старик. – Вот я в большом дому проживаю, – стал вслух размышлять старик, – в соседях, по большинству своему, всё больше молодежь живёт. Люди все не плохие. Так вот, тех, кого я знаю – то мужик без бабы, то баба без мужика. Видано ли дело, чтоб мужик от бабы алиментов получал? Я знаю такого, в третьем этажу живёт, в самый раз под моею квартирой. И её знаю. Забегат детишков своих проведать. От стыда должна гореть… Ничего, ходит, и стыда этого в ней нет ни самой малости. Тот ейный новый мужик с довеском её брать не хотел, она вона как устроилась. И ещё жалеет кто её! Презирать, плевать в лицо ей надобно, а мы нет, жалеем. Мужики баб меняют… Бабы – мужиков. А возьми телевизионщиков, особенно кумиров детских – по пяти раз в загс сбегали. Я бы вообще им, – он показал на заднее сиденье, где уставшие от экскурсии внуки уже спали, – телевизор запретил смотреть. Что они в ём видят для себя? А они всё видят. Свободные отношения. Гражданский брак. Слова-то умные какие. Вот скажи мне, мил человек, – тряс старик вывернутыми вверх ладонями, – на кой ляд всё встало с ног на голову? Я тут давеча с одной заговорил об этом, племянницей мне приходится. Как её язык повернулся такое говорить! Для себя, говорит, пожить хочу, старость не за горами. «Так каким же ты задом раньше-то думала, паскудница ты этакая!» – думаю я. Деткам погодкам по десять и одиннадцать лет. Самый тот возраст, когда пригляд за емя нужон. А она – старость не за горами! Ты сначала почву им под ноги поставь, – он снова показал на заднее сидение. – Чтоб оне устойчивость в жизни имели, профессии, аль повыше постарайся образование додать. Потом уж только о себе помышляй. Зуд невыносимый разве, что справиться невмоготу? Во времена дедов наших развод самым позорным делом считали. Плевали вслед таким. А почему? Да потому, что супротив Бога такие шли. Жену-то оно тогда как брали? В церкви перед Богом обещались верности не изменять. Тогда и боязнь Его была. Так и мы тоже, хоть не в Бога, в коммунизм веровали, пущай ошибались в ём, ошибались так, что до самой самоотдачи, от души, значит… так и то – людского суда шибко боялись. Хранили семьи. Так в старые-то годы пуще, чем жены ближе не было. За жизнь-то всяко бывало. Не ангелы. А семьи боялись потерять. Прощали. Конь на четырёх ногах спотыкается. Держались за её. Потому как душе покой нужон. Где она его обретёт. В семье. Более негде. Душе любовь да забота нужна. Тогда она и спокойствие имеет. А как кончилась забота о ком-то, пиши пропало: счахнешся на старости лет. Обратным обухом по голове твоей съездится эгоизм-то твой же. Я от своих-то проглядел, так уж внучат постараюсь не пропустить. Чтоб не озлобились, чтоб не только для себя в жизни… На них надёжу свою строю. Мои мне чё говорят: говорят, по-старомодному думаешь. Нету тута никакого старомодного: тута или семья есть, или её нету. Третьему умозаключению тута нету мест. Вот такие вот размышления имею. И с размышлений моих меня никто своротить не сможет.– Чё откуда берётся, – согласно кивал Степаныч. – Мы другими были.
– Это всё потому, что веру отобрали, а новой привить не смогли.
– Да-а, – протянул Степаныч, – поколения поколениям рознь. Нынешнее совсем на нас не походит.
– Это всё оттого, что лишений не видели. Нонешнее поколение страдание людское только по телевизорам видит. Им это вроде как кино. Тогда как нам наше время расслабляться не давало, каждый это самое лишение на ощупь потрогал, сердцем до глубины прочувствовал. Потому и не проходим мимо, остановимся, милостыньку подадим.
Степаныч аккуратно вёл машину. Задумчиво разглядывал стелющееся под колёса дорожное полотно. «Правильно старик говорит, – думал он. – Очень правильно. Отличаются поколения. Меняется наш брат человечек. Иной раз кто-то делает благое дело, а другой ему в спину у виска пальцем крутит».
– Тут женщина одна живёт, Галина, помоложе меня будет. Шестидесяти ей вроде ещё нет… да, точно нет. Она из тех, кого не каждый поймёт. Иной вовсе у виска пальцем покрутит со словами «Надо ли оно тебе, Галина?» Не укладывается в обычной голове то, что она делает. А по мне, так я бы её взял бы, в иконку вставил и руки бы ей беспрестанно целовал.
Старик ворчать перестал и слушал.
– Дочка у неё была, – решился рассказать Степаныч о женщине, про которую не стал рассказывать как-то пьяному пассажиру, которого высадил посреди дороги, – замужем состояла, внуков трое было, зять работящий, нечего сказать: всё хорошо. Хорошо было до одного момента. На Украину они уехали. Там он каким-то макаром в секту угодил. В какую секту – не помню, похоже, даже, наверное, и не знал. Только вот одним днём всё их счастье в горе превратилось. Что ему там в голове на мозги накрутили, только в один день он собрал всю свою семью в доме, заперся и поджёгся. Всю семью вместе с собой убил. От такого горя можно умом рехнуться. Она едва и не рехнулась. Долго как неживая ходила. Молчала, ни с кем не разговаривала, лицо серое, жить не хотела. Да видно только вот – едва-то не считается. Любой другой сопли бы до локтя размазал. Она – нет. Где силы в себе взяла? Нашла для себя отдушину – чужому дитю себя посветила. Троих на воспитание взяла. По сей день она этот крест на себе несёт. Мужик слабоват оказался, бросил её. Она не сдаётся… Теперь вот они подросли. Старшего посадили. Видно, наследственность добротой не вытравишь. На свидание ездит, тюремные пороги обивает. Не отказывается… Чё откуда берётся?! – в сердцах воскликнул Степаныч. – Свет баба! Где силы берёт? От астмы задыхается, сердце больное, давление, ноги отекают, суставы опухли. В глаза ей глянешь – живой огонь горит. Как время свидания подходит, так она сумки набьёт и на поезд. Хвори в узелок свяжет и в тёмный уголок в себе спрячет, поверх них дело своё делает. Простому люду, пенсионные копейки считающему, трудно её понять. Живёт с ними рядом, те же копейки считает. Крест свой, что на плечи сама себе же и взвалила, несёт, не жалуется. Видел бы ты её – свет баба! Руки бы ей целовал, ей-богу! Увидел бы, так и согласился бы ты со мной.
– Так покаж мне её, – просил старик.
– И то верно, – согласился Степаныч, – до поезда время у нас буде, не поздно ещё в городе будем. И дело у меня к ней небольшое есть. Заедем, – пообещал Степаныч.
* * *В окне горел тусклый свет. «Галина дома», – отметил удовлетворённо Степаныч. Припозднившиеся гости постучались в ворота. Во дворе залаяла собака. Загорелся свет во дворе, затем на столбе перед домом. Скрипнула в глубине дверь, и послышались шаркающие шаги.
– Кто там? – спросил женский голос за воротами.
Вопреки сказанному, что женщина эта одолеваема различными недугами, голос её был звонок и уверен.
– Я это, Степаныч, – отозвался Степаныч.
Раздался звук отодвигаемой задвижки, и дверь открылась. Перед гостями стояла хозяйка. На вид ей было лет пятьдесят–шестьдесят. Она не была крупной, и в то же время не казалась миниатюрной. Плотная, крепкая, с красивыми, выкрашенными с рыжеватым оттенком волосами. Из-за металлической оправы очков на гостей смотрели карие глаза. Одета она была в вязанную крупной вязкой кофту, спускающуюся ниже коленей, из-под которой виднелись голые ноги в галошах.
– Мимо ехал, вспомнил: ты тут как-то Лизавете обещалась травы на отвар дать. Редко сюда кто-то ездит. Когда ещё заеду. Ладно вот вспомнил, – говорил Степаныч, оправдывая свой не ранний визит.
Дом Галины стоял на отшибе. В соседях её жили одни пенсионеры. Такси им не по карману. Потому редко Степаныч был в здешних краях. От приглашения в дом не отказались. Прошли. Переступив через порог, Степаныч представил спутника:
– Познакомься.
Дальше он не успел договорить…
Галина протянула старику руку. На что старик, совсем неожиданно для всех, схватил её, упал перед Галиной на колени и стал жадно целовать ей руку. Секунду Галина стояла в оцепенении. Опомнившись она резко отдёрнула руку. Старик схватил другую, висевшую свободной с другой стороны, и так же принялся покрывать её поцелуями. Она и её одёрнула.
– Чё это он, трезв ли он? – растерянно спрашивала она.
– Трезв, – рассмеялся Степаныч, понимая: в чём дело.
Старик сделал то, что она заслуживает, и то, что постеснялся бы сделать любой другой на его месте. Степаныч рассказал Галине, что поведал старику её историю.
– Не думал, что она его так задела. Извини уж ты нас, старых дурней.
Старик тем временем поднялся с коленей. Вид его был такой, что казалось, ничего только что не происходило. Словно он, стоя на коленях, завязал шнурки и встал, готовый к каким-то дальнейшим действиям.
– Фу ты, устроили тут театр! – отмахнулась она.
Гостей Галина сразу не отпустила, прежде напоила с дороги их чаем. Сидели у неё недолго. Степаныч шутил за столом, на что Галина реагировала звонким смехом. У старика к ней стала проявляться влюблённость и, выражая это, он нет-нет, да и погладит её – то плечо, то руку, ничего при этом не говоря. Ей это нравилось и она в такой момент слегка краснела. Ещё он смотрел на неё, не отрывая глаз.
– Прекратите вы уже так на меня смотреть, – просила она и заливалась девичьим смехом.
Когда уходили, старик снова упал перед ней на колени. Руки от него она уже не одёргивала, только всё звонко и счастливо смеялась. При этом скромно говорила:
– Вот уж удумали, тоже мне, подвиг нашли, – пожимала она плечами, и в то же время ей всё это так нравилось, что свет, что в ней был, заполнял всё пространство вокруг.
Так и оставили они её стоять на пороге счастливой.
* * *В одиннадцать ночи Степаныч провожал гостей на поезд. Старик вынул из кармана свёрнутые деньги в носовом платке, отсчитал сумму, на какой договорились, и отдал её Степанычу. Потом он ещё отсчитал несколько бумажек и тоже подал их доброму человеку. На эти деньги он попросил купить Лизавете коробку конфет. Только после этого лицо его приняло спокойное и довольное собой выражение.
В тот момент, когда Степаныч убирал деньги во внутренний карман пиджака, им неожиданно охватило какое-то неуютное состояние.
Поезд тронулся и исчез в темноте ночи, унося старика из жизни Степаныча.
– Чё откуда берётся! – пожимал он плечами, в задумчивости разглядывая темноту ночи, где только что скрылся пассажирский состав, понимая, что больше он старика никогда не увидит.
Всю ночь Степаныч не мог заснуть… Проворочался до самого рассвета… Как только черноту горизонта прихватил рассвет, Степаныч поднялся с постели, оделся, вышел во двор завёл двигатель и уехал.
На вопрос жены:
– Куда это ты в такой спешке?
Ей, удивлённой тем, что даже не завтракал, Степаныч коротко ответил:
– Дело срочное есть.
Он был сильно недоволен собой. Внутри себя ругал самыми непотребными словосочетаниями. Отчего, всегда рассудительный, он сразу не сделал вчера то, что намерен был сделать сегодня. Он намерен был избавиться от назойливого состояния, прочно поселившегося вчера в него в тот момент, когда он взял деньги со старика. Он остановил свои старенькие Жигули напротив главпочтамта. Закрыл машину, вошёл в здание и прямиком направился к одному из окошек. Взял бланк, отыскал в карманах обрывок газеты, где вчера старик на всякий случай написал ему свой адрес. Переписал его на бланк, добавил два слова:
«Че откуда берется!»
Отсчитал от денег старика стоимость коробки конфет, остальные приложил к бланку и подал их в окошко. Покинув главпочтамт, заметно повеселевший Степаныч направился в соседний магазин – за гостинцем для Лизаветы от старика.
ОглавлениеВдовий домЗолотые куполаЗолотые купола Вторая частьЗолотые купола Третья частьМетелицаОп-ля! Армия – это я! (Рассказ-быль)Приключение Энелонка КлякаСпасение ЭнелонкаМаленький друг с большим, бесстрашным и благородным сердцемО том, как медведь проспал все следующие приключенияРассказ ветеранаРодникиСельский докторЧе откуда берется
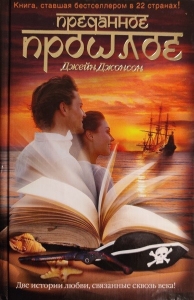


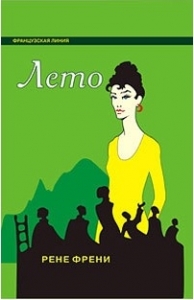

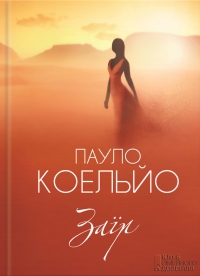

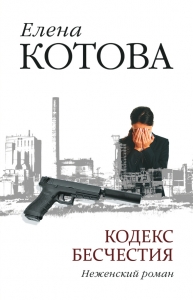
Комментарии к книге «Золотые купола (сборник)», Иль Дар
Всего 0 комментариев