Александра Никитична Анненская Младший брат
Глава I
— Как несносно ездить куда-нибудь с девочками! — недовольным голосом заметил тринадцатилетний гимназист, Митя Петровский, расхаживавший давно уже нетерпеливыми шагами по просторной столовой комнате. — Посмотри, — обратился он к младшему брату, занимавшемуся, за неимением лучшего дела, лазаньем на стол и под стол, — уже три четверти шестого; тетя просила приехать не позже шести, a они все еще изволят заниматься своим туалетом!
— Известное дело, девчонки! — вскричал Боря, шумно соскакивая со стола, — пока они наденут по десять юбок, да расправят разные кантики, бантики, — умный человек может десять раз сойти с ума от скуки.
Вероятно, чтобы предохранить себя от этого ужасного несчастья, «умный человек» готовился возобновить свои гимнастические упражнения, но в эту минуту дверь отворилась и в нее вбежала прелестная восьмилетняя девочка.
— Наконец-то! — вскричал Боря.
— Да я давно готова, это все Веру не могли причесать, как следует, — отвечала девочка.
— A ведь ты, Жени, прехорошенькая! — заметил Митя, оглядывая девочку с ног до головы.
Братья редко говорят подобные комплименты своим сестрам, но надобно заметить, что Жени вполне заслуживала лестное замечание брата. Трудно было себе представить более прелестную детскую головку, более изящную детскую фигурку. Голубое барежевое платьице как нельзя более шло к ее нежному, беленькому личику, ее ясным голубым глазкам, и длинным светло-русыми волосами.
— Ну, a я, Митя, какова? — раздался сзади нее голос, и Мите волей-неволей пришлось сравнивать двух сестер. Какая противоположность! Самый снисходительный судья не мог бы назвать бедную Верочку хорошенькой. Она была двумя годами старше сестры, и, несмотря на то, равного с ней роста; правое плечо ее было сильно поднято вверх, a правая лопатка выпячивалась назад; на длинном, худощавом лице ее очень некрасиво выдавался большой нос и широкий рот; смуглая, желтая кожа ее казалась еще желтее и смуглее от голубого цвета ее платья и от голубых бантов, украшавших ее темные жесткие волосы.
— Ты какова? — вскричал Боря, не дав брату времени ответить на вопрос сестры, — ты две капли воды похожа на лягушку!
— Гадкий! Злой мальчишка! Как ты смеешь так говорить! — закричала Вера, и сердитое выражение лица сделало ее еще некрасивее прежнего.
— Дети, дети, опять вы ссоритесь! Как вам не стыдно! — раздался кроткий голос Софьи Павловны Петровской, входившей в эту минуту в комнату вместе с мужем.
— Да, мама, Боря меня называет лягушкой; как он смеет! — тотчас же обратилась с жалобой к матери обиженная девочка.
— Борис, ты вечнo дразнишь сестер, — строго заметил отец, — тебя стоит в наказание за это оставить дома!
— Ну, полно, друг мой, — успокоительно заметила Софья Павловна, боявшаяся, чтобы муж действительно не подверг мальчика слишком строгому наказанию; — он ведь это сказал в шутку, не со злости; они беспрестанно ссорятся и мирятся, — не стоит обращать на это внимания. Одевайтесь скорей, дети, — карета приехала, мы и так опоздали.
Боря, взглянув на отца, увидел по глазам его, что он не намерен противоречить матери, и в восторге, что грозившая беда миновала, быстро перекувырнулся вверх ногами, так же быстро поцеловал руку матери, и в один миг очутился в передней, куда за ним последовали все остальные.
Закутавшись в теплые шубы, теплые сапоги и теплые шарфы, семейство уселось в карету. Был второй день рождественского праздника, на дворе стоял сильный мороз, но дети не чувствовали холода; Боря с Жени находили даже, что в карете слишком душно и упросили отца позволить опустить одно стекло. Они оба были в самом возбужденном, веселом расположении духа; наперебой сочиняли разные глупости, хохотали, болтали, не умолкая ни на минуту. Митя принимал участие в их веселье, насколько ему позволяло его достоинство гимназиста второго класса. Софья Павловна с улыбкой удовольствия поглядывала на детей, и даже отец терпеливо переносил, что маленькие ножки Жени беспрестанно толкали его, a Боря чуть не сбил ему шапку с головы, бросившись смотреть на елку, зажженную в окне одного дома, мимо которого они проезжали.
Правда, детям было отчего радоваться: они ехали к своей тетке, Варваре Андреевне Баймаковой, на елку, и не только на елку, но еще на детский бал, который должен был начаться с восьми часов, когда елка погаснет. Да сих пор дети никогда еще не бывали на детских балах; они думали, что балы даются только для взрослых, и вдруг оказывается, что баловница-тетя устраивает бал для детей, — настоящий бал: с оркестром музыки, с угощением, с ужином. Тут было от чего придти в восторг, от чего было и волноваться, и радоваться!
Одна только Вера не разделяла этого веселья. Девочка сидела в углу кареты, молча и надувшись: она все еще не могла забыть обиды, нанесенной ей братом.
«Ишь как веселится! — думала она, с неудовольствием поглядывая на Борю, — как будто и не виноват! И папаша-то хорош: только постращал, что накажет, да и забыл! A все мама заступается! Конечно, как можно наказать любимого сынка, a что он меня обидел — не беда! Вот если Женьку — другое дело, a за меня никто не заступится… Что выдумал: лягушка! Сам-то очень хорош! Настоящий…» — и сердитая девочка придумывала разные, вовсе нелестные прозвища оскорбившему ее брату.
Карета ехала очень быстро и скоро остановилась перед домом Варвары Андреевны. Варвара Андреевна была женщина богатая, веселая, щедрая, никогда не жалевшая денег для удовольствия своих трех детей: Зои, Жоржи и маленькой Ади. Племянников она также очень любила, но особенной любимицей ее была хорошенькая Жени, хотя и к остальным детям она всегда была до баловства добра.
В этот раз y нее должно было собраться довольно многочисленное общество; не считая взрослых и совсем маленьких детей, приятелей четырехлетней Ади, танцоров и танцорок от семи до семнадцати лет приглашено было человек двадцать пять.
Войдя в переднюю, Петровские тотчас заметили по веселому гулу, доносившемуся до них из других комнат, что гостей собралось уже много. И в самом деле, все приглашенные на елку съехались, ожидали только их, чтобы засветить дерево.
Митя держал себя, как следует благовоспитанному гимназисту, и, стараясь скрыть свое нетерпеливое ожидание предстоявших удовольствий, любезно раскланивался и разговаривал с гостями; зато Боря и Жени до того ясно выказывали свое волнение, что едва отвечали на поцелуи Зои и Жоржи и чуть не забыли поздороваться с теткой.
Вера была взволнована не меньше их, но к ее ожиданиям примешивалось неприятное чувство: она сразу заметила, что и тетка, и Зоя встретили Жени нежнее, чем ее, что один из гостей заметил, обращаясь к ее матери: «Какая красавица ваша Женичка!», a другой сказал про ее братьев «Как они выросли, какие стали молодцы!» О ней никто ничего не говорил, ее никто не хвалил, никто особенно не ласкал, и сердито завистливое чувство, с каким она поглядывала на других детей, еще больше портило ее некрасивую наружность.
Наконец, дверь в залу растворилась и дети веселой толпой побежали к ярко освещенному дереву. Красивая, роскошно убранная елка не удивила богатых петербургских детей; они мельком взглянули на дерево и обратили главное внимание на стол с подарками; каждый из приглашенных гостей нашел свое имя на билете, прикрывавшем или игрушку или книгу, или какую-нибудь хорошенькую безделушку. Вера прежде всех отыскала свой подарок: это была книга в красивом переплете, с хорошенькими, раскрашенными картинками. В первую минуту девочка очень обрадовалась: она любила читать, а в особенности любила рассматривать картинки; но вдруг глаза ее упали на Жени, вынимавшую в эту минуту из картонки богато одетую куклу, с длинными черными волосами, — и вся ее радость исчезла.
«Видно, что любимица: вон какую чудную куклу ей подарили!» — подумала она и, небрежно бросив книгу на стол, подошла к сестре.
Жени, в восторге от полученного подарка, бросилась всем его показывать.
— Боря! — кричала она, подбегая к своему любимому брату, — посмотри, какую прелесть мне подарили! A y тебя какая игрушка?.
— Вот выдумала — игрушка! — с презрением отвечал Боря, — точно я маленький! Тетя знает, что в мои годы игрушки уже не занимают… Посмотри, какую славную книгу она мне подарила!
Жени с недоверием посмотрела на своего мудрого брата, равнодушно повертела в руках его книгу и пошла хвастать своим сокровищем перед девочками. Вера также слышала слова Бори и они утешили ее.
«Может быть, тетя и в самом деле подарила мне книгу, a не куклу, потому, что я умнее Жени», — подумала она и снова возвратилась к своему подарку. — «А ведь Борина книга больше и толще», — опять мелькнуло в голове ее и, воспользовавшись тем, что брат ее отошел от стола, она быстро смерила обе книги: действительно, Борина была пальца на два больше и значительно толще ее. На душе завистливой девочки снова стало грустно.
Варвара Андреевна увидела недовольное выражение лица племянницы и подошла к ней.
— Ну что, Верочка, — ласковым голосом спросила она, — угодила ли я тебе? Нравится ли тебе твоя книжка?
— Борина больше! — вместо благодарности отвечала девочка.
— О книгах судят не по величине, a по тому, что в них написано, — несколько недовольным голосом заметила Варвара Андреевна и отошла от девочки, думая про себя, что y нее отвратительный характер.
Рассматриванье подарков и разговоры о них так заняли детей, что они почти не заметили, как свечи на елке догорели; надобно было приняться за обрывание с дерева конфет, и вместе с последним яблочком, снятым с ветки Жоржем, погасли и последние две свечки. Детям вдруг стало как-то грустно при виде темного, пустого дерева, и они в раздумье стояли вокруг него.
Варвара Андреевна тотчас заметила это настроение гостей своих и поспешила рассеять его.
— Ну, господа, — громким, веселым голосом произнесла она, — милости просим в столовую, напейтесь чаю и приготовьте ноги: сейчас заиграет музыка!
Дети с удовольствием последовали приглашению любезной хозяйки, и только младшие из них долго засиделись за бутербродами и сладкими печеньями, поданными к чаю; старшие же спешили допить свои чашки и вернуться в залу, откуда уже доносились звуки настраиваемых инструментов.
Бал удался, как нельзя лучше; сказать по правде, он шел не совсем так, как идут балы для взрослых; многие дамы бегали, вместо того чтобы танцевать, многие кавалеры ни за что не могли попасть в такт, приглашение на танцы часто выражалось просто дерганьем за руку или словами: «Давай-ка, пойдем!», a в ответ нередко слышалось нелюбезное: «Ну, с тобой не хочу, ты не умеешь!»; в кадрили фигуры часто путались, a во время вальса две пары столкнулись так, что обе полетели на пол; но все это не только не мешало удовольствию, a напротив, увеличивало его. Взрослые гости любовались веселостью детей и подсмеивались над чопорными четырнадцатилетними барышнями, гримасничавшими, чтобы походить на больших девиц, и над пятнадцатилетними франтами, старавшимися казаться разочарованными мужчинами.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы все танцующие равно веселились: среди них были дети неловкие, застенчивые, которые не решались сами приглашать других на танцы, a скромно сидели по углам, ожидая приглашения, и затем неуклюже, медленно выделывали па, краснея и сбиваясь беспрестанно. К числу таких детей принадлежала и Вера: ей постоянно хотелось заслуживать одобрение, похвалы, она постоянно боялась насмешек, и потому, конечно, не могла держать себя свободно, непринужденно. Она ни за что не согласилась бы, как Жени, вальсировать по зале с куклой вместо кавалера, она ни за что не решалась, как Зоя, сама подбегать к мальчикам и звать их на танцы, a между тем к ней подходили немногие. Она была очень неловка, быстрое движение скоро утомляло ее; вечно занятая мыслью, как бы не сделать чего-нибудь смешного, она была невесела, неразговорчива, и маленькие танцоры избегали ее. Большую часть вечера сидела она неподвижно в углу, наморщив брови и завистливыми глазами следя за мелькавшими мимо нее парами. Гувернантка Баймаковых заметила невеселое выражение лица девочки и подошла к ней.
— Вы, кажется, не очень любите танцевать, моя милая, — ласковым голосом сказала она ей, — пойдемте со мной в детскую, посмотрите, как там веселятся Адя и другие дети; может быть, и вам захочется поиграть с ними, — Лицо Веры вспыхнуло; доброта гувернантки не тронула, a раздражила ее. «Жени двумя годами моложе меня да танцует с большими, — мелькнуло в уме девочки, — a меня хотят засадить в дет скую с трехлетними крошками».
— Играйте сами с Адей, если это вам нравится, — грубым голосом проговорила она, — я не уйду отсюда!
Она встала с места и отошла от гувернантки, с удивлением и жалостью поглядевшей вслед ей.
Пробираясь между танцующими парами, Вера стала за дверью в гостиную. В этом уголку никто ее не видел; она могла на свободе хмуриться, ворчать и грызть от злости свой батистовый платок.
— Жорж, — услышала она за дверью голос тетки, стояв шей y входа в гостиную, — ты забыл, о чем я тебя просила?
— О чем, мама?
— Стараться, чтобы всем гостям y нас было весело, расшевеливать конфузливых мальчиков, танцевать с девочками, с которыми другие не танцуют.
— Да я же это и делаю, мама. Я и Борю просил помогать мне. Смотри, как мы расшевелили Ваню Ланина: он прежде боялся с места встать, a теперь — видишь, как отплясывает. Вон Боря танцует с этой толстушкой, как ее? — Сашей Кузьминой, a я сейчас только посадил Глашу Ильину, она мне все руки оттянула!
— A с Верочкой Петровской отчего же ты не танцуешь?
— Ах, мама, да я ведь уже раз танцевал с ней! Она такая неповоротливая, скучная!.. С ней просто мученье!
— Не думаю, чтобы для тебя в самом деле было так тяжело доставить удовольствие бедной девочке, которая должна очень скучать, — серьезным голосом заметила Варвара Андреевна.
Жорж ничего не отвечал и пошел искать по залу свою некрасивую кузину.
Вера не проронила ни одного слова из разговора матери с сыном и положительно задыхалась от гнева. Тетка называет ее «бедной» девочкой, Жорж, — этот гадкий, отвратительный Жоржка! — смеет говорить, что танцевать с ней — мученье, смеет думать, что сделает ей благодеяние, если пригласит ее! Она вышла из своего угла и опустилась на первый попавшийся стул. Жорж тотчас же заметил ее и подошел к ней.
— Вера, пойдем танцевать, сейчас заиграют кадриль, — сказал он.
— Не хочу, — проговорила девочка, отвертываясь от него.
— Отчего же это ты? Ведь ты умеешь? Пойдем, не упрямься!
— Говорю тебе, не хочу; оставь меня в покое.
— Какая ты, право, сердитая! Вон уже заиграли! Идем скорей!
Он взял ее за руку, готовясь ввести в круг танцующих, но Вера, потеряв всякое самообладание, со всей силы ударила мальчика по лицу. Жорж поднял руку, чтобы отплатить ей тем же, но, к счастью, во время вспомнил, что перед ним слабая, болезненная девочка.
— Злючка! — сквозь зубы проговорил он и поспешил отойти от рассерженной девочки.
Поступок Веры заметили многие; через несколько секунд, говорили о нем в зале и в гостиной. Взрослые с сожалением поглядывали на Софью Павловну, понимая, как тяжела была эта история для материнского сердца. Дети были безжалостны к маленькой преступнице: они делали вид, что боятся ее, нарочно отбегали от нее подальше, и в то же время смеялись над ней, награждали ее разными нелестными прозвищами. Вера, вне себя от гнева, бранила всех и готова была даже драться; к счастью, встревоженная Софья Павловна поспела вовремя, чтобы удержать ее. Она сразу заметила по взволнованному лицу девочки, что всякие расспросы и увещания напрасны.
— Вера! — серьезным, почти строгим голосом сказала она, — Иди скорей одеваться: горничная тетеньки отвезет тебя домой.
Девочка не сопротивлялась, она даже рада была скорей уйти из этой ярко освещенной комнаты, где она испытала так много неприятностей от этих смеющихся, нарядных детей, готовых безжалостно замучить ее своими насмешками.
И вот, кончился для нее веселый праздник, о котором она мечтала не меньше других, к которому она готовилась всех усерднее и суетливее. Он кончился и не оставил в душе ее ни одного из тех светлых воспоминаний, которые после всякого такого праздника надолго красят и веселят однообразную будничную жизнь. Напротив, ей было так грустно и тяжело, что только стыд перед чужой горничной заставлял ее сдерживать рыдания, душившие ее во все время дороги домой. Дома она ничего не отвечала на расспросы при слуги, удивлявшейся, что барышня вернулась одна и так рано. Она поспешила раздеться, сердитым голосом приказала горничной унести свечу и, оставшись на постели в темноте, вполне предалась своим чувствам. Сначала она била кулаками подушку и одеяла, в бессильном гневе не только против Жоржа и других детей, обидевших ее, но и против тетки, против родителей, против братьев, против гувернантки и против ни в чем не виноватой Жени. Мало по малу гнев ее затих и заменился горьким сожалением о себе, о своей несчастной судьбе… «И отчего это я не такая, как другие, — думала бедная девочка, обливаясь слезами, — отчего я не такая хорошенькая, как Жени, отчего никто меня не любит, все меня обижают, все смеются надо мной! Даже мама не так ласкает, как других: других она называет «моя радость», «мое сокровище», a мне всегда говорит «Моя бедная девочка!» Несчастная я, несчастная!»
Когда остальная семья вернулась домой, Вера спала тяжелым, тревожным сном. Андрей Андреевич очень сердился на свою старшую дочь и всю дорогу уверял, что примерно накажет ее; но когда Софья Павловна подвела его к кроватке девочки и указала ему на ее жалкую, худощавую фигурку, разметавшуюся на постели, на ее бледное личико, опухшее от слез, ему стало жаль ее и он тихо прошептал:
— Бедняжка! Она довольно наказана!
Глава II
Те тяжелые часы, которые Вера провела, рыдая на своей постельке, пока ее братья и сестра веселились на вечере, были не первыми горькими часами в жизни девочки. Рано, очень рано начала она сравнивать себя с другими детьми, завидовать их преимуществам, мучиться своими недостатками.
Она родилась слабым, болезненным ребенком. Трех лет она едва могла ходить на своих тоненьких, кривых ножках; на шестом году кривизна ее спины стала заметна и увеличивалась с каждым годом; росла девочка очень медленно, желудок ее переваривал слабо, беспрестанно приходилось держать ее на самой строгой диете. A между тем, в одной с ней комнате жили ее братья — сильные, здоровые мальчики. Ей хотелось гулять вместе с ними, принимать участие в их играх, есть столько же, сколько ели они, a все это было для нее невозможно.
— Отчего же Митя и Боря идут, a мне нельзя! — плаксивым голосом говорила она, видя, как братья торопились надевать свои кафтанчики, чтобы идти в морозный зимний день.
— Отчего же ты Мите и Боре дала гостинца, a мне нет? — приставала она к матери, боявшейся лишним лакомством расстроить и без того слабый желудок болезненного ребенка.
— Они больше тебя, они мальчики! — говорила мать в утешение ей. И это отчасти утешало девочку. Она также вырастет, тогда и она будет бегать, гулять, есть гостинцы, как братья; мальчиком она, правда, не сделается, но это не беда, — няня говорит, что зато она будет носить хорошенькие платьица и шляпочки, каких мальчики не носят. Дело пошло хуже, когда подросла маленькая Жени. Живая, резвая девочка, несмотря на разницу лет, могла участвовать почти во всех удовольствиях братьев. Теперь уже нельзя было говорить Вере, что должна сидеть одна в комнате или довольствоваться вместо трех двумя кушаньями за обедом, потому что она «девочка», потому что она «маленькая». Другая девочка, еще меньше ее, пользовалась тем, в чем ей отказывали, и это на каждом шагу возбуждало в ней чувство самой мучительной зависти.
«Да отчего же Жени? Я хочу, как Жени! Дай мне, Жени!» — беспрестанно слышался ее то жалобный, то сердитый голос. Мать пробовала кротко объяснять ей, что не все дети равны, что Жени здоровее ее, что вещи, которые очень полезны для Жени, могут повредить ей, и т. д. Она была еще слишком мала и глупа, чтобы понимать такие рассуждения; она отвечала на них припадками гнева, топала ногами, отталкивала мать и часто старалась вымещать досаду на сестре, ни в чем не виноватой. Она ломала игрушки Жени, портила ее вещи, дразнила ее. Жени, конечно, не сносила этого терпеливо: она плакала, жаловалась няне или матери, Веру бранили, наказывали, и это еще больше раздражало девочку. С братьями она также беспрестанно ссорилась: они были мальчики не злые, вовсе не хотели обижать сестер, но, как почти все дети, не понимали и не умели щадить чувств других; они удивились, отчего Жени весело смеется, когда ее называют «большеглазая», «стрекоза», a Вера плачет и злится при слове «горбунья», «черепаха неповоротливая». Им казалось вполне естественным не допускать к участию в своих играх сестру, которая бегала очень тихо, задыхаясь, которая не умела ни лазать, ни скакать, до которой нельзя было пальцем дотронуться, чтобы не услышать тотчас: «Пожалуйста, осторожнее с Верой! Не толкните Веру! Не ударьте Веру!», и которая сама пищала и целый час плакала от самой, по-видимому, незначительной боли. Они не понимали, с какой горечью следила бедная болезненная девочка из своего уголка за их веселыми, шумными играми, с какой горечью глядела она на их оживленные, раскрасневшиеся лица, когда они возвращались с далекой прогулки; они возмущались, когда на их рассказы об испытанных удовольствиях она отвечала грубо и сердито; они убегали от нее, бросая ей какое-нибудь насмешливое прозвище, еще более увеличивавшее ее озлобление. Мать отчасти понимала тяжелое положение девочки и старалась, как умела, помочь ей, но она не могла много заниматься ею. После Жени y нее родилось еще два мальчика и девочка. Они, как и все малютки, требовали от матери самого тщательного ухода; но, несмотря на ее заботы, умирали рано, после продолжительных болезней. Отец не занимался воспитанием детей; слыша шум и ссоры в детской, он входил туда только для того, чтобы наказать виновных, и виноватой почти всегда оказывалась Вера. Он наказывал ее, возмущался рассказами о ее злости, находил, что с ней надо обращаться строго, начинал муштровать девочку. Она не поддавалась, плакала, злилась и, в конце концов, заболевала. Тогда отцу становилось жаль ее, он ее ласкал, грозил строго расправиться со всяким, кто обидит ее, покупал ей игрушек. Вера пользовалась этой слабостью отца и начинала распоряжаться в детской как маленький тиран. Нянькам, братьям, сестре, прислуге — всем доставалось из-за нее, и все, конечно, пользовались случаем отомстить ей, когда проходил прилив отцовской нежности.
Так шло детство девочки: в постоянной борьбе с окружающими, в постоянной зависти и злобе. Она не любила ни братьев, ни сестру, и они платили ей тем же; прислуга и няньки тяготились ею, тяготились той лишней работой, и какую надо было делать для нее, как для ребенка болезненного, и теми неприятностями, какие приходилось терпеть от ее дурного характера. Отец и мать смотрели на нее не с радостной надеждой, как на других здоровых детей, a с грустью и жалостью.
Вере было семь лет, когда у детей сделалась скарлатина. Митя, Боря и Жени поправились быстро, но y Веры и младшего двухлетнего братца ее болезнь приняла серьезный оборот. Малютка не вынес ее и умер, a Вера медленно поправлялась. Лежа на постельке, с закрытыми от слабости глазами, девочка слышала, как в соседней комнате мать рыдала над телом своего младшего любимого сына.
— Полно, не сокрушайся так, — утешал ее отец: — мы должны радоваться, что хотя остальные дети живы!
— Да отчего же именно он умер! — плакала мать, — он был такой славный ребенок, так радовал меня! Уж умерла лучше бы Вера: она все равно вечно болеет!
Слова эти, — необдуманные слова, нечаянно вырвавшиеся y огорченной матери, — легли тяжелым камнем на сердце бедной девочки. До сих пор, замечая, что мама ласкает ее чаще, чем других детей, и заботится о ней больше, чем о других, она считала себя ее любимицей, и это утешало ее. «Пусть папа и няня, Митя и Боря больше любят Жени, — думалось ей, — зато мама любит меня больше всех!» И в те немногие добрые минуты, когда ничто не раздражало ее, когда она, как всякий ребенок, чувствовала желание любить и быть любимой, она доверчиво шла к матери и со страстной нежностью отвечала на ее тихие ласки. Теперь это кончено! Она узнала, что мать не любит ее, что мать заботится о ней, ласкает ее только из жалости, как она один раз из жалости приласкала больного щенка, выброшенного на лестницу.
Вepa никому не намекнула на услышанные ей случайно слова, на страдания, причиненные ей этими словами, но в ту же ночь с ней сделался сильнейший жар. Она целую неделю была на краю гроба и, по словам доктора, только чудом осталась жива. Выздоровление ее шло очень медленно, a когда она снова вернулась в круг детей, все заметили, что стала больше прежнего дика и молчалива, что она еще меньше выказывает дружелюбия к окружающим и что она странно чуждается матери.
«Я знаю теперь, что никто меня не любит, — думала девочка, сердитыми глазами глядя на окружающих, — ну, что же? — и я никого не люблю и не хочу любить, a все-таки я мамина дочка, она должна делать для меня все то, что делает для Жени». И девочка зорко следила за всеми поступками матери и окружающих, готовясь каждую минуту защищаться от тех, по большей части воображаемых, несправедливостей, которые они делали относительно ее.
— Мама, отчего же вы купили Жени новое платье, a мне нет? — спрашивала она, видя, что мать кроит только одно платье.
— Жени перепачкала свое розовое платье, a твое еще совсем хорошо, ты надевала его всего один раз.
— Ну, так что же? Если я ношу платья бережливее чем Жени, так пусть y меня и будет больше. Нет, мама, непременно купите и мне такое же!
— Полно, Верочка, для чего же покупать лишнее! Когда тебе понадобится платье, я и тебе куплю.
— Нет, мне надо теперь, вместе с Жени! Вы ее больше любите, оттого и делаете ей больше чем мне.
И девочка начинала рыдать и не успокаивалась до тех пор, пока мать не уступала ее просьбам.
— Папа, вы дали братьям по целому яблоку, отчего мне половину? — приставала она к отцу.
— Оттого что яблоки тебе вредны.
— Я съем половину, a вы мне все-таки дайте целое. А с другой половиной сделаю, что хочу…
Отец, не любивший возни с детьми, давал ей яблоко и она выбрасывала половину его за окно только для того, бы иметь удовольствие чувствовать, что ей дано не меньше чем другим.
Похвалы красоте и грациозности Жени возмущали ее.
«И ничего в ней нет такого особенного, — думала она иногда, рассматривая в зеркале свое собственное некрасивое лицо; она, правда, беленькая, но зато y меня глаза больше и брови гуще; мама лучше наряжает ее, оттого она и кажется красивее». И девочка внимательно следила, чтобы мама не надела ни лишнего бантика, ни лишнего кусочка кружев на ее меньшую сестру.
Легко себе представить, что при таком характере Веры жизнь в детской Петровских шла далеко не мирно, особенно если прибавить к этому, что Митя был очень самолюбив и, требовал от младших уважения к себе, как к старшему. Боря любил дразнить и насмехаться, a Жени плакала при и всякой неприятности и бежала под крылышко кого-нибудь из старших.
После детского бала, так несчастно окончившегося для Веры, ссоры детей еще более усилились. Родители Веры, видя заплаканное личико девочки ночью и ее бледность на другой день, думали, что она получила довольно тяжелый урок и не упрекали ее за ее вспыльчивость; но дети не оставляли ее в покое. Они приставали к ней с расспросами, с насмешками, повторяли, что говорили про нее другие гости, при всяком удобном и неудобном случае вспоминали о ее несчастном приключении и быстром удалении с бала. Вера из себя выходила от гнева, осыпала всех бранью и оскорблениями, доходила до того, что, несмотря на свое бессилие, начинала драку. Жени с писком и слезами бежала жаловаться отцу или матери, братья сами расправлялись со «злюкой»; вместо смеха и веселых игр, в доме беспрестанно слышались крики, бранчивые голоса, слезы.
— Это просто нестерпимо! — вскричал один раз вечером Андрей Андреевич, нарочно уславший детей пораньше спать, чтобы избавиться от неприятного шума, — везде дети ссорятся, но уже так, как y нас — нигде! Надобно положить этому конец!
— Что же ты думаешь сделать? — с тревогой спросила Софья Павловна.
— A вот что: с нового года засадить их вплотную за книги, да с осени и отдать всех в гимназии. Пусть девочки поступят хоть в подготовительный класс, все равно — только бы заняты были!
— Что же, это отлично! — согласилась Софья Павловна. — Боря очень балуется дома, ему осенью будет почти двенадцать лет — пора, мы и Митю двенадцати отдали в гимназию; для Жени это также будет полезно: пусть приучается трудиться, да меньше думать о нарядах; только насчет Верочки не знаю: она такая слабая…
— Ничего: меньше будет злиться, так скорей поздоровеет.
— Пожалуй, что и так.
На другой день детям было объявлено решение отца. Боря приуныл: он видел, как усиленно занимался его старший брат, как часто проводил над книгами целые вечера и целые праздничные дни, как редко можно ему было пошалить; и погулять, — такая жизнь казалась ему мало привлекательной. Девочки, напротив, были очень довольны. Жени радовалась тому, что попадет в многочисленное общество подруг; гуляя, она часто встречала толпы девочек, возвращающихся с сумочками и саквояжами в руках из училищ; идти в этой толпе, знать, о чем они так весело болтают, так громко смеются, представлялось ей в высшей степени приятным. Веру тоже манило в гимназию, главным образом, общество, которое она там встретит: там так много и детей, и больших, они еще ее не знают и не думают о ней ничего дурного; может быть, она понравится им, они полюбят ее… Она и там будет стараться все делать лучше, чем Жени, и учиться прилежнее, и вести себя скромнее; ее будут хвалить, папа и мама увидят, как они несправедливы, считая ее хуже Жени, им станет стыдно, и Мите, и Боре, и всем, кто теперь смеется над ней, станет очень, очень стыдно.
С нового года детям пришлось, как и сказал Андрей Андреевич, засесть за книги. До сих пор Боря учился y учителя только три раза в неделю, и учился, надобно сознаться, довольно лениво. Резвый, живой мальчик очень любил чтение, особенно чтение путешествий и всевозможных опасных приключений на суше и воде, но учебники возбуждали в нем непреодолимую зевоту. Девочки понемножку занимались с матерью: Жени казалась еще слишком маленькой, и Софья Павловна находила, что рано начинать серьезно учить ее. Верочка часто хворала. Почти играя, мать выучила их читать, писать буквы, считать; до сих пор они не знали, что значит готовить заданный урок или сидеть за книгой, когда хочется поиграть. Теперь дело пошло иначе: учитель стал ходить к Боре каждый день; кроме того, мальчик должен был еще брать уроки y учительницы, которая аккуратно два часа в день занималась с его сестрами. Дети, особенно Боря, присмирели. Андрей Андреевич отчасти достиг своей цели; в детской слышалось меньше шума и ссор. Учительница находила, что Вера внимательнее и прилежнее сестры, и часто хвалила ее. Это подстрекало самолюбие девочки: она по целым часам просиживала за книгами и, ответив урок лучше Жени, чувствовала себя счастливой, меньше злилась, меньше обижалась. Среди занятий время шло для детей очень быстро. Незаметно пролетело полгода, лето близилось к концу, a с тем вместе приближался и день вступительного экзамена. Боря должен был экзаменоваться в первый класс мужской гимназии, обе девочки — в подготовительный класс женской. Учительница твердила, что Вера смело могла бы поступить и в седьмой класс, но Софье Павловне хотелось, чтобы учение давалось как можно легче слабенькой девочке: она все боялась за ее здоровье, и потому уговорила ее поступить в один класс с сестрой.
— Не беда, что первое время тебе будет легко, — убеждала она ее: — зато ты можешь отличиться, сразу стать первой в классе.
«И выше Жени» — мысленно договорила Вера, и это соображение заставило ее согласиться.
Глава III
Настали первые дни августа, a с ними и страшные для детей экзамена. Восьмого числа назначен был экзамен в мужской гимназии, куда должен был поступить Боря; девятого — в женской, куда собирались девочки, Боря сильно храбрился, и на все вопросы домашних: «что, страшно, боишься?», отвечал смехом и уверениями, что не чувствует ни малейшего страха. Андрей Андреевич сам повез его в гимназию; остальная семья с нетерпением ожидала их возвращения. Даже Вера забыла на время думать о самой себе и не завидовала тому, что мама все говорит и заботится об одном Боре.
В четыре часа раздался резкий звонок; дети выбежали в переднюю. При первом взгляде на лица вошедших видно было, что дело неладно. Андрей Андреевич смотрел строго и сердито, Боря был бледен и сконфужен.
— Ну, что? — нетвердым голосом спросила Софья Павловна.
— Да то, чего я и ожидал! — резко отвечал Андрей Андреевич, шумно входя в столовую: — я всегда говорил, что это негодный лентяй! Срезался на всех предметах! Из русского получил двойку, из закона Божия двойку, из арифметики учитель прямо мне сказал, что он ничего не знает…Что мы теперь будем с ним делать? В мастерство его отдать какое-нибудь? Так ведь и там лентяев не потерпят! Пастухом его сделать, свинопасом — он ни на что другое не годен…
Во время всей этой сердитой речи отца, Боря стоял молча, опустив голову, видимо с большим трудом удерживаясь от рыданий. Софья Павловна понимала, как страдал бедный мальчик, как тяжело был он наказан за свою леность и беспечность, но она не хотела приласкать его, выказать ему сочувствие, чтобы еще больше не раздражить мужа.
Митя и девочки также присмирели и с состраданием поглядывали на брата. Горничная, вошедшая объявить, что обед подан, положила конец тяжелой сцене. Молча, грустно сидели все за столом. Жени попробовала было заговорить о чем-то постороннем, но строгий взгляд отца заставил ее прикусить язычок.
— Вот посмотрим, что-то завтра вам будет, — заметил Андрей Андреевич, когда девочки подошли благодарить его за обед, — пожалуй, также осрамитесь!
И слова эти пробудили в них на время забытый страх.
— Верочка, давай учиться, я все нетвердо знаю молитвы, — шепнула Жени.
И обе девочки уселись, с книгами в руках, в уголке детской.
Софья Павловна сама хотела везти их на экзамен, но, как нарочно, y нее с утра сильно разболелась голова и им пришлось ехать с отцом, что еще более усиливало их тревогу: руки Веры дрожали до того, что она едва могла за стегнуть пуговку своей кофточки, y Жени побелели не только щечки, но даже губки.
— Бедные деточки, они волнуются! — вздыхала Софья Павловна, — будет ли им удача… — И забота о детях еще больше увеличивала ее боль. К счастью, ей пришлось ждать недолго. Во втором часу Митя с радостным лицом вбежал к ней в комнату.
— Идут, мама, — кричал он: — и, должно быть, все сошло хорошо! Папа веселый, несет коробку, кажется, с конфетами!
Через две минуты девочки, запыхавшись от скорой ходьбы и волнения, уже обнимали мать. По их радостным, оживленным лицам видно было, что страшный экзамен окончился благополучно.
— Выдержали? Ну, как я рада! Рассказывайте же, разсказывайте подробно, как все было? — спрашивала мать, целуя и лаская их.
— Сегодня можно рассказывать, — заметил Андрей Андреевич, также входя в комнату жены, — хоть девочки не осрамили нас: Жени очень мило читала и по-русски, и по-французски, по-немецки немного сбивалась, но учительница похвалила ее за хороший выговор, в счете она также сплоховала, но это, говорят, ничего; a Вера так просто отличилась. Начальница говорит, что она без труда могла бы поступить и в седьмой класс, — все ею восхищались.
— Умница, Верочка, поздравляю! — и мать еще раз нежно поцеловала обрадованную девочку.
Этот день был днем торжества для Веры: ее хвалили, ласкали, отец беспрестанно называл ее «своей умницей», гостям, приехавшим к обеду, рассказали о ее успехе, братья и Жени не только не смеялись над ней, a напротив — относились к ней с каким-то уважением; даже прислуга смотрела на нее приветливее, услуживала ей охотнее обыкновенного. Девочка краснела, глаза ее сияли торжеством, она не опускала головы, не хмурилась, не подозревала в каждом слове оскорбления, глядела смело и бодро, охотно прислушивалась к разговорам гостей, беспрестанно ожидая чего-нибудь для себя лестного. Одно несколько нарушало ее праздничное настроение: ей казалось, что мать слишком холодно относится к ней, слишком мало сочувствует ее торжеству. На самом же деле Софья Павловна была от души рада, что на долю ее бедной, обиженной природой, девочки выпал счастливый день; ей приятно было думать, что y Веры, может быть, разовьется любовь к умственному труду, что-то умственное превосходство, которое она приобретет, поможет ей победить неприятные стороны ее характера, заставит окружающих забыть о ее физических недостатках. Она с любовью глядела на сиявшее лицо девочки, на ее небывалое оживление…Но еще более нежности чувствовала она, когда глаза ее обращались на грустного, униженного, подавленного своей неудачей Борю. Куда девалась вся бойкость, вся неугомонная резвость, вся шумная веселость бедного мальчика! Он сидел неподвижно, бледный, молчаливый, едва поднимая глаза, односложно отвечая на все вопросы, с которыми к нему обращались. A Андрей Андреевич, как нарочно, во всех похвалах Вере делал колкие намеки на него, сравнивал их рост, здоровье, время, когда они начали учиться, говорил о том, какое мученье иметь сыновей, как много хлопот и как мало радостей доставляют они, спрашивал, не знает ли кто-нибудь такой должности, на которую нужны лентяи, и так далее и тому подобное.
Мать понимала, как болезненно отзывались все эти слова в сердце чувствительного мальчика; она не могла вполне радоваться радостью одного ребенка, когда подле нее страдал другой.
После обеда Боря не мог долее выдержать, он незаметно ускользнул из комнаты, убежал в детскую и, бросившись на кровать, дал полную волю слезам. Не прошло и четверти часа, как подле него уже сидела мать. Не стесняясь присутствием ни мужа, ни посторонних, она дала полную волю своей нежности: она осыпала мальчика ласками, она старалась утешить и, главное, ободрить его; она доказывала ему, что для него далеко не все потеряно, что он вполне может загладить свою прежнюю леность усиленным трудом, что при его хороших способностях ему не трудно будет достигнуть успеха. И мало-помалу мальчик успокоился, глаза его заблестели надеждой и решимостью, на губах появилась прежняя светлая улыбка.
Вера, проходя мимо детской, увидела в полуотворенную дверь, что голова брата лежит на плече матери, что мать тихонько гладит его волосы и говорит с ним нежно, с любовью. Вся веселость вмиг исчезла с лица девочки. «Вот как, — думала она, медленно возвращаясь в гостиную, — мама сидит с Борей, чтобы ласкать и целовать его! Он — лентяй, негодный мальчик, ничему не хотел учиться, не выдержал экзамена, a она все-таки любит его больше, чем меня; на меня она и внимания не обращает, a я ведь умная, прилежная, все меня хвалят!» И, чтобы получить эти похвалы, она беспрестанно вертелась около отца или принималась громко рассказывать Мите все подробности экзамена.
В день, назначенный для начала классов, обе девочки бодро и весело отправились в гимназию. Жени радовалась и новому темно-коричневому платьицу, надетому на ней, и красивым тетрадям, купленным ей отцом, и необыкновенно почетному в ее глазах званию гимназистки и, главное, тому, что «там много девочек». Вера решилась постоянно отличаться так, как отличалась на экзамене, и заранее радовалась в ожидании будущих успехов.
В гимназии сестры с самого первого дня повели себя совершенно различно. Жени быстро перезнакомилась со всем классом, во время большой перемены поссорилась с одной девочкой и подружилась с двумя другими; уходя домой, так расшалилась в передней, что заслужила строгий выговор классной дамы, a дома в подробности описала почти всех своих новых подруг, но зато очень смутно помнила то, что происходило в классе, и совсем не знала, какие уроки заданы. Вера, напротив, не разговаривала почти ни с кем из девочек, но зато не прослушала ни одного слова учительницы и заслужила ее похвалу за внимание и скромное поведение.
— Ну, что, Вера, не получила ли награды за прилежание? — подсмеялся над ней Митя, видя, как усердно она принимается готовить уроки к следующему дню.
— Награды не получила, a меня очень хвалила учительница, — с самодовольством отвечала Вера.
— A девочкам я понравилась больше чем ты, — подхватила Жени, — они говорят, что я и лучше, и веселее тебя.
— Пусть говорят, что хотят, — не без досады отвечала Вера, — мне до них нет дела: я буду лучше стараться угождать классным дамам и учительницам.
И она действительно старалась.
Классная дама вышла на минуту из комнаты; в классе тотчас же начался шум, беспорядок: мимо окон прошел отряд солдат с музыкой, девочки вскочили со своих мест, бросились к окнам, на окна. Одна Вера сидит на своей скамейке, спокойно продолжая заниматься. Классная дама возвращается.
— Это что за беспорядок, — сердится она: — как вы смели сходить с мест, лазать на окна? Всем вам сбавлю по баллу за поведение.
— Я сидела на месте! — почтительно замечает Вера.
— Знаю, Петровская, я видела: вы одна здесь умная девочка.
«Выскочка!» — шепчут подруги Веры, сердито глядя на нее.
Учительница задает трудный урок.
— Ах, это много, нам этого не выучить! — жалуются дети.
— Полноте, это совсем не так трудно, — убеждает их учительница, — да неужели же в самом деле никто не может выучить такой безделицы?
— Я могу, — робко отвечает Вера.
— Ну, вот видите, Петровская может. Умница Петровская, прилежная девочка!
«Выскочка! Прилипала!» — пуще прежнего сердятся подруги.
Хотя Вера уверяла, что нисколько не интересуется мнением о себе подруг, но на самом деле это было не так: ей от души хотелось быть первой, отличнейшей ученицей, заслуживать постоянные похвалы старших и в то же время хотелось пользоваться общей любовью, общим уважением сверстниц, но она совершенно не знала, как приняться за дело, чтобы достигнуть этой двойной цели. Иногда она вдруг начинала оказывать всякие услуги какой-нибудь одной или нескольким девочкам, думая этим склонить их на свою сторону, но эта неожиданная услужливость только удивляла и смешила их; в другой раз она, заслыша ссору, принимала сторону одной из ссорящихся и старалась защитить ее от воображаемых обид другой, но дело кончалось тем, что обе спорщицы сердились на нее за непрошенное вмешательство и соединялись против нее же; иногда ей приходило в голову доказать всем свой ум и знания, помогая другим готовить трудные уроки, повторяя им объяснения учительницы; этому девочки были действительно рады и с большим удовольствием принимали ее помощь; но вот случилось раз или два, что ученицы, подготовленные Верой, ответили урок лучше ее и получили высший балл — она побледнела от злости и с тех пор никогда не отвечала ни на какие вопросы, касающиеся заданного.
«Петровская, дай списать задачку! — Петровская, скажи, как надо перевести эту фразу, ты наверно помнишь?» — приставали к ней, но она оставалась непреклонной, и тем, конечно, возбуждала против себя величайшее неудовольствие.
Первое время по вступлении ее в гимназию никто не обращал внимания на ее некрасивую наружность. Среди массы детских лиц, из которых далеко не все отличались миловидностью, ее лицо не казалось безобразным; младшие девочки не заметили неправильности ее сложения, a старшие с состраданием поглядывали на «кривобокую новенькую», но никто не думал смеяться над ней. Но когда она заслужила нерасположение всех своих подруг, тогда они, разбирая ее недостатки, не оставили в покое и ее наружности. Проходя по классу, она часто слышала как ей кричали «Кривуля!», «Злая горбунья!», слышала как смеялись, что y нее рот до ушей, что волосы ее торчат, точно иглы ежа, что она, вероятно, со злости откусила чей-нибудь огромный нос и приставила к своему лицу и т. п. Эти насмешки Вера никак не могла переносить равнодушно: она злилась на обидчиц, отыскивала в их наружности и одежде что-нибудь заслуживающее насмешку, бранила их, кричала на них; только приход классной дамы мог заставить ее успокоиться, и то успокоиться по наружности, в душе же она чувствовала сильнейшее озлобление. Как прежде дома, так и теперь в гимназии, Вера не считала себя нисколько виноватой в том, что ее не любят, что ей делают неприятности; она во всем обвиняла окружающих и ненавидела их за их несправедливость к ней.
Глава IV
Прошел месяц. Жени училась довольно хорошо, потому что уроки были нетрудны и мать охотно помогала ей приготовлять их; подруги любили ее за живость, веселость, постоянную готовность принять участие во всякой проделке; классная дама часто делала ей выговоры, но снисходительно смотрела на ее шалости, видя что она еще мала и не привыкла к порядку общественного заведения. Вера стала первой ученицей, оставив далеко позади себя остальных; все учителя и учительницы единогласно хвалили ее необыкновенное прилежание и внимание, но зато подруги терпеть ее не могли. В свободное время она сидела или ходила всегда одна, ни от кого не слыша и ни с кем не говоря ни слова, или, напротив, ссорилась и бранилась, так что классная дама обратила на это внимание и несколько раз замечала ей:
— Петровская, я довольна вами, вы очень хорошо ведете себя в классе, но отчего это вы не можете жить в мире с подругами? У вас, должно быть, очень сварливый характер.
— Право, я не виновата, — оправдывалась Вера: — они завидуют мне и злятся за то, что я учусь лучше их.
Классная дама понимала, что это не может быть справедливо, но ей некогда было доискиваться причины детских ссор и объяснять ее Вере; она недоверчиво качала головой и замечала, что все-таки не хорошо ссориться и кричать.
Вера старалась быть тише, но не делалась от этого добрее. Напротив, она все более и более ожесточалась против подруг и уже окончательно отказалась от своего прежнего доброго намерения заслужить их любовь.
Неприятности, которые ей приходилось выносить беспрестанно, мучили ее до того, что она много раз собиралась просить отца и мать, чтобы они взяли ее из гимназии; одно что удерживало ее, что утешало ее за неприязнь подруг, — были похвалы начальства. Тщеславие ее было польщено этими похвалами, она дорожила ими больше всего на свете и ни за что не согласилась бы отказаться от них. И вдруг, о ужас! Ей пришлось убедиться, что начальство вовсе не такого хорошего о ней мнения, как она воображала.
Из всех уроков подготовительного класса, девочек всего более затрудняли уроки географии: учительница была строга, взыскательна и, в то же время, очень скупа на объяснения; за каждым ее словом нужно было следить очень внимательно, так как она терпеть не могла повторять дважды одно и то же. Раз урок ее показался детям особенно непонятным, и многие из девочек стали приставать к Вере, чтобы она помогла им вспомнить объяснения учительницы.
— Я сама ничего не помню, учите, как знаете! — резко отвечала Вера.
— Не может быть, чтобы ты не помнила, ты всегда помнишь; будь добренькая, Петровская, скажи хоть одно словечко!
— Ничего я вам не буду говорить: всякий сам должен слушать в классе, — сердито отказывалась Вера.
Даже дома она не согласилась помочь Жени готовить труд.
Учительница географии вызвала поочередно десять учениц, и ни от одной из них не могла добиться ни слова в ответ на свои вопросы.
— Что же это значит, девицы, — вскричала она: — неужели никто не приготовил урока? Петровская первая, помните, о чем я рассказывала в прошлый раз?
— Помню! — отвечала Вера и тотчас же твердым, громким голосом передала все объяснения, сделанные учительницей на предыдущем уроке.
— Очень хорошо, превосходно! — похвалила учительница и выставила ей в журнале высший балл 12.
Только что урок географии кончился, и учительница вышла из комнаты, как весь класс напал на Веру.
— Лгунья! Злая горбунья! Выскочка противная! — слышалось со всех сторон.
— Сама знала, a уверяла, что не знает, никому не хотела рассказать! Урод! Отодвигайся дальше от нас, мы не хотим сидеть подле тебя! Никто с тобой говорить не будет! Да на нее и смотреть-то противно, глядите — какая образина!
Вера, конечно, не оставляла этих любезностей без ответа и отбранивалась, насколько хватало сил. От слов дети скоро перешли к делу. В Веру полетели комки бумаги, куски мелу, осколки карандашей. Это окончательно взорвало ее; не помня себя от гнева, она стала бросать направо и налево тетради, книги; ударила одну маленькую девочку линейкой по руке так больно, что та с громким плачем отбежала прочь, a другую схватила за волосы. В эту самую минуту на шум в классе прибежала классная дама.
— Что это значит? Что за беспорядок! Все по местам! — закричала она.
Все девочки быстро уселись по скамейкам, одна Вера, ничего не слыша и не видя, продолжала трепать свою противницу, кричавшую во все горло.
— Петровская! Да вы с ума сошли! — вскричала классная дама, — сейчас оставьте Лапину.
Вера выпустила из рук Лапину, которая представляла самую жалкую фигуру со своими растрепанными волосами, раскрасневшимися щеками, заплаканным лицом.
— Петровская, — строгим голосом сказала классная дама: — я много раз замечала, что вы грубо обращаетесь с подругами и прощала вам потому только, что вы первая ученица; теперь вы дошли до того, что начали драться, как уличный мальчишка, — этого я не могу простить! Станьте к доске, вы простоите так до конца класса, и все узнают, за что вы наказаны. Идите, становитесь!
— Я не стану! Я не виновата! — проговорила Вера, едва переводя дух от волнения.
— Как, не станете, когда я приказываю? Это что за дерзость? Не виновата! A кто же побил Мятлеву и Лапину!
— Они сами меня обижали! Они бранились, кидали в меня бумагу! — оправдывалась Вера.
— Из этого вовсе не следует, что вы могли бить их! Да и вообще прошу со мной не рассуждать! Становитесь к доске!
— Я не ставу! — упрямо повторила Вера.
— Петровская! Если вы тотчас же не исполните моего приказания, я вас выведу из класса!
Вера видела, что дальнейшее сопротивление невозможно. Если классная дама исполнит свою угрозу, — a по лицу ее видно было, что она не намерена шутить, — и выведет ее, ей придется стоять в коридоре; вся гимназия узнает, что она подвергнута наказанию, самому позорному из гимназических наказаний, нет — уж лучше послушаться, как это ни тяжело! Медленными шагами, низко опустив голову, подошла девочка и стала на указанное место. В комнату вошла несколько запоздавшая учительница французского языка. «Это что значит?» — с удивлением спросила она, указывая на Веру. Классная дама тотчас рассказала ей, что застала Веру в драке, что она вообще сварливая девочка и давно заслуживает наказания.
— Ай, ай, как стыдно! — заметила учительница и приступила к уроку, не обращая более внимания на наказанную. A Вера ждала от нее не того: эта учительница не только постоянно хвалила ее больше всех остальных, но и обращалась с ней ласково, с сочувствием, и вдруг — теперь она тоже обвиняет ее, обвиняет, не выслушав от нее ни слова оправдания! Бедная девочка была подавлена стыдом и горем. Она, первая ученица, которую еще вчера инспектор назвал «красою класса», и вдруг — наказана, унижена перед этими девчонками, которые вывели ее из терпения, которые сами во всем виноваты! О, как ненавидела она их в эти минуты! A между тем она боялась поднять на них глаза, боялась со всех сторон встретить насмешливые, недоброжелательные взгляды? A классная дама, a учительница? Давно ли они так хвалили, так превозносили ее, a теперь обращаются с ней, как с самой последней ученицей! Все ее заслуги забыты… К чему же она так старалась, так всем угождала? О, теперь уже этого не будет!
Слезы готовы были брызнуть из глаз ее, слезы горя и досады, но гордость удерживала их: ей не хотелось показать, что наказание так сильно действует на нее, не хотелось выказать раскаяния, сожаления в сделанном проступке. Она считала себя невинной, a всех окружающих — злыми и несправедливыми, и чтобы не обрадовать их видом своей печали, душила рыдания и старалась сохранить на губах презрительную улыбку. Усилия, которые ей для этого приходилось делать над собой, были чрезмерно тяжелы для нее: лицо ее побледнело, она вся дрожала, точно в лихорадке, и с трудом держалась на ногах.
Уроком французского языка кончались в этот день классы. Только что учительница встала в места, чтобы уходить, в комнату вошла начальница гимназии, в сопровождении классной дамы, сообщившей ей о беспорядке в подготовительном классе. По лицу начальницы видно было, что она собиралась очень строго отнестись к виновнице этих без порядков, но болезненный вид Веры смягчил ее.
— Петровская, — позвала она тем не менее серьезным голосом: — Раиса Ивановна рассказала мне, как вы дурно вели себя сегодня и какое строгое наказание заслужили. Я уже давно замечала, что вы постоянно ссоритесь с подругами; это очень, очень дурно. Весь ваш ум, все ваши знания не принесут ни малейшей пользы и не дадут вам счастья, если вы не постараетесь исправить своего характера. Лучше быть глупой и невеждой, чем злой и сварливой! Вы можете идти домой, Раиса Ивановна прощает вас, но не забудьте сегодняшнего урока!
«И она также, и она против меня, — думала Вера, слушая наставление начальницы, — злая, сварливая; нет! — я не злая, они сами все злые, гадкие, несправедливые, я не хочу их больше видеть, я не хочу ходить в гимназию».
Девочка вернулась домой совсем больная. Долго сдерживаемые слезы вырвались наружу в рыданиях, превратившихся в истерику. Страшные спазмы сжимали ее грудь и горло, в руках и ногах ее показались судороги. За этим припадком последовал полный упадок сил. Вера лежала на постели бледная, с закрытыми глазами, и слабым голосом жаловалась на страшную боль в голове и груди. Андрей Андреевич и Софья Павловна не на шутку перепугались. Жени рассказала им все, что произошло в гимназии, и это еще больше огорчило их.
— Что мы будем с ней делать? — говорила Софья Павловна. — В общественном заведении ее не могут не наказывать, когда она этого заслуживает, a между тем наказания так сильно действуют на ее здоровье…
— A может быть строгость исправит ее, — заметил Андрей Андреевич, — может быть, она постыдится наказаний и будет себя лучше вести.
— Нет, друг мой, ты не знаешь Веры, — вздохнула мать, — наказания только больше озлобляют ее. Я уверена, что, выздоровев, она все будет придумывать, как отмстить подругам за вынесенную неприятность.
— Да, мама, — вмешалась в разговор Жени, — когда мы ехали домой, она все твердила: «Гадкие, несправедливые, я им себя покажу! Они говорят, что я злая, — хорошо же! Увидят они мою злость!..»
— Экий отвратительный ребенок! — вскричал Андрей Андреевич.
— Бедное, бедное дитя! — с грустью проговорила Софья Павловна, глядя на бледное, страдальческое личико девочки.
Глава V
Ha другое утро Вера проснулась поздно. Хотя голова и грудь ее еще болели, но она уже могла встать с постели. Митя и Жени давно уже ушли в гимназию, Андрей Андреевич уехал из дома по делам, Боря занимался в своей комнате с учителем, Софья Павловна одна ждала дочь в столовой. Боясь раздражать девочку и вызвать y вея повторение болезненного припадка, она заговорила с ней весело и ласково, не вспоминая о вчерашнем. Вера отвечала нехотя, и сама навела разговор на то, что, по-видимому, сильно занимало ее.
— Мама! Жени рассказала тебе, что было в гимназии?
— Да, милая, рассказала.
— Значит, ты знаешь, как меня обидели? Я после этого не могу больше ходить в гимназию.
— Полно, душенька! Жени поступила в гимназию вместе с тобой да была наказана уже два раза, и Митю наказывают иногда; надо принимать это спокойнее.
— Нет, мама, я не могу принимать это спокойно, — меня наказали несправедливо! Девочки смеялись надо мной, обижали меня, им Раиса Ивановна ничего не сказала, a меня, первую ученицу, поставила y доски перед целым классом! Этого никто и никогда не может перевести спокойно!
— Может быть, классная дама и в самом деле поступила с тобой слишком строго, но, сознайся, что ведь и ты была виновата: ты дралась с подругами, била их, — этого тебе нигде не позволят! Постарайся жить в мире с подругами и тебе будет весело в гимназии…
— Нет, этого я также не могу! Они завидуют мне за то, что я умнее их, лучше их учусь; они обижают меня, насмехаются надо мной, a я… Я ненавижу их. Я никогда, никогда не буду жить с ними в мире!
— Но, милая, в таком случае тебе придется часто терпеть наказания; я уверена, что папенька не согласится взять тебя из гимназии.
— A я не буду там учиться!
Софья Павловна не стала продолжать разговор, который раздражал девочку; но на деле вышло так, как она говорила. Андрей Андреевич и слышать не хотел о том, чтобы потакать «капризам избалованной девчонки» и строго приказал Вере на следующий день отправляться в гимназию. Вера не посмела ослушаться отца, но она явилась в класс в самом дурном расположении духа. Во время уроков она была небрежна и невнимательна, с подругами говорила грубо и сердито, на замечания классной дамы отвечала дерзостями. Кончилось тем, что ее опять наказали, и она вернулась домой с головной болью, из-за которой опять пролежала весь вечер в постели.
Так дело тянулось недели две. Вера ничему не училась, ссорилась и бранилась со всеми подругами, навлекала на себя беспрестанные выговоры и наказания, и от всех этих не приятностей постоянно хворала. Наконец Андрей Андреевич решился серьезно поговорить с девочкой.
— Послушай Вера, — сказал он ей: — что за дурь забрала ты себе в голову? Тебя все хвалили, думали, что из тебя выйдет умная, образованная женщина, a ты хочешь бросить ученье, остаться на всю жизнь дурой, невеждой?
— Нет, папа, я очень хочу учиться, только я право не могу быть в гимназии, — там меня очень обижают.
— Тебя везде будут обижать, если ты не постараешься исправить свой отвратительный характер. У меня нет средств, чтобы нанимать тебе отдельных учителей. Не хочешь учиться в гимназии — расти дурой.
— Позвольте мне, папа, дома учиться, вместе с Борей.
Андрей Андреевич не ответил на это ни да, ни нет, но, обдумав дело и переговорив с Софьей Павловной, нашел, что на просьбу Веры можно согласиться.
— Если бы она была крепкая, здоровая девочка, — с ней можно бы обращаться построже, — говорила мать: — но ведь ты видишь, какая она слабенькая, как всякая неприятность гибельно действует на нее; за это время она похудела и побледнела до того, что на нее страшно смотреть; пусть себе спокойно живет дома и учится, как и сколько может; вырастет, поумнеет — может быть и исправится, a нет, — что делать! Еще хуже, если она наживет себе какую-нибудь тяжелую болезнь.
Для Бори Андрей Андреевич нашел строгого взыскательного учителя, который очень серьезно занимался с своим учеником и никак не давал ему лениться. Узнав, что Вера хочет брать уроки вместе с ним, мальчик очень обрадовался: хотя он не был дружен с сестрой и ссорился с ней в последнее время реже только потому, что y обоих их было меньше свободного времени, но все-таки сидеть в классе с ней вместе казалось ему веселее, чем наедине с суровым, молчаливым учителем. Учитель, напротив, не выразил никакого удовольствия, узнав, что y него является новая ученица.
— Я не привык заниматься с маленькими детьми, — сухо заметил он, неприветливо оглядывая Веру с ног до головы, — и не знаю, сумею ли взяться за дело. Особенно с девочками — беда! Сейчас начнутся слезы, писк…
— Я никогда не плачу в классе! — гордо проговорила Вера, — я только годом моложе Бори, со мной можно обращаться так же, как с ним…
Самоуверенный голос так не шел к ее маленькой, тщедушной фигурке, что учитель не мог удержаться от улыбки.
— Увидим! — сказал он, — чему же вы хотите учиться, большая девица?
— Всему, чему учится Боря.
— Как? И латинскому языку?
— Конечно, я буду стараться, вы увидите, что я не глупее Бори!
— Я вижу, что вы довольно высокого о себе мнения.
Урок начался. Учитель, желая немного убавить самоуверенность девочки, не старался делать его для нее ни легче, ни интереснее. Вера была этому очень рада: она любила, чтобы к ней относились серьезно, как к взрослой девочке, чтобы ей давали возможность выказать все свои способности. Учитель остался очень доволен ею, и она слышала, как уходя он сказал ее матери: «Кажется, мы будем дружны с вашей дочкой: удивительно способная и прилежная девочка».
Эти слова придавали новую бодрость Вере, и теперь она уже не сомневалась более в своих силах.
— С чего это ты выдумала, Вера, учиться по-латыни? — говорил ей Боря, — девочки никогда не учатся древним языкам: это для них слишком трудно.
— Пустяки! Одна учительница в гимназии говорила нам, что девочкам стоит только постараться и они могут всему научиться не хуже мальчиков. Я и постараюсь! Я знаю, что я не могу быть такой хорошенькой и ловкой, как Жени, но я наверно не глупее тебя и Мити; увидишь, что я догоню и перегоню тебя в учении!
Такое «нахальное хвастовство», как назвал Боря слова сестры, передавая их позднее Мите, до того поразило мальчика, что он не нашелся ответить на него, a Вера, между тем, принялась серьезно исполнять свое намерение «догнать и перегнать» его.
Она прилежно училась до и после поступления в гимназию, но это прилежание было ничто в сравнении с той, можно сказать, жадностью, с какой она набросилась теперь на книги.
Учитель, заметив, что y нее большие способности к математике, в занятиях с ней обратил особенное внимание на этот предмет, и через несколько недель она стала решать арифметические задачи быстрее и правильнее Бори. Этот успех не удовлетворил честолюбивую девочку: ей, главным образом, хотелось сравняться с братом в том, чем он наиболее гордился — в латинском языке. Это было дело нелегкое. Боря уже два года учился по-латыни и успел преодолеть первые трудности латинской грамматики, она же только что знакомилась с русской грамматикой, a по-латыни не знала ни слова. Но это не смущало ее. «У меня способности не хуже, чем y Бори, — говорила она сама себе, — это и учитель сказал; Боря ленив, a я прилежна, он учится пять часов в день, a я буду учиться десять; через год я наверно догоню его!»
— Вера, Верочка! — звала ее мать, видя, как она сидит за своим письменным столиком, оперев на обе руки усталую голову, не слушая и не слыша ничего, что делалось вокруг, заучивая целые сотни латинских слов и десятки грамматических правил, — Верочка, я с тобой говорю!
Девочка ничего не слышала, и мать должна была класть руку на ее книгу, чтобы заставить ее оглянуться.
— Что тебе, мама? — недовольным голосом спрашивала она, досадуя на перерыв в занятиях.
— Брось ты эту латынь, голубчик; посмотри, как ты измучилась: голова горит. руки как лед; я занимаюсь с тобой французским и немецким языками, — право, этого для тебя довольно!
— Отчего же для Бори не довольно, a для меня довольно?.. Не мешайте мне учиться, мама.
— Боре все легче дается, чем тебе, дружок. Вов он уже давно приготовил все уроки и скачет, как конь без узды, a ты целый день сидишь над книгой, — это вредно, ты заболеешь.
— Никогда не заболею от учения! Уж если заболею, так скорей от того, что вы мне мешаете делать, что мне хочется, что мне приятно.
Мать со вздохом отходила от упрямой девочки, a на следующий день Вера отвечала учителю урок втрое больше заданного им, и отвечала так твердо и хорошо, что на несколько минут вся его суровость исчезала и он осыпал ее похвалами.
Эти похвалы, особенно когда к ним присоединялось какое-нибудь замечание о недостатке прилежания y Бори, заставляли девочку забывать и усталость, и головную боль; они придавали ей силу и бодрость на новые труды. Учитель и не подозревал. что его одобрение постоянно питает и развивает тщеславие девочки; впрочем, если бы он даже и подозревал, это не заставило бы его изменить обращения: он брался учить детей, сообщать им как можно больше знаний и заботился только о их успехах в науках; чувства же их, свойства их характера вовсе не интересовали его. Ему было все равно, из-за чего учится ребенок — из страха, из тщеславия или из любви к науке, только бы он всегда исправно готовил заданные уроки, да смирно, внимательно сидел в классе. Боря не нравился ему своей живостью, впечатлительностью, недостатком усидчивости. Вера же вполне удовлетворяла его, и он с видимым удовольствием занимался с ней. Он не замечал, что, слушая его объяснения или рассказы, девочка не интересуется тем, о чем он говорит, не заботится понять вполне смысл его слов, a думает только, как бы запомнить его выражения, его фразы и потом повторять их; что она старается только заучивать уроки, a не основательно выучиться чему-нибудь; что ее не радует, как Борю, когда она может узнать что-нибудь новенькое, a напротив, ей больше нравится или повторять старое, потому что это легче и она скорей может заслужить похвалу, или запоминать мудреные слова, которыми можно похвастать. Благодаря этим мудреным словам, которые девочка старалась и кстати и некстати, вставлять в свои разговоры, благодаря книгам, которых она не выпускала из рук, все домашние скоро стали считать ее не по летам умной.
— Не жалей о том, что ты не хороша собой, — говорила ей иногда мать: — ум важнее красоты; если ты будешь умной, образованной женщиной, никто не станет обращать внимания на твою наружность.
Вера и сама стала меньше прежнего думать о своей наружности; смотря на себя в зеркало и сравнивая свое некрасивое лицо с прелестным личиком сестры, она не печалилась, не сердилась, как прежде, a напротив, гордо встряхивая своими темными, жесткими кудрями, думала: «пусть себе Жени гордится своей красотой, — это все пустяки: когда мы вырастем большие, ею будут любоваться, a со мной все-таки всякому приятнее будет и посидеть, и поговорить, потому что я буду гораздо умнее ее». Наряды также перестали занимать Веру. Когда она видела, что мать собирается шить обновки ей и сестре, она не кричала, как прежде: «пожалуйста, мама, мне такое же, как Жени!», a напротив, презрительно замечала: «наряжайте, мама, Жени, — мне этого не нужно!» Теперь Вера ссорилась с сестрой и с братьями меньше прежнего, но вовсе не оттого, что стала добрее, что стала больше любить их. Она по-прежнему завидовала им и не желала сочувствовать ни их радостям, ни их горестям. Только теперь и y нее, и y них было меньше свободного времени, им некогда было заводить длинные споры и ссоры из-за всякого пустяка; они перебрасывались несколькими бранчивыми фразами, затем по целым часам дулись, ничего не говорили друг с другом, и в детской господствовала тишина, радовавшая Андрея Андреевича.
Была ли Вера в это время счастливее, чем в первые годы своего детства? Она, как и все дети, не задавала себе этого вопроса, но стоило взглянуть на ее вечно нахмуренное, озабоченное личико, чтобы понять, как ей далеко было до счастья. Да и правду сказать: мало радостей, и зато много неприятных, горьких минут приходилось ей переживать.
Вот возвращается из гимназии Жени, свеженькая и веселенькая, как всегда, и со смехом рассказывает разные гимназические приключения; Вера молча слушает, и грустно ей, что y нее нет подруг, нет сверстниц, с которыми она могла бы и поиграть, и пошалить иногда. В воскресенье к Мите собирались товарищи, y них затевались разные шумные игры, первым зачинщиком которых был обыкновенно Боря, но в которых и Жени часто принимала деятельное участие. Вера не могла бегать и скакать, как другие, она сидела над книгой, стараясь утешить себя мыслью, что она зато будет всех умнее, но эта мысль плохо помогала ей: всякий раз, когда до ушей ее долетали взрывы веселых криков и смеха, сердце ее болезненно сжималось; она чувствовала, что будь она так же здорова, как и Жени, и она с радостью отбросит латинскую грамматику и станет веселиться вместе с другими.
Жени с Борей ушли в уголок и о чем-то оживленно шепчутся; они помогают друг другу во всех шалостях, оттого y них всегда секреты, всегда какие-то особенные, приятные разговоры.
— О чем это вы говорите? — подходя к ним, спрашивает Вера.
— Тебе что за дело? Поди прочь! — резко отвечает Жени.
— Отправляйся к своим книгам, ты ведь ученая! — прибавляет Боря.
Вера отходит, награждая их названием «дураки», но это нисколько не утешает ее. Ей грустно, что никто никогда не пошепчется дружески с ней, не расскажет ей своих секретов, что она чужая и для сестры, и для братьев.
Митя достал себе новую книгу, он читает ее с интересом, с увлечением. Щеки его разгорелись, глаза блестят, он готов ради книги забыть и пищу, и питье; он с одушевлением разговаривает о прочитанном со всеми, кто согласен слушать его; видно, что чтение доставляет ему величайшее удовольствие. Вера с удивлением смотрит на него; она целые дни просиживает над книгами, но никогда не испытывает ничего подобного. Для нее и чтение, и ученье — труд, тяжелый труд, a никак не наслаждение; она не понимает, как может Митя радоваться тому, что понял или узнал что-нибудь, за что никто не будет его хвалить, восхищаться им. Она не понимает, a между тем ей ясно, что чувства брата приятны; и грустно ей, что она не может испытать того же…
Даже те радостные минуты ее жизни, когда она слышала себе похвалы, были часто, очень часто отравлены. Когда учитель, прослушав ее и Борин ответ, замечал: «Хорошо! Вы, Верочка, очень твердо выучили, но Боря, кажется, лучше понял, в чем дело; послушайте, он вам объяснит», — то она готова была заплакать от досады. Когда кто-нибудь из гостей, часто обедавших y отца ее, обращался с каким-нибудь вопросом к ее братьям и давал им возможность показать свои знания, она бледнела от зависти. Всякая похвала другим казалась ей личным оскорблением, унижением ее достоинства; те же похвалы, которые получала она сама, представлялись ей недостаточными. Она обижалась, когда учитель просто говорил ей: «хорошо, очень хорошо!» — и выбивалась из сил, чтобы заслужить от него более горячие одобрения; a он, как нарочно, становился все скупее на эти одобрения, a силы все чаще и чаще изменяли ей. Не раз приходилось ей два-три дня лежать в постели; от сильной головной боли не раз, просидевши несколько часов кряду над книгами, она с ужасом замечала, что ничего не знает, ничего не могла выучить, и в отчаянии бросала занятия. «О, как тяжело, как страшно тяжело делаться ученой! — думала она иногда, сжимая руками свою бедную, больную голову, — и отчего мне это так особенно тяжело, отчего для меня ни в чем нет удовольствия, во всем одно горе, одно мучение?…»
Глава VI
На улице, перед домом, где живут Петровские, лежит густой слой соломы: y Петровских родился новый член семьи. Рождение детей не было чрезвычайным событием в этом семействе: после Жени y Софьи Павловны было четверо малюток и ни один из них не доживал до трех лет. На этот раз рождение маленького Пети возбудило общую тревогу, потому что оно сопровождалось опасной болезнью Софьи Павловны. Ради этой болезни лежала на улице солома, ради этой болезни все в доме говорили шепотом, ходили на цыпочках. Андрей Андреевич проводил дни и ночи y постели больной жены, детей к ней не пускали, им приказано было не вы ходить из своих комнат. Туда приносили им обед и чай туда доходили до них отрывистые сведения о положении матери, сведения грустные и тревожные.
— Сегодня папенька пригласил еще двух докторов, — сообщила им утром горничная, — наш-то не берется один лечить, говорит — плохо!
— Неужели, в самом деле, плохо? Неужели мама умрет? — перешептывались встревоженные дети. — Нет, не может быть! Новые доктора помогут ей; ведь мама часто бывает больна! — И они старались утешать друг друга, отгонять от себя страшную мысль.
Вечером в комнату их вошел отец; он был страшно бледен.
— Дети, — сказал он каким-то изменившимся, не своим голосом, — идите к матери!
— Что же мама? Лучше ли ей? — спрашивали они.
— Ничего, идите!
Они вошли в спальню и, дрожа от какого-то непонятного страха, подошли к постели. Вид матери несколько успокоил их: она не кричала, не стонала, наружность ее не выражала страдания, она лежала неподвижно; лицо ее, окруженное прядями спутавшихся волос, было бледно, полуоткрытые глаза глядели в пространство, из посинелых запекшихся губ вылетало редкое, прерывистое дыхание.
— Маменька, мы к тебе пришли; видишь ты вас? — прошептала Жени, положив ручку на руку матери.
Больная не пошевелилась.
— Разве мама спит? — спросила Вера y дамы в темном платье, стоявшей подле постели.
— Да, спит, поцелуйте ее осторожно и уйдите, — отвечала дама.
Дети наклонились над больной, они целовали ее в губы, в лоб, в руки — она ни одним движением не показала, что чувствует эти поцелуи. Неподвижность матери, взгляд полуоткрытых глаз испугали детей.
— Мама, мама, проснись, если ты спишь! — со слезами за кричала Вера, забывая всякую осторожность и хватая обеими руками холодеющую руку матери.
По лицу больной пробежала судорога.
— Довольно, довольно, дети, уходите! — торопливо заговорила дама в темном платье и быстро выпроводила их за двери.
На другое утро, проснувшись раньше обыкновенного, дети услышали в доме шум и суматоху. Горничная, пришедшая на зов их, залилась слезами при вопросе их: «что мама?»
— Что это значит? Неужели мама умерла? — взволнованным голосом спросил Митя.
— Скончались, сегодня, в четыре часа, — рыдая, отвечала горничная.
В первые минуты эта страшная весть не столько огорчила, сколько испугала, ошеломила детей. Они несколько раз видали гробы в своей квартире, но то были маленькие гробики крошечных братцев и сестриц, к которым они еще не успели привыкнуть, которых они еще не успели полюбить.
A тут вдруг гроб матери.
Первые дни, когда в дом постоянно приезжали и родственники, и знакомые, то на панихиды, то просто с изъявлением своего сожаления, дети невольно развлекались и не вполне чувствовали свое сиротство. Но вот тело отвезли на кладбище, родственники и знакомые, провожавшие покойницу в ее последнее жилище, разъехались, Андрей Андреевич заперся y себя в кабинете, дети остались одни в опустелых комнатах. Да, исчез только один человек, a между тем, все комнаты кажутся опустелыми, дети чувствуют себя одинокими, покинутыми. Они могут играть, шуметь и шалить, сколько хотят, они не услышат голоса, заботливо предостерегающего их: «Тише, дети, папенька рассердится!» или «Переставьте, приготовьте прежде уроки!» — но ни игры, ни шалости не идут им на ум! О, как дорого дали бы они, чтобы услышать опять этот голос, даже если бы он звучал не лаской, a угрозой, сулил им не радость, a наказание!
Митя взял книгу и попробовал читать, но чтение не за нимало его; он отбросил книгу и медленными шагами ходил взад и вперед но комнате; Боря, сидя в углу, насвистывал какой-то грустный мотив; Жени взяла в руки свою любимую куклу: ясно представилось ей, как всего месяц тому назад мать помогала ей шить наряды и одевать маленькую восковую красавицу, и ее быстро охватило сознание, что никогда, никогда больше заботливая рука матери ничего для нее не сделает, и, прижавшись головкой к мягкой ручке дивана, бедная девочка горько заплакала. Вера стояла y окна прижавшись лбом к холодному стеклу, и машинально глядела на улицу, в сумрак дождливого, осеннего вечера. Страшное «никогда», вызвавшее слезы Жени, сжимало ее сердце грустью и страхом. В первый раз явилось в ней сознание непрочности всего окружающего, ее охватил ужас смерти, этого страшного «чего-то», так неожиданно, так быстро похитившего ее мать, готового, может быть, также неожиданно унести и других, и ее саму. Ей вдруг стало казаться, что это чудовище стоит тут, подле, за ее спиной, и она не смела пошевелиться, не смела повернуть головы.
— Завтра надо идти в гимназию! Там нам будет лучше, — дома невыносимо скучно! — первый прервал тяжелое молчание Митя. — Ты пойдешь, Боря?
— Да, конечно, — отвечал Боря, и в голосе его слышалась радость, как будто слова брата дали ему надежду освободиться от непривычного уныния, угнетавшего его.
Два месяца тому назад, он очень хорошо выдержал экзамен и находил, что учиться в общественном заведении несравненно приятнее, чем y строгого учителя.
— A ты, Женичка? Полно плакать, милая! — обратился Митя к девочке таким ласковым голосом, какой сестры редко слышали от него.
— Я не могу ходить в гимназию, — плаксиво отвечала Жени, — я не умею приготовить уроков без моей милой мамы!
— Я помогу тебе, давай хоть сейчас! — предложил Митя, видимо желавший чем-нибудь рассеяться от печальных мыслей.
Жени нехотя достала свои тетради, нехотя подала их брату, нехотя слушала его объяснения. Да это было и ему все равно: он говорил не для нее, не для того, чтобы учить ее, a сам для себя, чтобы развлечь себя. Боре давно бессознательно хотелось того же; он подошел к брату и также заговорил сначала об арифметических задачах Жени, a потом о чем-то совсем постороннем. И Митя, и Жени поддерживали разговор, лучше говорить что-нибудь, о чем-нибудь, только не молчать, только опять не думать, не чувствовать того, что так тяжело думалось и чувствовалось за несколько минут перед тем.
A Вера по-прежнему стояла молча одна.
Громкие звуки их голосов прогнали ужас, охвативший ее, и он сменился едкой печалью: ей вдруг ясно представилось, как много раз огорчала она мать, какой неблагодарностью платила она за ее заботы, как часто холодно принимала ее ласки, — и ей до боли захотелось этих ласк, и казалось ей, что теперь она сумела бы оценить их. О, если бы можно было вернуть прошлое, если бы не существовало этого страшного «никогда», — как сильно, как нежно любила бы она мать, как старалась бы она на каждом шагу угождать ей, предупреждать ее желания, и как со своей стороны полюбила бы ее мать, как часто называла бы она ее своим сокровищем, своим утешением! A теперь! Кто когда-нибудь полюбит ее? Из всех окружающих одна мать относилась к ней нежно, сочувственно. Она, правда, не была любимой дочкой, как Жени; Борю также мама любила больше ее, но все же и ее любила, a теперь? — Теперь ее уже и совсем не кому любить!
Девочка опустила голову на грудь и крупные капли слез омочили ее новое траурное платье.
На следующее утро Митя и Боря пошли в гимназию, более молчаливые и грустные, чем обыкновенно, но отчасти с облегченным сердцем: те тяжелые чувства, какие они испытывали в последние дни, были так для них непривычны и так мучительны, что им бессознательно хотелось поскорей отбросить их, поскорей забыть свое первое серьезное горе в кругу товарищей, среди обычных занятий, мелких забот, шумных игр. Жени также пошла в гимназию, но прежде чем выйти из дому, ей пришлось горько поплакать: ее передник оказался не вычищенным, y нее не нашлось ни одной пары чистых нарукавничков.
— Отчего вы мне с вечера не сказали, барышня, что вам приготовить, — отвечала горничная на ее упреки, — a я-то и не подумала!
Слезы брызнули из глаз девочки. «Не подумала! Конечно, с какой стати горничная станет думать, заботиться о ней! Но кто же о ней подумает, позаботится? Неужели никто? Мама всегда говорила, что она еще мала, что время забот для нее еще не скоро придет, и вот оно пришло, пришло так неожиданно! Мама, милая мама, зачем она умерла?… Как тяжело жить без нее!»
Вера осталась одна дома. Андрей Андреевич с раннего утра ушел со двора; прислуга, наскоро убрав комнаты, удалилась в кухню; ничто не нарушало уединения девочки. В доме всегда было тихо по утрам, пока дети были в гимназии, но это не была такая мертвая тишина, как теперь. Вера всегда занималась уроками, сидя одна в комнате, но тогда она знала, что стоит ей отворить дверь — и она увидит мать; стоит ей прислушаться — и она услышит голос той же матери, разговаривающей с кем-нибудь из домашних, всегда готовой отвечать на всякий ее вопрос. A теперь — все двери отворены, нигде ни души; из кухни долетают временами звуки голосов, хохот людей, очевидно чужих, мало ей сочувствующих. Чувство одиночества и какой-то заброшенности сжало сердце девочки. Она села y своего столика и попробовала заняться уроками. Но учебники оказались ей еще более сухими и безынтересными, чем обыкновенно. С тех пор как Боря ходил в гимназию и она одна брала уроки y учителя, ее прилежание значительно уменьшилось, соревнование с братом не подстрекало более, a учение само по себе никогда не казалось ей привлекательным. Она сидела перед открытой книгой, машинально повторяя латинские слова, a в голове и на сердце ее была тяжесть…
Вдруг до слуха ее долетел слабый, жалобный крик. Она не сразу догадалась, откуда это; не сразу вспомнила, что кроме нее в доме есть еще ребенок — ее маленький новорожденный братец. Среди хлопот и горя, вызванных болезнью и смертью Софьи Павловны, о малютке мало заботились. Ему наняли кормилицу, отвели маленькую комнатку и затем никто о нем не думал. Вера видела его мельком, раза два, и мало интересовалась им. Теперь, из любопытства, от скуки, ей захотелось посмотреть на него. Она прошла в комнатку, предназначенную Пете. Кормилицы там не было; в маленькой, значительно потертой колыбельке пищало и барахталось крошечное человеческое существо; своими беспокойными и бессмысленными движениями малютка свернул простыню и одеяло, в которое был завернут, так что они упали ему на лицо, оставив тельце его до половины открытым; руки его беспомощно протягивались во все стороны. Вера осторожно открыла его личико, закутала его в одеяльце, и вдруг маленькая, сморщенная, красненькая рожица разгладилась, малютка перестал пищать, и Вере показалось, что он глядит на нее с благодарностью. Она села подле колыбельки и стала тихонько качать ее; маленькие глазки закрылись, ребенок заснул. Вера продолжала сидеть и глядеть на него; если она уйдет от него, он останется опять один; чужая женщина, взявшаяся заботиться о нем, не любит его, ей скучно сидеть с ним, и она его бросает; любящей матери y него нет и никогда, никогда не узнает он ее ласки; при этой мысли слезы навернулись на глаза Веры, слезы жалости к бедному, беспомощному крошке, лежавшему подле нее. «Жени плакала сегодня, что о ней некому позаботиться, — думала она, — и всем нам будет худо без мамы, но мы все-таки уже довольно большие, а как же будет жить он, такой крошка? Как мама заботилась о маленьких братьях! Как часто она целые дни нянчилась с ними, не спала ночи из-за них! Для него никто не будет этого делать… Когда y Жени был круп, доктор говорил, что только мамины заботы могли спасти ее. A если заболеет Петя? Его никто не станет спасать, да, может быть, никто и не пожалеет о нем. Папа всегда говорит, что не любит совсем маленьких детей, на Петю он даже и смотреть не хочет».
Грустные мысли Веры были прерваны приходом кормилицы. Она видимо сконфузилась, что ее поймали на небрежном исполнении обязанностей, и заговорила с Верой заискивающим, сладеньким голоском:
— Что, барышня, братца пришли понянчить? Что же — это хорошо, понянчите! Он ведь сиротиночка, бедненький, a вы ему старшая сестрица, заместо матери можете быть.
«Вместо матери? В самом деле? Неужели она, в самом деле, может заменить мать этому крошечному созданию?? Да отчего же нет! Она уже начинает любить его». И Вера не слушала дальнейших разглагольствований кормилицы, объяснявшей ей причину своего долгого отсутствия из детской и все трудности своего занятия; новый ряд мыслей и чувств, вызванных случайно брошенными словами этой женщины, вполне овладел ею.
Она так часто грустила о своем одиночестве, о своей как она мысленно называла, «заброшенности», о недостатке любви к себе во всех окружающих, и вот, перед ней существо, еще более заброшенное, еще более нуждающееся в любви! Что, если она даст ему эту любовь? Не отплатит ли он ей тем же, когда в состоянии будет чувствовать и понимать? Она будет для него матерью и он полюбит ее, как сын, так же, как она любила свою мать, даже больше, потому что мать делила свою привязанность между многими, оставляя на ее долю меньшую часть, a она отдаст все свое сердце этому крошке, он будет ее единственной заботой, единственной привязанностью, a она также станет для него единственной любовью…
— Вот хоть и маленький человек, — тараторила между тем кормилица: — a дела за ним не мало; ведь все я сама должна — ни кухарка, ни горничная ни в чем не помогают: давеча пеленки стирала, теперь надо бы их покатать, a как мне уйти, ребенка одного оставить? Кухня далеко — заплачет я и не услышу! Да вот еще и приданого ему мало наготовлено; распашоночки маменька скроила, да видно сшить не успела; всего четыре штучки и есть, a с этим далеко не уйдешь.
— Дай я пошью, — предложила Вера, которой нетерпеливо хотелось начать исполнение своих материнских обязанностей, — ты иди в кухню, катай пеленки, a я буду здесь сидеть и шить; когда Петя проснется, я тебя позову.
— Ах, барышня, умница! — обрадовалась кормилица, — вот уж добрая сестрица — о братце заботится!
Она сунула Вере начатую работу и, продолжая расхваливать ее, с видимым удовольствием воспользовалась возможностью улизнуть из детской.
Вера опять осталась одна y колыбели. Она прилежно принялась за шитье и в то же время беспрестанно поглядывала на ребенка. Он спал так тихо и спокойно, что дыхания его почти не было слышно; несколько раз Вере казалось, что он даже совсем перестал дышать; ей становилось страшно — не умер ли он, и она с тревогой наклонялась над ним, прислушивалась к его дыханию; солнце заглянуло в комнату и луч его упал прямо на колыбельку. Вера поспешно опустила штору и задернула занавески колыбельки. Первый раз в жизни заботилась она не о себе, a о другом, работала не для себя, a для другого.
Глава VII
С этих пор Вера большую часть дня проводила в маленькой комнатке, сидя y колыбели Пети. Кормилица была этому, конечно, очень рада и, под предлогом стирки белья малютки, просиживала целыми часами в кухне, вовсе не заботясь о своем питомце. Вера охраняла его сон, укачивала его, когда он просыпался и начинал плакать, тихонько пела над ним те колыбельные песенки, каким выучилась от матери. Сначала никто в доме не обращал внимания на ее новое времяпрепровождение, потом все к этому привыкли и не мешали ей. Одно время только ей казалось, что y нее отнимут это новое занятие, дававшее цель и интерес ее жизни; но опасность скоро миновала. Опасность эта грозила со стороны особы, которая, в сущности, никому не могла внушить страха. Для присмотра за хозяйством и за детьми, Андрей Андреевич пригласил к себе одну свою дальнюю родственницу. Анна Матвеевна Крамская, очень добродушная и чувствительная старая дева, с восторгом приняла предложение заменить мать осиротелым малюткам. Ее неприятно поразило, что двое из этих малюток, Митя и Боря, перерос ли ее на целую голову и оказались вполне неспособными к нежно-грустным сценам. При первых слезливых словах ее об ужасном несчастии, поразившем их, мальчики ушли от нее и завели такой шумный, громкий разговор, что ей поневоле пришлось замолчать. Она решила сосредоточить свою нежность на девочках: они были не так велики, смотрели грустно в своих траурных платьицах, a при воспоминании о матери, слезы навертывались на глазах их. И вот Анна Матвеевна принялась ласкать и хвалить их.
— Женичка, — говорила она сладеньким голосом: — скушай еще булочку, a то проголодаешься в гимназии. — Осторожней пей чай, ангелочек, он горячий — не обожгись! — Верочка, отойди, миленькая, от окошечка — простудишься! Что ты такая бледненькая, дружочек, не болит ли голова?
Жени с большим удовольствием поддалась такому обращению. Она позволяла Анне Матвеевне студить свой чай, суп, кутать себя в разные платки и душегрейки, набивать свои карманы сластями, одевать и причесывать себя как куколку. Ей приятно было, что ее ласкали, баловали, что желания ее предупреждали, что она могла опять, как при матери, жить ни о чем не заботясь, ни о чем не думая, кроме удовольствий. Вера отнеслась к Анне Матвеевне совершенно иначе; ей шел уже тринадцатый год, она оскорблялась, когда с ней обращались как с маленькой девочкой. Сладенький, жалостливо-покровительственный тон тетки сразу внушил ей отвращение. Она резко уклонилась от ее ласк и, с первого же дня стала самым решительным образом выказывать свою самостоятельность. Анна Матвеевна удивлялась и оскорбилась, но не сразу отказалась от своего намеренья «отогреть лаской бедную сиротку».
— Веруша, тебе скучно одной, — говорила она: — хочешь я посижу с тобой, почитаю тебе что-нибудь, покажу картинки?
— Я учу уроки, — сухо отвечала девочка.
— Верочка, мой ангел, скушай пастилку, я для тебя купила, — предлагала она.
— Благодарю вас, я не люблю пастилы, — отказывалась Вера.
— Что, моя бедненькая, — начинала Анна Матвеевна со слезами в голосе: — тяжело жить сиротой, без маменьки родной?
Вера вскакивала с места и быстро уходила в другую комнату: она не могла выносить приторных сожалений Анны Матвеевны о ее матери, с которой та едва была знакома; воспоминание о покойнице возбуждало в ней едкую печаль, глубокое горе; ей тяжело было вызывать эти воспоминания на минуту, между прочим, разговором, с тем, чтобы, пролив несколько слезинок, быстро перейти от них к другим более приятным предметам.
Анва Матвеевна не понимала ее чувств и в душе называла ее холодной, черствой. Маленький Петя явился также одной из причин разлада между девочкой и теткой. Анна Матвеевна, конечно, захотела распространить и на него свою материнскую заботливость. Это было крайне неприятно для Веры: она уже привыкла мечтать, что одна будет любить и воспитывать Петю, что и он привяжется к ней, к ней одной, и вдруг — чужая женщина осыпает его ласками, распоряжается в его комнате, хлопочет об его удобствах, a она не имеет права прогнать эту женщину, вырвать y нее из рук малютку. К ее попечениям о нем Анна Матвеевна относилась снисходительно, как к игре ребенка, не придавая им никакого серьезного значения, и даже, — о оскорбление! — предложила ей один раз понянчить вместо Пети большую Женину куклу. Вера негодовала и злилась, но Анна Матвеевна встречала все ее сердитые выходки таким невозмутимым добродушием, что девочка положительно приходила в отчаяние. На ее счастье, y нее явилась неожиданная союзница, которая помогла ей удалить Анну Матвеевну от Пети. Союзницей этой была кормилица. Она сразу поняла, что для нее гораздо выгоднее и приятнее разделять заботы о малютке с девочкой, стремящейся отдать всю себя новому интересному делу, чем с взрослой женщиной, которая потребует от нее строгого исполнения ее обязанностей. Присутствие в детской новой хозяйки было для нее так же неприятно, как для Веры, хотя по другим причинам, и она с первого же дня восстала против него.
— Уж вы, сударыня, не беспокойтесь о Петеньке, — говорила она Анне Матвеевне, — мне не первого ребенка растить. Слава Богу! Пятеро своих было, да четверо чужих выкормила. Мне Андрей Андреевич его поручил, я за него я отвечаю, я его и сберегу.
На всякое замечание Анны Матвеевны относительно ухода за ребенком, y нее находилось резкое возражение.
— У вас детей не было, вы и не знаете, как с ними обращаться, лучше бы не мешались не в свое дело, — ворчала она и, наконец, с притворными слезами объявила: — Как угодно Андрею Андреевичу, a я так жить не могу. Мне ребенка поручали, говорили, что я ему должна быть заместо матери, a теперь за всяким шагом следят: то это не так, то другое не так… Коли я дурна, так я уйду, нянчитесь сами с ребенком!
Анна Матвеевна терпеть не могла ссор, домашних неприятностей. Она чувствовала, что кормилица отчасти права: действительно, ей никогда не приходилось воспитывать таких крошек как Петя, ода была совершенно несведуща в этом деле, да и не находила его вовсе интересным. Чтобы не раздражать кормилицу и избавиться от ее дерзких выходок, она стала редко заглядывать в детскую, предоставила Петю его судьбе и ограничила свои заботы хозяйством да уходом за Жени. Против Веры она не чувствовала озлобления: это было бы слишком противно ее добродушной натуре. Она просто решила в уме, что это холодная жесткая девочка, недоступная нежности, что от нее лучше держаться подальше и не стеснять ее свободы, которой она, по-видимому, дорожит больше всего на свете.
Эта перемена обращения была как нельзя больше по душе Вере. Когда она заметила, что Анна Матвеевна не преследует ее непрошенным ухаживанием и состраданием и не мешает оставаться одной с Петей, ее неприязненное чувство исчезло; она стала замечать, что, благодаря заботливой хозяйке, в доме восстановляется прежний порядок, нарушенный смертью матери; что ей и братьям не приходится беспрестанно страдать от разных мелких неудобств, предотвратить которые они не умели; что к Жени возвратилась ее прежняя беззаботная веселость — тогда она не выказывала своих чувств словами, но в душе была благодарна за все это Анне Матвеевне и, со своей стороны, старалась не делать ей неприятностей.
Таким образом, в семье господствовали мир и согласие, хотя напрасно было бы искать настоящей дружбы между ее членами. После смерти жены, Андрей Андреевич стал реже сидеть дома, принимать меньше участия в домашних делах, Старших детей он еще иногда ласкал, расспрашивая о занятиях, старался потешить каким-нибудь подарком или неожиданным развлечением, но на Петю не обращал ни малейшего внимания. Митя и Боря аккуратно посещали гимназию, a дома или занимались уроками, или приглашали к себе товарищей, или же сами уходили к ним; от сестер они все больше и больше удалялись, на том основании, что с «девчонками стыдно возиться» большим мальчикам. Жени все свободное время проводила с Анной Матвеевной, которая и забавляла ее играми, и помогала ей готовить уроки и выезжала с ней в гости. Вера все реже и реже отходила от Пети. Она выпросила позволение спать в одной с ним комнатке и положительно превратилась в его няньку. Дело, которым она начала заниматься случайно, от скуки, все более и более привлекало ее. Она первая увидела улыбку ребенка, его первый сознательный взгляд; ее голос мог успокоить его среди самого сильного плача; он протягивал к ней руки, как только она подходила к нему, и от нее неохотно шел даже к кормилице. Все это наполняло сердце девочки такой радостью, какой она не испытывала до тех пор, и вознаграждало ее за все ее заботы о малютке. A забот этих было не мало: хотя Петя хворал и капризничал реже других детей своего возраста, но все-таки Вере часто приходилось не спать целую ночь, помогая кормилице нянчить его, или целые часы держать на руках, придумывая для него забавы, которые могли бы заставить его забыть какую-нибудь тревожившую его боль. И, странное дело! — девочка, до сих пор только о том и думавшая, как бы заслужить похвалу и одобрение окружающих, теперь и в мыслях не имела перед кем-нибудь похвастаться своей материнской нежностью к брату. Она очень удивилась бы, даже может быть обиделась бы, если бы кто-нибудь вздумал хвалить ее за заботы о Пете. Что за дело другим до этих забот? Ведь это ее брат, ее ребенок, она не спит по ночам, когда он болен, она успокаивает его, когда он плачет, потому что его болезнь, его слезы огорчают и тревожат ее, — за что же ее хвалить?
Занятая своими материнскими обязанностями, Вера не могла отдавать книгам так много времени как прежде. Она не только перестала готовить двойные и тройные уроки, но даже часто и заданное выучивала нетвердо. Эта перемена огорчала и раздражала учителя. Он не раз делал строгие выговоры своей ученице и старался по-прежнему подстрекать ее тщеславие. Но теперь это не часто удавалось ему. Вера не отказалась от своего желания превзойти братьев умом и знаниями, но она забывала об этом желании всякий раз, как голос Пети призывал ее к колыбельке. Ее огорчали выговоры учителя, но, чтобы избежать их, она не могла учить урок, когда Петя протягивал к ней ручонки, когда она знала, что ее отказ поиграть с ним вызовет y него долгие и горькие слезы. Действовать на нервную, впечатлительную девочку наказаниями, как он действовал на своих других учеников, учитель не решался, между тем, тщеславие не подстрекало более ее прилежания, и он был в совершенном недоумении, чем заставить ее заниматься. «Всегда говорил, что беда учить девочек, — ворчал он про себя, — никакого с нее толку не может быть, хоть отказаться от урока!»
На помощь учителю явился счастливый случай, показавший ему, что не только страх и тщеславие могут возбуждать прилежание.
У Пети стали прорезываться зубы; он побледнел, захирел, потерял аппетит, проводил ночи без сна, жалобно пищал по целым часам.
— Ничего, это к зубам, это всегда так бывает, — успокаивала Веру кормилица.
Зубы прорезались, a ребенок все не поправлялся. Анна Матвеевна не видела его несколько дней; она испугалась, заметив, как он похудел и ослабел за эти дни.
— Мамка говорит, что так всегда бывает, когда y детей прорезываются зубы, — объяснила ей Вера.
— Да, и я это слыхала, — подтвердила она: — a все лучше бы послать за доктором.
Пригласили знакомого доктора; он осмотрел ребенка и посоветовал обратиться к специалисту по детским болезням. На другой день они приехали оба вместе. Специалист долго осматривал и ощупывал Петю, прописал несколько рецептов, дал несколько предписаний кормилице и с благоговением слушавшей его Анне Матвеевне. Затем он, нахмуренный, видимо чем-то недовольный, вышел в другую комнату, вместе со своим сотоварищем, Вера тихонько прокралась за ними и, спрятавшись в уголку, жадно прислушивалась к их словам.
— Болезнь, в сущности, пустая, — заметил специалист: — но очень запущена; за ребенком, очевидно, никто не наблюдает, не следит.
— Что вы хотите? — отвечал другой доктор: — y него нет матери, он предоставлен попечениям кормилицы, тупой, необразованной деревенской бабе, которая, при веем желании, не может разумно ухаживать за ним.
— Да, это видно. Знаете, я даже отказывался лечить детей при таких условиях, — не стоит труда. Одними лекарствами ничего нельзя сделать, если нет около ребенка знающего человека, который сколько-нибудь разумно воспитывал бы его.
Они обменялись еще несколькими незначительными словами и затем ушли, не заметив бледной маленькой фигурки, следившей за ними с широко раскрытыми глазами, с посинелыми от страха губами.
Что такое сказали они? За Петей никто не наблюдает, его не стоит труда лечить? Он на попечении глупой бабы? A она-то что? Ее забот никто и не заметил, ее бессонные ночи, ее беспокойные дни, ее слезы, ее тревога, ее любовь — все это ничего, все это не приносит никакой пользы ребенку? Не смотря на все это, его жизнь устроена так дурно, что он не может быть здоров, что никакие лекарства не спасут его от смерти?…
Она вернулась в детскую. Анны Матвеевны там не было. Петя спал неспокойным, тревожным сном. Увидев девочку, кормилица пробормотала какое-то извинение и вышла из комнаты. Вера опустилась на колени y кровати и, уткнувшись лицом в подушку, на которой покоилась голова ребенка, зарыдала.
«О, как это ужасно тяжело! Зачем она так мала, так глупа и несведуща! Отчего не может она быть тем знающим человеком, который, как говорит доктор, умеет воспитывать детей! Она умеет любить не меньше всякого умного, знающего человека, но вся любовь ее ни к чему, вся эта любовь не даст ребенку здоровья, не сохранит его жизнь!» — Так думала девочка.
Весь этот день Вера провела в горе и слезах, ночью она мало спала, и когда на следующее утро пришла брать урок y учителя, то даже он, обыкновенно обращавший мало внимания на внешность учеников, быль поражен ее бледностью.
— Вы больны? Не можете учиться? — резко спросил он.
— Нет, я здорова, — отвечала девочка и сделала усилие, чтобы сосредоточить свои мысли на начавшемся уроке.
Это не удалось ей.
— Я хотела спросить y вас, — вдруг прервала она тонкое грамматическое объяснение учителя, — чему нужно учиться, чтобы уметь воспитывать детей?
— Для этого существует целый ряд наук, — отвечал учитель, с удивлением глядя на нее; — зачем вы это спрашиваете?
Прерывающимся от волнения голосом рассказала ему Вера о своей любви к маленькому брату, о своей мечте заменить ему мать и о своем вчерашнем горе.
Учитель слушал ее внимательно, по-видимому, недоумевая, как отвестись к ее рассказу: как к серьезному делу или как к пустой прихоти. Мало-помалу, искреннее увлечение, с каким говорила девочка, победило его недоверие. Когда она закончила, он несколько минут молчал, обдумывая что-то, и наконец, сказал:
— Вы слишком молоды, чтобы заниматься воспитанием ребенка; впрочем, если хотите, я могу теперь же расположить ваши занятия так, чтобы они вели к этой цели. Кроме того, я, пожалуй, дам вам прочесть несколько книг, в которых вы найдете самые необходимые правила ухода за детьми, и объясню вам, чего вы в них не поймете.
Вера поблагодарила учителя с таким жаром, что он совсем растерялся, и в уме его мелькнула обычная мысль: «Беда с девочками»!
С этих пор Вера опять принялась за книги, принялась с прежним упорным прилежанием; но теперь она занималась совершенно не так, как тогда. Ей не нужно было ничьих похвал и одобрений, она не старалась набивать себе голову разными мудреными словами, чтобы при случае хвастать ими, она не старалась поражать учителя своей памятью и сообразительностью; ей нужно было знать, как можно больше и лучше звать, чтобы эти звания могли принести пользу ее любимцу. Теперь полупонимание, наизусть затверженные фразы не удовлетворяли ее. Она беспрестанно спрашивала у учителя самых полных и обстоятельных объяснений, и сама привыкала вдумываться, составлять обо всем ясное понятие. Теперь учитель знал, чем можно было заставить ее побеждать всякую трудность: стоило показать, что известное знание необходимо ей, как воспитательнице, и она напрягала все усилия, чтобы усвоить его.
Глава VIII
Петя выздоровел и, несмотря на мрачные предсказания доктора, опять пополнел и повеселел. По двенадцатому месяцу он стал осторожно переступать по комнате, держась за стулья, и лепетал множество слов, понятных для Веры и кормилицы.
— Завтра вашему Петеньке исполнится год, — говорила один раз мамка, укладывая ребенка спать: — вы бы, барышня, напомнили об этом папеньке, — в этот день уж всегда бывают подарки кормилицам; вот y генерала Кутайсова я кормила сына, так мне подарили шерстяной сарафан да 5 р. деньгами, a наш Петенька, точно сиротиночка круглый, как за ним ли ходи, ни от кого благодарности не увидишь.
Вере стало грустно. Она вспомнила, как при жизни матери день рождение каждого ребенка был веселым семейным праздником. За целую неделю шли толки о том, чем подарить новорожденного, какое устроить для него удовольствие. Новорожденный был царем в детской, ему во всем уступали, он имел право выбирать игры, какие хотел, и все старались ничем не обидеть его. В ее собственном, далеко невеселом детстве, дни рождений и именин составляли светлые точки, о которых она всегда вспоминала с удовольствием. Неужели же y Пети и не будет этих светлых воспоминаний? Неужели он не будет знать этих веселых детских праздников, так отрадно прерывающих однообразную будничную жизнь? A это очень вероятно. До сих пор он, как справедливо заметила кормилица, рос в доме точно круглый сирота. Отец очень редко видал его и никогда не ласкал, братья и Жени вспоминали о нем только тогда, когда слышали слишком громкий крик.
— Экий противный мальчишка! Как он ревет — все уши прожужжал! — с неудовольствием замечали они и вовсе не думали узнать причину этого крика или утешить малютку.
«Все равно: если никто не любит — я его люблю, я хочу, чтобы он был счастлив, и сделаю его счастливым! Пусть никто не помнит дня его рождения, я сама устрою ему такой праздник, что он будет целый день веселиться», — думала про себя Вера.
Она принялась перерывать свои вещи, надеясь найти среди них какую-нибудь забытую игрушку, которую она могла бы подарить Пете, но — увы! — все игрушки, сколько-нибудь годные к употреблению, давно уже перешли во владение мальчика, остальные же были выброшены, как ненужный хлам, при переезде на дачу. Карманных денег y Веры не было, и ей с грустью пришлось убедиться, что она не может обрадовать своего любимца никаким подарком. Она решила, по крайней мере, целый день забавлять малютку, выдумывать для него разные новые игры, устроить так, чтобы он не скучал ни минуты, ни разу не заплакал. И этот план оказался неосуществимым… Рано утром ее разбудил плач ребенка: оказалось, что кормилица, не надеясь получить желанный подарок, была в дурном расположении духа и на первую ласку своего вскормленника отвечала очень грубо. Петя обиделся и раскапризничался. Вера не успела его утешить, как в комнату вбежала Жени, чтобы узнать, отчего это мальчишка так кричит, что разбудил весь дом. Пете бросились в глаза блестящие сережки сестры, и он тотчас потянулся к ним. Жени оттолкнула его ручку и вышла из комнаты, ворча и на кормилицу, и на ребенка, a бедный мальчик снова залился горькими слезами.
«Боже мой! — сама чуть не плача думала Вера, — неужели это всегда так будет! Неужели одной моей любви мало, неужели для его счастья необходимо, чтобы и все окружающие любили его?»
С тяжелым сердцем пошла она брать урок y учителя. До слуха ее не раз долетал жалобный писк ребенка, об удовольствии которого сердитая кормилица вовсе не думала заботиться. Не мудрено, что учитель нашел ее рассеянной и непонятливой. Как только кончился класс, она тотчас поспешила в детскую. Дверь комнаты была открыта, и глазам девочке представилась совершенно неожиданная картина: на ее собственном низеньком креслице сидел отец, на коленях его скакал и веселился Петя, a подле стояла кормилица с радостным, подобострастным выражением лица.
— Славный мальчуган! — обратился Андрей Андреевич к дочери, не переставая с любовью глядеть на сына, — ты замечаешь, Вера, на кого он похож?
— Кажется, на маму, — несмело отвечала девочка.
— Да, ее глаза, ее улыбка, — с грустью проговорил Андрей Андреевич. — Бедняжка, он ведь не виноват!..
Отец прижал к себе головку малютки и нежно поцеловал его. Потом, видимо желая стряхнуть с себя грустные воспоминания, он заговорил другим, более веселым голо сом:
— Сегодня ведь наш Петя новорожденный, я велел кормилице вынести его в те комнаты; что он все здесь сидит отшельником, — пусть побудет с нами, за обедом мы будем пить за его здоровье.
Андрей Андреевич поиграл несколько минут с ребенком и хотел передать его кормилице, но Петя воспротивился этому. Он ухватился обеими ручками за шею отца и ни за что не соглашался отпустить его. Андрей Андреевич рассмеялся, поднял ребенка и унес его с собой в свой кабинет. На секунду Вера почувствовала грусть и досаду: «Ее Петю уносят от нее, не спросив, приятно ли это ей; отец, кажется, даже и не подозревает, что это ее ребенок, что она одна до сих пор и любила его, и заботилась о нем…» Но это чувство было моментально. «Отец полюбил Петю, — он уже не бедный, заброшенный сирота; и как он веселится, точно понимает, что с ним случилось! A вдруг он раскапризничается, рассердит отца? — отец такой вспыльчивый — забудет свое теперешнее доброе настроение и снова оттолкнет бедного ребенка!» — размышляла она.
Вера, не на шутку встревоженная этой мыслью, поспешила вслед за отцом, чтобы помочь Пете сохранить так неожиданно приобретенную любовь его.
Весь этот день Петя провел в кругу семьи и, несмотря на опасения Веры, держал себя превосходно. За обедом он важно чокался пустой рюмочкой с рюмками всех присутствовавших, a после обеда премило показал все свои маленькие фокусы: делал ручку, кланялся, снимая и надевая шляпу, представлял кошку, собаку и корову. Даже Митя и Боря любовались им, a Жени беспрестанно целовала его, находя, что он очарователен. На Веру никто не обращал внимания, и в первый раз в жизни это не было ей неприятно. В первый раз ласки, похвалы, которыми осыпали другого, не возбуждали в ней завистливого чувства, но, напротив, доставляли ей искреннее удовольствие. Она всеми силами старалась выказать все маленькие достоинства Пети и скрыть его недостатки. Она ни слова не сказала, когда Жени вскричала: «Я понимаю, отчего Вера любит сидеть в детской: с такой миленькой куколкой приятно повозиться!» — и не стала объяснять, как часто эта «миленькая куколка» бывает капризным, беспокойным ребенком, как много забот и терпения требует она. Когда на вопрос отца: «Ты очень любишь Веру» мальчик раздвинул ручонки, показывая меру своей любви, a на второй вопрос: «А папу любишь?» раздвинул ручонки еще больше, девочка не обиделась — она заметила, что ответ понравился отцу, что он нежно поцеловал малютку, — и была довольна.
С этого дня в жизни Петя произошла перемена: он перестал скучать в детской и беспрестанно бегал в другие комнаты. Двери отцовского кабинета были всегда для него открыты, Анна Матвеевна позволяла ему, сколько угодно, рыться в своей огромной рабочей корзине, Жени танцевала с ним, Митя и Боря возили его верхом на плечах. Все это, конечно, очень потешало мальчика и, заслышав голоса в столовой или гостиной, он ни за что не соглашался сидеть один с Верой, хоть она и старалась всеми силами удержать его. Вместе с ним и ей приходилось выходить из своего уединения, снова сближаться с семьей, от которой она удалялась целый год. Это стало особенно необходимо, когда, вместо кормилицы, для ухода за ребенком нанята была няня. Петя с первого раза почему-то невзлюбил ее и очень неохотно обращался к ней за чем-нибудь, да и сама она вполне равнодушно относилась к своему питомцу. Вера была уверена, что если она не присмотрит за ребенком, с ним непременно случится какая-нибудь беда: он надоест братьям и они прогонят его от себя; Жени, позабавившись им несколько минут, займется чем-нибудь другим и забудет о его существовании; Анна Матвеевна обкормит его лакомствами; нянька заглядится в окно или заболтается с кем-нибудь и не заметит, как ребенок свалится со стула, порежется ножом, обожжется спичкой. Да и как могла она сидеть одна в комнате, издали слыша смех или слезы своего любимца и не зная, чему он радуется, чем можно его утешить? Вслед за Петей и она шла в кабинет отца, в комнату братьев и гостиную, где сидела Анна Матвеевна с Жени. Ей приходилось со всеми разговаривать, принимать участие в общей жизни, опять по-прежнему приходить в столкновение с окружающими. В последний год Вера значительно изменилась. В жизни ее появился интерес — дело, которому она посвящала все силы, которое постоянно отвлекало ее от мысли о себя самой, от заботы понравиться, заслужить похвалы. Теперь красота Жени, ум и знания братьев не возбуждали ее зависти, y нее была своя собственная цель, к которой она стремилась, — цель стать хорошей, разумной воспитательницей Пети, — и чужие достоинства не раздражали ее. Менее занимаясь собой, она стала менее обидчива, не искала в каждом поступке, в каждом слове окружающих оскорблений себе, легче прежнего переносила недостаток внимания или предупредительности к своим желаниям, характер ее стал несколько сноснее, но еще далеко не исправился: она по-прежнему была равнодушна к удобствам и интересам других, исключая Пети, конечно, по-прежнему была раздражительна, способна совершенно забыться в минуты гнева. Причин раздражения y вея являлось не меньше, чем прежде; если она реже обижалась сама за себя, зато ей постоянно казалось необходимым бороться за интересы Пети, и борьбу эту она вела без малейших признаков кротости и терпения. Она сердилась на всякий, даже справедливый, выговор, какой делали ребенку, она обижалась, если кто-нибудь замечал его недостатки, и с обычной резкостью вы сказывала свои чувства.
— Я готова лучше никогда не глядеть на Петю, только бы не связываться с Верой, — ворчала иногда Жени.
— Вера, ты сделаешь Петю таким же нестерпимым, как ты сама, — замечал Митя.
Но Вера презрительно усмехалась на эти слова и не считала необходимым сколько-нибудь менять свой характер. Особенно часто выходили y нее ссоры с Борей. Хотя Боре было уже почти 15 лет, но он не оставил своей привычки дразнить и строить разные штуки. A маленький, глупенький Петя, конечно, без труда поддавался на всякую штуку, всему верил, от всего легко приходил или в восторг, или в горе. Зажмет Боря руку кулаком и скажет: «Какую я славную птичку поймал». И малютка со всех ног бежит к нему, упрашивает показать «пти-пти»; шалун заставит его протянуть ручки, сделает вид, что сажает в них птицу, и потом вдруг закричит: «Улетела! Что же ты не держал? Лови скорей!» Бедный Петя в недоумении оглядывается кругом, ищет птичку повсюду, заглядывает под столы, под диваны и беспокоится до тех пор, пока кто-нибудь не догадается занять его чем-нибудь другим. Или еще хуже: Боря подзовет его к себе и ласково спросит:
— Хочешь конфетку?
— Хоцу, — не задумываясь отвечает малютка.
— Ну, так закрой глаза и открой рот.
Малютке так хочется конфеты, что он беспрекословно исполняет это странное требование; Боря кладет ему на язык кусочек соли или крошечку перцу и, обманутый малютка разражается громким плачем. Вера не могла выносить такого обращения с ребенком. В сущности, она конечно была права. Боря, сам того не сознавая, портил характер ребенка, но свое мнение она выражала так резко, с такой запальчивостью, что Боря не замечал справедливости ее доводов и только насмехался над ее вспышками.
— Петя, я тебе принес подарок! — вскричал он один раз, входя в комнату, где мальчик спокойно играл деревянными кубиками, сидя подле Веры. Петя, забывая все прежние проказы брата, тотчас бросился к нему с криком: «Дай, дай!»
— Боря, ты наверно опять обманываешь ребенка, — с неудовольствием заметила Вера.
— A тебе-то что? — отвечал Боря: — Петя мне такой же брат, как и тебе! Хочу — подарю ему, a не хочу — обману его!
— A я этого не позволю! — уже закричала Вера, и румянец гнева разлился по ее лицу.
— Не позволишь? Вот-то интересно, — подсмеивался Боря: — она мне не позволит! Иди сюда, Петя, не слушай этой воркуньи!
— Я вовсе не воркунья! Я говорю правду! А ты — злой мальчик, тебе доставляет удовольствие мучить ребенка, и ты подлый, ты рад обмануть кого-нибудь, хоть маленького!
— Что ты сказала? Ты смеешь называть меня подлым? Ах ты, дрянная! — вскричал Боря, в свою очередь разгорячаясь.
— Да, подлый, я это говорю и всегда буду повторять! Чем ты хотел обмануть ребенка? Покажи мне сейчас, что y тебя в руках! — И, не помня себя от гнева, она бросилась на брата, стараясь захватить пустую коробку, которую он держал. Вера была страшна в эту минуту: лицо ее, за секунду перед тем красное, мертвенно побледнело, глаза расширились до того, что, казалось, хотели выскочить, темные брови почти совсем сошлись над носом. Силясь достать до руки, которую брат нарочно держал как можно выше, она незаметно столкнула с головы своей сетку, и черные пряди жестких кудрявых волос до половины покрыли ее лоб и щеки. При этом она не переставала браниться; от сильного раздражения голос ее принял особенно резкий, пронзительный звук. Боре ее бессильная злоба казалась смешной, он хохотал во все горло, чем, конечно, еще больше раздражал ее. В пылу ссоры оба они забыли о невинной причине этой ссоры — о маленьком брате, a он, бедняга, напуганный всей этой сценой, забился под стол и оттуда громкими криками напоминал о своем существовании. Наконец, на шум прибежала испуганная Анна Матвеевна.
— Боже мой, что же это с Петей? О чем он так кричит? — с беспокойством спросила она, подходя к ребенку.
Напоминание о брате отрезвило Веру. Она в последний раз топнула на Борю ногой, в последний раз назвала его «дураком» и затем поспешила также к ребенку. Но, увидев ее, Петя закричал еще громче и спрятал личико в складках платья Анны Матвеевны.
— Петенька, голубчик, что ты? Приди ко мне, — говорила Вера, силясь придать как можно больше нежности своему, все еще дрожавшему от волнения, голосу. Но мальчик положительно боялся ее, и при первом прикосновении ее принялся биться руками и ногами и кричать до того неистово, что Анна Матвеевна посоветовала девочке на некоторое время удалиться от него, дать ему успокоиться.
Это было тяжелое испытание для Веры. Ее Петя, ее сокровище боится ее; может быть, ненавидит; другие утешают, успокаивают его, a она — она не смеет даже подойти к нему! О, как страдала она, стоя одна в комнате и прислушиваясь к затихавшим крикам ребенка…
Впереди ждало ее новое горе. Петя не на шутку перепугался сцены, которой был свидетелем; весь день он был скучен, беспокоен, довольно долго чуждался и Бори, и Веры, вздрагивал и принимался плакать при всяком шуме, a к ночи y него сделался сильный жар. Собираясь ложиться спать, Вера, по обыкновению, подошла к кроватке ребенка и с ужасом увидала, что его щечки и ушки пурпурно красные, головка беспокойно мечется по подушке, a из полуоткрытого ротика выходит частое, прерывистое дыхание.
— Боже мой, он болен, y него воспаление мозга: доктор говорит, что от страха это бывает с детьми, и я виновата в его болезни, я его убила!
Посылать тотчас же за доктором было бесполезно: Вера знала, что он не поедет ночью. Она разбудила беззаботно спавшую няню и с ее помощью применила все средства, которые доктор советовал в случае внезапного жара y ребенка. После этого оставалось только ждать. Нянька снова захрапела, как только увидела, что услуг ее более не требуется, Вера осталась одна y больного. Бедняжка метался по постельке, то полуоткрывал глаза, то снова закрывал их, то бормотал какие-то непонятные слова, то стонал. Вере страшно хотелось, чтобы он проснулся, чтобы он хоть раз взглянул на нее, улыбнулся ей, но она не смела будить его, она боялась шевелиться, чтобы опять не напугать его. Она сидела тихо, неподвижно, не спуская глаз с ребенка; сердце ее то замирало, то ускоренно билось, a время шло так медленно, так безнадежно медленно… Раз, два — пробило на часах в столовой. — Всего только два часа! До утра осталось по крайней мере четыре часа, раньше девяти доктор не приедет; еще семь часов этого страха, этой мучительной неизвестности… — Бедная девочка закрыла лицо руками и не могла удержаться от тихого стона. Прошло еще полчаса, еще час… Только три? Нет, не может быть, она вероятно не дослышала боя часов, должно быть не меньше пяти! — Тихо, осторожно, боясь топнуть ногой или скрипнуть дверью, она прошла с зажженной свечей в столовую посмотреть на часы. Да, действительно, только три. О, какое мучение, еще шесть часов! Как она проживет их, как она это вынесет!.. — Она приложила похолодевшие руки к своему пылавшему лбу и несколько минут стояла неподвижно посреди комнаты. Потом медленными шагами она вернулась к постели — Что это значит? Петя дышит ровнее, щечки его как будто стали бледнее… Неужели ему лучше, жар уменьшается… или, может быть, он уже умирает… — При этой ужасной мысли девочка вся похолодела. Она взяла в свои руки ручку ребенка, ручка была теплая, влажная, a не сухая, как за несколько минут перед тем… Она не сводила глаз с его лица и тревожно прислушивалась к его дыханию…
Нет, страх напрасен — ему, действительно, лучше. Вот он проснулся, открыл глазки и проговорил, как часто говорил ночью: «Велоцка, заклой!» Вера укутала его в одеяльце, он улыбнулся, опять закрыл глаза и заснул тихим, спокойным, несомненно здоровым сном. На другое утро не осталось и следов ночного припадка, но для Веры эта мучительная ночь не прошла даром. Она ясно увидела, как необходима ей та сдержанность, которую напрасно советовала ей и покойная мать, и все окружающие.
Еще прежде, как только Петя начал понимать тон голоса и жесты, ей часто приходилось удерживаться от выражения нетерпения или гнева против него. Ласковый тон, кроткое обращение делали ребенка веселым, доверчивым и уступчивым; при всякой же грубости он раздражался, становился угрюмым и капризным Вера знала это, и потому относительно его была кротка и терпелива; но теперь этого оказывалось мало: ребенок мог видеть ее отношения к другим людям, и эти отношения производили на него впечатление. Необходимо поэтому было сдерживать при нем всякий порыв вспыльчивости. Скоро оказалось, что не только те резкие проявления гнева, которые так напугали Петю, производят на него впечатление; нет, он наблюдал вообще все, что делалось в доме, и беспрестанно старался подражать всем словам и действиям окружающих. Другие смеялись над ним, когда он ходил заложив руки за спину, как отец, или ерошил себе волосенки, как Боря или вертелся перед зеркалом, подражая Жени; но Вера не могла смеяться, когда он топал ножкой на прислугу, или сжимал кулачки и, сердясь, бросал на пол вещи, замечая при этом «так Вела». Она понимала, что неизбежно должно случиться одно из двух: или слова Мити окажутся справедливыми и, благодаря ей, испортится характер ребенка, или Петя увидит ее недостатки, станет смеяться над ней, презирать ее… То и другое казалось ей ужасным, второе еще более, чем первое. Она стала следить за собой, бороться с собой, стараться поступать так, чтобы Петя мог без вреда для себя подражать ей, мог постепенно приучаться уважать ее. Это было трудно. Никакие заботы о ребенке не требовали от вея таких постоянных усилий, такого напряженного внимания. В четырнадцать лет нельзя сразу перемениться, и долго еще приходилось Вере в играх и обращении Пети видеть скрытые упреки себе, но она чувствовала, что усилия ее не пропадают даром; она замечала, как постепенно ей становится все легче и легче сдерживать свою резкость и вспыльчивость; она надеялась, что к тому времени, когда Петя подрастет настолько, что будет сознательно относиться к окружающему, ей не придется краснеть ни за него, ни перед ним.
Глава IX
В один зимний день Анна Матвеевна вошла с красными, заплаканными глазами в столовую, где все семейство ожидало ее к обеду. Все знали, что слезы были не редкостью для этой чересчур чувствительной особы, a потому в первые минуты никто не обратил внимания на ее печальное, расстроенное лицо. Но к концу обеда, видя, что она почти ничего не ест и, против своего обыкновения, не принимает участия в разговорах, Андрей Андреевич спросил y нее наконец, что с ней?
— Ничего, — глубоко вздохнула Анна Матвеевна, — со мной-то ничего, да грустно смотреть на чужие несчастья!
— Что же такое случилось? С кем?
— Я ездила сегодня к одному своему старому знакомому, — он был болен, хотела навестить его, — приезжаю, a он в гробу лежит! — унылым голосом проговорила Анна Матвеевна, и слезы снова заблестели на глазах ее.
— Это ужасно! Что же, не старый был еще человек? Оставил после себя семью?
— Оставил жену с двумя детьми. Да еще вот какая беда. Жены здесь нет, она в прошлом месяце уехала с младшим ребенком к своей больной матери в Уральск, a тут остался муж со старшим мальчиком; теперь, как муж умер, мальчику-то и деваться некуда, — мать раньше как недели через две-три не приедет, родных y них здесь нет. да я знакомых мало; уж так я плакала над бедным сиротинкой…
— Так возьмите его к себе, пока приедет мать, — предложил Андрей Андреевич: — y нас квартира большая, найдется уголок для ребенка.
— Ах, да я бы держала его в своей комнате, если бы вы только позволили. Я была бы вам так благодарна! Он же — мой и крестник.
— Стоит ли об этом говорить? Приведите его сегодня же.
— A что он — большой мальчик? Не будет ли он обижать Петю? — тревожно спросила Вера.
— Нет, об этом не заботьтесь, — поспешила успокоить Анна Матвеевна. Он не посмеет идти против Петеньки. Отец ужасно строго держал его, да и я объясню ему, как он должен вести себя, он хоть и не велик, — ему только что минуло шесть лет, — a поймет.
— Это пустяки, — прервал Андрей Андреевич: — Пете надо привыкать играть с товарищем; хоть и подерутся, так не беда.
Вера не разделяла этого мнения отца и с неудовольствием думала о маленьком госте: ей все казалось, что он или научит чему-нибудь дурному, или как-нибудь обидит ее любимца, и если бы дело зависело от нее, может быть, отказала бы даже в приюте сироте. Но так как Андрей Андреевич имел обыкновение распоряжаться вполне самовластно, не спрашивая согласия своих детей, то на ее неудовольствие никто не обратил внимания, и в тот же вечер Анна Матвеевна привезла маленького Сережу. Это был очень худенький, тихенький, — видимо, сильно запуганный ребенок. Он глядел на всех робкими, заискивающими глазами, ходил на цыпочках, пугался каждого громкого слова. Перед ним четырехлетний Петя, вовсе не отличавшийся крепким сложением, казался молодцом. Вся его маленькая фигурка была такая жалкая, что на него нельзя было смотреть без сострадания. Даже Вера смягчилась и, забыв все свои опасения, ласково обошлась с бедным сироткой.
Петя скоро познакомился с новым товарищем и тотчас же воспользовался его кротостью и уступчивостью. Во время их игр тихого голоска Сережи почти не было слышно, зато громко раздавался звонкий, повелительный голос Пети: «Я так хочу! Не тронь этого, я не позволяю! — Пошел прочь, не подходи сюда! Оставь лошадь, я сам буду ее возить! Подай мне собаку!» Так распоряжался Верин питомец, a когда Сережа не достаточно быстро исполнял его приказания, он бесцеремонно толкал и хлопал его.
— Однако же, — заметила Жени, прислушавшись к играм детей: — ты, Вера, напрасно боялась, что Петя дастся в обиду; он, напротив, сам обижает Сережу. Какой он недобрый мальчик!
Вера и сама видела, что Петя относится к маленькому товарищу не так, как следует; ей неприятен был заносчивый, повелительный тон ее любимца, несколько раз пробовала она останавливать его, но все было напрасно. Что же было делать? Отнестись к мальчику строго, наказать его — нет, она помнила, как дурно действовали наказания на нее и на братьев, когда, в былые годы, отец пытался этими наказаниями уничтожить их ссоры. Она попробовала другое средство. Вечером, укладывая Петю спать, она стала объяснять ему, как несчастен Сережа, y которого совсем нет папы, a мама уехала далеко; как страшно и грустно ему жить среди чужих людей; как он будет рад, если эти люди окажутся добрыми и будут ласково обращаться с ним. Она говорила самым простым языком, стараясь, чтобы Петя повял и прочувствовал каждое слово. И мальчик, действительно, понял; не успела она закончить, как слезы брызнули из глаз его, и он проговорил прерывающимся от рыданий голосом:
— Бедный Сережа, мне жаль Сережу, я буду любить Сережу!
— A ты любишь Сережу? Ты будешь ласкать его? — спросил через несколько минут мальчик, успокоенный ласками сестры.
— Да, конечно, люблю и буду ласкать! — отвечала Вера, сильно покраснев. Она чувствовала, что говорит неправду: она была совершенно равнодушна к маленькому сиротке; дурное обращение с ним огорчало ее только потому, что выказывало нехорошие свойства ее любимца: только бы ее Петя вел себя как следует, a до Сережи — ей не было дела. Но, все равно: Петя мал, он не понимает ее чувств, a с завтрашнего дня она покажет ему пример ласкового обращения с маленьким гостем.
Петя был очень неглупый для своих лет мальчик. Слова сестры произвели на него сильное впечатление. На другой день он не только не кричал на Сережу и не бил его, но даже предлагал ему свои игрушки и несколько раз целовал его, приговаривая: «Мне тебя жаль, я тебя люблю!» Вера и словом, и делом старалась поддержать доброе на строение мальчика; она выказывала усиленную заботливость о Сереже: подарила ему несколько мелких вещиц, беспрестанно заговаривала с ним самым ласковым голосом; начиная какую-нибудь игру с Петей, призывала и его принять в ней участие. Маленький Сережа не понимал, конечно, что все это делается только ради «хорошего примера» и очень скоро искренне привязался к доброй тете Вере. Он не осмеливался выражать эту привязанность ласками или словами, но все замечали, что при входе Веры в комнату лицо его радостно сияет, что он старается всегда садиться как можно ближе к ней и ищет случая оказать ей какую-нибудь услугу. Эта робкая, застенчивая любовь трогала Веру и, мало-помалу, она сама почувствовала нежность к бедному мальчику; она стала заниматься им, интересоваться его судьбой, но уже не ради Пети, a ради его самого.
Вместо двух недель, Сережа прожил y Петровских целых два месяца. Под влиянием привольной жизни мальчик видимо поздоровел, стал менее прежнего вял и застенчив и от души привязался к приютившему его семейству. С Петей он очень подружился, и дружба эта была полезна Пете: благодаря ей, y него стали развиваться чувства справедливости и великодушия, которым трудно было проявиться, пока ребенок рос один, среди взрослых. Вере очень приятно было подмечать зародыши этих чувств в маленьком братишке и она давала себе слово стараться всеми силами, чтобы они не заглохли. Если бы от нее зависело, она навсегда оставила бы y себя Сережу; заботы о нем не пугали ее, она была уверена, что его привязанность и сознание того добра, какое это принесло бы и ему, и Пете, вполне вознаградят ее. Но, к сожалению, дело зависело не от нее. Через два месяца Анна Матвеевна получила письмо от Сережиной матери; она сообщала, что заболела на дороге в Петербург, принуждена остановиться в Москве, где пробудет y родных всю зиму, и умоляла Анну Матвеевну привезти ей туда Сережу, о котором она сильно скучала. Желание матери нельзя было не исполнить, и добрая Анна Матвеевна, готовая всякому помочь и услужить, живо собралась в путь чтобы отвезти мальчика. Сереже грустно было расставаться с людьми, которые были так добры к нему, и особенно со своим другом Петей, но он очень любил мать и рад был ехать к ней. Петя навзрыд плакал, прощаясь с ним, и по щекам Веры текли слезы, когда она в последний раз укутывала и целовала его.
— Странный человек наша Вера, — вскричал Митя, видевший эти слезы: — никого на свете не может любить кроме ребят! С Петей — Бог знает как возится, о чужом мальчике — плачет!..
— Что ни говорите, y Верочки доброе сердце, — заметила Анна Матвеевна: — злой человек не может быть добр к детям, a ведь как она заботилась о Сереже, — нет, она предобрая!
Вера слышала эти слова, но они не казались ей справедливыми. Она чувствовала, что во всем мире любит одного только Петю, для него одного готова забыть себя. Сережу она также несколько полюбила, но разве этого довольно, чтобы заслужить название доброй? Разве она добра, если ничье горе, ничья радость не трогают ее, если y нее нет ни малейшего желания услужить, помочь кому бы то ни было, если ей нужно одно: чтобы Петя был счастлив и любил ее, a до остального — и дела нет?.
Дня через три после отъезда Анны Матвеевны Вера сильно утомилась возней с Петей, который скучал без своего маленького друга, и потому капризничал более обыкновенного; уложив его спать, она и сама прилегла. Голова и грудь ее сильно болели, ей необходим был отдых. Только что ей удалось заснуть и во сне забыть свою боль, как около нее раздался голос:
— Вера Андреевна, встаньте, пожалуйста.
— Что такое? Что случилось? — встрепенулась Вера.
— Евгения Андреевна очень нездоровы, — объяснила будившая ее горничная: — пожалуйте к ним.
— Ах, Боже мой, да что же мне с ней делать! — с неудовольствием вскричала Вера: — y меня y самой голова страшно болит… Разбудите папеньку, пошлите за доктором! — и она опять закрыла глаза.
Горничная проворчала что-то насчет сестер, которые хуже чужих, и с неудовольствием вышла вон.
На другое утро Петя, по своему обыкновению, поднялся с постели рано и, пока Вера одевалась, принялся, также по своему обыкновению, бегать по комнатам. Он стучал ногами, хлопал дверями, пел и хохотал, не стесняясь тем, что в доме еще не все проснулись.
— Барышня, нельзя ли хоть вам унять Петеньку, — заметила горничная, входя в комнату Веры: — он шумит так, что страсть, a ведь Евгения Андреевна очень больна. Я его останавливала, да он и слушать меня не хочет; что это, право, — никакой жалости нет к больной.
Вера тотчас позвала к себе маленького шалуна.
— Петя, — серьезным голосом сказала она ему: — ты слышал, что Жени больна, зачем же ты шумишь, беспокоишь ее?
— A я здоров, я хочу бегать, — отвечал мальчик.
— Но если этим ты делаешь больно Жени? Неужели тебе не жалко ее? — убеждала Вера.
— A тебе жалко? — спросил мальчик, пристально глядя на сестру.
Если бы Вера смела сказать правду, она созналась бы, что вовсе не думала о больной сестре, даже не поинтересовалась узнать, чем она больна, но для пользы Пети она сочла нужным солгать:
— Конечно, очень жалко, — поспешила она ответить на вопрос брата: — я сейчас пойду к ней, постараюсь чем-нибудь помочь ей, a ты будь добрый мальчик, не шуми!
И она пошла быстрыми шагами в комнату сестры, чтобы подать Пете пример заботливости о других.
Жени лежала на постели, с лихорадочным румянцем на щеках, с мутными глазами, запекшимися губами, с выражением страдания на хорошеньком личике.
— Ох, как мне тяжело! Как мне нехорошо! — стонала она.
— Что же с тобой? Что y тебя болит? — спрашивала Вера, стараясь придать как можно больше нежности своему голосу: она заметила, что Петя последовал за ней и с детским любопытством поглядывал на обеих сестер.
— Доктор сказал, что y меня воспаление, — отвечала Жени: — он велел прикладывать мне лед на бок; папа всю ночь возился с мной, теперь пошел отдохнуть, a Дуняша ничего не умеет сделать, как следует. Ох! Все валится, вся простынка мокрая… Какое мученье!
— Позволь я попробую устроить тебя поудобнее, — предложила Вера.
Заботы о маленьком брате приучили ее к деликатному обращению, необходимому с больными. Ловкой рукой приложила она ледяную подушку на больное место, заменила мокрое белье сухим, оправила подушки и одеяло.
— Вот теперь лучше, благодарю тебя, Верочка, — проговорила больная. — Если бы ты посидела немножко со мной, пока встанет папа, — так скучно и тяжело лежать одной!
Вера готова была ответить, что y нее есть свое дело, что ей некогда, что она пришлет горничную, но глаза ее упали на Петю и — она ласково сказала:
— Хорошо, я останусь с тобой; Петя, попроси Дуняшу принести мне сюда чай, может быть, и Жени выпьет чашечку.
— И я буду здесь пить! — вскричал Петя.
— Нет, Петенька, ты нашумишь, обеспокоишь Жени.
— Нет, как можно! Мне жалко Жени, я буду тихо сидеть.
И через несколько минут мальчик вернулся в комнату сестры в сопровождении горничной с чаем. Он шел на цыпочках, осторожно придвинул себе стул к столу и без малейшего шуму принялся за свой чай, беспрестанно приговаривая «тише, тише, совсем тихонько»! Усилия, какие он делал, чтобы не нашуметь, были до того смешны, что, несмотря на сильную боль, Жени не могла удержаться от улыбки.
— Какой Петя добрый мальчик, — проговорила она: — как я рада, что он сидит y меня!
Эта похвала подстрекнула самолюбие мальчика, и он объявил, что не уйдет от Жени и после чаю.
Вере волей-неволей пришлось взять на себя роль сиделки y больной. Андрей Андреевич вынужден был часто отлучаться из дому по делам; Дуняша была так неловка, что могла оказывать очень мало услуг, a Жени, всегда беспомощная даже в здоровом состоянии, — на время болезни требовала беспрестанных услуг. То нужно было подавать ей лекарства и питье, то поправлять подушки, то переменить холодные компрессы, то просто разговаривать с ней, развлекать ее. При том небольшом запасе терпения, каким обладала Вера, ухаживанье за капризной, требовательной больной было ей очень не по душе. Много раз готова она была резко ответить сестре или совсем уйти от нее, но всякий раз мысль о Пете удерживала ее. Как объяснит она свой поступок мальчику? Что ответит она ему, если он скажет: «Ты все меня учишь жалеть Жени, a сама не жалеешь ее, вон как ты на нее закричала! Она тебя зовет, a ты к ней не идешь!» И она сдерживала порывы нетерпения, она кротко выносила капризы больной, она всеми силами старалась облегчать ее страдания, ободрять и развлекать ее.
Жени, конечно, не знала причин, заставлявших сестру поступать таким образом, она видела только ее любовь, ее заботливость и была от души благодарна ей.
— Верочка, какая ты добрая, — часто повторяла она: — без тебя я наверно умерла бы.
Один раз, поздно вечером, Вера сидела y постели сестры. Весь день Жени чувствовала себе очень худо и теперь, по-видимому, задремала. При слабом свете лампы, закрытой абажуром, Вера глядела на исхудавшее, побледневшее личико сестры, и в сердце ее закралась жалость к этому прелестному ребенку, который так страдал и так плохо умел переносить страдания. Она осторожно подняла одеяло, спустившееся с постели, и хотела тихонько поправить прядь волос, выбившуюся из под чепчика и спускавшуюся на глаза больной. Вдруг Жени схватила ее руку своими двумя слабыми ручками и прижала ее к губам.
— Вера, Вера прости меня! — проговорила она.
— Что с тобой? Что простить Женичка? — испугалась Вера, думая, что сестра бредит.
— Я всегда обижала тебя, ссорилась с тобой, a ты такая добрая, такая хорошая, мне очень стыдно, прости меня! — И она продолжала целовать руку сестры.
— Полно, милая, успокойся, — сказала Вера прерывающимся от волнения голосом: — я совсем не так добра, как ты думаешь, — право, тебе не за что благодарить меня.
— Как не за что? Я никогда не забуду, что ты для меня делаешь. Ты увидишь, какой я буду тебе доброй сестрой! Я ведь люблю тебя.
— И я тебя очень люблю, — проговорила Вера целуя сестру и отодвигаясь от нее, что бы скрыть свои слезы.
«Как немного нужно, чтобы заслужить любовь и благодарность людей, — думала в эту ночь Вера, лежа в постели, после того как Жени крепко и спокойно заснула. — И Анна Матвеевна, и Сережа и Жени считают меня необыкновенно доброй, a я, оказывая им услуги, даже и не думала об них. Милая Жени! Я не ожидала, что она такая чувствительная. A что, если в самом деле она полюбит меня и мы будем жить с ней дружно, как живут другие сестры? Ведь это будет очень приятно, это очень скрасит нашу жизнь».
Вера перенеслась мысленно в свое детство: ей живо представились те чувства злобы, ненависти и зависти, которые постоянно волновали ее и делали ее таким несчастным ребенком. Давно уже чувства эти завяли, перестали ее мучить; давно уже смотрела она без зависти на красоту сестры, без озлобления относилась к познаниям и умственному превосходству братьев. Зачем была ей красота, когда Петя любил ее такой, какой она была? Он покрывал поцелуями ее жесткие волосы, ее некрасивый рот, приговаривая при этом: «Ты моя хорошая, ты лучше всех!» — и эта детская похвала вполне удовлетворяла ее тщеславие. С какой стати было ей завидовать братьям, когда она, с меньшим запасом знаний, лучше понимала, что было нужно для ее любимца, лучше знала, как оградить его от мелких детских невзгод, как доставить ему удовольствие, которое, в то же время, помогало его умственному или нравственному развитию. Ради Пети привыкла она сдерживать порывы вспыльчивости и нетерпения и, благодаря этому, ее столкновения с окружающими стали реже: Боря перестал дразнить сестру, отвечавшую теперь на его нападки кротко и разумно, прислуга охотно работала для барышни, от которой не слышала уже грубых требований или выговоров.
После этого вечера Вера стала ухаживать за Жени, уже не ради Пети, a ради самой Жени, ради любви к ней и желания заслужить ее дружбу. Жени, со своей стороны, продолжала выказывать сестре самую горячую благодарность, Она не перестала капризничать, но после каждого припадка нетерпения так трогательно высказывала свое раскаяние, что невозможно было сердиться на нее. Болезнь ее почти миновала; Анна Матвеевна, возвратившаяся наконец из Москвы, охотно бралась заменить Веру y постели выздоравливавшей, но ни одна из сестер не была на это согласна. Длинные часы, проведенные вдвоем, сблизили их, вызвали их на откровенные разговоры, на обмен мыслей, приятный для обеих. Особенно много говорила Жени; она беспрестанно вспоминала какие-нибудь интересные случаи из своей гимназической жизни, рассказывала о своих отношениях к разным подругам и к тем знакомым, y которых она бывала вместе с Анной Матвеевной. Вера слушала внимательно и с удовольствием. Для нее, проводившей жизнь в уединении детской и классной, в рассказах сестры было много-много интересного, многие из этих рассказов забавляли ее, но над многими она задумывалась.
— Жени, a ведь это было нехорошо с твоей стороны, — замечала она не раз, слушая о какой-нибудь легкомысленной проделке девочки.
— Да, милая, — простодушно соглашалась Жени: — я потом и сама поняла, что это ужасно гадко, a тогда мне это и в голову не приходило; я рассказывала Анне Матвеевне, a она только засмеялась.
Бедная девочка! Она была совершенно предоставлена самой себе в такие годы, когда так полезно иметь разумную руководительницу…
«Если бы она была откровенна со мной, если бы она раз сказывала о своих шалостях не Анне Матвеевне, a мне, то я сумела бы предостеречь ее от многого дурного». — Так думалось Вере, и сознание той пользы, какую она может принести сестре, увеличивало ее желание закрепить их зарождавшуюся дружбу.
Во время медленного выздоровления Жени, Митя и Боря часто проводили вечера в ее комнате, Чтобы развлечь больную, они подробнее и откровеннее, чем обыкновенно, говорили о своих делах и занятиях. Митя уже слушал лекции в университете; он с оживлением говорил о своих профессорах и новых товарищах, иногда даже передавал содержание только что прочитанных книг, забывая, что это не могло интересовать Жени. Боря готовился к выпускному экзамену из гимназии, но мало думал о нем: все мечты его были направлены к тому, чтобы выпросить y отца позволение поступить в морское училище и сделаться моряком. Он с таким жаром описывал свои будущие дальние путешествия и опасные приключения, что нельзя было не заслушаться его. И действительно, Вера часто заслушивалась. До сих пор братья ни разу не высказывали при ней совершенно откровенно и непринужденно свои заветные мысли и мечты, она редко вступала с ними в разговоры и считала одного из них «скучным педантом», a другого — «пустым мечтателем». Теперь в первый раз удалось ей, так сказать, заглянуть им в душу и она с удивлением заметила, что оба они гораздо лучше, чем казались при поверхностном знакомстве. Митя, несмотря на свою наружную сухость и холодность, живо увлекался всем, что касалось науки, желал со всяким поделиться своими знаниями, и умел так ясно и просто излагать свои мысли, что внушал невольный интерес к занимавшему его предмету. Боря, со своим неистощимым запасом остроумия, веселости и пылкого воображения, был неоценимым собеседником в комнате выздоравливающей. Он так страстно увлекался своей любимой мечтой — морем, так живо описывал свое отчаяние в случае, если отец решительно воспротивится его желанию, и свою радость, если желание это исполнится и он наденет мундир моряка, — что обе сестры незаметно поддались его влиянию и стали от души желать ему успеха. По вечерам вся молодая семья собиралась около кушетки медленно поправлявшейся Жени, и Вера сознавала себя членом этой семьи, членом не по имени только, a по тому участию, которое она принимала в судьбе всех остальных.
Глава X
Время шло и приносило с собой разные перемены в доме Петровских. Андрей Андреевич стал очень часто прихварывать, он рано превратился в старого, болезненного старика и постоянно нуждался в заботе и уходе добродушной Анны Матвеевны, которая одна умела успокоить его и предупреждать его желания; Боря достиг своей цели и отправился в свое первое отдаленное морское плавание; Митя, кончив курс наук в университете, намеревался приготовиться к профессорской кафедре, a пока давал уроки, стараясь внушить своим ученикам такую же любовь к серьезным занятиям, какую всегда сам чувствовал. Жени девятнадцати лет вышла за муж за человека, который без памяти любил ее и окружал ее такими нежными, предусмотрительными заботами, что, не смотря на свое звание «дамы» — она, заметим кстати, очень гордилась этим званием, — ей приходилось по-прежнему вести жизнь балованного ребенка.
В судьбе Веры не произошло перемен. Ее меньшому брату исполнилось десять лет, но отношения их нисколько не изменились: он по-прежнему оставался ее любимцем, ее питомцем, ее ребенком. По-прежнему кроватка Пети стояла в ее комнате, она помогала ему одеваться и раздеваться, она приводила в порядок его вещи. она распределяла его время препровождение, она сама учила его, всеми силами стараясь сделать для него это ученье как можно более легким и интересным, сама гуляла с ним зимой по улицам Петербурга, летом — по аллеям Царскосельского парка, сама играла с ним, придумывая игры, которые забавляли бы мальчика и, в то же время, служили к его умственному развитию. Вся жизнь ее была посвящена заботам о нем; она училась тому, чему хотела выучить его, читала только такие книги, знакомилась только с такими людьми, которые могли сообщить ей что-нибудь для него полезное. Отдаваясь вся своему воспитаннику, она, в то же время, ревниво оберегала его от всяких посторонних влияний. Она упросила отца не нанимать ему ни гувернанток, ни учителей, решительно воспротивилась желанию Мити давать ему уроки, знакомства выбирала для него сама и никогда не позволяла ему без своего надзора играть с чужими детьми. Петя рос, как по большей части растут сыновья слишком нежных маменек, — слабым, хилым, робким ребенком, лишенным самостоятельности и самодеятельности. Он нисколько не тяготился неусыпным надзором сестры; он так к нему привык, что считал его неизбежным условием своей жизни; иногда ему скучно было сидеть в комнате часто прихварывавшей Веры, он с завистью поглядывал на детей, весело бегавших по двору и по улице, но он не высказывал этих чувств сестре, зная как сильно огорчат они ее. И чувства эти быстро проходили, и, читая в книгах или слушая рассказы о тех опасностях или не приятностях, каким подвергаются другие дети, он ютился поближе к сестре и утешался мыслью, что все эти опасности и неприятности не могут коснуться его.
— Эх ты, Петя, баба! Нюня! Никогда из тебя не выйдет порядочного моряка! — дразнил братишку Боря, во время месячного отпуска, который он проводил дома перед отплытием в море.
— Я сошью ему розовое платьице, он совсем девочка, a не мальчик, — подсмеивалась Жени.
— Я боюсь, что ты изнежишь мальчика до того, что совсем испортишь его. — серьезно замечал сестре Митя.
Вера и сама видела недостатки Пети; она видела, что он беспомощен в таких вещах, которые кажутся очень легкими другим мальчикам его лет, что он не в состоянии бороться с трудностями, что он бледнеет и дрожит при всякой, даже воображаемой, опасности, что он не умеет сходиться с товарищами своих лет, что он часто задумывается над вопросами, слишком серьезными для его возраста, и пренебрегает детскими занятиями. Эти недостатки огорчали ее, но как уничтожить их и, главное, что разовьется взамен их? Ведь, если он сделается одним из тех резвых, шумливых мальчиков, которые нравятся Мите, то разве будет он по целым часам тихо, не шевелясь, просиживать y постели ее во время ее мучительных головных болей, разве он станет так покорно слушать все ее советы и наставления, разве он станет так нежно ласкать ее, так откровенно высказывать ей всякую свою мысль? A без этого — какова же будет жизнь ее? Нет, Петя добр, умен; если он не похож на большинство мальчиков своих лет, то что за беда! — из него выйдет честный, образованный человек, не очень ловкий, не очень храбрый, но разве это так необходимо? И, наконец, ведь он еще очень мал; она будет постепенно приучать его к самостоятельности, и если ей удастся, выработать в нем особенно твердый, решительный характер, зато своим надзором и влиянием она наверно убережет его от многих пороков, весьма распространенных среди детей.
Так утешала себя Вера, старательно заглушая внутренний голос, который иногда шептал ей, что ее любовь к брату эгоистична, что даже ради его пользы, она не может решиться расстаться с ним, допустить постороннее влияние на него…
— Поздравьте меня, — объявил один раз за обедом Дмитрий Андреевич, как мы теперь должны называть нашего старого знакомца Митю; уменьшительное имя не идет к его важной, высокой фигуре и серьезному лицу: — я получил уроки, которые, кажется, будут мне очень по душе.
— Что же такое? — полюбопытствовала Вера.
— Это уроки в так называемой семейной школе. Несколько семейств сложилось, чтобы давать вместе образование своим детям, приглашены хорошие учителя, накуплены отличные учебные пособия, нанято превосходное помещение. Детей всего будет десять человек, приблизительно одного возраста и одинаковых познаний, так что заниматься будет приятно. Хочешь, я свожу тебя в воскресенье осмотреть помещение нашей школы? Ты увидишь там много иностранных учебных пособий, хочешь?
— Хорошо, пойдем, — согласилась Вера.
В воскресенье брат и сестра, в сопровождении маленького Пети, выпросившегося также с ними, отправились в школу. Дмитрий Андреевич не без основания хвастался новым местом своих занятий. Комната, предназначенная для класса, была очень большая, высокая, светлая; Петя не мог оторвать глаз от картин, украшавших ее стены; Вера обратила внимание на стеклянные шкафы, наполненные чучелами, моделями, различными образцами произведений как искусственных, так и естественных. Дмитрий Андреевич подробно: объяснял ей устройство классной мебели и те гигиенические условия, каким она удовлетворяла, показал ей небольшую, но тщательно выбранную детскую библиотеку, и затем отворил дверь в соседнюю, рекреационную залу. Эта комната была еще больше первой; в одном углу ее была устроена гимнастика, в другом помещалось пианино для упражнения детей в музыке и пении, по стенам, кроме нескольких легких буковых стульев, не стояло мебели, чтобы не стеснять свободы детей.
— Как здесь хорошо бегать! — заметил Петя, оглядывая комнату. — A что, — спросил он, с некоторым страхом косясь на гимнастику, — всех ваших мальчиков заставляют лазать по этим лестницам?
— Нет, конечно, — поспешил успокоить его старший брат: — лазают только те мальчики, которые сами хотят. Но, знаешь, всякий мальчик, который с месяц поучится y нас в школе, непременно захочет полазить. Ты приходи когда-нибудь посмотреть на наших мальчиков. Вера, пустишь его?
— Пожалуй, — неохотно согласилась Вера.
С тяжелым сердцем вернулась она из школы домой: ей грустно было, что ее Петя не может пользоваться такими же богатыми средствами к образованию, как другие дети; она понимала, что от нее зависит доставить ему эти средства; правда, Митя предлагал поместить его в эту самую школу, но ведь это значит отдалить его от себя, отдать его в чужие руки. Нет, он еще слишком мал, пусть пройдет года четыре, пять, тогда ее знания окажутся для него недостаточными и поневоле придется нанимать ему учителей, отдавать его в учебное заведение, a пока — пусть он еще побудет ее ребенком, ее утешением…
Дмитрий Андреевич не забыл своего обещания сводить Петю в школу, да и сам мальчик не раз напоминал о нем: ему интересно было еще раз посмотреть пленившие его картины, отчасти интересно было видеть смельчаков, взбиравшихся по веревочным лестницам до самого потолка. Вера согласилась наконец, скрепя сердце, исполнить желание брата и отпустила его с Дмитрием Андреевичем, обещая через час сама зайти за ним.
Первое впечатление, вынесенное мальчиком из школы, было не очень благоприятно: он попал к половине класса арифметики и ему скучно было слушать решение известных уже ему задач, a в свободное время шумная веселость школьников и их гимнастические упражнения несколько испугали его. На расспросы Веры он с полной искренностью отвечал:
— В школе, кажется, весело, только дома лучше.
И этим ответом несказанно обрадовал ее. С месяц о школе не было помина; но вот Вера заболела: она слегка простудилась, к этому присоединились ее обыкновенные нервные головные боли, и ей пришлось несколько дней пролежать в постели. Петя проводил эти дни почти безвыходно в ее комнате, стараясь вести себя, как можно тише. На улице ярко светило зимнее солнышко, мимо окон беспрестанно проходили гуляющие дети, a он должен был сидеть в полутемной комнате, почти молча, так как Вера не переносила долгого разговора, — не смея лишний раз пошевелиться, чтобы не нашуметь. Нельзя сказать, чтобы это было приятно мальчику, но он так привык не разлучаться с сестрой, что считал такое заключение неизбежным следствием ее болезни и покорялся ему.
Дмитрий Андреевич вошел проведать сестру и обратил внимание на бледность и унылый вид мальчика.
— Ах, Петя, какая y тебя несчастная рожица! — с улыбкой заметил он: — должно быть, ты давно не выходил на воздух? Все здесь сидишь? Это вредно, тебе бы надо прогуляться, сегодня погода отличная.
— С кем же мне гулять? Ведь Вера больна, — грустно отвечал мальчик.
— Пойдем со мной! Отпусти его, Вера! Я иду теперь в школу, это будет отличная для него прогулка; там я пробуду три часа и приведу его тебе обратно. Хочешь, Петя?
Глазенки Пети весело заблестели при предложении брата.
— Что же, пусть себе идет, если ему скучно со мной, — недовольным голосом проговорила Вера.
Петя заметил, что сестре не хочется отпустить его; добрый мальчик боялся огорчить больную, веселый огонек потух в глазах его, и он отвечал на вопрос брата:
— Нет, я не хочу идти в школу, я лучше останусь с Верой.
Вера, не спускавшая глаз с мальчика, поняла, что происходило в душе его; его великодушие тронуло и пристыдило ее.
— Иди, иди, голубчик, — нежно сказала она, пожимая его маленькую ручку: — иди, мне очень хочется, чтобы ты погулял, a я в это время постараюсь заснуть.
Теперь Пете не нужно было более скрывать своих чувств, и он, весело припрыгивая, вышел из комнаты со старшим братом.
Нечего говорить, что Вера и не думала засыпать в его отсутствие: она все время волновалась и с нетерпением ожидала его возвращения. Ждать пришлось целых четыре часа, a это, конечно, очень долго для больной, которая не в состоянии ничем заняться, чтобы скоротать время.
Наконец в соседней комнате послышались торопливые детские шаги, дверь отворилась и вбежал Петя, раскрасневшийся, улыбающийся. Он был в таком возбужденном состоянии, что забыл необходимую осторожность, стукнул дверью и заговорил громким голосом, заставившим Веру поморщиться от боли.
— Ах, Верочка, как в школе весело! Как там мальчики хорошо поют! Все хором! К ним приходил учитель пения, он такой смешной, веселый, и меня заставил петь; мне прежде было стыдно, a потом, ничего, — и я немножко подпевал. A потом, знаешь, я все y тебя не мог понять движение земли вокруг солнца, a теперь я понимаю; там учитель показывал большой такой теллурия, с освещением, и так он все ясно объяснил, что просто прелесть, — я теперь отлично понимаю; a в другой раз, он сказал, что будет объяснять движение луны; мне очень жаль, что я не услышу: это, должно быть, также интересно. A потом еще…
— Перестань, пожалуйста, Петя, y меня очень сильно болит голова, — простонала Вера.
Мальчик замолчал, но мысль о школе не оставляла его. Как только он замечал, что сестре становится лучше, что она в состоянии говорить или хоть слушать, он принимался за свой прерванный рассказ и с жаром описывал все, что показалось ему заманчивым и интересным в училище.
— Тебе так понравилось в школе, что ты, кажется, хочешь поступить туда? — с досадой спросила Вера.
— Я вот что думаю, — после минутного молчания серьезным голосом отвечал Петя: — все мальчики учатся в каких-нибудь заведениях, значит, и мне тоже нужно, a Митина школа очень хороша.
Вера не могла не сознавать справедливости этого ответа, но именно эта-то справедливость и раздражала ее.
Через несколько дней она выздоровела, и ее занятия с Петей возобновились. По-видимому, все y них шло по-старому, но на самом деле было не совсем так: при всяком сколько-нибудь трудном или скучном уроке Петя думал о школе, ему представлялось, что там дело шло бы иначе. Вера угадывала эту мысль по его глазам, иногда даже напрасно предполагала ее и мучилась. A Дмитрий Андреевич, как нарочно, усиливал ее мучения: он то рассказывал об успехах своих учеников или о пользе товарищеского общества для тех из них, которые до сих пор не выходили из семейного круга, или замечал, что Петя слишком вял и бледен, что ему нужно делать побольше движения, нужно сближаться с детьми, которые расшевелили бы его.
Долго колебалась Вера, долго старалась она убедить себя, что удерживать Петю дома должно для его же пользы, но, наконец, любовь к брату победила эгоизм и она объявила, что согласна отдать Петю в школу.
— Ты на меня сердишься? Это тебе неприятно? — робко спросил Петя, узнав решение сестры.
— Мне это будет приятно, если ты будешь хорошо учиться и сделаешься посмелее и половчее, — отвечала Вера: — и еще… если ты меня не разлюбишь, — прибавила она дрогнувшим голосом.
— Я тебя не разлюблю никогда, никогда не разлюблю, — вскричал мальчик, бросаясь к ней на шею: — я тебя буду любить еще больше, я ведь вижу, что тебе скучно отдавать меня, что ты это делаешь для моей пользы, милая моя!
Вера приласкала мальчика и, подавив волновавшие ее чувства, заставила себя весело разговаривать с ним о предстоявшей ему перемене жизни.
Через несколько дней он ушел от нее рано утром, гордясь и радуясь своим новым званием школьника и весело обещая за обедом подробно рассказать ей обо всем, что будет делаться в школе. Она проводила его грустными глазами и осталась одна. Да, она чувствовала себя одинокой, хотя мальчик уходил только на несколько часов в день, хотя все вечера он будет проводить с ней… Для него начиналась новая жизнь, которая должна была с каждым годом все более и более разлучать их; y него должны были явиться новые интересы, новые привязанности, недоступные ее влиянию. A она? Какие могут быть y нее интересы, кроме него? До сих пор вся ее жизнь была полна им, настолько полна, что ей некогда было заботиться о самой себе. A теперь, что же ей делать? Чем занять свое время в те часы, когда его нет около нее, когда она ничего для него не может сделать? Читать, учиться самой? О да, это необходимо, он не должен перегнать ее в умственном развитии, она должна всегда знать настолько, чтобы понимать все, чем он будет интересоваться впоследствии, когда вырастет и сделается образованным человеком. И Вера принялась за книги, решив отдавать им все свое свободное время; но она чувствовала себя неудовлетворенной за эти годы, она так привыкла постоянно заботиться, думать о Пете, что жизнь без подобной заботы представлялась ей чем-то неполным. И вот, как бы в ответ на ее чувства, ей подают письмо от Жени.
«Голубчик, Верочка, — писала молодая женщина, — приезжай ко мне, как можно скорей: мой Павля все пищит, я не знаю, что с ним, ты умеешь ходить за маленькими детьми, a я только плачу над ним».
Подобные письма Вера получала довольно часто в последнее время: три месяца тому назад y Евгении Андреевны родился сын, и она в отношении к малютке была также беспомощна, как и относительно всего в жизни. Много раз приходилось Вере ездить и нянчиться с ребенком, утешать молодую мать, но никогда не делала она этого так охотно, как теперь.
«Кажется, вместо одного питомца, y меня является другой, — с грустной улыбкой прошептала она, прочитав письмо, — конечно, он никогда не заменит мне Петю, но я могу полюбить и его. Надобно помочь бедной Жени!»
И она поехала к сестре. Она сумела скоро узнать причину писка ребенка и устранить ее; при ней Павля не плакал, спокойно спал, с аппетитом ел, весело поглядывал по сторонам.
— Ах, Вера, как ты славно умеешь с ним возиться, — вскричала Жени: — ты должна непременно учить меня, помогать мне; я уверена, что без тебя уморю Павлю: я такая глупая.
— Я буду помогать тебе, — обещала Вера.
И вот y нее явилось новое дело, новая забота, которая могла всецело наполнить те часы, которые она проводила одна без Пети.
— Вера, — сказал несколько дней спустя Дмитрий Андреевич: — я пришел сделать тебе одно предложение: не возьмешься ли ты давать уроки в нашей школе? Ты так хорошо подготовила Петю по русскому языку, что тебе вероятно, нетрудно будет вести этот класс, и таким образом ты все-таки останешься учительницей твоего воспитанника. Согласна?
— Я с радостью согласилась бы на это, — отвечала Вера, то краснея, то бледнея от волнения, — но я право боюсь…
— Чего же тебе бояться? Ты так славно учила Петю, ты отлично можешь заниматься с детьми — попробуй?
Вера, конечно, с радостью согласилась на это. Да и как ей было не радоваться? Учить в той школе, где учился ее Петя, познакомиться с его учителями и товарищами, лично следить и за его занятиями, и за его отношениями к сверстникам — она и не мечтала ни о чем подобном!
«А, ведь, право, я очень счастлива, — думала она в этот вечер, ложась спать: — Петя меня очень, очень любит, да и другие также любят и уважают меня; я могу трудиться и приносить пользу, могу заниматься делом, которое мне по душе; не беда, что я некрасива, старообразна, горбата, — никто, кажется, и внимания на это не обращает. Если бы маменька была жива, она не называла бы меня, как бывало прежде, «бедняжкой». И как это случилось?…» — Она задумалась. «Да, — мысленно проговорила она, — этой переменой, какая произошла но мне, тем самым, что из несчастного ребенка я стала счастливой женщиной, я обязана Пете, моему дорогому Пете; я была несчастна, потому что не любила никого, кроме себя; когда я полюбила его, я привыкла меньше думать о себе, больше заботиться о других, и другие стали хорошо относиться ко мне…»

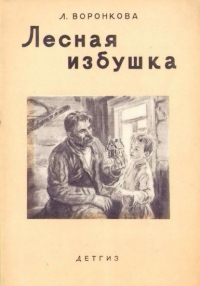





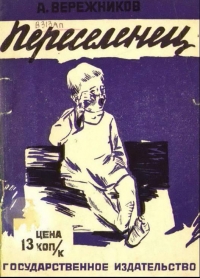





Комментарии к книге «Младший брат», Александра Никитична Анненская
Всего 0 комментариев