Виллем Фредерик Херманс Воспоминания ангела-хранителя
© Willem Frederik Hermans, 2009. Originally published by De Bezige Bij, Amsterdam.
© Михайлова И., перевод, 2018
© «Геликон Плюс», макет, 2018
* * *
Виллем Фредерик Херманс (1921–1995) В поисках выхода из хаоса
Появление Виллема Фредерика Херманса на литературном небосклоне Нидерландов существенно изменило ход литературной истории страны. Произведения Херманса (а за полвека творческой деятельности Херманс написал множество романов, рассказов и стихов, несколько пьес, десятки литературоведческих работ, а также философско-публицистических и исторических эссе) высоко ценились и подвергались серьезной критике, его романы, новеллы, публицистические, философские эссе становились поводом для ожесточенных споров в обществе и предметом судебных исков.
Виллем Фредерик Херманс родился 1 сентября 1921 года в Амстердаме, в семье учителей. Его детство и юность проходят в строгой умеренности и в постоянном страхе бедности, характерном для довоенных Нидерландов, когда вся Европа находилась в состоянии экономического кризиса. Удручающая атмосфера всеобщего обнищания в стране, чувство одиночества в семье, соперничество со старшей сестрой, а также многие другие факты биографии найдут отражение в творчестве писателя.
Окончив гимназию, в сентябре 1940 года Херманс поступает в Амстердамский университет на факультет социологии. Выбор специальности был сделан под влиянием отца, сам же Херманс хотел изучать физическую географию, и уже через год он перешел на географический факультет. Закончить обучение Хермансу удалось лишь в 1950 году, а в 1955-м он защитил докторскую диссертацию, посвященную особенностям земной коры в Люксембурге.
Первыми литературными опытами В. Ф. Херманса были очерки, стихи и рассказы, публиковавшиеся в школьной газете. Настоящим же дебютом можно считать поэтический сборник 1944 года «Поцелуи сквозь паутину слов» (Kussen door een rag van woorden). Лирический герой этих стихов полностью погружен в меланхолическое настроение, безутешно страдая от несчастной любви и жестокости окружающего мира. Первым программным прозаическим произведением стал рассказ «Изобретатель, или И все же машина удалась…» (Uitvinder. En toch… was de machine goed), написанный в 1940 году. В этом рассказе уже прослеживается ряд существенных элементов так называемой «личной мифологии» Херманса: тема дуализма, противопоставления пассивности и смирения активному стремлению к недостижимым идеалам, которое неизбежно приводит к разочарованию.
Особенно ярко эта проблематика будет разработана в первом прозаическом сборнике Херманса «Злой умысел и непонимание» (Moedwil en misverstand, 1948), где писатель демонстрирует интерес к иррациональныму, фантастическому, сюрреалистическому, что было, несомненно, реакцией на безрадостную действительность оккупационных лет, на которые пришлась юность писателя. С другой стороны, интерес к иррациональному отражал авторское восприятие окружающего мира исключительно хаотичным и иррациональным.
Конец 1940-х годов знаменует собой начало наиболее активного периода в творчестве Херманса, который продолжится до конца 1950-х. В эти годы Херманс издается много и часто, под многочисленными псевдонимами, работает редактором в нескольких литературных журналах, в частности в журнале Criterium («Критерий»), где публикуются первые главы его романа «Слезы акаций» (De tranen der acacia’s, 1949). В этом «одном из самых ярких романов в нидерландской литературе о Сопротивлении», Херманс впервые обращается к военной проблематике. По мнению Херманса, именно в обстановке войны характер человека проявляется в полной мере и открывается правда об окружающем мире. В этом романе В. Ф. Херманс развивает одну из центральных философских тем своего творчества – невозможность познать окружающий мир и человека. «Роман описывает кризис самоопределения молодого человека, взрослеющего во время Второй мировой войны: ни в одной из сфер окружающей действительности, будь то политика (Сопротивление и коллаборационизм) или семейные связи (отношения с родителями и сестрой), герой не может понять, где правда, а где ложь», – отмечал нидерландский литературовед Ф. А. Янсен. Несмотря на то что критическая оценка автором деятельности движения Сопротивления шокировала большинство читателей, роман пользовался популярностью, а главный персонаж Артур Мутта стал олицетворением послевоенного чувства растерянности.
В 1950 году, а также с 1963-го по 1964 год В. Ф. Херманс возглавляет журнал Podium. В 1951 году на страницах этого журнала печатается роман «Я всегда прав» (Ik heb altijd gelijk), в котором писатель обращается к актуальным событиям того времени – потере Нидерландами своей колонии Индонезии. Политические события переплетаются с психологической проблемой самоопределения главного героя: ему приходится не только осознать всю ничтожность своей роли в историческом процессе, но и столкнуться с разочарованием в семейных отношениях – с родителями и сестрой. Герой романа Лодевейк Стегман оказывается в изоляции, одиночестве, лишенным последних иллюзий среди хаоса окружающего его мира. Лодевейк пересматривает свое отношение к родине и резко критикует католическую церковь. Вскоре после выхода романа Херманса вызывают в суд: в одном из монологов главного героя усматривают оскорбление религиозных чувств католиков. Однако писателю удается отстоять свою позицию, ссылаясь на то, что автор не обязательно разделяет точку зрения своих персонажей. Впрочем, роман «Я всегда прав» все же был внесен католическим цензурным институтом Нидерландов в список книг, чтение которых запрещено в католических школах.
В 1951 году Херманс пишет свою знаменитую новеллу «Невредимый дом» (Het behouden huis), действие которой происходит в 1944 году. Главный герой, от лица которого ведется повествование, оказывается в партизанском отряде близ Восточного фронта, в оставленном немецкими войсками городе. Здесь герою, уставшему от хаоса войны и одиночества, удается укрыться в единственном не пострадавшем от боевых действий доме. В этой новелле звучат все важнейшие темы Херманса (непознаваемость реальности, непонимание между людьми, хрупкость цивилизации на фоне хаоса и др.), и писатель создает уникальное повествование, в котором реальность и мифический вымысел переплетены воедино.
Чувство хаоса, болезненного состояния мира В. Ф. Херманс описывает в новеллах своего самого известного прозаического сборника «Паранойя» (Paranoia, 1953). Открывается сборник авторским предисловием – художественным манифестом писателя, требующего от любого литературного произведения строгой взаимосвязи тематики, поэтики и стилистических особенностей.
Герои новелл сборника «Паранойя» сталкиваются с той же, центральной для Херманса проблемой: невозможностью познать действительность. Каждый из них пытается убедить окружающих в верности своего собственного мироощущения и наталкивается на совершенно противоположную точку зрения, что приводит героев в тяжелейшее состояние духа, вплоть до сумасшествия. Как и сюрреалисты начала ХХ века, Херманс видел в сумасшествии бесконтрольное выражение подсознательного.
Внимание Херманса к сюрреализму в полной мере найдет отражение в его романе «Бог Мыслим, Мыслим Бог» (De God Denkbaar, Denkbaar de God, 1956), который он сам будет считать вершиной своего прозаического творчества. В этом сюрреалистическом романе-гротеске главный герой, которого зовут Год Денкбаар (буквальный перевод «Бог Мыслим»), подобно героям рыцарских романов, ищет свой Грааль: в его случае – тайные документы, которые должны подтвердить его собственное существование. В поиске этих документов он, как и полагается в рыцарском романе, проходит через ряд испытаний, которые по воле автора ХХ века носят совершенно абсурдный характер. Сюжет выстраивается не столько на последовательном описании этих приключений, фантастический характер которых сближает героя Херманса с Мюнхгаузеном Распе, сколько на языковой игре, каламбурах, ребусах, загадках, в которых находят выражение философские размышления автора о соотношении языка и мысли, на самом ритме повествования.
Многие литературоведы сходятся во мнении, что роман «Бог Мыслим» является своего рода предвестником литературы постмодернизма. В романе писатель прибегает к многочисленным аллюзиям, приему «текст в тексте». Используя цитаты из Декарта, Витгенштейна, Ницше, автор выстраивает самостоятельный художественный текст. В романе «Бог Мыслим» сюрреалистическое видение мира В. Ф. Херманса достигает вершины, однако и в дальнейшем творчестве писатель неоднократно будет возвращаться к подобной стилистической и художественной форме, в частности в 1973 году выйдет продолжение этого романа – «Евангелие от О. Даппера Даппера» (Het evangelie van O. Dapper Dapper).
В 1958 году в свет выходит роман «Темная Дамоклова комната» (De donkere kamer van Damokles), который приносит Хермансу международную известность. С одной стороны, роман представляет собой описание событий, происходящих во время Второй мировой войны, в годы оккупации Нидерландов. Герой романа Генри Осевауд знакомится с нидерландским офицером и начинает выполнять его секретные задания, считая, что помогает этим движению Сопротивления. В ходе романа реальность существования офицера начинает вызывать сомнения, как и адекватность выполняемых Осеваудом заданий. Кто он: участник Сопротивления или предатель, герой, жертва или сумасшедший? Так, роман о войне одновременно представляет собой и образец психологической прозы, и тонкое философское повествование, в котором продолжается развитие центрального тезиса в мировоззрении Херманса о невозможности познания окружающего мира и человека.
С 1958-го по 1973 год В. Ф. Херманс преподает физическую географию в университете города Гронингена. В 1960 году он участвует в экспедиции по заполярным областям Швеции и Норвегии, после чего пишет роман «Никогда больше не спать» (Nooit meer slapen, 1966). В романе повествуется об экспедиции по северу Норвегии молодого ученого Алфреда Иссендорфа, для него самого безрезультатная, а для его спутника трагическая. Это произведение, впоследствии удостоенное одной из самых значимых национальных литературных премий, построено как роман воспитания – интеллектуального и духовного. Однако в фокусе повествования – не становление героя, не достижение им поставленных задач, не успешный процесс инициации с переходом на новый уровень, а разочарование, трагическая обреченность и регрессия.
На протяжении всей жизни Херманс занимался философией и историей философии, особенно его привлекала лингвистическая теория австрийского философа Людвига Витгенштейна (1889–1951). В 1975 году Херманс перевел на нидерландский язык его «Логико-философский трактат» и написал о нем ряд статей.
С середины 1960-х В. Ф. Херманс много времени уделяет публицистике. Скандально-знаменитым стал сборник острополемических статей «Мандарины в серной кислоте» (Mandarijnen op zwavelzuur, 1964). Под «мандаринами» имеются в виду чиновники в древнем Китае, от которых, по мнению писателя, мало чем отличаются почивающие на лаврах представители послевоенной литературы Нидерландов. Эти «литературные мандарины» слепо обслуживают интересы публики, которая боится увидеть в литературе правду о себе и об окружающем мире. Несомненно, этот сборник способствовал подтверждению репутации Херманса как жесткого, категоричного критика: не зря у Херманса был ряд прозвищ, таких как «Вильгельм Грозный», «Харенское чудовище» (от городка Харен под Гронингеном, где жил писатель) и позднее, после его переезда во Францию, «Палач из Парижа». По мнению нидерландского литературоведа В. Смюлдерса, «Мандарины в серной кислоте» «могут вызывать или чувство восхищения абсолютной независимостью автора, или чувство отвращения из-за едкости и непримиримости полемического задора».
Обстановка после появления «Мандаринов», а также напряженные отношения в университетской среде привели к тому, что в 1973 году писатель оставляет работу в университете города Гронинген и переезжает в Париж, где полностью посвящает себя литературе.
Но незадолго до своего переезда Херманс публикует роман, который он сам охарактеризовал как один из своих лучших – «Воспоминания ангела – хранителя» (Herinneringen van een engelbewaarder, 1971). Роман относится к произведениям военной литературы, так как повествует о майских событиях 1940 года в Нидерландах: бомбардировке Роттердама и последовавшей за ней капитуляцией Нидерландов. Удивительным является выбор писателя вести повествование от лица ангела-хранителя, который приставлен к главному герою – прокурору Берту Альберехту. Ангел наблюдает за событиями, которые происходят в стране и в судьбе главного героя в течение семи дней, и оставляет своего рода мемуары, отражающие не столько историческую картину, сколько конфликт и сомнения в душе героя. Прибегая к использованному ранее приему – военные действия выступают как идеальный фон для выражения идей, – Херманс продолжает детально разрабатывать основные темы своего творчества: самоопределение героя в условиях военного времени, поиск истины, случайность, обреченность и бессмысленность этого поиска, невозможность понимания мира в силу хаоса, как заполняющего людей внутри, так и окружающего их во внешнем мире. Писатель вновь показывает, что человеческие поступки вопреки воле и желанию человека зачастую оказываются лишь цепью ошибок и недоразумений. Критики не были единодушны в оценке романа. Некоторые восхищались стилем повествования, называя его идеальным, а сам роман – существенным вкладом, обогатившим военную европейскую литературу. Другие же отмечали в сюжете фактические исторические несоответствия и спорили о незрелом характере главного героя. Однако очевиден глубокий философский подтекст произведения, попытка в очередной раз определить грань между добром и злом, подчеркнуть роль человека в истории и в борьбе с неправдой и хаосом.
Появлением этого романа Херманс словно подводит итог серьезным философским поискам, нашедшим отражение на страницах его предыдущих произведений. Философская тематика отходит на второй план, центральное место занимает сатирическое изображение человека и его жизни. Таковы романы «Среди профессоров» (Onder professoren, 1975) и «Из бесчисленного множества миллионов» (Uit talloos veel miljoenen, 1981), в которых писатель изображает академическую среду Гронингенского университета, где он проработал несколько лет.
Уже находясь в Париже, Херманс много времени посвящает публицистике; он пишет статьи для крупнейших нидерландских газет De telegraaf и Het parool. Позднее эти статьи будут собраны в книги «Злые письма Бейкарта» (Boze brieven van Bijkaart, 1977), «Деревянные львы и львы из золота» (Houten leeuwen en leeuwen van goud, 1979), «Я не ношу шлема с перьями» (Ik draag geen helm met vederbos, 1979), «Клаас не пришел» (Klaas kwam niet, 1983), «Глупый Хюго. Предостережения и размышления» (Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen, 1994).
В 1980-х годах В. Ф. Херманс возвращается к своему излюбленному жанру – малой прозе, в свет выходят новеллы «Сонатина Филипа» (Filip’s sonatine, 1989), «Кашель Хомме» (Homme’s hoest, 1980), «Динамика Гейерстейна» (Geyerstein’s dynamiek, 1982) и «Перстень с печатью» (De zegelring, 1984). Уже хорошо знакомые читателям Херманса темы – искажение действительности в головах людей и бесплодные попытки найти истину, амбиции героев и их несостоятельность – находят отражение в новой, порой более реалистичной форме, более спокойной и меланхоличной.
Выход в 1989 году последнего завершенного романа писателя – «По обмену» (Au pair) заставил критиков говорить о кардинальном изменении тематики и стиля писателя. Хотя Херманс остается верен идее непознаваемости хаотического мира, воплощение этой идеи становится менее прямолинейным. «По обмену» представляет собой вполне традиционный роман воспитания, в котором описывается процесс взросления героини, но он проходит мягче, чем в романе «Никогда больше не спать». Ее взросление и инициация уже не столь однозначно обречены на поражение. Умело вплетая в поэтическую канву текста аллюзии на древнегреческие мифы о богине Диане, об Орфее и Эвридике, на «Алису в стране чудес» Кэрролла и «Мадам Бовари» Флобера, писатель вкладывает в уста своих персонажей цитаты из Бодлера и Канта, заменяя свой привычный писательский сарказм и цинизм иронией и юмором.
В 1992 году Херманс переезжает из Парижа в Брюссель. Еще раньше, в 1977 году, он с благодарностью принял из рук короля Бельгии Бодуэна Премию нидерландской литературы, хотя другие присуждаемые ему премии, как правило, отвергал.
В 1995 году Херманс в последний раз приезжает на родину. В Утрехте он ложится в академическую больницу, где 27 апреля 1995 года умирает от рака легких.
Для многих современников Херманс остался в памяти мизантропом и циником, и его произведения, как художественные, так и публицистические, являются подтверждением скептического и категоричного характера писателя. Однако его искренний интерес к человеку, скептический гуманизм, основывающийся на романтическом рационализме с его стремлением разграничить правду и ложь, несомненно, позволяют причислить В. Ф. Херманса к классикам нидерландской и выдающимся писателям европейской литературы второй половины ХХ века.
Отрадно, что у российского читателя впервые появилась возможность познакомиться и оценить в полной мере стиль выдающегося нидерландского прозаика ХХ века в переводе одного из лучших романов Херманса на русский язык. Более тридцати лет назад русские читатели уже могли получить представление о загадочном нидерландском писателе в значительно более усеченном виде. В 1981 году издательством «Прогресс» (Москва) в сборнике «Современная нидерландская новелла» были опубликованы две повести В. Ф. Херманса. Публикуемый впервые на русском языке роман «Воспоминания ангела-хранителя» более показателен и уникален для Херманса во многих отношениях. В нем поднимается столь важная военная тематика, которая лучшим образом, по мнению писателя, помогает раскрыть характер человека. Необычен и стиль повествования: читатель смотрит на мир глазами ангела-хранителя, и его словами характеризуются не только исторические события в Нидерландах, но внутренний конфликт и развитие человека, оказавшегося в хаосе современности. Теперь и российский читатель может погрузиться в философский мир В. Ф. Херманса и попытаться найти возможность выхода из этого хаоса, которая автором, хоть и в завуалированном виде, несомненно, предоставлена.
О. Б. Овечкина
к. ф. н., директор Голландского института в Санкт-Петербурге
Мы можем думать, что очень далеки от Бога из-за этого облака неведения между нами и Им, но вне сомнения было бы правильнее сказать, что мы намного дальше от Него, когда между нами и всем Творением нет облака забвения.
«Облако неведения», анонимный трактат, ок. 1370 г. [1]ОН призвал меня, сам того не зная, и я пришел – после стольких лет!
От горя кровь у него точно свернулась. Он попал в тяжелейшее положение, а я не мог ничего поделать, не мог ему помочь. Он уже давно перестал верить в Бога, да и про меня совсем забыл. Но я тем не менее не упускал его из виду все эти годы. Всю его жизнь. Я – его ангел-хранитель.
Я не отлучался от него на протяжении всего того дня.
Он сидел в машине один, как взрывчатка в гранате.
– В Бога душу мать, – пробормотал он.
Я опустился ему на плечо.
Он ехал по дороге, ведущей от побережья вглубь страны, и очень спешил, чтобы не опоздать на заседание суда.
Я был рядом с ним уже тогда, когда он провожал ее. Видел, как они вместе поднялись по трапу на корабль. У нее через руку висело пальто, он нес небольшой чемоданчик.
Вместе, он впереди, они окунулись в спертый воздух, заполняющий нутро больших кораблей. Он первый, она следом, шли они по узкому коридорчику с обшивкой из осклизлого крашеного железа, куда никогда не проникает солнечный луч, и в тусклом свете горевших вполсилы бронированных лампочек накаливания он высматривал номера кают, мимо которых проходил, пока наконец не сказал:
– Вот здесь.
– Спасибо, Schatz.[2]
Полуоткрытую, удерживаемую крючком дверь он открывает полностью, входит и ставит чемодан в ногах одной из коек. В каюте две двухъярусные койки.
– Корабль без намека на комфорт, – говорит он, – даже не помогают отнести багаж.
– Это не страшно, главное, что нам без труда удалось достать место. Мне не нужен комфорт, мне нужна безопасность.
У нее был нежный тихий голос, и говорила она на таком исковерканном голландском, что его трудно было отличить от немецкого.
Поставив чемодан на пол, он машинально снял шляпу. Теперь таких шляп в Голландии почти не носят, это была настоящая борсалино с широкими мягкими полями, опущенными и спереди, и сзади, с очень широкой лентой вокруг тульи.[3]
Его плащ-дождевик шоколадного цвета выглядел замшевым, но даже не подходя вплотную можно было понять по запаху, что он резиновый.
Три койки из четырех были завалены сумками и одеждой.
Она закинула свое пальто на верхнюю полку – единственную свободную, в той паре коек, которая находилась подальше от иллюминатора, следовательно, самую неудобную.
Это не укрылось от внимания Альберехта, но он ничего не сказал. Я читал его мысли и всё знал. Он подошел к небольшому, полностью зашитому красным деревом умывальнику с крошечной раковиной и повернул один из двух видавших виды, некогда никелированных кранов, покрытых засохшей мыльной пеной. Такое впечатление, будто кран в оспинах, подумал он.
Из крана потекла слабенькая струйка воды. Мертвой, застоявшейся. И тотчас перестала течь, едва он отпустил кран, выключавшийся автоматически с помощью спрятанной в нем пружинки. Пусть эта вода и затхлая, но другой пригодной для питья на корабле нет, надо ее экономить.
Вслух:
– И здесь тебе предстоит провести две недели с тремя незнакомыми тетками…
Она кладет ладонь ему на плечо и касается губами его шеи: легкий-легкий поцелуй, точно с губ слетел выдох. Ответ на его слова, слова бессилия, по смыслу не имеющие ничего общего с тем, что он на самом деле думал, но чего не мог сказать и тем более не хотел сказать: тебе вообще не место на этом корабле. Не уезжай. Останься со мной… Не покидай меня.
Она была бежавшей из Германии еврейкой, с которой он прожил четыре месяца.
Прощание происходило 9 мая 1940 года, и корабль стоял в порту Хук-ван-Холланд в Нидерландах. Это был грузовой корабль с несколькими пассажирскими каютами, отправлявшийся в ту же ночь в Америку.
– Если в корабль попадет торпеда, – сказал он, – и ты окажешься в холодной морской воде, о чем ты будешь думать?
– Я не буду думать. Я буду стараться изо всех сил оставаться на поверхности воды. Мне придут на помощь. До сих пор в моей жизни мне всегда кто-нибудь приходил на помощь, а после войны мы с тобой снова встретимся.
– Война будет продолжаться пять лет.
– Не надо так мрачно, Schatz. Ведь воевать уже почти перестали. По-моему, в Германии что-то назревает и Гитлера убьют еще до конца этого года.
– Правда?
– Не я одна так думаю. Французы и англичане тоже так думают. Иначе они бы уже разбомбили немецкие города и перешли Рейн.
– Ты сама не веришь в то, что говоришь. Если бы верила, осталась бы здесь.
– Что ты, Schatz, в такой маленькой стране?
– Ну и что, что маленькой? Это только лучше. Сколько раз я тебе объяснял. Мы не ссорились с Германией. Мы не будем участвовать в войне, точно так же, как в Первую мировую.
– Почему же тогда правительство отменило все увольнительные и отпуска для военных?
– Потому что мы сохраняем нейтралитет и должны показать миру, что намерены защищаться от любого агрессора. Любого, неважно, какого именно.
– Но у вас в стране тоже есть нацисты. Если эти нацисты попросят немцев прийти к ним на помощь, что тогда?
– Слишком поздно. Пять дней назад мы человек двадцать нацистов на всякий случай посадили в тюрьму. Все их шишки теперь за решеткой.
– Коммунистов вы тоже посадили.
– Наше правительство проявляет осмотрительность.
– Правительства Норвегии и Дании тоже проявляли осмотрительность. А что в результате? Германия их преспокойно захватила.
– Ты противоречишь сама себе. Сначала уверяешь, будто в Германии что-то назревает и жизнь Гитлера в опасности. А теперь говоришь о его успехах.
– Пойдем-ка на палубу. Здесь так душно.
Она вышла из каюты, он следом за ней. Сунул руку под расстегнутый плащ, вынул из кармана серебряную баночку и достал мятную пастилку.
Он мчался на полной скорости, но не все время держал руль обеими руками. То и дело ударял себя правой рукой по правому колену.
– В Бога душу мать, – бормотал он.
В Бога душу! От имени Господа Бога я и вслушивался в мысли моего подопечного.
Он жалел себя. «Мне теперь нечего будет предвкушать, не о ком заботиться. Разве это справедливо, когда тебя бросает женщина, которую ты спас с таким риском для себя? Если бы не я, ее отправили бы обратно в Германию. Ведь наше правительство проявляет такую осмотрительность…»
– Но она-то это сделала не просто из осмотрительности, – шептал я ему, – бросить тебя для нее меньшее зло, чем бросить то правое дело, за которое она борется.
– Дурак, – сказал черт, – ты был для нее лишь счастливой случайностью, одной из многих, позволивших ей спастись от немцев.
– Не будь таким эгоистом, – продолжал я нашептывать моему подопечному, потому что возражать черту не имею права, ибо обязан вообще отрицать его существование.
Сидя съежившись на вентиляционной трубе, я наблюдал за тем, как они снова появились наверху, уже без багажа, и стали прохаживаться по палубе.
– Если война и правда так быстро закончится, как ты говоришь, то прекрасно можно не плыть ни в какую Америку.
– Это я так думаю, что война скоро закончится, но точно не знаю. Мне нельзя забывать о моих родственниках и о товарищах по партии, с которыми в Германии так жестоко обращаются. Из Америки я смогу им помогать. А из такой маленькой страны, как Голландия, не получится.
Ее слова были правдой, но не совсем правдой, как и вообще все, что говорят люди. Это правда, что из Голландии она не могла бы помочь ни родственникам, сидевшим в концлагерях, ни товарищам по партии, которые прятались по разным подпольным адресам, не имея правильных документов и денег. Это правда. Но не ради этой правды она уезжала от Альберехта.
Полный тридцативосьмилетний мужчина. По розовому, слишком тщательно выбритому лицу и по слишком аккуратной стрижке, но особенно по мутноватым глазам было видно, что он в недавнем прошлом весьма и весьма злоупотреблял спиртным.
Познакомившись с ней, бросил пить.
Он знал, что у него много недостатков. Наверное, слишком много, чтобы она связала с ним свою жизнь навсегда? Он сделал все возможное, чтобы исправиться. Все равно недостаточно? Неделю назад он еще и бросил курить.
Все то время, что он был знаком с этой женщиной, его мозг сверлила дьявольская мысль:
В ее положении она просто-напросто не могла не лечь в постель со своим спасителем, не сделать того, о чем он просил. «Даже если бы я был самым отвратительным чудовищем на белом свете (а разве это не так? Алкоголь сочится из моих пор. Я старая развалина по сравнению с ней, ведь ей самое большее двадцать пять лет)».
Двадцать пять лет. Такой возраст значился в ее фальшивом паспорте, и ему никогда не приходило в голову спросить у нее, правда ли ей столько. Он знал только ее фальшивые имя и фамилию, фальшивое место рождения и фальшивый возраст.
В паспорте, по которому она смогла купить билет в Америку благодаря совершенному Альберехтом подлогу в документах, тоже значились фальшивая фамилия (но другая), фальшивое место рождения и фальшивая дата рождения.
Альберехт был прокурором и потому имел связи.
Я видел, как они медленно идут мимо меня по ржавой палубе, покрытой лужами с тоскливыми радугами от пленочки отработанного машинного масла на поверхности. Я подслушивал их разговор, хотя ветер дул не в мою сторону.
Она достала из кармана пальто платок и повязала на голову. Ветер из свинцовых туч дул во всю силу, и левой рукой она придерживала узел платка у подбородка.
Он тоже крепко держал шляпу за поля. Так что они оба напряженно занимались одним и тем же – борьбой с ветром, но это общее дело их не связывало, а, наоборот, отвлекало внимание друг от друга и приковывало его к двум обыденным предметам, которые не были общими: к платку, к шляпе.
Рукав пальто на поднятой вверх руке соскользнул с запястья, украшенного множеством тонких серебряных браслетов.
В конце концов он схватил ее за это запястье и встал прямо перед ней. Широкие, как тогда было модно, штанины его брюк развевались на ветру. Он сказал:
– Все слухи о том, что Германия якобы собирается на нас напасть, были сегодня утром опровергнуты германским информационным агентством. Именно оттого, что Дания и Норвегия уже оккупированы, велика вероятность, что Голландию они оставят в покое. Этот Гитлер же не совсем сумасшедший. На Западе он получил все, что хотел. Данию и Норвегию занял. Англия теперь не может перерезать пути подвоза железной руды из Швеции. У него нет никаких причин нападать на Голландию.
– Буду рада за тебя, если это правда, Schatz. Ты же понимаешь, что я вернусь сразу, как только Германия лопнет. Ты же веришь, что я не шучу?
Его водянистые глаза смотрели на нее без иронии, но и без малейшего доверия. Он ответил:
– Я тебе верю.
Между тем ветер становится еще сильнее. Деревья не раскачиваются, но создается такое впечатление, что их кроны полностью перемешались. При каждом порыве ветра его небольшой автомобиль сносит с курса, так что ему то и дело приходится рывком выравнивать руль.
Эпизод расставанья не дает его мыслям покоя. В некоторые моменты ему кажется, что он переживает его снова и снова.
Сойдя в одиночестве на берег, он обернулся на нее еще два раза. Шляпу нельзя было отпускать ни на миг.
Она стояла у борта. Маленькая поднятая вверх рука махала ему на прощанье. Он видел, как браслеты скользят по ее запястью, и ему казалось, будто до него доносится их позвякивание. Но в действительности слышался только крик чаек и нудное жужжание электролебедки.
«Как бы мне хотелось взять и завалиться в какой-нибудь бар», – думал он.
Медленно пятясь, он махал ей шляпой.
Ее поднятая рука, запястье, вокруг которого серебрится облачко тонких браслетов, напоминающее круги на воде. Будто она уже тонет в пучине и последнее, что высовывается из волн, это ее рука. Прощай. На глаза набежали слезы. Боясь, что она это увидит, в то же время зная, что она ничего не может увидеть из-за большого расстояния между ним (у выхода с пристани) и ней (там, высоко на палубе корабля), он отвернулся и сказал себе: «Я никогда ее больше не увижу».
Проверив, хорошо ли держится на голове шляпа, он огляделся, соображая, как быстрее дойти до машины. На глаза попалось небольшое фортификационное сооружение, перед которым сидели, прислонясь спиной к бетонной стене и вытянув ноги на каменной мостовой, двое солдат. Их каски лежали тут же рядом, на земле, и ветер развевал им волосы. Один солдат держал между вытянутыми пальцами правой руки сложенную вдвое папиросную бумажку, внутри которой лежал табак. Левой рукой он протягивал помятую черно-синюю пачку, откуда только что взял щепотку, второму солдату, сидевшему рядом.
Укрепление было построено в виде домика размером с сарайчик для велосипедов, с покатой крышей.
От деревянной опалубки на бетоне отчетливо пропечатались текстура дерева и места стыков досок. Поверх них, ради маскировки, темной охрой и известкой нарисовали кирпичи и швы между ними. Но это еще не было вершиной художественных изысков строителей, на которые их подвигла военная хитрость. На стене изобразили окно. Квадратное окно с двумя раздвинутыми по сторонам и аккуратно подобранными занавесочками. Поверхность стены между ними была покрашена черным, чтобы это напоминало полумрак в комнате, которой не существовало, а на подоконнике, чуть-чуть не по центру, стояла красная герань в горшке. И горшок, и цветок объемом, равным слою краски.
Но нельзя сказать, что это окно было полной фальшивкой и вообще не соединяло внутреннее помещение с улицей, что, собственно, должно делать любое окно. Приглядевшись хорошенько, можно было увидеть, что подоконник представлял собой длинную горизонтальную щель, через которую на серое море смотрело дуло.
Пушка, обращенная на запад, откуда противника ждать не приходилось. Назначение пушки – из-под нарисованной герани не подпускать захватчика, которому пришлось бы совершить огромный обходной маневр, чтобы не напасть с тыла.
Укрепление, преграждавшее путь воображаемому захватчику, пушка, поставленная лишь для того, чтобы опровергнуть аргумент единственного потенциального агрессора, что Голландия якобы не готова защищаться от любого врага.
Бетонная отливка с нарисованными поверх нее кирпичной кладкой и окном с подоконником и комнатным цветком, перед которой, развалясь, сидели защитники и за которой стояла маленькая пушка, казалась ярчайшим воплощением трусливой лжи, когда-либо сооруженным на земной коре. Пушки, бетон и солдаты, размышлял Альберехт, все это может понадобиться у восточных рубежей, но никак не со стороны моря. То, чего не хватало на границе с Германией, находилось здесь, не принося никакой пользы, и мирно угрожало проплывающим кораблям. Но и в ином случае, если бы эта огневая точка была обращена в сторону Германии, все равно было бы мало проку. Верит ли хоть один человек на свете, что у Голландии есть мало-мальский шанс сохранить независимость, если Германия и правда нападет?
«Для меня все это не имеет значения, – думал он, садясь в машину. – Из всех зол, которые мне могут быть уготованы, я выбрал бы смерть в ее объятиях. Но она недостаточно любит меня, чтобы со мной жить, не говоря уже о том, чтобы со мной умереть».
Он не пошел ни в какой бар. Пошел прямиком к своей машине и сразу сел в нее. Не мешкая ни минуты, поехал кратчайшим путем в свой окружной суд.
И все же в нем, чередуясь с непреодолимым желанием пренебречь обязанностями и остановиться у первого попавшегося заведения, где подают спиртное, то и дело шевелилась мысль взять и развернуться и поехать обратно в Хук-ван-Холланд, стащить ее с этого корабля, пусть даже силком, и сказать: «Никуда ты не поплывешь. Я получил сведения. Этой ночью немцы устроят торпедную атаку на твой корабль. Он перевозит стратегический груз. Мы перехватили тайное сообщение от немецкого шпиона. За кораблем следит подводная лодка. Ты останешься здесь».
То и другое чушь, разумеется. Нет у него никаких тайных сведений. И ни у какого бара он не остановится, и не будет он напиваться до смерти. Я ни разу в жизни не пренебрегал работой ради выпивки, этого не могут не признать даже самые заклятые враги. Выдумывать на ровном месте тайные сведения я тоже не стану. Но в данном случае лучше бы выдумал. Вместо этого перед расставанием он стоял и упрашивал ее:
– Ты просто-напросто искушаешь судьбу. Ищешь неприятностей. Иногда мне кажется, что евреи везде подвергаются преследованиям, потому что в глубине души считают, что этого заслужили. Документы у тебя были в порядке. Никто ничего не подозревал. Ты могла бы дожить в Голландии до конца войны без малейшего риска. Но не захотела.
– У меня есть обязательства.
– А по отношению ко мне их, что ли, нет?
– Уезжай скорее, а то опоздаешь на заседание.
Так он, притворяясь, будто не замечает, что это она навязывает ему свою волю, позволил прогнать себя с корабля, вниз по трапу. Все доводы, которые они друг другу приводили, были по сто раз проговорены раньше. Они вели этот диспут уже много недель, и получалось, что ему нечего возразить на ее аргументы. Все неопровержимые тезисы, гордо рождавшиеся у него в голове, теряли всякую убедительность, едва слетая с его губ. Когда же они наконец меняли тему разговора, у него всегда оставалось ощущение, что не она, а он терпит поражение, а также ощущение, что она это знает.
Он разговаривал с призраком, маячившим у лобового стекла, и не знал, что это я.
На дороге почти не было других машин. Мы догнали роту солдат-самокатчиков на велосипедах. Винтовки висели у них на спинах. Они ехали, петляя, нестройной толпой и то и дело выруливали на середину дороги, где легко могли попасть под машину. Я крепко держал правую ногу Альберехта, чтобы он не нажимал на газ. Он ехал по крайней левой полосе, но все равно не мог двигаться беспрепятственно. Солдаты смеялись, оборачивались на него, кричали что-то вслед, некоторые отдавали честь. Он смотрел только прямо перед собой.
– Никогда не догадаешься, что она в конце концов выдумала, – пробормотал он, хотя в машине не было никого, кроме нас с ним.
Смешное слово: «догадаешься». Что мне догадываться-то? Я ведь слышал все их разговоры, так как слышу все, что говорит он и что говорят ему, а также читаю все его мысли.
– Она сказала… она сказала… есть очень простой способ удержать меня в Голландии, милый мой Schatz. До отплытия еще четыре часа. У тебя более чем достаточно времени, чтобы донести на меня, чтобы арестовали и сняли с корабля. У меня ведь фальшивые документы…
Он умолк, и я не мог прочитать его мысли, как будто их у него в голове вообще больше не возникало.
Потом он сказал:
– Это она пошутила, но шутка казалась нехорошей. У меня возникло ощущение, будто в отношении нее я был негодяем-сутенером, будто шантажом заманил ее в постель.
А я-то читаю его мысли и понимаю, что сутенер – неподходящее слово для того, что он имеет в виду. Или подходящее? Конечно, нет. Хотя она находилась у него в квартире и днем и ночью, нельзя сказать, чтобы связь их была такой уж страстной – связь в том смысле, который нам, ангелам, чужд, но который людей почему-то заставляет то и дело судорожно восклицать: «О, мой ангел!»
– А я вообще такой.
– С каких пор?
– Никогда другим и не был. Как любовник совсем не пылок.
– Что ты, Schatz, не придумывай.
– Не придумывай? Ах, мой ангел, как ты можешь об этом судить?
– Я не святая.
– Для меня святая. Я любил бы тебя не меньше, если бы ты была святой и мы бы жили рядом друг с другом, храня целомудрие.
Молчание. Он чувствовал, что она не верит доводам, и ему потребовалось время, чтобы победить то бессилие, что вызвало ее неверие, и продолжить разговор.
– Я человек, который любит только душой. Мое тело не создано для любви. А душа создана, Сиси.
Она ничего не ответила. Только прижалась к нему своим голым телом. Я отвернулся. Он все-таки полюбил ее, сам тому удивляясь, и телом тоже и стонал сдавленным голосом: «О, мой ангел!» Она улыбалась с таким выражением, точно думала: «Не ломай комедию».
Это было давно. Пуританский дух моего подопечного заключил, что она всего лишь расплатилась с ним своим телом, а он против такой оплаты не возражал. Что за выражение: расплатилась телом. Значит, все-таки сутенер. Сутенер. Его вокабулярий оставлял мне надежду, что он не навсегда утратил веру в высокое и прекрасное.
Отвратительное воспоминание о разговоре про его не очень-то сильное животное начало этим вопреки его желанию не закончилось, потому что теперь его память освежил еще и черт.
Любить только душой? Мужчины любят телом, и еще они любят свою власть, если им удается привязать к себе другое существо.
«Власть, именно власть есть у сутенера, вовсе не любовь. Любовь – стремление потерять себя в другом, символизируемое отданными этому другому каплями спермы. А сутенер – это мужчина, который демонстрирует свою власть и в ответ получает страх. Я – сутенер. Так ведь? Но у меня оказалось недостаточно власти, чтобы привязать ее к себе. Разве? Я могу вернуть ее с помощью моих собственных полицейских. Так ведь?»
– Да, но ты никогда не злоупотреблял своей властью, – шепнул я ему на ухо. – Не надо себя так ненавидеть. Ты не сделал ей ничего плохого. Ты спас ее бескорыстно. Ничего не прося взамен. Бог видит, что намерения твои были чисты.
– Вот по большому счету я ничего взамен и не получил, – отвечает он. – А в Бога я давно уже не верю.
Ах, как мне жаль, что он больше не ходит в церковь. Насколько ему стало бы легче, если бы он исповедался!
В отчаянии Альберехт в стотысячный раз задал себе тот же вопрос, который мучил его уже четыре месяца. Он ее спас, в этом сомнений нет. Если бы не он, ее бы доставили до немецкой границы и выдали немцам и она, возможно, погибла бы в застенках гестапо. Может ли быть, что его поступок внушил ей любовь к нему? Или Альберехт – такое чудовище, что истина открылась только с ее отъездом: какое-то время она испытывала к нему благодарность, но никогда не любила?
Он снял руку с руля, сунул за пазуху и достал мятную пастилку.
Почему она вдруг стала звать его Беппо? Ему это не нравилось. Беппо – скорее кличка животного, чем человеческое имя. Но ей он так и не сказал, что терпеть не может имя, которое она ему дала.
Беппо. Слово (лишь секунду спустя до него дошло, что это, видимо, его новое имя) сорвалось с ее губ, когда она снова раскрыла глаза. Впервые она испытала блаженство благодаря мне, думал он. И что же, я теперь должен носить имя Беппо?
– Беппо?
– Теперь я буду тебя так звать.
– Почему?
Он никакими силами не мог вспомнить почему. Что она ответила тогда? Он мучительно рылся в памяти, но докопаться не смог. Навстречу попалась новая рота солдат, и он снова снизил скорость до минимума, чтобы не совершить наезд.
Эти солдаты шагали в основном слева от проезжей части навстречу движению, как велит устав, чтобы видеть встречный транспорт, но недисциплинированная часть ребят не соблюдала предписания.
У большинства были расстегнуты высокие воротнички гимнастерок. У некоторых каски не прикрывали голову, а болтались на шее сзади. Может быть, их сдуло ветром, а солдаты так и оставили их висеть на подбородном ремешке. Простительно, если учесть, что это были, наверное, плохие каски, у которых внутри тулейка, плохо сидевшая на головах защитников отечества.
Альберехт думал: здесь она находилась в опасности, этого нельзя не признать. Кто решится утверждать обратное, увидев этих вояк, которые должны защищать страну от немцев? Но штука-то в том, что Гитлер оставит нас в покое. Для него было бы слишком невыгодно на нас нападать. Как же Сиси этого не понимает и так дико рвется в Америку!
Из-за беспорядочно идущих солдат он ехал теперь так медленно, что вообще мог отпустить руль. Правой рукой подтянул рукав на левой и посмотрел на часы. Увидел, что уже позднее, чем думал, – еще позднее, чем он думал. Без двадцати пяти четыре, а заседание начиналось в четыре ровно.
Он находился уже недалеко от того города, куда ехал, но если двигаться с такой скоростью, успеть невозможно.
Опоздать после приятного времяпрепровождения, после какого-нибудь праздника или, скажем, если проспал после пьянки, – это он считал простительным, по крайней мере, своим подчиненным он это иногда прощал.
Но опоздать после того, чего ты вовсе не хотел бы делать, казалось невыносимым.
– Бога в душу! – закричал он. – Ну почему ей так приспичило уехать?
При этих словах его нога нажала на газ посильнее, а рука потянулась к клаксону.
Необдуманные движения, вызываемые гневом! Сердцебиение от бессильной злости, которая может довести несчастного до еще большей беды. От расстройства я прикрыл лицо крыльями, ведь я был уже не в силах уберечь своего подопечного от последствий безрассудных поступков. А солдаты, вместо того чтобы освободить дорогу, наоборот, сгрудились поплотнее перед его машиной, которая, скрипя тормозами, резко остановилась. Один из младших офицеров прошел среди солдат к машине и стал у дверцы с той стороны, где за рулем сидел Альберехт, сгорбивший спину, словно хотел совершить тигриный прыжок через лобовое стекло.
Сержант принялся колотить в окошечко и наклонился, чтобы заглянуть внутрь.
Альберехт все еще не опускал стекло. Тигриный прыжок. Но куда? В толпу этих улюлюкающих солдат?
Сержант от нетерпения дернул дверцу с такой силой, что она отлетела назад и чуть не сорвалась с петель.
– Ваше водительское удостоверение, – сказал военный. – Вы что, не умеете себя вести?
Я положил свою холодную ладонь Альберехту на лоб, приподнял его голову и попытался успокоить. Он посмотрел сержанту прямо в лицо и сказал невозмутимо:
– Вы ошибаетесь. У вас нет полномочий на розыскную деятельность. Знаете ли вы, кто перед вами?
– Именно это я и хочу узнать.
– Я прокурор. По отношению ко мне вы не имеете права так себя вести.
– Ничего подобного, – сказал сержант, – я имею право задержать кого угодно, кто ведет себя подозрительно вблизи военных объектов или военнослужащих.
– Вам дан такой приказ?
– Да, такой приказ.
– Тогда, молодой человек, покажите мне этот приказ.
– Это вы немедленно предъявите ваше водительское удостоверение, а то мы сейчас кое-кого вытащим из машины и обыщем. Вы этого добиваетесь?
Должно быть, Альберехт почувствовал, что я приложил к его губам палец, и промолчал. Через несколько мгновений расстегнул плащ, достал из внутреннего кармана бумажник и показал права сержанту, который протянул за ними немыслимо грязную руку. Альберехт вложил права в эту руку, а также передал сержанту бумажник, откуда только что достал их. Там лежали другие документы, которые удостоверяли личность и полномочия советника юстиции Симона Кристиана Хендрика Урбана Берта Альберехта, в чем мог убедиться любой непосвященный.
Сержант принялся читать документы с большой серьезностью. Он изучал их не для того, чтобы как можно больше узнать о моем подопечном. Он уже давно понял, что Альберехт не блефует. Задержать прокурора якобы по подозрению в шпионаже, а на самом деле просто оттого, что захотелось над кем-нибудь поиздеваться! Даже солдаты, окружившие сержанта, перестали веселиться, когда поняли, что их командир дал маху и вот-вот сам станет посмешищем. Во что это выльется? Их мимические мышцы уже приготовились к взрывам смеха по новому поводу.
Сержант продолжал серьезно читать, намереваясь как-нибудь схитрить, но ничего не мог придумать. Если бы я был ангелом-хранителем его, а не Альберехта, я бы нашептал ему мысль, которая бы не только помогла с честью выйти из положения, но и возвратила бы свободу Альберехту без дополнительных неприятностей. Но я не был его ангелом-хранителем, а его ангела поблизости не видел, или, может быть, у него вообще не было никакого хранителя.
– Придется все же составить рапорт, – сказал сержант.
Я обеими руками закрыл Альберехту лицо, так что у него потемнело в глазах, но он не сказал ни слова, пока сержант искал, как я понял, письменные принадлежности. Блокнота, по штату положенного полицейскому, у него, разумеется, не было. Поискав какое-то время, он извлек на свет Божий конверт с адресом, выведенным неуклюжим почерком его малограмотного отца, и на обратной стороне написал несколько слов.
Альберехт снова взглянул на часы. Еще семнадцать минут – и заседание начнется, а он хотел поспеть вовремя во что бы то ни стало. Но я настолько перепутал его мысли, что он не мог достаточно отчетливо сформулировать ни одной из них и молчал.
В конце концов сержант вернул ему права и документы. Альберехт высунул левую руку, чтобы закрыть дверцу. Но рука ничего не встречала, как он ее ни вытягивал. Я наблюдал за этой сценой с высоты нескольких метров над землей. Неслышно взмахивая крыльями, я парил в воздухе слева и сзади от его небольшого автомобиля.
Солдаты, обступившие его со всех сторон. Рука, бессильно шарящая в воздухе.
Слишком широко распахнутая дверца. Стародавние времена, когда дверцы крепились таким образом, что захлопывались против движения. Альберехт никак не мог дотянуться до дверцы.
Охваченный яростью и отчаянием, он завел мотор, дал газа. Мотор завыл, все выше и выше, машина рванула с места. Военные как бешеные бросились врассыпную. Я метнулся к нему, сел на плечо и прошептал: «Если ты не будешь осторожнее, то скоро встанешь на обочине с заглохшим мотором».
Он резко затормозил. Открытая дверца, повинуясь силе инерции, сделала поворот в сто восемьдесят градусов и захлопнулась. Этот звук, похоже, освободил путь для новой, важной стадии в ходе его мыслей. Мне делалось все грустнее и грустнее, но он был глух к моему голосу. А голос черта нашептывал ему свое:
– Почему бы и нет? Если она практически готова к тому, что ты снимешь ее с корабля с помощью полиции… Если у нее осталось от тебя только то впечатление, что ты хочешь удержать ее с помощью шантажа и насилия… Если у нее нет искренней потребности в твоей любви… Если она покидает тебя, всего лишь грустно улыбаясь…
– Может быть, это она держала себя в руках. Может быть, она сдерживала слезы, чтобы прощанье не было еще более мучительным. Послушай же!
Но дьявольская атмосфера внутри бешено мчащегося автомобиля отказывалась передавать звук моего голоса, и Альберехт не слушал.
Руки, только что судорожно сжимавшие руль, расслабились, правую руку он поднес ко рту. Прикусил большой палец, но не до крови, и стал размышлять, как именно это сделать. Телефонного звонка будет, наверное, достаточно. Что лучше – позвонить анонимно или действовать в силу служебного положения? На самом деле, возможно то и другое. Первое безопаснее, скомпрометирует его меньше. Зато на второе полиция наверняка отреагирует. Он может просто-напросто выдать ордер на то, чтобы срочно снять с корабля и задержать женщину по имени Ирене Муллер, у которой сильный немецкий акцент. Ничего трудного. Трудности начнутся потом. Она наверняка назовет его фамилию и не станет скрывать, что это он устроил ей паспорт и четыре месяца жил с ней. Она ведь очень умная, наверняка сможет указать свидетелей, которые всё подтвердят.
– Эта женщина чокнулась! – воскликнул он. – Как только ей пришло в голову, что я могу выдать ордер на задержание, в то время как я ее сообщник и помог ей скрываться? Какая чушь, нет слов.
Нет, он сам не будет выдавать ордер на ее арест. Об этом не может быть и речи. Значит, все-таки анонимная наводка. Он прикинул про себя, какой пост должен занимать полицейский, которого он сможет обрадовать такой наводкой. Кого-нибудь, кто легок на подъем и умеет быстро действовать. Так кто? Об этом подумаю позже. Лишь бы они ее успели схватить; эту последнюю мысль ему хотелось разработать в подробностях. Они поднимаются на корабль, просят ее предъявить документы. Этот паспорт фальшивый, говорит страж правопорядка, причем наобум. Потому что он ничего не понимает в паспортах, этот страж. Он в жизни не отличит фальшивого паспорта от настоящего. К тому же ее паспорт вообще-то вовсе не фальшивый. Он настоящий. Абсолютно настоящий. Бумага, водяные знаки, все печати и штемпели. Единственное – к ней он попал незаконным образом. Станут ли они выяснять, как именно это произошло? Привлекут ли его на основании ее показаний? Что они сделают с ней? Ее посадят в лагерь Вестерборк, построенный специально для евреев, бежавших из Германии. Евреев, легально пересекших границу, но которым больше негде жить. А также для евреев, пойманных при тайном пересечении границы и по каким-либо причинам не отосланных сразу же назад в Германию. Лагерь находится где-то в провинции Дренте, на неплодородной вересковой пустоши. Он никогда еще не задавался вопросом, как выглядит этот лагерь, знал о нем только по слухам. Наверное, там одни деревянные бараки, продуваемые насквозь. А едят из больших котелков. Стамппот. Приготовленный под присмотром раввина? Кто его знает. Что еще ему известно об этом лагере? Ничего. Но что ее туда отправят, сомнений нет. А потом? Потом она, естественно, назовет его имя. Это безобразие, что вы меня здесь держите! Немедленно позвоните советнику юстиции Альберехту! Да, сегодня же. Вам не поздоровится, если вы не позвоните ему немедленно![4]
Так все и будет, во всяком случае, он исходил из того, что так все и будет. Он, разумеется, мог бы добиться ее освобождения сразу же, но благоразумнее поступить по-другому. Без излишней спешки. Когда ему позвонит лагерное начальство, сообщить им, что он перезвонит. Позвать ее к телефону.
– Тебя сняли с корабля? Какой ужас. Ах, радость моя, я бы так хотел быть рядом с тобой. Но плетью обуха не перешибешь. Я посмотрю, чем тебе можно помочь. И тогда позвоню.
Несколько дней спустя. Сказать, что в два счета дело об ее освобождения решено быть не может. Возникли сложности. Я делаю, что могу. Не падай духом, милая!
Еще несколько дней спустя – сумеет ли он так долго терпеть? Но так надо, так надо! – еще несколько дней спустя он возьмет выходной и поедет в Дренте, в Вестерборк. Погода в этот день будет отличная. Вересковая пустошь весной. Он примется ее утешать прямо у нее в бараке. Ах! С каждым часом, проведенным в Вестерборке, ее любовь к нему росла и росла. Кажется, он где-то слышал или читал, что хищников, которых дрессируют для выступления в цирке, на несколько дней запирают в клетке без еды. Сначала никакой еды – а потом будут есть у дрессировщика с рук.
Анонимная наводка. Он нередко использовал в обвинительной речи сведения, поступившие в полицию из анонимных источников. Но как поступает полиция, получив анонимную наводку, он на самом деле никогда не интересовался.
Если им звонит какой-то неизвестный, располагают ли они средствами выяснить личность звонящего? Могут ли они быстро выяснить, с какого номера сделан звонок? Быть может, когда бы и откуда бы человек ни звонил в полицию или в прокуратуру, его номер регистрируется автоматически? А если ты звонишь из телефона-автомата, то вдруг из участка немедленно отправляют к соответствующей будке машину с оперативниками, чтобы выяснить, кто ты такой, прежде чем ты успеешь положить трубку и уйти?
Чушь. Все это чушь. Так будет, наверное, году этак в двухтысячном.
Совсем другое: риск, что трубку снимет полицейский, который его, Альберехта, случайно знает. И узнает по голосу. Такое вполне может быть. Но ведь Альберехт потом сможет сказать, что это звонил вовсе не он?
– Разумеется, ты просто-напросто будешь это отрицать, – сказал черт.
– Но все равно пойдут разговоры, – предупредил я, – и привкус-то останется…
Анонимный звонок, сделанный голосом, подозрительно похожим на голос прокурора… Звонит сообщить, что немецкую еврейку, которая четыре месяца прожила в доме у прокурора, надо срочно снять с корабля, вот-вот отправляющегося в Америку.
Вероятность, что его голос узнают, мала. Не преувеличивай. Минимальная вероятность, вот и все. Он позвонит в полицейский участок в Хук-ван-Холланд. Там его голоса никто не знает. Ну а дальше – что будет, когда он по телефону скажет: на этом корабле находится женщина с фальшивым паспортом, которая хочет попасть в Америку.
Что они ответят? Разумеется, спросят его фамилию. (Вас это не касается). Спросят, откуда ему это известно. (Много будете знать, скоро состаритесь). Но вполне вероятно, что они тогда скажут: «Что же, если вы больше ничего не желаете рассказывать, то мы ничего не можем сделать. У нас слишком много работы, чтобы беспокоить всех, о ком нам звонят. А то нам вообще будет не добраться до кровати. Вы скорее всего ошибаетесь, и с этой женщиной все в порядке, а если она хочет попасть в Америку, то какое нам до этого дело? Тем самым мы от нее по крайней мере избавимся. Она не будет больше нелегально проживать в Голландии, а ведь это для нас главное».
Значит, чтобы заставить их действовать, придется сообщить подробности. И что тогда: если он примется рассказывать, что эта женщина – еврейка из Германии и коммунистка, этот коп небось скажет: коммунистка? Я бы тоже стал коммунистом, если бы меня за это не выгнали с работы. Еврейка? Может, у вас вообще нет сердца? Неужели вы не знаете, как с ними обращаются в Германии?
Если Альберехт не назовет себя, к нему отнесутся без должного уважения, если это будет анонимный звонок, его воспримут как любой анонимный звонок. Или надо случайно попасть на дежурного, который втайне состоит в НСБ, или настроен прогермански, или ненавидит евреев, или все это вместе взятое.[5]
«А пошли они все к Богу в рай! Неужели я должен использовать таких подонков, чтобы получить ее обратно! Неужели я должен зависеть от этого сброда, чтобы воспользоваться последним шансом на счастье! Чем я прогневил небеса?»
– Ничем ты небеса не прогневил, – сказал я. – Это черт их норовит прогневить, черт, нашептывающий тебе подобные мысли. А ты нет.
Но мои слова ему в одно ухо влетели, в другое вылетели.
Чтобы выгадать время, он свернул на пустынную боковую дорогу, срезавшую большую петлю, которую здесь делало шоссе, так что по ней можно было доехать до места назначения быстрее.
Въезд на дорогу с этой стороны был запрещен. Об этом сообщал знак: красный железный круг с нарисованным посередине белым горизонтальным кирпичом. Знак крепился к стойке у начала дороги и не укрылся от внимания Альберехта. Но он не придал ему значения. А черт закрыл ему уши, так что он не слышал моих увещеваний.
Дорога была очень извилистая и узкая: не зря здесь допускалось только одностороннее движение. Покрытие было чуть выше посередине и ниже по краям, между неровными кирпичами, из которого оно состояло, росли мох и трава. На каждом повороте машину так заносило, что скрипели шины, но Альберехт мчался во весь опор по этой дороге, окаймленной с обеих сторон высокими кустами, полностью закрывавшими обзор. Вдали виднелась фабричная труба, из которой ветер вытягивал горизонтальную ленту черной ваты. Потом кусты справа от дороги кончились и показалось пастбище, огороженное забором из столбов с колючей проволокой. По траве не бродило никакого скота, паслась только одна старая лошадь. Ее копыта были скрыты похожей на гамаши серой шерстью внизу ног, она непрерывно щипала траву и вообще не отрывала голову от земли. Я подумал, что старое животное стоит в такой позе не только оттого, что ни на минуту не прекращает есть, но и оттого, что голова, отяжелевшая от старости, благодаря этому хоть немного опирается на землю.
Между тем в мыслях Альберехта произошел важный поворот. Казалось, будто нарушение, которое он совершал, съехав на запрещенную дорогу, снизило его восприимчивость к нашептываемому чертом искушению предать Сиси и добиться того, чтобы ее сняли с корабля. Теперь он решил, что он недостаточный подлец, чтобы это сделать, и недостаточный лицемер, чтобы потом освободить ее из Вестерборка. Он не сможет позвонить ни под своим собственным именем, ни анонимно. Не сможет воспользоваться антисемитизмом полицейских чинов, да и вообще ничьим. Не сможет предъявлять обвинение по делу, соучастником которого себя чувствовал. Не сможет, даже если ему удастся полностью остаться за кулисами.
«Я не умею извлекать ни малейшей личной выгоды из моей должности, – размышлял он, снова прислушиваясь к черту. – Я могу подтолкнуть судей к тому, чтобы они засадили за решетку не сделавших лично мне ничего плохого попрошаек ради защиты общества от них, но для себя не могу ничего. Даже если стою на краю гибели. Даже если вот-вот сойду с ума от горя».
Его глаза наполнились слезами. Горе его было безмерно, но это было горе порядочного человека. Пусть он и лишился веры в Бога, я испытывал удовлетворение от того, что сумел наставить его на путь истинный, хотя дорога, по которой он ехал сейчас, оставляла желать лучшего. И я простил ему его маленькое прегрешенье – то, что он двигался по дороге против движения: малое зло, которое заняло место намного большего зла.
Пастбище справа от дороги, где паслась лошадь, было пусто и голо вплоть до ряда деревьев на горизонте. Еще там стояла ветряная мельница, лопасти которой не крутились. Я не мог понять, почему мельник не использует благоприятную для него погоду: ветер такой сильный, а мельница неподвижна… Зачем тогда Господь вообще поднимает ветер, глупый ты человек?
Да и корабли теперь не используют силу ветра. Потому-то люди стали такими неблагодарными безбожниками: пропускают мимо вечные благодеяния Всевышнего и упрямо кочегарят свои паровые машины и дизельные моторы, которые загаживают небесную твердь сажей и вонью.
И только мы, ангелы, еще летаем на крыльях ветра.
Так размышлял я, сидя на заднем сиденье в машине Альберехта. Признаюсь, что мои мысли отвлеклись от подопечного и в большей мере обратились к страданиям человечества в целом, нежели к терзаниям этого конкретного человека. Возможно, по этой самой причине именно сейчас и произошел ужаснейший несчастный случай.
Спереди о машину что-то так сильно стукнулось, что она изменила направление движения. Я почувствовал резкий толчок и увидел, как закачался горизонт. Потом задняя часть машины приподнялась и с грохотом снова встала на колеса. Машина, виляя, въехала в кусты и там остановилась. Мотор заглох, стало ужасно тихо. Через лобовое стекло была видна только зелень веток и листьев, прижавшихся к стеклу. Я взлетел и присел на крышу автомобиля; я увидел, что на дороге за машиной что-то лежит, и со смесью грусти и радости заметил, как из этого чего-то вылетела золотая птичка. Маленькая золотая птичка, не больше ласточки. Солнечный свет у нее на перышках блеснул на миг всеми цветами радуги, а потом птичка взмыла вертикально ввысь, тоже со скоростью ласточки, так быстро трепеща крылышками, что их уже было не различить. Казалось, это маленькое солнышко из прозрачного золота пробилось сквозь небесный купол, проделав в толще облаков круглое отверстие, и через это отверстие на меня, точно порыв ветра, снизошла восхитительная музыка. Затем облака сомкнулись, и взор мой остановился на Альберехте, открывшем правую дверцу и высунувшем наружу ногу. Вскоре я увидел его стоящим у правой дверцы, потому что через левую он выйти из машины не смог, его плащ шоколадного цвета был распахнут, но шляпа по-прежнему держалась на голове.
– Что теперь делать? – спросил я.
Он стоял, немного расставив ноги, но все равно пошатывался, потому что кровь отлила от головы.
– Нет. Нет, – бормотал он, – проклятье, нет.
А потом, с открытым ртом, направился к ребенку, которого задавил.
Поблизости не было ни души. На дороге из кирпичей, между которыми росли трава и мох, ничто не двигалось. Даже лошадь на лугу стояла как вкопанная. Только листья кустов и деревьев шелестели при порывах ветра. Из заметно приблизившейся фабричной трубы все еще тянулась лента копоти, причем дым этот стал намного чернее, чем несколько минут назад.
– Ни один человек, – шепнул черт, – не видел, что произошло.
Некоторые мертвые лежат в такой позе, в какой могли бы лежать и живые, но здесь было не так. Девочка лежала ничком, одна рука целиком под телом, живой человек никогда так руку не положит, со спины казалось, будто у нее с той стороны вообще нет руки. Другая рука лежала вытянутая прямо у головы, пальцы все еще держали письмо, которое девочка явно куда-то несла.
Альберехт наклонился и чуть потянул ее за плечо, чтобы заглянуть в лицо.
Изо рта капала кровь. Когда Альберехт приподнял тело, голова безвольно свесилась вбок.
Словно боясь причинить девочке боль, он не стал поднимать тело выше, а низко-низко наклонился, чтобы получше ее рассмотреть. Он простоял несколько мгновений, положив левую руку себе на согнутое колено, а правой держа девочку за плечо, и тихий стон слетел с его губ. У девочки были гладкие черные стриженые волосы, слегка прикрывавшие уши, и открытый лоб, а надо лбом розовый бант, выглядевший так, словно он увял одновременно с ее жизнью. Она умерла так быстро, что в раскрытых глазах не читалось боли. Но рот ее тоже был раскрыт, и окровавленные губы наводили на мысль о мягком клювике выпавшего из гнезда и раздавленного птенчика.
Альберехт осторожно опустил ее на землю и выпрямился. Он стоял, расставив ноги, и смотрел прямо перед собой; казалось, он вот-вот рассыплется, точно колосс из глины. Но потом повернул голову и осмотрелся. Затем снова наклонился, взял письмо из руки девочки и сунул в боковой карман плаща.
Нигде не было видно ни единого человека. Нигде не было ни указания, ни намека на то, что кто-то мог за ним наблюдать из потайного укрытия.
Он поднял девочку двумя руками; чтобы не испачкаться в капающей крови, он держал ее за одежду на спине, так переносят щенков за шкирку. Он дошел до обочины дороги позади машины и зашвырнул трупик в кусты. Листва покорно раздвинулась, хоть и с сильным шумом, и снова полностью сомкнулась, когда тельце упало вниз.
Альберехт опять огляделся, и его шляпу, как ни странно крепко державшуюся на голове, пока он подбирал девочку, снесло ветром. Он издал громкий крик, словно хотел позвать шляпу обратно, и побежал за ней следом. Мной овладело сострадание, я поймал шляпу и надел ее на один из столбиков, на которых была натянута колючая проволока, ограждавшая пастбище, где паслась лошадь.
Так Альберехт легко смог вернуть себе шляпу и со шляпой в руке, не надевая ее, прошел обратно к машине. Он проехал несколько метров задним ходом, чтобы высвободиться из кустов, и тогда увидел позади машины боковую дорожку среди кустов, которая вела к небольшой вилле. С этой-то дорожки наверняка и выбежала девочка. В этом-то домике она наверняка и жила. Предположим, что кто-нибудь в этом домике смотрел ей вслед, пока она бежала по дорожке на кирпичную дорогу. Этот кто-то мог увидеть, что с ней случилось, а также что он сделал. Слышны ли какие-нибудь крики?
Нет, никто не кричит.
Пока он ехал дальше, я держал руль своими руками. Это я управлял педалью газа и снизил скорость, когда безлюдная дорога из кирпича снова вывела его на шоссе.
Рядом с перекрестком на бетонном столбе висел чугунный почтовый ящик, покрашенный в красный цвет.
За три минуты до начала заседания я припарковал его машину перед зданием суда. Альберехт вышел. Шляпу забыл на сиденье. Хотел запереть дверцу, но руки так дрожали, что ему стоило большого труда вставить ключ в дверцу. Он увидел шляпу на правом переднем сиденье, открыл дверцу и все-таки взял шляпу. Надел на голову. Зачем? Почему бы и нет? В шляпе? Без шляпы?
При входе в здание суда он снова снял шляпу. Держа ее в руке, поднялся по ступеням и вошел в вестибюль, где стояла мраморная, в человеческий рост, госпожа Юстиция с завязанными глазами. Он побежал по коридору, вошел в свою комнатку, скинул плащ, надел мантию. Обвинительная речь, которую ему предстояло произнести, лежала в ящике письменного стола.
– СЛОВО предоставляется господину прокурору!
Альберехт, отодвинув стул, встал с бумагами в руке и принялся читать. Глаза были так низко опущены, что казалось, будто он спит. Он читал не фразы, а отдельные слова, не связанные друг с другом по смыслу. Казалось, что он просто перечисляет слова, написанные на листе бумаги, либо эти слова через глаза попадают ему на язык по какому-то прямому каналу, минуя мозг. Потому что я изо всех сил старался заглушить мысли, которые он изложил, составляя эту обвинительную речь. Потому что он не мог пренебрегать моими предостережениями.
Голос его едва слышался на фоне шума ливня, весь день собиравшегося в небе и теперь наконец обрушившегося на землю.
Я присел в зале, чтобы не мешать ему исполнять служебные обязанности. Я видел, как он стоит с бумагами в руке. И знал, что те тридцать человек, которые его слушали, не понимают, что он там говорит. Но они старательно строчили в своих блокнотах, это были журналисты.
Подозреваемый тоже был журналист.
– Ваша честь, жить в такой свободной и демократической стране, как наша, – это большая привилегия. Не меньшая привилегия – работать в этой стране журналистом, в стране, где есть свобода печати. Где свобода мысли, свобода духа уже много веков почитаются ценнейшим достоянием, завоеванным предками, не пожалевшими для этого сил и крови, и бережно хранимым потомками как драгоценность, унаследованная от прошлого.
Он не отличал, где голос ангела-хранителя, а где его собственные мысли. Написанное на бумаге уже перестало быть изложением его мыслей, так что в речи не слышалось ни малейшего вдохновения. Он не мог заставить замолчать мой голос, да я и сам не мог замолчать, потому что у ангела мысли – это всегда речи, а речи – это мысли.
– Именно поэтому, ваша честь, мы обязаны обходиться чрезвычайно бережно с этим достоянием, за которое заплачена столь высокая цена, и не имеем права защищать его любой ценой. Именно оттого, что нам присуща бескрайняя свобода мысли, мы сами должны решать, в какой мере мы имеем право эту мысль высказывать. Нельзя не приветствовать принятое несколько лет назад решение наших законодателей о том, что устное или письменное оскорбление глав дружественных государств не может не быть наказуемым.
Именно потому, что свобода – наше высшее достояние, мы не можем пользоваться ею безгранично. Нельзя допустить, чтобы из-за необдуманных высказываний некоторых щелкоперов наше отечество обрело международную репутацию страны, в которой главе дружественного государства не обеспечивается защита от оскорбления личности в той же мере, в какой на нее может рассчитывать обыкновенный гражданин.
К политике, проводимой Адольфом Гитлером в Германии, можно относиться по-разному. Однако считаю своим долгом подчеркнуть, что не мы, а только сами немцы имеют право решать, кто и как управляет их страной. К тому же следует принимать во внимание, что у Нидерландов с Германией есть общая граница, что Нидерланды – страна маленькая, а Германия – большая, что в мире бушует разрушительная война, что нашей стране до поры до времени удавалось стоять в стороне от военных событий. Задаваясь вопросом, что может сотворить маленькое перышко маленького газетчика в маленькой нейтральной стране, обращенное против предполагаемой несправедливости в могущественном соседнем государстве, мы приходим к заключению, что подозреваемый пренебрег щепетильностью, украшающей истинного гражданина, доверив бумаге инкриминируемую ему статью о главе немецкого государства.
Я сидел напротив большого портрета королевы Вильгельмины, висевшего за спиной у председателя суда, между двух окон. Ветер дул как раз с этой стороны, так что струи дождя стекали по стеклам, сливаясь в сплошной поток. Казалось, будто не прокурор, а сами небеса предупреждают нашу страну о страшной угрозе. Будто этот дождь предрекает поток слез, которые будут пролиты, если Нидерланды окажутся вовлечены в отвратительную войну.
Председатель суда Ван ден Аккер сидел, демонстративно откинувшись на спинку кресла. Казалось, он хотел сказать, что имеет полное право подремать, пока от него не требуется говорить. Зачем ему слушать? Он прекрасно знал закон о защите чести и достоинства главы дружественного государства, о котором вещал Альберехт. Он тоже прекрасно знал, что Голландия маленькая, а Германия большая. И тоже считал, что если Германии захочется напасть на Голландию, то она будет искать повод. А таким поводом может послужить безнаказанное оскорбление главы Германского государства, наивно думал он. Поэтому он воображал, что окажет услугу своему отечеству, если не оставит оскорбление Гитлера неотмщенным. Он воображал, что все немцы так же наивны, как он, и что они скажут Гитлеру: на эту страну нам нападать нельзя! Голландцы пресекают малейшую попытку вас оскорбить. Однако что это Альберехт так завелся о том, что творится в Германии!
– Уважаемый председатель суда! Весь мир, как и мы, не могли не заметить, что германская пресса и сама не скупится на выражения, ополчаясь на людей или группы людей, нежелательных для режима, указывая на их действительные или мнимые изъяны, подрывая их репутацию, обличая самым непристойным образом их существующие и несуществующие преступные свойства. Высмеивая их внешность. Приписывая им в самых оскорбительных выражениях всевозможные свойства низшей расы. Называя их…
– Минуточку, господин прокурор, – сказал председатель суда, – мы здесь не для того, чтобы обсуждать политическое своеобразие наших соседей.
Тут же вскочил с места адвокат:
– Уважаемый председатель суда! Но ведь именно это политическое своеобразие и спровоцировало моего клиента на вменяемые ему в вину высказывания!
– Ваш клиент, насколько я знаю, писал не о политическом своеобразии жителей Германии, а о темном происхождении германского рейхсканцлера.
– Но, господин председатель! – воскликнул адвокат, – ведь Гитлер – это и есть Германия! Он олицетворяет Германию.
– Тогда выходит, что вся Германия имеет темное прошлое, но в этом должны разбираться географы, а не мы. Прошу господина прокурора продолжить чтение обвинительной речи!
В зале послышались смешки, но председатель положил им конец ударом молотка.
Альберехт продолжил бормотать слова, написанные на бумаге. Он не пропустил ни одного предложения, это я точно знал. Ведь я был рядом с ним, когда он писал речь. Это я давал ему советы, и он просто следовал им.
Вопреки стараниям дьявола гордости, поначалу мешавшего Альберехту принять правильное решение. По уши влюбленный в Сиси, он ни на волосок не переживал из-за оскорблений в адрес Гитлера. Эту статью он в свое время прочитал Сиси вслух.
– Этого журналиста нельзя признавать виновным, Беппо!
– Конечно, нельзя, но закон есть закон.
– Вы боитесь Гитлера.
– Но что мы сможем ему противопоставить, если он на нас нападет?
Не надо было ему этого говорить!
Не надо ему было обсуждать с ней эту газетную статью и рассказывать, что против написавшего ее журналиста он возбудил судебное преследование. Удивительно, как он сделал такую глупость. Однако она ведь неизбежно бы обо всем узнала, если бы осталась в Голландии? Но она не осталась, и вполне вероятно, что именно этот процесс и заставил ее принять решение уехать из Голландии. В стране, которая настолько боится, что готова ограничить свободу слова из-за диктатора, пришедшего к власти весьма сомнительным путем, разве она могла чувствовать себя в безопасности?
Чтобы доказать, что и слабый человек может быть хитрым, Альберехт добавил абзац о немецкой клеветнической прессе. Это рассуждение могло сыграть на руку защитнику, как оно на деле и вышло.
Теперь же он хотел пойти еще дальше. Потребовать абсурдно мягкого наказания. И все.
От этого я, к счастью, смог его удержать. Потому что, нашептал я ему, если этот процесс не останется незамеченным в Германии, то это мягкое наказание как раз и привлечет внимание. И в Германии будут говорить: голландцы позволяют себе оскорблять нашего кумира почти безнаказанно. Голландцы позволяют себе обливать грязью нашего фюрера за полгроша.
Но ведь смысл принятого закона состоит именно в том, чтобы немцы на нас не обиделись? Мы ведь не хотим быть втянутыми в войну? А если это может произойти, то Сиси права: ей небезопасно здесь оставаться?
Он читал свою речь, и руки его сводило судорогой, как будто бумага налилась свинцовой тяжестью.
– Господин председатель, – читал он, – я вкратце описал нравы германской прессы, чтобы показать, что тот, кто осуждает подобную журналистскую практику, должен осознавать, что не имеет права перенимать ее стиль. Подозреваемый недостаточно уразумел ответственность, лежащую на каждом протестующем против тех или иных обычаев и нравов: не позволять себе срываться на то, что ты сам осуждаешь. Подозреваемый забыл об этом и теперь должен держать ответ. Тем более что, если деяния, подобные его деяниям, останутся безнаказанными, всей стране может быть нанесен огромный ущерб.
Он на мгновение смолк, как делал всегда перед произнесением заключительной тирады. В это мгновение он обычно пробегал ее глазами, чтобы потом, низко-низко опустив текст речи, озвучить требуемое наказание, не глядя в бумажку, чтобы присутствующие подумали, что предлагаемую формулировку он блестяще знает наизусть.
«Имею честь, – прочитал он в своих записках, – потребовать для обвиняемого наказания в виде четырех лет тюремного заключения, два из которых условно, и испытательного срока в пять лет».
Это было по сути максимальное наказание, которого он мог потребовать по закону и которое он выбрал, когда думал, что Сиси не уедет в Америку. Когда готов был заткнуть рот вообще всей прессе, лишь бы Гитлер не тронул Голландию и Сиси смогла бы остаться с ним навсегда.
На этот раз его молчание перед заключительными словами длилось дольше обычного.
Ощущение бессмысленности всех его стараний, постыдности такого наказания для человека, высказавшего вслух ровно то, что Альберехт сам думал о Гитлере, внезапно оглушило его, точно мешок с песком, и он сказал:
– Имею честь потребовать… потребовать… освобождения подозреваемого от судебного преследования…
Эти слова он произнес еще тише, чем прочитал остальную часть речи, и я не мог помешать ему плюхнуться в кресло еще до того, как он успел выговорить:
– Ввиду того, что, на мой взгляд, высказывания подозреваемого с точки зрения закона не являются оскорблениями.
Его шепот был подобен ветру, а зал суда разом превратился в цветочную клумбу, на которой цветы вдруг склонили головки друг к другу. Его слов толком почти никто не расслышал, так что журналисты вытянули шеи, переспрашивая друг друга:
«Оправдание?» – «Чего он потребовал?» – «Оправдания?» – «Но это же ни в какие ворота». – «Да-да, оправдания». – «Он что, чокнулся?» – «Но я не слышал слова “оправдание”». – «А это не то же самое, что освобождение от судебного преследования?» – «Не совсем, но по сути сводится к тому же».
Когда Альберехт сел, листы с речью выскользнули у него из рук. Судья, сидевший справа от него, собрал их и с удивлением на лице положил перед Альберехтом. Остальные судьи вообще не слушали, что он говорил, ведь потом все равно придется все читать. И только этот человек со сморщенным лицом и большим взбитым чубом, чьи глазки под толстыми стеклами очков казались размером с изюминки, внимательно разглядывал прокурора в течение двух-трех секунд. Но ничего не спросил и перевел взгляд на правонарушителя от журналистики, на его ничем не примечательную фигуру в воротничке, уголки которого закручивались вверх, в ярко-зеленом вязаном галстуке и с зачесанными назад черными волосами.
Я читал мысли судьи. Вот что он думал: «Обвиняемый, из-за тебя читатели будут ломать голову: можно ли согласиться со статьей, написанной этим маломеркой против Гитлера? Обвиняемый, тебе повезло, что 19 999 из 20 000 подписчиков на твою газету никогда не видели твоей физиономии. Обвиняемый, если бы у тебя было столько же смелости, как у Гитлера, ты бы предпочел стать вторым Гитлером, вместо того чтобы строчить в свою газетенку. Ты предпочел бы переплюнуть Гитлера в его преступлениях, вместо того чтобы за жалкие гроши валять статейки, которые по сути, конечно, правильные, потому что осмеивают мальчиша-плохиша Гитлера. Но нового в них нет ни на грош, и главное, в чем он его обвиняет, – это в темном происхождении. Пусть Гитлер – сын шлюхи и в трудные времена зарабатывал на жизнь рисованием картинок, но все это факты, которые могут вызвать подозрение только у паршивых и чванливых людишек.
Вот о чем размышлял этот судья, а я думал: но ведь происхождение нашего Спасителя тоже было темным? Можно ли бороться с одним лихом, беря в союзники приверженцев другого лиха?
Теперь слово предоставили защитнику. Это был очень молодой человек, лет двадцати четырех, светлый блондин с высоким лбом. Подбородок казался маловат, зато рот был очень большой, и вещал он, чеканя каждое слово, четко выговаривая все нидерландские гласные и согласные.
Это было первое дело в его жизни, и он читал по бумажке, боясь оторвать от нее взгляд хотя бы на секунду, чтобы не потерять ту строчку, которую читал.
Альберехти сунул руку под мантию. Обратно рука вернулась с серебряной коробочкой. Альберехт поставил коробочку на стол перед собой и достал из нее квадратную мятную пастилку.
– Чувство человеческого достоинства, – говорил защитник, – едва ли позволит нам применить в данном случае законодательство в таком ключе, как нам только что описал господин прокурор, в итоге не потребовавший этого. Как мы будем себя чувствовать – мы, граждане независимой страны, сохраняющей нейтралитет в мировом конфликте, – если запретим в собственной прессе какие-либо высказывания о главе государства, пусть и дружественного, но о котором известно, что оно постоянно угрожает нашей территориальной целостности?
– Откуда вы это знаете? – спросил председатель суда.
– По нашей армии неоднократно объявлялось состояние боевой готовности. Верховное командование получило разведданные о том, что Германия собирается на нас напасть.
– Откуда вы знаете, что именно Германия?
– Я читаю газеты.
– Я тоже, но не ради удовольствия. Продолжайте.
Молодой адвокат покраснел до корней волос. В этот самый момент Альберехт захотел спрятать в карман под мантией свою серебряную коробочку. Нащупал жилетный карман. Как он думал, опустил коробочку в него. Коробочка с громким лязгом упала на пол.
Тотчас из рук адвоката выскользнули две страницы защитной речи.
О ужас! Воздух в зале суда был такой плотный, что листы бумаги, счастливые, точно обретшие свободу птицы, не сразу опустились на пол, в то время как защитник подозреваемого беспомощно переводил взгляд с одного листа на другой, надеясь, что они оба – или хотя бы один из них – упадут недалеко от него.
Между тем Альберехт как можно беззвучнее отодвинул стул от стола и, отклоняясь назад, пытался заглянуть под стол, где было очень темно из-за свисающей зеленой скатерти.
Он не видел коробочки. Тогда я передвинул его правую ногу на миллиметр вперед, и нога нащупала коробочку. Альберехт понял мою мысль и носком передвинул коробочку в такое место, где мог до нее дотянуться, не ныряя слишком глубоко под стол.
Адвокату повезло меньше. У него не было ангела-хранителя, как и у его клиента. Они оба были членами коммунистической партии. Один из листков в итоге упал на пол прямо перед столом, за которым сидели судьи.
Адвокат решил поднять его, сделал три шага вперед и присел на корточки. При этом его мантия раздулась, символ престижа стал похож на надувной шарик, не собиравшийся взлетать. Нет, присевший на корточки адвокат скорее напоминал спустившуюся с неба ворону, которая увидела на земле дохлого кролика. Какие-то чертенята внушили судьям желание наподдать адвокату под столом ногой. Председатель даже подумал: ух, елки-палки, как бы я хотел дать ему хорошего пинка. От подавляемого желания он даже покраснел. Но вовремя удержал ногу и ограничился тем, что демонстративно сдвинул очки на лоб, поднес к глазам какую-то бумагу и принялся читать.
В конце концов адвокат встал, держа бумаги в левой руке, обливаясь потом. Судебный пристав тем временем подобрал второй лист и протянул его адвокату.
– Уважаемые судьи! Великий поэт некогда сказал: Castīgat ridendo mores. Что будут думать о нас потомки, если мы осудим этого автора, который, пусть и в несколько игривой[6]манере, оказал услугу отечеству, указав на грозящую нам опасность? Как будем мы…
– Что значит «мы»? – прервал его судья, сидевший рядом с Альберехтом. – В ваши обязанности вовсе не входит осуждать подозреваемого.
– Прошу прощения.
– Я ни единого раза не усмехнулся, читая статью вашего клиента, – сказал председатель суда.
– Мы… Что будем мы сами о себе думать, если опасность, на которую указал этот автор, окажется вовсе не воображаемой, если завтра, или на следующей неделе, или через две недели так называемый глава дружественного государства окажется вовсе никаким не другом? Если Германия нападет на нашу страну, а этот журналист будет сидеть за решеткой, из-за того что мы… из-за того что вы признали его виновным? Ведь получится, что вы фактически выдали его, беззащитного, гестапо?
Я не утверждаю, что мое катастрофическое предположение сбудется, но вовсе не исключено, что нам уготована та же судьба, что и Дании и Норвегии. Разве можно в свете последних событий принимать решение на основе закона, который в мирное время… в мирное время…
Он дочитал страницу до конца, а следующая страница, по всей видимости, с ней не стыковалась. Так что мирное время закончилось шуршанием бумаги.
– Ладно, – произнес председатель суда с отеческой ноткой, – не наше дело рассуждать о законах. Наше дело их применять.
– Он вовсе не хотел оскорблять Гитлера! – воскликнул адвокат, который от отчаяния отважился говорить без бумажки. – Мой клиент обрисовал облик человека, стоящего во главе большой страны, несущей угрозу всему миру.
– Хочет ли взять слово подозреваемый?
– Да, конечно, – сказал подозреваемый и встал. – Бояться – это одно, а лишиться последних остатков чувства собственного достоинства – это другое. Я прекрасно понимаю, что правительство насквозь прогнившего капиталистического государства готово наделать в штаны.
– Вы хотите ему в этом помешать?
– Да, хочу, но наша страна будет похожа на дурдом, заселенный страусами, которые прячут голову в песок, если будет думать, что Гитлер пощадит Голландию благодаря тому, что вы осудите меня за оскорбление главы дружественного государства.
– Пока что об этом говорить рано, – сказал председатель суда, – вы услышите о решении через две недели.
И закрыл заседание ударом молотка.
Альберехт брел по коридору Дворца правосудия в сторону своего кабинета. Он плелся, удрученный вопросами, которые я ему задавал, а он понятия не имел о том, что это я их задаю.
– Почему ты поехал дальше? Уехать с места происшествия – это серьезное правонарушение, особенно после такого происшествия.
«Это несчастный случай, это не убийство», – размышлял Альберехт.
– На дороге с односторонним движением, по которой ты в эту сторону вообще не имел права ехать.
«На дороге с односторонним движением, по которой я в эту сторону вообще не имел права ехать».
Он на миг приостановился, и другие люди в коридоре проплыли мимо него, точно призраки.
Лучше смерть, чем разоблачение.
Или своей добровольной смертью он аннулирует все, что сделал для Сиси, потому что она от него уехала. О господи, как такое может быть?
– Господь, в которого ты не веришь, никогда тебе не расскажет, как такое может быть. И вообще, какое ты имеешь право задавать вопросы Господу?
Но он не воспринял моего ответа из-за своего неверия.
– Почему ты бросил тело девочки в кусты?
– Я этого не делал. Никакой девочки вообще не было. Если бы она была, то я сгорел бы синим пламенем вместе с моей любовью к Сиси.
– А если Бог все видел?
– Бог, – пробормотал он. – Бог не может так наказывать за езду не в том направлении. А такого Бога, который это допускает, надо изгнать из человеческого сознания.
– Но ты сам все сделал, сам свернул на эту дорогу, сам несся, как бешеный, сам не смотрел вперед, сам уехал с места происшествия.
– Если бы я не уехал, я бы сейчас там так и сидел. Туда никто не сворачивает.
– Ты должен был поехать за помощью и вернуться к девочке. Вообще-то еще не поздно. Поезжай обратно, достань маленькое тельце из кустов, вызови полицию.
Он вошел в кабинет – большую комнату с давно не мытыми окнами, которые сейчас, в слабом вечернем свете, казались покрытыми паутиной. Здесь стояли только письменный стол, обычный стол, несколько кожаных стульев и два открытых шкафа с фолиантами. Из эркера ему была видна парковка, где он поставил машину.
Дождь не прекращался. В эркере уже много месяцев протекала крыша, из-за чего здесь постоянно стоял бачок из-под угля, который после дождя, по мере наполнения, выливала уборщица.
Альберехт посмотрел в окно. Машина стояла так, что ему виден был радиатор. Может быть, на ней остались царапины, а то и вмятина от столкновения с девочкой. Может быть, прилипшая прядь волос с кровью. В решетке радиатора мог застрять лоскуток от платья или обрывок пальтишка.
– Дождь смыл все следы, – сказал черт. Альберехт не увидел в окно ничего особенного. Если к радиатору или к бамперу что-то поначалу и прилипло, то от езды под дожем уже давно отвалилось. А что с другой стороны машины, которую ему не было видно?
Он подумал: «Меня это не волнует. Эта машина приносит одни несчастья. Сиси она тоже не нравилась». Бульк! В бачок из-под угля упала капля воды.
«Надо было купить другую машину, чтобы ее порадовать.
Но когда я выйду на улицу, надо будет как бы невзначай обойти вокруг машины. Сделать вид, будто просто-напросто собираюсь в нее сесть и поехать домой, но на самом деле внимательно проверить, нет ли следов… Перед глазами стояло видение большого лоскута, вырванного из ее пальтишка и висевшего на пороге машины, все это время провисевшего на пороге…»
Пальтишко было противного желтого цвета, вспомнил он.
Шерстяное? Оно было из шерсти? Да, шерстяное. И эта машина. «Рено вивакатр» с желтыми колесами. Действительно, некрасиво.
Бульк! Еще капля. Так небеса напоминали о себе с помощью небесной влаги.
– И ты еще размышляешь о внешнем виде своей машины, – вспылил я. – Ты что, совсем бесчувственный чурбан?
Он отошел от окна, снял мантию и положил черную шелковую ткань на стол. Медики оперируют в белом, служители Фемиды – в черном. Есть ли разница в том, чтобы нечаянно задавить ребенка, и в том, чтобы дни напролет сидеть над составлением обвинительной речи, где ты гневно требуешь пожизненного заключения для человека, с которым, возможно, всего лишь произошел несчастный случай?
Альберехт вышел в коридор и направился в туалет. В конце коридора на стене висела белая картонка с надписью «Бомбоубежище», под которой была нарисована черная рука, указывающая вниз. В здании суда было тихо, казалось, будто электролампочки, все без исключения маломощные, распространяли застойный бумажный дух, повисший между стен. Широкие коридоры, казавшиеся узкими из-за невероятно высоких потолков. Человек, идущий по таким коридорам, не мог избавиться от ощущения, что стены в любой момент могут сдвинуться и раздавить его.
Моя руки, Альберехт внимательно рассматривал свое лицо в видавшем виды зеркале над раковиной из настоящего, но грязно-серого мрамора.
В туалете потолок был тоже немыслимо высокий, такой же высоты, что и в коридорах. Унитаз, в действительности впечатляюще-монументальный, казался здесь маленьким и жалким. И до чего же жалким выглядел сам Альберехт, когда я смотрел на него из-под потолка.
Стилистика этого помещения была призвана создать ощущение, что все здесь происходящее, каким бы неаппетитным и потаенным оно ни было, на самом деле не имеет ни малейшего значения: расстегнуть ширинку, достать член, помочиться. Или даже спустить брюки, снять трусы, сесть прыщавыми белыми ягодицами на стульчак, с которого уборщица может стереть лак, но не может стереть ощущение, что это нечто отвратительное. А после того вытереть самое отвратительно-грязное, что только есть у человека, и не чем иным, как бумажкой, которой никогда ничего не вытрешь дочиста. Руки человек моет тщательно и с мылом, едва они хоть чуть-чуть запачкаются, а зад вообще не моют, хоть это нужнее всего… В том числе блюстители Закона. В том числе судьи. Судья – это такая высокая должность, что если бы судья справлял нужду в туалете не с таким высоким потолком, то настолько уронил бы свое достоинство, что не смог бы более исполнять обязанности. В этом туалете, построенном специально для судей, благодаря высоте потолка человеческие нечистоты становятся ничтожно малыми по сравнению с величием Правосудия. Запахи с легкостью развеиваются, ибо потолок их не удерживает. И тем самым гарантируется чистота тех, кто служит Закону. Ваши грязные тайны остаются в тайне, словно говорит это помещение находящимся здесь служителям Фемиды, я абсорбирую все то нечистое, что вы производите. Мысль утешительная! Ах, если бы он мог спустить в унитаз все то, что случилось за день! Не слышал ли он как-то раз в Ротари-клубе историю об одном судье, который после вынесения приговора женщине всегда шел в туалет и… Наверное, он признался в этом своему психиатру. Альберехт догадывался, о ком речь, но не был уверен полностью. Но эту историю он знал уже лет десять.
Альберехт открыл кран и подержал руки неподвижно под струей холодной воды, недоумевая, как его мысли могли принять такой оборот.
«Я чудовище или я сумасшедший», – думал он.
Большую часть своей фигуры он мог лицезреть в зеркале.
Полноват, зато дорогой костюм. Лицо мясистое, для его возраста несколько потрепанное. Волосы на макушке редкие, зачесанные на левый пробор. Глаза голубые, по ним сразу видно, что он добряк. Толстые губы, нижняя немного свисает, такая губа прямо просит, чтобы к ней поднесли рюмочку.
«Я был слишком потрепанный, чтобы на ней жениться», – подумал он и облизал нижнюю губу.
Вытянул губы трубочкой, чтобы дыхнуть самому себе в нос. Запах перечной мяты. Он в первый раз после того, как бросил пить, почувствовал так остро, насколько скучает по запаху алкоголя. Ощущение, будто вдруг лишился одной перчатки из той пары, что носишь каждый день.
Где-то зазвонил телефон. Он хотел вытереть руки полотенцем, намотанным бесконечной лентой на катушку, за которое надо было немного подергать, чтобы вытянуть чистый кусочек. Но то полотенце, что здесь висело, явно уже не раз прокручивалось по всей длине. Он отпустил полотенце, вытер руки носовым платком и засунул его влажноватыми пальцами обратно в карман, потому что платок был слишком тонкий, чтобы впитать столько воды.
Телефон зазвонил снова. И продолжал звонить, пока Альберехт шел к себе в кабинет. Даже находясь в кабинете, он слышал этот звонок, хотя звонили не ему. Почему звонят так долго, кто это названивает с такой настойчивостью, словно не понимая, что никто не собирается подходить?
Не связан ли этот звонок с Альберехтом?
Может быть, это незримый свидетель, который все-все видел и его выследил? Или который что-то видел, что-то или кого-то, и потому звонит во Дворец правосудия? И по чистой случайности именно Альберехт слышит звонок телефона, номер которого набрал простодушный свидетель?
Примерно то же самое, как если человек гуляет с женой по парку, а навстречу идет ее любовник. «Ты заметила, как этот тип на тебя посмотрел? И что только он себе воображает?»
«Ситуация, которой я всегда боялся, – подумал Альберехт. – Потому-то я и не женюсь.
Он сел за письменный стол и посмотрел на стоявший там телефон. Это был большой аппарат с сорока кнопками и двумя датчиками, показывавшими, какая линия сейчас работает, местная или городская. В данное время не работала ни та, ни другая. Альберехт полистал телефонную книгу и набрал номер. Трубка, приложенная к уху, вдруг стала такой тяжелой, что он даже опер ее нижней частью о стол.
– Девушка, позвольте у вас кое-что спросить. Скажите пожалуйста, в котором часу летит сегодня самолет в Лондон и могу ли я забронировать на него билет?
– К сожалению, в настоящее время самолеты в Англию не летают.
– Почему?
– Из-за напряженной международной обстановки.
– Да что вы такое мне говорите?! Вы что, газет не читаете? Вы не читали в утренней газете, что Германия опровергла все слухи о том, что якобы собирается напасть на Голландию?
– Самолеты летают теперь только из Гронингена. Экспорт цветов в Германию. Ничем не могу вам помочь.
Альберехт положил трубку и в бешенстве швырнул телефонную книгу на пол. Бешенство немного улеглось.
Потом поставил локти на край стола, оперся подбородком на большие пальцы, а подушечки остальных пальцев оказались у него на лбу. В носу у него зачесалось, как будто от простуды. Вдоль правой ноздри стекла слеза. Он сумел подавить всхлип, глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Правая рука выдвинула ящик стола и достала лежавший там пистолет.
Альберехт принялся его внимательно осматривать, вертя в обеих руках. Снял с предохранителя, затем снова поставил на предохранитель. Достал из рукоятки пистолета магазин. Высыпал патроны на промокательную бумагу. Их оказалось шесть штук. Он направил дуло в сторону настольной лампы и посмотрел в него: пусто. Затем снова положил патроны в магазин и задвинул магазин на место.
Он долго-долго сморкался, дважды сложил платок пополам, вытер все лицо этим противным мокрым платком. Затем попытался зарядить пистолет, оттянул затвор, чтобы патрон скользнул в патронник, но этого не произошло. Патрон застрял, встав косо, наполовину внутри ствола, наполовину снаружи. Альберехт несколько раз постучал рукояткой по столу, но патрон не шелохнулся. Весь механизм наглухо заклинило.
В отчаянии Альберехт встал, прошел к стулу, где висел его плащ, и извлек из кармана письмо, которое девочка несла опускать в почтовый ящик.
Детский почерк, которым был написан адрес, он видел уже во второй раз. Странный адрес:
Herrn Dr. Anatol Lindenbaum
Karpengasse Kaprová 15
Prag Praha
Československo
Protektorat Böhmen und Mähren
Deutschland[7]
Чехословакия! Страна, которая уже давно поглощена Германией!
Какой-то взрослый зачеркнул это название и ниже написал «Протекторат Богемии и Моравии, Германия».
На обратной стороне конверта девочка написала адрес отправителя, но он тоже был зачеркнут. Той же ручкой, что и слово «Чехословакия», но иначе. Не просто одной линией, а частоколом из линий, чтобы имя было не прочитать.
Альберехт перевернул конверт снова. В правом углу было наклеено три марки, довольно криво, наверное, их клеила сама девочка. В сумме их стоимость была на полцента меньше, чем надо для отправки письма за границу. Взрослый, проверявший адреса, видимо, не обратил на это внимания.
Может быть, прочитать письмо? Но он придумал кое-что получше: положил его на промокательную бумагу, точно на середину, и снова взялся за пистолет. Так его жертва станет объяснением его поступка.
Застрявший патрон не удавалось сдвинуть никакими силами.
Из другого ящика стола он достал очень толстый перочинный нож, так называемый швейцарский армейский. На черном пупырчатом корпусе имелся маленький красный овал с белым крестиком. Нож включал в себя большой нож и маленький, штопор, длинное шило и короткое, ножнички, грубую пилку, тонкую пилку и стальную пилку по металлу, открывалку шампанского в комбинации с узкой отверткой и открывалку для пивных бутылок в комбинации с широкой отверткой.
На эти-то отвертки он и возлагал надежды, которые скоро окажутся напрасными.
Кто, как не я, сделал так, что патрон заклинило?
Как Альберехт ни старался, патрон не поддавался. Уж я-то постарался, чтобы он застрял так застрял. В конце концов Альберехт развинтил пистолет на двенадцать частей, но патрон по-прежнему сидел в патроннике косо и неподвижно. Детали не оставляли на бумаге жирных следов. Альберехт снова откинулся в кресле, достал из кармана серебряную коробочку и сунул в рот мятную пастилку.
С пастилкой под языком, даже не думая ее сосать, он просидел, глядя перед собой, минут пятнадцать. Затем выдвинул верхний ящик левой тумбы стола и сгреб в него и швейцарский нож, и детали пистолета.
В расстегнутом пальто и в шляпе он вышел из здания суда. Внизу у ступенек остановился, указательным пальцем правой руки приподнял рукав и взглянул на часы. Было полвосьмого.
Сиси, подумал он, уже целый час плывет по морю. Прощай, любимая. Даже если твой корабль утонет, мы с тобой все равно уже больше не увидимся на том свете, которого нет.
Ему потребовалось невообразимое самообладание, чтобы подойти к машине, вынуть из кармана ключи, не броситься осматривать машину со всех сторон, открыть дверцу, сесть за руль, завести мотор и уехать. Я заботился о том, чтобы он все сделал безошибочно, в указанном порядке. Но этот неблагодарный вместо того, чтобы поехать сразу домой, отправился в центр города и остановился перед большим кафе.
Над летней террасой перед входом все еще был опущен тент, с которого капала вода. Белый с зелеными полосами брезент закрывал от дождя передние ряды столиков. Все столы и стулья, поставленные как можно плотнее друг к другу, были задвинуты вглубь. Альберехт сел в самом дальнем ряду. Он был единственным посетителем.
Он расстегнул верхнюю пуговицу плаща, сунул руку в карман жилета, нашел коробочку с мятными пастилками. Когда он вынул руку из-под плаща, по воздуху распространилась волна резинового запаха.
– Вполне может быть, – сказал я ему, – что девочку не найдут еще несколько недель, но когда это случится, тебе будет скорее всего несдобровать.
«Я уже восемь лет подряд отправляю людей в тюрьму. Так что если я туда попаду сам, это будет более чем справедливо. Но как я туда попаду? Меня никто не видел. Вон стоит моя машина». Это одна из самых оживленных улиц. Его никто не узнает, хотя родственники девочки наверняка ее повсюду ищут. Но даже если какому-нибудь служителю фемиды придет в голову заподозрить Альберехта, он сначала десять раз подумает и скажет себе: это бред. Прокурор не мог этого сделать. Я не стану этого расследовать, а то неприятностей не оберешься.
«Интересно, сколько преступников меня ненавидит и поклялось в тюрьме мне отомстить. Удавалось ли им такое? Можно только удивляться, как редко люди мстят полиции и правосудию. Многое говорит о том жалком человеческом соре, который мы осуждаем и сажаем. Трусы. Пробивают череп одинокой вдове восьмидесяти восьми лет, чтобы забрать из ее копилки 6 гульденов 38 центов. На большее они не решаются».
Смутно осознавая, что не до конца продумал свою мысль (я не подпускал к нему черта), он барабанил пальцами по столику, затем осмотрелся, поворачиваясь всем телом в разные стороны, чтобы увидеть официанта. Внутри кафе почти не было света. Только в самой глубине зала он увидел блеск никелированного кофейного аппарата в свете хрустальных бра. Человек в белом был занят чем-то связанным с этим аппаратом. Альберехт попытался привлечь его внимание, подняв руку, хотя знал, что обслуживание посетителей на улице не входит в его обязанности. Альберехт ничуть не удивился, когда человек в белом не отреагировал на его жест и продолжал делать свое дело.
На другой стороне улицы был кинотеатр с яркой афишей по всему фасаду:
С СОБОЙ НЕ УНЕСЕШЬ
(You Can't Take It with You)
Самый успешный фильм с участием Джеймса Стюарта[8]
28-я неделя проката
По улице со звоном приближался трамвай, закрывая Альберехту обзор, и остановился прямо перед кинотеатром. Крыша трамвая оказалась точно на уровне нижнего края афиши, так что какой-то миг казалось, будто афиша крепится на крыше трамвая. Но трамвай проехал дальше, а афиша осталась на месте.
– Даже трамвай с собой не унесет, – сказал Альберехт почти вслух, – уже двадцать восемь недель никто ничего не может унести.
Я сидел у него на плече и сказал ему:
– Никто не собирается тебя тут обслуживать. Разве это не знак? Не последнее предупреждение, что тебе здесь не место? Если ты вдобавок еще и начнешь пить, то тогда вообще все потеряно.
С собой не унесешь.
В каком смысле? Пока человек жив, он идет, а если он идет, то наверняка сможет найти выход.
Но он встал и сделал совсем не то, что я от него хотел.
Раздвигая столики, он прошел ко входу в ресторан и ступил на толстый персидский ковер в вестибюле. Бар находился внизу, и он спустился в бар.
Сначала, не снимая плаща, заглянул внутрь. В баре сидели двое офицеров, и больше никого. Бармена, стоявшего за стойкой, он никогда раньше не видел. Прежнего бармена Нико наверняка мобилизовали. Альберехт повесил пальто и сел на барный стул слева от офицеров, с наслаждением вдыхая висевший в воздухе запах алкоголя.
– Будь ты разумный человек, ты бы этим и удовлетворился, – сказал я. Порой я не против пошутить. – В день по две-три капли йеневера на носовой платок и нюхать. Это спасло бы тебя от мучений и предотвратило бы многие несчастья, если бы ты смог этим ограничиться.[9]
Он кисло улыбнулся своим ребяческим мыслям и заказал пива. Несчастный случай. «Если мой проступок рано или поздно будет обнаружен, то ни одна собака не поверит, что я был трезв». И Альберехт сделал первый глоток пива.
При ближайшем рассмотрении пиво на вкус – все равно что вода, в которой три дня размачивали зачерствевший кусок хлеба. Что тут вкусного?
Надо будет подержать ломоть хлеба три дня в воде, попробовать, какой будет вкус. И он сделал второй глоток.
За стойкой бара висело три зеркала, так что посетители могли рассматривать друг друга, не поворачивая головы. Один из офицеров, лейтенант-артиллерист с двумя звездочками и двумя перекрещенными орудийными стволами на воротнике-стойке, пил йеневер.
Второй выглядел худым и сморщенным, хоть и не старым. Все его лицо, от шеи до лба, было испещрено глубокими морщинами. На нем была такая же зеленая полевая форма, как и у первого офицера, но на воротничке, отороченном черным бархатом, поблескивали вышитые золотыми нитками пропеллеры. Присмотревшись хорошенько, я увидел у него на верхней губе тонкую полоску светлых волосков.
– Хотите сигарету?
– Нет, спасибо, я не курю.
Артиллерист сам с трудом достал сигарету из пачки, которую только что предлагал Альберехту, и положил ее перед летчиком.
– К тому же, – сказал летчик, – немцам ничего не стоит сжечь все самолеты, прежде чем они поднимутся в воздух.
– Так они сделали в Польше в первый же день. Уничтожили все польские военно-воздушные силы.
– Этого никак не предотвратить.
– Замаскировать кучами веток.
– А как из-под них выпутаться, когда надо будет взлетать? А в Норвегии Пятая колонна насыпала песка в двигатели.
– Песка?
– Песка. Кстати. Знаешь, сколько у нас самолетов, по скорости соизмеримых с немецкими?
– Где-то шестьдесят. Я так полагаю. У нас же есть наш отличный G. 1?[10]
– Говоришь, шестьдесят? На самом деле их всего двадцать три. G. 1, отличный самолет, делает до 450 километров в час. Ян, налей-ка мне еще две порции того же.
Бармен подошел к нему и наклонил над его рюмкой бутылку с пробкой-дозатором, в которой забулькал йеневер.
– Всего двадцать три? – спросил другой офицер с недоверием, как будто был в магазине и боялся, что ему недодадут товара.
– Есть еще двадцать три других самолета, но на них нет вооружения.
– Елки-палки! Но ведь его можно установить!
– Как только – так сразу. Так что займись! Так вот, эти двадцать три, в которых уже есть вооружение… Знаешь, сколько из них оборудованы радиоаппаратурой?
Артиллерист низко наклонил голову и сделал глоток йеневера.
– Четырнадцать, – сказал летчик. Сжал правый кулак и стал ритмично ударять им по стойке, скандируя, точно болельщик во время матча: – Че-тыр-над-цать, Че-тыр-над-цать!
– Надо было конфисковать у КЛМ все гражданские самолеты и оборудовать люками для сбрасывания бомб. Это же современные машины. Хоть что-то…[11]
– Конечно. Немцы легко посбивали бы их все из катапульты.
Второй офицер выпил рюмку до дна, сложив губы трубочкой, и по его лицу было видно, что на душе у него накипело что-то очень важное. Настолько важное, что он должен был чрезвычайно сосредоточенно допить рюмку, прежде чем поделиться. Потом он посмотрел сквозь рюмку на свет, поставил ее, с агрессией в движениях повернулся к Альберехту, внимательно оглядел его, заключил, что Альберехт – не шпион, и затем сказал летчику:
– Попробуй догадаться, сколько времени моя батарея сможет вести огонь, если потребуется.
– И сколько же?
– У меня есть по двенадцать зарядов на орудие.
– Если потребуется, то боеприпасы доставят из Англии по воздуху. Ты что, не знаешь?
– Нет, не знаю. Зато знаю из очень надежного источника, что с зенитной артиллерией обстоит еще хуже. Компании «Рейнметалл-Борсиг» заказано двадцать тридцатисемимиллиметровых зениток. Наше правительство уже заплатило за них сливочным маслом на сумму два миллиона. И думаешь, Гитлер поставил нам эти зенитки?[12]
– Я думаю, они сейчас в пути.
– Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, – сказал Альберехт, – но даже если Германия вынашивает некие планы, мне кажется вполне вероятным, что они все-таки поставят нам эти зенитки. В качестве прикрытия, понимаете? Впрочем, во время Восьмидесятилетней войны мы тоже поставляли пушки испанцам и наоборот. Тут не было ничего особенного.[13]
– На этот раз война продлится меньше восьмидесяти лет, – сказал летчик.
Лейтенант-артиллерист, недавно так нарочито изучавший Альберехта, теперь повернулся к нему всем корпусом.
– Это полная нелепость, – сказал он, – я бы на месте Гитлера тоже не стал поставлять нам зенитки.
– То, что он отказался от поставки зениток, может как раз означать, что он не собирается на нас нападать, – сказал Альберехт. – Иначе он послал бы нам заказанное в Германии вооружение, чтобы не вызвать подозрения. Гитлер очень хитер.
– Глядя на вас, я вижу, что вы не Пятая колонна, так что могу доверить один секрет.
– Я сам – не Пятая колонна, но у моей матери служанка-немка.
– Известно ли вам, сколько раз уже объявляли боевую тревогу?
– Но ее объявляли на ровном месте, это была учебная тревога, вы это хотите сказать, учебная тревога.
– Отложить не значит отменить, – вдруг вмешался в разговор летчик.
– Вы хотите сказать, что это была настоящая тревога, совершенно всерьез? – спросил Альберехт. – Может быть, правительство хотело проверить, насколько армия готова к войне.
– Готова, не готова, – сказал артиллерист, – но против немцев мы бессильны. Бес-силь-ны.
– У нас есть Ватерлиния, если что, мы затопим земли вдоль границы с Германией, – сказал Альберехт, глотнул пива и подумал: на вкус – как вода, в которой много дней пролежал кусок хлеба.
– Так-то оно так, – сказал артиллерист, – но сразу видно, что вы не военный. Вы как сердитый ребенок. Кто сказал, что неприятель нападет с востока?
– Но вы же не станете утверждать, что нам угрожает Англия?
Летчик расхохотался.
– Позвольте рассказать вам еще кое-что, – сказал артиллерист, – полагаю, вам можно доверять. Я это услышал из источника, который не буду называть. В ночь с 13-го на 14 апреля береговая охрана близ Ден Хелдера заметила передвижение большого морского конвоя, направлявшегося на юг. Большого конвоя, шестнадцать кораблей. Немецких кораблей. Понимаете, что я хочу сказать? На Норвегию они напали с моря. С нами может быть то же самое. Шестнадцать немецких кораблей. Не сухопутные войска с востока, а военно-морские силы с запада.
– Но, господин лейтенант, – сказал Альберехт, – даже если немцы на это пойдут, есть же великобританский флот. Если немцы попытаются напасть на нас с моря, то британцы уже через час дадут им отпор.
– Вполне может быть, – сказал лейтенант, – но через месяц мы уже не сможем вот так сидеть втроем, вчетвером, как сидим сейчас. По морю, по суше и по воздуху. Скажи, Ян, ты еврей? А ты, Долф? Ты еврей?
Бармен стоял у дальнего конца барной стойки, у кассы, и не переставая что-то писал.
– Если ты еврей, – сказал артиллерист, – то самое правильное – за неделю собрать чемодан.
– Ты пораженец, – сказал летчик.
Альберехт отхлебнул из кружки немного пива, ставшего совсем безвкусным и теплым, таким, что пить невозможно, и проглотил его. Сделал еще один глоток – чтобы затем завязать навеки. «Ты мог бы выпить и десять кружек пива без всякого удовольствия, – сказал черт. – Ты мог бы выпить и десять кружек пива, чтобы доказать, что пиво на тебя не действует». Самую большую беду моей жизни я превозмог, отметил про себя Альберехт с удовлетворением. И вместо нее за один день на меня обрушились две новые напасти.
Нет, ваша честь, я не выпил ни капли. Я не был пьян. Но ведь известно, что вы всегда любили заложить за воротник. Я не пил уже полгода, ваша честь, уже полгода капли в рот не брал. Связано ли это с той женщиной, которая появилась в вашей жизни? Да, действительно, можно так сказать. И эта женщина в тот самый день отбыла в Америку? Да, действительно, но… Вы проводили ее в Хук-ван-Холланд? Разумеется, но… И вы были сильно расстроены после прощанья? Не стану отрицать, но все же… Но вы все же утверждаете, что капли в рот не брали?
Такая вот карьера: от государственного обвинителя до отчаянно отрицающего все на свете подозреваемого. Нет, ваша честь, я не пил, ни капли, я бросил навсегда, я исправился… О Небеса, какое унижение! Не пострадает ли его чувство самоуважения меньше, если он пропустит мимо ушей обвинение в том, что был пьян? Какая разница? Он вел себя, как пьяница, и неважно, выпил он или нет. И после того как отсидит положенный срок, ему останется только отправиться вкалывать чернорабочим в Америке – что-нибудь в этом духе.
Лейтенант-артиллерист снова обратился к Альберехту, словно знал, что у него в мыслях как раз закончился один абзац и еще не начался следующий. (Человеческие мысли? Книга, в которой по очереди делают записи Бог и Дьявол и которую человек должен прочесть от начала до конца. О, как это меня огорчает.)
Альберехт взглянул на военного и отметил про себя, что офицер уже совсем захмелел.
– У вас есть жена и дети?
– Нет, жены и детей у меня нет, – сказал Альберехт.
– А вот у него есть, скажи, Долф? – обратился артиллерист к летчику. – Сколько у тебя жен и детей? Пять?
– Детей шесть, – сказал летчик, и от широкой улыбки складок на морщинистом лице стало еще больше.
– А сколько жен?
– Шестьдесят.
– Значит, плохо старался. Он плохо старался, – повторил артиллерист, обращаясь к Альберехту, и повернулся в его сторону так резко, что кожаное сиденье барного стула заскрипело под форменными брюками. – А я вот хорошо старался, но это не помогло.
Он медленно покачал головой.
– Женщины – дело непростое. Думаю, я еще лет десять не женюсь. Мне тридцать восемь. Самое неприятное в проблемах с женщинами то, что это связано с сексуальной жизнью. В двадцать три года я познакомился с девушкой. У нас завязался роман. Чудесная девушка, и мне кажется… мне кажется, что я на самом деле люблю только ее. Но когда тебе двадцать три года, думаешь, что все пути перед тобой открыты. Так вот, я встречался с ней довольно долго, но потом решил: она мила, но очень уж у нее спереди плоская фигура.
Мы вместе ходили на всякие праздники, то на один, то на другой, и я видел своих друзей с другими девушками, не такими плоскими. Совсем не такими плоскими. И однажды в постели я заметил, что мне с ней не так уж хорошо. В постели она вообще-то была обалденная. Но спереди плоская. Вот я и подумал: если на ней женюсь, то всю оставшуюся жизнь мне не за что будет подержаться. Вы меня понимаете? Не за что будет подержаться и меня замучает мысль, что, будь оно иначе, я чувствовал бы себя намного более успешным. И вот моя девушка говорит: что с тобой случилось в последнее время? Ты стал таким холодным. Она купила подушечки и вложила их в себе в лифчик, и я сказал: вот так тебе идет. Отлично! Но на самом деле мое недовольство только усилилось. Какой мужчине прок от двух подушечек? И когда мы шли на очередной праздник, я думал: все вокруг пытаются понять, что произошло. Девчонка, которая всегда была такая плоская, вдруг перестала быть плоской, разве такое бывает? Она наверняка подсунула под блузку подушечки. Я был уверен, что все помнят, какая она раньше была плоская. Поэтому она раздражала меня все больше и больше, и когда один из моих приятелей начал за ней бегать, я повел себя как дурак. Время от времени она меня спрашивала: ты не ревнуешь? И я отвечал: с чего мне ревновать, я же знаю, что ты любишь только меня.
И вот в один прекрасный день звонит мне этот друг и сообщает: я хочу поговорить с тобой об одном важном деле.
Раньше он всегда запросто заглядывал ко мне, без телефонного звонка, а теперь нате вам, так что я понял, насколько это серьезно, и ответил: конечно, Лодевейк, встретимся там-то и там-то в таком-то часу.
Когда я шел на встречу с ним, я уже страшно злился. Со стороны можно было подумать, что я вот-вот получу именно то, что хочу: избавлюсь от подруги и никаких сцен. Так-то оно так, но у меня не было никого другого, потому что на самом деле я любил только эту девушку. Пусть лучше плоская, чем вообще никакой, думал я. Но назвался груздем, полезай в кузов, хотя я и не понимаю, какой в этом смысл. В общем, сижу я и терпеливо слушаю, что говорит мне друг. А он давай рассказывать: как старый друг и джентльмен не могу, говорит, скрывать, что несколько раз был с Теей, а некоторые вещи не остаются без последствий, так мол и так. И теперь она беременна. Как быть?
– Ты ее любишь? – спрашиваю.
– То-то и оно, – отвечает Лодевейк. Когда она рядом, он без ума от счастья, и уже на следующей неделе они собираются пойти в ратушу, чтобы зарегистрировать брак.
– Поздравляю, друг, – говорю я ему, – но скажи пожалуйста, что ты в ней нашел?
– Не притворяйся, – говорит, – будто ты сам не знаешь.
В жизни не догадаетесь, что он принялся мне рассказывать. У Теи, говорит, у Теи, пусть она и плосковата спереди, но у нее самая замечательная попка из всех, которые ему доводилось шлепать. Такая круглая, такая пикантная, чтобы не сказать интеллигентная, чтобы не сказать… Господи, чего он только не наговорил. Но… но я ее все равно лишился. Что вы будете пить?
– Тоник, – сказал Альберехт.
– Тоник с… – спросил Ян.
– С ломтиком лимона, – ответил Альберехт.
– Два года я был один, – сказал артиллерист, – а потом…
– А потом нашел другую, – сказал летчик, – такую же милую, как Теа, только менее плоскую, но и у нее фигура была не то чтобы соблазнительная. В гостях, одетая, она выглядела очень даже привлекательно, но потом, по дороге домой, еще шагая с ней рядом по улице, ты уже думал: сейчас она разденется и в ней не останется ничего интересного. Полное разочарование, но ты стискивал зубы и, не подавая виду, ложился с ней в постель. Но невозможно же каждый вечер ложиться в постель с разочарованием, не такой ты дурак, так что ты на ней не женился. В итоге Симон положил конец и этому роману.
– Откуда ты знаешь? – спросил артиллерист. – Ты что, ее был с ней знаком?
– А я, если хотите, могу рассказать еще кое-что, – сказал Альберехт. – После этой женщины вы наконец-то нашли еще одну, во всех отношениях идеальную. И она долго-долго перед вами не раздевалась, но в душе вы считали, что все в порядке, потому что совершенно не хотели жениться на женщине, которая легко ложится в постель. И что же случилось, когда она наконец разделась?
– Замолчите, – воскликнул артиллерист, – прошу вас, больше ни слова!
Альберехт решил, что на прощанье достаточно молча улыбнуться.
Черт побери, ну как же так, говорил он про себя, поднимаясь по лестнице к выходу. Наконец-то она разделась, и тут вдруг спрашивает:
– С тобой что-то не так?
– А я вообще такой.
– С каких пор?
– Никогда другим и не был. Как любовник совсем не пылок.
– Что ты, Schatz, не придумывай, – причем таким тоном, словно хотела сказать: этого-то я и боялась, поэтому и тянула время. Я долго усложняла наши отношения, чтобы не усложнить их вконец более легким поведением.
Но черт сказал:
– Думаешь, она не махнула бы рукой на своих родственников и товарищей по партии, если бы правда тебя любила?
– Чудовище! – воскликнул я. – Презренный донжуанишко! Всю ее доброту, ее ум, ее интерес к тебе ты свел своей похотливостью к нулю! Думаешь, она не смогла бы забыть ради тебя товарищей по партии и даже родственников, если бы ты любил ее по-настоящему?
Альберехт поднялся до верха лестницы и теперь шел по ковру в вестибюле. Я об этом не просил, сказал его внутренний голос, когда он вышел на свежий воздух. Я такой, и никакой другой. Возможно, могу еще измениться.
И он пошел непривычно быстрым шагом к машине, сел и зажег лампочку над головой. Другой рукой достал из внутреннего кармана бумажник.
Альберехт вынул из бумажника все деньги, которые нашел, и пересчитал дважды.
Там было две купюры по десять гульденов. Хотя он засунул пальцы как можно дальше, больше денег в бумажнике не нашлось.
Слишком мало. А сколько у него в банке? Одному Богу известно. И когда их можно будет снять? Завтра с самого утра. Может быть, будет уже слишком поздно. Он взглянул на часы. Без одной минуты одиннадцать. Он включил радио, и то, к его удивлению, сразу заговорило. Обычно оно долго не включалось. А сейчас с первого прикосновения. Новости. Альберехт внимательно слушал. Ни слова о пропавшей девочке. Разумеется. Ведь прошло слишком мало времени.
Что говорит начальник дежурной части, когда к нему поступает сообщение о таком исчезновении? «Давайте еще немного подождем. Все будет хорошо. Девочка заигралась у какой-нибудь подружки».
Альберехт выключил радио, но продолжал сидеть с включенным светом, погрузившись в мысли. Локти на руле, руки под подбородком.
Я что, могу идти, куда хочу?
То же самое думает маленькая рыбка, попавшаяся в большую сеть: что может плыть, куда хочет. Но вокруг меня-то никакой сети нет, думал Альберехт. Пока что нет. Но ее могут в любой момент поставить, и я единственный, кто об этом знает.
Он видел, как мимо его машины идут люди, переходящие улицу. Как будто он сидит в караульном помещении, в маленьком каземате. Но на него никто не обращал внимания.
– В Бога душу мать, – сказал он про себя, – еще ничего не произошло, но надо что-то предпринять, пока не поздно.
– Да ладно тебе, – сказал черт, – кто его знает, послезавтра здесь запросто будут немцы, ну через неделю. И что, когда Голландия будет растоптана Германией и сожжена, кому будет дело до задавленного на дороге ребенка?
– Так нельзя, – нашептал я ему, – так нельзя! Чем ждать, чтобы твоя страна стала заграницей, лучше взять и уехать за границу на самом деле… Чтобы хотя бы в будущем искупить содеянное… Если ты все еще не готов явиться в полицию с повинной.
«Явиться с повинной? Но со мной все в прядке. Я выпил всего полкружки пива. Я неуязвим».
– Отправляйся за границу, – сказал черт, – а то не увидишься с Сиси еще много лет, если останешься здесь, то не увидишь ее вообще никогда.
Пожалуй, самое ужасное, с чем мы боремся уже много эонов, – то, что черт нередко пускает в ход те же назидания, что и мы, а люди, бедняжки, не замечают этих чертовских нюансов. Они не понимают, кого слушают – черта или ангела-хранителя, потому что слышат от них одни и те же советы. И только доведенные до роковых деяний, они понимают, что слушали не Бога, а черта. Я был вынужден бессильно молчать. Потому что как я смог бы наставить его на путь истинный, если бы отобрал у него последнюю надежду на встречу с Сиси?
Так что он погасил свет в машине, завел мотор и уехал.
МАТЬ Альберехта жила на широкой улице, которая называлась Бастионной.
Этот район начали застраивать в то время, когда было принято решение об уничтожении городских укреплений. Засыпанные землей рвы превратились в длинные, вытянутые парки. А на тех местах, где раньше стояли стены с бастионами, были построены особняки для богатых буржуа.
Дом, в котором до сих пор жила мать Альберехта, купили еще его бабушка с дедушкой.
В половине двенадцатого Альберехт остановился перед этим домом, позади автомобиля Эрика – красного «дюзенберга», который весь сверкал в свете фонаря. На другой стороне улицы он увидел старенький «форд» Ренсе.
Альберехт вышел из машины и посмотрел на дом матери.
В комнатах первого этажа горел яркий свет. Ничего другого он, впрочем, и не ожидал. Альберехт глубоко вздохнул, достал из жилетного кармана серебряную коробочку с мятными конфетками, встряхнул ее: ничего не брякнуло. Пусто. Не открывая крышку, положил коробочку обратно в карман.
Прежде чем запереть машину, Альберехт прищурил глаза и осмотрелся. Наискось от дома его матери газон был перерыт, потому что там построили бомбоубежище.
Странное это было бомбоубежище, оно располагалось совсем не под землей и напоминало длинный сарай с наклонными стенами, покрытыми песком и дерном. На двери висела табличка с надписью БОМБОУБЕЖИЩЕ.
Альберехт медленно двинулся к входу в дом, оглядываясь на Эриков «дюзенберг» – машину редкую, ужасно дорогую, невероятно быструю и эффектную.
Для Эрика то, что надо, думал Альберехт каждый раз, когда ее видел. Это был двухместный автомобиль с откидной белой крышей. Задняя часть была похожа на перевернутую лодку. Там находилось третье сиденье, закрывавшееся круглым люком, напоминавшим крышку на очке в деревенском туалете. Американцы не умеют делать красивых вещей. Дорого, но не благородно – так думала даже Мими, которая вообще-то мирилась почти со всеми выходками Эрика. Утешение. Обычно. Но не сейчас. Сейчас, стоя возле символа могущества Эрика, Альберехту было еще труднее позвонить в дверь. Они не афишировали планы Сиси уехать. Она – из-за страха перед властями, он – в надежде, что этого все же не произойдет. Как много всего придется объяснять маминым гостям. Из всех, кого он сейчас увидит, только Эрик и Мими были немножко в курсе дела. С таким ощущением, как будто он пришел сообщить о своем банкротстве, Альберехт нажал на звонок.
Мама сама открыла ему дверь.
– Берт! А я-то думаю, почему это тебя не видно в антракте? Где ты был? Заходи. Ты без Сиси?
– Она неважно себя чувствует.
Он стоял в просторном мраморном холле и помимо служанки-немки, подошедшей, чтобы принять его плащ, видел еще двоих гостей.
По звукам, долетавшим через открытую дверь гостиной, было ясно, где находятся другие гости.
– Берт! Мы пришли в надежде с тобой поговорить. Хорошо, что ты подоспел. Ну, как дела? Здравствуй, дорогой Берт!
Оба были в вечерних нарядах, Эрик во фраке.
Мими Лосекат поцеловала Альберехта в щеку. Эрик крепко пожал ему руку. Он был директором большого издательства, где бурные приветствия входили в обязанности.
– Как поживает Сиси? – спросила мама.
– Она неважно себя чувствует, и я…
– Пошли, малыш, пошли в гостиную.
– Мама, можно поговорить с тобой наедине?
– Это же не очень срочно?
– Мне тоже нужно поговорить с тобой наедине, Берт, – сказал Эрик Лосекат.
– Со всех сторон секреты! – воскликнула Мими.
Альберехт последовал за ними в гостиную.
– Мама имела невероятный успех, – сказала Мими. – Ты как раз вовремя. Мы сами только что приехали после концерта.
– Просто потрясающе – сказал Эрик. – Ее четыре раза вызывали на бис. Ты согласен, что она превзошла саму себя?
– Я не попал на концерт, – глухо ответил Альберехт. – Ты же видишь, как я одет.
– Был занят?
– И это тоже.
– До чего же ты бледный!
– Скажи, а дело журналиста, оскорбившего Гитлера, уже рассматривалось?
– Да, сегодня.
– И какого же наказания ты для него в итоге потребовал?
– Освобождения от судебного преследования.
– То есть оправдания?
– Это не совсем одно и то же…
Отвечая на вопросы Эрика, Альберехт понемножку отодвигался от него, как бы уходя от разговора, и в конце концов сбежал в гостиную. Можно ли назвать это бегством? Это был не более чем жест, который никак не мог помешать продолжению разговора о журналисте, оскорбившем Гитлера. Потому что в гостиной стоял его брат Ренсе, политически ангажированный художник. Альберехт пожал ему руку.
Эта рука была спасательным кругом, который, впрочем, не мог ничего спасти. Сам Ренсе, тоже во фраке, стоял, облокотившись о черный рояль.
– Привет, Берт. У тебя, надеюсь, особых неприятностей нет?
Альберехту с огромным трудом удалось выдавить из себя несколько слов:
– Привет, Ренсе, как жизнь?
– Удовольствие ниже среднего, но пока бегаем, – ответил Ренсе.
Он был на два года младше Альберехта и зарабатывал на хлеб уроками рисования. Если другие люди, отпуская шутку, смеются во весь рот или делают вид, что смеются, то Ренсе лишь криво улыбался, не разжимая губ.
– Ты скверно выглядишь, – сказал он, – прямо совсем скверно. Что-то случилось?
Белая рубашка у Ренсе была грязноватая спереди, надета явно не первый раз после стирки, подумал Альберехт. Ренсе, художник, чьи картины никто не покупал, вынужден был преподавать рисование в средней школе. Но все же оставался человеком искусства, что было заметно по его густой эспаньолке: такие бороды носят только художники.
Альберехт попытался улыбнуться и ничего не ответил.
На Ренсе не было традиционной бабочки, которую в те годы полагалось носить с фраком, вместо нее на шее повязан широкий шелковый бант. «Я люблю тебя, – думал Альберехт, – я люблю тебя, мой неудачливый брат, с твоей бородой, с твоим артистическим бантом. Борода и бант показывают, по каким нормам тебя надо оценивать, каким правилам ты следуешь, точно так же слепого узнают по белой трости».
– Ars longa, vita brevis, – сказал Альберехт, выпустил руку Ренсе и отступил в сторону.[14]
Он оказался рядом с Паулой, женой Ренсе. Вечернее платье из черного бархата на ее тощей фигуре выглядело так, будто оно в мокрых пятнах. Большие, в темной роговой оправе очки сидели на носу всегда криво. Паула время от времени делала маленькие гравюрки, чуть больше почтовых марок, с изображением цветочков, комаров-долгоножек и паучков.
– Здравствуй, Паула.
– Дай-ка я поставлю бокал, ты всегда такой пылкий!
Он поцеловал ее в щеку и подумал: даже простое проявление вежливости она понимает превратно. Он невольно спросил себя, кому из присутствующих смог бы, если потребуется, рассказать о том, что сегодня произошло. Мысли Паулы не составляли для него секрета. Досада, что она замужем за Ренсе, а не за ним. Негодование, что он, Альберехт, не женится и поэтому не лишает ее надежды. А то бы она смирилась раз и навсегда с тем фактом, что ее муж – художник-неудачник, а не представитель власти. Ее малюсенькие гравюрки с изображением ракушек, жучков, комариков и мха за пределами семьи остались незамеченными. Над чем ты сейчас работаешь, Паула? Да ни над чем… у меня так село зрение…
– Сиси с тобой не приехала?
– Нет, не смогла. Я и сам едва сюда добрался. Да, потому же. Потом объясню.
Если рассказать Пауле, что Сиси от него ушла, она снова начнет надеяться. Хотя Альберехту картины Ренсе совершенно не нравились, в разговорах с Паулой он их всегда расхваливал. («В будущем, когда я выйду на пенсию, а Ренсе будет знаменит на весь мир…»)
Стандартный семейный юмор, под которым прятались ядрышки ненависти и презрения. Паула хотела бы меня заполучить, но меня она не любила бы точно так же, как и Ренсе.
– С удовольствием бы слегка перекусил, – сказал Альберехт.
– Тогда идем со мной.
Его взяла за руку Мими и потащила к столу, на котором стояли всякие вкусности, высокая стопка тарелок, рюмки и целая батарея бутылок.
– Я сегодня вообще не ел.
– Сиси что, уехала?
– Да, сегодня днем проводил.
Мими взяла в левую руку тарелку, а правой потянулась к вилке, лежавшей на салате из лосося.
– Думаю, из всех, кто сейчас здесь, только мы с Эриком знали, что Сиси уедет. Но ты не должен скрывать это от матери.
– Не должен. Но если сейчас все начнут обсуждать эту новость, я просто не выдержу.
Я не знал, что ему посоветовать. Попросить у Мими денег, чтобы уехать в Англию? Но почему именно у нее? Потому что она готова была помочь? Но он же не бедствующий. Он мог бы попросить денег в долг у любого человека в этой гостиной, и все были бы готовы одолжить ему без малейшего сомнения. Ими бы, правда, овладело любопытство, они спросили бы, зачем ему деньги сейчас, среди ночи, без четверти двенадцать. А Мими не стала бы спрашивать. Единственная опасность в случае с Мими та, что он сам ей все расскажет.
– От тебя пахнет пивом. Ты много выпил?
– Меньше полкружки. Ты чувствуешь запах, потому что я еще ничего не ел.
– Бедняжка Берти. Ты так переживаешь?
Мими дала ему тарелку с салатом. Альберехт положил салат в рот без всякого аппетита, несмотря на голод, стал жевать, а сам думал: надо быть осторожным, а то стошнит.
С салатом во рту он не мог разговаривать, а мог только смотреть на Мими. Хотя он знал эту женщину уже двадцать лет, он никогда еще не смотрел на нее с таким сожалением. Фигура у нее была довольно-таки мускулистая, с прямой спиной и широкими бедрами, но слишком плоская спереди. Ужасно плоская. Но не менее плоская, чем у Венеры Милосской, сколько раз он себе это говорил, пока был с ней обручен и не решался разорвать отношения. У нее были светло-карие глаза и темно-каштановые волосы, из которых он в последние годы при каждой встрече выдергивал по серебряной ниточке.
Взять и сказать ей: произошла еще одна вещь, гораздо хуже… Но какой смысл об этом заговаривать?
Мими сказала:
– Очень тебе сочувствую, честное слово! Сиси была умной женщиной. В другое время ты мог бы с ней быть очень счастлив… наконец-то. Правда?
Чтобы не отвечать, он сунул в рот еще салата.
– Такому мужчине, как ты, нужна умная женщина. Молодая овечка без жизненного опыта тебе бы со временем набила оскомину. Сиси во всех отношениях идеально подходила. Представляю себе, как ты сейчас несчастлив.
Он проглотил салат и сказал с таким чувством, будто стоит перед ней на коленях:
– Пожалуйста, не надо об этом говорить.
– Прости. Я думала, тебе будет легче, если ты с кем-то поделишься, даже если я в ответ несу чушь. Ведь ты так одинок здесь, где никто понятия не имеет, что с тобой произошло.
– А ты имеешь об этом понятие?
– Еще раз: прости. Я, наверное, тоже не в силах все понять. О господи, прости, пожалуйста, что суюсь.
Она обошла вокруг стола и открыла бутылочку томатного сока, которым наполнила для него зеленый рейнский бокал. На столе стояли три ведерка со льдом, в которых охлаждалось рейнское вино. Все пьют вино. А для меня, трудного дитяти, наливают томатный сок. Здесь шесть бутылок сока. Ни одна до сих пор не открыта.
В зеленом бокале томатный сок выглядел коричневым, как мазь для обуви.
– Должна тебе признаться, – сказала Мими, – что Эрик немного догадывался, почему тебя не было на мамином концерте.
– Ты, что ли, с кем-то говорила о планах Сиси?
– С какой стати?
– И что же сказал Эрик?
– Почти ничего. Не думаю, что он пытался ее отговорить. Книгу в любом случае издадут, независимо от того, будет ли Сиси здесь или в Америке.
– Во всяком случае, рукопись она упаковала, – сказал Альберехт, – я сам видел.
– Вот именно. И вообще Эрик счел бы некрасивым говорить с ней об этой книге в духе «я помог тебе уехать из Германии и ты теперь моя крепостная, пока книга не выйдет в свет».
Мими налила себе вина.
– Возможно, книга станет еще интереснее, если она опишет в ней свою жизнь в Америке, – сказал Альберехт словно по заученному тексту.
Мими ничего не ответила.
– Эрик, – сказала она, выпив два глотка вина, – Эрик не тешил себя иллюзией, что сможет ее переубедить ради тебя. В любом случае тебе она обязана больше, чем ему. Если бы не ты, Эрик не знал бы, что с ней делать, после того как перевез ее тайком через немецкую границу. Не хочу вмешиваться в ваши отношения с Сиси, но я все-таки никак не понимаю, зачем ей так понадобилось от тебя уезжать.
– Она боялась немцев. Уверяла меня, что в Америке сможет сделать для своих родственников и товарищей по партии намного больше.
– Мы все боимся, что немцы нас захватят. Но что она сможет сделать для своих родственников и товарищей по партии в Америке? Для меня это загадка. Что она сможет там сделать для родственников? И для коммунистов, от которых американцы тоже отнюдь не в восторге.
– В Америке коммунистов не сажают в концлагеря, и там много богатых коммунистов. Сиси хочет рассказать, как в Германии обходятся с евреями. Она хочет добиться того, чтобы Америка не держалась в стороне от этой войны.
– Она что, хорошо говорит по-английски?
– Не слишком. Но голландский выучила быстро.
– И что ты теперь собираешься делать, Берт?
– Пока не знаю. Но мне в любом случае нужны деньги.
– Зачем?
Он набрал воздуха в легкие, открыл рот, но не издал ни звука. В голове у него с бешеной скоростью проносились мысли. Если сказать: я хочу сегодня же поехать следом за Сиси, это будет звучать глупо после всего, что сказала Мими… Эту мысль он отбросил, как японскую раковину, которая где-то внутри него открылась и выдала всю правду: что Сиси уехала в первую очередь потому, что не любила его, и что он повел бы себя как полный идиот, если бы сломя голову попытался…
Но я должен попытаться, должен, должен! – кричал он мне. Я не знал, что ответить.
– Мими, – сказал Альберехт, – мне сегодня же нужны деньги, – он произнес эти слова как заклинание. – Сегодня же, немедленно. Утром я смогу снять деньги в банке, но будет уже поздно.
– Сколько тебе надо? – спросила Мими.
– Пятьсот гульденов.
– Нешуточная сумма. Подожди минутку.
Мими поставила бокал на стол и пошла к Эрику, беседовавшему с братом Альберехта Ренсе и его женой Паулой, сидевшей на широком диване. Альберехт смотрел на Мими, направлявшуюся к дивану, и недоумевал, куда подевалась мать, которой нигде не было видно.
Где же мать? Вышла из гостиной. Но почему? Он съел еще немного салата со своей тарелки, увидел, что мать не возвращается, поставил тарелку и вышел из комнаты. В этот момент зазвонил дверной звонок.
В коридоре Альберехт столкнулся со служанкой.
– Госпожа на кухне?
– Mefrau ist oben im Stock.[15]
И служанка пошла открывать дверь.
По широкой дубовой лестнице с толстой ковровой дорожкой персидского узора Альберехт поднялся наверх.
Дверь в мамину спальню была приоткрыта, и там горел свет, как будто мать хотела, чтобы ему было нетрудно ее найти. Благодаря предчувствию, разбуженному воспоминаниями об аналогичных случаях, он не удивился, увидев ее в полном одиночестве, на канапе, обитом желтым атласом, с рюмкой в руке.
Она сидела на этом предмете мебели, рюмка в правой руке, правая нога на полу, левая вытянута на атласе. Когда Альберехт вошел, она не пошевелилась.
Эта комната была не просто спальней. Кровать, хоть и очень изящная, играла подчиненную роль среди прочей обстановки. Здесь тоже стоял рояль, но поменьше, чем в гостиной. В углу – изысканный мебельный гарнитур, обитый атласом, частью которого и было мамино канапе, равно как и секретер орехового дерева, под старину, и вся остальная мебель. Хрустальная люстра со множеством электрических лампочек в виде свечек освещала комнату благородным неярким светом.
– Что с тобой, мама?
– Я очень беспокоюсь за тебя. Весь концерт испорчен. Во время выступления я мысленно была с тобой, потому так хорошо и пела. Я как бы думала: пусть Берта все еще нет, но он обязательно придет, ведь я так хорошо пою. Даже после антракта я все еще надеялась, что вы придете. Что случилось с Сиси? Не говори мне, что она приболела. Ты же не будешь меня обманывать?
Она сделала глоток и посмотрела на него таким пристальным взглядом, каким только могла. Альберехт увидел, что она пьет виски, и на миг чуть не потерял сознание от зависти.
– Сиси уехала.
– Так я и думала. И уже не вернется?
– Обещала приехать обратно, когда кончится война.
– На ее месте я бы тоже это пообещала. Бедный мальчик, не знаю, что тебе наобещали и с чего ты развесил уши. Но если бы ты был таким же стойким, как я, я бы сказала: налей себе рюмку и забудь эту женщину. Мне тебя так жалко. Но не оттого, что от тебя уходят женщины, за это мужчин нельзя жалеть, а оттого, что ты не знаешь меры, когда пьешь.
– Сегодня я не выпил ни капли, хотя у меня был более чем серьезный повод.
– Когда ты вошел, я учуяла нечто другое.
– Ладно тебе, полкружки пива на голодный желудок. Мама, не можешь ли ты одолжить мне пятьсот гульденов?
– Если у меня есть.
– Всего на один день. Я завтра же верну, положу на твой счет.
– Не надо. Это не горит.
– Да нет, правда.
– Если бы это была правда, ты не стал бы меня просить. Зачем тебе среди ночи пятьсот гульденов? А если ты завтра можешь вернуть их на мой счет, то ты с тем же успехом можешь снять в своем банке для меня. Разве не так, солнышко?
– Ты рассуждаешь совершенно логично, но деньги нужны мне сейчас, завтра уже будут ни к чему.
– Если не секрет, зачем они тебе?
– В четыре часа ночи один мой знакомый отплывает на яхте из Эймейдена в Англию. Я могу к нему присоединиться. Корабль Сиси заходит в порт Ньюкасл. Если я доберусь до Англии на этой яхте, то смогу с ней увидеться.
– А не проще ли утром полететь в Лондон на самолете?
– Самолеты в Лондон не летают в связи с международной обстановкой. А на этой яхте я попаду прямо в Ньюкасл. Мы поплывем как бы за ней следом. Все наверняка получится. И задешево. На самом деле бесплатно. Деньги нужны мне на всякий пожарный.
– Посмотри мне в глаза, – сказала мать Альберехта, – и ты думаешь, что я поверила в эту неправдоподобную байку?
– А что ты тогда считаешь правдоподобным?
– Пока не знаю. Надо поразмыслить.
Он не ответил, словно давая ей время поразмыслить. Так они оба и сидели молча довольно долго.
Он почувствовал себя совершенно пришибленным, когда осознал, что все это – своего знакомого с яхтой, отплытие из Эймейдена – выдумал прямо на ходу. А что будет, размышлял он (но эту мысль внушил ему я), если рассказать матери настоящую причину, по которой он так спешит уехать из страны? Хорошо, мама, расскажу тебе все начистоту. Если бы дело было только в Сиси, я бы так не торопился. Но случилось нечто еще более ужасное, мама. Нет, я не выпил ни грамма. Я просто очень спешил, и поэтому срезал путь, свернул по Марельскому проезду. Мысленно я был неизвестно где. Эта дорожка такая извилистая. Я вообще не видел, что на дорожку выбежала девочка. Я просто не понимал, что задавил ее насмерть. Хотел зачеркнуть происшедшее, вот и положил ее в кусты и поехал дальше. Это ужасно? Если бы я оставил тело лежать на дороге и заявил в полицию, это было бы не менее ужасно. Я не мог пойти в полицию и до сих не могу, не знаю почему. Лучше пустить пулю в лоб, но и этого я не могу, потому что пистолет заклинило.
– Мама, дай мне, пожалуйста, денег!
– Ах, Пузик, дело не в деньгах. Мне надо понять, что для тебя будет хорошо. Посмотри в секретере, есть ли там сколько-нибудь.
Он встал и на негнущихся ногах подошел к секретеру. Повернул позолоченный ключик, торчавший в скважине, и откинул крышку.
– В каком они могут быть ящике?
– Справа сверху.
Альберехт выдвинул ящичек и увидел, что он до половины заполнен фотографиями. Не вынимая фотографий, Альберехт поискал, не лежат ли между ними деньги, но не увидел ничего похожего. Зато заметил, что на всех фотографиях был он сам: карапуз, школьник, студент. В матроске, в купальном костюмчике (половинку фотографии, на которой когда-то был отец, мама отрезала), в лодке с другими гребцами (все студенты).
Это и называется материнская любовь, сказал черт, она прекрасно знает, что в ящичке нет денег, но велела тебе поискать в нем, чтобы ты понял, как заботливо она собирает твои фотографии. Мать, которой фотографии сына дороже, чем деньги, такую мать ведь нельзя оставить одну?
– Денег здесь нет, – сказал Альберехт и задвинул ящик. – В другом месте их не может быть?
– Мне очень жаль, Пузик, но если тут нет, значит, нет нигде.
– Ты спросил это только для порядка, – сказал я ему. – Если мама говорит, что денег у нее нет, то это правда, ты сам знаешь. Если бы были, она бы тебе дала.
Он меня услышал, задвинул ящичек и закрыл секретер, более не наставая.
Мама уже допила свою рюмку.
– Ладно, – сказала она, – в любом случае хорошо, что мы с тобой поговорили наедине. Идем вниз. The show must go on.[16]
С идеально прямой спиной и трезвая, как стеклышко, она вышла из комнаты.
Спускаясь по лестнице вниз, они увидели, что пришли новые гости.
Глядя сверху, Альберехт подумал, что они похожи на ощипанные тушки птиц, уложенные рядком на прилавке мясника. Он был не в силах вспомнить их имена, а некоторых, пожалуй, никогда раньше и не видел.
Отдельные гости стояли в холле первого этажа, но и те, кто находился в гостиной, тоже могли видеть, как Альберехт с матерью спускаются по лестнице, потому что дверь была распахнута. Все взоры были устремлены на них, из уст гостей разом вырвался восхищенный возглас, чуть ироничный: мамино появление действительно напоминало выход дивы, но присутствующие были слишком близко с ней знакомы, чтобы устраивать настоящую овацию. Она спускается по той же лестнице, на которой в детстве училась ходить по ступенькам, подумал Альберехт. К ней долго не шел успех в заграничных концертных залах, а когда ее наконец оценили, она была уже слишком стара, чтобы стать предметом разговоров в лондонском, парижском или венском свете.
И он сам тоже, он тоже учился ходить по ступенькам на этой лестнице. Чему он только не научился в этом доме! Но тому, что оградило бы его от несчастного случая, который, возможно, окажется роковым, он не научился.
Не научился слушать мой голос… Не научился полагаться на волю Божью…
– Да, – сказал мне черт, – а где был твой голос, когда Альберехт ехал по той дорожке? И что ты ему тогда говорил, а он не прислушался? Почему-то в тот момент я от тебя ничего не слышал, ведь ты, видишь ли, сам погрузился в размышления.
Я принципиально не вступаю в спор с чертом, поэтому просто закрыл лицо крылом.
Альберехт рассеянно слушал все эти голоса, раскланивался с новыми знакомыми, пожимал руки, смотрел в глаза, но даже не пытался что-либо запомнить. Кое с кем обменялся парой слов. Из всего этого гула голосов родилось три поддержанных всеми мысли: во-первых, что сегодняшний концерт был самым блистательным в карьере матери. Во-вторых, что она должна спеть для гостей. Для чего еще они здесь собрались! В-третьих, что нельзя ложиться спать, пока не выйдут утренние газеты. Они все вместе прочитают рецензии на выступление Тильды Альберехт-Грейзе, которые наверняка будут поистине триумфальными, лучшими в ее карьере.
Она пела, и Андрис Керевер аккомпанировал ей на рояле.
Альберехт сидел между своей невесткой Паулой и другом молодости Эриком Лосекатом. Хотя все мало-мальски пригодные стулья со всего дома принесли в гостиную, многим женщинам пришлось сидеть на полу. Нескольким мужчинам повезло еще меньше: они стояли, прислонясь к стенам.
Когда закончилась первая песня, Эрик сказал:
– Мими рассказала мне о твоем затруднительном положении. Все в порядке. При себе у меня нет столько денег, но я возьму дома и дам тебе. Договорились? Прямо сейчас я, разумеется, не могу. А то твоя мама примет на свой счет, если я уйду во время ее пения.
– Черт побери, Эрик, спасибо большое.
– Ладно тебе. Но я хотел поговорить с тобой о другом.
После обещания Эрика дать денег мысли Альберехта закрутились вихрем. Что он сделает? Ведь у него не было друга с яхтой, ожидавшей его в Эймейдене. Он знал, о чем хочет поговорить с ним Эрик: о том, что добраться в Англию сейчас нелегко. Что же ему ответить? Он посмотрел на Мими, сидевшую на полу впереди него, наклонился, прикоснулся к ее плечу, встал и уступил ей стул.
– Не надо, не надо!
– Давай-давай, садись!
Альберехт попытался приподнять Мими, но она улыбнулась, замотала головой и приложила палец к губам:
– Тссс!
Он все равно опустился около нее на пол.
– Pardon!
Едва знакомого ему мужчину, сидевшего рядом с Мими, пришлось потеснить.
Мать запела следующий номер, но вот и он кончился. Теперь и Эрик поднялся со стула и наклонился к Мими:
– Я должен кое-что рассказать Берту, давай поменяемся местами!
Мими пересела на его стул.
– В котором часу отошел корабль Сиси?
– Часов в семь.
– Ты видел, как она отплывает?
– Я отвез ее на корабль часа в три. В четыре у меня было заседание.
– Да, конечно. Значит, все это время, пока корабль стоял с грузом в Хук-ван-Холланд, она была одна. Тоже не весело.
– Иначе было никак. Если бы я ее отвез после заседания, мы могли опоздать.
– За это время могло произойти что угодно, а ты и не знаешь.
– Что ты хочешь сказать?
– Ничего, ерунда. Слушай. Теперь о серьезном. У одного моего знакомого живет девочка, то ли приемная дочка, то ли просто так у него живет. И вот сегодня около полчетвертого она пошла отправлять письмо и не вернулась. Без четверти восемь ее еще не было, и десять минут назад тоже.
Альберехт ничего не ответил. Сидел, обхватив руками голени. Потом наконец заставил себя взглянуть на Эрика и сказал скрипучим голосом:
– Может быть, она где-нибудь заигралась.
– В душе я надеялся, что ты скажешь: девочка поплыла в Америку вместе с Сиси.
Скажи ему, что так и есть, прошептал ему на ухо черт. Как же ты раньше не придумал! Это же так логично! Уплыла вместе с Сиси в Америку!
Но я зажал Альберехту уши, и он спросил:
– Как так – в Америку вместе с Сиси?
На них со всех сторон зашикали, двое знакомых обернулись к Альберехту с Эриком и прижали палец к губам: тсссс…
– Потом расскажу дальше, – сказал Эрик.
Пианист заиграл, и мать Альберехта запела вторую песню Шуберта.
Он смотрел на нее, и ему казалось, что это какие-то жестокие бандиты заставляют ее петь. Связали, поставили ногами на горячую плату и грозят поджарить ей ноги, если она откажется петь или будет петь недостаточно красиво. Иначе она бы так не мучила его, не оттягивала бы своим пением тот момент, когда он получит деньги. «Мне надо спасаться бегством, мама, меня уже наполовину разоблачили».
План черта: сказать Эрику, мол, да, правда, Сиси взяла девочку с собой. Если хочешь знать правду, могу рассказать, что поэтому я и хочу догнать Сиси, у нее недостаточно денег. Девочку привели на корабль в последний момент.
Что же это за девочка, если Эрик вообразил, будто Сиси взяла ее с собой в Америку? Кто она такая? Да, кто?
Он понимал, что происшедшее с ним почти неправдоподобно. Он задавил девочку, какую-то случайную девочку на грунтовой дорожке. Но это не случайная девочка. Его лучший друг Эрик знает о ней. Эрик, его лучший друг, догадывается, что с ней случилось.
Между тем его мать продолжала петь. Вон она стоит на цыпочках. И страдает. Страдания вырываются волнами из ее легких, ударяются о ноты, которые она держит в руках, и затем распространяются по всей гостиной. Ее торс поворачивался то вправо, то влево, то снова вправо. Казалось, она прислуживает всем присутствующим и умрет от горя, если кого-то пропустит. «Прекрати!» – хотел он ей крикнуть.
– Она без очков, так что не видит ни одной ноты, – сказал черт.
Пение закончилось. Аплодисменты. Альберехт бросил украдкой взгляд на Эрика, но Эрик слушал кого-то, кто сидел у него за спиной, и не собирался продолжать разговор с Альберехтом. И тогда Тильда Альберехт-Грейзе снова начала петь.
Аплодисменты. Мама поклонилась трижды, как на настоящем концерте, и компанейски помахала слушающим нотами, ведь пела для друзей и близких. Да нет же, Эрик рассказывает ему совсем о другой девочке.
– А где она жила? – спросил Альберехт.
– На Марельском проезде. Шестилетняя еврейская девочка. Ее контрабандой вывезли из Чехословакии. Потом расскажу подробнее.
Еврейская девочка? Значит, он задавил и бросил в кусты еврейскую девочку?
Еще одна песня. На этот раз веселая, о весне (Frühlung), но исполненная совершенно не весело, как это часто бывает у оперных певиц. Наверное, она пела точно так же, когда была им беременна. «Лучше бы не пела и не была бы мной беременна». Еврейскую девочку!
Аплодисменты, еще более продолжительные, чем до этого, а когда они стихли, Тильда Альберехт-Грейзе воскликнула на всю гостиную:
– А теперь мне надо наконец-то выпить!
Она прошла к столу, где стояли салаты, рейнское вино и томатный сок. Эрик толкнул Альберехта в бок.
Я знал, что он собирается рассказать. В том загородном доме у Марельского проезда жила пожилая супружеская пара – евреи, бежавшие из Германии. Муж был ученым и иногда помогал Эрику консультациями в его издательской деятельности. Родители девочки сидели в концлагере в Германии. Она приехала в Голландию примерно полгода назад, Эрик помог ей перебраться через границу и тайком поселил у этих стариков.
– Сиси наверняка знала. Она ничего не рассказывала?
– Нет, ничего не рассказывала.
– Я сказал этим людям, чтобы они не думали сразу же, что произошла трагедия. Девочка могла пойти куда-нибудь вместе с подружками или что-то в таком роде.
– В девяти случаях из десяти именно так и бывает.
– Вот именно, – сказал Эрик, – на самом деле надо бы им позвонить, но у них нет телефона. Может быть, девочка уже давно вернулась домой. Я рассказываю это тебе в основном для того, чтобы прощупать почву, не придумаешь ли ты, как можно узаконить положение этого ребенка. Что-нибудь вроде того, что ты придумал в свое время для Сиси. Может такое получиться?
– Конечно, – сказал за него черт, и он повторил:
– Что-нибудь можно придумать.
– Старикам и так-то нелегко ухаживать за маленькой девочкой, а тут еще сложности из-за ее нелегального положения. Ты должен был видеть этого человека, он полчаса назад заходил со мной поговорить. Он теряется в догадках: думает, что ее могли выкрасть нацисты, чтобы шантажировать ее родителей. Родители сидят в концлагере, но у них вроде как есть вклады в иностранных банках, которые они не хотят отдавать гестапо. Сам понимаешь, мрачных предположений хоть отбавляй. Как ты думаешь, у нас в Голландии может действовать Пятая колонна?
– Конечно, ты считаешь, что может, – сказал черт, – вот эта Пятая колонна и выкрала девочку.
Но я предупредил Альберехта, чтобы он не проецировал свою ложь на других, он меня послушался и сказал:
– Пятая колонна? Мне неизвестно ни одного убедительного доказательства того, что в нашей стране это явление наличествует в значительных масштабах.
– Не знаю, – сказал Эрик. – На меня предположение старика произвело впечатление чего-то правдоподобного, хотя нелепо было бы искать в этом направлении, когда после исчезновения девочки прошло от силы два часа. Было бы лучше всего, если бы она просто вернулась домой.
– Вернулась домой, – повторил Альберехт.
– Тебя эта история не интересует? Но смотри, представим себе, что через два дня девочка все еще не найдется. Старик тоже об этом говорил. Куда заявлять о ее пропаже? Идти в полицию мне кажется делом сомнительным, ведь она жила в Голландии нелегально. Если полиция найдет ее, легче от этого не станет. Что они с ней сделают, пошлют обратно в Германию?
– Нет. Нет, не думаю.
– Но такие вещи происходят, это я знаю точно. Если на белом свете есть такое правительство, которое кровь из носу хочет сохранять хорошие отношения с Гитлером, то это наше правительство. Так ведь?
– Я с тобой категорически не согласен. Как еще вести себя такой маленькой стране, как наша? От Северного моря до немецкой границы всего три часа езды. Мы и охнуть не успеем, если немцы на нас нападут. Знаешь, сколько у нас военных самолетов, готовых к вылету? Меньше двадцати.
– Вот что я хотел у тебя спросить: если девочка не найдется, не будет ли благоразумнее действовать через тебя, вместо того чтобы идти в полицию?
– Я бы так и посоветовал. Скажи это старикам.
Эрик замолчал, успокоившись.
Когда же он наконец встанет, думал Альберехт, когда же он наконец встанет, чтобы сходить за деньгами? Ты представить себе не можешь, Эрик, как ты меня мучаешь тем, что сидишь и сидишь здесь. Сходить домой займет у тебя всего двадцать минут, туда и обратно. Ну принеси же мне эти деньги. Даже если ты пропустишь несколько маминых песен, ничего страшного.
– Ничего страшного? – сказал я. – Задавить насмерть еврейскую девочку и выбросить ее, как мешок мусора, в кусты.
«Эрик, ну встань же и принеси мне деньги», – думал он.
Думать – это слышать свой собственный внутренний голос, размышлял он. Но телепатии между людьми не существует, особенно в решающие моменты нашей жизни, так что Эрик не слышал мольбы, которую обращал к нему Альберехт.
– И еще можно предположить, – сказал Эрик, – что она ушла от них, оттого что скучала по дому. Если это так, то очень обидно и нехорошо, что нельзя обратиться в полицию. Полиция могла бы остановить ее при пересечении границы. А коль скоро полиция не в курсе дела, девочка может отправиться в Германию, навстречу своему несчастью, и никто об этом не узнает. То же самое в том случае, если имеет под собой основу мысль о похищении.
– А нельзя ли разослать по всей стране описание ее примет, указав какое-нибудь фальшивое имя?
– Нет, это невозможно. Она сама расскажет, что на самом деле ее зовут не так.
Каждое слово, которое Альберехт произносил, чтобы казаться таким же, как всегда, обжигало ему горло, прежде чем слететь с губ, но он продолжал говорить, и боль начала ослабевать, потому что черт говорил ему:
– Ты человек не случайный, сам видишь. Пропал ребенок. И первым человеком, кому об этом сообщают, становишься ты. Ты, единственный, знающий достоверно, что произошло на самом деле. Чего ты еще хочешь? Положись на меня, и останешься хозяином положения.
Но я внушал ему другие мысли: господи, Эрик, ну принеси ты эти деньги. Я не такой человек, чтобы закопать одно несчастье под пирамидой других. Эрик, принеси деньги и исчезни!
Но Эрик все еще сидел, и все присутствующие тоже расселись по местам или хотя бы прекратили разговоры, потому что Андрис Керевер, приподняв фалды фрака, опустился на табуретку у рояля и взял ноту ля. Мать Альберехта уже держала в руках ноты. Кто-то кашлянул, кто-то шикнул, затем настала тишина, и Тильда Альберехт-Грейзе заговорила:
– Сейчас я спою несколько песен Брамса и Малера, двух композиторов, которые в Германии, где так любят рассуждать о немецкой культуре, запрещены, за то что они были евреями.
Аплодисменты.
Она запела. Альберехт посмотрел на часы. Было три часа.
Она продолжала петь. Нет, в Эймейдене его не ждала никакая яхта. У него не было друга, который может отвезти его в Англию. Убедить стариков, что девочка уплыла вместе с Сиси в Англию, а затем исчезнуть. Но как это сделать?
Если бы мать или Эрик дали ему денег, где бы он сейчас находился? Альберехт не имел представления. В порту Хук-ван-Холланд? В Эймейдене? Можно ли там просто взять и сесть на корабль? Ему никогда раньше не приходилось этого делать. На грузовой корабль? Может быть, в Роттердаме или Флиссингене больше шансов. Или на рыболовецкое судно? В Катвейке? Или Схевенингене? Ему явилось видение, как он в отчаянии едет на машине вдоль побережья Северного моря от Ден Хелдера до Кадзанда и с надеждой спрашивает каждого встречного, не знает ли тот капитана или шкипера, который в ближайшее время отплывает в Англию, но слышит один и тот же ответ: нет, к сожалению, для вас места не найдется.
Я готов заплатить сто гульденов.
Сто гульденов? Что такое сто гульденов?
Ладно, пятьсот гульденов.
С вами явно что-то не так, раз вы рветесь в Англию сломя голову. Посреди ночи… Похоже, у вас земля горит под ногами, раз вы готовы столько заплатить. А мы не хотим ни во что ввязываться. Почему бы вам не подождать до утра и не сесть на первый рейсовый корабль? Это намного дешевле. Даже на самолете полететь и то дешевле.
«Они правы, – думал он. – К чему такая спешка? Полиция меня не ищет. Никто ничего не видел. Почему бы не подождать до завтра?»
Между тем мать пела. Песни, которые он слышал, должно быть, еще до своего появления на свет. Может ли зародыш слышать? И все напрасно. У меня нет музыкального слуха. Одна и та же песня всю жизнь и даже чуть больше. «Мне надо уехать, Эрик, сходи за деньгами, прямо сейчас». Мать пела и пела.
Перед его взором встает письменный стол, на столе розовая промокательная бумага, на ней самозарядный пистолет калибра 7,5 мм, разобранный на детали с помощью отвертки в швейцарском офицерском ноже. Патрон, который заклинило, торчит наполовину из патронника. Как чудесно блестит желтая медь оболочки с красным глазком капсюля, из которого выглядывает смерть. Заклинило намертво. Многообещающая голубая сталь, но я никого еще из него не застрелил, и себя самого тоже. Неужели вообще не существует способа, чтобы просто взять да испариться?
Аплодисменты. Гул голосов.
Голос Паулы: «Твоя мама. Вот уж кто полон сил. Вечером концерт, а потом еще до четырех утра развлекать у себя гостей. В ее-то возрасте!»
Мать пела, а Андрис Керевер, знаменитый аккомпаниатор с львиной гривой, аккомпанировал, поставив правую ногу на педаль, а левую засунув далеко под табурет.
В это время в музыку начал вплетаться тяжелый рокот самолетов, даже зазвенели окна. Головы слушателей пришли в движение, но мать Альберехта все пела и пела, а Андрис Керевер аккомпанировал. Сразу после его заключительного аккорда послышались три орудийных выстрела. Аплодисменты были короткими, потому что все прислушивались к выстрелам, которые вскоре возобновились. Все встали.
– Чужеземные самолеты, нарушающие воздушное пространство, – сказал Ренсе. – Бьюсь об заклад, что это фрицы и что одного из них наконец-то сбили.
– Стыд-позор, – сказал Эрик, – прямо-таки скандально. Пока идет война, мы стреляем по каждому самолету, нарушающему наше воздушное пространство, а попали, по-моему, всего один-единственный раз. Причем в английский самолет. Это никуда не годится.
Рокот моторов стих, и выстрелы прекратились. Гости бродили по гостиной с бокалами в руках, но там и сям кто-нибудь сидел и спал на стуле.
– Друзья! – воскликнул Эрик. – Не засыпайте еще немножко! Я пошел купить газету.
Направляясь к двери, он сказал Альберехту на ходу:
– Я не забыл. До скорой встречи!
Эрик ушел, и миг спустя послышался звук его отъезжающей машины.
Защебетали птички, и гости-полуночники сказали друг другу:
– Как быстро светает за окном!
– Разумеется, ведь сейчас май. В мае всегда рано светает.
Прошло четверть часа, а Эрик все не возвращался.
– Обычно Эрик умеет раздобыть газету куда быстрее, – сказала Мими.
– Ренсе, – сказала мать Альберехта, – посмотри в почтовом ящике. Эрик так замешкался, что почтальон, быть может, его опередил.
– Эрик должен был бы уже давно вернуться с вокзала, – ответил Ренсе и встал, чтобы проверить почтовый ящик.
– Да, отсюда вокзал – самое близкое место, где можно купить газету.
Ренсе вернулся в гостиную.
– Газеты еще не принесли, но на вокзале какую-нибудь наверняка уже можно купить. Не понимаю, где застрял Эрик. Схожу-ка я сам на вокзал.
– Надеюсь, не пешком? – спросила Паула.
Ренсе ушел, ничего не ответив.
– Если он надумает завести мотор, то это может занять больше времени, чем дойти до вокзала и обратно пешком.
– И все равно «форд» – машина самая надежная, – попыталась Мими утешить Паулу. – Берт, хочешь еще чего-нибудь выпить?
Она направилась к столу, и Альберехт увидел, как она открывает бутылочку томатного сока. Он пошел следом за ней, потому что у стола больше никого не было.
– Бедняжечка Берт. Эрик так запропастился, что тебе эти деньги могут уже разнадобиться. В котором часу открываются банки? В половине девятого? Не понимаю, куда он подевался. Этак ты с тем же успехом можешь дождаться открытия банков.
– Может быть, дома у него денег не оказалось, – сказал Альберехт.
– Может быть. И он поехал в издательство. Да, это займет какое-то время. Там надо отпереть столько дверей, а потом их все запереть.
– Ты не считаешь меня сумасшедшим, что я хочу свалить отсюда сломя голову?
– Почему ты спрашиваешь? Думаешь, Эрик нарочно не спешит принести тебе деньги?
– Нет, не думаю.
– Ты очень подозрительный.
– Поверь мне, Мими, никакой я не подозрительный, я просто очень несчастный. Можно считать, невменяемый.
– Если ты поговоришь минутку-другую с Сиси, это может тебе помочь. Но мне кажется, нельзя рассчитывать, что она к тебе вернется. Эрик рассказал тебе о еврейской девочке?
– Да.
– Ты можешь чем-нибудь помочь?
– У меня есть возможность установить, где она.
Его последние слова заглушил громкий голос Ренсе, вбежавшего в гостиную с газетой в руке. Дверь за собой он не закрыл. Входную дверь он тоже не закрыл, так что вместе с ним в дом ворвался поток холодного воздуха.
– Слушайте все! Началась война! Да, бога в душу мать, война! Эти гады напали на нас! Высадились с парашютами, уроды!
– Как война?
– Это написано в газете? – спросила мать.
– Нет, это передают по радио. Война! В газете ничего не написано, газеты были уже набраны. Это произошло только-только. Я услышал на улице. Если не веришь, пойди посмотри. Если бы у тебя было радио, ты бы сама услышала. Вонючие фрицы. Только что передали по радио. Они высаживаются с парашютами, причем в нидерландской форме. Частное слово! Напали на нас, когда все спят!
В это время над домом снова пролетело несколько самолетов, так низко, что рев моторов ворвался в гостиную с силой взрыва. Мать разрыдалась.
Некоторые гости пошли на улицу. Другие столпились вокруг Ренсе. В измятом фраке, с развязавшимся артистическим платком на шее, он был похож на церемониймейстера, распоряжающегося на похоронах. Газета – как программа церемонии, но эту программу он знал наизусть, поэтому не заглядывал в нее.
Я видел, как на улицу высыпал народ. Двери всех домов в округе открылись, и на улицу высыпал народ. У соседей, годами живших бок о бок и до сих пор никогда не здоровающихся друг с другом, наконец-то появилась общая тема для разговора, предмет, который всех одинаково интересовал и о котором они все одинаково мало знали. На скорости, значительно превышавшей дозволенную, по пустому асфальту неслась машина. На ступеньках по обеим сторонам от кабины стояли солдаты, зажав под мышкой винтовки. Люди на улице принялись кричать им, о чем-то спрашивать, но солдаты промчались мимо, ничего не сказав; казалось, на вопрос, правда ли началась война, их молчание было более убедительным ответом, чем какие бы то ни было слова.
В конце концов только Альберехт с матерью остались там, где были до этого, а именно в гостиной. Газета лежала развернутая, на полу, простодушно сообщая всем свои совершенно незначительные новости, не имевшие отношения к войне.
– У меня такое чувство, – всхлипывала пожилая певица, – что я пела особенно хорошо из-за того, что это было в последний раз.
Альберехт ничего не сказал, и она высморкалась.
– Берт, – сказала она, – посмотри, пожалуйста, в газете, что они пишут о моем концерте. Ты хотя бы спокоен. А все остальные с ума посходили из-за этого радио. Я рада, что при расставании отдала наше радио твоему отцу.
Альберехт поднял газету, такую же напрасную и неуместную, как пение птиц, послышавшееся после рокота самолетов. Но все же он увидел в ней нечто, чего не мог пропустить, не читая. Свое собственное имя.
– Радио! – продолжала его мать. – Я с самого начала возненавидела все эти новшества. Радио убивает настоящую, живую музыку. Все, кому не лень, слушают трансляции концертов, не вставая с собственного стула, вместо того чтобы нарядно одеться и пойти в филармонию. Это восстание масс. Сидят у радио в домашнем. Неудивительно, что западная цивилизация терпит крах.
Лишь пять лет назад мать согласилась дать концерт в какой-то радиостудии, перед микрофоном. Больше такого не повторялось, потому что ее больше не приглашали.
– Ну как, Пузик, нашел?
Глаза Альберехта читали заголовок:
После суровой обвинительной речи прокурор требует освобождения подозреваемого в оскорблении главы дружественного государства.
И ниже курсивом: Загадочная речь прокурора Альберехта.
– Может быть, они по такому случаю вообще отказались от рубрики «Искусство»? – спросила мать.
Альберехт покорно перевернул страницу.
– Вот она, – сказал он без воодушевления.
– Прочитай мне вслух, Пузик. Я забыла очки наверху.
– Блистательный концерт талантливой певицы, – читал он. – В высочайшей степени интересный концерт.
Колоратурное сопрано Тильды Альберехт-Грейзе, которое в последнее время, пожалуй, слишком редко можно услышать. Опытная певица, созданная для сольных выступлений. Интереснейшая, сугубо концертная манера исполнения. С точки зрения темперамента. Подчиняющая эмоциональность. Выходит за рамки камерной музыки.
– Как все правильно! – прервала его мать. – Впервые за все эти годы обо мне пишут в тональности, которая устраивает меня на сто процентов. А что там дальше, Пузик?
– Уникальное событие высочайшего художественного уровня. Потрясающая интерпретация. Мастерское выражение сконцентрированных чувств. Изысканный вокальный материал. Захватывающее дух фортиссимо глиссандо от самых нижних нот до самых верхних. Величественное…
– Величественное? Прямо так и написано, Берт, величественное?
– Главное событие нынешнего музыкального сезона, – читал Альберехт. – Искусство с большой буквы. Исполнительское мастерство с большой буквы. Технически сложные пассажи преодолеваются с легкостью, свидетельствующей о том, до какой степени певица овладела чисто ремесленными аспектами вокального мастерства.
Мать громко всхлипнула, встала, взяла со стола салфетку. И поднесла ее к глазам.
– И это написано в газете, вышедшей именно сегодня – в день, когда началась эта проклятая война. Подожди-ка, Пузик, подожди-ка!
Она снова встала, поспешила прочь из комнаты, не закрыв за собой дверь.
Мать прошла по коридору к входной двери, вышла на улицу, оставив и эту дверь открытой. Альберехт наклонился вперед, все еще держа газету в руке.
– Ренсе, Паула! – услышал он голос матери под окнами.
Он сидел на стуле с ощущением, какое бывает, когда затекла нога, но у него это чувство было во всем теле. Он слышал, как мама два раза позвала его брата под окном. С глубоким вздохом поднял глаза и увидел на столе среди пустых рюмок и грязных тарелок наполовину полную бутылку виски. Схватить бутылку и выпить разом до дна? Как раз в это мгновение снова послышались выстрелы зениток и рев моторов усилился настолько, что казалось, будто раскалывается земная кора. А потом снова стал тише.
Мать вернулась в комнату с Паулой, Ренсе и Мими. Альберехт смотрел на них, ни слова не говоря. Мими, стоявшая у матери за спиной, указала на нее с таким лицом, будто что-то хотела ему сообщить, но он подумал: «Я не понимаю, что она имеет в виду» и промолчал. Ренсе взял бутылку виски и наполовину наполнил три рюмки.
– Может быть, ты прочитаешь еще раз, Пузик? Это именно та рецензия о моем концерте, какой я ждала всю жизнь.
Она сделала большой глоток виски и осталась стоять с рюмкой в руке. Ренсе свою порцию уже допил и налил себе еще.
Альберехт начал читать с первого попавшегося ему на глаза предложения:
– Теплокровная хроматическая гармония. Окрыленность поразительным жизнелюбием. Свобода духа, которая благодаря безукоризненной внутренней дисциплинированности обезоруживает слушателя. В каждом исполненном произведении своя неповторимая атмосфера, скупость в средствах и мощный драматический эффект. Возможно ли приблизиться к идеалу еще более? Кристально чистое интонирование и доведенный до совершенства вокал.
– Такую рецензию ты мог бы читать повыразительнее! – прервала Альберехта Паула.
Но он продолжал тем же тоном:
– Обжигает душу и манит, скупые средства и драматический эффект, огонь и нежность, жизнелюбие и чувственность. Настоящее, неподдельное вдохновение. Рейнберт ван Оммен.
Альберехт медленно сложил газету, не слушая, что говорят, перебивая друг друга, мать, Ренсе, Мими и Паула.
– Отдай мне газету, Пузик. Я хочу, чтобы меня похоронили с этой газетой.
Она допила свой виски.
– Эрик все еще не вернулся? – спросил Альберехт и встал.
– Не знаю, где он мог так задержаться, – сказала Мими.
– Я и не думал, что ты знаешь. Пойду его поищу. Он может быть у себя в издательстве?
– Я же тебе только что так и говорила, скорее всего он на работе.
– Олл райт.
– Ах, Берт, это очень неразумно! – воскликнула мать. – Подожди спокойно, пока он придет.
Ступая так, словно ноги у него сделаны из мокрой глины, Альберехт вышел из комнаты, пересек наискось коридор и вышел в гардеробную.
В этом помещении, хоть и довольно просторном, не могла одновременно аккуратно висеть вся верхняя одежда и шляпы стольких людей. На некоторых крюках висело по пять пальто, а некоторые вещи лежали стопками прямо на полу. Поскольку большинство гостей пришло позже Альберехта, он принялся искать свой плащ на вешалке, снимая с крючков пальто, висевшие верхним слоем, и укладывая их на пол.
Мысль уйти из дома без пальто и шляпы пугала его и не покидала ни на минуту. Страх, что тем самым он повел бы себя не так, как обычно, заставляла продолжать поиски до тех пор, пока он не нашел свой плащ из искусственной замши шоколадного цвета. Его шляпа оказалась в самом низу, сверху на нее были надеты две другие.
Черт нашептывал ему: «А что если взять другую шляпу? Когда-то ты читал сказку о человеке, надевшем чужую шляпу и ставшем другим человеком. Может быть, это именно то, что тебе надо, – стать другим? Не хочешь попробовать?»
– Не делай этого, – сказал я, – это все сказки, в которые нормальные люди не верят.
Так что он положил другие две шляпы обратно на место и прошел в коридор, собираясь попрощаться с матерью, Мими, Ренсе и Паулой. Но как раз в тот момент, когда он стоял на самой оси коридора, раздался страшный удар. Альберехт побежал на улицу. Люди, размахивая руками и крича, помчались в бомбоубежище. Другие пытались прятаться в подъездах домов. Над домами на противоположной стороне бульвара в небо победоносно поднялся столб голубого дыма, потащивший за собой, как показалось, второй взрыв.
Теперь мысли Альберехта остановили свой бег или, может быть, побежали так быстро, что их стало не отличить друг от друга и от того, что он делал. Он открыл машину, сел, завел мотор и уехал.
Послышался вой сирены воздушной тревоги. Люди спешили вернуться в свои дома. Некоторые, находившиеся вдали от дома – почтальон, разносчик газет, – прижимались к ближайшим фасадам.
Альберехт ехал дальше. Теперь на улице ничто не двигалось, и небо было чистым. Столб дыма остался позади. Надеть другую шляпу. Тогда уж и другой плащ. Замаскироваться под другого человека. Почему он этого не сделал? Может быть, стоило это сделать? Что могло быть проще в том гардеробе. От страха, что он упустил великолепную возможность, нога соскользнула с педали газа и машина снизила скорость. Вполне возможно, что кто-нибудь его все-таки видел, когда он стоял на Марельском проезде и когда бросил девочку в кусты.
– Дурак, – закричал я, – а если бы хозяин шляпы увидел, как ты выходишь на улицу в его шляпе?
Господин Альберехт, вы ошиблись… это моя шляпа…
Ты и сейчас все еще рассыпался бы в извинениях.
Что за детский сад – переодеться в другого. Что бы сказал Эрик, если бы увидел Альберехта в чужой шляпе и чужом пальто?
И Альберехт прибавил газу и поехал чуть быстрее. Включил радио. Люди, прижимавшиеся к стенам домов, указывали на него пальцами. Пытались ему что-то объяснить. Ему надо остановиться, вот что ему пытались объяснить. Нельзя ехать, когда воздушная тревога. Но небо оставалось голубым, в нем не было видно ни одного самолета, да и зенитки, насколько ему было слышно, перестали стрелять. Из радио не доносилось ни звука, так что он его выключил. А потом тотчас же включил, иногда это помогало. А сейчас не помогло. Его мысли, которых он постыдился бы, если бы прочитал написанными на бумаге, снова утонули в тупоумных фантазиях, о коих люди ведут сами с собой внутренний разговор, когда их не осеняет истинное вдохновение:
Может быть, Эрик знает больше, чем говорит? Может быть, приемный отец девочки рассказал, что, вскоре после того как она понесла письмо в почтовый ящик, на проезде был замечен человек в коричневом плаще? Эрик не мог видеть, как Альберехт вошел в этом плаще в мамин дом, и не знал, какую верхнюю одежду он снял при входе. Хотя нет, когда Хильдегард приняла у него плащ, Эрик стоял в коридоре. И вообще, сколько он уже носит этот плащ? Достаточно долго, чтобы Эрик его в нем видел. Достаточно заметный плащ, Эрику наверняка запомнился. А шляпу эту он носит еще дольше. Но очень маловероятно, чтобы его могла выдать шляпа. Сотни мужчин носят в точности такие же. Если представить себе, что знакомый Эрика, этот еврей-ученый, который порой консультирует его по поводу издаваемых книг, видел на дороге среди кустов человека в плаще шоколадного цвета…
Черт сказал:
– Тогда есть вероятность, что он рассказал об этом Эрику. Девочка очень долго не возвращалась, и я вспомнил, что видел там мужчину в коричневом плаще. А Эрик, увидев тебя вечером в передней у твоей матери, подумал про себя: какое совпадение… у моего старого друга Берта тоже коричневое пальто.
Проговаривая про себя эти слова, Альберехт содрогнулся, но черт, который всегда говорит правду, кроме тех случаев, когда хочет человека поддразнить, неумолимо продолжал:
– Тебе нет смысла жалеть о том, что в гардеробе ты не надел чужого пальто. Это было бы нелепейшим поступком, который можно совершить только в отчаяния, потому что тебя бы разоблачили в полминуты, ведь твой плащ немедленно нашел бы тот человек, чье пальто ты надел. Но ты, конечно, мог бы поехать домой и переодеться. Или просто снять этот плащ и ехать дальше в костюме, ведь вон какая славная погода. Но подумай хорошенько: тебе надо ехать к Эрику, который ищет для тебя 500 гульденов. Эрик заметит, что ты снял плащ. И это дополнительно напомнит ему о «человеке в коричневом плаще».
А если Эрик увидит его в том виде, как сейчас, а именно в коричневом плаще, это не станет дополнительным напоминанием?
– Несчастный, – сказал я, – то, что ты сделал, уже страшное преступление. Зачем придумывать нелепые способы оттянуть миг разоблачения?
При этих моих словах он вздрогнул и ответил:
– Если бы не надо было во что бы то ни стало увидеться с Сиси, я бы заявил обо всем в полицию.
От подобных признаний душа моя тает, поэтому я поспешил его утешить и сказал:
– Чудик! Даже если приемный отец девочки видел человека в коричневом плаще и рассказал об этом Эрику, даже в этом случае у Эрика могла бы возникнуть только одна мысль: может быть, у этого таинственного человека точно такой же плащ, как у Берта. Но мысли о том, что ты и есть тот самый человек, у него нет и в помине! И ни один ангел не навеет ему эту мысль. Потому что я твой ангел-хранитель, а не Эрика. Поверь мне.
И он мне поверил, и когда сирены сообщили об отбое тревоги, он подумал: «Уф, миновало».
Через некоторое время его машину остановил выскочивший откуда-то полицейский с поднятым жезлом. Увидев его, Альберехт резко вывернул руль, одновременно ударив по тормозам, и машина встала под углом к тротуару. Агент подбежал к нему, рывком открыл дверцу и рявкнул:
– Скажите «Схевенинген»!
– Схевенинген, – сказал Альберехт.
– Можете ехать, – сказал полицейский.
– Но почему я должен был сказать «Схевенинген»?
– Вы что, не слушаете радио?
– Нет, я не слушал радио.
– Всю нашу страну наводнили немцы, маскирующиеся под голландцев. А сказать слово «Схевенинген» не сумеет ни один иностранец. Так их легко можно выявить. Проезжайте, проезжайте!
«Я хотя бы настоящий голландец», – подумал он с гордостью и завел мотор. Но мысли его снова приняли невеселое направление. Наверное, ему будет не найти Эрика, или Эрик стоял на том самом месте, куда упала бомба, или Эрик даст ему денег, но переправиться в Англию окажется невозможным. Война. Означает ли это полную изоляцию всей страны от внешнего мира? А если нет, то выпустят ли его пограничники, если по его паспорту ясно, что он – прокурор? Вполне может быть, что и нет. Он должен будет указать причину своего отъезда в Англию. С таким ощущением, будто он ищет иголку в стоге сена, Альберехт пытался придумать причину. Поручение. Поручение вышестоящего лица. Какое такое вышестоящее лицо? И в чем должно состоять это поручение?
Ему в голову приходили только такие высокопоставленные лица, которые упали бы от удивления, если бы он попросил у них разрешения покинуть страну со специальным поручением, но ничего другого он не мог придумать.
А счастье было так возможно! Это было так просто сделать! Уплыть вместе с Сиси, и все. Ради нее все бросить. Все-все? Он и так один, как перст. А так был бы вместе с ней в Ньюкасле. Счастливым человеком. А не преступником. К вечеру, думал он как настоящий пораженец, к вечеру немцы займут уже всю страну. Скоро вернутся их самолеты и разбомбят ровно столько городов, сколько им захочется.
После отбоя воздушной тревоги улицы остались почти такими же пустыми. Было полпятого. Он свернул за угол и выехал на площадь, где стоял высокий дом; весь четвертый этаж был занят издательством Эрика. На каждом окне этого этажа неоновыми буквами написано слово «книга». Сейчас электричество было выключено, и буквы поблескивали, как склизкий след от гигантской улитки.
КНИГА КНИГА КНИГА КНИГА КНИГА КНИГА КНИГА
Издательство Эрика называлось ООО Книга / Книга.
Как будто имена существительные в нидерландском языке не имеют формы множественного числа. Одна книга, два книга книга, три книга книга, много книга книга.
Альберехт остановился перед входом в здание, рядом стоял красный «дюзенберг» Эрика. Выйдя из машины, Альберехт заметил, что правая дверца машины открыта и на переднем сиденье лежит стопка папок с бумагами.
Ворота этого офисного здания закрывались складной металлической решеткой, которая сейчас была наполовину открыта. На земле рядом с ней тоже лежала стопка папок. Знак, что внутри кто-то есть. Эрик? Конечно, вот он показался в полумраке ворот. Он нес стопку папок.
– Берт! – крикнул он. – Вот ведь дрянь! Война! Уроды!
Он остановился напротив Альберехта, все еще держа папки в явно усталых от работы руках, с каплями пота на лбу.
– Ведь я тебе говорил! А ты не хотел верить. Их самолеты-амфибии садятся на Маасе. Ты слышал радио?
– Как я мог слышать радио?
– Но у тебя же в машине есть радио?
– Оно всегда ломается, когда передают что-то важное.
– Я послушал немного дома. Их доставляют в Голландию на бронепоездах. Они спускаются парашютами, переодетые монахинями. Во всей стране кишмя кишит предателями.
– Но англичане же нам помогут?
– Вроде как мы уже обратились к ним за помощью. И к французам тоже. Очень может быть, что главное сражение в этой войне произойдет на территории Нидерландов. Теперь или никогда. Я всегда так думал.
Он прошел к своей машине, положил бумаги на переднее сиденье, вернулся и задвинул железную решетку.
– Я закрываю лавочку, – торжественно произнес он. – Двадцать лет в авангарде. Пока Гитлера не повесят на самом высоком дереве, Эрик Лозекат не будет издавать книг. Черт побери, замок не закрывается.
Он вынул из замка ключ, сунул другой, но и этот не повернулся. Эрик его вынул и положил всю связку ключей в карман брюк.
– Пусть останется открытой. Не я один арендую здесь офис.
«Эрик, где же деньги?» – спросил про себя Альберехт.
Эрик достал из кармана пачку сигарет, другой рукой вытер лоб. Предложил сигарету Альберехту.
– Покуришь за компанию? Или остаешься стойким в эти суровые дни?
Альберехт отрицательно покачал головой.
– Честное слово, Берт, я тебе очень сочувствую, но какое счастье, что Сиси вовремя навострила лыжи, скажи. Представь себе, что ее корабль отплывал бы на каких-то двенадцать часов позже, на каких-то двенадцать часов!
Альберехт начал замечать: Эрик ни капли не удивился, что он приехал сюда следом за ним, вместо того чтобы дожидаться в доме у матери, как договорились. Или Эрик был в слишком сильном смятении, чтобы спросить себя: что здесь делает Берт? Или отсутствие удивления объяснялось тем, что Эрик уже сам нашел ответ на этот вопрос?
Слабенький голосок внутри Альберехта повторил вопрос почти плача: «Эрик! А пятьсот гульденов? У тебя есть для меня пятьсот гульденов? Эрик! Сиси, как ты говоришь, навострила лыжи вовремя. А я? Я должен здесь сидеть со своими тупыми лыжами? Я не могу жить без Сиси, Эрик!»
Эрик наклонился над стопкой папок, лежавших на тротуаре у входа в конторское здание. Навострила лыжи. Но чиновник моего уровня не имеет на это права, поэтому Эрик молчит насчет денег.
Эрик указал подбородком на стопку папок, которую держал обеими руками, и сказал:
– Нацисты дорого бы дали за эти документы.
Затем положил бумаги в машину и захлопнул дверцу.
– Ну что, – сказал он, – я поехал за Мими. Тебе в ту же сторону, или хочешь к себе? Я бы на твоем месте постарался поспать пару часов. У тебя будет много работы! Пусть переловят всех предателей, а тебе я разрешаю поставить их к стенке.
– Сомневаюсь, что получится.
– Представь себе, что у меня вчера были с собой пятьсот гульденов и что ты сейчас плыл бы на яхте в Англию. Тебя бы сразу заподозрили в предательстве. Или дезертирстве. За тобой послали бы самолет, чтобы потопить яхту. Черт побери, ты чудом остался цел!
Альберехт взглянул на часы. Примерно через три часа откроются банки. Было ясно, что Эрик не даст ему пятьсот гульденов. Во рту появился отвратительный вкус. Он готов был на кражу со взломом ради мятной пастилки. Какой смысл стоять болтать здесь?
– Ладно, Эрик, я поехал. До свидания, и держись! Мы все должны держаться, насколько можем.
– Это точно. Но что я хотел еще сказать. Я только что заезжал к Лейковичу. Девочка так и не нашлась.
– К Лейковичу?
У него задрожали колени.
– Да, я же тебе рассказывал. К нашему эксперту по религиозному искусству. Приемному отцу той малышки, что пошла отправлять письмо. Они не ложились спать и ждали ее всю ночь.
– Ты к ним заехал?
– Сразу, как только услышал, что началась война. Что ты посоветуешь?
Альберехту ничего не приходило в голову, а черт молчал, и я тоже.
– Давай, Том Пус, породи мысль! Придумай что-нибудь умное![17]
– Я думаю, – сказал Альберехт, глядя в землю.
– Все-таки обратиться к комиссару Буллебасу? – спросил Эрик.[18]
Какой-то черт – они все время меняются, не бывает, чтобы человека подолгу сопровождал один и тот же, – сказал ему: «Отговори его идти в полицию. Эта еврейская девочка жила в Голландии по секрету от властей. Если заявить о ее пропаже в полицию, то ее приезд в Голландию перестанет быть тайной, что будет иметь последствия для семьи Лейковичей».
Но я сказал: «Надо быть честным. Отправь его в полицию! Так должны поступать порядочные люди. Если полиция обнаружит что-нибудь, указывающее на твою причастность, ты должен будешь признаться. А может быть, стоит признаться прямо сейчас?»
Альберехт сказал:
– Я не вижу никаких других вариантов, кроме как обратиться в полицию; если скажешь, я задействую полицейских.
– Ты что, Берт, – сказал Эрик, – пошевели мозгами. Полагаешь, ты как государственный служащий обязан думать так же прямолинейно, когда на дворе война и весь мир перевернулся? Попробуй вникнуть в положение вещей как человек, а не робот. Эти люди – евреи-иностранцы, как ты не понимаешь. Если мы заявим в полицию, то это наверняка плохо кончится. Думаю, наша армия продержится не больше двух дней. И чем тогда будет заниматься нидерландская полиция?
– Нидерландская полиция продолжит заниматься своей работой, – произнес Альберехт. – Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны утверждает, что оккупационные власти не должны вмешиваться в деятельность гражданских институтов в оккупированной стране.
– Елки-палки, Берт. Что за иллюзии. Вспомни, что сделал Гитлер в Австрии, Чехословакии, Польше, да и вообще повсюду. Международные договоры! Гаагская конвенция! Законы сухопутной войны! Для фрицев это всего лишь бумажки – порвать и скомкать. У меня слов нет, чтобы выразить, что я думаю про твой оптимизм.
– Гестапо в нашей стране пока еще нет.
– Ну-ну.
– Нам на помощь придут союзники.
– Норвегии они тоже пришли на помощь. Но норвежцам от этого легче не стало.
– Но учти, что Норвегия далеко, а для помощи Нидерландам британский военно-морской флот сможет действовать, почти не удаляясь от своей базы.
– Если морские волки британского капитализма сочтут такую помощь выгодной для себя. Жди и надейся! Но теперь серьезно. Что нам делать? Дельный совет можешь дать только ты. Иначе зачем ты работаешь государственным обвинителем?
– Зачем? Но я же не могу взять и выдвинуть обвинение против неведомой тайной организации. Если девочку похитили, то полиция едва ли что-то сможет сделать. В последние месяцы во всех частях страны кто-то запускал сигнальные ракеты, когда в темноте налетали немецкие самолеты. Легавые из кожи вон лезли, чтобы выяснить, кто и зачем это делает. И ни единого раза никого не застукали. Газеты писали, что ракеты были частью психологической атаки. Но так и неизвестно, подавались ли ими какие-то сигналы. В любом случае ясно, что если у немцев здесь есть группы по подготовке саботажа, то организованы они отлично. Такой институт, как Нидерландская полиция не имеет опыта борьбы с подобным родом деятельности.
Такой вот логичный и правдоподобный ответ. Это я ему нашептал, а он повторил за мной, не задумываясь. Таковы люди. Таков был этот человек.
Аллилуйа. Еще вчера, до объявления войны, был охвачен отчаянием.
– А теперь концы в воду, вон как отбояривается от причастности к исчезновению девочки, – сказал черт.
Однако Эрик продолжал настаивать.
– Но мы можем попытаться выяснить, куда она делась? Прочесать местность? Разыскать тех, кто видел ее последним?
– Кто видел ее последним? Не подключив полицию, никого не найдешь. Но ты же не хочешь подключать полицию.
– Нет, конечно.
– Так чего же ты хочешь?
– Чего я хочу! Тебе больше нечего сказать? Тебе наплевать? Ты такой умный, думаешь, раз Сиси уехала, то пусть все евреи идут к чертовой матери? Ты так думаешь?
– По-моему, ты немного разнервничался, – сказал Альберехт, преодолевая судорогу, сводившую нижнюю челюсть. – Признаю, я тоже нер-нервничаю. А кто сейчас не нервничает?
– Прости. Но я все равно не понимаю, как ты можешь оставаться равнодушным в таком важном деле.
– Если ты мне объяснишь в точности, чего ты от меня хочешь, но ты и сам не знаешь.
– Я же не могу принять решение, что делать? Это ты специалист в полицейской области, а я нет. Я непосвященный. А ты знаешь все лазейки.
– Не преувеличивай. Обыкновенный полицейский бригадир знает больше меня.
– Закончим этот разговор. Сам решай, как поступать. Но я только хочу, чтобы ты знал все, что знаю я.
Эрик сунул руку во внутренний карман и достал записку.
– Я записал ее приметы.
Он смотрел в записку, извлеченную из кармана, но написанное знал, по всей видимости, наизусть.
– Зовут Оттла Линденбаум. Родилась 2 января 1934 года. Одета в клетчатое пальтишко цвета беж, спортивные носочки, в волосах розовый бант, на ногах красные туфли.
– В клетчатое пальтишко? – переспросил Альберехт.
– Что-что? – не расслышал Эрик. – Ты весь дрожишь. Что с тобой?
– Я спросил: в клетчатое пальтишко?
– Да. Они уточнили: в мелкую клетку. Нооо… ты позеленел, как привидение.
– Пальтишко какого цвета?
– Беж, светлый беж. Тебе плохо?
– Я не болен. Немного проголодался и совсем не спал.
– Не буду тебя задерживать, – Эрик снова посмотрел в записку. – Волосы светло-русые, нос прямой. Внешность совершенно не еврейская.
Эрик оторвал глаза от записки.
– Ты ее когда-нибудь видел? – спросил Альберехт.
– Нет. На шее у нее, возможно, была золотая цепочка с шестиконечной звездой Давида. Ее родители были убежденными сионистами. Лейкович, впрочем, тоже сионист. Ты слышишь, что я говорю, Берт? У тебя такой вид, будто до тебя ничего не доходит.
Он взял Берта за локоть.
– Возьми эту записку. И советую пару часиков поспать.
Эрик спустился с тротуара на проезжую часть, обошел свой «дюзенберг», открыл левую дверцу, чтобы сесть на водительское место; его голова уже почти скрылась в машине, когда он снова встал и развернулся всем корпусом к Альберехту.
– Берт! Как ты знаешь, я в свое время уклонился от военной службы. И отсидел за это два года. Угадай, что я собираюсь сделать? Пойду запишусь в армию.
– Но ты же не умеешь держать винтовку.
– Я готов задушить их голыми руками.
Альберехт сидел за рулем, держа в руке записку, врученную ему Эриком, и ничего не делал. Он слышал, как Эрик заводит двигатель. Затем настала тишина. Альберехт в неподвижности ждал момента, когда Эрик наконец-то уедет. Эрик завел мотор еще два раза и только после этого уехал. Но и тогда Альберехт еще долго сидел, не шевелясь.
Бежевое пальто? Но ведь это была шерстяная ткань грязно-желтого цвета. Или эти люди не видели, какое пальто она надела, выходя из дома? Но могли бы и проверить задним числом, какие предметы одежды остались висеть дома. Или они дальтоники? Может быть, речь идет все-таки о другой девочке? Светло-русые волосы? А у той девочки волосы были светло-русые? А какого цвета у нее были глаза?
Он развернул записку, но не смог разобрать почерк Эрика. «Зачем мне стараться? Я эту девочку видел, а Эрик нет. Он просто записал то, что понял, про вещи, о которых сам не имеет представления, как пишет большинство писателей».
Альберехт почувствовал, как глаза его наполняются слезами. Мысленно он захныкал, как дитя малое: «Господи, ну почему же такое случилось». Его рука с запиской так задрожала, что невозможно было прочитать даже аккуратно написанные слова.
Листок был исписан карандашом в разных направлениях, кончик карандаша в нескольких местах прорвал бумагу. Золотая цепочка с шестиконечной звездой? Он не видел ничего подобного.
– Сложи записку во много раз и постарайся сделать так, чтобы она потерялась, как потерялась девочка. Что тебе мешает? – сказал черт.
Но я сказал:
– Ты уже чудовищно бездушно бросил в кусты саму девочку. Неужели ты хочешь уничтожить даже ее описание? Не сегодня-завтра ты снова встретишься с Эриком. Он наверняка опять заговорит о том же, и выяснится, что ты не помнишь ее приметы. Что скажет Эрик?
Трясущимися руками он спрятал записку в жилетный карман. Это я-то не помню ее приметы, подумал он. Я знаю их лучше, чем Эрик. Пальтишко было грязновато-желтого цвета, а не светло-бежевого.
– Не падай духом, – сказал черт, – может быть, ты задавил другую девочку.
Ну и ну! Хитрости, на которые пускается черт, не были бы такими отвратительными, если бы люди не попадались на его самые примитивные ложные аргументы. Рука Альберехта перестала дрожать. На душе стало чуть легче. Другой цвет пальтишка в описании примет он воспринял как подтверждение, прямо-таки доказательство того, что совершенное им преступление менее ужасно, чем он думал до сих пор.
– Глупец! – заорал я ему в ухо. – Твоя вина от этого не становится меньше. Какая разница, кто прав: приемные родители, которые говорят о бежевом пальто, или ты, которому от волнения померещилось желтое пальто!
Он вспомнил, что до сих пор не осмотрел свой автомобиль внимательно, чтобы удостовериться, что от наезда на девочку на нем не осталось следов.
Стиснув зубы и морщась так, как будто он откусил от какого-то ядовитого плода, Альберехт открыл дверцу машины и выставил ноги наружу.
На площади было тихо-тихо. Только стая скворцов перелетала с дерева на дерево. Освещение было такое красивое, какого он, сова по природе, почти никогда раньше не видел. Разве это не утешение, нашептывал я ему, такое ясное небо в такой злополучный день, как сегодня? Ведь жизнь стала бы невыносимой, если бы еще и небо хмурилось. Он сделал глубокий вдох, подошел к правой передней фаре машины и присел на корточки, чтобы получше осмотреть бампер, крыло и радиатор. Спереди на машину налипло множество расплющившихся мошек, вокруг каждого насекомого высохшая капелька крови. На бампере не бросалось в глаза ничего особенного. На крыле он заметил несколько пятнышек ржавчины. На краске две царапины, которые еще не успели покрыться ржавчиной. Попытался вспомнить, видел ли он эти царапины раньше. Но не вспомнил. В конце концов решил – или вообразил, – что они были здесь уже неделю назад.
Потом он осмотрел радиатор и увидел, словно реализовалось его предчувствие, что в решетке застряла большая пуговица из темно-коричневого материала. Пуговица от пальто. Он вытащил ее и стал рассматривать, держа двумя пальцами. Это была пуговица не с четырьмя дырочками посередине, а с двумя. Чья-то заботливая рука в свое время пришила ее к тому пальто, от которого она оторвалась. Рука матери, сказавшей: иди сюда, деточка, я пришью тебе к пальто пуговицу. Мать вдела в иголку самые крепкие нитки, какие только нашла, и пришила к ткани, на ножке из ниток. Вот так, теперь не скоро оторвется!
И пуговица не оторвалась. В роковой час нитка выдержала, но пуговица вырвалась вместе с клочком ткани.
Светло-бежевой ткани.
Светло-бежевой.
– Это правда, – пробормотал он. – Надо убираться подальше.
– Дважды глупец, – сказал я, – убираться подальше, когда на твою родину напал враг, какое же это раскаяние в содеянном! Иди в полицию!
– Явившись в полицию с повинной, я лишусь своего авторитета и не смогу больше приносить пользу отечеству.
Впрочем, что произойдет, если он сам явится в полицию? Арестуют ли его? Разумеется, нет.
– Ведь это был несчастный случай. Явиться с повинной в полицию, а потом уехать в Англию, избавившись от этого груза на совести, вот что ты должен бы сделать, будь ты поумнее, чем есть, – сказал черт.
– Именно это и было бы отъявленным лукавством, – сказал я, – потому что в таком случае Добро окажется для тебя уже полностью недостижимым.
Эти слова заметно успокоили Альберехта, но между тем он осознавал еще одну вещь, совсем из другой оперы: если он явится в полицию, то не сможет держать это в секрете от Сиси. Значит, придется во всем признаться Сиси? Которая и так не слишком-то его любит… Машина Альберехта выехала на проезжую часть, а он даже не глянул в зеркало заднего вида. Мимо промчался грузовик с солдатами, удивительно, что грузовик не поддал машину Альберехта.
Война! Что такое война? Опасность, подстерегающая на дороге, умноженная на опасность, грозящую с воздуха. Фонтан возможностей для людей, которые, как Альберехт, больше всего на свете хотели бы разом погибнуть, но не знали, как это сделать. «Надо поехать на побережье, – думал он. – Чтобы найти там корабль. Опасно? Умереть в поисках женщины, которую я люблю, – последний смысл моей жизни, единственное, ради чего я хотел бы умереть. Смысл жизни человека равен тому, за что он хочет умереть». Понимал ли это кто-нибудь до него? А если понимал, то выразил ли это в тех же словах? Альберехт не помнил ничего подобного.
– Не помнишь ничего подобного! Чудило! – крикнул я ему в ухо. – Разумеется, смысл жизни – умереть, чтобы лицезреть Иисуса!
Но ухо Альберехта было закрыто для моих слов.
Навстречу ему ехала рота солдат-самокатчиков, вооруженных практически только велосипедами. У переднего солдата на руле висел еще и барабан. За ним следовал солдат с маленькой медной трубой, на которой он сейчас не играл. У большинства не было шлемов. Последний вез на плече флагшток со скрученным флагом. Солдаты ехали друг за другом длинной цепочкой. Альберехт держался как можно правее, до смерти боясь, что опять вызовет у военных недоверие, что его задержат и начнут допрашивать. Но ничего такого не произошло, он проехал мимо всей колонны, а солдаты так и не обратили на него ни малейшего внимания. Никто из них не смеялся и не кричал.
Куда они направлялись? И сколько еще пройдет времени, прежде чем они все погибнут?
Вот бы его призвали в армию. Но человеку, занимающему такой высокий пост, как он, дается бронь. Ему не надо было являться на призывной пункт, когда объявили мобилизацию.
ПРОКУРОР – какая же это профессия!
Альберехт не отличался красноречием. Он был приятным собеседником в гостиной, в кафе, когда немного выпьет, но не таким оратором, который способен увлечь аудиторию, держать внимание слушателей, находящихся от него дальше, чем на расстоянии вытянутой руки.
В молодости, работая адвокатом, он несколько раз терпел поражение. И тогда им овладела простая мысль: «Я нахожусь не с той стороны стола с зеленым сукном. Не хочу проигрывать». И Альберехт решил занять место с другой стороны стола с зеленым сукном. Едва его желание сбылось, как он обнаружил, что роль общественного обвинителя отнюдь не противоположна роли защитника.
Иногда он утверждал в своих речах полную чушь, и подозреваемым, несмотря на тонко продуманные выступления адвокатов, выносили обвинительные приговоры. У него сложилось впечатление, что судьи слушают его почти так же вполуха, как и адвокатов. Но самым удивительным было не это. Он намного больше изумлялся, читая в газетах такие фразы: «Прокурор, опасаясь, что добыча вот-вот выскользнет у него из рук, выдвинул соображение, что подозреваемый…»
Полная ерунда. Он никогда не считал, что подозреваемый и тем более адвокат подозреваемого – это добыча, на которую он охотится. Добыча! Пока он сам работал адвокатом, в обвинительном приговоре, выносимом его клиенту, ему виделось поражение. Но в должности прокурора он не расстраивался ни на волосок, если тот, против кого он выдвигал обвинения, бывал оправдан. «Мой доход не снижается от этого ни на цент», – говорили общественные обвинители. Может быть, именно поэтому Альберехт и не расстраивался. А может, и не поэтому. Когда обвиняемые отправлялись в тюрьму в соответствии с его требованием, он совершенно не радовался. Адвокат должен заботиться о своей репутации, в то время как обвинитель – это чиновник, думающий только о карьере. Если прокурор будет работать с излишним рвением, о нем скажут, что он смотрит на вещи чересчур однобоко. Что избыток фанатизма мешает ему быть объективным. Что он не умеет выносить взвешенные суждения. Альберехт понял, что, работая адвокатом, совершенно напрасно завидовал прокурору, когда судья выносил приговор в соответствии с требованиями обвинения. Выиграв процесс, адвокат ощущает радость победы, а прокурор испытывает не больше эмоций, чем кассир в ресторане, когда официант подает счет посетителю.
Такое сравнение пришло ему однажды в голову за чашкой кофе с коньяком, после того как они с Сиси кончили обедать в каком-то ресторанчике.
Сиси тотчас подвергла его откровение марксистско-ленинскому анализу. Тезис – антитезис – синтез = обвинение – защита – судебное решение. Следит ли он за ее мыслью? В буржуазном мире само собой разумеется, что прокурор, будучи орудием капиталистического-идеалистического-буржуазного общества, в принципе не способен составить правильное обвинительное заключение. Потому что обвинительное заключение… от чьего имени оно выдвигается? От имени презренных капиталистических-идеалистических-буржуазных сил, функционирующих в вышеозначенном обществе. А вот с адвокатом дело обстоит иначе. Адвокат, по крайней мере хороший адвокат, глаголет истину, но высказываемая им антитеза, какой бы ни была блистательной, при взаимодействии с неправедным, ибо капиталистически-идеалистическим-буржуазным, обвинением прокурора не может подвести к правильному синтезу. Так что совершенно понятно, почему Альберехт как адвокат столько раз садился в лужу, в то время как в функции прокурора он выполняет свою работу добросовестно, хоть и не получая от нее настоящего удовлетворения.
– Понял, Беппо?
Она взяла его руку в свои, подушечки ее пальцев погладили его ладонь, затем большим пальцем она ласково провела по его руке с тыльной стороны, так что кожа над прожилками сморщилась.
В этом разговоре он признался ей, что его любовь к алкоголю непомерно развилась именно в тот короткий период жизни, когда он был адвокатом.
– Ну конечно, милый, это очень простой психологический механизм. Ты топил в алкоголе свое разочарование, плюс алкоголь избавлял тебя от лишних размышлений о работе, которой ты боялся.
– Работа, которой я занимаюсь сейчас, тоже не дает мне удовлетворения, хотя я уже не так безумно из-за этого переживаю. То, что я стал меньше пить, имеет другие корни. Хочешь, объясню? Милая…
Когда они вернулись домой, Альберехт был порядком пьян и почти сразу заснул.
«Лучше бы я не бросал пить. То, что она от меня ушла, доказывает: я женат на выпивке, а не на ней». Альберехт погрузился в мечты о том, как в первый раз после долгого перерыва напьется в стельку, до потери сознания. Попытался составить план, как он это осуществит, но дело не шло, оттого что он не знал, когда сможет приступить к выполнению плана. Из-за вопроса когда? мысли сразу лишались целостности. Когда? Как только он сам сойдет на английский берег и найдет подходящий случай. Или когда убьют Гитлера, когда рухнет Германия, когда война закончится так же разом, как началась, когда немецкие самолеты перестанут летать, а парашютисты сложат оружие. Для полноты счастья малышку Оттлу Линденбаум найдут живой и здоровой, в ее бежевом пальтишке с оторвавшейся пуговицей, немножко бледненькую и с признаками недосыпа, но в остальном в полном порядке. Свой день он начнет ровно в одиннадцать часов утра с шести рюмок хереса. За ними последует легкий, но изысканный ланч. Во второй половине дня кофе с коньяком. Откуда ни возьмись вдруг появится Сиси. С четырех до семи часов – время для восьми порций выдержанного йеневера. Сиси не могла остаться в Голландии, но на следующий день вернется. Мне придется тебя снова ненадолго покинуть, Беппо. Ладно? Отлично. За ужином не меньше двух бутылок вина. Портвейн на десерт. И кофе с коньяком. Кофе слегка отрезвляет. Ужинать надо в гостях у Эрика. Веселые, но не слишком шумные разговоры. До чего же Берт сегодня занятный собеседник. Виски. Виски, с каждой рюмкой все меньше и меньше содовой. Сегодня его, Берта, день.
Последние рюмки он выпьет вообще без содовой. Как-то раз он опрокинул подряд три бокала-тумблера чистого виски и сохранил контроль над собой. На следующий день все отчетливо помнил. Он тогда, правда, с трудом встал со стула и проснулся через пять часов, не протрезвев. Избавиться от внутренних тормозов – пить, и пить, и пить. Самое удивительное, что алкоголь хоть и дает тебе свободу, хоть и избавляет от внутренних тормозов в любой области жизни, но пользуешься этой свободой только для того, чтобы пить и пить дальше. Казалось бы, можно разбить вдребезги все вокруг, или сорвать одежду со всех женщин поблизости, или сесть за руль и погнаться во весь опор, не глядя на светофоры. Вообще-то он еще никогда в жизни не садился за руль пьяным, да и быстрой езды не любил. Купить по-настоящему быструю машину, как у Эрика, – это не для него.
– Признайся честно, – воскликнул я, – ты хочешь напиться только для того, чтобы тебе хватило мужества выпить еще больше и побить нигде не зарегистрированный рекорд по пьянству.
Этими словами я попытался отогнать черта, ворошившего воспоминания Альберехта об алкоголе. Должен сказать, что черт Желания Выпить настолько силен, что мне еще никогда не удавалось перекричать это порождение бездны. Я могу только робко вклиниваться в его ядовитые речи. Я сказал: какому немцу придет в голову убивать Гитлера, когда его войска наступают по всей Европе? Чего ты еще хочешь? Если Оттлу Линденбаум так и не найдут, то считай, что тебе повезло. Прежде чем пить, постарайся хотя бы добраться до Англии.
Он выехал из города и двигался теперь по широкой асфальтовой дороге, на которой в обычные дни бывал очень плотный поток машин, но сегодня совершенно пустынной.
И все же дыхания войны здесь еще не ощущалось. Крестьянин с длинным кнутом в руке шел за сеялкой, которую тащила откормленная гнедая лошадь. Стая птиц подбадривала лошадь и селянина громкими криками. Сеялка напоминала арфу, которую в вертикальном положении тянут по земле, или гигантскую расческу, а под трубками-семяпроводами, по которым семена сыплются в борозды, клубилась пыль. Стая птиц и облако пыли, казалось, принадлежали к одному миру, а лошадь, сеялка и крестьянин – к другому.
Быть может, это были всего лишь пустые толки – о немецких гидросамолетах, приводнившихся на поверхности Мааса. Если они правда пытались это сделать, то, наверное, у них ничего не вышло и они затонули. Ведь приводняющийся самолет совершенно беззащитен? Приводняющийся самолет может потерпеть аварию из-за малейшей ерунды. Их могли расстрелять из табельного оружия и поджечь полицейские, стоявшие на берегу.
Альберехт включил радио. На этот раз оно заработало, но новостей не передавали, играла музыка Бетховена. Широкая натура у нидерландского народа. В тот день, когда немцы нападают на его отчизну, по нидерландскому радио передают немецкую музыку. Это говорит не просто о широкой натуре, но и о величии души. Для немцев это урок. Бетховен! Лучший способ показать Гитлеру его ничтожность и недолговечность, противопоставив ему нетленную красоту бетховенской музыки, не так ли? «Если бы я был немцем и мой сын сейчас воевал бы за Гитлера, мне хватило бы Бетховена, чтобы пасть духом. Двадцать лет, сынок, мы с мамой за тобой ухаживали, кормили тебя, утешали, когда ты грустил, и заклеивали пластырем ссадины у тебя на коленях, когда ты падал. А теперь тебя убьют. Не во имя Бетховена, а во имя самого безобразного, что когда-либо породила Германия». Выразительный жест рукой в просторном рукаве прокурорской тоги. Альберехт увидел себя стоящим за столом с зеленым сукном. Он произносил обвинительную речь против Германии, и зал слушал его, затаив дыхание. Маленький немецкий солдат, ты должен умереть за Гитлера, а Бетховена это не заденет ни на волосок.
Победа духа? Если бы у Альберехта было с собой оружие и он увидел бы поблизости немецкого юношу, он бы выстрелил в него и затащил, умирающего, в свою машину, чтобы в последние минуты жизни солдатик слушал Бетховена. Тогда бы этот маленький эсэсовец навсегда запомнил, что не всякий немец может быть Бетховеном.
Музыка оборвалась. Голос диктора произнес: «Воздушная тревога, воздушная тревога. Над Гаудой замечена эскадра из сорока восьми немецких бомбардировщиков, направляющихся на юго-запад». Затем снова заиграла музыка. И снова голос диктора: «Не доверяйте ложным сообщениям. Слушайте только знакомые голоса».
Гитлер, этот хам, в своей узколобости запретивший музыку композиторов, не устраивавших его по политическим соображениями, Гитлер отправляет самолеты, чтобы нас бомбить, и что мы в это время слушаем? Бетховена. Что слышат немецкие летчики, настроившие бортовое радио на Хилверсум и бомбящие наши города? Бетховена. Возможна ли большая нелепость? Нелепость, в которой маленькая страна становится великой!
Его взгляд скользил по полям, лугам и плодовым деревьям, стоявшим в цвету. И владельцам всей этой красотищи придется ее защищать! Весь мир придет нам на помощь, потому что это самая красивая и благородная страна, когда-либо существовавшая на свете! Невозможно представить себе, что здесь все будет сожжено! На лугу, мимо которого он проезжал, стояли пестрые коровы, терпеливо ожидая, когда их подоят. Вот к ним подошла крестьянка, державшая в одной руке трехногую табуретку, а в другой – подойник из светлого металла, на котором солнце прочертило сверкающую, точно алмаз, линию. Пожалуй, эта мирная жизнь, продолжающаяся, как ни в чем не бывало, под голубым небом его родины, еще более величественна, чем музыка Бетховена.
Вскоре Альберехт услышал оглушительный рев. Асфальт впереди него вздыбился, словно вспаханный гигантским невидимым плугом. Затем раздался удар, и он почувствовал, что какой-то силой, исходившей не из мотора, машину понесло наискосок, так что завизжали шины. Он затормозил, машина запрыгала по кускам асфальта на обочине и остановилась. Альберехт вышел, пробежал несколько шагов по траве и бросился ничком на землю у края канавы. Выворачивая шею, посмотрел вверх и увидел, что небо почернело от самолетов. Невыносимый грохот, точно от несущегося мимо скорого поезда, быстро приближался и закончился взрывом. Альберехт резко уткнулся лицом в мокрую траву. Из канавы взметнулась вода и забрызгала ему спину, шею, голову. Когда шум в ушах ослаб, он услышал сквозь рокот самолетных моторов душераздирающие крики, доносящиеся с пастбища. Альберехт с трудом поднялся. Самолеты, выстроившиеся треугольником, словно перелетные птицы, летели дальше, оставляя за собой в голубом небе облачко из каких-то оранжевых чешуек. На пастбище животами вверх лежали коровы, все, кроме двух, которые, держась на передних ногах, тащили за собой по траве окровавленную заднюю часть туловища; из широко раскрытой пасти вываливался язык; они дико мычали, пока одна из них не рухнула на траву, а другая не плюхнулась в канаву с водой. Крестьянки нигде не было видно. Альберехт почувствовал, как из его пустого желудка к горлу поднимается тошнота, колени дрожали. Он сглотнул, и все прошло. Воздух наполнился прекрасными звуками оркестра. Альберехт обернулся на свою машину, дверца которой была открыта, а радио продолжало передавать музыку Бетховена. Тогда Альберехт посмотрел вокруг себя. Неужели все это могло вот так вот произойти и никто не обращает на это внимания? Зеленое пастбище было изрыто черными воронками. Альберехт стер с рук мокрую землю. Оранжевый туман разлетелся на ветру в разные стороны и опустился ниже. Оказалось, это листовки, одна из которых, крутясь и танцуя в потоках воздуха, медленно приближалась к Альберехту. Коротким порывом ветра ее приклеило к носку его ботинка.
Альберехт поднял бумажку и прочитал текст, написанный на плохом голландском языке:
ГОЛЛАНДЦЫ! СОЛДАТЫ!
Пришло ваше освобождение!
Помогите нам прогнать тех, кто вам обманывал!
Они вам предали и продали лордам-капиталистам, нещадно эксплуатирующим полмира.
Только мы, немцы, можем вам освободить!
Не сражайтесь против нам, присоединяйтесь к нашем правом деле!
Альберехт смял бумажку и хотел выкинуть, но потом передумал и сунул в карман. У меня глаза наполнились слезами: как же так, никакие другие небесные послания до моего подопечного не долетают, долетела только эта агитка… Он сунул ее в тот же жилетный карман, где уже лежал смятый листок с приметами Оттлы Линденбаум. Услышав звук приближающихся машин, поднял голову. По шоссе ехали три грузовика с солдатами нидерландской армии. Сами грузовики были явно реквизированные, в спешке перекрашенные в зеленый цвет. Все три разные, определенно не армейские. Солдаты смотрели прямо перед собой и ничего не кричали Альберехту, словно не видели его. Длинные винтовки с длинными штыками торчали из грузовиков в разные стороны, как громоотводы.
Тут опять налетели самолеты. Видимо, развернулись где-то за горизонтом. Но Альберехт испытывал такой гнев, что не мог заставить себя подумать об укрытии. Сел в машину, где радио все еще играло Бетховена: ни слова о воздушном налете, никаких предупреждений. Альберехт выключил радио; теперь слышался только рокот самолетных моторов. У Альберехта на теле не было ни ссадины, ни царапины (он не знал, что это я его спас), зато в образе мыслей произошла знаменательная перемена. В имеющейся обстановке ехать дальше в сторону побережья представилось ему равнозначным трусливому бегству. «Я должен вернуться в город. Я должен находиться у себя на работе».
– Возвращайся в город, – поддержал я его патриотические мысли, – ты же знаешь, что в сейфе тебя ждет запечатанный конверт с инструкциями, что ты должен делать в случае войны. Возвращайся в город.
Он видел самолеты в голубом небе, и теперь оказалось правдой то, что рассказывали о парашютистах. От хвостовой части самолетов отделились черные точки и, оказавшись на свободе, беззвучно преобразились в большие белые шары, похожие на одуванчики, медленно опускающиеся на землю. Парашюты. К некоторым были привешены какие-то предметы. Ящики. И даже один мотоцикл. На остальных одуванчиках спускались солдаты. Где они приземлились, Альберехт не мог разобрать.
Дикие мысли понеслись роем у него в голове. По какую сторону от линии фронта находились эти солдаты? Можно ли их считать солдатами? И можно ли в них стрелять без суда и следствия, как в убийц? Ведь это было бы самообороной? Почему правительство не подумало о том, чтобы вооружить гражданское население на случай высадки парашютистов. Ведь того, кто убьет парашютиста, нельзя будет признать, с точки зрения международного права, вольным стрелком. Если немцы захотят повесить на дереве гражданское лицо, убившее парашютиста, то с их стороны это будет военным преступлением. Мысленно он уже видел себя произносящим речь в Международном суде в Гааге. Рассуждения его были так логичны, что комар носа не подточит, однако формулировки международных конвенций настолько размыты, что подточить нос мог бы даже носорог.[19]
Вперед! Пусть он и не вооружен, он будет наблюдать за происходящими событиями. И составит подробный протокол!
Полный подобных фантазий, он поехал следом за грузовиками с солдатами. Они то и дело направляли свои старые винтовки на парашютистов и стреляли. За грузовиками вились голубые облачка порохового дыма. Один парашют порвался, и человек, висевший на нем, упал на землю, как бомба.
Потом последний грузовик остановился прямо посреди дороги. Альберехту тоже пришлось остановиться. Из кабины вылез сержант и подошел к машине Альберехта. Винтовку он держал под мышкой, так что штык едва не волочился по земле.
Альберехт открыл дверцу и вышел.
– Стой, или стрелять буду, – крикнул сержант и направил винтовку на Альберехта, не приложив ее к плечу.
– Я из прокуратуры, – ответил Альберехт, – вы спокойно можете меня пропустить.
– Скажите «Схевенинген»!
– Схевенинген.
– Все в порядке. Но советую дальше не ездить.
– Мне надо. Как прокурор я обязан быть в городе.
– Как знаете, – ответил сержант.
Тут послышался стрекот пулемета, и Альберехт увидел, как сержант уронил винтовку, взмахнул рукой, повернулся на одной ноге вокруг своей оси и в конце концов скорчился и осел на асфальт. Солдаты повыпрыгивали из кузова, попрятались за грузовиком и под грузовиком и оттуда принялись стрелять в парашютиста, который, лежа на лугу, вел огонь из ручного пулемета. Альберехт стоял во весь рост. Ему все было видно, а страха он не испытывал ни на грош.
Быть может, его юридически отточенный ум говорил ему: я – гражданское лицо. Они не имеют права в меня стрелять. Я неуязвим.
Да нет, сказал черт, он надеется, что ему наконец-то представился случай погибнуть.
И никто не знал, что это я изгибал траектории пуль, чтобы они в него не попали.
Альберехт не мог ехать дальше и не хотел ехать дальше, чтобы не мешать солдатам стрелять.
Один парашютист опускался прямо у него над головой.
– Ребята! Вон там! – закричал Альберехт и показал наверх.
Двое солдат вылезли из-под грузовика и выстрелили вверх, оперев винтовки о задний борт кузова. Голова у парашютиста свесилась набок, но он продолжал плавно снижаться. Из рощи с другой стороны дороги послышалась пулеметная очередь, и один солдат, только что стрелявший по парашютисту, разом осел. Другой сделал несколько шагов в сторону Альберехта, вытянув левую руку и, держа винтовку в правой, произнес:
– Вон там! Вон там!
Альберехту показалось, что у солдата на руке между кистью и локтем появился новый сустав, слишком слабый, чтобы удерживать кисть, так что она безвольно повисла. Кровь хлынула струей. Теперь и этот солдат упал ничком на асфальт, а его винтовка дала при падении такую очередь, что перекрыла шум вокруг.
Немец на парашюте опускался все ниже и ниже; едва его ноги коснулись асфальта, он тотчас упал на бок, и парашют накрыл его. Он также накрыл грузовик наполовину, а маленькая машинка Альберехта скрылась под белым шелком целиком. Из-под ткани выполз какой-то нидерландский солдат и попытался стащить парашют с грузовика. Материя порвалась, обрывок остался висеть на машине Альберехта, зацепившись за что-то. Нидерландские солдаты разбежались по полям и, лежа на животе, стреляли по кустам, за которыми стрекотали пулеметы.
В небе парашютов больше не было, за исключением одного, на котором опускался мотоцикл с коляской.
Альберехт стоял на шоссе в полном одиночестве.
Пора уезжать, думал он, сейчас вернутся бомбардировщики. Скорее на работу!
Я видел, как он садится в машину, слышал, как он заводит двигатель, видел, как он уезжает, большой дугой огибая грузовики и зигзагами объезжая трупы на шоссе, а за машиной развевались белые обрывки парашюта, словно флаги, возвещавшие, что он сдается.
Но кому он сдается? Он позабыл обо всем, что его еще недавно так удручало. Он стал свидетелем одержанной победы. Теперь он и сам готов отдать все силы. «Все силы я готов отдать». Строчка из песни, которую они пели в начальной школе. «За Королеву и Отчизну». Тогда еще не было никакой войны и казалось, что такая страна, как Нидерланды, никогда в жизни не окажется втянутой в войну. В начальной школе, значит, дети иногда проходят и полезные вещи, которые могут пригодиться в жизни.
Я сам, сопровождая Альберехта с момента рождения, никогда раньше не видел, как умирает такое множество людей, потому что и Альберехт никогда не присутствовал при стольких смертях. Хотя я, как ангел, не могу умереть и пусть Альберехт сейчас чувствовал себя бодрее, чем в последнее время, до меня начало доходить, что испытывают люди, думая о смерти, когда их души готовы взлететь на небеса, а носители смерти спускаются на землю; и меня захлестнула волна такого горя, о каком я в моем состоянии небесного блаженства никогда не догадывался.
Через двадцать минут он доехал до улицы, где жил. По сравнению со вчерашним утром, когда они вместе с Сиси вышли из дома, здесь ничего не изменилось. Но сбросив скорость и подъехав к тротуару, он заметил трех соседских ребятишек, смотревших на что-то, лежавшее у самой стены его дома. Дверь в парадную была открыта.
Альберехт вышел из машины и, закрывая дверцу, обнаружил обрывки парашюта, зацепившиеся за задний бампер. Что ж такое, все-все цепляется за эту машину! Он вспыхнул от злости, сорвал парашютную ткань с бампера и стер ею грязь со штанин и ботинок.
В шляпе, держа снятый плащ и комок белого шелка в руках, он пошел к своей парадной. Едва он приблизился, как на улицу вышла соседка с нижнего этажа с корзинкой в руке. В глазах у нее стояли слезы.
– Расскажите, мефрау, что такое случилось?
– Моего котика задавила машина. Он ведь никогда-никогда не выходил на улицу.
Дети раздвинулись перед хозяйкой, и Альберехт бросил взгляд на труп кота, лежавшего на боку, с открытыми глазами, с лапами, закоченевшими в таком положении, как будто он шел-шел и вдруг застыл. Хозяйка присела на корточки, поставила корзину на плитки тротуара и положила в нее кота.
– Вот уж несчастливый день, – сказала она, вставая. – Сначала умер кролик, а теперь и котик. Оба в один день.
С таким чувством, будто крадется на цыпочках, Альберехт пошел к себе наверх. «Отчего мог умереть кролик? – недоумевал он. – От осколка зенитного снаряда? От страха? Или от болезни?» Безотчетно придумывая разные варианты, остановился у двери своей квартиры, и тут до него дошло, что он все еще держит в руке обрывок парашютного шелка. С какой гордостью он показал бы его Сиси, если бы она не уехала! Они придумали бы уйму способов, как его использовать, просто забавы ради. Но ее здесь нет, подумал он, и никогда не будет. Лицо исказила скорбная гримаса, уголки рта горестно опустились. Как бы он хотел быть сейчас в Англии.
Альберехт вошел в свою комнату с ощущением, словно ненадолго вернулся только потому, что в последний момент вспомнил, будто что-то забыл. Но что он мог забыть? Все стояло и лежало, как всегда, по местам, ведь уходя отсюда в последний раз, он вовсе не собирался никуда уезжать. Не было только Сиси. Он прошел по комнатам, зашел в кухню и ванную. Внимательно все оглядывал в надежде, что Сиси что-нибудь оставила, может быть, потеряла – носовой платочек, пуговицу на полу или шпильку на диване. Ничего не нашел.
Как-то раз он слышал в зале суда, как психиатр рассказывал о грабителях, которые иногда нарочно оставляют следы в ограбленных квартирах, якобы забывая самые неожиданные предметы: наконечник своей ацетиленовой горелки, монтировку или даже ботинок. Это делают, объяснял психиатр, чтобы подать знак «я здесь был», из подсознательной гордости своим поступком, как ставят флажок на завоеванной территории.
Сиси не оставила ничего – ни кусочка мыла в ванной комнате, ни бутылочки из-под духов, ни начатого тюбика зубной пасты, ни единого знака, ничего.
– Она никогда не гордилась тем, что жила у тебя, – расхохотался черт.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о том, что ангелы получают особые поручения, едва в земной юдоли разразится война, – заблуждение теологов, причем весьма распространенное.
Война – это всего лишь обман зрения, жертвой которого становятся смертные. Это как красный туман, оседающий на стекло, через которое видно все то же, что и всегда, или как шум в ушах, притом что остальные звуки остаются прежними. Война согласуется со всеми законами Бога и природы. Если черт в своей заносчивости придерживается другого мнения, то это мысли, которые ангел не должен принимать во внимание. Война ничего не меняет в самой сути жизни и одиночестве человека в смерти, хотя во время войны множество людей умирают одновременно. Война ничего не меняет в морали, потому что, как говорится, нужда закона не знает, а земля – это не рай, так что на земле всегда существует нужда. Люди родятся в боли и умирают в страданиях, и здесь во время войны ничего не меняется. Иногда рушатся целые города, но построили-то их люди, без войны эти города точно так же разрушились бы. Непреходящи только Деяния Господни – так оно и должно быть.
Было девять утра, и Альберехт в одиночестве вскипятил воду, чтобы заварить кофе. Когда вода закипела, он поставил греться молоко в кастрюльке, а чайник со свистком и фильтр для кофе взял с собой в гостиную, выходившую окнами на улицу. Чайник стоял на ковре рядом с его креслом. Время от времени Альберехт выглядывал в окно и видел, что на улице все идет своим чередом. Он наливал порцию кипятка на кофе в фильтре и снова выглядывал на улицу. Разговаривая о войне, люди делали все то же самое, что делают всегда, потому что не знали, как можно делать что-то другое, хотя слово «война» было у всех на устах. Вагоновожатые вели трамваи, булочник и молочник развозили по домам хлеб и молоко, а в тележки в качестве тягловой силы у них были впряжены усталые собаки.
Вдруг раздался выстрел из пистолета. На улице все остановились. Второй выстрел. Люди побежали, кто куда. Мимо проехал на велосипеде полицейский, одной рукой держась за руль, вторую, с табельным пистолетом, подняв вверх. Непрерывно стреляя в воздух, он сделал кружок прямо перед домом Альберехта. Затем сунул пистолет в кобуру и поехал дальше по прямой.
Ноздри Альберехта почуяли странный запах, до слуха долетело тихое шипенье откуда-то из кухни. Убежало молоко! Он бросился на кухню, полную белого пара.
Молоко залило всю плиту, а в тех местах, где металл был раскален, высохло и сгорело, образовав при этом черные круги.
Альберехт выключил газ, но плиту не вымыл.
Остатков молока в кастрюльке как раз хватило на две чашки некрепкого кофе, который он и привык пить по утрам. Допив кофе, он вышел на улицу в шляпе, но без плаща. Спать совсем не хотелось.
Уже у будки вахтера в здании суда он встретил своего заместителя Отто Бёмера.
– Берт, а я тебя везде ищу, – сказал Бёмер, – рад, что наконец-то нашел. Разве тебе не звонили с просьбой прийти раньше обычного? Все-все идет сегодня сикось-накось.
– Меня не было дома. Всю ночь.
– Тут такой кавардак, – сказал Бёмер. – Я взял на себя смелость вскрыть конверты. Ордеры на аресты уже составлены. У полицейских нервы на пределе. Нам с трудом удается предотвратить хаос.
Бёмер, с его очками в толстой роговой оправе и круглым серьезным лицом, был человеком, о котором никто даже подумать не мог бы, что он способен ошибаться. Альберехт тоже верил ему всегда без оглядки.
– Все эти мерзавцы, наверное, разбежались кто куда?
– Сам не знаю. Знаешь, что происходит? Полиция действует совершенно наобум. Забирают всех подряд, направо и налево, фашистов и якобы фашистов, немцев и всех, кто говорит с иностранным акцентом. Не доверяют полученным приказам. Думают, что среди полицейского начальства уйма предателей и что они сами лучше знают, кого хватать. У тебя есть сосед, который тебе не по вкусу? Подойди к любому полицейскому и скажи: у моего соседа револьвер, он стрелял из чердачного окна в голландских солдат. Народ вообще посходил с ума. Мы несколько месяцев составляли списки людей, которые, судя по всему, на самом деле опасны. Но если полицейские будут и дальше хватать всех и каждого, то у нас не останется сотрудников, чтобы доработать эти списки. Никто никому не доверяет.
– Но ничего страшного еще не произошло! – воскликнул Альберехт. – Наши солдаты сбивают немецких парашютистов, как летучих мышей.
– Ничего не произошло? Черт подери, Берт, я бы не торопился кричать ура. Они уже наполовину захватили Роттердам. Кто мог такое предположить? Роттердам. Это же так далеко от немецкой границы. Война продлится самое большее два дня. Потому что везде полно предателей.
– У тебя есть доказательства?
– Доказательства будут через день-другой, когда настанет полный крах. И ты прекрасно понимаешь, что немцы в первую очередь займутся нами. Если хочешь знать, я считаю, что лучше всего было бы взять да перестрелять всех, кто сидит в тюрьме, потому что они наверняка захотят нам отомстить, когда бал будут править фрицы, – Бёмер покачал головой. – Перестрелять их было бы лучше всего, но не очень-то разумно.
– Ты пораженец.
– Вовсе нет. То, что я тебе говорю, я не сказал бы никому другому. Никого не хочу лишать надежды. Но на самом деле все очень плохо.
– Почему ты так считаешь?
– Фрицы заняли уже два аэродрома рядом с Гаагой, хотя война началась меньше пяти часов назад.
– Ладно, пусть они взяли наши аэродромы, – сказал Альберехт намного громче, чем надо. – Думаешь, наша армия не дает им отпор? Я видел другое. Я…
Цыц, сказал я ему, а то что подумает Бёмер, если ты начнешь распространяться о происходившем у тебя на глазах сражении в двадцати километрах от города? Что ты делал за городом? Куда направлялся?
– Смотри, что я нашел, – сказал Альберехт. Засунул пальцы в карман жилета и вытащил две смятые бумажки. Одна была белая, другая оранжевая. Белый комок он сунул обратно, оранжевый осторожно расправил и отдал Бёмеру.
– Листовка, – сказал Альберехт, пока Бёмер читал. – Раскидывают с самолетов. Уроды, скажи?
– Не сражайтесь против нам, присоединяйтесь к нашем правом деле! – процитировал Бёмер. – Призыв к измене родине. Смешно, что они не нашли человека, нормально знающего голландский язык, чтобы писать листовки.
– Вот видишь, – сказал Альберехт, – может, предателей совсем и нет.
Бёмер вернул Альберехту бумажку, тот аккуратно ее сложил и сунул в тот же карман, откуда достал. Пошел к своей комнате, и Бёмер пошел рядом с ним.
Бёмер сказал:
– Во всяком случае, сегодня утром, во время первой воздушной тревоги, мы сбили большой транспортный самолет. Ты это знаешь?
– Нет, я сидел в машине и не видел, что происходит.
– Рассказывают, что в самолете оказался конь с немецким генералом в седле, готовившимся к триумфальному вступлению в Гаагу.
Альберехт посмотрел на Бёмера торжествующе, но ничего не сказал.
– Коня в самолете не было, – продолжал Бёмер, – зато было много других интересных вещей. Самолет не взорвался, но все равно погибли девять человек. Потому что он упал на дом около аллеи Аристотеля.
С Отто Бёмером, человеком лет на пять младше Альберехта, следовало держаться настороже, хотя его основательное круглое лицо и тяжелые очки постоянно подчеркивали, что он не так глуп, как кажется. Они честно предупреждали собеседников. Человек, умеющий быстро и четко формулировать мысль, не говорящий ни слова лишнего. Таким разговорчивым, как сегодня, Альберехт его еще никогда не видел. Двигаясь по коридору вместе с Альберехтом в сторону его кабинета, Бёмер все говорил и говорил.
– Важная вещь, о которой мы должны хорошенько подумать, – это наши архивы. Какие из них мы сможем перенести в надежное место, а какие нет. Какие лучше сжечь, а какие безопасны. Всё сжигать, по-моему, не следует. Должно остаться достаточное количество папок, чтобы наши слова звучали правдоподобно, когда мы будем говорить, что ничего не сжигали. Потому что гестапо не станет медлить с отправкой в концлагерь за саботаж. В оккупированных странах они требуют от полицейского аппарата беспрекословного сотрудничества.
Бёмер замолчал, Альберехт тоже ничего не сказал.
– Что ты скажешь на сей счет, Берт?
Бёмер открыл дверь в кабинет Альберехта. Тот сделал шаг – и встал с той стороны от двери как вкопанный.
– Что ты думаешь, Берт, что можешь предложить?
Альберехт держал шляпу обеими руками у себя перед животом. Если бы Бёмер захотел, он запросто смог бы протиснуться в кабинет мимо Альберехта, дверь была достаточно широкой. Альберехт не смотрел на него. На свой письменный стол он тоже не смотрел.
Я знал, что происходит в его душе, знал, о чем он вспомнил и чего испугался. Я чувствовал, что у него вот-вот задрожат колени, и прошептал: мужайся.
– Надо сжечь документы, – говорил Бёмер, – пока не поздно. Из-за документов в наших архивах могут пострадать тысячи людей. Если архивы попадут немцам в руки… То, что они всего лишь преступники, не оправдание. Это граждане Нидерландов, и никто не имеет права подвергать их наказанию, только мы. Ты согласен?
Бёмер думал, что Альберехт слишком рассеян и потому не говорит ему: «Входи! Давай поговорим!» – «Очень уж он глубоко задумался, размышлял Бёмер, от этого не замечает, что ведет себя невежливо. Заставляет меня стоять перед дверью, как будто я незваный гость, как будто я навязываю себя ему. Он считает меня пораженцем, но я лучше него понимаю, каково положение дел».
Вот у Альберехта задрожали колени, дрожь начала подниматься все выше и выше.
С величайшим напряжением всех душевных сил он выдавил из себя:
– Да, конечно. Я подумаю над твоими словами, но сейчас мне срочно надо сделать кое-что другое. Ты не мог бы минуточку подождать?
– Прости.
Бёмер отступил на шаг и закрыл дверь кабинета, тем самым лишившись возможности видеть, что там внутри. Тяжело дыша, Альберехт подошел к столу, теперь уже видя воочию то, что все это время стояло перед его мысленным взором: девочкино письмо, конверт, который Оттла Линденбаум хотела опустить в почтовый ящик.
Заметил ли Бёмер это письмо?
Письмо лежало точно там же, куда он его вчера положил, у верхнего края бумажной накладки на письменном столе. Заходил ли Бёмер в комнату, пока Альберехта не было? Если да, то что он здесь делал? Просто заглянул и увидел, что никого нет, или подошел к столу и подумал: что это тут лежит?
Нет оснований его подозревать.
К письму никто не прикасался, наверное, никто его даже не видел. Может быть, уборщица все-таки видела? Уборщицы в здании суда работали так незаметно, что невозможно было понять, вытирали они пыль или нет. Пыль лежала на мебели всегда, но всегда в одном и том же количестве.
И даже если уборщица видела письмо, что с того? Он взял его в руки, оглядел неаккуратно наклеенные марки, детский почерк, зачеркнутые слова и слова, написанные другим, взрослым почерком.
Сегодня я знаю то, чего не знал вчера: это почерк Лейковича. Или его жены.
Это факт.
Но письмо таит в себе еще множество фактов. Надо его открыть, подумал он.
Держа конверт вертикально, он два раза постучал им по столу, чтобы само письмо сдвинулось к одной стороне, и осторожно оторвал узенькую полоску. Он увидел сложенный вчетверо листочек из блокнота, на котором было что-то написано тем же детским почерком, что и адрес. Совсем немного, слов десять, на незнакомом ему языке. По-чешски, подумал он. Значит, чехословацкие евреи говорят не по-немецки? Надо будет осторожно спросить у Эрика. Альберехт смог прочитать только дату, а с подписью оказалось сложнее. Письмо было подписано сочетанием букв, которые должны были сложиться в имя, но такого имени он никогда раньше не слышал: Веверка. Может быть, это было не настоящее имя, а ласкательное прозвище вроде светлячка, зайчонка, кисоньки или пузырька. Веверка.[20]
Он снова сложил письмо, положил в конверт и туда же засунул оторванный краешек. Было ясно, что письмо надо сжечь. Особых причин для этого не было, но причин не сжигать его было еще меньше. Сжечь письмо. Как же он всегда презирал преступников, оставлявших улики, мошенников, своевременно не бросивших поддельные бумаги в печку, не говоря уже о тех, кто занимается брачными аферами и забывает свой дневник в трамвае. Само собой разумеется, это письмо должно исчезнуть, потому что если вскроется, что оно находится у Альберехта, то именно оно…
Это было ясно, как божий день. Веверка – что значит это слово? Но как письмо уничтожить? Альберехт не курил. У него не было спичек. В кабинете вообще не было спичек. Пойти попросить у кого-нибудь? Это будет, считай, просьба о разоблачении.
Разорвать письмо на кусочки? Обрывки тоже живут своей жизнью. Альберехт сунул письмо в карман, намереваясь избавиться от него где-нибудь вне пределов здания суда. Веверка, повторил он про себя. Достал из кармана брюк серебряную коробочку для мятных пастилок, услышал, что в ней ничего не стучит, снова убрал.
Сел за стол, позвонил по телефону, чтобы ему принесли список задержанных и еще кое-какие бумаги. За полчаса все прочитал. Судебные заседания на сегодня отменены. Альберехт встал, взял шляпу и вышел в коридор.
И снова наткнулся на Бёмера, как будто тот все прошедшее время стоял и ждал его.
– Полицейские участки переполнены, – пожаловался Бёмер, – но половина людей из наших списков гуляет на свободе. Двоих полицейских уже застрелили.
– Я быстро вернусь, – пробормотал Альберехт и хотел пройти мимо.
– Так как же насчет архивов? – спросил Бёмер. – Давай я составлю опись? Сложу в одно место те документы, которым точно не стоит попадаться в руки к немцам. Например, все, что связано с людьми, нелегально перебравшимися в Нидерланды и находящимися в нашем поле зрения? Согласен? Это в любом случае первое, что мы должны сделать. Политические эмигранты и евреи.
– За последние годы таких было немало, – ответил Альберехт, – но сколько их на данный момент, я понятия не имею. А ты?
– Я пока тоже. Но ты не возражаешь, чтобы я этим занялся?
– Да, отлично. Займись. До скорого!
Альберехт почти бегом побежал по тротуару. Что было у Бёмера на уме? Он о чем-то проведал? Знал Лейковичей? Может быть, Лейковичи все-таки заявили об исчезновении девочки?
Но это нелепость – сидеть со сложенными руками и ждать, не явится ли Лейкович в полицию заявить о пропаже человека с указанием всех подробностей: девочка вышла из дома с письмом в руке… с каким письмом… письмом к родителям в Прагу… к ее родителям, но ведь Эрик говорил, что они сидят в концлагере… значит, к дяде… какой адрес… Доктор Линденбаум, Карпфенгассе, Прага (Прага… Капрова… Веверка…). Вы уверены? Этот адрес откуда-то мне знаком… А, это у Альберехта на столе лежало странное письмо… случайно попалось мне на глаза.
– Проклятье! Чтоб вам всем было пусто! – закричал Альберт. Но рядом никого не было, так что никто его не услышал. – В Бога душу мать! Пусть меня разоблачат, но только не таким способом!
И Бог его услышал, но Альберехт этого не знал.
«Отечество в опасности! Но какое мне дело до отечества, когда я сам в опасности!»
Глупец, тебе уже давно надо было уехать в Англию.
С этой мыслью он вошел в бакалейный магазин и купил пять пачек мятных пастилок. Он только назвал марку пастилок, заплатил и вышел на улицу. Пачки имели форму маленьких параллелепипедов, потому что пастилки были прямоугольные, белые и твердые, как фарфор без глазури. Он раскрыл первую пачку и на ходу переложил пастилки в серебряную коробочку, аккуратным рядком, стоймя, как карточки в каталожном ящике. Две пастилки не поместились. Обе сунул в рот. Меня охватило умиление, вот ведь человек, для которого счастье в огромной мере заключалось в следовании своим маленьким привычкам. Одной из этих привычек было засунуть в рот разом две пастилки, которые всегда не помещались в коробочку. И сколь велико было это счастье именно сегодня, после того, как у него целую ночь во рту не было ни маковой росинки и в борьбе с алкоголизмом он не получал поддержки от этого ароматного растения, освежающего дыхание и напоминающего человеческому духу о весне.
Альберехт убрал серебряную коробочку в карман и достал ключи от машины.
Добравшись до банка, он увидел при входе огромную толпу, за порядком в которой следили два полицейских.
Он представился одному из них, и тот пропустил его немедленно, вне очереди. Внутри банка полицейских, поддерживающих порядок, не оказалось; это значило, что здесь у него не будет никаких преимуществ перед людьми, заполнившими до отказа помещение, облицованное плитками.
Тем не менее он испытал прилив оптимизма, ведь наконец-то попал в банк, где наконец-то получит деньги, которых ждал всю ночь. Более того, он сможет снять деньги сразу же в иностранной валюте, в английских фунтах или в долларах. И он снимет не пятьсот гульденов, а все, что у него есть на счете.
К сожалению, все эти люди, стоявшие в очереди, тоже намеревались снять все, что у них есть на счете. Из пяти окошек три были закрыты. Народу было столько, что он не мог понять, какая из двух очередей меньше. Он встал за человеком, случайно оказавшимся перед ним, и делал шаг вперед, когда этот человек делал шаг вперед.
У него было достаточно времени, чтобы хорошенько все рассмотреть: решетки на окнах, голубое небо за решетками, толстые трубки пневмопочты под самым потолком, висевшую там и сям скромную рекламу всевозможных видов страхования.
И тут он увидел объявление, написанное на черной грифельной доске между двумя окошками:
ДО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА
НЕ ВЫДАЕТСЯ
Вот вам и решетки на окнах. Но ведь банк – не тюрьма. Наоборот, банк должен обслуживать клиентов.
И решетки здесь не для того, чтобы не выпускать тех, кто сюда вошел, а чтобы не впускать тех, кто хочет завладеть деньгами, хранящимися здесь для тех, кто сюда вошел.
Да, решетки.
Мне нужны фунты. До дополнительных распоряжений иностранная валюта не выдается.
Решетки. Мне надо уехать из Нидерландов. Прямо сейчас.
Он вновь и вновь взвешивал все возможные варианты.
Его никогда не разоблачат. Это возможный вариант?
Бывают же на свете случайности, порой невообразимые, взять хотя бы ту, что он сбил именно приемную дочь друга Эрика.
– Невообразимая случайность? – спросил я. – Подумай, что ты говоришь. Эрик знаком с Лейковичем, потому что много занимался помощью еврейским беженцам, и Эрик заговорил с тобой об этом, потому что ты ему раньше содействовал в оказании этой подпольной помощи. Ведь кому ты обязан знакомством с Сиси?
– Но я же мог задавить и совсем другого ребенка, – пожаловался он.
– Ты вообще не должен был давить никакого ребенка, – сказал я.
– Да, но тут уже ничего не изменишь. Итак, возможен вариант, что меня разоблачат. От природы я слишком честен, чтобы бороться против разоблачения. Иначе как могло случиться, что я оставил вчера это письмо на столе? Но теперь, когда на нас напали немцы, я совершенно не хочу попасть в тюрьму.
– Не надо так мрачно, сказал черт. – Будущее таит в себе и хорошие возможности. Немцы терпеть не могут евреев. Они вот-вот займут эту страну и будут здесь править бал. Обзаведись друзьями-немцами, и тебе ничто не грозит, даже если ты будешь трезвонить о содеянном по всему городу.
Альберехт ответил:
– Если мне не удастся уехать, я найду кого-нибудь, кто починит мой пистолет. Лучше пустить пулю в лоб.
– Но-но-но, – сказал я, – человек не имеет права лишать себя жизни.
«Добровольно явиться с повинной в полицию теперь уже точно невозможно, – думал он. – Если бы не началась война, я, возможно, сделал бы это сегодня утром. Вчера я был не вполне вменяемым. В шоковом состоянии. Сочетание двух роковых событий: отъезда Сиси и этого несчастного случая.
Сегодня утром голова у меня была бы ясная. Она у меня и сейчас ясная. Если бы на нас не напали это чертовы немцы, я бы позвонил кому-нибудь из коллег. Позвонил бы и все уладил. А теперь этого не сделать. Думаю, наша армия не сможет долго сопротивляться, хотя нас уверяют, что все немецкие атаки отбиты. В стране, которую занял Гитлер, сделанное по доброй воле заявление, что ты задавил еврейскую девочку, будет звучать так, будто ты хотел хоть чуть-чуть помочь фюреру… А этого уже достаточно, чтобы умереть от стыда. К тому же каковы будут последствия для Лейковича? Родители девочки сидят в немецком концлагере. Лейковича тоже посадили бы, если бы он не уехал тайком за границу. Если бы Эрик ему не помог».
Эрик… От таких мыслей Альберехт покрылся потом, у него только что зубы не стучали. «Я не могу явиться в полицию с повинной, не подвергая опасности Эрика с Мими. Более того: делая все, что в моих силах, ради сокрытия происшествия с девочкой, я помогаю скрыть тот факт, что девочка вообще жила в Нидерландах. Тем самым я спасаю Эрика и Лейковича.
Ни единый представитель власти не должен узнать правду, ни простой полицейский, ни комиссар полиции, ни прокурор.
Но война войной, а пока я нахожусь в Нидерландах, остается шанс, что дело раскроется. Кто-то мог меня видеть, кто-то сможет меня узнать. Уезжай-ка ты, Альберехт, подальше, пока не поздно. Ты спрятал тело ребенка – но этого недостаточно. Ты и сам должен исчезнуть».
– Вот видишь, – нашептывал черт. – Представь себе, что ты, как законопослушный дурак, вчера же немедленно поехал бы в полицию и заявил бы: я задавил девочку там-то и там-то. Ей бы ты все равно уже не помог, а ее приемных родителей подвел бы под монастырь.
– Не верь ему, – сказал я, – десятки людей знали, что у Лейковича живет девочка. Ты не выдал бы никакого секрета, потому что это не было секретом. Если бы полиция начала расследовать вопрос о законности проживания приемных родителей в Нидерландах, тебе как прокурору ничего бы не стоило застопорить такое расследование.
Покуда немцы не заняли нашу страну, но это вопрос нескольких дней.
Альберехт в итоге заключил, что поступил правильно, бросив девочку в кусты и продолжив путь; эта мысль придала ему уверенности, так что он вытянул левую руку и стал раздвигать ею толпу.
– Извините!
– Извините, извините!
Он все ближе и ближе подходил к окошку.
– Куда это вы без очереди!
– Я из прокуратуры! – отвечал он. – Извините!
В конце концов он добрался до окошка, где банковский работник выдавал деньги какой-то старушке. Альберехт сказал:
– Извините. Я из прокуратуры. Не будете ли вы любезны позвать ваше начальство?
– Из прокуратуры? – воскликнула старушка, сгребая купюры по сотне гульденов (много-много купюр, на взгляд не оценить сколько).
– Не волнуйтесь, – сказал Альберехт и попытался улыбнуться, но почувствовал, что у него только чуть-чуть дернулась правая щека.
Банковский работник встал и пошел вглубь полутемного помещения, где другие банковские работники печатали что-то на пишущих машинках.
На задней стене помещения на равном расстоянии друг от друга висели одинаковые таблички:
БОМБОУБЕЖИЩЕ
Банковский работник вернулся, оперся ладонями о стойку, покрытую черным мрамором, и сказал:
– Подождите минуточку!
Старушка сложила в сумочку последние банкноты и ушла.
Альберехт репетировал про себя байку, которую собирался рассказать, но она полностью улетучилась, когда заведующий отделением банка, вызванный по его просьбе, обратился к нему по имени.
– Берт!
– Андре!
– Идем ко мне в кабинет, – сказал заведующий и показал куда-то вбок.
– Да-да, спасибо!
– Ничего себе! – сказал человек, стоявший за Альберехтом, когда тот стал пробираться в указанном направлении.
– Извините. Позвольте вас потревожить!
Извиняясь направо и налево, он продирался сквозь толпу в сторону кабинета. В конце концов добрался до двери и открыл ее. Он вошел не в кабинет, а в боковой коридор. Здесь были еще две внутренние двери, а в торце имелась дверь на улицу, забранная толстой решеткой.
Он стоял в этом коридорчике и вдыхал тяжелый запах бумаги, характерный для всех банков и нотариальных контор. Запах, особенно тяжелый оттого, что исходит от ценных бумаг.
Затем открылась дверь, напротив которой он стоял, и его университетский товарищ Андре произнес:
– Заходи!
– Я к тебе ненадолго.
– Люди точно с цепи сорвались. Как им объяснить, что хранить деньги у нас намного безопаснее, чем у них дома. Садись, пожалуйста!
– Везде одно и то же, – ответил Альберехт. – Война? Атакуем банки.
Они находились в маленькой комнатке, которая никогда не служила ни для чего другого, кроме переговоров о деньгах, один на один, за маленьким столиком, окруженным четырьмя стульями. Альберехт сел.
– У меня сын в армии, – сказал Андре, – ему как раз двадцать.
– Уже такой большой?
– Да… Родился, когда мне самому было двадцать. Последняя весточка от него пришла из восточной части Гронингена. Так что сейчас он, будем надеяться, уже в плену. А у тебя есть дети?[21]
– Я даже не женат. Я так понимаю, что ты…
– Как знать, как знать…
– Не надо так тревожиться о сыне раньше времени.
– Да ведь немцы уже дошли до дамбы Афслёйтдейк.[22]
– Не может быть! Неужели они уже заняли и Гронинген, и Фрисландию?
– Я звонил в наш филиал в Леувардене. По телефону было слышно, как они маршируют по улице.[23]
– Очень тебе сочувствую, поверь. Прости, что беспокою в такое тяжелое для тебя время.
– Ну что ты. Я не единственный, у кого сын в армии. Так чем же я могу тебе помочь?
– Ты обещаешь, что это останется между нами?
– Разумеется.
– Нам требуется пятьсот английских фунтов на особые цели.
– Ты мог бы мне просто позвонить.
– Знаешь, я решил, что звонить не стоит. Что лучше просто зайти к тебе. Чем меньше звонков и записок, тем лучше.
Андре кивнул. Потом сказал:
– Знаешь, я как раз сегодня утром о тебе вспоминал, когда читал газету.
– Про концерт моей мамы?
– Нет, про обвинительную речь, которую ты вчера произнес, против журналиста, оскорбившего Гитлера. Вся страна краснела бы сейчас от стыда, если бы ты потребовал для него наказания. Ты должен испытывать глубокое удовлетворение, оттого что потребовал освободить его от преследования.
Альберехт промолчал.
– Какой идиотизм – этот закон об оскорблении глав иностранных государств, – продолжал Андре. – Как будто они без нас не разберутся, кто прав, кто виноват. Все смотрели Гитлеру в рот. Когда он еще только сунулся в Рейнскую область семь лет назад, надо было странам Западной Европы объединиться и прогнать его оттуда. Тогда это было еще возможно без кровопролития.
– Да, наверное, – пробормотал Альберехт.
– Во всяком случае, если кто-то в нашей стране имеет основания испытывать сегодня удовлетворение, то это ты. Представь себе, что ты потребовал бы наказания для Ван Дама. Думаю, ты сегодня был бы готов сквозь землю провалиться. – Андре горько усмехнулся и встал. – Когда фрицы нас завоюют, тебе придется несладко. Желаю тебе мужества. Буду держать за тебя кулаки. Подожди минутку, ладно?
Андре направился к двери.
– С какого счета списать? – спросил он, обернувшись. – У прокуратуры есть счет в нашем банке?
– Спиши с моего личного, – ответил Альберехт.
– Крупными или мелкими?
– Давай крупными.
Как все оказалось просто! Пятьсот фунтов, по его представлениям, – все, что было у него на счете. По сути дела, все деньги, которые принадлежали ему в этом мире. И так просто. Сунул в карман – и вперед, в Англию!
Он поздравил себя с тем, что, глазом не моргнув, попросил всю сумму, хотя собирался, памятуя о надписи на грифельной доске, начать с пятидесяти фунтов, а если окажется, что получить валюту невозможно, замять вопрос.
«Я хожу в этот банк уже больше года, и только сегодня выяснилось, что им заведует мой старый знакомый. Почему я строю свою жизнь, не веря в счастливый случай? Почему было не набраться смелости и не поехать вместе с Сиси? Отчего я стал прокурором – олицетворением Покоя, Закона и Порядка? Почему не выбрал огромный мир и жизнь странника, воспеваемую поэтами? Воспел ли хоть один поэт жизнь прокурора?»
– Уймись, – сказал черт, – подсчитай-ка лучше, достаточно ли у тебя на счете денег, чтобы снять пятьсот фунтов стерлингов.
Альберехт принялся считать. Пятьсот. Умножаем на двенадцать с половиной. Получаем шесть тысяч двести гульденов. Есть ли у него столько? Неделю назад, убеждая себя, что надо набраться смелости и уехать вместе с Сиси, он продал несколько ценных бумаг.
Дверь комнатки отворилась, и вошла девушка лет семнадцати с длинными светлыми волосами, пышными и прекрасными. Но спина у нее была сутулая, а очки на носу сидели криво. В левой руке девушка держала связку ключей.
– Менейр Бертельс просил вам передать, что у нас здесь таких денег нет. Недостаточно иностранной валюты. Но если вы обратитесь в головное отделение, то наверняка получите нужную сумму. Менейр Бертельс туда позвонит.[24]
Альберехт медленно поднялся со стула.
– Я правильно понял? – спросил он, заикаясь. – В головное отделение вашего банка?
– Если вы поедете туда сами, то получится быстрее всего. Вы знаете, где это?
– Да, спасибо.
Его старый знакомый Бертельс? Дает ему, вот так вот, от ворот поворот? Разве Альберехт хоть раз был с ним неприветлив? Разве смеялся над ним вместе со всеми, когда Бертельсу в двадцать пришлось лет жениться?
– Конечно, смеялся, – сказал я, – вы все тогда считали Бертельса дураком, за то что он решил жениться. «Плюнь ты на нее, это ее проблемы» – так рассуждали все однокурсники Андре Бартельса.
– Я такого не говорил, – ответил мне Альберехт, – я молчал. Я считал…
– Вы можете выйти прямо здесь, – сказала девушка.
Она прошла по коридору впереди Альберехта и открыла ключом из связки зарешеченную дверь.
«Я был слишком пай-мальчиком, чтобы над ним смеяться, – вдруг вспомнил Альберехт с горечью, – я испытывал к нему отвращение, смешанное со страхом. Я сам в двадцать лет боялся даже смотреть на девушек. И оттого что я был пай-мальчиком, то, что сделал он, представлялось мне ужасающим. Чтобы девушка от него забеременела. Мне представлялось…»
– Спасибо! Всего доброго, юффрау!
Эта дверь выходила в переулок. Пройдя его до конца, Альберехт оказался на центральной улице, где стояла его машина.
– Спокойно, – сказал я. – Ты принимаешь близко к сердцу факты, которые того не заслуживают. Разве не правдоподобно, что у Бертельса в его филиальчике просто нет пятисот английских фунтов? По-моему, это совершенно естественно. Радуйся, что он позвонил насчет тебя в головное отделение. И давным-давно забыл, что ты девятнадцать лет назад думал о нем и о его девушке. Вполне может быть, что он этого никогда и не знал.
Но мне не удалось прогнать тараканов у него из головы.
Через десять минут он затормозил перед головным отделением банка. Напротив него наискосок стоял большой газетный стенд, у которого толпилось множество людей, жаждавших прочитать вывешенный на стенде новостной бюллетень. Альберехт сунул в рот мятную пастилку и вышел из машины. С того места, где он находился, нетрудно было разобрать заголовок на стенде: СОЮЗНИКИ ОКАЗЫВАЮТ НИДЕРЛАНДАМ ПОДДЕРЖКУ. Альберехт повернул голову в сторону банка, и солнце больно резануло по глазам. Он надвинул шляпу пониже, но это не помогло, потому что в глаза ему ударял свет, отраженный от белого мрамора ступенек перед дверью в банк. На входе в головное отделение людей не было. Он подошел к вращающейся двери и толкнул ее. Дверь не подалась. Только тут он увидел за стеклом записку: ЗАКРЫТО. Наши филиалы работают до 12.00.
Закрыто…
– Ловко придумали, да? Дверь на замок и записка «ЗАКРЫТО» за стеклом!
Альберехт медленно обернулся в ту сторону, откуда донеслись слова. Увидел рядом с собой человека небольшого роста в кепке. Решил не отвечать.
Человек глянул на Альберехта с некоторым испугом, у него округлились глаза. Ни слова не говоря, рысцой пустился прочь.
«Наверное, узнал меня, потому что видел в зале суда. И какое же наказание я для него потребовал? Десять гульденов штрафа или десять лет заключения? А я его лица не помню совсем! Сколько же народу было осуждено с моей подачи? Трудно сказать. Можно бы сосчитать, если покопаться в старых бумагах. Богу в душу мать, уж коли я не стал странником, лучше бы остался адвокатом».
Альберехт отступил на два шага и оглядел фасад. Увидел, что в здании имеется вторая дверь, поменьше, подошел к ней, нашел кнопку звонка.
Дверь открыл молодой человек со связкой ключей.
– Вы менейр Альберехт? Заходите, пожалуйста.
Он вошел, и молодой человек снова запер дверь на ключ.
Их каблуки громко стучали по кафельным плиткам пола. Поднявшись по мраморной лестнице, они оказались перед дубовой дверью, которая тут же открылась перед ними. Эта комната для переговоров была намного просторнее, чем та, где он побывал утром, и в ней находились три человека.
Юноша, до сих пор сопровождавший Альберехта, закрыл за ним дверь, а сам остался снаружи.
Один из троих произнес:
– Пожалуйста, садитесь!
И тоже сел. Другие двое остались стоять.
– Вы пришли, чтобы получить английскую валюту, не правда ли?
– Да. А что?
– В связи с военным положением выдавать иностранную валюту строго запрещено.
– Да, я знаю. Но известно ли вам, кто я? Я недавно разговаривал с менейром Бертельсом, и он сказал…
– Очень сожалею. Это два господина из сыскного отдела. Пятую колонну можно ждать везде. Я удивился, зачем вам, прокурору, в такой день, как сегодня, могли понадобиться пятьсот фунтов стерлингов. Сумма нешуточная. Можете ли вы дать объяснение на сей счет?
– Разумеется, легко мог бы, если бы не нарушил этим должностную инструкцию. Пятая колонна? Что вы тут напридумывали?
– По полицейским стреляют со всех сторон, – сказал один из детективов. – Может быть, вы что-нибудь об этом слышали?
От нервов у него задергалось левое веко.
– Немецкие десантники высаживаются в нидерландской военной форме, – сказал второй детектив, – мы не имеем права рисковать.
– Что вы такое вообразили? – спросил Альберехт. – Известно ли вам, кто я?
– Извините, – ответил второй детектив, не проявлявший признаков волнения, – ваше имя я раньше слышал, но в лицо вас не знаю.
– Тогда позвоните в прокуратуру.
– Позвоним обязательно.
– Итак, вы не желаете давать объяснений, для чего вам нужны эти деньги?
– Не желаю.
– Я могу позвонить по телефону? – спросил второй детектив у человека, сидящего напротив Альберехта за столом.
Сидящий человек нажал кнопку звонка на столе, и немедленно появился юноша, недавно открывший Альберехту входную дверь.
– Этот господин хочет поговорить по телефону, – сказал сидящий человек, – покажи ему дорогу!
Когда спокойный детектив вышел из комнаты, сидящий человек спросил:
– Вы настроены пронемецки?
– Как вам только приходит в голову задавать такие идиотские вопросы?
– В такой день, как сегодня, это мой патриотический долг. Вы пришли с противозаконным запросом. Вы пользуетесь своим высоким служебным положением, чтобы добиться того, что запрещено. Если бы вы были частным лицом, вам бы не пришло в голову адресовать просьбу лично директору нашего филиала господину Бертельсу.
– Бертельс – мой старый друг и однокурсник. Даже если бы я не был прокурором, я обратился бы к нему насчет иностранной валюты, при условии что она мне нужна для благой цели.
– Для чего же она вам нужна?
– Я не вправе об этом говорить.
«Вот я и влип, – думал он. – Этот невозмутимый звонит сейчас в прокуратуру. Интересно, кто снимет трубку? Но даже если к телефону по очереди подойдут все, кто сейчас находится в здании, ни один из них не сможет объяснить, зачем мне нужны пятьсот фунтов».
– Я выполняю поручение высшей степени секретности и не должен говорить о нем больше ни слова, – произнес Альберехт медленно и так тихо, что присутствующие ощутили его нежелание произносить даже эти фразы.
Пугливый детектив, до сих слушавший разговор, держа руки за спиной, подошел к двери и вышел в коридор.
– Я ценю вашу бдительность, менейр, – сказал Альберехт директору банка. – Но если вы не доверяете даже таким людям, как я, это перебор. Это может привести к панике по всей стране. Чего и добиваются немцы. К панике. Ради паники они и распространяют слухи.
– Но факт, что в полицейских стреляют. Это не слухи. Позавчера в Роттердам пришел большой корабль, полный немецких солдат. Они два дня скрывались в трюме, а сегодня сошли на берег. Я не могу рисковать.
Дверь снова открылась, и вошли оба детектива.
– Менейр Штернфельд, теперь у нас полная уверенность, что все в полном порядке.
Альберехту, знающему, что на всем белом свете нет человека, который мог бы вселить в них такую уверенность, с трудом удалось подавить растущее чувство отчаяния. Чего они хотят? Что имеют в виду? С кем говорили по телефону?
– Ни о чем не спрашивай! – заорал я ему в ухо. – Какое твое собачье дело? Пока они еще не перешли к действиям, дорогая каждая минута. Постарайся как можно скорее сделать ноги. Надевай шляпу и вали прочь.
– Дать им так легко отделаться? – сказал черт. – И куда ты денешься без денег?
Обычно черт неправ, но на этот раз я не мог отрицать, что поспешный уход может произвести странное впечатление. Так что я смирился с тем, что Альберехт остался сидеть за столом и обратился к детективам:
– Позвольте поинтересоваться, как ваши фамилии?
– Моя Аутхейр, – сказал нервный.
– А я Дюллер, – сказал другой, – мы из Четвертого отдела.
Альберехт сказал:
– То, что здесь произошло, будем считать незначительным инцидентом. Я понимаю, что в силу нынешних обстоятельств не все действуют достаточно обдуманно. Но мне не нравится, что вы впустую тратите время. Самый большой повод для паники подает полиция – тем, что не занимается исполнением своих прямых обязанностей.
– Нас вызвал господин директор.
– Не стоит каждому вызову уделять столько внимания. Ну да ладно, вероятно, вы не знали, что это действительно я…
Вот сукин сын! При последних словах ему даже удалось снисходительно улыбнуться. Они всё проглотили, ничего не ответив. И не сказали, например: дело было не в том, вы это или не вы, а в пятистах фунтах, которые вызвали подозрение. Это были тихие и послушные сотрудники.
Директор позвонил. Уже знакомый молодой человек открыл дверь, и детективы вышли из кабинета. В то время как Альберехт продолжал сидеть за столом, директор встал и сказал:
– Мне очень жаль.
– Я вас не осуждаю, – сказал Альберехт и тоже встал.
Они пошли по коридору, молодой человек с детективами впереди, следом, на расстоянии десяти метров, Альберехт с директором. Молодой человек с инспекторами начали спускаться по мраморной лестнице, директор замедлил шаг и сказал Альберехту:
– Позвольте, я здесь с вами попрощаюсь. Еще раз приношу извинения.
Он протянул руку, не сомневаясь, что Альберехт спустится по лестнице вместе со всеми.
– А деньги я получу внизу? – спросил Альберехт.
– Ах да, этот вопрос мы с вами еще не обсудили. Дело в том, что деньги лежат в сейфе, а ключа от сейфа у меня нет.
– У вас нет ключа от сейфа?
– Чтобы открыть сейф, требуется два ключа, и второй ключ хранится у вице-президента банка.
– И где же вице-президент?
– Я и сам хотел бы знать.
Директор замолчал и глубоко вздохнул, глядя Альберехту в глаза.
– Мне больно об этом говорить, но я подозреваю моего вице-президента в симпатии к немцам. То, что он сегодня утром не пришёл на работу, – плохой знак.
– Вы не попытались его разыскать?
– А вы как думаете? К телефону у него никто не подходит. И дверь квартиры никто не открывает, сколько ни звони.
– А в полицию вы сообщили?
– Почему, вы думаете, здесь оказались эти детективы?
– Я этому удивился, и всё.
– Честно говоря, я понятия не имею, что меня ждет. Не понимаю, что означает отсутствие этого человека в такой день.
– Но вы ведь могли заблаговременно подыскать другого вице-президента?
– Дело в том, что мое положение очень шаткое. Я еврей. А мой вице-президент хоть и симпатизирует немцам, но сам, по его заверениям, не антисемит. Ой-ой-ой, когда неприятности сыплются одна за другой, не понимаешь, что надо делать. Я уже с полгода жду, что немцы скоро придут, вот и подумал, что совсем не помешает иметь вице-президента, симпатизирующего немцам.
Альберехт ничего не ответил, потому что директор после сказанного выдержал паузу, которая была частью его рассказа.
И тот продолжал:
– Но если я вдруг уволю этого прогермански настроенного вице-президента, что тогда скажут фрицы?
– Я восхищаюсь вашим мужеством, тем, что сегодня утром, когда ваш вице-президент не вышел на работу, вы обратились в полицию.
– Вам это представляется не слишком продуманным поступком, – сказал директор, – да так оно и есть. Но увидев сегодня утром, как эти гады летят по небу, я разозлился не на шутку, вы меня понимаете. И подумал: черт побери, будь, что будет. Если Орлеманс не вышел на работу оттого, что по уши занят докладом немецкой разведке, выдает ей все-все, что сам знает, то пусть наши его арестуют и поставят к стенке, пока не поздно.
Директор сделал шаг к двери и открыл ее перед Альберехтом.
– До свидания, господин прокурор. Вы слышали, что я сказал: если у него на уме недоброе, то его, надеюсь, арестуют и поставят к стенке, пока не поздно. Его фамилия Орлеманс и живет он на аллее Гроция, дом 32.
«Вместо того чтобы дать пятьсот фунтов, директор банка напоминает мне о моих служебных обязанностях. И что же делать?»
У Альберехта закружилась голова, и он принялся сетовать на свою судьбу, которая словно вела его от злодеяния к злодеянию.
И что же делать?
Вообще-то в обязанности ангелов-хранителей не входит давать советы душам, вверенным их попечению. Ибо как может ангел проследить эти извилистые стези человеческих поступков, не замаравшись? Движения человеческой души ведомы только Господу Богу, а наша компетенция – передавать человеку Его благие вести. И делать рукой предупреждающий жест, когда манит черт. И спешить на помощь, когда грозит несчастье. И преграждать путь смерти, пока не пробил час, – но когда этот час пробьет, знает только Господь Бог, мне это тоже неизвестно.
Оттого что несчастья грозят человеку постоянно, говорит черт, и оттого что все беды просто-напросто не могут обрушиться на человека разом, некоторые из них обходят его стороной. И тогда ангелы-хранители тешат себя мыслью, что помогли своему подопечному, дали правильный совет. Зануда черт часто бывает прав.
Выйдя из банка, Альберехт увидел напротив небольшой скверик, рядом с которым стояла телефонная будка.
Хотя он собирался исчезнуть, так что ничто уже не играло никакой роли, у него по-прежнему свербила мысль о деньгах, а ноги сами собой перешли улицу и понесли его к этой будке. Он знал почему: ноги повели его к телефону, потому что он хотел позвонить на работу.
По меньшей мере, надо что-нибудь сказать, чтобы его отсутствие не вызвало беспокойства или подозрений, а главное, ему было любопытно, с кем и о чем разговаривал тот детектив, когда звонил из банка, и какое впечатление произвело сообщение о том, что прокурор в первый день войны лично заявился в банк, чтобы выклянчить английских фунтов.
Около будки, в тени большого каштана, стояли пять женщин, которые что-то обсуждали. Когда Альберехт открыл дверь будки, одна из женщин крикнула ему:
– Менейр! Можете не пытаться! Автомат не работает!
Он обернулся и сказал ей неправду:
– Ну что вы, я звонил три минуты назад.
Вошел в будку, снял трубку, бросил в щель пять центов. Гудка не было.
Женщина, явно подумавшая, что Альберехт не расслышал ее слов, открыла дверь в будку.
– Они отключили телефоны, – сказала она. – Во всем городе нет связи. Сейчас только доктора могут звонить.
– Кто «они» отключили?
– Телефонная станция, это сделала телефонная станция. Против Пятой колонны!
Альберехт повесил трубку, монетка со звоном выскочила наружу. Он сунул монету в карман и вышел из будки.
Другая женщина сказала:
– Насколько мне известно, все наоборот. Это Пятая колонна отключила телефоны. Везде предатели. Директор КЛМ тоже предатель. Подавал немцам знаки. Его застукали на месте преступления. Солдат, увидевший, как он подает знаки, сразу же застрелил его.
– Откуда тебе известно? Знаешь, голубушка, я не верю ни одному твоему слову.
– Думаешь, я фантазирую? Это передавали по радио. Мой сосед своими ушами слышал. И телефоны отключили, по-моему, тоже предатели. Чтобы все в стране пошло вверх дном. Правда, менейр?
– Я спешу, – ответил Альберех. – Прошу прощенья.
Приподнял шляпу на два сантиметра и перешел улицу к своей машине.
Не проехал он и пятисот метров, как дорогу преградил полицейский с поднятой рукой.
Альберехт остановился.
Полицейский подошел к водительскому окну, наклонился к Альберехту и приказал:
– Скажите «Схевенинген»!
– Схевенинген, – произнес Альберехт.
– Можете ехать, – сказал полицейский.
– Схевенинген, – еще раз сказал Альберехт себе под нос, заставил себя улыбнуться – из страха, что полицейский все же что-то заподозрит, и тронулся с места.
Схевенинген. Им этого слова не выговорить. Сиси тоже не могла его произнести. Она раньше никогда не бывала в Схевенингене, но слышала про него, так что как-то раз в дождливое воскресенье Альберехт решил ее туда свозить. По воскресеньям в Схевенингене всегда идет дождь. В другие дни тоже, но в другие дни туда никто не ездит.
Когда Сиси приехала в Голландию, купальный сезон уже закончился и в Схевенингене никто в море не плавал. Второй раз они ездили туда в январе, в ужасно холодный день. Был такой мороз, что вдоль линии прибоя песок покрылся льдом. Вместо набегающих волн здесь стояли, чуть наклонно, льдины, увенчанные застывшей пеной.
– Скефенинген, – сказала Сиси; это слово, звучавшее совсем не по-голландски, донеслось из поднятого мехового воротника, который она, дрожа от холода, придерживала рукой.
– Нет, надо сказать Схе-ве-нин-ген.
Он весь день объяснял ей, как произносится это слово. Она даже приложила свои холодные, как лед, пальчики к его горлу, чтобы понять, как надо выговаривать звуки, но в девяти случаях из десяти у нее получалось неправильно.
Сейчас он снова увидел перед собой застывшее море, прямо сквозь горячий асфальт под колесами его машины, и подумал: тогда напасть на Нидерланды было невозможно, по крайней мере, с моря. Сейчас с моря тоже никто не думал нападать, но по необъяснимой причине Альберехт наслаждался мысленной картиной баррикады изо льда. Через нее не пробился бы морской десант. А самолеты безнадежно заблудились бы в густом тумане. Ураганный ветер изорвал бы в клочья парашюты воздушного десанта. Он фантазировал о всевозможных метеоусловиях, из-за которых немецкие захватчики потерпели бы неудачу, а сам ехал под ярким весенним солнышком в эту пятницу, 10 мая 1940 года. Словно кто-то поручил ему задание разработать план метеозащиты от Германии и стоит отдать пару приказов, как небо покроется тучами, солнце исчезнет, температура опустится до минус 15 градусов, поднимется штормовой ветер. Градины размером с булыжник пробьют крылья вражеских бомбардировщиков.
Вот ведь как устроены люди: даже находясь в глубоком отчаянии, они готовы подкидывать Господу идеи, как надо править миром, вместо того чтобы думать о собственных делах.
Он повернул направо так резко, что шины проскребли по краю тротуара. Необходимость вырулить вернула его на миг к действительности.
Прокурор, у которого на совести как минимум четыре правонарушения: движение по встречному направлению по дороге с односторонним движением, убийство по неосторожности, оставление места ДТП, сокрытие жертвы. А в данный момент он готовит пятое: уклонение от исполнения долга в военное время.
Каждый проступок вел за собой следующий. Предположим, ему удастся добраться до Англии, затем до Америки, сможет ли он там продержаться? И что надо сделать, чтобы быть вместе с Сиси? Чтобы жить с ней счастливо, имея столько всего на совести?
«Это вполне возможно, – думал он, – такое бывает. Скольких преступников я разоблачил! Как тщательно изучал их действия, как досконально вскрывал, что происходит у них в душе! И что же происходит у них в душе? Как правило, точно то же самое, что и у порядочных людей. Именно этому я посвящал самые пафосные моменты в моих обвинительных речах, как полагается блюстителю нравов».
Но что самое поразительное: сейчас, когда Альберехт должен был воплотить этот теоретический опыт в жизнь, у него ровным счетом ничего не получалось. На работе наверняка уже обратили внимание на его отсутствие из-за телефонного звонка детектива. Английской валюты он так и не раздобыл. (Интересно, это Андре сыграл с ним такую шутку?) И даже если бы деньги были, четкого плана переправы в Англию он все равно не имел. Какая несуразица! По сравнению с этим бездумная импровизация воришки по случаю – верх сметливости. Сколько лет он имел дело с преступлениями, выяснял все обстоятельства, восстанавливал ход событий, обличал правонарушителей, раскрывая все-все элементы злодеяния: мотивы, мельчайшие подробности исполнения, психологию участников, – а сам не научился ничему, подобно музыкальному критику, который не способен взять ни одной ноты, а умеет только писать музыковедческую тарабарщину.
Самое благоразумное решение, которое он мог принять, – это вернуться на работу, что он в конечном счете и сделал.
У входа в здание суда дежурили два полицейских с карабинами.
– Стоять! – крикнул один из них.
– Все в порядке, – сказал другой, – здравствуйте, менейр Альберехт!
Альберехт по-свойски поднес указательный палец правой руки к полям шляпы и взбежал по ступеням. Нигде не задерживаясь и никого не встретив, он быстро дошел до своего кабинета.
Именно в это время, один-единственный час в сутках, солнце проникало в помещение через эркер и способствовало разложению хранящихся в шкафах старых бумаг.
Глубоко вдыхая этот душный запах, он сидел за письменным столом. Хотел достать мятную пастилку, но по ошибке сунул руку в тот карман, где кончики пальцев встретили письмо от малышки Оттлы Линденбаум.
Было ли это предупреждением? Подвергал ли он себя опасности, храня это письмо?
Им овладело странное суеверное чувство, когда я ему сказал:
– Если ты уничтожишь еще и письмо, это будет заключительным штрихом в твоем и без того гигантском преступлении. Получится, что ты выбросил не только девочку, но и ее письмо, так ведь?
Но он придумал языческое объяснение. Он убедил себя в том, что письмо – это нечто вроде талисмана, который дарует ему волшебную силу и в итоге поможет вопреки всему спастись. Он считал это письмо также доказательством того, что ни о каких преднамеренных действиях и речи быть не может, что все случившееся было в чистом виде несчастным случаем. Не только то, что он задавил девочку, но и то, что спрятал ее тело. Вот письмо, доказательство, что я не держал на нее никакого зла. Вот ее письмо, ее почерк. Вот доказательство, что я не собираюсь уклониться от Суда.
Альберехт принял решение не выбрасывать письмо до тех пор, пока не окажется посередине Северного моря. Но и там не выбрасывать. Послать его по почте адресату. Для этого тем более необходимо покончить со своей медлительностью и сделать отважный рывок через море, подальше и от собственной катастрофы, и от катастрофы родной страны.
Тут он снял трубку и спросил у вахтера, не звонил ли кто-нибудь и не просил ли ему что-либо передать. Нет, передать никто ничего не просили. И никто не звонил? Нет, никто не звонил.
Так он и думал. Детективы пришли в банк ради вице-президента Орлеманса, а не ради него. Они не решились позвонить в прокуратуру и просто поверили Альберехту на слово. Они? Нет, только один из двоих, Аутхейр или Дюллер. Который же это из них выходил из кабинета, чтобы позвонить? Или он не смог позвонить, потому что в банке телефоны тоже были отключены? Он сказал, что позвонил и что все в порядке, просто так, чтобы закрыть вопрос. Может быть, их звали вовсе не Дюллер и Аутхейр.
Альберехт провел левой рукой по голове, и рука на миг остановилась около левой щеки. Оттого ли, что рука в таком положении частично закрывает ухо, человек в этой позе способен лучше слышать свой внутренний голос? Альберехта посетила мысль. Он позвонил в Четвертый отдел, где работали, если им верить, те два детектива, и попросил к телефону комиссара.
Комиссар подошел к телефону.
– Это говорит Альберехт. Вы уже разыскали Орлеманса?
– Насколько мне известно, нет.
– Пожалуйста, продолжайте поиски как можно скрупулезнее.
– Поиски Орлеманса?
– Я сегодня случайно узнал о нем кое-что в головном отделении моего банка. Там были двое детективов, Дюллер и Аутхейр. Они же из вашего отдела?
– Да, конечно.
– Они находились в банке по приглашению директора, некоего Штернфельда. А вице-президент банка по фамилии Орлеманс, настроенный прогермански, исчез в неизвестном направлении. Они его нашли?
– Ничего об этом не знаю, менейр. На нас градом сыплются сообщения о подозрительных личностях и о домах, из которых стреляли по полицейским, о людях, выводящих из строя пожарную сигнализацию, о проколотых шинах у полицейских машин. Я честное слово не знаю.
– Прошу вам передать Дюллеру и Аутхейру одну важную вещь. Они должны всем говорить, что это я отдал распоряжение как можно скорее задержать Орлеманса и рассмотреть его дело. И ни в коем случае не рассказывать, что их вызвал директор банка. Они ни при каких условиях не должны упоминать при Орлемансе фамилию Штернфельд.
– Как вы говорите? Штернфельд?
– Да, Штернфельд.
– Хорошо, я сделал об этом запись. Приложим все усилия.
– И ни в коем случае не называть фамилию Штернфельд.
Альберехт попытался сосредоточиться на своих обычных обязанностях. Но непрерывно думал об Орлемансе. Надеялся, что его сегодня же найдут. Что еще удастся забрать у него ключ от сейфа. И пойти с ключом к Штернфельду, который при таком повороте дел уже не сможет отказать ему в английских фунтах.
Ему в кабинет принесли кофе с бутербродами. Какие-то люди без конца сновали туда-сюда. Приходилось думать то об одном, то о другом.
Примерно в половине третьего в кабинете неожиданно появился Бёмер, тот без стука вошел в дверь, которая была открыта, так как от Альберехта как раз собирались уйти два комиссара полиции.
– Знаю, что помешаю вам, – сказал Бёмер, – но я срочно должен поговорить с менейром Альберехтом наедине.
– Да нет, не помешаете, – ответил Альберехт и поспешно сделал шаг к столу, чтобы не упасть.
– Мы уже уходим! Мы уже уходим! – весело закричали полицейские.
Пока комиссары выходили из кабинета, Альберехт не сводил с Бёмера глаз.
Но не Бёмер, а я сумел прочитать, что было написано в этих глазах.
Уничтожь меня, Бёмер. Ты получил известие о том, что в кустах рядом с Марельским проездом нашли тело маленькой девочки. Ее звали Оттла Линденбаум, и ты сразу же подумал про себя: это имя я откуда-то знаю. Где-то я видел письмо, на котором была написана фамилия Линденбаум. Где же это было? Ах да, на письменном столе у Альберехта.
Тут я ему шепнул:
– Если Бёмер об этом заговорит… что очень маловероятно… ты запросто можешь ответить: «Да ты что, тебе это, наверное, приснилось».
– Альберехт, – сказал Бёмер, – я только что получил очень странное известие.
– На конверте ее фамилии вообще не было, – сказал я, – оставайся спокоен.
– Какое, Отто… – пробормотал Альберехт.
– Гестапо разыскивает твоего брата. Уже сейчас. В списке есть его фамилия. В немецком самолете, который сбили сегодня утром, оказалась куча документов. Видимо, его собирались посадить на один из аэродромов, уже захваченных парашютистами. В этом самолете были подробнейшие планы. Карты местности, инструкции для Пятой колонны и все такое. Вот уж наглость. И среди прочего список лиц, которых следует немедленно найти и обезвредить. Fahndungsliste. Порядка сорока фамилий. В том числе Р. Альберехт.[25]
Бёмер умолк, но Альберехт не говорил ни слова.
– Р. Альберехт, – повторил Бёмер. – Ошибка исключена. Мой источник сам держал этот список в руках, он знает твою фамилию и потому пришел ко мне.
– А где он сейчас?
– Уже ушел.
– Но такого просто не может быть, чтобы разыскивали моего брата, – сказал Альберехт. – С какой стати им так спешить с его арестом? Они чокнулись, что ли?
Бёмер опустил уголки губ и развел руками, как будто хотел показать, до какой степени необъяснимо полученное им известие.
– И кто еще был в списке?
– Около сорока фамилий.
– Да, но каких?
– Не знаю. Мне рассказали по секрету, потому что мы знакомы с этим человеком, но военная разведка таких сведений не выдает.
– Ты не попросил копию?
– Копию? Так они мне ее и дали!
– Но нам же очень важно знать, кто включен в список.
– Попробуй объяснить это военным. Ты же понимаешь, я рассуждаю так же, как ты. Это было первое, что я сказал: дайте нам, пожалуйста, весь список. Но нет, пока это еще невозможно.
– Как будто у нас впереди уйма времени.
– Я ему и говорю, ведь этих людей, говорю, надо предупредить? Отгадай, что он ответил! Милый мой, говорит, может быть, ты пораженец? Как ты думаешь, кто в нашей стране главный, гестапо или мы? Вот какая у военных логика.
– Но что за люди включены в список?
– Насколько я понял, в основном британские агенты. Именно поэтому, понимаешь ли, вояки не хотят давать нам список. То, что в Нидерландах все это время были британские агенты, должно оставаться в глубокой тайне из-за нашей политики нейтралитета.
– Но мой брат же не британский агент? Смех, да и только.
– Твой брат, насколько я знаю, художник?
– Да.
– М-да. Почему его имя в списке, не понимаю. Похоже, немцы знали, что все эти люди действуют в нашей стране, иначе почему бы стали составлять такой список.
Бёмер говорил и говорил. Защищал нидерландское правительство и нидерландскую политику нейтралитета. Подчеркивал, что Нидерланды оставались нейтральными до последнего, причем, как выяснилось, себе во вред. То, что в стране действовали английские агенты, ничего не доказывает.
– Разве мы могли помешать англичанам высадить на нашу территорию пару-другую своих людей? Что мы могли сделать, чтобы этому помешать? Мы, как выясняется, не могли помешать даже немцам высадить тут своих людей. Уже один этот список – доказательство, что у немцев здесь есть свои люди.
– Согласен, – сказал Альберехт, – но и наша собственная разведслужба наверняка знала о здешних английских агентах. Иначе как они поняли, по какому принципу эти фамилии включены в немецкий Fahndungsliste?
– Я выскажу эту мысль моему знакомому, – сказал Бёмер, – когда увижу его в следующий раз. Но боюсь, нам это не много даст.
Так они и беседовали еще минут пятнадцать. Но внутри Альберехта в это время снова зазвучал голос черта. «Может быть, там перепутали инициал, – сказал черт, – может быть, в список включили не Ренсе, а тебя самого. А если это так, если гестапо разыскивает не его, а тебя, то тебе будет нетрудно получить официальное разрешение уехать в Англию. Вот это была бы удача!»
– Постарайся, пожалуйста, раздобыть копию списка, – сказал Альберехт. – Возможно, мы еще успеем помочь моему брату уехать из Нидерландов. Но для этого необходимы доказательства. На слухи нельзя полагаться.
РЕНСЕ жил на улице, где проезжало так мало машин, что проезжую часть еще не заасфальтировали и она была вымощена неровной, там и сям провалившейся клинкерной плиткой. Визит к Ренсе всегда начинался с тряски и характерного звука шин по такому покрытию, пока машина не останавливалась.
Тем самым усиливалось впечатление тяжелой и убогой жизни, которое производила эта пустынная и неприглядная улица.
«Быть моим братом Ренсе, – размышлял Альберехт, – это значит трястись по щербатой мостовой на двадцатилетнем “фордике” всякий раз, когда ты едешь из дома или домой».
Эта мысль всегда посещала его, когда он ехал к Ренсе.
Он неизменно парковался позади его «форда», единственной машины на этой части улицы. У других здешних обитателей машин не было, что в ту пору в подобных районах считалось само собой разумеющимся.
Альберехт вышел из машины и осмотрелся. Все здесь выглядело так же безотрадно, как и в мирное время. Только большинство окон были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Благодаря этому стекло не треснет, если поблизости разорвется бомба, так писали в газетах.
– Твой брат, – сказал я Альберехту, пока он нажимал на кнопку звонка, – твой презираемый всеми брат сейчас тебя, возможно, спасет.
Дверь открылась, Альберехт вошел и увидел наверху лестницы Паулу в длинном халате.
– Это ты? – крикнула ему Паула.
«Задавая вопрос, – подумал Альберехт, – она сразу же утверждает, что это я, а на самом деле предпочла бы посомневаться, если бы имела такую возможность».
Альберехт не знал, что ответить, и начал подниматься по лестнице.
– Неблагодарный, – сказал я, – ты не думаешь, что лучше бы тебе не подниматься по этой лестнице?
Мы с чертом оба читали его мысли: он умирал от любви к брату.
– Ты чокнулся, – сказал черт. – Даже если Ренсе действительно внесен в список, тебе не будет никакого прока от того, что ты ему об этом расскажешь. Единственное, что для тебя важно, это вместе с ним прийти к выводу, что гестапо, возможно, ищет не его, а тебя. Лучше оставь Ренсе в неведении.
– Как это оставить Ренсе в неведении? – сказал я. – Если в списке имеется в виду все-таки Ренсе, а не ты… Что ты будешь испытывать, если не предупредишь и с ним что-то случится?
«Подумать страшно», – размышлял он, поднимаясь все выше и выше по крутой лестнице, где пахло сухим кокосовым волокном.
– Мы решили прилечь отдохнуть, – рассказывала тем временем Паула. – Мы еще вообще не спали. А ты как и что?
Когда Альберехт наконец добрался до лестничной площадки, на которой стояла Паула, она спросила:
– Ты не в Англии?
Дурацкий вопрос, если воспринимать его буквально. Но его можно понять и как смягченный вариант нескромного вопроса: ты все еще здесь? Почему же ты до сих пор не уехал в Англию?
Альберехт прикинулся дурачком и молча покачал головой.
– Это правда, – спросила Паула, – что Пятая колонна отравила водопровод?
– Ничего не знаю.
Альберехт повесил шляпу на вешалку.
– Ренсе! – крикнула Паула. – Это все чушь! Вода в кране не отравлена! Так говорит Берт!
Ренсе вышел из спальни с бутылкой пива в руке, в пижаме. Он ступал по полу босыми красными ногами, верх и брюки пижамы не подходили друг к другу.
– Ренсе, – сказал Альберехт, – я…
– Вода в кране не отравлена! – сердито крикнула Паула. – И это последняя бутылка пива, которую ты пьешь. Понял?
– Не ссорьтесь, – сказал Альберехт, входя в гостиную, – у меня не слишком хорошие новости.
Его принялась обнюхивать собака средних размеров, с проплешиной на спине.
На полу гостиной лежал линолеум, кое-где проносившийся и повсеместно со стершимся рисунком. Ковра не было. Три плетеных стула. На окнах нет занавесок. На каминной полке черного мрамора стояла конструкция из обмакнутых в кобальтовую синюю краску губок, прикрепленных железной проволокой к деревянным основаниям. На стенах висели те же картины, что и всегда. Две синие и одна розовая. Картины были примерно полтора метра высотой и метр шириной. Краска на них лежала идеально ровно. Матовая, глубокого синего цвета. Кобальтово-синего. Вообще-то Ренсе мог бы, неизменно думал Альберехт при виде этих картин, просто-напросто купить штуку синей холстины для тентов, разрезать ее на куски и натянуть на окна.
Эти картины созданы, разумеется, иным способом. Как и все картины на свете, они когда-то были белым полотном. Ренсе собственноручно покрасил холст синей краской, когда в его творчестве наступил синий период. А розовую картину он написал в свой розовый период.
Альберехт, немного наклонившись, держал руку на голове у собаки, как бы ища у нее поддержки.
– Расскажу-ка я все сразу, – сказал он. – Помните первую воздушную тревогу, сегодня рано утром?
– Слушай, Пузик, присядь-ка для начала, – сказал Ренсе и указал на один из плетеных стульев посреди комнаты. – Располагайся поудобнее, не так уж часто ты у нас бываешь.
Альберехт сел. Собака вышла из комнаты и вернулась со щенком в зубах, которого и положила у ног Альберехта.
Ренсе тоже сел и сделал глоток пива.
Паула осталась стоять с таким выражением лица, как будто что-то подозревала, но что? Альберехт не продолжал начатую фразу.
– Ну и что? – спросил Ренсе, зевнул и почесал бороду.
– Сегодня утром сбили немецкий самолет и нашли в нем секретные немецкие документы. Одним из них был список разыскиваемых лиц. Список людей, которых гестапо хочет арестовать, как только представится случай. И в этом списке есть твое имя.
– Мое?
– Я услышал это от моего заместителя Бёмера. А он узнал от военной разведки. И пришел меня предупредить. Бёмер сказал, что ты в списке. Ты что-нибудь понимаешь?
У его ног собралось уже несколько щенков, а собачья мамаша просунула морду ему между колен.
– Гестапо? Да ну тебя, – сказал Паула. – Гестапо хочет арестовать Ренсе?
– Да. Ренсе. Не хочу вас пугать…
– Но почему именно Ренсе?
– Не знаю. Сомневаюсь, что в списке была указана причина. Сам я списка не видел.
– Это наверняка ошибка, – сказала Паула. Он уже два года назад вышел из АКАФ.
– Ты там больше не состоишь? – спросил Альберехт.
– Фу! – сказал Ренсе. – Фу-фу-фу! Ширма для прикрытия, выдуманная коммунистами. Там правят бал исключительно коммунисты, и мне совсем не хотелось, чтобы мной манипулировали эти уроды, которые только поддакивают, когда Россия заключает с Германией пакт о ненападении, чтобы прикрыть ей спину.
– Они заключили пакт о ненападении меньше двух лет назад.
– Но я еще раньше все понял, Пузик, еще до пакта.
– У нидерландской полиции Фронт действия против фашизма отнюдь не был на хорошем счету, – сказал Альберехт, – но именно в свете пакта о ненападении между Россией и Германией я не понимаю, почему немецкая полиция до сих пор…
– А кто еще фигурирует в этом списке? – спросил Ренсе.
– Больше никого не знаю. Бёмер сказал, что все остальные якобы английские шпионы.
– Но как их зовут?
– Бёмер назвал мне только одно имя – твое.
– Берт, – продолжал настаивать Ренсе, – я очень хочу узнать другие имена, хотя бы для того, чтобы предупредить этих людей.
– А почему ты думаешь, что их вовремя не предупредят? Тебя ведь предупредили?
– У тебя с собой эти деньги? – спросила Паула.
– Какие деньги?
– Те деньги, которые ты попросил у Эрика, чтобы отправиться следом за Сиси. Скажу тебе честно, как лично я понимаю это предупреждение. Мы не должны позволить гестапо нас схватить, так ведь? Значит, нам надо срочно уехать из Нидерландов, раз Нидерланды не смогут выстоять против Германии. Ты же это имеешь в виду?
Альберехт кивнул, но ответил:
– Выяснилось, что у Эрика нет денег. Он думал, что есть, но ошибся. Раздобыть деньги ужасно трудно. Банкам запрещено выдавать иностранную валюту. Но я продолжаю попытки. Как только что-то добуду, вернусь.
– Я не поеду в Англию, – сухо сказал Ренсе.
– Ты с ума сошел, – сказала Паула.
– Я не поеду в Англию, – повторил Ренсе, – ради меня не мучайся. И не приходи сюда с деньгами. Я с тобой не поеду.
– Какая чушь. Ты в опасности. Для меня это никакая не жертва. Мне уже все равно не догнать Сиси. Ее корабль давно плывет по океану в Америку.
– Я не могу.
– А что будет со мной? – спросила Паула.
– Я останусь здесь, – сказал Ренсе, не обращая внимания на ее вопрос.
– Но почему? – спросил Альберехт. – Тебя заморят в концлагере, если ты попадешься им в лапы. Оставаться здесь – безумие, когда есть возможность уехать, скажешь, нет?
– Намерения у тебя благие, но вопрос ты ставишь неправильно. Почему я хочу остаться здесь? Я знаю, что вы считаете меня шарлатаном, а мои картины мазней, но не думайте, что я готов уехать, бросив свои работы на произвол судьбы.
– Бросив свои работы на произвол судьбы… Но, Ренсе, ведь в последние годы из Германии уехали толпы художников и других интеллектуалов, и теперь они продолжают работать в Америке.
– То были знаменитости. Их приняли за океаном с распростертыми объятиями. А обо мне никто никогда не слышал, ни здесь, ни в Америке, нигде. За исключением гестапо. Гестапо, как выясняется, обо мне слышало.
– И ты воспринимаешь это как награду, чувствуешь себя польщенным и хочешь остаться, чтобы не разочаровать господ гестаповцев.
– Не болтай чушь.
У Ренсе на глазах выступили слезы, и Альберехт отлично знал, о чем думает брат, что он сейчас скажет, потому что он говорил это очень часто, уже много лет подряд.
– То, что я считаю осмысленной работой, другие считают сумасшествием, а то, что я считаю сумасшествием, другие считают осмысленной работой. Уроки рисования в школе! Поверь мне, Берт! Это придумал какой-то чокнутый, что детей надо учить рисовать. За все годы, что я работаю в школе, мне попалось от силы два ученика с малюсенькой искоркой таланта. Мне платят за то, что я трачу время впустую. Я получаю деньги, обучая детей ерунде, в которую сам не верю. Объясняю, как нарисовать ящичек для сигар в перспективе. Гипсовую голову императора Траяна – древесным углем, с растушевкой. Я зарабатываю на хлеб тем, что по двадцать часов в неделю позволяю над собой издеваться соплякам, которые никогда не научатся рисовать, и поэтому я не могу на них сердиться за то, что они надо мной издеваются. Потому что я жулик. Обманщик. А все те, кто говорит, что я обманщик, оттого что пишу синие картины, – они сами обманщики и лгуны. Ибо я действительно обманщик, но не в том смысле, что они думают.
– Слушай, – сказал Альберехт, – если ты уедешь из Нидерландов, то, может быть, найдешь в Англии место работы, которое будет тебе больше по душе.
– Вообще-то, – сказала Паула, – не исключено, что англичане, в отличие от голландцев, сумеют оценить мои мини-гравюры. В Англии искусство гравюры процветает уже много веков. Там знают, что такое хорошая гравюра.
– Найду место работы, которое мне больше по душе! – воскликнул Ренсе. – Неужели вы правда думаете, что я сплю и вижу другое место работы? Заняться каким-нибудь другим дерьмом, чтобы не помереть с голоду, записаться в каменщики, потому что хочу жрать? Прости, Берт, но больно ты размечтался! Мне уже давно все это надоело. Я хочу, чтобы мне наконец начали платить за то, в чем я действительно чего-то достиг, за профессию, которая действительно моя. Я имею право жить на доход от того, ради чего я живу, быть тем, кто я есть. Понимаешь ли ты, что я никакой не паяц?
– А что ты умеешь? – спросила Паула. – Взять большое полотно и размазать по нему синюю краску? Думаешь, другие так не смогли бы? Это же любой дурак может.
– Но никто не делает.
– Но любой, кто захотел бы, сумел бы запросто.
– Такая идея не пришла в голову еще ни одному смертному. А мне пришла. Я первый. Первый во всей мировой истории. Понимаешь? Я опережаю свое время лет на пятнадцать.
– Ты думаешь, что… – сказала Паула, – ты думаешь, что… Но если немцы выиграют эту войну, то подобным глубокомысленным шуткам конец. Тогда люди, умеющие нарисовать гипсовую голову или ящичек для сигар, станут знаменитыми художниками.
– И тебе не придется больше стыдиться уроков рисования в школе, – сказал Альберехт. – Этого ты хочешь?
– Оох, – простонал Ренсе, – вы дегенераты, но терпению моему нет предела. Думаешь, я потому не хочу в Англию, что мечтаю остаться здесь и рисовать для нацистов гипсовые головы, ящички для сигар и толстых теток? Фюрер с боевым топором под священным дубом. Гретхен с детской коляской и мужем-эсэсовцем. Думаешь, я хочу заняться проституцией?
– Не говори глупостей! – сказал Альберехт, повысив голос. – Чего не думаю, того не думаю. Да у тебя и не будет случая продаться нацистам, потому что гестапо за тобой уже следит. Собирай чемодан и готовься к отъезду, больше я тебя ни о чем не прошу.
– Давай, пошли наверх! – сказал Ренсе и встал.
Альберехт вышел вместе с ним в коридор, и они пошли по лестнице на чердак.
– Но я все равно не понимаю, – говорил Альберехт, идя следом за Ренсе, – ведь ты не занимал в АКАФ никаких высоких должностей. А я знаю, что других членов этой организации в гестаповском списке нет. Я специально задал Бёмеру вопрос. Или за тобой водятся еще какие-нибудь грешки?
– Ты что, не веришь, что меня внесли в список за мое творчество? Ты не веришь?
Они вошли в чердачную комнатку, которая служила Ренсе мастерской. Все здесь было настолько заставлено непроданными картинами, что Альберехт недоумевал, как Ренсе ухитряется найти место, чтобы писать новые. Картины, связанные по несколько штук одинакового формата, стояли вдоль стен. Но это еще не все. Чтобы сэкономить место, множество полотен Ренсе свернул. Они лежали на полке, точно рулоны обоев в строительном магазине. Под самым потолком он натянул веревки, на которых висело еще множество рулонов.
– Честно говоря, – произнес Альберехт, – я совершенно не понимаю, зачем они хотят тебя арестовать, эти немцы.
– Кто-нибудь, кто меня боится, указал им на мои полотна.
– Кто именно?
– Откуда я знаю?
– О тебе когда-нибудь писали в газетах?
– Газеты пишут только о ширпотребе и о художественных ремеслах, а не обо мне.
– Но я считаю, Ренсе, что нельзя уж так усложнять задачу для зрителей, которые хотят тобой восхищаться. Когда они видят картину, на которой нет ничего, кроме синего цвета, они думают: я бы так тоже смог. Может быть, стоит хоть изредка делать им маленькую уступку? Даже Мондриан предъявляет к зрителю не такие суровые требования, как ты.
– Уступку… Что подразумевает под этим словом господин искусствовед?
– Я имею в виду, чтобы на картине было что-то еще кроме синего цвета. Хоть что-то еще. Скажем, пусть на синем фоне будет красный круг или желтый треугольник.
– Это уже давно пройдено, голубчик. Сто лет назад.
Ренсе улыбнулся одним уголком рта, но суровое выражение не покидало его лица.
– Прости, – сказал Альберехт, – я не слишком много в этом понимаю, но признай, что я такой не единственный.
– Ну-ну, крепко сказано. Именно этого-то я в свою очередь и не понимаю. ВЕЧНАЯ БРЕХНЯ О ТОМ, ЧТО НАДО ЧТО-ТО ПОНИМАТЬ. Разве мои произведения не верх простоты? Где ты видел больше небесной простоты: синь, одна лишь синь. Что здесь надо понимать? Здесь просто нечего понимать. К этому я и стремлюсь. Человек, пребывающий в здравом уме, смотрит на мою картину. Смотрит и смотрит. И не мучается вопросом, что она означает, потому что она может ничего не означать. Он не пытается исследовать, правильно ли распределено пространство, гармонируют ли цвета и все ли в порядке с композицией. И с контрастами. С тем, другим, пятым и десятым. Для полотен Ренсе все это не имеет никакого значения. Мои полотна существуют не для того, чтобы о них размышлять, а для того, чтобы существовать, – и они существуют. Но кто хочет, тот может в них углубиться. Человек искренний может в них погрузиться, не размышляя.
Он взял одно из полотен, натянутых на подрамник, встал позади него, так что картина опиралась на его ноги; наклонившись к ней и водя по ней рукой, он принялся давать пояснения. Картина была точно такая же равномерно синяя, как и шедевры, висевшие внизу в гостиной.
– Эта называется «Лазуренсе-121». Лазурный. Синий. Других цветов я не использую.
Он произнес «Лазуренсе» так, словно это французское слово.
– «Лазюранс». Похоже на l'assurance, страхование, – сказал Альберехт. – Ты нарочно так произносишь?[26]
– Разумеется, нарочно. Я не боюсь юмора. Хотя по сути мое творчество в высшей степени серьезно. Эти полотна – страховка моей жизни. Может быть, получу ее не я, но мои дети.
Он немножко помолчал и добавил:
– Если они у меня когда-нибудь родятся.
Альберехт ничего не ответил. Ренсе достал из кармана платок и вытер глаза.
– Откройся воздействию этого цвета. Приди в состояние покоя и ясности духа. Да, мне ни разу не удалось продать тебе ни одной моей картины, но через пятнадцать лет, когда о моей живописи заговорит весь мир, я тебе что-нибудь из нее подарю. Может быть, к тому времени ты до нее дорастешь, в любом случае тебе не придется стыдиться, если твои гости увидят мою картину у тебя в гостиной.
Ренсе снова поставил «Лазуренсе-121» лицевой стороной к стене, где стояли другие картины того же формата, и взял картину из другой связки. Эта была розовая, равномерно розовая.
– Это был мой розовый период, – сказал Ренсе, – «Ренсероз-89». Их я и написал-то всего 89. Все храню, но большинство пришлось скрутить в рулоны. А то, что ты видишь сейчас, – он взял в руки другое полотно, – мой самый смелый эксперимент, сопряженный с большой опасностью, ведь здесь, на чердаке, так сухо.
Альберехт увидел белый прямоугольник, равномерно белый, но обгоревший по краям, причем кружками, в которых белый цвет переходил в желтоватый, затем в коричневый и черный.
– Так выглядит убежавшее молоко на эмалированной газовой плите, – сказал Альберехт. – Ты это и ставил целью?
– Поверь мне, дружище, я не ставлю никакой цели, не вкладываю в картины никакого содержания. Моя живопись ничего не означает. Мои произведения есть. Перед тобой есть белый холст. И больше ничего. Сварочным аппаратом, позаимствованным у сантехника, я сделал на нем несколько подпалин. Предельно просто. Но и опасно. До меня такого не делал никто. Ни Пикассо. Ни Клее. Ни Кандинский, ни Мондриан. Никто.
Эту картину он поставил обратно к стене намного осторожнее, чем предыдущие, и когда снова повернулся лицом к брату, по щекам его катились слезы.
– О господи, Берт! Неужели, когда сюда придут фрицы, на земле не останется и квадратного сантиметра, где я смогу жить своей жизнью?
– Ах, Ренсе! Никто не думает, что в долгосрочной перспективе они выиграют войну. Но будь готов уехать за границу, когда наша армия некоторое время не сможет оказывать им сопротивление.
– Я не могу взять с собой мои картины.
– В Англии ты напишешь новые.
– Напишешь новые! Черт побери! Когда ты несешь такую хрень, я чувствую себя настолько одиноким, словно рядом со мной деревянный чурбан или что-нибудь в таком духе. Написать новые! Ты не говоришь мне в лицо, но про себя явно думаешь, что все это говно. Что я могу оставить все мои полотна здесь и по ту сторону Северного моря написать новые. Туманным воскресным утром. Дело всей моей жизни.
– Тут уж или – или.
– Ты правда ничего не понимаешь? Нет никакого или – или. Каждая прошедшая минута проходит безвозвратно, необратимо, без всяких или – или. Я уже не тот человек, который писал «Ренсерозы». Я уже другой человек. Тот человек остался в прошлом. А если я захочу нарушить ход времени и вернусь в розовый период, то у меня получатся совсем другие «Ренсерозы». И с моей стороны будет обманом утверждать, что они те же самые, даже если по ним это не будет заметно.
Альберехт достал из кармана свою серебряную коробочку.
– Хочешь мятную пастилку?
– Какое-то время я увлекался даже «Златоренсами», – сказал Ренсе и взял у Альберехта пастилку. – Rense d’or. Все очень просто… полированные листы меди… покрытые лаком. Получалось очень дорого, медь стоит кучу денег. В один прекрасный день я просто продал эти листы обратно торговцу цветными металлами. Ничего страшного. Подобные картины – это скорее находки, чем творения духа… так ведь? Лист меди я всегда смогу снова найти. Rense d’or. Классно, скажи? Признай, что у меня классные работы? Можно попробовать что-нибудь сделать из листов алюминия. Или из листов железа. Вообще здорово: взять листы железа и оставить их такими, какие они есть, может быть, немножко ускорить ржавление с помощью соленой воды… чтобы они постепенно изменялись. «Железный Ренсе», Rense de fer… или, может быть, Ferderense, цветовая гамма: черный, серый, коричневый, красный. Разве же я не святой, что столько лет зарабатываю на хлеб для нас с Паулой уроками рисования, которые веду у этих павианов и бегемотов? Рано или поздно обо мне будут писать, если только фрицы все не уничтожат. Они называют это Entartete Kunst, «дегенеративное искусство». Подумать страшно, какой урон они нанесли искусству в других странах. И что поставили на его место? Валькирий с бетонными титьками. В немецких газетах уже только шрифт и верстка вызывают тошноту. Знаешь ли ты, деревенщина, что в этом мире мало что может сравниться по красоте с газетой? Только глянь на первую страницу Times с множеством мелких объявлений! Изумительная красота, но никто этого не видит, особенно фрицы. Свиное говно им глаза застит.[27][28]
Ренсе спрятал носовой платок, и Альберехт почувствовал, что разговор далековато отошел от того предмета, ради которого он приехал к брату. И еще он почувствовал, что причинит Ренсе горе, если вернется к этому предмету.
Тем не менее, спускаясь по лестнице, он сказал:
– Обдумай все хорошенько, Ренсе. В Англии красивые газеты.
Отъехав от дома Ренсе, Альберехт обнаружил, что бензин в машине на исходе. Само по себе это не страшно, чтобы заправиться бензином, не обязательно иметь наличные, об этом он не беспокоился. Но мысли его были невеселы: «Я уже больше суток ношусь туда-сюда во всех направлениях – и никуда не приехал. Не достиг ровным счетом ничего. Как знать, может быть, если бы я поехал дальше на побережье, меня взяли бы на какой-нибудь корабль и бесплатно». С ужасом он сообразил, что утром в банке не снял даже нидерландских денег. В спешке вылетело из головы, когда узнал, что ему не дадут английских фунтов. У него в кошельке до сих пор было всего лишь две бумажки по десять гульденов.
– Не надо так мрачно, – сказал черт. – Человек твоего уровня может раздобыть деньги где угодно. Дело не в деньгах. Намного важнее то, что у тебя теперь есть основа, на которой можно построить реальный план. Ренсе в списке разыскиваемых? Ренсе – слишком незначительная фигура. Немцам наплевать, что у себя на чердаке он пишет голубые картины, которыми не интересуется ни одна собака. Они наверняка спутали инициал. Буква B от имени Bert очень похожа на букву R от Rense. По паспорту ты не Берт, а Симон, но ведь никто тебя так не зовет. Все зовут тебя Берт, но под пером какой-нибудь секретарши B превратилось в R. Это ясно как день. Именно тебя и разыскивают. Ты занимаешь высокую должность. Ты прокурор, потребовавший освобождения от преследования журналиста, оскорбившего Гитлера.
– Отвратительная ложь! – воскликнул я. – Эту обвинительную речь ты произносил лишь вчера, и освобождения от преследования попросил только в зале суда, в твоих бумагах было написано кое-что другое. Неужели ты правда думаешь, что немцы составили свой список в последний момент? Ты произнес речь без четверти пять. Через двенадцать часов сорок пять минут был сбит самолет, в котором нашли список разыскиваемых лиц, среди них оказался Р. Альберехт. И еще: тысячи голландцев занимались вещами, отнюдь не приятными для Гитлера, причем куда более важными. Но их имен в списке нет. Каким местом ты думаешь?
– Причиной могла быть Сиси, – предположил черт. – Они хотят тебя посадить за решетку, чтобы побольше узнать о Сиси. Им неизвестно, что ты и сам не знаешь всех ее тайн. Ты точно так же не знаешь, по какой причине они хотят посадить Ренсе. Возможно, твой брат тоже не все тебе рассказал. Кто может сказать, чем он занимался в области политики? Вдруг он не так наивен, как кажется.
«Этого не может быть, – подумал Альберехт, – он бы тогда не принялся рассказывать о своих картинах, он бы не почувствовал себя странноватым образом польщенным тем, что немцы хотят его арестовать, оттого что он занимается дегенеративным искусством».
– Именно поэтому. Ренсе сказал это для прикрытия. Он не хотел создавать тебе трудности и потому не доверился полностью. Не исключено, что он до сих пор член АКАФ. А то и вовсе коммунист!
– Чушь, – сказал Альберехт, – в таком случае он был бы обязан позаботиться о своей безопасности. Но он этого ни за что не хочет. Это не может быть прикрытием. Он явно вправду не хочет уезжать.
– Вот именно, – сказал черт, – он не хочет уезжать, а ты хочешь. Разрешить эту проблему проще простого. Ты должен настоять, чтобы Бёмер раздобыл для тебя доказательство, что это твое имя значится в списке, а уже с доказательством ты пойдешь к министру юстиции и попросишь у него разрешения на выезд из страны в том случае, если немцы сломят сопротивление нидерландской армии. Все просто, как апельсин. Может быть, тебе дадут спецпоручение и оплатят дорогу. Или тебя переправят на военном корабле или военном самолете. Что может быть лучше?
«Но сколько мы еще будем сопротивляться немцам, я не знаю», – подумал Альберехт и включил радио. Услышал обрывок музыки, после которого голос диктора сообщил:
– Передаем приказ Главнокомандующего Армией Нидерландов. Ее величество королева поручила мне сообщить Армии Нидерландов, что ее величество весьма удовлетворено действиями нидерландских военных, оказывающих ожесточенное сопротивление захватчикам, поправшим наш нейтралитет. Это позволяет считать вражеское нападение провалившимся. Во всех областях страны наши войска в соответствии с полученными распоряжениями не только мужественно сдерживают натиск противника, но и успешно осуществляют ответные удары, тем самым не давая ему достичь поставленных целей. Отвага наших войск отражается в настроении всего нашего народа, исполненного спокойной решимости. Мы предостерегаем вас от ложных сообщений. Слушайте только голоса знакомых дикторов.
Нападение противника провалилось? В таком случае война может продолжаться еще недели две. И если западной части страны ничто не грозит, то какой смысл имеет этот немецкий список разыскиваемых лиц? Альберехт бессильно пожал плечами, увидел бензоколонку, на которой обычно заправлялся, и поехал в ее сторону.
– Менейр Альберехт, – сказал служащий бензоколонки, – вам нельзя больше ездить с такими фарами. У вас до сих пор не нашлось времени, чтобы покрасить их в синий цвет?
– Пока не нашлось.
– Давайте мы это для вас сделаем?
– Да, пожалуйста.
– Ну и денек, правда, менейр? Сутки не раздевались? Заметно по растительности у вас на лице.
Альберехт провел рукой по подбородку. Ладонь укололась о щетину.
– Да, некогда было побриться, – сказал он тоном, не располагавшим к дальнейшей беседе.
– Полиции сейчас нелегко, – ответил служащий, сходил в гараж и вернулся с банкой краски и кистью.
Синий цвет. Служащий присел на корточки перед машиной. Альберехт вышел на воздух и стал прохаживаться туда-сюда. Служащий наносил на стекло фар темно-синюю краску.
Искусство, размышлял Альберехт, что такое искусство? Может быть, прямоугольные куски холста, которые Ренсе покрасил в синий цвет, через сто лет и правда будут стоить много денег? И храниться в музее, где их будут охранять от воров? Почему именно те куски холста, которые покрасил синей краской Ренсе, а не те куски холста, которые покрасил синей краской простой маляр? Только потому, что именно Ренсе собственноручно намазал на них синюю краску, и потому что Ренсе первому на всем белом свете пришла в голову мысль указать на кусок холста на подрамнике, покрашенный синей краской, и сказать: это произведение Искусства. Это Искусство.
Невозможно поверить, что такое случится, но история человечества учит, что это бывает, таков ход мировых событий. Древнегреческая монета, кусочек бронзы весом в несколько граммов, в свое время стоимостью не больше цента, теперь стал великой ценностью только потому, что греческий мастер отчеканил монету из этого кусочка меди аж две тысячи лет назад. Только поэтому. Состриженный ноготь Святого Иосифа хранится в реликварии из чистого золота, и люди приходят поклониться ему. Хотя это точно такой же состриженный ноготь, как и любой другой состриженный ноготь. Любой человек может состричь такой же кусочек ногтя.
– Безумец! – вскричал я. – Ведь Святой Иосиф был святым, и созерцание этого святого состриженного ногтя, который вырос на святом пальце, пальце, прикасавшемся к телу нашего Спасителя и не только, такой ноготь внушает мысли, устремленные к святости.
Но Альберехт остался глух.
Что такое реликвия? Не только кусочек креста, но также и дерево из того леса, где выросло то дерево, из которого сколотили крест. А если этого леса больше нет, то камушек с того места, где лес некогда стоял. А если точно неизвестно, где стоял этот лес, то это камушки, побранные поблизости от того места, где, возможно, стоял этот лес. И так далее, и так далее. Весь мир – это реликвия, напоминающая обо всем и обо всех.
Служащий бензоколонки выпрямился и сказал:
– Готово!
Альберехт дал ему чаевые, выписал чек и поехал дальше.
Мысли его по-прежнему занимал Ренсе.
Возможно, Ренсе и прав, что не хочет ехать в Англию. Не исключено, что он и правда не сможет написать там заново свои розовые и синие картины. Технически это будет, разумеется, легко осуществимо. Даже если Ренсе не захочется браться за кисть. Он может нанять любого маляра, который сделает для него штук двести полотен, и оформить на них патент. Но его биографы обнаружат, что это всего лишь, так сказать, второе издание, а не оригинальные картины, хоть по самим картинам ничего не видно. Оставшиеся в Нидерландах полотна, которые немцы, разумеется, сожгут как дегенеративное искусство, заменить уже невозможно, как невозможно заменить состриженный ноготь Святого Иосифа никаким другим ногтем. Очень даже понятно, почему Ренсе не хочет уезжать, очень даже понятно, что он хочет остаться рядом со своими картинами, а если надо, то и умереть за них. Если ценой жизни можно будет спасти хоть несколько холстов… Весь мир к тому времени узнает, что Ренсе умер как мученик за синий цвет, как святой, служивший розовому цвету.
«А я не святой. После меня не останется реликвий».
Точно ли?
Ему пришлось приложить усилие, чтобы остановиться у своего дома, выйти из машины и запереть ее. Он испытывал непреодолимое желание поехать дальше на Марельский проезд, посмотреть, лежит ли тело девочки все там же в кустах, куда он его бросил. Не нашел ли его кто-нибудь, не унес ли оттуда.
– Сохраняй спокойствие, – сказал я. – Если кто-нибудь его и обнаружит, то в любом случае пройдет еще уйма времени, прежде чем выяснится, что именно ты виновен в ее смерти, да и вообще вероятность, что это выяснится, ничтожно мала. Веди себя тихо и сиди дома. Если девочку найдут, Эрик тебе наверняка расскажет.
«Нельзя, нельзя, нельзя, чтобы ее нашли», – сказал он про себя.
С гудящей головой он прошел через комнаты на кухню, где нашел кусок черствого хлеба, который на вкус был еще противнее, чем обычный черствый хлеб, подошел к окну, чтобы посмотреть, что делается на улице, потом опять пошел в кухню, чтобы вместе с глотком воды проглотить хлеб, превратившийся во рту в комок, все еще твердый. Нельзя, чтобы девочку нашли, ни теперь, ни в будущем: что сказала бы Сиси, если бы обо всем узнала? Знала ли Сиси о существовании девочки?
Как Сиси, так и супруги Лейковичи с девочкой могли жить в Нидерландах благодаря содействию Эрика. Интересно, они были друг с другом как-то связаны? Наверное, нет: за столько месяцев Сиси наверняка бы хоть раз сказала ему: Эрик знаком с евреем-ученым из Германии, которому помог бежать точно так же, как мне. Этот ученый пишет книгу об иконах для издательства Эрика. Если бы Сиси о нем знала, она бы хоть раз случайно заговорила о нем.
Альберехт снял ботинки и лег на кровать. «Я не лежал больше тридцати часов. Когда постоянно находишься с кем-то бок о бок, то разговариваешь с этим человеком обо всем на свете, но я ни разу не слышал, чтобы Сиси упоминала об ученом. Случайность? Или Сиси не знала о существовании Лейковича? Я сам, впрочем, тоже услышал о нем только вчера. Но в последние месяцы я не так уж часто общался с Эриком. Впрочем… Но Сиси, находившаяся примерно в том же положении, что и Лейкович, что и девочка…»
Альберехт закрыл глаза.
Что и маленькая девочка. Веверка. Сиси и девочка, обе исчезли с лица земли в один и тот же день. Непостижимая случайность.
Он словно с головой ушел под воду, а когда опять вынырнул, оказалось, что он плывет по морю. Значит, это не Сиси утонула, а он сам потерпел кораблекрушение. Но берег наверняка уже недалеко. Он чувствовал в руках достаточно силы, чтобы плыть много часов, а синее море чуть колыхалось вокруг него, как пуховое одеяло… Никакой опасности. Никакого страха. Скорее, ощущение, будто он плывет в направлении рая. В школе они проходили, что в некоторых климатических зонах температура морской воды точно такая же, как температура человеческого тела, и потому Альберехт понял, где находится: в Мексиканском заливе. От солнца соленая вода у него на щеках испарилась, но соль щипала кожу, как будто это кололась его же собственная щетина. Но вдруг на ту часть моря, по которой он плыл, и на него самого упала холодная тень; он обернулся и увидел, что его догоняет гигантский корабль, возвышающийся над водой, как десятиэтажный дом. Нижняя часть корабля была покрыта черной смолой и, по всей видимости, некоторое время назад была сильно повреждена, потому что здесь и там виднелись латки из прямоугольных металлических листов, крашенных суриком. К своему удивлению Альберехт обнаружил, что листы металла держатся не на заклепках, а как бы пришиты кабелями. Точно так же заботливая мать чинит поношенную одежду самыми крепкими нитками, какие можно найти, подумал он.
Пока Альберехт недоумевал, как это команда корабля сумела пришить металлические заплаты, с борта в мегафон кто-то громко прокричал его имя. Маленький, как лилипут, матрос перегнулся через релинги и стал стравливать канат, на конце которого висел толстый пучок других канатов, похожих на иерихонскую розу. Когда пучок канатов оказался рядом с ним, Альберехт вспомнил, что уже слышал об этом современном спасательном средстве, которое действительно называется «иерихонская роза». Он знал, как им пользоваться, укрепил канаты на руках и ногах, так что его легко подняли из воды. Матрос опустил его на палубу и сказал: «Котик и кролик, оба в один день».
Такой огромной палубы Альберехт не видел никогда в жизни. Она состояла из надраенных добела досок. Швы между досками были параллельны и где-то у горизонта сходились в одной точке. Но особенно его удивило то, что на корабле не было никаких надстроек: ни капитанского мостика, ни кают, здесь не было ни мачт, ни труб, ни шлюпбалок, ни шлюпок. Ничего, кроме дощатого пола невообразимого размера, в форме корабля. Откуда же тогда появилась эта маленькая девочка? Она шла по палубе, плача, закрыв лицо руками, а между пальчиками сочилась кровь, оставлявшая след на белых досках. Альберехт не сомневался, что это та самая девочка, хотя лицо ее было закрыто и он видел только руки, а над ними увядший розовый бантик. Он точно не ошибался.
– Деточка! – воскликнул он. – Я это сделал нечаянно, это был несчастный случай, но ведь ничего страшного не случилось, ты не умерла.
Он сел на корточки и расставил руки, чтобы ее поймать, потому что она шла прямо на него. Откуда она взялась? И вдруг он понял, что это за корабль. Это авиаматка, и палуба оттого пустая, что иначе на ней не поместятся гидросамолеты. А все, что должно быть на таком корабле, находится под палубой и поднимается наверх через бесшовные люки.[29]
Именно так здесь вдруг появилась и Сиси. Прежде чем девочка подошла к нему достаточно близко, чтобы он ее обнял, Сиси притянула ее к себе и обхватила обеими руками. Сиси заговорила не на ломаном голландском, который так и не смогла выучить, а на чистом немецком. Она сказала:
– Ich bin die Mutter.[30]
Головка у девочки упала набок, и она умерла.
– Deine Tochter, – разрыдалась Сиси, – deine kleine Tochter.[31]
Альберехт что-то закричал и проснулся от собственного крика, но проснувшись, не смог вспомнить, что он кричал и почему, и снова погрузился в глубокий сон, потому что до этого не спал 48 часов. Размышляя, я сидел у изголовья и оберегал его сон. И когда он через много часов проснулся, было уже утро, и я внушил ему спокойные, безмятежные мысли. Он побрился с теплой водой и заварил чай.
С улицы не доносилось никаких тревожных звуков. Нападение немцев отражено, еще ничего не потеряно, несчастный случай не обнаружен. Бёмер, который мог увидеть письмо, его не увидел. Опрометчивые попытки убежать из страны, которые могли бы стать для него роковыми, не увенчались успехом.
При всей моей скромности я мог сказать себе, что выполнил свою задачу должным образом. Он не пил. Не поддался черту. И не впал в уныние.
Светило солнце. Может быть, война закончится благополучно, думал он, выходя из дома, может быть, Германия прямо сегодня и рухнет. Гитлеровская армия, армия этого хвастуна – это, возможно, всего лишь блеф. Я успею придумать, что мне делать…
Однако вместо того, чтобы поехать прямо на работу, он поехал в отделение банка, где вчера разговаривал со своим однокурсником Андре Бертельсом. Альберехт попытался убедить себя, что делает это на всякий случай. Он еще не отказался от плана раздобыть денег, желательно английских фунтов. Если не для себя, то для Ренсе. Ренсе тотчас окажется в опаснейшем положении, когда немцам удастся завоевать Нидерланды. В списке разыскиваемых лиц значится Р. Альберехт, и даже если это ошибка, полицейским органам свойственно упорствовать в своих ошибках.
– Если гестапо будет упорствовать в этой ошибке, то ты почти ничем не рискуешь, – сказал черт. – Рассуди спокойно. В этом случае у тебя нет никаких оснований спешить в Англию. В стране, оккупированной Гитлером, опасность, что твое ужасное преступление будет раскрыто, сводится к минимуму. А в Англии тебя еще неизвестно что ждет. Кроме того, уверен ли ты, что переберешься через Северное море живым? А что потом? Сиси? Она тебя скорее всего забыла. Излить ей душу, признаться, что задавил насмерть Оттлу Линденбаум, – при одной этой мысли ты бледнеешь от страха.
Подъехав к филиалу банка и выйдя из машины, он почувствовал себя крайне скверно.
– Тело девочки все еще лежит в кустах, – сказал я.
Вот бы его похоронить. Или хотя бы забрать оттуда и спрятать. Но что если его на этом застукают? Он ужаснулся, представив себе картинку, как пробирается по тропинке с лопатой, точно омерзительный убийца. Или поехать туда с одеялом, подобрать тело, положить в машину – а потом? Бросить где-нибудь в воду?
Совершенно отвратительно. К тому же он наверняка оставит следы, от этого никуда не денешься.
Погибнуть при попытке пересечь море – лучше, чем остаться здесь и быть разоблаченным, подумал он.
Время от времени у дверей банка собирались группки из нескольких человек, которые читали записку, висевшую за стеклянной дверью, обсуждали ее содержание и шли дальше. Альберехт легко догадался, что там написано: банк закрыт.
«Денег нет. Нельзя ехать в Англию одному, надо с Ренсе, его нельзя бросать в Нидерландах, ведь это его инициал, а не мой, стоит перед фамилией в списке, формально это он в опасности, а не я. Но что Ренсе будет делать в Англии? Я-то еще как-нибудь вывернусь.
Писать синие картины. Лазуренсе. У англичан нет других забот, кроме как открыть для себя его искусство. Милый, милый Ренсе, он всегда был не от мира сего. А сейчас даже гордится тем, что попал в гестаповский список. Наконец-то пришло признание. Его слава стала международной. Ренсе Альберехт – угроза для нордической культуры. Ренсе Альберехт приближает гибель Абендланда с помощью синей краски. А как же остальные 25 000 революционеров в современной нидерландской живописи, о которых никто слыхом не слыхивал и у которых ни один смертный ни разу не купил ни одной картины, они-то по меньшей мере столь же опасны? Почему они не попали в список, а Ренсе попал?»
Размышляя, Альберехт снова завел мотор и поехал, чтобы испробовать все возможности, к головному отделению банка.
Как тихо на улицах. Субботнее утро. Но укороченный рабочий день. Завтра воскресенье и, что еще важнее, Троица. Понедельник тоже выходной, как второй день Троицы. Смутную надежду, что христианский праздник немного усмирит немецкий боевой дух, внушил ему я.
Война. В стране, где уже сто лет никто не воевал. Гораздо больше ста лет. Да и сейчас война казалась чем-то, что лишь время от времени проявлялось то там, то сям, подобно тому как в мирное время то там, то сям происходит пожар или случается ДТП.
Раздвижная металлическая решетка при входе в головное отделение банка была заперта. В зарешеченных окнах нигде не горел свет.
Все, Альберехт сделал все возможное, чтобы добыть денег. И все безрезультатно.
Интересно, постарается ли Паула что-то предпринять со своей стороны. Паула хочет уехать в Англию, и до сих пор Ренсе в конце концов всегда делал то, чего она хотела.
Альберехт уже видел, как они втроем живут в Лондоне. Денег на пропитание не хватает, они живут в самой маленькой чердачной комнатке самой жалкой гостинички в трущобах. Там всего одна кровать. Они спят на ней по очереди, каждый по восемь часов, а остальное время гуляют по улицам или сидят на скамеечке в парке. Он прочитал о таком образе существования в романе об эмиграции, написанном евреем, который бежал из Германии. Паула имеет полную свободу действий. Пока она будет спать, они с Ренсе пойдут гулять по улицам, и Ренсе ему скажет: «Я всегда знал, что тебя она любит больше, чем меня». – «Утешься, – скажет Альберехт, – теперь у меня не осталось денег, так что ее любовь скоро остынет». Но нет. Ему придется пойти на военную службу, и Ренсе тоже. Это наиболее вероятно.
На военную службу? Он? Альберехт? Да ну. Даже за границей юрист такого уровня, как он, cможет найти менее слякотные пути, чтобы служить отечеству.
– Человек, имеющий опыт, навыки, знание законов, влияние, – сказал я. – Будет обидно, если такой человек погибнет от шальной пули, как первый попавшийся пехотинец. Я буду тебя защищать. Можешь на меня рассчитывать, пусть ты и совершил страшный грех.
И я увидел, как он сворачивает к зданию суда, где при входе, как и накануне, дежурили два полицейских с карабинами. Один из них попросил его сказать «Схевенинген», в точности как вчера, а второй узнал его и высмеял первого полицейского.
Кабинет Бёмера находился на том же этаже, что и кабинет Альберехта, но с задней стороны здания.
Альберехт направился прямо туда и встретил Бёмера в коридоре, с пачкой бумаг под мышкой.
– Какие новости?
– Все тот же хаос. Мы ничего не успеваем, и военные действия идут не так успешно, как это представляют в сообщениях по радио.
– Понятно. Слушай, я долго думал, но все равно не понимаю, почему Ренсе оказался в этом списке.
– Хм, – сказал Бёмер неуверенно. – Хм… я тоже не совсем понимаю. Он, конечно, был членом АКАФ, этой ширмы для коммунистов, про что все знали. Но ведь там состояло столько народу.
– Он оттуда давно уже вышел, потому что коммунисты считают его живописную манеру декадентством и мещанством.
– Коммунисты в России. А с коммунистами в других странах дело обстоит иначе, – перебил его Бёмер. – За пределами России все коммунисты пишут декадентские картины, чтобы ускорить гниение капиталистического общества изнутри.
– Ты в это веришь? – спросил Альберехт. – Но тогда ты думаешь точно так же, как Гитлер.
– Вообще-то мы все так думаем, – сказал Бёмер, – когда таким художникам удается втереть очки капиталистам и те платят огромные деньги за вставленную в рамку старую газету, по которой размазано взбитое яйцо.
– Мой брат не зарабатывает своими картинами ни цента. Он экономит на хлебе, чтобы купить краску.
– Это оттого, что он не коммунист, – пошутил Бёмер, – в отличие от Пикассо и тому подобных шутников. Ха-ха-ха.
– Ты думаешь, что таких художников поддерживают коммунистические партии за их подрывную работу?
– Коммунистическими партиями рулят не такие дураки, чтобы платить деньги за то, что можно получить бесплатно. Но я не сомневаюсь, что надо принадлежать к какому-то сообществу, чтобы разбогатеть, рисуя женщин с двумя носами и тремя глазами.
– Мой брат не принадлежит ни к какому сообществу.
– Вот-вот, и я про то!
– Но если он не принадлежит ни к какому сообществу, то как он попал в список?
– Думаешь, немецкая полиция непогрешима? Думаешь, и с нашей полицией не случается, что она разыскивает совсем не тех людей? В такие дни, как мы сейчас переживаем, все только и делают, что ищут не тех, кого надо. Твоему брату не повезло. Но вполне может быть, что если он спокойно останется в Нидерландах и если немцы оккупируют страну, то они разок пригласят его на допрос, а потом отпустят.
– Не такие они люди, – сказал Альберехт. – Не такой Гитлер человек. Он предпочитает перестраховаться. Предпочитает посадить за колючую проволоку тысячу безобидных людей, чем случайно упустить одного врага.
– Да, остается непонятным.
– Я ни на чем не настаиваю, но точно ли видел твой знакомый, что в списке написано Р. Альберехт?
– Я его специально переспросил, и он подтвердил.
– Но даже если там написано Р. Альберехт, все равно не исключено, что составители списка имели в виду не Ренсе.
– Конечно.
– То-то и оно. Подумай, этот список специально отправляют самолетом, чтобы как можно скорее арестовать сорок человек. Безотлагательно. Значит, это сорок самых опасных людей в Нидерландах, которых боится Германия. Среди них просто никак не может быть такой безобидный художник, как Ренсе. Это исключено. Ежику понятно, что это ошибка, кто бы ее ни допустил.
– Я согласен, что это странно. Любому посвященному, кто видел список, ясно как день, что остальные тридцать девять человек действительно опасны.
– Ты не сказал этого сразу же своему знакомому из военной разведки?
– Честно говоря, нет. Не успел об этом подумать. Он ко мне приходит, говорит: ты же знаком с Альберехтом. Предупреди его, что в списке есть его брат. Единственное, что я успел сообразить, это переспросить, точно ли там написано Р. Альберехт. Именно Р. Потому что, честно говоря, я сразу подумал: скорее всего это сам Альберехт, а не его брат.
– Может быть, так и есть?
– Не исключено. Это намного правдоподобнее.
Сердце у Альберехта заколотилось, оттого что Бёмер так удачно подхватил его мысль. Но внешне он остался спокоен и медленно произнес:
– Вероятно, это и есть отгадка ребуса. Но ты понимаешь, что если они меня схватят, то дело не ограничится поверхностным допросом.
– Очень даже понимаю.
– То-то и оно. Я слишком много знаю, чтобы позволить себе роскошь попасть в застенок гестапо.
– Единственный выход – бегство.
– Я бы не хотел называть это бегством. Не мог бы ты получить от своего человека из разведки какую-нибудь справку, что ли, с которой я смогу обратиться в наше министерство?
– Ты хочешь уехать в Англию одновременно с правительством, если оно будет вынуждено туда перебраться?
– Очень важно, чтобы это так и получилось. Я располагаю важнейшими сведениями. Тогда я смогу продолжать свою деятельность, используя другие формы работы.
– С военными вообще не-воз-мож-но говорить по-людски, ты это понимаешь?
– А что иначе? Представь себе, что прокурор приходит к министру юстиции и рассказывает ему подобную байку без каких-либо доказательств. Все подумают, что у него просто сдали нервы.
– Для проверки министр может направить запрос военным.
– Может. Но представь себе, что в нынешнем хаосе это не сработает?
– Насколько я знаю, ты можешь переправиться в Англию на рыбачьем судне за кругленькую сумму.
– Беда в том, что банки закрыты. У меня совсем нет наличных. Я бы не смог ездить на машине, если бы у меня не было счета на заправке.
– Сколько тебе надо?
– Да нет, Отто, ну что ты… Да нет же…
Но Бёмер уже достал бумажник и сказал:
– Сейчас посмотрим. Так, без этих трехсот гульденов я, пока суд да дело, легко обойдусь.
Он протянул Альберехту три бумажки по сто гульденов, и тот хотел рассыпаться в благодарностях, но я его удержал. Что подумает Бёмер? Оставайся в рамках. Триста гульденов для таких людей, как вы, – это же ничего особенного. Он, наверное, думает, что во вторник утром, когда банки откроются, ты отдашь ему долг. А если к тому времени уже уедешь, то переведешь на его счет. Триста гульденов в долг на пару дней? Он заподозрит неладное, если ты будешь слишком многословен.
Бёмер сказал:
– Вполне может быть, что, когда придут немцы, эти деньги ничего не будут стоить. Они запросто объявят все бумажные деньги недействительными или заставят их обменивать по смехотворному курсу на марки. Неизвестно, что нас ждет. Пятнадцать минут назад мне сообщили, что задержан полицейский с десятью тысячами гульденов в кармане, происхождения которых он не мог объяснить.
– Ты не думаешь, что это мародеры просто-напросто грабят дома людей, которых в эти дни арестовала полиция?
– А то как же! На сто процентов сказать не могу, но опыт учит: если существует возможность, что что-то произойдет, то оно, как правило, происходит. Ну, будь здоров!
– Еще раз спасибо, Отто. И попробуй отловить своего военного.
– Попробую. Как только что-нибудь узнаю, сразу сообщу. Незамедлительно.
Бёмер пошел дальше по коридору, Альберехт отправился к себе в кабинет. Сидя за письменным столом, он принялся размышлять. Возможностей уйма, но все ненадежные, незрелые. Сунул в рот мятную пастилку, оставил ее лежать на языке. Стал рассматривать желтые жирные пятна на бумажной накладке на письменном столе и размышлял: неужели никто никогда не задумывался, откуда здесь взялись эти жирные пятна? Я ведь не имею привычки есть здесь печенье или копченого угря…
Накладка состояла из трех слоев промокательной бумаги. Он приподнял верхний, затем средний слой и обнаружил, что жир прошел даже до третьего листа, но здесь пятна были намного меньших размеров, зато бросались в глаза сильнее, потому что, если не считать этих пятен, лист был девственным. Отдать его, что ли, Ренсе, чтобы он вставил в рамку?
Затем Альберехт скомкал верхние два листа и выдвинул левый верхний ящик. С комком бумаги в руке посмотрел на свой швейцарский нож и разобранный пистолет. Если ничего не получится, если не будет других вариантов, придется кого-нибудь найти, кто мне его починит. Я никогда не стрелял в людей, только в мишень. Обидно, столько лет быть владельцем пистолета и в итоге ни разу не выстрелить из него ни в кого, кроме самого себя. Альберехт взял швейцарский нож и сунул в карман. Затем положил бумажный ком в ящик, задвинул его и запер.
Примерно в половине одиннадцатого снова вышел из здания суда. Он не мог сосредоточить мысли ни на чем, кроме Бёмера. Может быть, вся эта история была выдуманной? И Лейкович все-таки заявил об исчезновении девочки, Бёмер узнал об этом, вспомнил, что видел письмо Оттлы Линденбаум на письменном столе у Альберехта, и, чтобы его спасти, придумал байку о списке разыскиваемых гестапо? Потому что не хотел сказать своему шефу в лицо: я знаю, что ты натворил бед, так что последуй моему совету: исчезни.
КОГДА Альберехт шел по тротуару, он услышал сразу три звука: оглушительный рокот мотора самолета, треск пулеметных очередей и отвратительный свист чего-то, что пролетало мимо его ушей. Он видел, как с уличного фонаря посыпались осколки стекла и как на тротуарные плитки стали падать тяжелые предметы. Люди, находившиеся рядом с ним, побежали, и он бросился вместе со всеми на другую сторону улицу, где находилось бомбоубежище. Это было продолговатой формы укрытие, обложенное дерном. Завыли сирены воздушной тревоги.
В бомбоубежище воняло смолой и мочой, сюда почти не проникал воздух, только совсем чуть-чуть через несколько узких отверстий в потолке.
Народу собралось не слишком много. Несколько женщин, возвращавшихся из магазина, старик с черной собакой на кожаном поводке. Никто не был по-настоящему испуган – по неопытности. Сирены воздушной тревоги то громко выли, то затихали, как гигантской монстр, делавший вдох и выдох пропорционально собственным размерам, не чаще шести раз в минуту. Когда сирены смолкли, на улице стало тихо-тихо.
Задержка. Даже если ты спешишь, сам не зная куда, задержка – это мученье. Альберехт слушал разговоры других людей в бомбоубежище лишь вполуха, а сам не говорил ни слова. Им овладела страшная скука. Знать, что теряешь время, не имея четкого плана, как это время использовать, – это самое ужасное. Он был свободен. Для отсутствия на работе у него есть оправданье. Так что за манкирование служебными обязанностями он себя не винил. Если у него не получится уехать сегодня, то попробует завтра. Завтра воскресенье. Затем выходной по случаю Троицы. До тех пор армия еще будет держать оборону. И в случае, если Альберехту не удастся самому перебраться в Англию на рыбацком судне, у Бёмера будет достаточно времени, чтобы выправить для него справку. В крайнем случае, какую-нибудь писульку, порожденную фантазией Бёмера. Этого я от него добьюсь. Уехать без ведома Бёмера Альберехту казалось неправильным. Всегда могло случиться, что Альберехт кому-то понадобится, а как тогда он объяснит задним числом, что его нигде было не найти? Ну и пусть его будет не найти! Ведь он будет уже там, по ту сторону Северного моря.
О, с каким беспокойством следил я за этими спутанными, даже противоречивыми рассуждениями в его голове, опустошенной упреками в свой собственный адрес. Но у меня не было достаточно времени, чтобы внести ясность в его мысли. В небе уже нависла ужасная угроза, пусть никто еще ничего не слышал в этом весеннем воздухе, но я должен был постоянно оставаться начеку, чтобы успеть вмешаться и спасти жизнь моего подопечного.
– Опять воздушная тревога на ровном месте, – сказал человек с черной собакой.
– Лучше тревога на ровном месте, чем когда бомбы со всех сторон сыплются, – откликнулась молодая домохозяйка.
В темноте послышался смех.
– Вчера, когда упала бомба, воздушной тревоги не объявляли.
– Объявили, но только уже после взрыва.
– Двадцать пять человек погибло, – немного нараспев воскликнула женщина из темноты в глубине бомбоубежища – а когда все кончилось, завыла сирена.
– Двадцать пять? Вы хотите сказать – тридцать пять.
– Тридцать пять? Не верю.
– Тридцать пять, – подтвердила молодая женщина, – так передали по радио.
– Вы сами слышали?
– Я знаю от соседа, он слышал точно.
– Вот гады фрицы, – сказал мужчина, – никак не угомонятся. Говорят, в Венло они ехали по мосту на бронепоезде. И как раз когда состав был на мосту, мост взорвали. Бабах. Фрицам конец.
– Это неправда, – сказал другой голос. – План сорвался из-за предательства. Предатели из НСБ разминировали все мосты.
Снова послышался рокот моторов, высокий и жалобный, как писк чудовищного комара. Послышались залпы зенитной артиллерии, каждый залп по четыре выстрела. Затем какое-то мгновение ничего не происходило, хотя рокот моторов все усиливался. Альберехт первым пошел к выходу взглянуть, что творится. Перед выходом был сооружен предохранительный земляной вал, который следовало обойти, чтобы оказаться на улице. Альберехт остановился рядом с валом и посмотрел вверх. Ничего не видно. На улице никого, деревья игриво шелестели листьями под лучами солнца. Альберехт сунул в рот мятную пастилку. Пока он нес ее ко рту, его взгляд был обращен на здание суда.
От удара, сильнее которого он не слышал никогда в жизни, у него едва не лопнули барабанные перепонки, а фасад здания суда разом рассыпался и рухнул на землю. Показалась именно та часть, где находился его кабинет. Он отчетливо увидел свой письменный стол, стулья и шкафы, как в кукольном доме, у которого фасад целиком представляет собой дверцу, которую можно открыть, чтобы заглянуть внутрь. А потом он увидел, что пол в его кабинете разламывается надвое, как квадратная печенинка. Письменный стол полетел вниз. Телефон немножко поболтался на проводе и полетел следом. Шкафы опрокинулись и устремились за столом в водоворот строительного мусора и пыли. Я толкнул его обратно в убежище. Громкий высокий свист оглушил его. Второй взрыв. На мгновение он присел и перестал соображать, что делает, но через секунду обнаружил, что стоит вместе со всеми остальными, сбившимися в кучу посередине бомбоубежища.
Одна из женщин бросилась на колени и принялась громко молиться Пресвятой Деве Марии. Священный миг! Уши мои не ведают музыки более прекрасной, нежели молитва человека в беде. И я подлетел к этой женщине и шепнул ей на ухо: «Не бойся! Святая Дева услышит твою молитву».
В воздухе едва не возник затор, оттого что все ангелы слетелись защищать доверенные им души.
Но женщина продолжала молиться, несмотря на мое ободрение; хотя после наших слов у нее не осталось более оснований испытывать страх, она все равно молилась; иными словами, она молилась исключительно в силу своей набожности.
Альберехт не молился. У него дрожали колени. «Но как бы его колени ни дрожали, – сказал черт с ухмылкой, – он их все равно не преклонит для молитвы».
Ладони у Альберехта сильно вспотели. Голоса окружающих людей доносились до него сквозь шум в ушах, как сквозь вату.
– Это ж всему городу кранты, – сказал мужчина, державший свою большую черную собаку на коротком поводке.
Казалось, что в бомбоубежище стало еще темнее, хотя было и так темно.
– Уроды, – рявкнул другой человек, – бомбить города с гражданским населением запрещено международной конвенцией.
– Этим гадам на все наплевать. Варшаву они сровняли с землей за один день.
Тут раздался новый раскатистый удар, точно в грозу, когда молния бьет совсем рядом. Взметнувшиеся от взрыва обломки здания и комья земли падали на тротуар с тяжелой барабанной дробью. Содрогание почвы передалось глинобитному полу бомбоубежища. Собака бешено залаяла.
Женщина, которая недавно молилась, громко заорала. Но благочестивый мужчина, стоявший рядом с ней, обнял ее за плечи и сказал:
– Положись на Господа Бога. Положись на Господа Бога.
Я прочитал ее мысли и понял, что она положилась на Господа Бога, потому и прекратила орать. Но теперь в бомбоубежище стали слышны ужасающие стоны на улице, завыла сирена, но не воздушной тревоги, а приближающейся пожарной машины.
– На помощь! На помощь! – вопила женщина, которая недавно молилась.
Она вырвалась из объятий благочестивого мужчины и выбежала из бомбоубежища, проскользнув мимо Альберехта.
– Что вы делаете! Вы с ума сошли! – закричал Альберехт и бросился за ней следом.
Рокот самолетов заглушал теперь все прочие звуки. Когда Альберехт обошел закрывавшую вход баррикаду и встал с ней рядом, моргая от яркого солнечного света, то увидел, как женщина, широко раскинув руки и громко крича, пересекает улицу. Застрекотал пулемет, по небу пролетели обломанные ветки с листьями. Женщина находилась на середине проезжей части, внезапно ее стало не видно, а потом Альберехт увидел ее снова. Непостижимо огромная лужа крови и еще несколько луж поменьше краснели между трамвайными рельсами, а посередине высилась горка из лохмотьев, в которые превратилась женщина. Но Дева Мария спустилась к ней с небес, обняла ее душу, и до моего слуха донеслись небесные песнопения.
У молодого деревца на углу улицы была снесена вся крона, расщепленный ствол поражал невероятной белизной древесины.
«Орудия, устанавливаемые на истребителях, стреляют разрывными снарядами» – это была единственная мысль, возникшая в голове у Альберехта. Горло его сжималось, пока он осматривался вокруг; затем он снова взглянул на разорванную в клочья женщину, чья одежда жадно впитывала кровь из сотен ран.
Тут я вынужден был поддержать его за плечи, потому что ноги и руки у него разом ослабли; я оторвал его взгляд от женщины, и в поле его зрения оказалось здание суда.
Оно сейчас горело таким ярким пламенем, что можно было подумать, будто под тем местом, где после взрыва бомбы остался кратер, всегда тлел огонек.
Стрельба не прекращалась. Шум моторов вдруг стал выше по тону и усилился, вдоль улицы на бреющем полете пронесся горящий самолет с хвостом, точно у белки, но состоявшим из сажи и дыма; в конце улицы самолет сделал резкий поворот и упал где-то за домами. Небо затянуло дымом, завоняло бензином. Приближающаяся пожарная машина с ни на минуту не замолкавшей сиреной проехала наконец-то мимо бомбоубежища и остановилась прямо напротив здания суда.
Только теперь Альберехт заметил, что и перед зданием, и повсюду вокруг на земле неподвижно лежат люди. Мимо него с криками «Я ранена, я ранена!» пробежала девочка высокого роста, схватившаяся правой рукой за левую. Сквозь пальцы правой руки струями текла кровь. А голову, залитую кровью из раны под волосами, девочке держать было нечем. Голова должна была торчать вверх сама, но вместо этого свернулась набок, ослепленная кровью. Девочка рухнула на землю и умерла.
Я увидел, как к небу возносятся души и этой девочки, и других людей. Исчезли два полицейских, стоявших с карабинами у входа в здание суда.
– Где они, – пробормотал Альберехт, – под обломками у дверей или в воронке перед входом?
Я слышал обрывки небесной музыки, доносившейся сквозь стоны и крики людей, завывание пожарной сирены, неистовый рев огня и долго звучавший сигнал отбоя воздушной тревоги, возвещавший, что опасность миновала.
«Куда же они подевались? – размышлял Альберехт. – Бёмер и все остальные?»
По осколкам стекла, скрипевшим под подошвами его ботинок, он прошел к своей машине, стоявшей в целости и сохранности на парковке. Он вдруг обнаружил, что держит что-то в руках. Коробочку с мятными пастилками. И почувствовал, что на языке у него что-то лежит. Пастилка. Альберехт прижал язык к небу, и у него появилось ощущение, что ярко выраженный мятный вкус – это то, за что он может держаться.
Сидя за рулем, подумал, где теперь те досье, которые, по мнению Бёмера, не должны попасть в руки к немцам. Они сгорят, полностью сгорят, если только не переусердствуют пожарные. Немцы сами подожгли их своими бомбами.
«И где же теперь Бёмер, – размышлял Альберехт, – где человек, возможно, видевший у меня на столе письмо Оттлы Линденбаум? Наверняка погиб.
Но человек, который мог выдать справку о том, что меня разыскивает гестапо, тоже погиб».
МИМИ с Эриком жили в современном коттеджном поселке. Их дом, довольно-таки узкий, был чрезвычайно высоким, в три этажа, и стоял на пологом склоне, поросшем травой. Он стоял здесь скорее всего задолго до того, как построили поселок. Их дом не был современным. Его возвел какой-то очень богатый землевладелец во второй половине XIX века. Дом был в основном строгим, лишь кое-где украшенным причудливыми деталями. По углам плоской крыши высились четыре островерхие башенки, увенчанные коваными флюгерами, напоминавшими алебарды.
Альберехт въехал на территорию коттеджного поселка и припарковал машину под цветущим терном.
Пока он шел к дому, стопы покалывало тысячей иголочек. «Все это могло быть моим, – думал он, – и все же я никогда в жизни не завидовал Эрику».
Он никогда не жалел о том, что расторг помолвку с Мими. Помолвка, почти целомудренная, не переросла в брак, но и не переродилась в ненависть. Помолвка, после расторжения которой, собственно говоря, ничего не изменилось. Первое время Мими очень страдала, что польстило его самолюбию. Потом ухаживания Эрика увенчались успехом. Изменило ли это что-нибудь для Альберехта? Ничего не изменило, потому что Эрик был его другом. Эрик тоже не проявлял ни малейшей ревности. Откуда ей взяться? Альберехт не сомневался, что Мими поведала Эрику об их не совсем платонических отношениях, включая самые плачевные детали (в ту пору он выпивал в день минимум по литру йеневера).
Ничто в ее рассказе не укололо Эрика стрелой ревности. К тому же через два-три года после женитьбы Эрик завел привычку ходить в ресторан с какой-нибудь секретаршей, а то и ездить с ней в командировку.
Примерно раз в десять месяцев секретарши менялись.
Эрик, директор частной фирмы с большим количеством секретарш, действовал строго по одной и той же схеме. После восьми или около того месяцев любви к одной секретарше он разом поручал ее работу другой сотруднице. Раз или два случалось, что задвинутая в дальний угол секретарша увольнялась, но обычно даже этого не происходило. Эрик был настолько обаятелен и так убедительно умел объяснять, почему никак не может развестись с женой, что любовниц это не оскорбляло. Страдания сданной в архив барышни с лихвой компенсировались злорадством при мысли о том, что ждет ее преемницу.
Этой стороне жизни Эрика, только этой стороне Альберехт порой завидовал. Частная фирма может назначать секретаршам совсем другие оклады, чем государство, в частную фирму можно привлечь таких секретарш, на которых приятно смотреть. А в государственном учреждении это невозможно. В довершение всех несчастий в таком серьезном учреждении, как прокуратура, всю бумажную работу выполняют покрытые пылью мужчины.
Делая очередной шаг в направлении дома Эрика, Альберехт повторял про себя то, что говорил себе уже много раз: ему хотелось бы оказаться на месте Эрика не для того, чтобы шастать из постели в постель, а чтобы найти Единственную Настоящую в толпе красавиц, которыми богато столь интеллектуальное учреждение, как издательство, и хранить ей верность до гробовой доски. Ну почему Эрик не предложил ему в свое время, много лет назад, стать его содиректором?
Альберехт не вошел в дом через входную дверь, а обогнул здание и увидел то, что ожидал: на лужайке был раскрыт большой тент и в тени от него стояла садовая мебель; на соломенном шезлонге сидела Мими с книгой в руке.
Увидев Альберехта, Мими встала.
– Берт! Что с тобой стряслось?
– Со мной ничего, пока еще ничего, – пролепетал он.
– На тебе лица нет.
– Немцы разбомбили здание суда. Я был вблизи.
Она смахнула пыль с лацканов его пиджака, похлопала по плечам. Затем мягкими ладонями вытерла ему щеки и поцеловала, но он оставался бледен, как мел.
– Не могу сказать, что чувствую себя вполне хорошо, – сказал Альберехт. – Я видел, как обрушился мой кабинет. Бёмер дал мне в долг триста гульденов, а через четверть часа уже погиб. На улице убитые. Мне очень скверно.
Он сел и стал ловить ртом воздух.
– Садись на мой шезлонг, там удобнее.
– Да не надо, так хорошо.
Стул, на который он сел, находился полностью в тени от тента, и только ноги оказались на солнце. Ноги были настолько ледяными, что солнечное тепло, проникавшее через ботинки, казалось обжигающим.
– Хочешь кофе?
Мими ненадолго ушла, но вернулась очень быстро, без кофе, и села на свой шезлонг боком, поставив ноги рядышком на траву и сложив руки на коленях. Она напоминала опытную медсестру. Сидя так, ей было удобно смотреть на Альберехта и прикасаться к нему, если потребуется.
– А ты сам где был в это время?
Служанка в черном платье с белым передником принесла кофе.
– Я был… – сказал Альберехт и замолчал.
– Я был в бомбоубежище, – продолжал он, когда служанка поставила кофе и ушла. – Я выглянул на улицу и увидел, как обрушился фасад. Все люди погибли.
– Невозможно себе представить, – сказала Мими. – Здесь мы почти ничего не заметили. Эрик вышел на крышу, чтобы посмотреть на самолеты. Как кофе, помогает?
– Да, спасибо, очень помогает, но…
– Что но?
– Наверное, не следовало бы тебе об этом говорить, но я… я больше ни на что не надеюсь. У меня чувство, что война ничем хорошим для нас не кончится. Это все пустые слухи: что взорван бронепоезд, что снова отвоеваны аэродромы, захваченные немцами, что сбито двести немецких бомбардировщиков… Все это враки, всегда распускаемые военными, когда битва почти проиграна.
– Французские войска идут на помощь, они уже в Брабанте.
– По-моему, у нас на всех уровнях засели предатели, и в Бельгии с Францией тоже. Полицейских убивают прямо с крыш домов. Вчера я хотел снять деньги со счета, так оказалось, что вице-президент моего банка смотал удочки. Давно славился прогерманскими настроениями, ты ж понимаешь. Нам надо было уже месяц назад посадить в тюрьму несколько тысяч предателей, а мы только составили список в восемьсот человек. Все эти чернорубашечники, все эти темные личности на заднем плане! У нас была бы хоть какая-то уверенность. Смотри, как основательно к этому подходят немцы! Заранее готовят приказы об арестах в странах, которых еще не завоевали.
– Так ты думаешь, что нас предали?
– Даже если бы и не предали! Знаешь, сколько современных самолетов состоит на вооружении у нидерландской армии? Двадцать три. Я разговаривал с артиллерийским офицером, так снарядов у них перед самой войной было по четыре штуки на орудие. Сейчас они все уже, разумеется, кончились. Для немцев разбить нас в пух и прах – пара пустяков.
– Ты не должен так говорить. Человек в твоем положении не имеет права так говорить!
Ах, с какой радостью я слушал бодрые речи этой мужественной женщины!
Альберехт, обычно глухой к моим наставлениям, прислушался к ее словам и долго думал, прежде чем заговорить опять. Я читал его мысли: он взвешивал, о чем ему можно и о чем нельзя говорить. И он сказал себе: Мими ни в коем случае нельзя рассказывать, что я еще не передумал ехать в Англию.
В конце концов он ответил:
– Разумеется, я не буду говорить этого каждому встречному-поперечному. Но тебе я честно говорю то, что думаю. Как это было всегда.
– Но это вовсе не значит, что думаешь ты правильно. Рассказов о предательстве и тому подобном всегда хватает. Может быть, все еще обойдется.
– Мими, они приземлились в густонаселенных точках, где их никто не ожидал. Без подготовки такое невозможно. Они завладели всеми тремя мостами в Роттердаме, а мост в Дордрехте не взорвался. Наши военные планировали взорвать множество мостов, но заложенная взрывчатка исчезла. Ее выкрали диверсанты.
– Придерживающиеся правых или левых взглядов?
– Какая разница. Что может такая армия, как у нас, на девяносто процентов состоящая из отказников в военной форме?
Мими ответила с легким упреком в голосе:
– Ты знаешь, что мы с Эриком всегда были против войны. Но даже Эрик пошел в пятницу утром на призывной пункт и записался в армию. Он так хочет служить! Хоть и не проходил военной подготовки и даже не знает, как стрелять из винтовки. А таких, как он, сотни тысяч.
– Но стрелять из винтовки они не умеют.
– На призывном пункте записали данные Эрика.
– Знаешь, Мими, когда армия сдастся и сюда придут немцы, то во главе нидерландского народа станет Мюссерт. Нидерландским правоохранительным органам придется несладко. Самая отвратительная фотография, которую я видел в последнее время, – это групповой снимок нынешних немецких судей. Все в рядок, в этих своих шапочках и черных мантиях, у всех поднята правая рука в нацистском приветствии, у всех к мантиям приколот значок со свастикой.[32]
– Это чудовищно.
– Если судебная власть будет подчинена случайно установившемуся политическому режиму, если нам будут указывать, кого преследовать, а кого нет, это будет концом тех демократических ценностей, на которых мы выросли.
– А без Гитлера и гляйхшальтунга в твоей практике никогда не случалось, чтобы тебе указывали, кого преследовать, а кого нет?[33]
– Случалось, но не в такой форме.
– Ага. В такой форме не случалось.
– У нас все-таки другое дело. Если прокурор откажется следовать указаниям, если упустит из виду принцип целесообразности юридической ответственности, его не отправят в концлагерь. А в Германии происходит только то, что целесообразно, там закон не значит ничего. Я не смогу жить в стране, где плохо только то, что не по душе Гитлеру.
– А у нас тут до сегодняшнего дня разрешалось только то, что по душе капиталистам.
– Поэтому-то мы и сидим так славно на зеленой травке.
– Я в любой момент готова пожертвовать всем этим ради идеала. Хочу тебе кое в чем признаться. Эрик уже много лет переводит крупные суммы денег на счет коммунистической партии.
– И наверняка не платит с них подоходного налога.
– Ну и что? По-моему, наоборот, здорово, что казна капиталистического государства жертвует денежки в пользу пролетариата.
– Я очень люблю Эрика, но при коммунистах тоже не смог бы жить.
– Какое счастье, что Сиси вовремя уехала. Ведь ты, Берт, тоже этому радуешься?
– Для нее это хорошо, а для меня…
– Ладно тебе! Я уверена, что если бы ты уехал с ней вместе или за ней следом, то места бы себе не находил от стыда. Я знаю тебя достаточно хорошо. Знаю, какая у тебя сила воли.
Альберехт глубоко вздохнул. Он подозревал, что Мими из лучших побуждений говорит обратное тому, что думает. Какая у тебя сила воли… Так говорит учительница ученику, который не может решить задачку: «Давай-давай, у тебя такая светлая голова».
Впрочем, это правда – он же бросил пить и даже курить.
– Если немцы займут страну, – сказал он, – вам с Эриком тоже будет несладко. Лучше бы уехать нам всем вчетвером.
– Вчетвером?
– Тебе, Эрику, мне и Ренсе. Гестапо уже сейчас разыскивает Ренсе.
Альберехт рассказал Мими о Бёмере и его списке, рассказал, как ходил к Ренсе. У него сложилось впечатление, что Мими согласна с логикой Ренсе.
– Гестапо уже сейчас разыскивает Ренсе? Но ведь в Нидерландах еще нет никакого гестапо. Это наверняка ошибка.
– А если не ошибка? Послушай, Мими, надеюсь, ты не питаешь иллюзий? Гитлер очень решителен. Первым, что немцы сделают, войдя в Нидерланды, будет секир-башка Эрику и ему подобным. Ведь они все знают.
– И что же они знают?
– Про книги эмигрантов-антифашистов, которые он издавал…
– Тогда немцам придется сделать секир-башка половине страны, всем типографам, книготорговцам и так далее.
– Вспомни, как он организовал контрабанду в Германию манифеста пяти писателей, запрещенных нацистами. Думаешь, гестапо не знает, чьих рук это дело? Один из моих приятелей год назад ездил на конгресс юристов в Германии. Конгресс ученых-юристов, господи боже мой. И знаешь, что он там видел? Для них проводили экскурсии, как всегда на конгрессах. И одна экскурсия была в архивы гестапо. Он рассказал, что в мраморном зале у них стоит что-то вроде огромного книжного шкафа. Вращающегося. Последнее слово техники. Стоит нажать на кнопочку, и из шкафа выезжает компромат на кого угодно, с отпечатками пальцев, фотографиями, сделанными скрытой камерой, – все, что полагается.
– И у тебя есть основания думать, что про Эрика в этом архиве…
– А ты как думала? У Эрика хватает врагов в фашистских кругах. И не тешь себя иллюзией, что он не попал в их поле зрения.
– На самом деле Эрик вовсе не коммунист. И к Сталину питает не меньшее отвращение, чем к Гитлеру. Но когда борешься против системы, надо поддерживать самого сильного врага этой системы. Все остальное – пустая трата сил.
– Сталин, – сказал Альберехт. – Ах-ах, какой враг Гитлера. Если бы Сталин не прикрыл Гитлеру спину, война никогда бы не началась.
– Это избитая фраза. Но если бы Сталин не заключил пакта с Гитлером, Гитлер завоевал бы Россию и в его распоряжении была бы половина всех мировых запасов топлива. А так у России появилось время подготовиться к войне.
– Давай закончим эти бессмысленные рассуждения. Все произошло так, как произошло. Сколько ни выдумывай, как и что могло произойти иначе, к пониманию будущего не приблизит. Ты же не думаешь, что Гитлер из-за заключенного со Сталиным пакта о ненападении всерьез решил доверять коммунистам?
– Наверное, нет. Но сажать их без суда и следствия в лагеря он, пожалуй, больше не будет, чтобы не рисковать дружбой со Сталиным.
– Можно подумать, что Сталин отказал бы ему в своей дружбе из-за такой мелочи.
– Ни Эрик, ни я никогда не были членами коммунистической партии.
– После заключения пакта о ненападении Гитлер не выпустил из концлагеря ни одного коммуниста. Впрочем… коммунист – не коммунист… Знаешь, как поступают в Германии, если конкурент перебежал тебе дорогу? Человек берет и доносит на него в гестапо. И дело в шляпе.
– Но если ты останешься на своей должности, Берт, ты сможешь помогать нам и нашим единомышленникам. Ты пока не уходи, даже если настанут трудные времена.
– Не уверен, что я ваш единомышленник.
– Дааа? Так кто же ты?
– Я все это делал только ради Сиси.
– Не говори ерунды. Ты помогал нам уже задолго до Сиси. Иначе ты бы с ней вообще не познакомился. Представь себе, Берт: человек остается без подруги и все его возмущение нацистским варварством исчезает бесследно. Ты же не такой. Ты же не такой инфантильный.
– Тут нет никакой инфантильности. Это было бы вполне естественно. Если бы было так. Но это не совсем так.
– Ты рассуждаешь, как эгоист.
– Я бы охотно рассказал тебе, почему меня не ждет уже ничего хорошего, даже если Гитлера убьют. Но мой рассказ тебе совершенно не нужен.
И это было правдой, потому что это таинственное высказывание ничуть не заинтриговало Мими.
– Всё слова, слова, – сказала она и допила кофе.
– Ты думаешь, что я хочу уехать из трусости, – сказал Альберехт, – и мне жалко, что не могу убедить тебя в обратном.
– Я прекрасно понимаю, что сегодня утром ты пережил настоящий кошмар. Хочешь еще кофе?
– Положись на меня, – прошептал я ему. – Пока что мне удается защитить тебя от самого ужасного. Ты жив. Ты не ранен. У тебя ни единой царапины. Ты можешь еще все исправить, если раскаешься. И это – единственное, что важно в земной жизни. Единственное, из-за чего ты пока не имеешь права умирать. Хочешь – уезжай, хочешь – оставайся здесь, но не умирай. В таком состоянии душевной неприбранности умирать нельзя. Ведь смерть – это духовный брак, и душа имеет право покинуть свою земную оболочку только после того, как очистится. Если ты сейчас сдашься, если сейчас умрешь, это будет то же самое, что взойти на брачное ложе с грязными ногами и немытыми руками.
Слышал ли он хоть одно слово из того, что я говорил?
Он думал: у меня не получается ей втолковать даже то, что я хочу уехать, чтобы быть вместе с Сиси. Или она не хочет этого понимать.
Он попытался зайти с другой стороны:
– Скажи, а что ты думала о моих отношениях с Сиси?
Мими положила правую ногу на шезлонг, затем левую и легла на спину.
– Если честно, мне кажется, она тебе не пара. Так что, хоть это и жестоко, я бы сказала, что то, как все сложилось, – самое лучшее.
– Ты говоришь это из эгоизма.
– Подожди, Берт, что ты имеешь в виду?
– Ты меня не так поняла. Я имею в виду твой политический эгоизм. Оттого что ты думаешь, что я могу оказаться полезным знакомством, когда Гитлер будет править бал. А если бы я уехал с Сиси в Америку, об этом не было бы и речи. Но поверь мне, я все равно не полезное знакомство. Понятия не имею, что смогу для вас сделать, если нам всем придется танцевать под дудку гестапо. Поэтому для меня было бы лучше всего уехать.
Мими ничего не ответила.
– Ты со мной согласна? Вчера утром Эрик сказал, что закрывает издательство до тех пор, пока Гитлер не будет разбит.
– Мы с Эриком не можем просто так здесь все бросить. И Паула, наверное, тоже придерживается другого мнения.
– Паула! Она-то как раз очень хочет уехать. Ренсе не хочет, потому что не сможет взять с собой картины, а Паула думает, что англичане по достоинству оценят ее мини-гравюры.
– Ах, Паула хочет в Англию? Так и езжай с Паулой! Тогда хотя бы один из вас двоих будет счастлив, а постепенно, возможно, стерпится – слюбится, и будете счастливы оба.
Альберехт встал, постоял несколько мгновений на месте. Взгляд его блуждал по саду, где цвели нарциссы с тюльпанами и ничто не напоминало о военном положении. Ему стоило больших усилий постоянно сдерживать подступающие рыдания.
– Хочу поговорить с Эриком. Ты останешься здесь?
Мими кивнула.
– Эрик наверху, в турецкой кофейной комнате, там у него гости.
Альберехт побрел по траве к дому и через двустворчатую дверь вошел на веранду. Самым характерным элементом интерьера в этом доме было убранство стен. Вдоль их нижней части во всех комнатах тянулись низкие книжные шкафы, закрывавшие стены примерно на треть, остальные две трети были увешены гравюрами и рисунками. Так было на веранде, в гостиной, в коридоре и на лестнице. Литографии Пикассо, Матисса, Брака, некоторые цветные, другие черно-белые. Вставленные в одинаковые рамки, черные с позолотой, они составляли геометрические фигуры и полностью закрывали стены. Это была идея Эрика, у которого хватало денег, чтобы коллекционировать то, что хочется. Он стремился внести индивидуальную нотку в свою коллекцию, в которую вообще-то не слишком вкладывал душу. В злые минуты Альберехт вспоминал замечание Ренсе, что оригинальнее было бы вставить в рамки большое количество денежных купюр и что для Эрика такие «произведения искусства» играли ровно ту же роль.
Здесь не висело ни одной работы Ренсе, хотя совершенно неизвестных имен было предостаточно. Впрочем, возможно, Альберехту это только показалось, он сам был не очень-то в курсе дела. Мими напрасно пыталась его убедить, что Эрик заплатил за эту графику больше, чем она будет стоить, если ее продать. Веря тому, что так часто объяснял Ренсе, Альберехт полагал, что ценность произведений искусства со временем всегда растет, и не знал, что это касается лишь небольшой части живописи, а графика, чтобы вырасти в цене, должна быть по-настоящему очень старой. Впрочем, гравюру Рембрандта в то время можно было купить за каких-нибудь сто гульденов, а то и меньше, цены были очень странные. Ошибался ли Ренсе насчет Эрика? В отличие от денег, хранящихся в банке, в этом доме все ценности будут утрачены, если в дом попадет бомба. Почему Эрик не перенес свою коллекцию в безопасное место? Осознаёт ли он, что каждый миг может стать последним? Или они с Мими совсем с ума сошли от избытка оптимизма? Или коллекция не стоила того?
Альберехт поднялся почти до самого верха. Он до сих пор не придумал, что скажет Эрику. Как убедить его бежать в Англию?
Поднимаясь по последнему маршу, Альберехт услышал голоса. Мими предупредила его, что у Эрика гости, но услышав голоса, он очень расстроился, что не сможет сразу же поговорить с Эриком наедине.
Дойдя до верхней ступеньки, Альберехт увидел гостей Эрика: две девушки и молодой человек сидели среди подушек на полу, устланном толстыми коврами. Гости его не видели, и он на несколько мгновений остановился, чтобы собраться с мыслями. До него донесся запах алкоголя и табака.
В свое время Эрик переделал весь чердачный этаж, так что теперь здесь было единое пространство, декорированное восточными коврами и восточными медными изделиями. Вместо дверей в четыре угловые комнатки, находившиеся под башенками, висели шторы из бусин. Раздвижные стеклянные двери, сейчас открытые, отделяли пространство с коврами от примыкающей к нему террасы на крыше. И на этой террасе Альберехт увидел Эрика, ярко освещенного солнцем, с биноклем в руке и чем-то вроде шлема на голове.
Одна из девушек была поразительно похожа на Грету Гарбо. Она заметила Альберехта, он кивнул ей и двинулся дальше.
– Эрик! – позвала девушка.
Эрик обернулся. Шлем у него на голове оказался дуршлагом. Это рекомендовалось в газетах.
– Берт!
Эрик вбежал в комнату, снял дуршлаг с головы, схватил руку Альберехта и, делая вид, что нечаянно натолкнулся на него, прошептал:
– О девочке ни слова!
– Прости! – воскликнул он громко, – я наступил тебе на ногу?
– Все в порядке, – сказал Альберехт.
Эрик потянул Альберехта вниз, на ковры и подушки.
– Познакомься, это Герланд, – сказал Эрик и на мгновение положил руку на копию Греты Гарбо, – мы очень любим друг друга. Это мой лучший друг Берт.
– Здравствуйте, Берт, – сказала Герланд и, улыбаясь, подала ему руку, но от смущения вытянула ее недостаточно далеко.
– Здравствуйте, Герланд, – ответил Берт и дотянулся до ее руки.
– А этот молодой человек – Алевейн Ленман, – сказал Эрик, – поэт-вундеркинд, которого я сам открыл. В следующем месяце у нас выходит его первый сборник.
– Привет, – сказал Алевейн и помахал рукой.
Альберехт, оказавшийся рядом со второй девушкой, встретился с ней глазами.
– Альберехт, – представился он.
– Трюди Ленман.
– Альберехт – это его фамилия. Гроза преступного мира, прославленный прокурор.
– Ах это вы и есть? – сказала Трюди. – Я восхищаюсь тем, что вы отказались преследовать Ван Дама. Настоящий мужественный поступок. И что теперь будет с Ван Дамом?
– Понятия не имею, – ответил Альберехт, – это должен решить судья. Но все документы по делу Ван Дама сгорели. Час назад здание суда разбомбили.
– Ого! – воскликнул Эрик. – Мы отсюда видели, как немецкий самолет сбрасывал эти бомбы.
– Мой заместитель Бёмер погиб, – сказал Альберехт, – я разговаривал с ним за десять минут до бомбежки.
Гости Эрика забросали его вопросами, и он рассказал им всю историю, но не в той трагической тональности, как только что рассказывал ее Мими. Он не хотел себя выдавать, ведь этих людей он видел впервые в жизни. Для них он – прославленный прокурор, потребовавший освобождения журналиста от преследования, такой человек не теряет хладнокровия.
В конце концов Алевейн Ленман сказал:
– Ван Дам в любом случае наложит в штаны. Как вы думаете, менейр Альберехт, когда придут немцы, что будет лучше для Ван Дама – чтобы судья освободил его от преследования или назначил наказание? Думаю, к тому моменту, когда будет приниматься решение, Гитлер уже займет Нидерланды, и какое бы постановление ни вынесли, всем понятно, что Ван Дам оскорбил Гитлера.
– Это факт, – сказал Альберехт, – что в Германии немцы отправляют за колючую проволоку кого хотят, без малейшей видимости следствия и суда. Но если они займут Нидерланды, то с точки зрения международного права здесь они не имеют права делать, то что им заблагорассудится.
– Международное право! – сказал Эрик. – Можно подумать, что оно их так волнует.
Алевейн сказал:
– Осудят его или не осудят, боюсь, что Ван Дам в любом случае уже засветился. Вы, кстати, читали статью, из-за которой пошел весь сыр-бор?
– Слава богу, нет, – сказал Эрик, – Ван Дам так плохо пишет!
– Ерунда, Букбук, человек сознательный должен быть в курсе дела.
Голос Алевейна зазвучал, как у декламатора на сцене:
– «Гитлер, отца которого высрала австрийская шлюха после спаривания с евреем-ростовщиком». Вот как написал Ван Дам. Когда людей обливают грязью, мне это нравится только в том случае, если в грязи сверкает искра поэзии.
– Значит, Ван Дам тоже не любит евреев, – сказала Герланд.
– Ван Дам? Но ведь он сам еврей!
– Ван Дам еврей? – спросил Альберехт.
– Конечно, – ответил Эрик, – ты что, не знал?
– Нидерландскому правосудию нет дела до подобных различий.
– Но мы все равно обращаем на это внимание, – высказался Ленман. – На самом деле все люди антисемиты, только не все считают нужным издеваться над евреями. Считаю, что тот, кто не антисемит, поступает по отношению к евреям несправедливо, очень несправедливо. Ни один еврей не доверяет не-еврею, но если не-еврей утверждает, что он не антисемит, то ему не доверяют еще больше.
– Алевейн любит парадоксы, – сказала Трюди, – но не подумайте о нем плохо. Я за ним еще ни разу не замечала, чтобы он был неприветлив с евреями, и ругать их заочно ему тоже не свойственно.
– Это тут ни при чем. Но единственный способ втереться еврею в доверие – это сказать ему: слушай, я, разумеется, антисемит, как и все, но лично ты – отличный парень.
– И тебе хватит смелости такое сказать? – съязвила Трюди.
– Если евреям сказать: я не антисемит, потому что иудейской расы не существует, то они оскорбятся. Черт побери, еще как оскорбятся. Иудейская раса – это не изобретение Гитлера, это их собственное изобретение. Разумеется, ужасно, что Гитлер их преследует, но им это дает глубокое удовлетворение. По крайней мере, Гитлер воспринимает избранный народ всерьез.
– Чушь, – сказала Герланд, – избранным народом Гитлер считает немцев, а не евреев.
– Логично, – сказал Алевейн, – по крайней мере, если Ван Дам прав, потому что, если верить Ван Даму, Гитлер и сам еврей.
– Угомонись ты, пока совсем нас не запутал, – сказала Трюди. – А то кто-нибудь начнет воспринимать эту чушь всерьез, оттого что ты используешь слово «логично».
– У тебя не найдется для меня сигареты? – спросила Герланд у Альберехта.
– Я не курю. Мой единственный заскок – сосать мятные пастилки.
Он протянул ей серебряную коробочку, его рука дрожала. Но Герланд была очень мила и двумя тонкими пальчиками взяла из коробочки пастилку. Альберехт посмотрел на остальных. Сигаретница, стоявшая на полу между ними, была пуста.
– А у меня другой заскок, – сказал Алевейн, – мне ужас как хочется быстренько переспать с Герланд. Можно, Букбук? Это займет минут пятнадцать. И тогда можешь не платить мне аванса.
– Премного обязан. Давай, вперед! – ответил Эрик.
Перед носом у Альберехта Аллевейн взял Герланд за руку, встал и поднял ее.
– Вот в той угловой комнате, – сказал Эрик и показал рукой, – а не в этой. Эта для моих собственных заскоков.
Алевейн с Герланд, хихикая, прошли в угловую комнату и исчезли за шторой из бусин.
– Если потребуется помощь, зовите! – крикнул Эрик вслед.
– Ой-ой-ой, – сказала Трюди, – до чего он бывает невыносим! Все время тычет Эрику в нос тем, что он его издатель, и дразнит его на людях своими завиральными идеями. Придумал Эрику прозвище – Букбук, потому что издательство называется Книга / Книга. Если это название ему не нравится, то пусть ищет другое издательство.
– Ну-ну-ну, – сказал Эрик, – у него и в мыслях нет ничего плохого. Это знак уважения, только наизнанку. Согласен, что он слегка перебарщивает. Уж так передо мной рисоваться незачем!
– А вы… – начал Альберехт, обращаясь к Трюди.
– Нет-нет, не то, что вы подумали. Я его сестра. У него совершенно крышу снесло с тех пор, как он впервые в жизни подписал договор с издательством. Про такой стиль поведения он прочитал в какой-то биографии – Рембо, что ли.
– Букбук! Приди-ка на минуточку!
– Хороший мальчик! Я ему уже нужен, – Эрик встал. – Но он и вправду второй Рембо.
– Где у тебя иголки, Букбук? – крикнул Алевейн.
Эрик пошел в угловую комнату, находившуюся прямо напротив Альберехта, и исчез за бусинами. Альберехт заметил, что там стоит большой граммофонный шкаф.
– А что, иголки кончились? – спросил Эрик.
Бусины на занавеси громко застучали, и на пороге показались все трое.
– Знаешь что? – сказал Эрик. – Съезди-ка ты за иголками в магазин.
И позвякал ключами от машины, держа их между большим и указательным пальцами.
– Я не вожу машину, – сказал Аллевейн.
– Зато Герланд водит, – сказал Эрик и отдал ей ключи.
– Я поеду с вами, – сказала Трюди и встала.
Альберехт тоже встал и пожал ей руку. Алевейну и Герланд он помахал, и они помахали в ответ.
– Издавать книги – отличная работа, – сказал Эрик, когда все ушли, – но время от времени приходится изображать из себя шута.
Альберехт обвел взглядом чердачное пространство. Увидел пустую бутылку из-под хереса, керамическую бутылку йеневера и бутылку водки. Один пустой сифон для воды и один наполовину полный. Пустые рюмки. Еще он заметил большое ведро с песком и лопату: газеты рекомендовали держать их наготове – на случай попадания зажигательных бомб. «Мне хочется пить», – подумал Альберехт, взял рюмку и налил в нее воды из сифона.
– Есть новости? – спросил Эрик.
– В каком смысле?
– Ну, может быть, тебе удалось что-нибудь выяснить.
– Что именно?
– С помощью твоих сыщиков.
– Вчера я тебя так понял, что ты не хотел бы заявлять в полицию.
– Но я же дал тебе листок с приметами девочки, ты же мог попросить своих людей ее поискать?
– Так не делается. Пропал человек. Об этом надо написать соответствующее заявление, и тогда этого человека разыскивают. Или не разыскивают.
– Ты не можешь хоть что-нибудь сделать для Лейковича?
– В каком плане?
– Им вообще запрещено выходить из дома. Да они бы и сами побоялись, с их немецким акцентом.
– Действительно, – сказал Альберехт с невозмутимостью, вошедшей в привычку, но сейчас удивившей его самого. – Понимаешь, запрет выходить из дома для иностранцев и лиц без гражданства установлен в их же интересах. Поверь мне, причина не только в том, что мы считаем их всех агентами Пятой колонны.
– Этим людям сейчас очень тяжело. Они живут в полной изоляции. У них нет соседей. Рядом нет никого, кто мог бы помочь. Что бы ты ни думал об Алевейне Лемане, это человек, к которому в подобных случаях всегда можно обратиться. Он сегодня уже два раза у них был, доставил еду и все, что нужно. Целый час колесил по округе на велосипеде, надеясь найти хоть какие-то следы девочки. Он считает, что она исчезла только сегодня утром. Я не говорю ему правду, а то еще пойдет в полицию.
Эрик налил себе полрюмки водки.
– Ни о чем другом не могу думать, – сказал он. – Эти старики, эта бесследно исчезнувшая девочка… Среди хаоса. Бог его знает, может быть, она заблудилась, может, ранена, все может быть.
– Наверное, – сказал Альберехт.
– Она вышла из дома с письмом в руке, собиралась опустить в почтовый ящик.
– Да-а?
– Письмо ее дяде в Прагу.
– Да.
– Ерундовское письмо, дело не в нем. Но было бы интересно узнать, опустила она его в ящик или нет.
– Почему?
– Как ты не понимаешь? Если она письмо не опустила, это значит, что с ней что-то случилось до того, как она дошла до ящика. А ящик совсем недалеко от их дома.
– Об этом можно справиться на почте, – сказал Альберехт.
– Я уже пробовал. Но они не смогли мне помочь. Письмо, опущенное в четверг без четверти четыре, на следующее утро уже увозят из почтового отделения, а мне эта мысль пришла в голову только сегодня.
– М-да.
– Конечно, можно было бы выяснить у дяди в Праге, получил ли он письмо, но в нынешней обстановке…
– Пока еще от него придет ответ… И даже если он письма не получил, это нам ни о чем не скажет.
– Наверное, сейчас теряется немало писем, – сказал Эрик грустно, – но эта загадка не дает мне покоя.
– Вчера я услышал очень странную вещь, – сказал Альберехт. – Приходит ко мне Бёмер и говорит, что в сбитом немецком самолете оказался список разыскиваемых лиц. Список голландцев, которых немцы хотят срочно забрать в гестапо.
– Во дают фрицы, – засмеялся Эрик. – Но пока что мы забираем и сажаем их самих.
– Пока что, – сказал Альберехт. – Так вот Бёмер рассказал, что в этом списке есть Ренсе.
– Ренсе? С какого перепуга?
– Я сразу пошел к ним. Ренсе ни о чем слыхом не слыхивал.
– Чокнулись они, что ли? Если хотят забрать Ренсе, то пусть забирают все детские сады подряд. А что по этому поводу думает сам Ренсе?
– Думает, что причина в его искусстве, потому что он опережает время лет на пятнадцать. Дегенеративное искусство, видишь ли. Гитлер такое дело сжигает.
– Дегенеративное искусство. Ах ты, боже мой. Дегенерировало еще в 1910 году. Бедняга Ренсе.
– Так всегда говорят о новых направлениях люди, настроенные против нового: что все это старо как мир.
– Старое, новое, – сказал Эрик, – меня это мало волнует. Важна личность художника. Цельная личность, понимаешь? А что касается Ренсе, то, увы, могу сказать одно: растительность на лице есть, но лица нет.
– Какая-нибудь синяя картина в духе Ренсе смотрелось бы у тебя на стене совсем неплохо.
– Конечно. Как только выберу время, нарисую.
– Но я считаю, что Ренсе в любом случае надо помочь. Мне совсем не хочется, чтобы его посадили в концлагерь. Ему лучше всего уехать в Англию.
– Ты ему не можешь помочь?
– Могу дать ему триста гульденов. Больше у меня сейчас нет. Банки откроются самое раннее во вторник. Или вообще не откроются.
– А что говорит Паула?
– Паула сразу загорелась. Думает, что в Англии будут иметь успех ее гравюрки. Но Ренсе не хочет расставаться со своими картинами.
– Я могу взять их на хранение.
– Можешь. Но если на твой дом упадет одна-единственная бомбочка, то и твоей собственной коллекции каюк.
– Может быть, эта опасность для Ренсе только мнимая.
– Брат Винсента ван Гога всегда ему помогал, хотя картины ему, возможно, не нравились.
– Я и не знал, что ты так любишь Ренсе.
– Если я бывал к нему несправедлив, то очень сожалею об этом. Сегодня утром, когда у меня на глазах рухнуло здание суда, весь мой кабинет, все досье… Когда такое увидишь, начинаешь понимать, до чего все на свете хрупко и что, испуская последнее дыхание, будешь думать о том, что все-все в своей жизни сделал неправильно. Все-все.
– Наверняка построят новое здание суда.
– Над которым будет развеваться флаг со свастикой. Но у меня ничего не осталось. Вообще ничего. У меня больше нет Сиси, а если я лишусь еще и Ренсе…
Эрик взял рюмку, наполнил ее хересом на треть и протянул Альберехту.
Я слушал их разговор, затаив дыхание, и с надеждой ждал, когда Альберехт придет к выводу, что важна только Любовь; боясь нарушить ход его мыслей, я не произносил ни слова.
– Два глотка тебе не помешают.
Альберехт сделал глоток, подумал: «Это яд, – подумал: – среди того, что я хотел сделать в своей жизни, было ли хоть что-нибудь, не содержащее яда?»
Сделал второй глоток.
– А ты своими глазами видел список? – спросил Эрик.
– Нет, и Бёмер тоже не видел, но ему рассказали.
– А мы можем посмотреть его сами?
– Не знаю, под каким предлогом его получить.
– Интересно, есть ли в нем Лейкович.
Лейкович. Альберехт допил рюмку, но держал вино во рту, не глотая, и ему казалось, что вино впитывается через язык и слизистую оболочку щек. В конце концов он его проглотил.
– Не удивлюсь, – сказал Эрик, – если немцы разыскивают такого человека, как Лейкович.
– Но предупреждать его не надо, – сказал Альберехт, – ведь он и так соблюдает все предосторожности?
– И что же ему делать?
– Действительно, что? – ответил Альберехт едва слышно. – Хаос полнейший. Знаменитых голландцев с безупречной репутацией обвиняют в предательстве. У нас был список из восьмисот человек, которых следует немедленно арестовать, если на нас нападет Германия, но полиция хватает просто всех тех, о ком болтают соседи. Повсеместно стреляют в полицейских, в пожарных. Что правда, а что нет, никто уже не знает. Ни один комиссар не может сказать, где находятся его подчиненные. Иные уже два дня не ложились спать. Меня то и дело останавливают и просят сказать «Схевенинген». Полнейший хаос. Немецкие парашютисты высаживаются в нидерландской полицейской форме, а сапоги у них набиты ручными гранатами. Ренсе слышал, что немцы отравили водопроводную воду, и пил одно пиво.
– А иначе бы он его не пил.
– Возможно, это все слухи, которые распускает Пятая колонна с целью посеять панику. Мне кажется, существует продуманный план систематически поднимать полицию по ложному вызову. Иначе чего ради немцы задолго до войны организовали свои национал-социалистические клубы за границей? Что может быть проще, чем устроить неразбериху? А ты хочешь, чтобы я разыскал девочку. Оттлу Линденбаум. Красивая фамилия, но не нидерландская. Опасность, что ее линчуют, если найдут, вполне реальна. Думаешь, с чего полиция начнет? С того, что заберут Лейковича. Тоже не голландская фамилия. А документы у Лейковича в порядке? Ты точно знаешь? У него нидерландский паспорт или он лицо без гражданства?
– Тише, тише, – сказал Эрик, – не заводись!
– Ты рассказывал Лейковичу про меня?
– Про тебя?
– Ну что у тебя есть знакомый, который может помочь узаконить его незаконное пребывание в стране. Что-нибудь в таком духе. Наверное ведь, говорил?
– Вполне может быть. Но это было очень давно.
– Сколько времени Лейкович находится в Нидерландах?
– Примерно полгода.
– Значит, столько же, сколько и Сиси, чуть больше. Странно, что ты мне про него никогда ничего не рассказывал, первый раз упомянул позавчера.
На суть вопроса Эрик не ответил, вместо этого сказал:
– Не могу себе представить, что никогда не говорил с ним о тебе, но он уже наверняка забыл.
Суть вопроса заключалась в том, почему Эрик попросил его помочь Сиси и не просил помочь Лейковичу. Альберехту пришлось усмирить свое любопытство.
– Мне интересно, насколько хорошая у Лейковича память. Я тебя ни в чем не упрекаю. И понимаю, что ты мог с ним обо мне говорить. Но и ты прекрасно понимаешь: когда немцы нас завоюют, я хочу как можно дольше им не попадаться.
– Немцы нас завоюют… Сомневаюсь. Вчера утром был испуг от неожиданности. А теперь… Британский флот, слава богу, на месте. И французский бронетанковый корпус уже в Брабанте. Все аэродромы снова наши. Сбито больше двухсот немецких самолетов. Ты видел своими глазами, как это происходит.
– Но подумай о том, чего мы не видим своими глазами.
– В такой сфере деятельности, как моя, – заявил Эрик, – в такой профессии, как моя, человеку необходима интуиция. Ты же не думаешь, что у меня есть время и желание читать все эти книги, прежде чем их издавать? И даже если бы у меня было время, кто сказал, что мое суждение чего-то стоит?
– Но ты же привлекаешь к работе консультантов?
– Консультантов? Они тоже писатели. У всех издателей есть консультанты, надо использовать все возможности, но в девяти случаях из десяти я плюю на их мнение. Потому что ты же понимаешь: эти консультанты восхищаются рукописями других писателей, пока те восхищаются их рукописями. И как я поступаю? Полагаюсь на свою интуицию. По-моему, я доказал, что интуиция меня обычно не подводит. Так ведь? А в данном случае моя интуиция мне подсказывает, что зря ты все видишь в черном свете. Немцы еще не дошли до Северного моря! И у меня такое предчувствие, что если у них все будет хорошо в Бельгии и Франции, то они сами уйдут из нашей страны. Я основываюсь не только на интуиции. Но и на логических рассуждениях. Гитлер будет идиотом, если продолжит с нами воевать. Как нейтральная страна Нидерланды могут принести ему намного больше пользы.
– А как же Британский флот?
– Нейтральные Нидерланды, – продолжал Эрик невозмутимо, – это как бы окно в остальную часть мира. В Германии нехватка многих полезных ископаемых. Гитлер будет безумцем, если оккупирует Нидерланды.
– Так он и есть безумец, – сказал Альберехт. – К тому же у него нет пути для отступления. Если он прекратит с нами воевать, то у нас тут немедленно высадятся англичане.
Теперь Альберехт уже сам налил себе полную рюмку.
– А кто не безумец, – сказал Альберехт, – все мы безумцы. Даже если стараешься изо всех сил поступать как можно более здраво, в какой-то момент – оглянуться не успеешь – вытворишь что-нибудь такое, что может прийти в голову только безумцу. Именно оттого, что Гитлер безумец, ему сопутствует успех. Люди узнают в нем себя. Это вам не псевдонаучные хитросплетения марксистов. Марксизм – не для простого народа. А вот бред, который несет Гитлер, – это они слушают с удовольствием.
В этот миг они с Эриком услышали нечто странное: череду тяжелых, но одновременно резких хлопков. Эрик тотчас вскочил на ноги, схватил свой дуршлаг и бросился на открытую террасу. Альберехт побежал за ним с непокрытой головой. Они увидели в небе два-три черных облачка и рой птиц, которых вспугнули хлопки. Самолетов не было. Новых выстрелов не последовало. Альберехт с Эриком подошли к краю террасы, перегнулись через балюстраду, посмотрели в сад, на тент, из-под которого торчали ноги Мими, на дорогу, на другие виллы, окруженные другими садами.
И тут они увидели нечто настолько удивительное, настолько пугающее, что, не обменявшись ни единым словом, оба уже знали, что смотрят на одно и то же и испытывают один и тот же ужас.
По дороге ехали три, нет, четыре мотоцикла с коляской. На каждой из этих конструкций, издававших при езде негромкий треск, сидело по три солдата странного вида. Мотоциклы были матово-серые, солдаты тоже. У всех солдат за пояс были засунуты непонятные предметы, напоминающие консервные банки на палочках, а за спиной висели круглые ребристые банки из жести. Те, кто сидел в колясках, постоянно озирались по сторонам и держали наготове пулеметы, их дула были направлены по диагонали вверх.
Они проехали мимо умеренно быстро, теперь слышался только треск мотоциклетных моторов.
– Мими! – крикнул Альберехт. – Они уже здесь. Немцы!
Он увидел, как исчезли ее ноги, затем и она вся вышла из-под тента. Какое-то время неуверенно оглядывалась по сторонам, потом подняла голову и посмотрела вверх.
– Ничего не вижу. Где они?
– Уже проехали. Немцы на мотоциклах.
– Это были немцы? Да не может быть!
– Думаю, спустились на парашютах.
К Альберехту подошел Эрик.
– Это правда, Мими, я тоже видел. Шесть мотоциклов с немцами. Наверняка с немцами.
– Шесть мотоциклов?
– Нет, так говорит Эрик. Я видел только четыре.
– Совершенно точно шесть, – сказал Эрик. – Вон, до сих пор слышно.
Издали действительно еще доносился треск мотоциклетных моторов, но сосчитать их было невозможно.
– Спускайтесь вниз! – крикнула Мими. – Это безумие – торчать на крыше!
Альберехт с Эриком вошли в чердачную комнату, Эрик положил свой дуршлаг на пол рядом с ведром песка.
На лестнице он сказал:
– Мими нельзя оставлять внизу одну, а выходить на крышу она боится.
Спустившись к Мими в сад, Альберехт заметил, что у нее на лице нет и тени страха. Сам он чувствовал дрожь, понимающуюся к коленям откуда-то из лодыжек, но желания спрятаться не испытывал. Все втроем они вышли из сада на дорогу. Прекратите дрожать, сказал Альберехт своим ногам и понял, что уже в третий раз война подходит к нему почти вплотную. «Жаль, что я не военный: хоть во мне и сидит страх, в панику я не стал бы впадать. Страх обостряет зрение, я был бы отличным солдатом».
– Если услышите свист пуль, ложитесь на землю, а руками прикрывайте сзади шею, – сказал он, – это самое безопасное положение.
Они встали посередине дороги. Стрельба становилась все сильнее, звуки выстрелов доносились оттуда, куда уехали немцы. Но что именно там происходило, не было видно из-за деревьев, потому что здесь дорога делала поворот. Осколки гранат сыпались на землю со всех сторон, жужжа, как шмели.
– Мими, – сказал Альберехт, – здесь слишком опасно находиться, зачем это надо?
– Они девственно несведущи в том, что такое война, – сказал я, – а ты уже знаешь, почем фунт лиха. Вспомни коров, опрокинувшихся ногами к небу, с окровавленными белыми животами. Вспомни, как кровь впитывалась в одежду убитой женщины.
– Кровь на лице Оттлы Линденбаум, – ответил он и так задрожал, что в глазах у него потемнело, и небо дохнуло холодом, как будто внезапно наступила осень.
– Опасно? – сказала Мими. – Какая мне разница! Если бы я могла их остановить!
– Пусть они в меня стреляют! – закричал Эрик. – Пусть только попробуют!
Вот стрекотанье одного из пулеметов стало более регулярным.
– Смотрите, вон там! – сказал Альберехт и показал рукой.
Там вдали, около фонарного столба, показался светло-серый столбик дыма, поднимавшегося вертикально вверх. Яркая вспышка в саду напротив едва не ослепила их, от громкого щелчка уши словно ватой набили.
– Ай! – закричала Мими.
Она смотрела на свою левую руку с растопыренными пальцами, с них капала кровь.
– Уходим, – сказал Эрик, взял ее за другую руку и побежал сломя голову к себе в сад. Альберехт помчался с другой стороны от Мими, на бегу вытащил из кармана носовой платок и попытался обернуть им раненую руку Мими.
Они вбежали в дом, запыхавшиеся, не остановились в гостиной и, не сговариваясь, бросились на кухню, где было мало окон и казалось безопаснее всего. Служанки как в воду канули. Эрик пошел за аптечкой в ванную комнату на втором этаже. Альберехт промыл Мими руку под краном. Когда кровь смылась, оказалось, что на руке, на мизинце, одна-единственная ранка с рваными краями.
Наклеив Мими на палец лейкопластырь, Эрик сказал:
– Давайте сядем!
Все трое сели за кухонный стол. Никакой стрельбы больше не доносилось.
– Я тебя предупреждал, – сказал Альберехт, обращаясь к Мими, – но ты никогда не веришь тому, что я говорю.
– А как эти немцы выглядели? – спросила она ледяным тоном.
– Все серые, – сказал Эрик, – с ребристыми круглыми аптечками на спине.
– Там их противогазы, – сказал Альберехт, – я видел на фотографиях. А ты заметил толстенькие палочки у них за поясом? Знаешь, что это? Ручные гранаты.
Они никак не могли успокоиться и снова встали.
– Надо что-то делать, – сказала Мими, – нельзя же просто сидеть здесь и ждать неизвестно чего. Черт побери, ну почему не работает телефон.
Они прошли в коридор; выстрелов не было слышно.
Из гостиной посмотрели на дорогу, но не увидели ничего угрожающего. С Мими во главе отправились на улицу. На дорогу уже вышли обитатели всех вилл по соседству, чтобы посмотреть, что делается.
– Послушай, Мими, ты их видела? Это были парашютисты! – закричала соседка, жившая напротив.
– Я сама не видела. Это Эрик видел.
– Шесть мотоциклетов с колясками! – воскликнул Эрик.
– Он преувеличивает, – крикнул Альберехт. – Их было всего четыре!
Альберехт крикнул это соседке из виллы напротив совершенно не для того, чтобы показать, что он смотрел внимательнее Эрика. Ему хотелось во что бы то ни стало хоть что-то сказать этой женщине, и Альберехт произнес первую же фразу, которая пришла в голову.
– Я тоже насчитала четверых, – ответила она и посмотрела на него.
Ее взгляд, казалось, говорил: мы двое увидели одно и то же, и мы наверняка думаем одинаково о многих других вещах.
Она смотрела и смотрела на Альберехта своими большими голубыми глазами, нежный розовый ротик был приоткрыт. Тонкие полоски выщипанных бровей придавали ее овальному лицу динамичность, а собранные в прическу светлые волосы выглядели непослушными, как будто все время дует сильный ветер.
– Смелые они ребята, – сказала она негромко, словно ее высказывание предназначалось только для Альберехта.
Затем она замолчала, с чуть приоткрытым ртом, и ему померещилось, что она шепчет: «Я красивая и знаю, что ты считаешь меня красивой, за это я награжу тебя поцелуем». На ней было летнее платье с глубоким вырезом. Если бы на свете существовали ангелы женского пола, они выглядели бы, как эта соседка. Узкая юбка из тонкой ткани едва достигала колен. Ноги и бедра не уступали ногам и бедрам богини охоты, в которую верили древние язычники.
Словно кто-то издал запрет ступать на проезжую часть, обитатели вилл стояли вдоль дороги, каждый с той стороны, где жил. Как же она была хороша на темно-зеленом газоне перед своей белой виллой, оплетенной вьющимися растениями!
– Скоро приедут еще, – спокойно сказала она.
– А мы ничего не можем предпринять, ничего-ничего! – воскликнула Мими. – Даже не можем позвонить в полицию!
На дороге никто не показывался. Самолетов тоже не было видно.
Но вот вдали послышались веселые крики. Казалось, какие-то люди чему-то очень радуются.
Озадаченные и охваченные любопытством обитатели вилл сошли со своих газонов и встали на проезжей части. Соседка напротив сделала то же самое. Она стояла, сложив руки чуть ниже выпуклого бюста, и глядя на ее высокую прическу из светлых волос, Альберехт почувствовал, что ее не испугают даже самые ужасные катастрофы. Ее платье было без рукавов, и его лицо оказалось рядом с ее загорелым плечом. «Вот бы меня сейчас ранило пулей, – подумал он, – и я умер бы в ее объятиях! Такой конец был бы прекраснее, чем я заслужил». Но миг спустя ему уже расхотелось умирать от пули, потому что он сообразил: его подхватят руки не соседки, а Мими, и именно на ее груди ему придется испустить последний вздох.
Радостные крики приближались. Из-за поворота показался крашенный зеленой краской грузовик. В нем сидели нидерландские солдаты. Солдаты орали и прыгали. Двое из них крепко держали человека в серой форме, заломив ему руки за спину. Немец был с непокрытой головой и в очочках в стальной оправе. Китель спереди разорван, из шеи на голую грудь капала кровь. Серая жестяная коробка болталась на животе.
– Военнопленный! – кричал солдат, сидевший рядом с шофером. – Военнопленный! Ууу, немецкая гадина!
Проезжая мимо дома Эрика, шофер прибавил газу, и когда грузовик умчался, Альберехт увидел, что красавицу-соседку, которая до сих пор так мало говорила, зато так много на него смотрела, окутывает облачко голубой дымки.
– Ах, мальчишки, я так счастлива! – воскликнула Мими и обхватила Альберехта вместе с Эриком за шею. – Как замечательно! Как чудесно!
Голова Альберехта стукнулась о голову Эрика; непроизвольно отпрянув, он увидел только темно-зеленую траву на газоне.
– Вот увидите, все будет хорошо!
Мими продолжала обнимать их за шею, Эрик начал приплясывать, Альберехт приплясывал вместе с ним, а сам думал: «Я вот прыгаю, а ведь мне совсем не весело». Так они и пошли к дому, по траве, вновь освещенной солнцем, а уцепившаяся за них Мими почти висела между ними в воздухе. Альберехт чувствовал запах клейкого слоя лейкопластыря у нее на мизинце.
– Ах, мальчишки, – сказала Мими. – вот видите. Вот вам и немцы с их железной дисциплиной. А мы хоть и не любим играть в солдатики, но стоит нас разозлить, и мы искромсаем этих хвастунов на кусочки!
– Это потому, что мы боремся за правое дело, – сказал Альберехт, решив, что ему тоже следует вставить словечко, чтобы никто не заметил, какой он мрачный, – а эти немецкие ребята нет.
– Конечно, – сказал Эрик, – эти немецкие ребята лишь исполняют приказ. Ни к черту не годится вся их система. Людей можно долго обманывать, но теперь-то они поймут, что в Нидерландах им нечего делать. Как же это сформулировал тот философ? Можно обманывать отдельных людей долгое время, но нельзя обманывать весь народ постоянно. И это правда!
– Это же преступление, – высказала Мими новую мысль. – Мне их жалко. Взяли и сбросили этих бедолаг на парашютах вместе с мотоциклетами, а потом сказали: война…
Рассуждая о подоплеке военной операции, происходившей почти у них на глазах, наши друзья перестали приплясывать и дальше пошли каждый своими ногами, рядком, как обычно, глядя в сторону дома.
Вдруг у них за спиной послышался скрип шин по гравию и знакомый звук клаксона Эрикова «дюзенберга».
Герланд сидела за рулем, Трюди с ней рядом, Алевейн один на заднем сиденье. Молодой человек встал во весь рост и крикнул:
– Вы уже слышали? Все идет прекрасно! Наши взяли аэропорт Ваалхавен со стороны Влардингена. Это сказали в пластиночном магазине, где мы покупали иголки.
УВИДЕВ Альберехта, мать обрадовалась, но не удивилась.
– Я весь день играла на рояле.
Она как раз собиралась в магазин. Послать за покупками Хильдегард ей показалось опасным, а сама она весь день не выходила из дома.
– Значит, – сказал Альберехт, – ты еще не знаешь, что в здание суда попала бомба?
Ненужный вопрос.
– Это случилось через пять минут после того, как я из него вышел.
Ненужное сообщение.
– Я слышала только сигнал воздушной тревоги и рокот самолетов. Но в любом случае ты молодец, что заехал, чтобы я увидела тебя своими глазами. Ведь я бы могла испугаться до смерти. Страшно подумать, что было бы, если бы мне рассказали про разрушенное здание суда, а я бы не знала, где ты и что ты. Ты золотой мальчик, Берт, честное слово.
Она громко чмокнула его в щеку.
– Немцы, – сказала она, – никогда не перейдут через голландскую ватерлинию. Мне это объяснил менейр Кальвиль, бывший лейтенант запаса. Они просто утонут со своими танками в болоте. Правда ведь?
– Последние новости более или менее благоприятные, – сказалАльберехт. – Наши взяли аэропорт Ваалхавен со стороны Влардингена. Впрочем, высадившихся парашютистов тоже обезвреживают достаточно быстро. Днем я заезжал к Эрику. И вот на улице рядом с его домом откуда ни возьмись появились четыре мотоциклета с колясками. Только подумай. Через пятнадцать минут их уже ликвидировали.
– Ну конечно. У Гитлера просто плохо с головой. Разве же можно взять и сбросить на землю парашютистов-солдатиков. Как он это себе представлял? Что мы пригласим их на чашку кофе с пряником? Разумеется, их встретили здесь совсем по-другому.
Мать прошла на кухню и вернулась с продуктовой сумкой.
– Ренсе с Паулой ко мне больше не заглядывали.
– А с какой стати они должны к тебе заглядывать, мама?
– Почему бы и не заглянуть?
– Возможно, ты права. Я виделся с ними вчера. С ними все в порядке. У них на улице еще ничего не стряслось.
– А у нас здесь ужасная суматоха. Полицейские на мотоциклах, все стреляют, в бомбоубежище такой кавардак. А по ночам происходит вообще неизвестно что, ведь фонари теперь не горят… Представь себе, прежде чем ложиться спать, я сейчас проверяю, хорошо ли закрыты окна и задвинут ли засов на входной двери. Никогда ничего подобного не делала, это такое мещанство. От Хильдегард мне тоже мало толку, поскольку ей запрещено выходить на улицу. И даже если бы не было запрещено, я бы ее не пустила. Я прямо слышу, как люди на улице говорят: «Это служанка-немка госпожи Альберехт». Я бы боялась, что мне в окна станут бросать камни за то, что держу у себя немку. Но Хильдегард чудесная девушка. По-настоящему преданная и милая. Берт, ты не хочешь сходить со мной за компанию в магазин? Нет, не шучу. Я прекрасно понимаю, что мысли у тебя заняты другим. Посади ты всех предателей в тюрьму, и все. По-моему, их можно сразу взять и поставить к стенке. Серьезно. До свидания, малыш! Я все равно очень рада, что ты не уехал в Англию. То, что в ящичке не оказалось денег, – это перст Божий. Потому что они у меня всегда там лежат.
Альберехт сделал шаг прочь от двери.
– Послушай, Пузик. Ты не забываешь заботиться о себе? А то приходи ко мне обедать.
Альберехт пообещал прийти завтра или послезавтра.
Размышляя о том, надо ли еще что-нибудь сегодня сделать, сел в машину. Пока ехал по Бастионной улице, мысли его беспорядочно блуждали.
Есть ли на белом свете человек, с которым он мог бы поговорить откровенно?
С Сиси? Он бы совсем не обрадовался, если бы его заставили записать на бумаге все, что он в свое время рассказал Сиси.
– Глупец! – воскликнул я. – Можно подумать, другие люди существуют только для того, чтобы выслушивать твои тайны. Излей свое сердце перед Господом Богом, уже давно знающим твои самые сокровенные тайны, но чье терпенье безгранично.
– Ничего себе, – сказал черт, – думаешь, всеведущему Господу охота расспрашивать о том, что он уже знает?
– Найди священника, который выслушает твою исповедь, – возразил я. – Не думай, что Бог, который все видит, будет просто-напросто расспрашивать о том, что уже знает. Ему важно сравнить то, что он о тебе знает, с тем, в чем ты ему признаешься.
Черт издал короткий смешок.
Что это за юноша идет вон там с продуктовой сумкой в руке, а другой рукой ведет велосипед со спустившей передней шиной?
Это Алевейн Леман.
Алевейн случайно глянул в сторону, когда мимо него проезжал Альберехт. Алевейн его явно узнал, потому что взмахнул рукой: жест, отчасти означающий приветствие, отчасти – просьбу остановиться.
Альберехт встал у поребрика, дотянулся до правой дверцы и открыл ее.
Алевейн наклонился и сказал:
– Приветствую вас, менейр Альберехт. Как удачно, что я вас увидел.
– Оставьте здесь велосипед и садитесь ко мне, – сказал Альберехт.
Алевейн прислонил велосипед к ближайшему дереву, пристегнул замком и вернулся к машине с продуктовой сумкой в руке.
Я знаю, что в Писании сказано: «Не хорошо быть человеку одному», и потому возрадовался, что Алевейн, сидя рядом с Альберехтом, сейчас так весело ехал по городу в вечернем свете. Это было тем более радостно, что встреча вырвала Альберехта из очередного круга его собственных кошмаров, его эгоизма, и, разумеется, я ликовал, что он нашел в себе силы оказать услугу другому, пусть даже и весьма скромную.
– Люблю я маленькие машинки, – сказал Алевейн, – от такого огромного американца, как у Букбука, в военное время мало радости. Знаете, сколько он жрет бензина?
– Понятия не имею, – сказал Альберехт, – в автотехнике я профан.
– Один литр на четыре километра, – сказал Алевейн, – не могли бы вы здесь свернуть направо?
– Куда вам вообще-то надо?
– На Марельский проезд.
Должен признаться, что меня этот ответ напугал еще больше, чем Альберехта. «Адонай, – вскричал я, – почему Ты не избавил порученного мне смертного еще и от этого испытания?»[34]
Но Бог не ответил, и я, устыдившись, не стал повторять свой вопрос. Потому что не мне судить, каким испытаниям Господь должен или не должен подвергать своих тварей. Единственная моя задача – навевать своему подопечном у мысли, которые помогут ему, если он к ним прислушается, преодолеть испытания без особого ущерба.
И поскольку мысли, которые я ему передаю, все без исключения носят божественный характер, исходят они от Бога. Так что лишь кажется, будто это я защищаю своего подопечного, равно как лишь кажется, будто Бог посылает своему созданию испытания. Бог – словно учитель, подсказывающий ученику во время экзамена правильный ответ, и только ученики, не умеющие слушать, этот экзамен проваливают.
Альберехт не ответил.
– Или вам далековато туда ехать? – спросил Алевейн.
Альберехт отрицательно покачал головой.
– Спроси у него, что он там собирается делать, у Марельского проезда, где и люди-то не живут, – сказал черт, – ну почти не живут.
Но Альберехт ничего не спросил, проклиная себя за то, что три минуты назад не сделал вид, будто не замечает Алевейна, который, хоть его ни о чем не спрашивали, сам начал рассказывать.
– Я везу продукты знакомым Эрика, – сказал Алевейн, – евреям-иностранцам, которым запрещено выходить из дома. Полный бред, скажите? Они живут там в полной изоляции. Выйти из дома нельзя. Если бы не мы, они бы умерли с голода.
Альберехт прочистил горло и сказал:
– Если бы они вышли на улицу, их бы, возможно, приняли за немецких шпионов.
– Это для их же блага, я тоже так понял, – заметил Алевейн, – но все равно эта мера ставит невинных людей в тяжелейшее положение. Что делать людям, у которых вообще нет соседей, а ведь они, наверное, не одни такие.
– Но в данном случае, как мы видим, решение нашлось.
– А что если бы нас не было?
– Тогда они могли бы, например, куда-нибудь позвонить или сообщить о своих трудностях квартальному полицейскому.
– Думаю, что с полицией у них непростые отношения.
Альберехт вел свою маленькую машину уверенной рукой. Ехал ни слишком быстро, ни слишком медленно. Все происходило само собой, как в кошмарном сне, и его спокойствие можно объяснить только тем, что он перестал осознавать разницу между кошмарным сном и явью. Ему даже стало казаться, будто он наконец-то отчетливо понял, что никакой разницы вообще нет, а если какие-то отличия и существуют, то для него они уже лишились всякого смысла.
– Эти люди боятся полиции, потому что им есть что скрывать, – сказал Алевейн. – Не говорите об этом с Букбуком. Он все знает, но ему незачем знать, что я тоже знаю.
– Чтобы сохранить секрет, лучше всего оставить его при себе, – сказал Альберехт.
– Такой человек, как вы, не станет выдавать мой секрет, и я открою его вам не потому, что не умею держать язык за зубами, а потому что думаю, что, если вы будете все знать, это может оказаться полезным. Дело в том, что они прячут девочку, немецкую еврейку. Она бежала из Германии без документов и жила у них подпольно. Эрик об этом знал, но от всех остальных это, так сказать, скрывалось. Не помню, где и когда я услышал о ней в первый раз. В издательстве столько всякой трескотни… Так вот, позавчера девочка исчезла. Я сразу заметил, что девочки в доме нет, когда принес продукты. До этого я у них не бывал. Самого Лейковича я, пожалуй, однажды видел в издательстве, ну и все. А вчера его жена заговорила о девочке. Исчезла вечером девятого мая. Пошла опускать письмо и не вернулась. Они думают, что ее похитила Пятая колонна, но оттого что девочка жила у них нелегально, боятся сообщать в полицию. Они говорили об этом с Эриком, но тот вроде как дал такой совет: ради бога, никому ни слова. А я объясняю ее исчезновение намного проще. Девочку наверняка забрали в полицию в связи с угрозой войны. Она побоялась рассказать, откуда она и где живет, и сейчас ее так где-нибудь и держат.
– Не исключено, что так и есть.
– Я тоже так думаю. А Эрик – ужасный трус. Он же ваш хороший друг. На его месте я бы сразу рассказал вам, что произошло.
– Действительно, это было бы лучше всего, – откликнулся Альберехт неуверенно.
– Что-то ты не то говоришь, – рассмеялся черт, – одно из двух: либо Алевейн знает, что Эрик с тобой об этом разговаривал, и теперь думает про себя: этот господин врет – почему? Либо Алевейн не сегодня-завтра расскажет Эрику, что разговаривал с тобой и что ты сказал: вполне возможно, что девочку держат в нидерландской полиции. И Эрик подумает: ох уж этот Берт! Вот негодяй, почему он мне этого не сказал?
Словно приступ лихорадки, Альберехта охватило какое-то неприятное чувство, еще более острое, чем даже в последние два дня. Губы, рот, ладони разом стали сухими-сухими. Казалось, он весь ссохся и стал точно вырезанным в натуральную величину из газетной бумаги, хотя по-прежнему сидел за рулем машины в этот чудесный весенний вечер. Они уже достигли окраины города, до Марельского проезда было рукой подать.
– Вообще-то дела у фрицев идут неважно, – сказал Алевейн, – вы сами видели, как мотоциклеты спускаются с неба?
– Не как спускаются, – сказал Альберехт, – а как едут мимо. Четыре штуки.
Он приближался к перекрестку. Увидел бетонный фонарный столб с почтовым ящиком у начала Марельского проезда.
– Сдавайся, – сказал черт, – возьми да вмажься в этот столб насмерть, и твоя честь будет спасена.
Но он снизил скорость, включил правый указатель поворота и свернул на Марельский проезд.
– Куда нам? – спросил он. – Я не вижу ни одного дома.
– Немножко дальше, единственный дом во всей округе. Вот здесь! Остановите!
Зеленые кусты почти упирались в правый бок машины.
– Так вам не выйти, – сказал Альберехт, – я поставлю машину с левой стороны дороги. Здесь это можно. Это же дорога с односторонним движением.
Как прекрасно он знал правила дорожного движения!
– Сказу видно, что вы прокурор, – сказал Алевейн.
Альберехт снова завел мотор и остановился метров на десять дальше, с той стороны, где был луг с пасущейся лошадью.
Алевейн вышел из машины и побежал к боковой дорожке с зеленой продуктовой сумкой в руке.
Альберет сидел, обессиленно развалясь, за рулем. Взгляд его бродил по выпуклой мостовой со мхом между плитками, по лугу, по старой лошади.
Он достал коробочку с мятными пастилками и положил одну пастилку в рот.
Где я стою? Примерно по диагонали от того места, где все случилось, метрах в десяти, с другой стороны дороги. Оборачиваясь назад, он пытался понять, остались ли какие-то следы, ну там полосы от шин, где он тормозил, – хотя нет, их остаться не могло. Сломанные ветки кустов? Он ничего не видел. Невероятно. Как будто ничего и не произошло. А кто сказал, что тут что-то произошло? Только его внутренний голос, кроме него – никто-никто на свете.
Он перелез на сиденье рядом с водительским местом и вышел через правую дверь. Из трубы молокозавода поднималась тонкая струйка дыма.
Низкое солнце ударило ему в лицо, и он надвинул шляпу на глаза. Оглядел свою машину так, будто должен описать ее приметы. «Рено вивакатр», седан, 1936 года выпуска. Отвратительной обтекаемой формы, колеса покрашены грязно-желтой краской, когда-то лакированный корпус не блестит, оттого что машина много стояла под открытым небом, шины далеко не новые. Номерной знак HZ 3267. Куплена подержанной за 135 гульденов. Всех, кто видел этот автомобиль в четверг 9 мая 1940 года около 15.45 выезжающим с Марельского проезда, где движение механических транспортных средств запрещено… просим сообщить комиссару полиции города…
Он увидел, как по шоссе приближаются двое велосипедистов. Они посмотрели на него, а потом снова стали смотреть вперед. Альберехт повернулся к ним спиной, перешел дорогу и шагнул в кусты. Раздвинул их руками. За кустами не было канавы, не было отчетливого понижения уровня. Голова Альберехта как раз торчала над зелеными листьями. Поверхность земли под кустами была чуть-чуть наклонена в сторону от дороги. И вдруг он увидел кусок каменной кладки. Бетон, из которого там и сям торчали кирпичи, стена подвала, фундамент: здесь когда-то стоял дом, давным-давно разрушенный. Альберехт отступил на шаг и осмотрелся. Никого не видно, нигде. Посмотрел назад. На той стороне дороги мирно паслась лошадь. Коричневая лошадь с длинной серой шерстью у копыт. Лошадь. Он не мог сообразить, была ли та лошадь, что паслась здесь позавчера, тоже коричневой, та же это лошадь или нет.
Дом, где жил Лейкович, скрывался от его взгляда за еще более высокими кустами.
Альберехт заглянул в подвал. Раздвинул еще больше веток. Подвал был до половины завален землей, строительным и прочим мусором, совершенно мокрым (так как в другом углу чернела грязная вода) и большей частью поросшим крапивой, чертополохом и травой. Здесь и лежала девочка. Почти неразличимая среди мусора, словно горка изношенных одежек.
Она лежала на боку, ноги намного выше головы, и это положение, которого не выдержало бы никакое живое существо, в сочетании с полной неподвижностью, что свойственна только предметам, говорило об ее принадлежности к неживому миру. Но не людям. Даже когда люди умирают, их кладут в такую позу, что кажется, будто они спят. Совсем неживая маленькая девочка, совсем неживая. Настолько неживая, что даже в Судный день тут уже ничего не удастся изменить.
– Это все ты виноват, – сказал я Альберехту.
Девочка лежала в таком положении, что ему не было видно ее лица, да Альберехт и не решился бы его рассматривать. На белой коже ножек выше носочков он увидел черные пятна. «Веверка», – пробормотал он.
Красные туфельки, гольфы. Какого цвета пальтишко? Кажется, бежевого. Альберехт подумал, что плохо знает названия цветов. На пальтишке не хватало одной пуговицы. Прищурившись, он увидел, что ткань, из которой было сшито пальтишко, действительно была клетчатой. Достал оторвавшуюся пуговицу из кармана брюк, посмотрел на обрывок ткани под пуговицей и бросил на кучу в подвале. Пуговица исчезла между двумя ржавыми консервными банками. Странные мысли посетили его: спрыгнуть вниз, поцеловать в лоб, попросить у нее прощения. Большой черный дрозд слетел с неба, сел на край подвала и запел.
Тут Альберехт обнаружил, что у него появилась какая-то слабость в икрах, оттого что он стоит на чуть наклонной поверхности; не замечая слез, набежавших на глаза, он повернулся, раздвинул кусты и в три шага оказался снова на дороге.
Альберехт неподвижно сидел за рулем, дожидаясь Алевейна. «Вот я тут сижу, – думал он, – тот же человек, в той же шляпе, что и тогда, в той же машине. Если кто-то меня тогда видел, тому воссияет свет».
Он вынул из кармана коробочку с мятными пастилками, с бессмысленной тщательностью выбрал одну из них. Они ведь все были одинаковые. Он немного высунул язык, положил на него белый кружочек, как облатку во время причастия, и перенес его языком в глубину полости рта.
Алевейн пришел обратно, сел в машину, и они поехали задним ходом, чтобы вернуться на шоссе и потом поехать в город.
Никто так и не узнал Альберехта, потому что никто его и не видел. Ни тогда, ни скорее всего сейчас.
– Я понимаю, что у вас хватает других забот, – сказал Алевейн, – и не хочу настаивать на невозможном. Но вы, в вашем положении… Вы же можете хотя бы навести справки, не попала ли девочка в руки нидерландской полиции, не сидит ли она в каком-нибудь отделении. Это же вы можете сделать?
– В нашем городе ее нет. А то бы я об этом услышал.
– А в других городах?
– Понимаете, молодой человек, значительная часть нашей страны недостижима, потому что идут боевые действия, потому что ведется перемещение войск, потому что повсюду немцы, потому что не работает телефон, потому что повсюду хаос.
– Для приемных родителей это было бы таким облегчением, – сообщил Алевейн, но не так, будто это была новая мысль, а так, будто он думал, что может читать мысли Альберехта. Мысли Альберехта двигаются в правильном направлении, думал Алевейн и надеялся, что может ему в этом немного помочь.
АЛЬБЕРЕХТ проснулся под звуки карильона с колокольни. Все годы, что он жил в этом районе, по воскресеньям его будил колокольный звон. От него он тотчас просыпался.
– Первый день Троицы, – сказал я, – сегодня не простое воскресенье. Вставай и иди в церковь, чего ты не делал уже двадцать пять лет. Одевайся и отправляйся на службу. Встань на колени в исповедальне и признайся в грехах.
Думаешь, я не помню, как ты, едва закончив среднюю школу у отцов-францисканцев, решил, что весь мир лежит у твоих ног, и сказал: о небесах думать рано, а Бога скорее всего тоже нет…
И что с тех пор лежало у твоих ног? Весь мир? Женщина твоей мечты? Нет. Тело невинного дитяти, тобою умерщвленного. Которое ты бросил в кусты, ты, поборник Права и Справедливости, защитник Добра и Истины, общественный обвинитель.
Согласись, что первый день Троицы военной поры – самое подходяще время, чтобы понять, что этот мир не может даровать спасения, ведь ты самолично доказал это своими поступками? Кому, кроме служителя церкви, ты можешь признаться в своем чудовищном злодеянии?
Альберехт скинул с себя одеяло.
«Во рту такой вкус, будто в зубах пломбы из окислившейся меди, – сказал он себе, – хотя я вчера не напивался».
Он вылез из кровати, подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел на улицу. Там, перед дверью, стояла его машина в целости и сохранности.
Он раздвинул шторы полностью, подошел к умывальнику, принял три таблетки аспирина. Всего три, должно помочь от легкого похмелья, сжимавшего болью левую половину черепа.
Теперь кофе, яичница-глазунья из двух яиц с хлебом из тостера и бутылочка пива, подумал он и посмотрел на себя в зеркало.
– Бутылочка? – спросил черт. – Почему так скромно? Неужели думаешь, что тебе еще есть что терять?
Волосы на голове, росшие вокруг лысого островка в форме подковы, с правой стороны были намного длиннее, и обычно Альберехт зачесывал их на левую сторону, чтобы прикрыть лысину, как одеяльцем.
Но сейчас, когда он только-только вылез из кровати, волосы справа свисали, закрывая ухо, до самого плеча. Безрадостное зрелище. Хотя он никогда не пускал Сиси спать в этой комнате, она наверняка хоть раз видела его в таком неприглядном виде. Понятно, почему она от него уехала. Если бы я мог, я бы тоже от себя уехал, подумал он.
Он поспешно взял гребенку, в другую руку набрал воды, намочил волосы и старательно приклеил их к лысой части головы, как делал это каждое утро. Но не каждое утро он ощущал, какой голой и теплой на ощупь была кожа на черепе. Почти до непристойности. У него мелькнула надежда, что прикосновение к его лысому черепу могло действовать на Сиси возбуждающе.
На полу и даже на стуле стояла грязная посуда. На другом стуле висела грязная рубашка. Погрузившись в размышления, Альберехт пил кофе, ел тост и яичницу прямо со сковородки, стоявшей у него на коленях, на газетке. Кресло он придвинул к окну.
На улице было оживленно, что редко случалось в выходные, но нынешнее оживление отличалось от обычного, наблюдавшегося в будние дни. Ближе к двенадцати он тоже вышел на улицу и вошел в церковь, где как раз закончилась служба. Над входом блестела мозаика из розовых, синих и золотых камушков, складывавшихся в надпись: HIC DOMUS EST AC PORTA COELI. Он пришел в эту церковь впервые в жизни. И как много народу кроме него пришло сюда сегодня впервые в жизни![35]
Хотя служба закончилась, многие все еще бродили по церкви, но не как прихожане, а скорее как туристы, которые забредают в знаменитые старые соборы, чтобы осмотреть произведения искусства.
В этой церкви не было ни единого произведения искусства, достойного упоминания в путеводителе. Альберехт рассматривал скамьи, пилоны, написанные маслом изображения стояний крестного пути. Алтарь был накрыт серовато-белым куском ткани, сильно измятым. Эти образы, закоптившиеся от свечей и благовоний, написал скорее всего какой-нибудь живший в XIX веке учитель рисования, который ради приработка иллюстрировал детские книжки, что не принесло ему ни малейшей известности.
Люди беспокойно ходили туда-сюда, казалось, они пришли только для того, чтобы найти какое-то укрытие, но и здесь не чувствовали себя в безопасности.
Перед образами всевозможных святых горели целые леса свечек, воткнутые в емкости с песком на железных подставках; горящие свечки, напоминавшие огненных дикобразов.
Ничто в этой церкви не говорило о страстной вере или одухотворенности тех, кто ее проектировал и украшал изнутри. Они явно просто придерживались предписаний и традиций. В католической церкви тогда еще не думали ни о каком обновлении. Те, кто строили это здание, не испытывали божественного упоения, поэтому ничто в ней не излучало подобного чувства. Ее внутреннее убранство словно нашептывало: «Человек, ты находишься в наивысшем присутственном месте, какое только есть в земной жизни, в церкви. Ближе к Вечной тайне ты не будешь нигде. Это Дом Господень и Врата Неба. Открой душу тому воздействию, которое здесь испытываешь. Ах ты не испытываешь ничего? Делай выводы».
Альберехт ненадолго присел на скамью, но мысли его были не о Боге.
Строить церковь, не испытывая божественного упоения, – ведь по сути это то же самое, что выдвигать обвинение против подозреваемого, не испытывая к нему ненависти?
Но если рассматривать преступника как человека, согрешившего против общественных правил и совершившего это правонарушение из-за отсутствия возможности жить далее, не совершая его, то во имя чего правосудие навеки приговаривает его к маргинальному существованию в качестве преступника? «Правосудие не исправляет отклонения от общественных норм, а канонизирует их, – сказал черт, – поэтому я значу не меньше, чем Бог».
«А можно ли, – думал Альберехт, – искупить преступление? Если мой поступок раскроется еще не скоро, я даже не смогу искупить свою вину; у меня будет ощущение искупления только в том случае, если не удастся сохранить тайну навечно. Но что я вообще-то должен искупать? Пока я тут сижу, в мире гибнут сотни людей и детей, точно таких же невинных, как Оттла Линденбаум».
– Мы – не то, что мы есть, а то, что о нас знает мир, – сказал черт.
«Обо мне мир пока знает только то, что я прокурор с безукоризненной репутацией», – подумал Альберехт. С некоторыми человеческими слабостями, разумеется. Которому не чужды человеческие страсти. Несомненно. Но только посмотрите, как блистательно господин Альберехт совладал со своей неразумной склонностью к выпивке! Кто теперь усомнится, что преступник по большому счету отвечает за свои преступления? Кто теперь отважится утверждать, что Злу невозможно противостоять? Такой человек, как Альберехт, служит доказательством тому, что стремящийся к Добру способен побороть Зло.
Он попытался представить себе, что сделали и сказали бы мама, Мими, Эрик, Ренсе, Паула и все прочие родственники и знакомые, если бы узнали, какую тайну он носит в себе.
– Все они добрые христиане, хорошие люди, пусть некоторые из них не так уж часто ходят в церковь, – сказал я Альберехту, поскольку я существо прогрессивное, с широкими взглядами. – Они все остаются христианами, сами того не осознавая. Помни об этом!
И тут ему в голову пришла мысль, что, возможно, ничего особенного и не случится, если они узнают, даже если он вручит свое чистосердечное признание лично министру юстиции.
Все будут неприятно поражены. Будут говорить: «Лучше бы вы сами нашли выход из создавшегося положения. Не в ваших и не в наших интересах, чтобы дело получило огласку, не говоря о том, чтобы вы понесли наказание. Кому будет причинен ущерб, если за смерть девочки-иностранки никто не понесет наказания? Взгляните на нашу страну с высоты птичьего полета и подумайте о погибших солдатах, которые лежат на полях, в канавах и под обломками зданий, неотомщенные. Это надо ее родителям? Но смерть есть смерть, и даже если тебя на десять лет посадят за решетку (что маловероятно), девочку это не воскресит, а родители были бы чудовищами, если бы горе их уменьшилось оттого, что ты сидишь в тюрьме».
– Дитя уже достигло блаженства, – сказал я, – дитя уже в объятиях Иисуса, где оно иначе никогда бы, наверное, не оказалось, ведь это было еврейское дитя.
Но сомнения приемных родителей, старика Лейковича и его жены?
Ответ:
Что значат волнения этих людей, бежавших в нашу страну скорее всего нелегально, по сравнению с престижем нидерландской юстиции?
Я с ужасом слушал этот ответ, но не мог понять, нашептал ли его Альберехту черт или нет.
– Но ты же слышал его формулировку? – спросил черт (да-да, в это первое после начала войны воскресенье, в день Святой Троицы, двери церкви были открыты так широко, что даже черт смог сюда зайти). – Ты слышал, как он ставит вопрос? Отвечать на него в общем-то незачем.
– Отвечай – не отвечай, – сказал я, – ты знаешь, что я видел происшедшее, и видел по поручению Господа. А Господь – это милосердие. Не забывай, что я еще отобрал у ветра шляпу, когда он хотел ею поиграть.
Альберехт сунул большой и указательный пальцы в жилетный кармашек и нащупал записку с приметами девочки. Развернул листок бумаги, такой мятый, что почерк Эрика невозможно было разобрать. Какая разница? Пуговица было такая же, как остальные пуговицы у нее на пальтишке, а пальтишко было не грязно-желтого цвета, как ему показалось сначала. Цепочка с золотой звездой Давида. Цепочки он не видел, ну и что, какие еще могут быть сомнения? Альберехт снова сложил записку и положил в тот же кармашек. С глубоким вздохом встал, вышел из церкви, вернулся к своему дому, но не вошел в подъезд. Сел в машину и поехал туда же, куда до сих пор ездил каждый день: к зданию суда.
Толпы любопытных осматривали развалины. Вокруг развалин полиция, как полагается, выставила ограждение. Один пожарник в медном шлеме, к которому сзади крепилась кожаная защита для шеи, поливал тощей струйкой из брандспойта дымящиеся черные кучи за стенами с выбитыми окнами.
На асфальте темнели большие лужи воды. Крови уже нигде не было. По расчищенным трамвайным путям в положенное время шли трамваи, как всегда. Ничего устрашающего в этом зрелище разрушения не было, оно казалось скорее слишком скромным, чтобы приписать его такой глобальной причине, как война. Даже здесь казалось, будто война не может стать делом серьезным в такой цивилизованной стране, как Нидерланды, которые не воевали уже больше ста лет и очень этим гордились.
Война – примерно так же порой наблюдаются отдельные случаи оспы или холеры, но до эпидемии дело не доходит. Эпидемия – это для варварских стран, не для нас. Мы это переросли.
Воскресенье, Троица, помогал я ему в его философствованиях, и мир выглядит так, как будто все обойдется. Осознают ли люди, собравшиеся поглазеть на тлеющие досье органов правосудия, сколь милосерден Господь, устроивший так, что все компрометирующие материалы, собранные людским судом, сгинули в огне? Одумайтесь, грешники! Здесь исчезают следы ваших преступлений. Опуститесь на колени и благодарите Бога, за то что Он в очередной раз явил истину: милость выше справедливости. Ибо сказал Господь: Мне отмщение и Аз воздам, и только Его досье неопалимы и нетленны.
Так и стоял здесь народ и глядел на жалкий прах Правосудия, точно сбежался подивиться на труп устрашающего кита, прибитого волнами к берегу. Устрашающего, но мертвого. И мертвое Правосудие источало отвратительный дух сажи и тлеющих бумаг.
Альберехт имел полное право, а то и был обязан подойти к брандмейстеру, представиться, сообщить, что он прокурор, и поинтересоваться ходом дела. Но кто это там беседует с брандмейстером? Его превосходительство Ван ден Аккер, председатель суда.
Надо к нему присоединиться. Пожать друг другу руки, как полагается коллегам. Обменяться впечатлениями. Внести какие-нибудь предложения. Поинтересоваться, где господин председатель находился в момент бомбардировки. И как ему удалось остаться в живых. Поздравить его с этим. Поговорить о том, в каких ужасных условиях приходится сейчас работать правоохранительным органам. И спросить, есть ли пострадавшие. Сколько? Раненые? Погибшие? Кто? Бёмер? Кто еще?
– Безумец, – прошептал ему черт, который имеет обыкновение изображать перед своей жертвой, будто помогает из двух зол выбирать меньшее, а на самом деле играет на дурных настроениях. – Сваливай отсюда поскорее, пока Ван ден Аккер не успел узнать машину, в которой ты сидишь. Ведь, быть может, погибли все, кто видел, как ты выходил из здания суда незадолго до бомбежки. Как знать, может быть, оставшиеся в живых думают, что ты тоже погребен под развалинами. И не лучше ли будет, если они так и останутся в заблуждении? А ты, как заново рожденный, сможешь начать новую жизнь в Англии или Америке под другим именем. Ты малодушен и чересчур прикипел к своему общественному положению. Из-за иррационального стремления к почестям тебя тянет к этой куче мусора, как будто ты по-прежнему с чистой совестью сможешь исполнять роль общественного обвинителя.
Так он и поступил. Уехал прочь. Через две минуты его прошибло потом, и этот пот так быстро испарился с пылающего тела, что окна машины даже затуманились изнутри. Упущенная возможность! Он должен был уехать на побережье сразу после бомбежки и постараться скрыться. Вместо этого отправился плакаться в жилетку Мими с Эриком. Чем объяснить такую нерешительность? Упустил уникальную возможность. Теперь, если кто-нибудь выскажет предположение, что он погиб под обломками здания суда, найдется верный десяток свидетелей, которые скажут, что видели его живым уже после бомбардировки. И поспешат опровергнуть предположение!
– Безумец! – воскликнул я. – Бессмысленные фантазии. Какой дурак будет думать, что ты погиб под руинами, если твоего тела не найдут? Когда затушат последние очаги возгорания, они примутся разбирать обломки и не успокоятся, пока не будут знать наверняка, что тебя там нет. Единственное, что на самом деле есть, но не будет найдено никогда, – это тело девочки.
Он поехал обратно домой, лег на диван, попытался читать, но книга тотчас упала на пол, и он лежал, подложив руки под голову и глядя в потолок, до самых сумерек. Когда стемнело, он сел в свое кресло у окна и стал смотреть, что происходит на улице. Мимо ехали машины с синими фарами. Со скоростью пешеходов, неровно покачиваясь, двигались маленькие фонарики. Завыла сирена, через перекресток проехала пожарная машина. Чуть позже послышались выстрелы из пистолета. Самолетов не было. Неужели правда, что все немецкие самолеты уже сбиты?
Сомнения, фантазии, предположения, планы. Вот и прошел этот третий день войны: Альберехт так и не принял решения, зато с ним не произошло никаких новых несчастий. Может ли и вправду случиться, что наступление немцев удастся остановить или что они по какой-либо причине сами остановятся? Но что тогда? Вернуться к той жизни, которой он жил до дня начала войны? Только без Сиси? Этого ли он хочет? Или теперь есть надежда, что Сиси к нему вернется? Или пусть лучше будет полный хаос, который для него может оказаться выгодным? В котором будет комфортнее хотя бы потому, что он не будет чувствовать себя чудовищем среди порядочных людей, а будет жить как зверь среди зверей? Или он вообще больше ничего не хочет? Слишком старый, чтобы чего-то хотеть?
Он размышлял: «Когда я познакомился с Сиси, я на самом деле был уже слишком стар». Будь он моложе, он бы меньше страдал после ее отъезда. Она не заслуживала того, чтобы он так по ней скучал, ведь достаточно часто казалось, что и она не способна сделать его счастливым. Но что тогда? Ах, если бы он мог повернуть время вспять на три с половиной дня, чтобы вернуться к моменту, когда проводил ее на корабль. Ах, если бы он тогда осознал, до чего же стар. Ах, если бы он тогда понял, что в тридцать восемь лет мужчина достигает того возраста, когда все решения окончательны. Ах, если бы он все ради нее бросил. Нечего было в глубине души надеяться, что хотя он ее очень сильно любил, но когда-нибудь в его жизни появится женщина, которую он полюбит еще сильнее. Нет, любить сильнее – это неправильная формулировка. Женщина, которую он будет любить и которая его будет любить сильнее, чем любила Сиси, по крайней мере женщина, в общении с которой не будет постоянного ощущения, что он по всем статьям оставляет желать лучшего, ничего не делает по-настоящему хорошо, не способен вызывать восхищение, не понимает марксизма и так далее.
Женщина, из-за которой он не будет ежеминутно себя спрашивать: точно ли я ее окончательный избранник? Забыть Сиси и попытаться найти утешение у Лины, светловолосой соседки Эрика. Уж она-то спереди не плоская. И какие у нее ноги!
Альберехт разделся в темноте. У других окна были закрыты черной бумагой и горел свет. А у него нет. Черной бумагой он обзавелся уже несколько недель назад, но его так пугала мысль о необходимости взгромоздиться на стул у окна с бумагой в одной руке и коробочкой кнопок в другой, что он предпочитал раздеваться в темноте. На ощупь попытался найти пижаму, но не нашел. Его пижама была полосатой. Сиси ненавидела ее, потому что такие же полосатые робы носят узники в концлагерях.
Альберехт лег в постель нагишом. Соседка Эрика тоже разделась, легла рядом с ним и обняла за шею своей обворожительной рукой. О, словарного запаса ангелов недостаточно для того, чтобы описать, какие мысли ему сейчас нашептывал черт. Затем он заснул. Время от времени просыпался, тотчас забывал, что ему приснилось, засыпал снова, и сон его продолжался. Из трубы молокозавода на Марельском проезде шел еще более черный дым, чем обычно. Он поставил машину на шоссе, потому что злополучный проезд был запружен людьми. Альберехт пошел посмотреть, в чем дело. Видимо, ему все-таки удалось найти пижаму, потому что сейчас он был в пижаме. Старая лошадь на пастбище впряжена в тележку. Двое мужчин, державших лошадь за поводья, были одеты в такие же пижамы, что и у него. Головы их такие же лысые, какой была бы его голова, если бы он не завел правила зачесывать на лысину оставшиеся волосы. Вот здесь, сказал он мужчинам, и указал на то место в кустах, где на куче мусора в старом подвале лежала Оттла Линденбаум. Но что вы собираетесь с ней делать?
– Все это будет сожжено как ненужный мусор, – сказали мужчины, – мы получили задание от мусоросжигательного завода.
– А где? – спросил Альберехт.
– Вон там, на том заводе, который мы называем молокозаводом.
Они схватили его за рукава пижамы и воскликнули оба разом:
– Скажите «Схевенинген»!
Он не смог произнести это слово, и они презрительно засмеялись.
Потом оказалось, что они выгребли из подвала весь мусор и погрузили на телегу. Тело девочки лежало на самом верху. На шею была надета тяжелая железная цепь, на которой висела шестиконечная звезда Давида, огромная, как тарелка. Цепь и звезда были такие тяжелые, что шейка у девочки вытянулась и превратилась в тонкую нитку.
Потом он и сам увидел, что дымящий завод – вовсе не молокозавод. В пылающих печах сжигали трупы. Он стоял так близко, что его прошибло потом; с этим ощущением, будто и сам горит, Альберехт проснулся, задыхаясь в одеяле, обмотавшемся вокруг него, оттого что крутился во сне.
– Девочку теперь по крайней мере сожгли, – сказал черт. – Никто никогда не узнает, что с ней произошло.
– Это всего лишь сон, – сказал я, – это не на самом деле.
«В любом случае она умерла», – подумал он и только при этой мысли проснулся полностью, забыл свой сон, на ощупь прошел в ванную и выпил стакан воды. Заснул. Когда проснулся снова, за окном уже было светло. Подошел к окну и увидел широкую полосу дыма, тянущуюся по небу. Происхождения дыма он не мог установить. Где-то сильный пожар. Что же горит?
Ему казалось, что может вспомнить. Где-то он недавно видел дым в небе. И тогда знал, что происходит. Но где он это видел? Когда?
Был уже полдень. Проспал подряд больше двенадцати часов. Разве такое возможно?
Это оказалось возможно, потому что черт, который любит тешить смертных пустыми и вредными мыслями, снова убедил его, что после бомбардировки здания суда его никто не видел, так что его сочтут погибшим, если ему удастся не попасться никому на глаза, пока не уедет в Англию.
Чушь: его видел Эрик, его видела Мими, его видела мама. А также Алевейн Леман и соседка из дома напротив Эрика. Стоя под душем, он и сам сообразил, что это чушь.
Как только распространится слух, что он погребен под развалинами, все, кто его видел, обрадуются, возгордятся своей осведомленностью и поспешат этот слух опровергнуть. Велеть им держать язык за зубами насчет его бегства в Англию? Ничего не получится.
У боковой стены его платяного шкафа располагалось некое приспособление высотой в человеческий рост, сделанное из хромированных труб, к которым крепились длинные спиральные пружины.
Альберехт подошел к этому приспособлению, приподнял и положил на пол. Это был гребной тренажер. В одних трусах он сел на скользящее туда-сюда вогнутое сиденье. Взялся за рукояти, поставил ноги на опору и потянул рукояти на себя, в результате чего сиденье, преодолевая силу пружин, поехало вперед. Так создавалась имитация движений гребца на пушистом ковре спальни.
Считалось, что это укрепляет мышцы и помогает убрать живот.
Альберехт греб и размышлял.
Уехать прочь. Когда?
– Не теряй мужества, – говорил я ему, – завтра или послезавтра банки откроются, как обычно. Или ты встретишь кого-нибудь такого же щедрого, как Бёмер, кто готов будет поделиться с тобой сотней-другой гульденов.
«Триста гульденов от Бёмера, их я унаследовал, – подумал он. – Бедняга Бёмер. Я тебя не забуду. Ничего себе обещание… без трехсот гульденов я бы его тоже не смог забыть».
– Бог помогает тем, кто добр, – сказал я. – С Божьей помощью, быть может, удастся добраться до Англии. Сделай первый шаг, и Бог укажет тебе, как сделать следующий. И Бог будет особенно милостив, если ты уедешь не один, а возьмешь с собой Ренсе, над которым нависла опасность.
– Ренсе, – сказал черт, – надо взять с собой Ренсе. Но не только Ренсе, а заодно и Паулу. Так же веселее? Или ты думал, что Паула отпустит своего учителя рисования за границу одного? Кто же тогда будет зарабатывать для нее на хлеб, пусть и без масла? А перебравшись через море, она так при тебе и останется.
– Не слушай его, – сказал я, – он постоянно рассказывает одно и то же, но решений не предлагает.
Альберехт греб и греб. Сгибал колени и выезжал вперед, разгибал колени и отъезжал обратно. С ним не часто случалось, чтобы, упражняясь на этом тренажере, совершенно не похожим на лодку, он воображал, что гребет на самом деле. А сейчас случилось. Он плыл на лодке по Северному морю. Волны слабые, солнце висит над самым горизонтом. Никаких кораблей и других лодок не видно. Самолетов тоже, полная тишина. Он греб. Но был один.
ЧАСА в четыре Альберехт решил поехать повидаться с матерью. Обильно попрыскал волосы лосьоном и тщательно причесался. «Вид у меня не такой уж несчастный, но, пожалуй, я похудел. Ладно. Плыть в Англию не намного труднее, чем грести на тренажере».
Мысль, пожалуй, оптимистичная. Оптимизм, вызванный здоровым времяпрепровождением, каковым была тренировка на гребном тренажере. Оптимистичная мысль, которая в действительности скорее всего не подтвердиться. Но это ничего. Я приветствую всякую оптимистичную мысль, потому что оптимизм в любом случае больше приближает человека к небесам, чем уныние пополам с желчью…
Так что я радовался его намерению съездить, быть может, в последний раз, к матери. Когда для отечества наступили тяжелые времена, что может быть для сына лучше, чем поехать к матери? Где еще может искать утешения смертный, если стопы его не способны найти дорогу к сути Церкви Господней?
Альберехт вышел из дома, посмотрел вверх и снова спросил себя, чем может быть вызвано это загрязнение небес коричневой субстанцией. Не смог найти ответа, подумал: быть может, это никак не связано с войной. Сел в машину и поехал на широкую улицу, обсаженную деревьями и называвшуюся Бастионной. Радио в машине снова не хотело работать. Удар по приборной панели не помог. Откуда же этот дым, точно длинный коричневый половик поперек неба? Едва ли что-нибудь существенное. Им овладела странная суеверная мысль: раз радио не желает работать, значит, просто нет новостей. Если бы были важные новости, радио заработало бы. И я, честно сказать, обрадовался этой суеверной мысли. Если он так думает, то, значит, все еще верит, что предупреждения, исходящие от Небес, достигнут его, как только возникнет необходимость. А ведь эта вера, по сути, мало чем отличается от веры в то, что Бог оберегает его при моем посредничестве. И что ему ничто не грозит, пока молчит радио в машине.
Альберехт застал мать на улице, обсуждающей что-то с незнакомыми дамой и господином. Дверь ее дома была открыта, и двумя домами дальше он тоже увидел открытую дверь. Эти господин с дамой были, по всей видимости, мамиными соседями, но Альберехт никогда раньше их не видел. Он смутно помнил, что в том доме недавно сменились жильцы. Выключая мотор и ставя машину на ручной тормоз, он разглядывал новых соседей. Это были седой старик с торчащими вверх волосами и женщина с шелковой шалью на плечах, намного ниже него ростом.
Услышав, как захлопывается дверца машины, мать обернулась и посмотрела в его сторону.
– Здравствуй, Берт, это ты! Иди сюда!
Он подошел к ней, элегантным жестом снял шляпу и поцеловал.
– Это мой сын Берт.
– Очень приятно. Кальвиль.
– Альберехт.
– Очень приятно. Мефрау Киммель. Я как вас увидела, сразу подумала: какое знакомое лицо.
– Это потому, что мамино лицо многим знакомо.
– Ваша мама рассказывала нам о вас. Именно такой профессионал, как вы, нам сейчас и требуется.
– Может быть, мы и ошибаемся, – сказал менейр Кальвиль, – но вряд ли.
– Вот посмотри, – сказала мать.
И указала на тротуарную плитку, на которой Альберехт увидел кирпично-красную стрелку, нарисованную то ли обломком цветочного горшка, то ли куском черепицы; в любом случае у того, кто ее рисовал, под рукой не было мела.
– М-да… – сказал Альберехт.
– И вот здесь дальше, – сказала мефрау Киммель и сразу же прошла вперед, – видите? Точно такая же.
Альберехт сделал несколько шагов и посмотрел, на что она указывает. Действительно, еще одна стрелочка.
– Мы думаем, эти стрелки начертила Пятая колонна, чтобы показать немцам дорогу.
– Но ведь здесь нет немцев, – сказал Альберехт.
– Но могли бы быть, – возразил Кальвиль, – их здесь нет только потому, что мы сбили столько немецких самолетов.
– Да, в этом смысле они потерпели неудачу, – сказала мефрау Киммель, а мать добавила:
– А то они бы уже давно были здесь.
– Но эти значки могут относиться к чему-нибудь совсем другому.
Кальвиль посмотрел Альберехту прямо в лицо и сказал с печальной уверенностью:
– В любом случае это тайные знаки.
– Я отдам распоряжение расследовать это, – сказал Альберехт.
Кальвиль сказал:
– Впрочем, я уже не очень-то надеюсь на благополучный исход. Вы знаете, что немцы заняли Дордрехт? Но брат Мюссерта застрелен. Лейтенантом нидерландской армии. Хотя, конечно, уже слишком поздно.
– Непонятно, как такое оказалось возможным, – сказала мать Альберехта. – Брат лидера НСБ, к тому же занимавший столь высокую должность.
– И ребенку понятно, что партия вроде НСБ только рада приходу немцев.
– Разумеется. Все они предатели.
– Знаете, что Мюссерт заявил несколько дней назад? – спросил Кальвиль. – Когда Германия нападет на Нидерланды, мы все встанем вот так.
Кальвиль скрестил руки на груди.
– Брат Мюссерта, комендант Дордрехта. Наверняка предатели есть даже на самом высшем уровне, – добавил он. – Иначе брата Мюссерта не оставили бы на должности коменданта Дордрехта.
– Возможно, – сказал Альберехт, – но правоохранительные органы делали все, что могли, чтобы опасные элементы были обезврежены.
– Значит, вы сможете выяснить, что это такое? – спросила мефрау Кальвиль, указывая на стрелки.
– Да, я дам поручение это расследовать. Не сомневайтесь. Но у меня вопрос на другую тему. Вы не знаете, откуда этот коричневый дым? Он был уже вчера.
Альберехт показал на небо.
– Да вы что, менейр Альберехт, неужели вы не слышали?!
– Это горит нефтеперерабатывающий завод Пернис в Роттердаме, – сказал Кальвиль.
– Радио в машине все время отказывается работать, а у меня столько других дел, что не успеваю следить за новостями.
– По радио всю правду не рассказывают, – сказал Кальвиль, – я-то считаю, что перспектива у нас далеко не радужная.
– И совершенно правильно сделали, что отправили Юлиану с детьми в Англию, – сказала мефрау Киммель, – хотя бы ввиду опасности, которую представляет Пятая колонна.
А он не знал даже этого. А здесь об этом говорят, как о чем-то общеизвестном. Наследная принцесса с детьми покинула страну. «А я сижу, спрятав голову в песок. Господи помоги, надо взять себя в руки, чтобы они не догадались, что я этого не знал».
– Очень разумное решение, – сказал он и, засомневавшись, достаточно ли невозмутимо прозвучали его слова, прочистил горло и два раза кашлянул.
– Ну хорошо, мефрау, не будем отвлекать вас от общения с сыном.
Соседи попрощались и вошли в открытую дверь своего дома.
Альберехт, сгорая от нетерпения узнать подробнее про отъезд принцессы Юлианы, ощутил, что оптимизм покидает его, и с таким чувством, будто задергиваются занавески, пошел следом за матерью в гостиную, где стоял открытый рояль, заваленный нотами. Ноты лежали также на нескольких стульях.
– Знаешь, Пузик, где я была сегодня утром? В церкви, молилась за нашу наследную принцессу и маленьких принцессочек.
Альберехт ничего не ответил. С тоской и унынием удивился про себя, почему она молилась именно за наследную принцессу и маленьких принцессочек, а потом в его мыслях возобладало недоумение от того, что о его собственном отъезде в Англию она не обмолвилась ни словом. «Значит, не восприняла мои слова всерьез, – подумал он. – Она думает: пусть Берт говорит, что угодно, все равно он этого не сделает. И она права! Ах, милая мама, если бы я мог тебе рассказать, почему мне так надо уехать».
– Мама, – сказал он, – как я рад еще разок с тобой повидаться перед отъездом в Англию.
– Послушай, Пузик, я все-таки сомневаюсь, что твое место в Англии. Ты же не принц Бернард.
– При чем здесь принц Бернард?
– С ним понятно, он уехал в Англию, чтобы обеспечить безопасность своей жены и детей. Это было очень благоразумное решение правительства.
– А я думал, что принц Бернард как герой возглавит наши войска.
– Какая нелепость! Он не должен расставаться с женой и семьей. Его семья – будущее нашего отечества. Его место там. Он должен защищать семью!
Смотрите-ка. Альберехт кивнул. Он согласился с матерью.
– Действительно, – заговорил он, – младшее поколение должно находиться в безопасности. Немцам может взбрести в голову бомбить дворцы. Или нацелить парашютистов на то, чтобы взять королевскую семью в плен. В таком случае у нас не осталось бы ни единого символа для сплочения нидерландского народа.
– Я рада, что ты тоже так считаешь, – сказала мать. – Менейр Кальвиль рассказывает такое… Утверждает, что принц Бернард, прежде чем жениться на Юлиане, состоял в СС и что поэтому особенно важно, чтобы он находился в Англии. Если бы ему пришлось воевать против своих бывших собратьев-эсэсовцев, это вызывало бы еще больше подозрений.
– Вообще-то рассказывают, что он с крыши дворца стрелял из пистолета по немецким самолетам.
– Ну конечно, Пузик. Это прекрасный человек. Я ему всегда симпатизировала. Прямо Гарольд Ллойд, в своих совиных очках. Он же не виноват, что его угораздило родиться в стране Гитлера?
– Но все равно как-то не комильфо, – сказал Альберехт, – что на нас напала страна, так тесно связанная с нашей королевской семьей. В предательстве обвиняют многих высокопоставленных особ. Но о принце Бернарде я не слышал ни одного плохого слова, это правда.
– Можно я дам тебе совет? – спросила мать. – Зайди-ка в церковь. Как ты знаешь, я и сама много лет туда не ходила. Но сейчас мне это помогло. Внушило чувство покоя. В церкви всегда витает что-то вроде Святого Духа. У меня вдруг появилась уверенность, что со мной ничего не случится.
– На церковь может упасть бомба с тем же успехом, что и на другие здания.
– Ты завидуешь, оттого что бомба упала на твой суд.
– Завидую? В каком смысле? Ты думаешь, оттого что в здание суда попала бомба, я испытаю удовлетворение, если бомбы начнут попадать в церкви?
– Ладно тебе. Но даже для немцев было бы чересчур при бомбардировке метить в церкви.
– Они могут попасть в церковь нечаянно. Или грохнется подстреленный самолет.
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
– И что же?
– Я имею в виду, что если человек утратит связь с вечными ценностями, то это до добра не доведет. До добра не доведет, Берт, человек этим причинит вред самому себе.
– Я не воспитан в вере, ты сама знаешь.
– В том, что ты не воспитан в вере, виноват в первую очередь твой отец. Хочешь чая? Ты же хочешь чая?
Она встала, отложила очки и пошла к двери в коридор.
– Я разрешила Хильдегард незаметненько погулять. Это же ужас – столько дней сидеть взаперти. Она же и мухи не обидит.
– Смотрите, как бы ее не арестовали.
– Я ее предупредила, чтобы она не произносила ни слова и не заходила ни в какие кафе. А если ее арестуют, ты же сможешь помочь? Не зря же у меня сын – прокурор?
Она не закрыла за собой дверь, и Альберехт услышал, как она идет в кухню.
Чай.
Его взгляд упал на столик с хрустальным графинчиком виски, рядом с которым стояли три хрустальных бокала-тумблера, два вверх дном, а один использованный. В комнате ощущался легкий запах алкоголя. Ты же хочешь чая? Разумеется, я хочу чая. Но единственное, чего я хочу на самом деле и всегда, – это алкоголя. Грустно и тривиально.
Его взгляд блуждал по комнате, обстановку которой он видел постоянно в течение долгих лет, рассматривал все предметы. Рояль, раскиданные повсюду ноты. Китайские вазы на каминной полке. Романтические городские пейзажики работы Вертина в изящных гипсовых рамках с позолотой, почти такой же ширины, что и сами картины.[36]
Богато, но убого, говорит Ренсе.
У Альберехта мелькнула мысль рассказать матери о немецком списке разыскиваемых. Она явно еще не знала, что Ренсе в списке. Иначе не стала бы так пространно обсуждать отъезд принцессы Юлианы с детьми. Наверное, надо рассказать? О Боже, как же не хочется этого делать! Это такая неправдоподобная история. Как ее рассказывать женщине, которая совершенно не в курсе дела. Ничего не знает о политической деятельности Ренсе, никогда не слышала о существовании секретных спецслужб и вообще не может представить себе, что немцы способны составить такой список.
Ход его мыслей нарушил громкий хлопок. За первым последовал второй. Альберехт бросился к окну. Не видно ничего, что могло бы издать такой звук. В доме напротив открылась дверь, и на улицу вышел отец с двумя маленькими девочками. Дверь так и осталась открытой. Девочки перешли дорогу, перешагнули через низкую ограду газона и обернулись. Отец пошел следом за ними, тоже посмотрел во все стороны и явно не увидел ничего заслуживающего внимания. Одна девочка чуть стукнула другую по спине – я тебя запятнала, ты водишь, – и они стали бегать друг за другом по кругу. Альберехт отошел от окна и приблизился к столику, на котором стоял графин с виски. В этот миг в комнату вошла мать с серебряным чайным прибором на серебряном подносе.
– С одной стороны, – сказала она, – англичане сами виноваты. Что они представляют собой в культурном отношении?
Мать поставила поднос на стол и села.
– Нам не повезло, – сказала она, – что немцы проиграли Первую мировую войну. Они должны были в ней победить! Какая это была чудесная страна! Даже самый скромный герцог держал собственный оперный театр и симфонический оркестр. Это была блистательная империя, где процветало искусство. Такой хам, как Гитлер, никогда не пришел бы к власти. Чего добились эти красные бедолаги, прогнавшие кайзера? Теперь они получили Гитлера. Если бы немцы в той войне победили, они заняли бы на мировой арене такое международное положение, на какое уже много веков имели право. Эту страну всегда недооценивали и несправедливо задвигали в угол. Нам они никогда не делали ничего плохого, по крайней мере до сих пор. По сравнению с англичанами… англичане всегда были мастерами ухватить самый жирный кусок. Но сочинять музыку не умеют. По сравнению с немцами совсем никуда не годятся. Просто-напросто ничего в музыке не понимают. Народ без слуха. В Германии я всегда имела намного больший успех, чем в Англии. Не говоря уже об Америке, этом сборище ковбоев и гангстеров.
Альберехт достал коробочку с мятными пастилками и положил пастилку в рот.
– Впрочем, – сказала мать, – если придется выбирать, то я предпочту американцев, а не англичан. С фантазией у них плохо, зато всегда готовы поучиться у других.
– А о Ренсе с Паулой ты в эти дни что-нибудь слышала?
– Да, Паула вчера заходила ко мне.
Альберехт почесал затылок правой рукой, собираясь сменить тему разговора.
Но тут мать сказала:
– Вообще-то я не собиралась тебе рассказывать, но Ренсе тоже подумывает об отъезде в Англию.
– Это Паула рассказала?
– Она устроила сцену. Просила денег. Но я ответила: у меня дома нет денег, говорю, честное слово, нет. Берту я тоже не смогла помочь. И знаешь, что она мне на это сказала? Вы наверняка все отдали Берту, говорит. Всегда все Берту, а Ренсе никогда ничего.
– Она была наверняка расстроена.
– Расстроена! С какой стати? У тебя есть причина ехать в Англию, а у Ренсе…
– А Паула не рассказала, почему Ренсе хочет в Англию?
Тильда Альберехт-Грейзе выпрямилась в своем кресле и положила руки на колени. Поза, как будто она дает интервью.
– Ах Берт, ты же понимаешь. Из-за своей живописи. Потому что они боятся, что когда придут немцы, Ренсе не сможет заниматься живописью.
– Возможно, он прав.
– Да ну что ты, не такая он важная птица. Есть ли на свете хоть один человек, всерьез принимающий холсты Ренсе за живопись? Таких нет.
– Когда-то точно так же говорили о Ван Гоге.
– И с тех пор все, кому не лень, считают свою мазню шедеврами, а себя Ван Гогами. Куда мы идем? Ты не можешь себе представить, как мне жаль, что у моих детей нет музыкальных способностей. Человек либо может спеть гамму, либо не может. Это в любом случае точка отсчета. А чем занимается Ренсе? Я ночами не сплю от огорчения. Он не сумасшедший, но умудряется блистательно скрывать свою нормальность.
– Равель тоже использовал пишущие машинки в одной из симфоний.
– Равель! Милый мальчик, не рассуждай, пожалуйста, о музыке. Ты ее вообще не воспринимаешь. Я тебя не упрекаю, что ты. Это дар, который у человека либо есть, либо нет. Ты хотя бы в другой области чего-то достиг.
– Но Ренсе, возможно, еще прославится в будущем.
– Ну что ты, Берт. Прославится! Я всегда говорю, что искусство Ренсе и ему подобных – все равно что джаз. В течение года этот мотив насвистывает на улице каждый мальчишка из мясной лавки, а на следующий год его никто и слушать не хочет. Например, Мондриан уже давно ушел в прошлое. Как и Равель. Как и Эрик Сати. Как Шенберг с Веберном. Шум, шелест, шорох, треск, и больше ничего. А вот Шуберт, Моцарт и Бетховен – это музыка. Они останутся навсегда. Никогда не смогут надоесть.
ФАРЫ его машины рисовали на асфальте синие круги. По тротуарам с обеих сторон от проезжей части шли люди с фонариками, ни на секунду не останавливающиеся. Казалось, он плывет среди ночи по синему каналу, по сторонам которого покачиваются светящиеся цветы. Он ехал медленно-медленно, ожидая, что в любой момент может наехать на человека, незаметного в темноте, или на собаку, или даже врежется в дерево. И непрерывно думал о матери, о Ренсе, о Пауле.
– Чудик, – сказал черт, – зачем так расстраиваться из-за родственников с их смешанными чувствами? Когда ты наконец повзрослеешь?
Куда лучше думать о красавице-соседке Эрика. Ты бы хотел, чтобы она сейчас сидела с тобой рядом в темной машине, одетая в то самое платье без рукавов? Поскольку фонари не горят, ты мог бы где угодно остановиться, чтобы поцеловать ее в первый раз и чтобы она заключила тебя в свои восхитительные объятия.
И он добрался до дома, воображая, что застанет Лину у себя в комнате, что она у него останется и поможет ему все-все забыть.
ЕМУ, похоже, снилось что-то, связанное с его безвыходным положением. Что он обсуждал его с кем-то, кто давал ему советы, но существовал только в его сне?
Эта последняя мысль – заблуждение, ведь я остаюсь рядом с ним и когда он бодрствует.
Как бы то ни было, на пятый день войны у него наконец-то возник конкретный план, в соответствии с которым он будет действовать.
Он чувствовал себя отдохнувшим и бодрым. Погода была такая же солнечная, как и все эти дни, и ясность намерений гармонировала с ясностью неба, так что казалось, будто его мысли образуют единое целое с окружающим миром, а намерения его полностью соответствуют всем божеским и природным законам.
Надо постараться навсегда забыть Сиси.
Если война закончится благополучно, если Нидерланды отразят нападение немцев, он явится в полицию с повинной. Но если немцы продолжат наступление и оккупируют страну, он приложит все усилия, чтобы бежать в Англию. Он запишется в армию и своей гибелью в бою против немцев искупит вину перед девочкой и ее приемными родителями. Оставаться в Нидерландах и продолжать скрывать свой поступок, чтобы не унижаться перед немцами, казалось ему невыносимым. Это было бы не чем иным, как использовать немецкий антисемитизм в своих интересах. Пойти и сдаться? В имеющихся обстоятельствах это исключено. «Что?! – скажет гад-немец. – Вы задавили девчонку-еврейку? И бросили в кусты? Ну и что? Зачем вы нам это рассказываете? С какой целью? Может быть, ждете, что мы дадим вам орден?»
Так что – в Англию! Поговорить еще разок с Сиси, рассказать, как было дело. Нет, мы видимся в последний раз, я пришел только для того, чтобы тебе исповедаться. Нам нельзя больше видеться. Запишусь в армию. Надеюсь, меня убьют. Прощай.
Но побрившись и причесавшись, Альберехт задумался: а что же он должен сделать сейчас, в данный момент. Принять благое решение – это отлично. Но если речь идет о таком намерении, которое невозможно осуществить в сжатые сроки, то возникает вопрос: что делать, пока ты еще далек от цели.
Погрузившись в мысли, он надел шляпу, запер дверь квартиры и стал спускаться по лестнице.
Закрывая за собой дверь подъезда, Альберехт увидел, что именно в этот момент к тротуару подъехал на велосипеде полицейский и остановился совсем рядом с «рено вивакатр». Альберехт посмотрел на полицейского, а тот посмотрел на него. Знает ли он этого полицейского? Нет, лицо незнакомое. Альберехт спокойно направился к своей машине, сунув правую руку в правый карман, где у него лежали ключи, а полицейский тем временем прислонил велосипед к фонарному столбу.
Теперь полицейский совершенно явно сделал шаг навстречу Альберехту, привычным жестом снимая перчатку с правой руки. Сомнений в его намерениях не оставалось. «Не смеши народ, не притворяйся, будто ты его не видишь», – сказал я моему подопечному. И Альберехт остановился рядом с машиной.
Полицейский приложил руку к фуражке и сказал:
– Вы случайно не прокурор Альберехт?
– Он самый. А что?
– Вас больше не видели в прокуратуре. И мне сказали, что если я вас увижу, то должен передать вам привет от председателя суда Ван ден Акера. Когда вашего тела не нашли под обломками, все очень разволновались.
– Разволновались? Не понимаю. Можно же было послать мне извещение.
– Вероятно, до сих не представилось случая. Мне только сегодня утром дали поручение поехать к вам домой. Это чудо, что вы пережили бомбардировку здания суда! Двенадцать погибших и двадцать шесть раненых. Вы хорошо себя чувствуете?
– Сегодня уже ничего.
– Вы наверняка испытали шок. Ваш коллега Панкрас тоже едва оправился. Да, я же вам должен еще кое-что передать. Прокуратуру временно разместили в здании школы имени Адмирала де Рейтера. Но вам это скорее всего уже известно.[37]
– Мой кабинет полностью обрушился. У меня не сохранилось ни единого документа.
– Ну что вы, очень много документов, насколько я знаю, спасено. Толстые пачки бумаги, к счастью, не горят. Сейчас там разбирают завалы. А через несколько дней уже можно будет снова вернуться к работе. Но я бы на вашем месте не спешил.
Альберехта несколько удивил фамильярный тон полицейского. «Не сердись! – сказал я ему. – Он человек простой и хочет, как лучше! Просто думает, что ты не вполне здоров».
– В любом случае, счастье, что вы можете ходить. Вы же помните коллегу Брейтенбаха? Так ему оторвало обе ноги.
– Не может быть!
– Я вовсе не собирался вас пугать. Извините меня, пожалуйста! Остальное вам расскажут постепенно. Вы неважно выглядите. Вы правда не пострадали?
– Да нет.
Полицейский покачал головой, как будто угадывал мысли, роившиеся в голове у Альберехта, и не нуждался в дополнительных объяснениях.
– Война не сулит ничего хорошего, – сказал полицейский через некоторое время. – Французам на нас наплевать. Еще денек-другой, и нам каюк. Говорят, правительство уже перебирается в Англию.
– А ты уверен, что это не пустые слухи?
– Пустые слухи? Это железная правда. Все важные шишки перебираются в Англию. Для нас составляют инструкции с описанием, что мы должны делать, когда сюда придут немцы.
– Ну-ну, – сказал Альберехт, – вот оно, значит, как.
Полицейский вдруг сменил стиль поведения. До сих пор ему казалось, что крушение королевства в известной мере сократило дистанцию между ним и прокурором и что он имеет право говорить с этим большим начальником почти на равных. Но выражение лица Альберехта после слова «инструкции» напомнило ему, что, пусть правительство и обращается в бегство, служебные отношения останутся теми же, что были всегда: он – подчиненный, Альберехт – начальник.
Спина у полицейского выпрямилась. Он приложил руку к фуражке:
– Будут ли еще распоряжения?
– В настоящее время нет. Спасибо за переданные мне известия. И скажи менейру Ван ден Аккеру, что со мной все в порядке.
С этими словами Альберехт протянул ему руку. Полицейский снял фуражку левой рукой, а правой пожал руку Альберехта.
После отъезда полицейского Альберехту все стало ясно как божий день.
В прокуратуре о нем не забыли. Его искали под обломками здания. Не нашли. Послали за ним полицейского. Полицейский, добрый малый, решил, что после пережитого шока Альберехт не в себе. Какое унижение. Пойти, что ли, в школу Адмирала де Рейтера, чтобы помочь там все обустроить? Как мало он в последние дни думал о своих профессиональных обязанностях! Сейчас даже не мог вспомнить, что он там начал писать в обвинительной речи к ближайшему заседанию суда. Какое дело будет рассматриваться в первую очередь? Дело взломщика сейфов? Или продавца газет, избившего боевика-энэсбэсовца, так что тот попал в больницу? Опять непонятная ситуация. Примерно как с Ван Дамом. Сам-то Альберехт был бы только рад, если бы всех боевиков-энэсбэсовцев избили до смерти. Но для этого продавца газет придется потребовать по меньшей мере шесть месяцев тюремного заключения.
Если немцы займут Нидерланды, к чему тогда приговорят Ван Дама? Что решат судьи? Осудить его, хоть я и потребовал освобождения от судебного преследования? Возможно, это было бы для него лучше всего. Иначе велик шанс, что гестапо арестует его без всякого разбирательства и отправит в концлагерь.
Черт знает что!
Самый подходящий момент, чтобы подвести черту и поставить точку.
В Гаагу! В министерство! Правительство перебирается в Англию. А он, Альберехт, что, разве не важная шишка?
Ведь он лучше всего сможет служить отечеству, если не попадется в лапы врагу?
На скорости, значительно превышающей дозволенную, Альберехт мчался по пригороду в направлении Гааги.
Благодаря объявлению войны его карьера сложится еще более блистательно или во всяком случае увлекательно, чем это было бы возможно в Нидерландах мирного времени. Человек с моей силой воли это заслужил! Да-да, уважаемые господа, с моей силой воли. Я же в последние дни запросто мог пить сколько душе угодно. А не выпил ни капли, точнее, ни капли лишней. Или позавчера получилось все-таки многовато? Да ладно. Все равно. Я могу быть силен, стоит мне захотеть. Поэтому нельзя допустить, чтобы этот чертов несчастный случай сломил меня. Поэтому нельзя допустить, чтобы обнаружилось, кто задавил еврейскую девочку. Ни за что. Я должен бороться с врагами, а не с собой.
Примерно полчаса он ехал, не встречая никаких препятствий. Солнце не переставало светить. Коровы паслись на лугу. На одном поле с тюльпанами еще доцветали последние цветы, на другом луковицы уже были выкопаны и лежали в кучах. До чего обильной и сочной была листва у ив и тополей! Между ними виднелись дома фермеров, беззащитные и опрятные, с открытыми окнами, словно говорившими: мы никому не причиняем зла. Это страна, где не должно быть войны. В лучах солнца сверкали стекла парников, нигде не разбитые. Интересно, а другие страны, где прокатилась война или сейчас идут бои, выглядят так же? Трудно себе представить. Но где еще могут пастись коровы, как не на лугах? И почему у деревьев вдруг могут облететь листья? И разве можно ожидать, что с началом войны все хозяева разом спрячут свои дома под серой броней? Хорошо бы, если бы это было возможно.
Но это невозможно, и мы вот-вот проиграем войну. Прощай, родная страна! Скоро покажется серое море. Море. Уже давным-давно следовало бы заключить международный договор о том, чтобы вести боевые действия только на море. На море нет деревьев, нет домов, нет коров. На море те, кто не имеет к войне никакого отношения, могут отойти в сторонку, а если пара-тройка кораблей и утонет, то вода останется точно такой же, как была. Насколько война на море гуманнее, чем война на суше. Все раненые сразу тонут и тем самым избавляются от страданий. Может быть, в Англии он сможет посвятить свободные от работы минуты составлению проекта о соответствующем международном договоре. Но что делать, если та или иная страна не захочет его придерживаться? Не получится ли, что война все равно неизбежно переместится на сушу? Дополнительное осложнение вызывает такое изобретение, как самолеты. Воздушная война. Неподходящее название. Подходило бы только том случае, если бы самолеты стреляли в самолеты и подстреленные самолеты полностью испарялись в воздухе. Ах, наверное, такой международный договор о ведении войны на море можно было заключить несколько веков назад, а теперь уже поздно. Гуго Гроций – вот[38][39]кто должен был этим заняться. Именно ему в голову должна была прийти эта мысль. Он написал Mare Liberum. Жаль, что не пошел далее. Мог бы написать еще и Bello Maris, что было бы логическим продолжением трактата Mare Liberum, до сих пор пользующегося международным авторитетом. А теперь уже поздно. Договоренность о ведении войны на море уже не сможет укорениться в правовом сознании народов. И уж во всяком случае в правовом сознании государств, не имеющих выхода к морю и, соответственно, собственного флота. Или почти не имеющих, как Германия. Триста лет назад… Тогда морские державы навеки прибрали бы к рукам все континентальные нации: русских, поляков, венгров, немцев. Всякий сброд. Варваров. Голландия почти всегда воевала на море. Гроза семи морей. Моя идея – типично голландская идея. Если немцы займут Голландию, то и эту войну мы сможем вести только на море. Нашим флотом им не удастся завладеть! Типично голландский образ мыслей, скажут мои слушатели, когда я изложу свой проект.[40]
Фантазируя подобным образом, он приблизился к той части дороги, где на равном расстоянии друг от друга были расставлены бетонные блоки, чтобы немецкие самолеты не смогли приземлиться. Вдоль обочины лежали в полудреме усталые нидерландские солдаты. Двигаясь зигзагом и объезжая блоки по велосипедной дорожке, Альберехту удалось продвинуться вперед. Дальше дорога была свободна, но кроме него на ней не было ни единой машины. И наконец перед ним возникло деревянное ограждение, охраняемое солдатом с длинной винтовкой. Альберехт остановился и высунул голову в окно.
– Назад, не то стрелять буду! – крикнул солдат.
– Спокойно, я из правоохранительных органов. Вы должны меня пропустить.
Солдат приставил винтовку к плечу и гаркнул:
– Считаю до трех!
Ощущая легкую дрожь в коленях, Альберехт включил заднюю передачу и сдал назад. Солдат по-прежнему держал его под прицелом. Так Альберехт и проехал метров пятьдесят задним ходом: шею сводило судорогой, глаза заливало потом, стекающим со лба. Чего от него хочет этот солдат? Он что, теперь всю обратную дорогу должен пятиться задом?
– Постарайся сохранять спокойствие, – сказал я. – Ведь я с тобой. Он не будет стрелять, когда убедится, что ты едешь назад, как он приказал. Съезжай спокойно на обочину, выкрути руль, разверни машину перпендикулярно к направлению движения. Теперь тормози.
Альберехт развернулся, не обращая больше внимания на солдата, по-прежнему державшего его под прицелом. Все в порядке. В зеркало заднего вида он заметил, как военный опустил винтовку.
Альберехт снова принялся петлять между бетонными блоками, поставленными так, чтобы немецкие самолеты не смогли здесь приземлиться. В такой плоской стране, как Нидерланды, наверняка есть другие места, где они прекрасно могут сесть. Опасный противник всегда делает такой ход, которого никто не ожидает.
Альберехт свернул на проселочную дорогу. Объезд, и еще объезд. Попал на дорогу с большой воронкой от снаряда посередине: еще один объезд. А здесь дорога перегорожена рядом сгоревших грузовиков: еще объезд. А тут поперек дороги упали деревья: объезд.
Он проезжал мимо деревень, где не бывал никогда в жизни, как будто ему было велено как следует изучить родную страну, прежде чем ее покинуть.
Часам к одиннадцати он наконец-то добрался до Гааги и через пятнадцать минут уже вошел в здание министерства. На площади перед входом стояли бронемашины небольшого размера. Подвальные окна здания были забаррикадированы мешками с песком. Охранник пропустил Альберехта, не обратив на него внимания. Туда-сюда ходили полицейские и другие люди. Как же в таком хаосе найти министра? К кому обратиться? Он какое-то время походил по вестибюлю, пока не увидел седовласого человека в униформе курьера, за которого и уцепился.
– Мне надо поговорить с министром.
– Боюсь, в настоящий момент это непросто, – медленно и отчетливо произнес курьер.
– Что вы говорите? Я – прокурор одиннадцатого округа и должен поговорить с министром безотлагательно.
– Думаю, что его превосходительство сейчас отсутствует.
– Тогда я должен поговорить с генеральным секретарем.
– Он в настоящее время отправился в Англию для ведения переговоров.
– Кто же тогда на месте?
– Пойду посмотрю, кого сейчас можно найти.
Найти! Во время разговора Альберехта с курьером множество чиновников пробегали рысцой мимо них с толстыми пачками бумаг под мышкой, и Альберехт заметил, что у многих на глазах слезы.
Курьер оставил Альберехта дожидаться в боковой комнатке, где на стенах, обитых шпалерами XVII века, висели портреты штатгальтеров и регентов.
Я остановился на некотором расстоянии от него, чтобы лучше видеть, как он, едва сдерживаясь, ходил туда-сюда по этой старинной комнате, где на него смотрели правители прошлых веков, чьи лица словно говорили: у нас не было заведено спасаться от врага бегством. Мы обращали в бегство других, это мы хорошо умели.
В памяти Альберехта всплыла строка из стихотворения школьных лет:
«О жалкие, бесславные потомки!»[41]
Имени поэта он не мог вспомнить, равно как и продолжения стихотворения, но этой строчки было уже более чем достаточно, а ведь он сам и принадлежал к числу таких потомков.
Чем я мог его утешить? Чем отвлечь его от мыслей о преходящей славе, столь же мимолетной, как и поражение, как направить его внимание на вечную Славу Всевышнего, для которого морские державы и сухопутные полностью равны? А все эти власть имущие XVII века были отправлены кто в ад, кто в рай уже несколько столетий назад.
Неразумный человек Альберехт! Чего он еще хочет? Ведь единственное, что ему остается, – это упасть на колени и молиться, долго-долго молиться!
Но такое не приходило ему в голову, даже слово «молиться» не всплывало в его сознании. Он беспокойно ходил туда-сюда по душноватой, но богато разукрашенной комнате, где пахло старым дубом и где на середине овального стола стоял лишившийся прозрачности графин, наполненный затхлой водой.
Черт сказал:
– Долго же тебе придется ждать. Вполне возможно, что ты просидишь здесь до ночи. Тебя сюда впустили – и сразу забыли. Скоро они все уедут в Англию, а ты так и останешься тут сидеть, где тебя найдет гестапо и сдерет с тебя три шкуры за все грехи твоей страны.
Вот удача! Эти слова нечистого тут же были опровергнуты. В комнату вошел человек с блестящей лысой головой, с пенсне на носу.
– Моя фамилия Филлекерс. Чем могу вам помочь?
– Я хочу поговорить с министром, но мне сказали, что его сейчас нет.
– Да, это правда.
Альберехт и Филлекерс сели напротив друг друга за стол.
– А генеральный секретарь?
– Уехал в Англию.
– Известно ли вам, каким способом? Я хотел бы последовать за ним.
Филлекерс покачал головой и вытянул губы.
– Именно генеральный секретарь некоторое время назад отдал приказ, чтобы определенное число прогерманских подозрительных элементов были посажены за решетку. Так что следует ожидать, что если немцы проникнут вглубь нашей страны, то попытаются отомстить министру и генеральному секретарю.
– Я не понял вашего ответа. Мне надо срочно поговорить с министром или генеральным секретарем. Я приехал на собственной машине. Если вы мне сообщите, в каком направлении они отбыли, я могу попытаться их догнать.
– Но они покинули страну уже давно.
– Оба?
– Да. И генеральный секретарь, и министр. Собственно, все министры.
– Все министры? Но каким способом?
– Вчера вечером, на английском крейсере, отчалившем из порта Хук-ван-Холланд.
– Уже вчера вечером? Но почему?
– Послушайте, я не хочу выполнять роль источника этой информации. Но ввиду особых обстоятельств я решил, что лучше не оставлять вас в полном неведении.
Альберехт сунул в рот косточку большого пальца правой руки и прикусил ее.
– Я подвергаюсь такой же опасности, что и генеральный секретарь с министром, – заговорил он.
– В таком положении находятся все прокуроры, – ответил Филлекерс. – Во всех округах есть прогерманские элементы, посаженные за решетку. Я понимаю вашу проблему, но в настоящий момент не вижу решения.
– Вы не знаете всех моих обстоятельств. Некоторое время назад мне сообщили, что моя фамилия значится в списке гестапо, который был найден в сбитом немецком самолете. Они включили меня в список. Они разыскивают меня лично. Других прокуроров в списке нет, я один.
– А-а, так, значит, и вы тоже попали в этот список?
– Тоже – как кто?
– С ходу сказать не могу, но я слышу об этом со всех сторон.
– Тогда вы понимаете, что от моего пребывания в Нидерландах толку мало. В Англии я бы мог принести пользу отечеству, а здесь нет. Здесь меня в любой момент могут арестовать.
– Вы смотрите на вещи слишком мрачно. Здание суда вашего округа полностью разрушено, так что немцам трудно будет собрать на вас достаточно компрометирующих материалов.
– Можно подумать, они придают значение компрометирующим материалам! Когда они хотят кого-то устранить, то делают это без всякого компромата. Точно так же, как они напали на нашу страну без малейшего повода.
– Не беспокойтесь раньше времени. Правительство покинуло страну лишь временно. Возможно, министры вернутся послезавтра или на следующей неделе. Наши войска оказывают сильнейшее сопротивление. В ближайшее время следует ожидать помощи от французов и англичан. Нельзя падать духом, менейр Альберехт. Могу себе представить, что в последние дни вы слишком многое пережили. Сейчас все в какой-то мере потеряли голову. Все носятся туда-сюда как безумные! Каких только сцен мы не наблюдали здесь, в Гааге! Каких только сцен! Даже рассказать невозможно. Но вы же понимаете, что будет, если все рванутся в Англию? Отъезд министров – разумная предосторожность. Сами Нидерланды – такая маленькая часть огромной Нидерландской империи. Правительство имеет обязанности не только по отношению к этому маленькому кусочку Европы, но и к колониям. Так что отъезд правительства из Гааги, скорее всего временный, – это мера сама собой разумеющаяся. Но это не значит, что мы все можем пренебрегать своими обязанностями, оттого что – возможно, пусть и маловероятно, – нам грозит немецкая оккупация. К чему это привело бы? К хаосу, менейр Альберехт. К хаосу, а ведь именно хаос судебная ветвь власти и обязана предотвращать любой ценой, при любых обстоятельствах. Что будет со страной, если вдобавок к беспорядку военного времени еще и весь криминальный мир поднимет голову? Хаос означает конец всему, здесь вы со мной не можете не согласиться.
– Разумеется, я с вами соглашусь. В случае оккупации всей страны органы правосудия и полиция должны оставаться на посту.
– В противном случае немцы без промедления заполнят вакуум власти, в этом сомнения быть не может.
– Вы полностью правы. Но мы говорим о немного разных вещах. Мой случай несколько иной. Моя фамилия значится в гестаповском списке разыскиваемых. Я могу доказать, что меня немедленно сместят с должности и скорее всего арестуют. Так кому какая польза от того, что я останусь в Нидерландах?
Филлекерс снял пенсне и, держа его за тонкую металлическую перемычку, словно пойманную стеклянную бабочку, провел большим и указательным пальцем другой руки по глазам и вдоль носа.
– Прошу не воспринимать мои слова как критику, – сказал он, чеканя каждое слово, – но для дезертирства – позвольте мне употребить это резкое слово – для дезертирства оправдания быть не может. Зачастую бывает сложно определить, что именно сделал человек, обратился ли он при первой опасности в бегство или своевременно отступил… Решение можете принять только вы сами. Но вы должны осознавать, что в настоящий момент война еще далеко не проиграна. Немцев в нашей стране нет. Та горсточка парашютистов, что спустилась с неба, прячется где-то на земле, окруженная со всех сторон. Мне известно из очень надежных источников, что главнокомандующий вчера в очередной раз отказался даже слышать о капитуляции. Отказался. Потому что это просто-напросто исключено. Так что – поймите меня правильно – разве у нас есть повод позволить вам отправиться за границу? А ведь вопрос стоит именно так, менейр Альберехт. Чем иначе объяснить ваш визит? Я даже не желаю рассматривать ту вероятность, что у вас могла появиться мысль по собственной воле…
Вдохновленный мужеством отчаяния Альберехт изобразил на лице улыбку.
Заикаясь, принялся объяснять, что совершенно не согласен с рассуждениями Филлекерса, совершенно не согласен. О том, что он пришел, потеряв всякую надежду из-за неблагоприятного хода военных действий, нет и речи, не говоря уже о том, что якобы испытывал испуг. Причиной его прихода было только желание как можно добросовестнее исполнить свои обязанности. Если паче чаяния случится невообразимое и немцы все-таки займут страну, вследствие чего ему все-таки придется сложить с себя обязанности прокурора, он рад, что министерство по крайней мере предупреждено о такой возможности. В министерстве теперь не могут сказать, что были не в курсе дела. Теперь никто не сможет ему сказать: вам надо было своевременно позаботиться о своей безопасности, чтобы и в будущем плодотворно работать на благо государства, а не быть отстраненным от работы и сидеть у немцев за решеткой.
– Вы понимаете, что я имею в виду, менейр Филлекерс?
– Мне и в голову не приходило, менейр Альберехт, понять ваши опасения как-то иначе. В голову не приходило! Желаю вам сил и мужества.
– Взаимно!
Филлекерс снова надел пенсне и положил руки на стол ладонями вниз: жест, которым он дал понять, что разговор окончен и что он собирается встать, чтобы проводить Альберехта к выходу. Альберехт взялся за шляпу.
– Менейр Альберехт, – сказал Филлекерс у двери в коридор, – ведь это вы потребовали освобождения от преследования того журналиста, который оскорбил Гитлера?
– Вы думаете, что моя фамилия поэтому попала в список?
– Нет-нет, вовсе нет. Но подобные вещи, несомненно, заставляют задуматься. У меня такое ощущение, что мы стоим на пороге больших изменений. Дни Англии как великой державы уже сочтены. И так удивительно, как это островное государство умудрялось так долго диктовать Европе свои законы, сталкивая лбами другие нации. Это противоестественная ситуация. Европа – континент, а Англия – остров. Вот Германия – это, напротив, континентальное государство. Не удивлюсь, если история в ближайшее время докажет, что Германии уготована роль первой скрипки в Европе. Францию можно не брать в расчет, Франция уже исчерпала себя. Германия молода и сильна.
– Что вы хотите этим сказать?
– Так, фантазирую. Культурфилософские домыслы дилетанта. Но один факт мне ясен. Вполне может быть, что мы стоим на пороге новой Европы. Наше время требует осмысления. Потребуется изменить самих себя, в том числе наши взгляды на юриспруденцию. Нынешний переломный момент требует осмысления, подчеркиваю это еще и еще раз.
Альберехт ничего не ответил, и они вышли в коридор.
Филлекерс тоже промолчал, возможно, он уже раньше успел воплотить произносимые слова в дела, так что теперь как раз и занимался осмыслением.
В конце концов они пожали друг другу руку, и словно на прощанье Филлекерс произнес:
– Лидер великой нации – не та тема, которую кто угодно может полоскать в газете, как ему заблагорассудится. Это мое искреннее убеждение.
Альберехт побрел к машине, низко опустив голову, затем сел в нее и уехал.
Душу его терзали сомнение и отчаяние. Что предпринять? У кого спросить совета? Господи, помоги. Я слышал, как он бормочет эти слова, но понимал, к своему огорчению, что он употребляет их в переносном смысле. В его безбожных устах «Господи, помоги» означает только одно: на всем свете я не знаю ни одного человека, который мог бы мне помочь.
Но вот чудо: его машина попала колесом в яму и от удара вдруг заговорило радио.
«… взять штурмом Афслёйтдейк пока что сорван. Север Роттердама еще в наших руках. Сухопутные войска сегодня ночью возвращены на нашу знаменитую Новую голландскую ватерлинию. Наши позиции в Ден Хелдере остаются в полной сохранности. В Брабанте обстановка неопределенности. Зеландия по-прежнему наша. Противовоздушная оборона, несмотря на недавние потери, находится в состоянии готовности. Несмотря на трудности, мы продолжаем бороться, потому что речь идет о независимости нашего народа, которой мы добились несколько веков назад под предводительством Оранских.
Да здравствует ее величество Королева!
Да здравствует отечество!»
Да здравствует отечество! Голос смолк, заиграла серьезная музыка.
ВДОЛЬ дороги валялись мотоциклеты с колясками, подстреленные и перевернувшиеся вверх тормашками. Мальчишки гудели в клаксоны, скручивали не разбившиеся зеркала. Один из мотоциклетов они даже подожгли, и теперь бросали в огонь старые коробки, газеты, ветки деревьев и ящики из-под ананасов, чтобы огонь горел как можно ярче.
Густой дым мешал смотреть. Альберехт снизил скорость, боясь кого-нибудь задавить: дети, увлеченные игрой, ни на что не обращали внимания. Отъехав от них уже на приличное расстояние, Альберехт продолжал ощущать один только запах горящей резины.
Отсюда до дома Мими с Эриком было минут пять езды.
Рядом с их виллой ни малейших признаков войны. Газон оставался идеально зеленым, садовые растения цвели так же дружно, как и три дня назад. При мысли о том, сколько событий произошло за минувшие дни во всей остальной стране, на глаза наворачивались слезы. Возможно, вся эта красота в скором времени тоже будет низвергнута узурпатором. Можно ли верить Филлекерсу, что правительство отбыло в Англию лишь на время, чтобы быть готовым ко всему и продолжать править от лица Нидерландов заморскими колониями? Он надеялся, что так оно и есть, но при этом думал с горечью: я могу в этом не участвовать, во мне они не нуждаются, мне можно остаться здесь.
– Ладно тебе, – сказал ему я. – Филлекерс – это серьезный высокопоставленный чиновник. Если бы он считал, что тебе действительно грозит опасность, он бы так не говорил. Если бы он думал, что страна вот-вот рухнет, он не был бы так оптимистичен.
– Стоп-стоп, – сказал черт, – откуда этот чиновник мог знать, какая именно опасность грозит Альберехту? Ему же неизвестна вся горькая правда?
Альберехт остановился у входа в сад, окружавший дом Мими с Эриком, но смотрел в противоположную сторону, на дом Лины, надеясь ее случайно увидеть. Это была белая вилла, с островерхой крышей. Оконные рамы покрашены в красный цвет, как и внутренняя сторона ставней, так что ставни, открываясь, расцвечивали внешность дома своей внутренностью. Плющ, обвивавший дом, дотягивался до красных водосливов. Лины нигде не было видно.
Да и почему она должна бы случайно показаться? Если у какого-то явления есть «почему», то оно уже не случайно. Случайность, шанс надо форсировать.
Про Сиси всяко надо забыть. Самое лучшее – никогда больше не пытаться с ней увидеться, хотя бы для того, чтобы не стоять перед ней с тяжелой мыслью: я храню тайну, о которой тебе нельзя знать.
Надо придумать предлог, чтобы пойти к Лининому дому и позвонить в дверь. Но сначала поговорить с Эриком.
Альберехт завел мотор, развернулся и въехал в сад, где остановился под цветущей сливой.
Вместо того чтобы направиться к входной двери, пересек газон и обошел дом. Там, за домом, наверняка сидит Мими под своим тентом, с книжкой в руке, рядом со столиком, на котором стоит чашка кофе, все тихо и мирно. Как будто она сама и все, что имеет к ней отношение, отделено невидимым стеклянным колпаком от остального мира, где рвутся бомбы, рушатся дома, седые чиновники ходят с досье под мышками и со слезами на глазах. Где испачканные грязью солдатские гимнастерки напитываются кровью из ран.
Мими не было на месте, на садовом столике даже не лежало скатерки, а тент опустил вниз все свои длинные руки.
Но большие двери, ведущие в гостиную, были открыты. Кто их открыл? Почему? Может быть, Мими уже вышла из дому, чтобы обосноваться с книжкой под тентом, но вспомнила, что забыла какую-то вещь, и вернулась в дом.
«Меня чуть что – охватывают дурные предчувствия, – сказал себе Альберехт. – Война. Даже такая невинная деталь, как нераскрытый тент напротив раскрытой двери, внушают мне мысли, от которых подступает комок к горлу».
По этому признаку видно, что началась война. Или, во всяком случае, что мысли выходят из-под контроля.
Альберехт вошел в комнату, и ему сразу бросилось в глаза, что все картины и гравюры, висевшие на стенах, исчезли. От масляных картин на обоях остались темные прямоугольники, а гравюры были просто вынуты из рам. Рамы висели на прежних местах. В каждой раме белело по карточке, исписанной почерком Мими. Признак того, что они собираются рано или поздно вернуть свои произведения искусства на прежние места. Мими – очень прилежная женщина. Эрик – бесстрашный мужчина. Эрик наверняка уже строит планы, как продолжить бизнес в новых условиях. Бизнесмен, как-то раз объяснил ему Эрик, должен находиться в непрерывном движении и не оборачиваться ни на потери, ни даже на прибыль, ибо от большой прибыли легко стать нерадивым. Смотреть вперед, искать новые возможности. Не оборачиваться, смотреть только вперед – таков был девиз Эрика.
Альберехт прошел через гостиную, вышел в коридор, поднялся по лестнице. В интерьере всего дома произошли те же изменения: со стен исчезли картины, но книги в невысоких шкафчиках, шедших вдоль нижней части стен, никуда не исчезли. Книги волнуют Эрика явно меньше, подумал Альберехт, ведь он производит их сам. И Альберехт не мог с ним не согласиться. На свете должно слишком много всего произойти, чтобы от современной книги не сохранилось ни одного экземпляра. С картинами иначе. За исключением картин Ренсе. Их легко было бы написать заново.
Ах, вот бы быть таким человеком, как Эрик. Это значит быть совсем другим человеком, чем он сам. Для начала, это значит быть довольно-таки счастливым с Мими, более счастливым, чем с ней был Альберехт, ведь чем еще можно объяснить, что их брак длится столько лет. Видимо, они друг для друга незаменимы. Ведь чем еще можно объяснить, что, несмотря на бесчисленных подружек Эрика, брак их не дал трещины?
От меня Мими не потерпела бы того, что позволяет себе Эрик. Мне она каждый божий день выговаривала из-за моего пристрастия к алкоголю. Мне до Эрика далеко. В этом мире он чувствует себя как дома. Стоит в центре событий и активно участвует в происходящем. А я остаюсь в стороне. Восседаю на сцене, на высоченном троне, как весьма высокооплачиваемый чиновник. И грожу мечом правосудия бедолагам, которым в этом мире так же несладко, как и мне. Но государство стоит за спиной у меня, а не у них.
– А Эрик, – сказал черт, – Эрик, наверное, иногда занимается сексом с двумя или тремя женщинами разом, ты не думаешь?
«Думаю, что так и есть. Он такой обаятельный, что может все. Если бы мне раз в жизни довелось такое испытать, я бы, наверное, обо многом стал думать иначе или вообще перестал бы думать и не был бы больше прокурором. Если бы я был бизнесменом, как Эрик, и точно так же задавил бы маленькую девочку, я бы спокойно явился в полицию с повинной, заплатил положенную компенсацию, и мне не пришлось бы бросать девочку в кусты.
Не поддался бы преступному и тщеславному желанию оставаться непогрешимым.
Спокойно воспринял бы все неизбежные последствия, – думал Альберехт. – Нанял бы ловкого адвоката… причинение смерти по неосторожности (это еще надо выяснить)… Если не получилось бы иначе, то заплатил бы большой штраф, у меня отобрали бы водительские права за езду против движения… год пришлось бы ездить с шофером на казенной машине… и вопрос закрыт. Вот как все было бы, если бы я был Эриком».
Такого рода нечестивые мысли читал я в голове своего подопечного, пока он поднимался по лестнице в доме Эрика, почему-то полагая, что если три дня назад он общался с Эриком в чердачном пространстве, то его друг и теперь там.
– Скорее всего, по-прежнему в изысканном обществе Герланд, Алейвена Ленмана и его сестры Трюди, – сказал черт, но Альберехту от его слов не стало веселее.
Однако, поднявшись до середины лестницы, Альберехт услышал не их голоса.
– И как ты собираешься это сделать? – произнес голос Мими.
В комнате было включено радио, из которого звучала музыка.
– Точно не знаю, – ответил Эрик, – но пора уже об этом думать на тот случай, если…
– Это не так-то просто. Я не думаю, что Берт…
– Берт! – произнес голос Эрика. – Берт никогда не уедет. Он только треплется да колесит туда-сюда на своей машине. Такой государственный человек, как Берт, полон железобетонных убеждений, с которыми не может расстаться, даже если весь мир провалится в тартарары. Берт! Поверь, я ему всей душой сочувствую. Думаю, он был по-настоящему счастлив с Сиси, но человек в его возрасте не может плюнуть на свою карьеру даже ради великой любви.
– Карьера, карьера, скажешь тоже! Не такой уж он карьерист.
– Ты меня не поняла. Если хочешь, назови это чувством долга. В глубине души Берт считает отъезд в Англию предательством. Дезертирством. Поэтому так тянет кота за хвост.
– Есть здесь кто-нибудь? – крикнул Альберехт и перешагнул через последние ступеньки, – Эй, хозяин!
Он услышал, как кто-то передвигает стул, затем раздались шаги.
– Привет, – сказал Эрик, – а мы как раз о тебе говорили.
– Я ничего не слышал. Привет, Эрик!
– Думаешь, мы говорим у тебя спиной такое, чего не сказали бы при тебе?
– Откуда мне знать, если я никогда не подслушиваю чужих разговоров?
Альберехт вошел в чердачное помещение, встал за креслом, в котором сидела Мими, наклонился и поцеловал ее в волосы.
– Привет, Мими, – сказал Альберехт громко. – Привет, милая, – добавил он шепотом и почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы.
– Привет, Берт. Есть ли какие-нибудь новости?
– Все не так уж плохо. Им не взять Афслёйтдейк, они застряли в Роттердаме. Я только что был в Гааге, у себя в министерстве, там многие в панике, но хватает и разумных людей.
– Ты что, не знаешь, что королева уехала из страны?
– Ты шутишь.
– Все точно. Королева отбыла в Англию.
– Об этом было официальное сообщение по радио, – сказал Эрик, – ты что, не слышал?
– Вы совсем запутались.
Альберехт взял стул и сел.
– Еще час назад я был в Гааге. Некоторые министры перебрались в Англию – на всякий случай, мало ли что, правительство должно быть в безопасности. Вот и все, по-моему. Если бы королева тоже уехала, я бы об этом наверняка услышал.
– Был в Гааге и ничего не слышал о королеве? Но об ее отъезде совершенно официально передали по радио.
Эрик подошел к радиоприемнику, повернул ручку, и музыка смолкла.
– Послушайте, друзья! – воскликнул Альберехт. – В какой-то момент, когда я сюда ехал, мое радио в машине вдруг заработало. И я услышал сводку новостей. Все отлично. Наши позиции при Афслёйтдейке и Ден Хелдере в целости и сохранности. Север Роттердама в руках у наших.
– Да-да, я это тоже слышала, – сказала Мими. – Но до этого, задолго до этого, передали, что королева отбыла в Англию.
– Так и есть, – сказал Эрик, – об этом еще вчера ходили слухи. Где ты был, что ничего не знаешь?
– Вчера я весь вечер провел у мамы, она разумная женщина и радио в доме не держит.
Альберехт почувствовал, что его прошибает пот, достал коробочку с мятными пастилками и, держа в руке закрытую коробочку, произнес:
– Вы правда верите, что такое могли передать по радио?
– Да ты что, Берт! Всего полчаса назад.
– Причем это был повтор.
– Одно из двух: либо вы услышали половину сообщения, в котором этот слух опровергался, либо радиостанция попала в руки Пятой колонны. Королева отбыла в Англию… но этого не может быть. Юлиана перебралась в Англию ради своих детей. Но королеве-то чего ради?
– Берт, ты, наверное, шутишь.
– По радио все время предупреждают, чтобы мы не верили тому, что сообщают незнакомые голоса, – сказал Альберехт. – Эту новость сообщил знакомый голос?
– Точно тот же самый голос, что и всегда.
Альберехт открыл коробочку и сунул в рот пастилку.
– Честное слово, поверь нам, это чистая правда!
– Но ведь мы сбили уже больше двухсот самолетов! Немцы здорово просчитались. Если Гитлер теряет по двести самолетов в каждой маленькой стране, которую хочет завоевать, то дни его сочтены.
– Прислушайся, – сказала Мими, – слышишь?
Донесся рокот самолетов, то приближающийся, то удаляющийся, словно звук неторопливой пилы.
– Слышишь? – сказал Эрик и поднял палец.
– Ничего не слышу, – сказал Альберехт.
Ему так не хотелось новых несчастий, что казалось, будто с помощью слов он способен сбить те самолеты, которые слышал Эрик.
– Мы разговаривали про королеву, – сказал Альберехт. – То, что вы про нее рассказываете, не только неправда, но и в принципе не может быть правдой. Это полностью противоречит психологии нашей Вильгельмины. Она же из рода Оранских, человек старой закалки! Даже если стране придет конец, она останется со своим народом. Если надо, откажется от престола в пользу Юлианы, находящейся в Англии. Это логично, а чему бы то ни было другому просто нельзя верить.
– Можно или нельзя, – сказала Мими, – но так оно и есть.
– Что ты в этом понимаешь? – спросил Эрик. – Как ты можешь судить о том, могла ли королева остаться в стране, как выглядит общая картина в государственном масштабе? Это же не твоя епархия?
– Если бы королева… сбежала… бросив на произвол судьбы армию и флот, она, верховный главнокомандующий… это значило бы, что вся наша отечественная история – одна большая ложь.
В ответе Мими звучали победоносные нотки:
– А ты что думал? Ведь это история, написанная капиталистами. Бьюсь об заклад, что в последний момент она положила в свой чемодан еще пачечку ценных бумаг. Спорю на что угодно! Эти Оранские невероятно богаты. Самая богатая семья на свете.
– Ах, Мими, уймись ты со своей коммунистической пропагандой! Россия и пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь. О министрах можешь говорить что угодно, но королева…
– Да, разумеется, – сказал Эрик, – королева должна поступать так, как ей предписывают министры.
– Не могу себе представить, чтобы королева позволила этой шайке испуганных старикашек предписать ей бежать в Англию. Черт побери, тех, кто распускает такие слухи, следовало бы прикончить на месте.
– Это ты сам заканчивай шуметь, – сказал Эрик. – Потому что королева в Лондоне, честное слово.
Он встал и вышел на крышу.
Рокот самолетов стал теперь настолько резок, что Мими с Альберехтом невольно тоже встали и пошли следом за Эриком.
Эрику не понадобился бинокль, равно как не понадобилось показывать Мими с Альберехтом, куда смотреть. По небу медленно летели несколько стай черных трехмоторных бомбардировщиков, каждая стая в форме буквы V, с белыми крестами на крыльях.
– Почему в них не стреляют? – спросил Эрик.
– Потому что все предатели, вот почему! – сказала Мими.
– Если бы сейчас на этой крыше стоял человек с пулеметом, – предположил Эрик, – он мог бы их запросто сбить.
– Интересно, куда они летят, – пробормотал Альберехт, – куда же они летят.
– Но ведь должно же ПВО по ним стрелять, что за дела! – закричал Эрик, ни к кому не обращаясь, и затопал ногами.
– Стрелять! – закричала Мими. – Размечтался! – она перевела взгляд с неба на Альберехта и добавила: – Лина рассказала, что многие солдаты еще вчера побросали винтовки, узнав, что королева бежала.
– Как они могли узнать об этом вчера? – сказал Альберехт. – Вот видишь, кто-то просто сеет панику.
– Вчера это передали по Би-би-си.
Самолеты уже почти скрылись за горизонтом, но с другой стороны небосвода появилась новая эскадра.
Эрик пошел за биноклем.
Недалеко от них на радиоантенну сел черный дрозд, подвигал туда-сюда хвостом, устроился поудобнее и выдал трель.
Эрик вернулся с биноклем в руках.
Мими с Альберехтом стояли спиной к солнцу по обе стороны от Эрика, глядевшего в бинокль. Вершины деревьев вокруг крыши шелестели от дуновения ветра. Окрест никаких признаков войны, пожаров или насилия, только издали доносится рокот моторов, казалось, что это распиливают пополам Вселенную.
Тут они услышали вдали грохот, точно принесенный ветром. В коленях появилось ощущение, словно под ногами дрожит крыша.
На горизонте небо было желто-белое, а не голубое. Но не затянутое туманом.
– Там явно что-то происходит, – сказал Эрик.
– Господи, как глупо это звучит. Дай-ка мне бинокль.
Мими забрала у него бинокль, но не могла поднести его к глазам, потому что Эрик должен был сначала снять с шеи ремешок.
Грохот продолжался. Мими навела бинокль на резкость.
– Как дрожит крыша, – сказал Альберехт.
– А я вот не чувствую. Это твое воображение.
– А если я скажу, что на горизонте все черно, это тоже воображение?
Мими пробормотала:
– Я тоже вижу это в бинокль.
– А больше ничего не видно?
– Нет.
– Что там, в той стороне? – спросил Альберехт и протянул руку в том направлении, о котором говорил.
– Роттердам.
– Роттердам? Но ведь пол-Роттердама занято их собственными парашютистами.
– Им на это наплевать, – сказал Эрик.
– Хочешь посмотреть? – спросила Мими.
Она отняла бинокль от глаз и передала Альберехту, который сразу направил его на горизонт, не перекинув ремешок через голову. Короткий порыв ветра взъерошил ему волосы.
Горизонт приблизился к нему в семь раз и стал в семь раз чернее. И тут он увидел, как взметнулся и снова погас оранжевый язычок пламени, за ним поднялось облако огня, за которым в свою очередь последовала новая вспышка.
– О Боже, – пробормотал он, – там происходит что-то ужасное. Вы видите?
– Это видно невооруженным глазом, – сказал Эрик.
– Господи Иисусе, – сказала Мими.
Каким богохульством звучали эти возгласы в устах нашего безбожного трио! Но они были правы: вдали действительно разыгрывалось нечто страшное, а их слова служили доказательством того, что в душе человека Истина никогда не умирает полностью. Боже. Иисусе. Где были Бог-отец и Иисус в этот момент? Они не появились после отчаянного возгласа Альберехта, после безнадежной мольбы Мими. Там был только я, потому что не покидал своего подопечного Альберехта, а пытался ему внушить, что сердце Иисуса обливается кровью при виде тех ужасов, которые происходят на горизонте.
Но вот с глухим рокотом прилетела новая эскадра бомбардировщиков. Звук моторов буравил воздух, дома и землю тысячей буров. В испуге в небо поднялась огромная стая скворцов, так что показалось, будто кто-то бросил вверх горсть каменного угля. Зенитки по-прежнему молчали, и когда самолеты пролетели мимо, шум ветра и птичий щебет снова зазвучали громче, чем рокот моторов.
Альберехт передал бинокль обратно Эрику и сказал:
– Теперь я верю, что королева в Англии!
Он немного помолчал и продолжил голосом, в котором слышались сдерживаемые слезы:
– Я заметил, что вы сняли со стен картины. Вы хотите их спрятать? Зачем? Скоро бомбы упадут и на нас. Вся страна сгорит, а если немцы найдут под обломками ваши картины, то сожгут их отдельно.
Он вошел в комнату и, подавляя подступающую тошноту, сел на один из низеньких стульев. Эрик с Мими остались на крыше.
Я стоял рядом с Альберехтом и не знал, что ему сказать. Он был полон великого отчаяния, и в мозгу его теснились совершенно бессвязные мысли. А я стоял рядом и не мог толком понять, в чем причина такого замешательства, ведь черт был сейчас где-то далеко, что в меня всегда вселяет радость.
Впервые с момента начала войны Альберехт был в таком сильном отчаянии, пожалуй, вообще впервые за все тридцать восемь лет его жизни. Даже в тот день, когда он достал из ящика стола пистолет с намерением застрелиться, его отчаяние было не настолько бескрайним. Едва я сделал для себя такое заключение, заклинивший пистолет всплыл в его памяти и он сказал про себя: «Тогда я хотел себя застрелить, а теперь это сделают другие».
– Ну зачем же так мрачно, – попытался я прервать ход его мыслей, – почему именно сейчас такое настроение? Бомбы падают где-то далеко, не здесь. Два-три раза ты действительно был на пороге смерти, так зачем теперь видеть все в черном свете? В те разы ты на самом деле подвергался опасности, а сейчас-то нет.
Он думал: «Если немцы прилетели бомбить наши города, а по ним вообще никто не выстрелил, значит, теперь возможно все. Теперь они, заняв страну, смогут расстреливать и вешать кого угодно, если им заблагорассудится.
Это правда: по сравнению с Гитлером Атилла и Чингисхан были невинными детьми. Ведь Гитлер сам об этом говорил? И не врал. В принципиальных вопросах Гитлер говорил правду. Зачем ему лгать, если у него столько бомбардировщиков?
Скоро нас всех выкурят из нашего муравейника, и я – один из муравьев, преданных муравьиной королеве, обратившейся в бегство.
Подобно тому, как садовник порой не сомневается в своем праве облить муравейник керосином и поджечь, так и эти бомбардировщики не сомневаются в своем праве сровнять с землей нашу страну. И они правы. Происходящее с нами вытекает из того факта, что мы муравьи. Что мы не стремились ни к чему другому, кроме как быть муравьями, и воображали, будто сумеем избежать унижений, связанных с бегством. Но королева сама убежала».
Он отнял руки от лица и посмотрел на террасу, где до сих пор стояли Эрик с Мими.
«Если бы я действительно хотел бежать, – рассуждал он, – я бы уехал вместе с Сиси, и это не было бы стопроцентным бегством, потому что меня к нему никто не вынуждал. Но я не уехал вместе с Сиси, потому что недостаточно ее любил, или она меня не любила, а я любил ее недостаточно, потому что не хотел все здесь бросить. Или она меня не любила, потому что думала: этот мужчина отпускает меня в дорогу одну. Кто теперь разберет?
– Но королева, – сказал черт, – королева, чей портрет висит в каждом зале суда, бежала из страны, и страна вовсе не собирается горделиво погибнуть, а медленно горит и дымится, точно муравейник, ее топчут и топчут, как мышиную нору.
– Но с чего началось предательство? – спросил я. – Кто кого бросил на произвол судьбы: королева тебя или ты королеву, когда зашвырнул Оттлу Линденбаум в кусты и наплевал на правосудие и законность, которые сам и олицетворяешь? Как ты можешь упрекать королеву, если первый нарушил верность?
Ему пришло в голову, что победа, одержанная немцами, стала неминуемым ответом на его преступление, что совершенное им поругание закона стало первым шагом к гибели Нидерландов.
Где же та бомба, которая должна на него упасть? Не доносится ли до него рокот новой волны самолетов?
Нет. До него донеслись всего лишь шаги. Он слышал, как они сначала поднимались по лестнице, потом зазвучали у него за спиной. Альберехт обернулся. И тотчас же встал, и на лице его появилось радостное выражение. Это была Лина.
– Здравствуйте? – сказал она ему с вопросительной интонацией и после этого слова не закрыла рот полностью.
– Здравствуйте, мефрау Лина. Не знаю вашей фамилии, поэтому называю по имени, – сказал повеселевший Альберехт.
– А я хорошо знаю только вашу фамилию, потому что про вас писали в газете.
– Меня зовут Берт.
Она была в том же платье без рукавов, что и три дня назад. Он стоял совсем близко от нее и не мог понять, правильно ли сделал, что, не спросив у нее разрешения, положил ладони на ее соблазнительные руки повыше локтя. Ты знаешь, как и я, что происходит там, на горизонте, и, как и я, не говоришь об этом.
Она улыбнулась и сказала только:
– Тогда давайте сразу перейдем на «ты».
– У тебя такие красивые руки, – сказал Альберехт, – я три дня думал только о том, как бы мне хотелось их обхватить.
– Правда?
Он кивнул и осторожно поцеловал ее в щеку.
– Это хорошо, что ты меня обнимаешь, – сказала Лина, – ведь что нам еще остается. Возможно, завтра нас уже не будет в живых, а возможно, мы погибнем уже через пять минут.
– Подумай, что ты делаешь, – сказал я строго. – Она замужем, и муж ее находится на поле сражения.
Он снял руки с ее плеч.
– Есть ли вести от твоего мужа?
– Ничего не слышно. Но я прекрасно обхожусь и без него.
Она тотчас ушла на террасу.
У Альберехта на полсантиметра отвисла челюсть, но он не знал, что ответить.
На пороге смерти допустить такую оплошность. Он свалял дурака? Но почему? Он почувствовал к ней ненависть, оттого что из-за нее оказался идиотом. Как раз в это время Мими с Эриком заметили появление Лины на террасе.
– Лина, – сказала Мими, – то, что отсюда видно, это просто ужас. Такое впечатление, что на горизонте туда-сюда постоянно ездят горящие поезда.
Альберехт взял себя в руки и тоже вышел на террасу.
– Вы только посмотрите, – сказала Мими, – эти проклятые англичане и не думают нам помогать. Они уже давным-давно должны были разбомбить все большие города в Германии. Знаете, почему они этого не делают? Потому что там заводы, с которых англичане тоже имеют прибыль. Ох, прямо тошнит от них от всех. Вечные капиталистические междусобойчики.
Другие обитатели вилл тоже повылезали на крыши своих домов и смотрели на горизонт в бинокли.
– А как вы относитесь к тому, что наша королева эмигрировала в Англию? – спросила Лина.
– Просто позорище! – воскликнула Мими. – Я называю это изменой.
– А я считаю, что это очень разумное решение, – сказала Лина. – Ведь сами Нидерланды – только небольшая часть Нидерландского королевства.
– Действительно, – сказала Мими, – для международного капитала наши Ост-Индские владения намного важнее.
– Дело не в том. Но вот представьте себе, что Гитлер захватил бы королеву и посадил ее в концлагерь.
– Ну и что? Она тогда могла бы просто отречься от престола. Но не тут-то было. Подумайте о накоплениях нашего премьер-министра. Впавший в детство старик. Все они – прислужники Уолл-стрит.
– Прекратите спорить, голубушки мои, – сказал Эрик, – главное, не ссорьтесь. А мне надо на четверть часика удалиться.
Он притянул к себе Мими за правую руку и эту же руку ей поцеловал. Мими посмотрела ему в глаза, и лицо ее окаменело.
Эрик отпустил ее руку и побежал с террасы в турецкую кофейную комнату. Его шаги вниз по лестнице становились все тише и тише.
Лина не сказала ни слова, и Альберехту в голову тоже не пришло ни единой фразы, которую стоило бы произнести.
Так они и смотрели, стоя рядком, все трое в сторону, где на горизонте все более разгоралось красное сияние, хорошо видное сквозь деревья, на фоне черного дыма. Время от времени до них долетали обрывки разговоров с соседних крыш. И ни единого выстрела. Самолетов тоже больше не было.
Затем они услышали, как Эрик заводит мотор. Потом увидели, как он выезжает из ворот. Матерчатый верх машины был опущен. Эрик помахал им рукой, не оборачиваясь. Похоже, ни на миг не сомневался, что ему смотрят вслед.
– Я вижу, вы убрали свои картины, – сказала Лина.
– Ты заметила? – пробормотала Мими едва различимо.
Но Лину это не остановило, и она продолжала:
– Где вы их припрятали? В каком-нибудь банке, в несгораемом шкафу?
– Нет, в подвале.
– Все банки были в эти дни закрыты, – сказал Альберехт.
– Получился не такой уж большой объем. Гравюр ведь у нас намного больше, чем картин.
– Понятно, и гравюры вы просто вынули из рам и сложили в папку. Да, так они занимают совсем мало места.
– Мы спрятали нашу коллекцию только на второй день после начала войны, – сказала Мими. – Эрик всегда утверждал, что Гитлер на нас не нападет.
– Ты так, конечно, не думала.
– Конечно. Я всегда осознавала, насколько фашизм опасен. А Эрик в меньшей мере.
«Это мои фантазии, – размышлял Альберехт, – или Мими с Линой друг друга терпеть не могут? Или Мими раздражена комментариями Лины по поводу отъезда королевы?»
С тоской он подумал о том, что политическая ангажированность Мими отталкивала его так же, как ее плоская грудь. Но она все равно была такая милая, и преданная, и незлопамятная. Но вот Лина…
Он сказал Лине:
– Если немцы нас оккупируют, что ты будешь делать?
– Меня никогда не волновали политические проблемы. Все будет зависеть от того, как немцы себя поведут. Если не будут меня трогать, то я не собираюсь менять мой жизненный распорядок. Вот Мими с Эриком – другое дело. Они всегда по уши сидели в политике.
– Брата Берта разыскивает гестапо, – сказала Мими.
– Уже теперь?
– В немецком самолете, который сбили четыре дня назад, нашли список людей, которых надо немедленно арестовать, как только фрицы займут страну. И в этом списке есть его брат.
– У тебя брат – политик?
– Нет, – ответил Альберехт, – художник.
Лина никак не отреагировала. Кто хоть раз в жизни слышал про Ренсе? Никто и никогда, даже в том маленьком провинциальном городке, где он жил.
Альберехт кашлянул и пояснил, что и как, хотя его никто не просил.
– Мой брат – приверженец дегенеративного искусства. Даже у нас его живописью восхищается разве что горстка людей. Не понимаю, с какой стати Гитлеру беспокоиться.
– Да нет, все понятно, – сказала Лина, – именно поэтому. Массы испытывают беспокойство, когда искусством восхищается только горстка людей. Успех Гитлера во многих отношениях легко объясним. Твоего брата я, разумеется, не знаю и никогда не видела его картин, но та мазня, которую в наши дни выдают за высокое искусство, большинству людей действует на нервы. И когда кто-нибудь вроде Гитлера такое искусство высмеивает, они испытывают облегчение.
Альберехт ничего не ответил, и Мими тоже промолчала.
– Беда только в том, – продолжала Лина, – что большая часть тех картин, которые людям нравятся, – тоже мазня.
«Эта женщина не жалеет усилий, чтобы показать мне, насколько я ей несимпатичен, – подумал Альберехт. – Но как я должен вести себя с женщиной, у которой такие плечи?»
– В этом-то и состоит беда современной культуры, – заявила Лина, – что наглецы вообразили, будто им принадлежит половина мира. И Гитлер – реакция на такое положение вещей.
– А Гитлеру наглость чужда, – сказала Мими, – вот уж кто совсем не наглый. Скромненько так стучится в дверь, сняв шляпу, и спрашивает, не надо ли нас спасти от коммунистов, масонов и международного сионизма.
– Ты неправильно меня поняла. Наглецы против наглецов. Вдумайся в мой тезис. Ты мыслишь в русле диалектики, а я – парадоксами. Гитлер завоевал массы тем, что стремится к иному, чем все вокруг, делает всё иначе, чем они. Гитлер не выдает мазню масляными красками за искусство, не рассуждает о товариществе, пряча за спиной обнаженный кинжал, как коммунисты. Он пообещал войну и не употребляет слово «мир», когда хочет сказать «война», он говорит «война» – и начинает самую большую войну за всю историю человечества. На свете еще не было политика, у которого бы слово и дело настолько совпадали. Он говорит, что искоренит еврейскую нацию, и сделает это, вот увидите. Он хочет любой ценой завоевать мир и говорит об этом уже двадцать лет. И добивается своего изо всех сил. Это тоже служение идеалу, хотя совсем не сладко оказаться его жертвой. А жертвой оказываются все подряд. Со временем будут даже немцы, вот увидите.
– И он сумеет завоевать весь мир, ты так считаешь? – спросила Мими.
– Трудно сказать, это, конечно, потруднее, чем разбивать окна в еврейских ювелирных магазинах.
Теперь уже даже Мими рассмеялась.
– Берт, у тебя сохранилась та листовка?
Альберехт сунул большой и указательный пальцы в жилетный карман, нащупал оранжевую листовку и развернул.
Держа ее двумя руками прямо перед носом у Лины, словно боясь, что она откажется читать, Альберехт прочитал вслух:
– Помогите нам прогнать тех, кто вам обманывал! Они вам предали и продали лордам-капиталистам, нещадно эксплуатирующим полмира.
– Удивительное дело, – сказала Лина, – ведь это в точности то же самое, что утверждает Мими!
Альберехт опустил руки с листовкой и показался себе таким смешным, что какое-то время не решался положить оранжевый листочек обратно в карман.
– Твой брат тоже считает, что все музеи надо сжечь? – спросила Лина.
Показав рукой в сторону зарева на горизонте, Альберехт ответил:
– Не думаю, что мой брат несет ответственность за этот пожар.
Затем разорвал оранжевую листовку на кусочки.
– Гитлер, – сказала Мими, – не сжег еще ни одного музея, ни одной картины или книги? Как ты можешь такое говорить, когда видишь своими глазами, что происходит?
– Это происходит на любой войне, – сказала Лина, – но я продолжаю утверждать, что если обманщик или дегенерат имеет не меньшую ценность, чем гений, то у западного человека больше не остается норм и мерок, чтобы жить полноценной жизнью. Конец элиты означает конец всего.
– Ты полагаешь, что жизнь дегенерата станет полноценной, если он будет постоянно осознавать свою принадлежность к низшей породе людей по сравнению с элитой?
– Он может испытывать удовлетворение от того, что оказывает услуги элите. Служить кому-то – это тоже призвание и тоже может наполнить человеческую жизнь содержанием. Если убедить слугу, что он ни в чем не уступает хозяину, его жизнь станет невыносимой. В результате он затаит обиду, оттого что вынужден прислуживать другим. Люди на самом деле не могут быть все равны. Всегда будут рыцари и оруженосцы, несмотря на всеобщее избирательное право. Преданный своему рыцарю оруженосец всегда счастливее, чем тот, который чувствует себя обиженным судьбой.
– Но так обожествлять человека, как это делают фашисты, – отвратительно. Служение – дело хорошее и нужное, но служите лучше идее, как это делают коммунисты.
– Восхитительно! По-моему, это сводится к тому же. Кому какая разница, что думает собака, когда подает лапу: служит ли она хозяину или идее. Все, что от нее требуется, – это подавать липу.
– Прости, Лина, – сказала Мими, – но я сейчас не могу продолжать эту дискуссию, я так от нее устала!
– Что же ты раньше не сказала, дорогуша! Я могу для тебя что-нибудь сделать?
– Нет.
– Тогда я пошла. Пока!
Лишь в последний момент, уже уйдя с крыши и ступив в полутемное чердачное пространство, она посмотрела в сторону Альберехта и помахала ему, словно хотела сказать: «Я чуть не забыла с тобой попрощаться, но если бы забыла, тоже бы не расстроилась».
Он все еще стоял с обрывками листовки в руке, так как не хотел бросать их на пол, но и не знал, куда девать. В итоге сунул обратно в карман, где лежала вторая бумажка – с приметами Оттлы Линденбаум. Хотел сделать какое-нибудь замечание насчет Лины, чтобы утешить Мими, но не произнес ни слова, и только сердце его билось в груди.
– Как это банально, – сказала Мими.
Как бывает, когда огонь горит под чайником, долгое время кажется, что ничего не происходит или почти ничего…
Огонь горит… жар распространяется во все стороны… но последствий не заметно…
И вдруг на чайнике начинает прыгать крышка, вверх-вниз. Из-под нее с шипением вырывается белый пар. Вода закипела.
Как только вода закипела, начинается некая активность. Служанка приходит в волнение. Вода закипела! Вода закипела! Служанка бежит к плите с заварочным чайником.
Точно так же как при горении огня под чайником, в котором закипает вода, сейчас казалось, что огонь на горизонте, бушевавший в Роттердаме, довел войну в Нидерландах, до сих пор только понемножку шипевшую, до температуры закипания.
Я сидел на плече у своего подопечного и чувствовал, что настает время, когда моя помощь будет нужна ему ежеминутно, хотя он не будет звать и просить. И весь напрягся, чтобы не терять бдительность или, точнее сказать, не позволять себе погружаться в более благочестивые размышления, чем те, повод для которых дают дела земные и проделки черта.
Пожар, полыхающий так далеко, – не такое уж интересное зрелище, хотя это был самый грандиозный пожар, когда-либо бушевавший в Нидерландах.
Они все стояли у балюстрады, смотрели в разные стороны и видели в основном людей, стоящих на других крышах, таких же растерявшихся, как они, не знающих, что и думать. Изменения были заметны только на дороге. Обычно пустынная, сейчас дорога была запружена машинами, велосипедами и даже пешеходами. Все двигались в сторону Роттердама.
– Прямо тошно смотреть, – сказала Мими, – как люди спешат, чтобы поглазеть на пожар. И чего им не сидится дома?
Но и в противоположную сторону движение тоже становилось все более интенсивным. Ехали машины, навьюченные всевозможным скарбом: постельные принадлежности привязаны веревками к крыше, стиральные машины торчат из багажника сзади, кастрюли прикручены к капоту, а у некоторых еще и птичья клетка. Были даже запряженные лошадьми повозки, в которых сидело по много человек.
– Эти не спешат смотреть на пожар. Эти уже насмотрелись, – сказал Альберехт.
– Но только подумайте, – сказала Мими, – если вообще все выйдут на улицу, это же будет полный финиш. Все на свете перепутается, наступит хаос. Отчего это люди так поглупели?
Мужчины, женщины, дети. Некоторые шли пешком и вели за руль велосипеды, увешанными тюками, торчавшими во все стороны.
– Неужели никто не может их остановить? – воскликнула Мими. – Ведь могут вернуться бомбардировщики и они все погибнут.
Альберехт пожал плечами.
Затем Мими сказала:
– Ерунда какая-то. Такая маленькая страна – и пытается воевать. Всем европейским странам надо было вовремя объединиться и уничтожить Гитлера, а теперь уже поздно. Лучше бы мы сдались без единого выстрела датчанам.
Альберехт с Мими одновременно увидели, как по дороге приближается красный «дюзенберг» Эрика. Казалось, что машина прокладывает путь среди людской массы, подобно колесному пароходу в Саргассовом море. Эрик ехал в машине не один. Матерчатый верх был откинут, рядом с ним сидела Герланд. Альберехт принялся ей махать, но она не ответила.
В полшестого машина Эрика въехала в ворота. У Герланд на голове был повязан светло-зеленый шарф, конец которого развевался как сигнальный флажок. Эрик доехал до края газона и остановился там, а не вблизи от дома. Он выпрямился, насколько это было возможно. Наклонясь немного вперед, приложил ладони рупором ко рту и крикнул:
– Мими! Спускайся! Мими! Запри за собой все двери!
– Что он имеет в виду?
– Эрик, как всегда, неугомонный, – сказала Мими. – Если он меня зовет, чтобы ехать смотреть на пожар, то я не сдвинусь с места.
– Не зря Эрик кричит, – шепнул я Альберехту, и тот сказал:
– Сделай так, как говорит Эрик. Видимо, что-то произошло.
Тем временем Эрик подъехал ближе к двери дома. Альберехт перегнулся через балюстраду и крикнул вниз:
– Сейчас идем!
Эрик с Герланд уже вышли из машины.
– Мими! – крикнула Герланд. – Война окончена! Мы капитулировали!
Альберехт посмотрел туда, где только что стояла Мими, но ее на крыше уже не было. Капитулировали?
– Мими!
По-видимому, Мими уже спустилась вниз и не слышала его. Значит, обязанность запереть двери легла теперь на его плечи? Вообще-то он не слишком хорошо знает, как закрываются все эти двери… Но если надо, то он готов… Капитулировали? На ходу взял со стула свою шляпу. Нет, прежде надо выяснить, что Эрик собирается делать.
Ноги у него подкашивались, когда он спускался по лестнице, шел через гостиную, и, выходя из распахивающихся дверей в сад, он думал: «Понятия не имею, как они запираются». Он никогда раньше не слышал, как шумно ступают его ноги по гравию.
Эрик все еще стоял рядом с машиной, у передней дверцы, с Герланд и Мими.
Мими обернулась к Альберехту; она плакала.
– Берт, армия сдалась. Нам конец. Мы разбиты.
– Не может быть!
Он подошел к ним ближе.
– Так и есть, Берт, – сказал Эрик, – но мое решение непоколебимо. Мы отправляемся в Англию.
Альберехт посмотрел сначала на Мими, затем на Герланд. «Мы, – подумал он, – кто мы? Кого он имеет в виду?» Из левого глаза Герланд выкатилась большая слеза, совсем как у Греты Гарбо в заключительной сцене фильма «Королева Кристина».
– У Герланд есть дядя, а у дяди в порту Хук-ван-Холланд есть катер, – сказал Эрик, – он нас переправит. Но промедление смерти подобно.
– И меня тоже? – спросил Альберехт, и ему показалось, что его слова пролетели по воздуху сантиметров десять и обратились в пар.
Но до Эрика они, похоже, долетели.
– Разумеется, – сказал он, – и тебя, и Ренсе, нас всех.
– Все на свете происходит в положенное время, – прошептал я моему подопечному. – Ты уже много дней не отрывал листки календаря. А то знал бы, что написано на сегодняшней страничке: человек предполагает, а Бог располагает. Положись на Господа Бога. Ты уже не рассчитывал оказаться в Англии, а тут видишь какая штука, окажешься там, возможно, завтра.
Положись на Господа Бога? Слово «Бог» вообще уже не проникало в его сознание. О Боге он совсем не думал. «Случайность, – подумал он. – Даже если бы я изначально и пальцем не пошевелил и ни одной извилины не напряг, мои шансы попасть в Англию были бы точно такими же, как теперь, ни на миллиметр меньше. Так чего ради я мучился?»
– Мне еще надо взять кое-что из дома, – сказал Эрик, – и сразу отправляемся.
Он пошел вместе с Мими к двери.
Альберехт остался стоять, руки в карманах, напротив Герланд, вытиравшей платком глаза. Интересно, она тоже собирается в Англию? Или доедет только до Хук-ван-Холланда, чтобы договориться с дядей о переправе? Эрик… Неужели у Эрика хватит духа бежать и с женой, и с любовницей, и хочет ли этого Мими?
В этот миг он более чем когда-либо раньше, почувствовал себя полным ничтожеством по сравнению с Эриком. Герланд убрала платок в сумочку и принялась пудрить носик очень белой пудрой. Бабочка, к которой нельзя прикасаться. А Эрик не побоялся. При этой мысли Альберехт засмущался.
Чтобы сказать хоть что-то, спросил:
– А давно уже известно, что мы капитулировали?
– Точно не знаю.
– И сдаться решили из-за бомбежки Роттердама?
– Они грозились разбомбить и Утрехт, и Гаагу, и Амстердам.
Герланд закрыла пудреницу, но глаза опять наполнились слезами.
– Эрик, когда пришел ко мне, сразу включил радио, и тогда мы услышали это известие. Сдаются все армейские части, кроме расположенных в Зеландии. Про Зеландию диктор отдельно повторил по-немецки, с голландским акцентом. Ausgenommen die Truppen in Seeland.[42]
Рука Альберехта играла в кармане с серебряной коробочкой.
– А у меня радио было выключено, – сказал Альберехт, – поэтому я ни о чем не знал. Хотя у меня есть радио в машине.
Он махнул рукой в сторону своего маленького «рено», стоявшего под сливой; сейчас, когда солнце было уже низко, колеса казались еще желтее, чем днем.
– Сидеть в машине и слушать лично мною составленные новости, – сказал черт. – Отличная мысль! Эрик отправится в Англию с Мими – ведь она, в конце концов, его жена, – а ты останешься здесь с Герланд?
– Все эти радио в машинах обычно не работают, – сказал Альберехт.
– Дайте мне, пожалуйста, закурить! – попросила Герланд.
Он вынул из кармана коробочку с пастилками.
– К сожалению, я не курю.
Открыл коробочку и протянул Герланд. Она грустно улыбнулась и покачала головой. Он сунул мятную пастилку в рот.
Закрываемые окна тихонько постукивали рамами и позвякивали стеклами. Альберехт обернулся и посмотрел на освещенный боковым солнцем фасад дома. Все окна на нем пришли в движение. Одно за другим они отбрасывали на кроны деревьев по солнечному блику и потом затворялись.
Вскоре Мими с Эриком вышли на улицу.
У Мими в руках была высоченная стопка бумаг, а Эрик нес чемоданчик. Мими сразу направилась к машине, а Эрик поставил чемоданчик у двери и вставил ключ в замок. Между тем Мими открыла круглую крышку багажника и положила туда бумаги. Затем снова захлопнула крышку, выпрямилась, подошла на два шага к Альберехту с Герланд, но ничего не сказала.
Так они втроем и стояли у края большого, идеально подстриженного газона. Солнце опустилось еще ниже, и поскольку деревья ему не мешали, протянуло от стоящих рядом с машиной людей тени – необыкновенно длинные, ведь эти тени падали на эту землю в последний раз. Эрик тоже подошел к машине, бросил в нее чемоданчик и протянул Альберехту связку ключей.
– Будь добр, отнеси ключи Лине.
– И что ей сказать?
– Ничего не говори… скажи, пусть ключи пока будут у нее. А я уже поеду, так лучше всего, Герланд будет показывать мне дорогу в Хук-ванн-Холланд. А вы с Мими поезжайте за нами. Только не теряйте меня из виду.
Альберехт взял связку ключей и рысцой побежал к воротам. Его захлестнуло волной звуков на дороге, по которой двигались сотни и сотни людей. Какие только мысли не пронеслись у него в голове. Он подумал об Оттле Линденбаум. «Ах ты, Веверка. Спи сладко, деточка. Будь у меня время тебя похоронить, я бы это сделал. Но если ты останешься лежать там, где лежишь, то это совершенно не играет роли».
Он перешел через дорогу, миновав громко звонящих в звонки велосипедистов, и вошел в сад у Лининого дома. «Я вхожу в этот сад в первый и последний раз в жизни», – подумал он.
– Почему же в последний? – сказал черт. – Что тебе мешает остаться? Ты все равно никогда уже не будешь счастлив с Сиси, даже если найдешь ее там, в Америке. Таких женщин, как Лина, не вдруг найдешь, и муж ее уже погиб, я об этом позаботился.
– Он врет, – сказал я, – он, как всегда, врет. Не слушай его, неблагодарный. Мне наконец-то почти удалось отправить тебя в Англию, Господь внял твоей молитве, а ты вдруг вздумал слушать черта? Отдай ключи и отправляйся в Англию воевать за свою родину.
Он дошел до двери Лининого дома и позвонил. Плющ так густо увивал вход в дом, что осталась свободна только покрашенная белой краской дверь.
Он слышал, как в доме прозвенел звонок, но дверь никто не открыл. Что делать? Просто бросить ключи в почтовый ящик? Лина и так поймет, что это за ключи, может быть, через несколько дней, но это же неважно. А если не поймет, что с того? Ей объяснит служанка Мими. Не исключено, что уже завтра этот дом сгорит, вообще все дома сгорят. Зачем терять время?
«Так, все понятно, – сказал он себе. – Пусть во всей стране бушуют пожары, я не должен поддаваться хаосу. Бросить ключи в почтовый ящик – это капитуляция перед сумятицей, не этому меня учили в детстве… Ах, в Бога душу мать, все наоборот, я всегда сопротивлялся кавардаку именно потому, что у меня такая сумбурная мать». Альберехт нажал на ручку двери, и дверь открылась. Он вошел в дом и снял шляпу.
В холле было довольно темно. Фрисские часы с маятником, которых он не видел, но узнал по звуку, отсчитывали молоточками секунды. Секунды, казавшиеся минутами.
– Лина!
В комнатах, куда он заглядывал, проходя мимо, тоже было темно. Потолки с тяжелыми балками, мебель из темного дуба, подоконники, уставленные комнатными растениями, загораживавшими свет.
– Лина!
Лины нигде не было. Надо посмотреть на верхнем этаже. Альберехт начал подниматься по лестнице, покрытой таким толстым персидским ковром, что он топорщился бугром на ступеньках. Тиканье часов словно подгоняло его. В тот момент, когда его голова оказалась вровень с полом верхнего этажа, неожиданно возникла Лина, явно вышедшая из ванной комнаты, окутанная облаком пара. В ярко-желтом халате, который она придерживала локтем на животе. Лучше всего он видел ее босые ноги, что шли к нему и остановились в метре от его рта. Ногти на ногах были покрыты красным лаком. Он заметил, что на руках у нее тоже появился красный маникюр. Она явно покрасила ногти только что, потому что днем Альберехт ничего подобного не заметил.
Все эти мысли пронеслись в голове, пока он поднимался по последним ступенькам лестницы и в конце концов оказался на одном с Линой уровне. Поднял вверх ключи, которые все это время держал в правой руке, и сказал:
– Эрик попросил меня передать тебе ключи от их дома. Мы попытаемся добраться до Англии.
Лина ничего не ответила, только смотрела широко открытыми глазами.
– Ты ведь знаешь, – сказал Альберехт, – что наша армия капитулировала? Все кончено. Мы проиграли войну. Эрик с Мими уезжают.
– Проиграли войну? Но это же не навсегда. Войну проиграли, но остались живы.
– Ты согласна держать у себя ключи? А делать ничего не надо. Мы уезжаем.
– Мы – это кто? Ты тоже едешь?
Она приложила к халату на животе левую руку, чтобы правую протянуть за ключами.
Он кивнул, заметил, что от обиды и злости у нее на глаза навернулись слезы, и отдал ей ключи.
Принимая ключи, она одновременно схватила его за руку и притянула к себе. Обняла обеими руками и поцеловала в губы. Он не понимал, что происходит, и отчетливее всего чувствовал прикосновение теплого металла к шее сзади.
«Я тебе все-таки нравлюсь?» – чуть не спросил он. Но одумался. Промолчал. Надеясь, что его мысль передастся ей прямиком через соприкосновение их языков. С трудом проглотил мятную пастилку. Ее халат наполовину распахнулся, полы были зажаты между их телами. Он положил правую руку на ее голое бедро и провел по телу вверх, до спины. В левой руке он держал шляпу и потому не мог ее использовать. Но Лина вдруг отпустила его и отступила на шаг. Купальный халат распахнулся, и он увидел всё: ее груди, более белые, чем шея и верхняя часть туловища, ее глубоко спрятанный пупок, светлые волосы на лобке и благородные бедра.
– Уходи скорее, – сказала она, – а то они уедут без тебя.
Потом повернулась к нему спиной, побежала обратно в ванную комнату, халат при этом взметнулся вверх, но не очень высоко. Дверь за ней захлопнулась с громким стуком.
Сколько разных смыслов могло скрываться в этом стуке! Он мог означать гнев, огорчение, отчаяние.
Все эти варианты пронеслись, тесня друг друга, в голове у Альберехта.
Гнев: она разгневана, потому что он не сказал «никуда я не поеду, останусь с тобой».
Огорчение, потому что выяснилось, что их недавняя антипатия была недоразумением. Ах, если бы она при встрече несколько часов назад была с ним поприветливее, когда он – она-то знать ни о чем не знала – еще не принял решения уехать вместе с Эриком и Мими!
Отчаяние: ну а как она себе это представляла? Что он изменит свое решение, оттого что она разок распахнула халат? Что он подбежит к окну и крикнет Эрику с Мими: вы езжайте, а я остаюсь?
Когда он дошел до холла, я ему шепнул:
– Безумец! Это плохая женщина. Она тебя презирает и лишь на мгновение забыла о стыдливости, чтобы ты теперь кусал себе локти при мысли об упущенной возможности, а не потому, что тебя любит.
– Безумец! – язвительно повторил мое слово черт. – Правильно сказано! Сейчас ты выйдешь на улицу и увидишь, что Эрик с Мими и Герланд уехали, уж и след простыл. Они наверняка рассчитывали, что ты останешься у Лины. Они ее знают давным-давно. Иначе почему Эрик не отнес ключи сам?
Альберехт разжевал мятную пастилку и закрыл за собой дверь. Эрик уже выехал на проезжую часть, но машина стояла в бесконечном заторе. Герланд сидела на сиденье рядом с водительским креслом и курила. Мими ждала Альберехта около машины под сливой. Он побежал к ней бегом, а черт тем временем шептал ему ужасные вещи:
– Все, пути назад нет… Мими рассчитывает на тебя. Ты спасешь ее от позора, потому что Эрик едет в машине с Герланд. А ты ведь предпочел бы остаться с Линой, не правда ли? Это многообещающая женщина. Что может быть слаще, чем любовь в атмосфере трагедии и катастрофы? Можно ли вообразить более благоприятную для повышения потенции обстановку, чем эта изумительная нагая солнцепоклонница на большой кровати в темной вилле… Весенняя ночь… В открытое окно дышит ароматом зеленая листва. Воздух вот-вот станет знойным… Полстраны объято пламенем. Кровь струится в жилах, кровь течет по мостовой… Возможно, немцы уже начали резню. Люди в отчаянии устремляются к морю, надеясь на спасение. А ты… Ты остался с Линой в доме, увитом плющом… Вот-вот засвищут соловьи…
Но нет. Кто тебя ждет? Неумолимо? Твоя бывшая невеста. Женщина, с которой ты уже десять лет назад не мог быть счастлив…
Ничего не поделаешь. Ты слишком слабохарактерный, чтобы послать ее в болото.
Войдя в сад, Альберехт еще раз обернулся: стоит ли Эрик на том же месте, сидит ли рядом с ним Герланд? Или они под шумок смылись?
Машина Эрика стояла все там же.
Альберехт настолько приблизился к Мими, что мог у нее спросить:
– Ты меня уже заждалась?
– Нет. Что сказала Лина?
Альберехт сбавил шаг.
– Согласилась взять ключи на хранение. Ни о чем не расспрашивала.
– Отлично.
– Кстати, что она за человек?
– Эрик всегда говорит: отличная бабенка для начинающих.
Мими обошла машину, открыла правую дверцу и села.
Альберехт бросил шляпу на заднее сиденье.
– Надо спешить изо всех сил. На дороге такой хаос, что до Хук-ван-Холланда мы можем ехать три часа.
Заводя мотор, Альберех увидел, что Эрик обернулся, после чего «дюзенберг» тронулся с места.
– Может быть, тебе надо заехать к себе домой за чем-нибудь важным? – спросила Мими. – За одеждой или, там, зубной щеткой?
– Думаешь, на это есть время?
– Я прихватила для тебя лишнюю зубную щетку, надо спешить. С мамой ты ведь попрощался, да?
Он кивнул.
– Я бы тоже хотела сказать ей до свиданья, но разумнее не рисковать, а то совсем застрянем в пробке.
Пробкой обстановку на дороге назвать было еще нельзя, это была медленно-медленно движущаяся колонна. Они ползли следом за Эриком. Нет, Эрик явно не намеревался смыться с Герланд, оставив Альберехта с Мими. Ох уж этот Эрик. Мы неизменно заблуждаемся, давая оценку ближним. А вдруг Эрик воображает, что мы с Мими станем счастливы, если он исчезнет из нашей жизни? А вдруг Эрик так и не поверил, что Альберехт уступил ему Мими целиком и полностью?
Ничто не указывало на то, что в голове у Эрика хоть на миг всплывали те мысли, которые ему в своих фантазиях приписывал Альберехт. Красный багажник «дюзенберга» постоянно оставался на одном и том же расстоянии от них с Мими. Если Альберехту ненадолго приходилось снизить скорость из-за какого-нибудь велосипедиста или пешехода, Эрик тоже явно притормаживал. Герланд сидела рядом с ним вполоборота, перекинув левую руку через спинку сиденья. Время от времени она смотрела на Альберехта с Мими и улыбалась им, как бы подбадривая.
Мими спросила:
– Что ты собираешься сделать с машиной?
– В каком смысле?
– Взять машину с собой невозможно.
– Аа, да, действительно.
– Значит, у нас есть две машины, чтобы расплатиться за переправу.
– Елки-палки, а мне такое и в голову не пришло.
– Даже когда ты носился по всему городу в поисках денег?
– Я не рожден для приключений.
Он с глубоким вздохом сел поудобнее и сказал:
– А для чего рожден – большая загадка.
Какой ужас, вот так сесть в лужу, даже если свидетельница – одна Мими.
– Впрочем, – сказал он, – не факт, что машины еще чего-то стоят. Бензина скоро будет не купить, и вообще немцы наверняка их конфискуют.
Наконец-то разумная мысль, свидетельствующая о его дальновидности.
– Нидерландские бумажные деньги тоже вот-вот обесценятся, – ответила Мими.
Несмотря на то что двигались они со скоростью велосипеда, Альберехту приходилось пристально следить за дорогой уже только для того, чтобы не упустить из виду Эрика и не задержать всю их компанию. Но мысли ему не повиновались и все время отвлекались от езды.
Им овладело глубокое уныние. Улыбка Герланд в обрамлении зеленого шелкового шарфика навеивала ему видение лилии на могиле. Ободряющую улыбку легко можно принять за недостаток сочувствия твоим трудностям. Ей легко улыбаться, несмотря на все огорчения. Восемнадцать лет, нечего терять, вместе с Эриком навстречу приключениям, все предшественницы далеко позади.
Наконец-то они доехали до города; затор стал еще плотнее. Трамваи двигались со скоростью черепахи и непрерывно звонили. На кинотеатре по-прежнему висела афиша «С СОБОЙ НЕ УНЕСЕШЬ». Но на улице, где жил Ренсе, машин почти не было. Зато двери домов были открыты, и обитатели толпились на тротуарах, обсуждая происходящее.
– Я не вижу его «форда», – сказала Мими.
Эрик остановился у тротуара перед домом Ренсе, Альберехт прямо за ним. Оба вышли из машины, почти одновременно.
Альберехт спросил:
– Как мы поступим?
– Иди поговори с ним, – ответил Эрик. – Ты же его брат. Если кто-то способен его убедить, то это ты.
– При условии, что он будет меня слушать.
Преодолевая неохоту, которую я подметил в нем, к своему глубокому огорчению, прокручивая в голове мысли вроде: «Дай-то Бог, чтобы Паулы не было дома и Ренсе поехал с нами один», Альберехт позвонил в дверь их квартиры. Услышал, как залаяли собаки. Поскольку «форда» не было на месте, имелась некоторая вероятность, что Паула с Ренсе куда-то уехали вместе. Как знать. Обычно за руль садилась Паула. У Ренсе были права, но он не любил водить машину. Для этого он слишком часто и много закладывал за воротник. Паула почти всегда возила его на работу в школу и из школы, хотя в дневное время он страдал только от похмелья.
Но вот щелкнул замок, Альберехт открыл дверь и, продолжая держаться за ручку, поднял глаза. Наверху лестницы увидел Паулу.
Паула уже поняла, что это он.
– Ренсе нет дома!
– А где он?
– Куда-то уехал. Куда – не знаю.
– И когда вернется?
– Тоже не знаю.
– Где его искать?
– Понятия не имею. Подожди, я к тебе спущусь.
– Нет, лучше я к тебе поднимусь.
Но Паула уже бежала вниз по лестнице, деревянные перила скрипели под ее ладонями.
Если он закроет за собой дверь, они окажутся в полутьме, а он этого не хотел. Но разговаривать о том, о чем они разговаривали, при открытой двери, тоже ему претило. Так что же делать? Убедить Паулу подняться наверх?
– По-моему…
Продолжая стоять у открытой двери, поставил ногу на нижнюю ступеньку.
Паула не дала ему закончить фразу. Если уж она решила спуститься, то скорее рухнет ему на голову, чем повернет обратно.
– Я понимаю, зачем ты пришел. Но ничего не выйдет, слышишь? Если немцам так надо, то пусть упекут его в каталажку. Но не понимаю за что, он же ничего плохого не сделал.
– Паула, для них это не играет никакой роли. Они отправят его в концлагерь без малейшего разбирательства. Там его укокошат или уморят голодом.
– А как же я? Если он поедет с вами, что будет со мной? Если я умру с голода, то до этого никому нет дела?
– Чушь. Разумеется, ты тоже поедешь.
– А как быть с собаками?
– Поручить их соседям.
– А на какие шиши мы будем в Англии жить?
– Поживем – увидим.
– Ренсе придется пойти в армию, ты это хочешь сказать? Но послушай, Берт, мы так рады, что хотя бы у нас тут эта чертова война закончилась. Мы остаемся. И не дожидайся Ренсе. Не пытайся уговорить. Он не еврей. И давно уже не коммунист. Ему нечего бояться.
Во время большей части разговора она стояла на пятой или шестой ступеньке, но произнося последнюю тираду, шаг за шагом снова стала спускаться и закончила фразу, находясь уже внизу, рядом с Альберехтом. Паула взялась рукой за край двери, и Альберехт почувствовал, что если будет сопротивляться, то она просто сметет его, закрыв дверь.
– Паула, – сказал он, – не знаю, что еще тебе сказать. Пусть у вас все будет хорошо. Я вас предупредил. Хотел помочь, но если вам этого не надо, то поступайте, как знаете. Всего доброго. До свидания.
– До свидания, Берт. Я знаю, ты хотел, как лучше. Но что есть, то есть. Счастливого пути.
И она действительно начала закрывать дверь.
– Не хочешь попрощаться с Эриком и Мими?
– Нет, мне не до этого.
Но внезапно она отняла руку от двери, обхватила его за шею и пылко поцеловала, еще чуть-чуть – и поцелуй пришелся бы в губы.
– Ах, Берт, – воскликнула она, всхлипывая, – это все неправда. Я так хочу поехать с вами. Я так об этом мечтала. Но Ренсе не уговорить. О, Берт!
Ее очки уткнулись ему в висок, и несколько волосков зацепились за винтик у основания дужки. Альберехт почувствовал боль от вырываемых волосков, когда Паула выпустила его из объятий.
– Привет, ребята! – крикнула она в сторону машины через плечо Альберехта, – счастливого пути! Всего вам доброго! Давайте уже, отправляйтесь!
Наверху показались собаки и кубарем бросились вниз по лестнице.
Альберехт сделал шаг назад, и Паула захлопнула дверь. «Ох, Паула», – пробормотал он. Было слышно, как она плачет с той стороны от двери. Его сердце стучало чуть быстрее обычного, но не столько от возбуждения, сколько от досады.
Обернувшись, он увидел, что Эрик поднял матерчатый верх машины. Теперь красный «дюзенберг» казался еще более огромным, чем был на самом деле. Перед ним, немного сбоку, стояли двое мальчишек.
– «Дюзенберг», – сказал один из них и ткнул пальцем в капот, – это фрицы такие делают.
– Ничего подобного! Машина американская! – крикнула Герланд.
– Но номер нидерландский, – сказал второй мальчишка.
Боковые окошки были открыты, как Эрик, так и Герланд смотрели на Альберехта с выжидательным выражением. Альберехт уловил доносившийся со стороны города негромкий, но отчетливый гул.
Он подошел к машине, сунул голову под матерчатый верх и сказал:
– Ренсе нет дома, а Паула говорит, что они не поедут. Простите, что заставил вас ждать.
– А когда Ренсе вернется?
– Не сказала, но все уже решено.
– У нас еще есть время? – спросил Эрик у Герланд.
– Я не могу позвонить дяде. Четкой договоренности у нас нет. Если мы закопаемся, он может уплыть без нас.
– Вот видишь, – сказал Эрик.
– Конечно. В любом случае вариантов нет. Не будем ждать. Поехали.
Альберехт вернулся к своей машине.
– Это не фрицы, – сказал первый мальчишка. – Говорят по-голландски.
Выруливая следом за Эриком, Альберехт осознал, что они уезжают из города.
– Ты очень расстраиваешься, что Ренсе с нами не едет? – спросила Мими.
– Я бы с удовольствием уступил ему свое место, если бы от этого был прок, но он с самого начала сказал, что никуда не поедет, и его не переубедить.
– Твой младший братишка… Ты же не виноват, что он так и не повзрослел.
– Я абсолютно уверен, что он все равно не поехал бы, даже если бы был дома. Паула с самого начала хотела в Англию, а он нет.
При этих словах он на миг взглянул на Мими.
– Пауле нелегко, – сказала Мими, – он всегда под мухой, а ей приходится обо всем думать.
– Честно сказать, я плохо себе представляю, что было бы, если бы они присоединились к нам оба. А что Ренсе поедет один, я с самого начала не верил. Но мне все равно тяжело, потому что он в еще более опасном положении, чем я.
– Ты в опасном положении? Но ты же хочешь в Англию из-за Сиси? Так ведь?
– Да. Но кто его знает, немцы запросто надумают мстить нидерландскому правосудию, за то что мы посадили многих их приспешников.
– Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но Ренсе должен думать своей головой.
– Ладно тебе.
Именно такие заявления Мими всегда его раздражали. Очередное само собой разумеющееся умозаключение: взрослый человек должен думать своей головой. Есть ли на свете хоть один дурак, который станет возражать? При том что в глубине души все знают, что на практике из этого ничего не получается.
Мими, явно раззадоренная неодобрительной репликой Альберехта, стремясь, видимо, сгладить углы, пустилась в длинные рассуждения о Ренсе и его искусстве.
Ренсе, говорила она, это действительно большой художник. За ним будущее. Ренсе не блефует, когда говорит, что его синие и розовые творения опережают время на пятнадцать лет! Рано или поздно он достигнет признания как провозвестник искусства, доступного всем и каждому. Покрыть кусок холста ровным слоем синей или розовой краски – это может любой, согласна. Но в этом-то и суть. Ренсе совершил открытие. Если заниматься живописью в том же русле, в каком ею занимается Ренсе, под силу каждому человеку, то, значит, это и есть истинное искусство для всего человечества. Потому что гениев на свете мало, гений – это, наверное, отвратительная ошибка природы, хотя, может быть, и нет, может быть, это уродливый продукт капиталистического общества. Поклонение гениям – в большинстве своем жалких бедолаг – уходит в прошлое вместе с верой в магию. Взять хотя бы такого омерзительного фашиста, как Сальвадор Дали. Мастер саморекламы: «Я гений! Я гений!» Гений? Хвастливый фашист!
Поклонение гениям – это пережиток феодализма. С какой стати наделять их особыми правами? Считать, что они и только они причастны к художественной истине в последней инстанции. Это приводит к подавлению и унижению широких масс!
– Но о каком будущем ты говоришь, Мими? В Германии таких художников, как Ренсе, отправляют в концлагеря, а в России художники, не умеющие правдиво написать маслом трактор и сеялку, немедленно попадают в психлечебницу.
Нет, Альберехт ничего не понимает. Гитлер – одна из последних конвульсий капитализма. А что в капиталистическом обществе служит важнейшим критерием, по которому оценивается художник? Его умение творить банкноты! Voilà c'est tout! А что касается художественных идеалов в России, не забывай, что сначала надо построить социалистическое общество, и только потом можно будет перейти к коммунизму. И лишь после этого, при коммунизме, такого художника, как Ренсе, оценят по достоинству: как великого первооткрывателя. А капиталисты не признают его[43]никогда.
Во время этого монолога Альберехт не отрывал глаз от велосипедистов, пешеходов и красного «дюзенберга». Сверкающий хромированный багажник. Белый откидной верх со слюдяным окошечком. Выхлопная система с четырьмя хромированными трубами, одно крыло с номерным знаком Н 8667, на втором крыле овальная табличка с буквами NL. Время от времени им кричали вслед, но, как правило, другие участники движения торопливо освобождали дорогу, и в их движениях либо сквозил страх, либо выражалось великодушие с оттенком презрения.
– Унижать народ тем, что заставлять их глазеть в музеях на запатентованные произведения искусства, – сказала Мими, – постоянно тыкать людей носом во все то, чего они не умеют. Музеи существуют для этого. Так людские массы остаются бессловесными, а тирании только того и надо.
Время от времени Альберехт что-то отвечал, но внезапно Мими умолкла сама по себе. Они ехали по дороге на Хук-ван-Холланд. Солнце только что село. Небо выглядело так, как будто солнце закатилось за горизонт в двух местах: на западе, как обычно, и на юге, где находился Роттердам.
Почему у Эрика включились стоп-сигналы, и почему он вдруг выставил указатель поворота направо? Альберехту не оставалось ничего другого, как тоже затормозить и выставить указатель поворота. Он вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть, где они едут. У поворота на боковую дорогу, куда явно собирался свернуть Эрик, Альберехт увидел огненно-красный почтовый ящик на бетонном электрическом столбе. Напротив столба с ящиком на отдельном столбике красовался синий знак с белой стрелкой, указывающей вертикально вверх. Дорога с односторонним движением. Дорога, на которую можно заезжать только с этой стороны. Марельский проезд.
Я почувствовал, как задрожали руки Альберехта, сжимавшие руль, пока он делал поворот. Правое переднее колесо заехало на поросшую травой обочину.
– Что ты делаешь? – спросила Мими.
– Поворачиваю направо, как и Эрик, – выдавил из себя Альберехт.
Я опустился ему на плечо, у правого уха, так что оказался между ним и Мими.
– Сохраняй спокойствие, – внушал я ему, – не подавай виду что знаешь это место.
Они ехали на медленной скорости по выпуклой мостовой из коричневых кирпичей, между которыми рос мох.
– Что это Эрик задумал?
– Хочет проведать Лейковича, – сказала Мими. – Если у них много багажа, то удачно, что мы на двух машинах. Если они захотят с нами поехать.
– А где Лейкович живет?
– Уже близко. Берт, только представь себе, каково этим людям: обоим за шестьдесят, а они уже в четвертый раз вынуждены сломя голову срываться с насиженного места.
Машина Эрика, ехавшая очень медленно, прижималась как можно ближе к правой стороне, но все равно занимала больше половины дороги.
– Да, – сказал Альберехт голосом, который, казалось, едва пробивался наружу, из-за того что внутри Альберехта заклинило какую-то дверь, – я все время думал о Ренсе, но Лейковичу с женой уж точно надо отсюда сваливать.
Теперь Эрик совсем остановился, и Альберехт за ним. Правая дверца «дюзенберга» открылась, Герланд ступила на траву и пошла по узкой тропинке.
– Где же они живут? – спросил Альберехт. – Я не вижу ни одного дома.
Справа от машины Альберехта действительно не было видно ничего, кроме густых кустов, росших настолько близко к дороге, что сидя в машине из окна можно было подергать за веточку.
– Чудесный кирпичный домик, – сказала Мими, – мы его сами для них нашли.
Эрик подошел к левой дверце и сказал:
– Я послал Герланд, чтобы они успели немного подготовиться. Думаю, нам лучше не заявляться к ним всем вместе. Особенно его жена всегда так нервничает, даже если ничего особенного не происходит. Но в жизни людей, которых отовсюду гонят, постоянно происходит что-то особенное.
– Эрик, – сказала Мими, – а как же девочка?
– Девочка? В каком смысле?
– Не притворяйся, будто не понимаешь. Они ведь и слышать не захотят об отъезде, пока она не нашлась. Абсолютно точно.
– Вот сейчас пойди и объясни им, что, даже если они останутся, найти ее нет ни малейшей надежды.
– Но Алевейн Ленман сказал, что ее, возможно, задержала нидерландская полиция и не выпускает, потому что она плохо говорит по-голландски и не хочет рассказывать, где живет, чтобы не выдать Лейковичей.
– Снова эта байка. Спроси у Берта. Берт, приводил ли кто-нибудь в полицию маленькую девочку без родителей?
– Я старался разузнать, но результат был отрицательный. Полностью исключить такую возможность нельзя, но я ничего не выяснил. А они подавали заявление о том, что она пропала?
– Мы же с тобой обсуждали, и ты сказал, что лучше этого не делать.
– Эрик, я не волшебник, клянусь, что даже если встану на уши, без помощи полиции не смогу сделать так, чтобы девочка вдруг нашлась. Я не ясновидящий.
– М-да, в таком случае положение безнадежное. Завтра за ними придет гестапо, и их отправят в концлагерь.
– И все равно они не согласятся с нами поехать.
Мими достала носовой платок и вытерла глаза.
– Представьте себе: вы ухаживаете за ребенком, ребенок потерялся, его нет несколько дней, а вы тут отправляетесь в Англию, ничего ему не сообщив. Эти люди не смогут так поступить.
– Мое мнение, что девочки уже давно нет в живых, – сказал Эрик.
– Вот и попробуй им это объяснить, если у тебя хватит духу.
– Чего ты, собственно, хочешь? Думаешь, нам было лучше свалить в Англию, не попытавшись этим людям помочь? Даже не попрощавшись?
– Может быть, тебе удастся их как-нибудь обмануть. Или Берт что-нибудь такое придумает…
– Я? Придумаю? – спросил Альберехт. – Что я могу придумать?
– Рассказать им, что у тебя есть сведения, будто она в Германии… и что ничего уже не сделать.
– Но у меня нет никаких сведений в этом роде. И хотя я прокурор, мне еще ни разу в жизни не удавалось что бы то ни было утверждать, если у меня нет доказательств.
– Тогда расскажи им, как ты слышал, что ее нашли нидерландские полицейские, – предложила Мими.
– Ты что, – воскликнул Эрик, – чокнулась? Это нельзя ни в коем случае. Они тогда ни за что не согласятся. У меня есть план, но Берт должен мне помочь. Ты проводил Сиси на корабль в три часа, да? Вот и расскажи это честно. Корабль отплывал только в семь. Так что вполне возможно, что за эти четыре часа девочку тоже привели на корабль. Это неправда, но это единственный способ уговорить Лейковичей ехать с нами. Если я примусь рассказывать эту историю один, они не поверят. Но если вместе с Бертом, они, возможно, купятся.
– Какой же ты глупыш! – воскликнула Мими. – Представь себе, что девочка жива и ее не вывезли в Германию, что она где-то заблудилась и сидит в отделении нидерландской полиции или что-нибудь в этом роде. Что с ней будет? Нельзя же бросить ее на съедение волкам? Мы все отчалим в Англию, и Лейковичи с нами, а она останется здесь одна?
Эрик, до сих пор говоривший с ними через окошко в согнутом положении, теперь выпрямился.
– Герланд идет обратно.
Мими с Альберехтом невольно посмотрели вправо, но ничего не увидели из-за кустов.
– Герланд одна, – сказал Эрик. – Вот видите, они отказались.
И пошел навстречу Герланд.
– Это ужасно, – сказала Мими, – это самое ужасное, что только можно себе представить. Они ни за что на свете не уедут без девочки, ни за что.
– При том что девочки скорее всего нет в живых.
– Ты так думаешь?
– В последние дни с маленькой девочкой могло произойти все, что угодно…
Он почувствовал, как лоб у него покрывается крупными каплями пота, и мне пришлось шепнуть ему на ухо пару слов.
– Прямо невероятное совпадение, – сказал он почти мечтательно, – что она исчезла в тот самый день, когда на нас напали немцы. Точнее, в тот самый день, когда уехала Сиси. Эти события вполне могут быть взаимосвязаны.
– Что ты хочешь сказать?
– Ох, Мими, я ничего не могу сказать такого, что могло бы помочь этим людям. Но единственный способ уговорить их поехать с нами – это, по-моему, убедить их, что девочка уже в Англии. Эрик прав.
Он увидел Эрика с Герланд, появившихся из кустов, и вышел из машины. С глубоким вздохом выпрямился. Глядя поверх машин и кустов, он увидел кусочек красной кирпичной стены. Увидел высокую трубу молокозавода, сейчас без дыма. Кроме Эрика с Герланд, во всей округе не было ни души. Не было и приемных родителей девочки, незнакомцев, которые могли бы узнать его машину. Которые могли бы про себя подумать – а то и сказать вслух: «Какое совпадение! Точно такая же машина с желтыми колесами стояла точно на этом же месте через несколько секунд после того, как Оттла пошла опускать письмо. Как странно! Скажите пожалуйста, менейр, может быть, вы и сами были где-то поблизости?»
… Точно такой же господин, только тогда он был в резиновом плаще и шляпе.
Эрик взял его за локоть.
– Берт, их нет дома.
– Я позвонила в дверь, – сказала Герланд, – постучалась во все окна, но они не открывают. Заглянула внутрь, но там ни малейшего движения.
– И в магазин они тоже не могли пойти, иностранцам запрещено выходить из дома, они ведь об этом знали? – спросил Альберехт.
– Но трудно поверить, что они действительно все эти дни безвылазно сидели дома, – сказал Эрик.
– Почему же, – сказала Герланд, – они наверняка побоялись бы выйти из дому, если это запрещено.
– Но теперь, после капитуляции, они, может быть, решили, что уже можно немножко прогуляться, – сказал Альберехт. – Тут так безлюдно.
– Что ж такое, – размышляла вслух Герланд, – но в любом случае времени у нас мало.
Она поднесла к глазам руку с малюсенькими часиками на золотом, с брильянтами, браслете. Поднесла близко-близко, из чего следовала, что она близорука.
– В любом случае сегодня вечером к ним заедут Алевейн с Трюди, – произнес Эрик, – так что нельзя сказать, что они полностью забыты Богом и людьми.
– Они в любом случае не согласились бы поехать с нами, – добавил Альберехт.
– Понимаешь, Берт, если они услышат, что мы с Мими… понимаешь, с тех пор, как они переехали в Нидерланды, именно мы были главные, кто им помогал. И если мы уедем, не попрощавшись, это очень-очень нехорошо.
– Все равно придется, ничего не поделаешь.
– Дядя Якоб, он такой… – сказала Герланд мрачно.
– Черт побери, – сказал Эрик, – черт побери! Идемте их искать!
Герланд сказала:
– Но дядя Якоб может уплыть без нас. Рисковать нельзя. Просто нельзя.
– Давайте медленно проедем по всему Марельскому проезду. Если они пошли на прогулку, мы их скорее всего встретим.
– Хорошо, – сказал Альберехт, – нам в любом случае надо проехать по нему до конца, чтобы вернуться на дорогу в Хук-ван-Холланд.
Справа мимо окошка его машины скользили густые кусты. Где здесь лежала девочка? За каким именно кустом? Удивительно, что ее до сих пор там не нашли. Как будто его охраняют какие-то высшие силы.
Хотя ехали они очень медленно, на второй передаче, то место уже явно миновали. Место, где это произошло, место, где до сих пор лежала девочка. Всё те же кусты, и не видно ничего особенного.
Слева столбики с колючей проволокой. Там, на дальнем краю пастбища, у самой мельницы, по-прежнему стояла лошадь. Единственный свидетель. Она паслась. Паслась, как тогда. Ей не было никакого дела до происходящего на дороге, в точности, как тогда.
Мими сказала:
– Уверена, что мы их увидим, если они где-то тут гуляют. Местность такая плоская и открытая, их невозможно пропустить.
Альберехт ничего не ответил.
Доехав до конца проезда, он подумал, что Эрик снова остановится, чтобы обсудить дальнейшие действия, но Герланд приблизила лицо к мутному слюдяному окошку, помотала головой и сделала знак рукой: едем дальше. Значит, она добилась этого от Эрика. Эрик повернул влево, Альберехт за ним, и оба прибавили скорость. Загадки, облако неведения.
Загадка, куда подевались Лейковичи. Он об этом никогда не узнает. Завтра он будет в Англии.
Почему Лейковича с женой не было дома, когда они за ними приехали? «Это меня спас мой ангел-хранитель», – сказал Альберехт сам себе.
– Тебя-то спас, – сказал черт, – тебя-то спас! А для Лейковичей уехать или остаться – вопрос жизни и смерти, но оттого что ты задавил их приемную дочку, они остались, хотя палачи уже на подходе. Если бы девочка не погибла, Эрик смог бы заранее подготовить их к возможному отъезду.
Загадка. Почему никто до сих пор не нашел тело девочки в разрушенном подвале? Это было бы не так уж трудно, у самой дороги.
Лучше бы уж Лейковичи знали, что найти девочку нет ни малейшей надежды.
Что может быть более жестоким?
«О Боже, – подумал Альберехт, – если бы они оказались дома и сказали бы: нет, мы не может отправиться с вами в путь, нам надо дождаться Оттлы. Мы уверены, что она жива. Что с ней будет, если мы бесследно исчезнем, а в стране кишмя кишит немцами?
Смог бы я промолчать?»
Фантазии, леденящие кровь. Высшие силы опять были милостивы к нему, помогли ему избежать встречи с этими людьми. Он чувствовал, как по спине струится пот, а ягодицы прилипли к водительскому сиденью.
По мере приближения к Роттердаму синее небо становилось все более черным, а огненное зарево все ярче.
«Нет, – подумал он, – я не смог бы промолчать. Я признался бы в содеянном и сказал бы: я виноват, но ничего уже не могу изменить. От того, что вы здесь останетесь, девочка все равно не вернется. Это невыразимо грустно, это чудовищно, но поймите: в Польше, в Норвегии и здесь тысячи мертвецов лежат и разлагаются в канавах или под обломками домов. Что случилось, то случилось, и избежать этого было невозможно».
Дух мой переполняла грусть. Я наблюдал за тем, как в этом человеке пробуждалось языческое безразличие вместо благодарности Господу, который до сих пор берег его столь чудесным образом. Хранил его тайну и избавлял от личной встречи с его жертвами – приемными родителями девочки Лейковичами.
Вместо смирения и благодарности я начал замечать в нем роптание на Господа Бога и весь миропорядок. Получается, думал он про себя, что все потаенное в моей жизни выходит наружу, что все решения, принятые на основе долгих размышлений в надежде поступить правильно, были не более чем фарсом, всегда, всегда. И цена им всем ноль без палочки. Потому что свою судьбу творю не я сам, а ход событий.
– Ход событий? – сказал я. – Но кто же, как не ты сам, решил не признаваться в совершенном наезде?
«Но разве же я задавил ее нарочно?»
– Все происходит так, как происходит, из-за твоих поступков после происшествия.
«Результаты моих поступков никоим образом не соотносятся с приложенными усилиями и намерениями», – жаловался он.
– Черт побери, – произнес он вслух.
– Что-то случилось, милый? – спросила Мими необычно глухим голосом.
– Да нет, ничего.
– Прости, Бертик, что я сказала «милый», но мне кажется не случайным, что в этот страшный час мы с тобой оказались рядом. Я не имею в виду ничего особенного, честное слово. Но мне это кажется знаком; свыше, что в свое время нам не надо было расставаться.
– Знаком свыше? Ох, Мими, там, выше, нет никого, кто подавал бы нам знаки. Перст судьбы и все прочее в этом духе выдумали сами люди, это наши собственные персты, которыми мы плоховато умеем пользоваться, потому что, так сказать, не научились играть на рояле. То, что ты называешь знаком свыше, можно было бы считать знаком, если бы я думал так же, как ты. Но я думаю о наших отношениях ровно то же самое, что думал все годы, прошедшие после вашей свадьбы с Эриком. Прости. Я ценю в тебе доброго друга, но не мог бы сделать тебя счастливой, особенно сейчас. Я не смог сделать счастливой ни одну женщину и, думаю, так будет еще очень долго.
Мими ничего не ответила. Уже так стемнело и они настолько приблизились к Роттердаму, что отсвет пожара окрашивал их лица в красный цвет. В воздухе роились частички пепла, местами образуя целые облака, и от сильного запаха горящей древесины они закрыли окна. Картина, которую они видели через лобовое стекло, становилась все более размытой из-за осевших на стекло частиц пепла и пыли.
На траве вдоль дороги лежало много людей, наблюдавших за пожаром. Некоторые пришли и приехали сюда только ради того, чтобы поглазеть. У других были с собой чемоданы, одеяла, подушки, картины, швейные машинки, горы домашнего скарба, который они прихватили, убегая от разрушений, но не смогли увезти дальше и потому сложили на обочине. У края дороги стоял ребенок, державший в руках круглый аквариум, полный золотых рыбок, и звал маму. Были и собаки. И даже ничейные кошки.
– Прости, что я несу такую чушь, – сказала Мими, – но у меня в голове роится столько мыслей. Пожалуйста, не сердись, что изливаю тебе душу. Не относись к моим словам всерьез, Бертик.
– Если тебе от этого легче, то говори, сколько хочешь. Я тебе завидую. Я бы даже священнику на исповеди не смог рассказать, о чем на самом деле думаю.
– Очень надеюсь, что Алевейн с Трюди смогут помочь Лейковичам.
– Я тоже надеюсь.
– О Господи, Бертик, если они так и будут сидеть дома и за ними придут немцы, они даже не смогут объяснить, что у них жила девочка и что им надо ее дождаться. Они даже не смогут просто рассказать об этом.
Мими прижала руки к лицу и громко заплакала.
– Эта их девочка, – плакала она, – я уверена, что она просто заблудилась и ищет дорогу домой, она придет домой и тут окажется, что немцы уже убили стариков! Убили стариков!
– Нет, Мими, девочка наверняка не заблудилась, поверь мне, этого не может быть, ведь прошло столько времени. Девочка попала под машину или погибла как-то еще, но она точно не ходит и не ищет дорогу домой.
Они доехали до того отрезка пути, где людей и транспорта было меньше. Здесь можно было прибавить скорость, что Эрик и сделал. Альберехт полностью выжал сцепление, чтобы не отстать, и его машинка начала вибрировать.
– Берт, – сказала Мими, – мне вдруг стало так страшно.
– Чего ты боишься? Худшее уже позади. Еще несколько минут – и мы в Хук-ван-Холланде.
– Вдруг немцы гонятся за нами.
Не рассчитывая увидеть что-либо, что подтвердило бы ее опасения, Альберехт посмотрел в зеркальце заднего вида.
– Я ничего не вижу. За нами не гонятся.
– Они догонят нас прежде, чем мы успеем подняться по трапу.
– У нас нет никаких оснований думать о погоне.
– Невозможно себе представить, что после капитуляции нашей армии они позволят кому-то бежать. Ведь теперь они могут делать, что хотят? Послать свои машины на побережье? Поднимать в воздух свои самолеты и бомбить все корабли, которые попадаются им на глаза?
– Такое вполне может быть.
– Мне кажется, что спасаться бегством недостойно. Я всю жизнь боялась, что меня застукают на том, что мне страшно. Я никогда не пряталась. Думала: если от страха спрячусь и меня найдут, я умру со стыда, скажу, лучше прикончите меня сразу.
– Откуда ты знаешь? С тобой что-то в таком духе случалось?
– Ох, Берт, до чего же все смешно и отвратительно. Я как человек так мало значу. Почему я стремлюсь в безопасное место, когда другие остаются? Если меня убьют, невелика будет потеря.
– А я? – спросил он. – Велика ли будет потеря в моем случае?
– То-то и оно. Мы должны уступить наши места в корабле людям, которые этого больше заслуживают, чем мы.
– Где мы их найдем?
– Именно оттого, что их нигде не найти, я сомневаюсь в реальности жизненных ценностей.
– Мы честно приложили все усилия, чтобы найти Лейковичей.
– Если лучшие люди не берут верх над сволочами или не живут дольше прочих, то чего стоит этот мир?
– Ты сейчас говоришь совсем как Лина.
– Нет-нет, что ты, – запротестовала Мими, – я говорю не о гениях. А просто о хороших людях, людях с чувством солидарности.
Он не знал, что ей ответить, пока я ему не подсказал: одному Богу известно, какие люди по-настоящему хорошие. Поэтому все смертные, живущие на земле, должны жить как можно более праведно в ожидании Страшного Суда.
– Каждый человек должен стараться прожить свою жизнь как следует, чтобы потом не оказалось, что ты был недостоин этой чести, – сказал Альберехт и сам испугался, как приторно-сладко прозвучали его слова, но не попытался пояснить свое несколько смутное высказывание.
Но Мими ответила:
– Именно этим я в тебе и восхищаюсь, Бертик. То мужество, с которым ты боролся, например, с алкоголизмом и победил. В глубине души ты по-настоящему религиозный человек.
– Стоп-стоп, Мими! Мне хочется выпить.
– Что-что?
– Я несу чушь, Мими, полную чушь.
ХУК-ВАН-ХОЛЛАНД. Из всех окон лился свет, ведь война закончилась. Уличные фонари ярко горели.
И снова плотная толпа не давала машинам двигаться быстро. Все время приходилось останавливаться, и Альберехт высовывал левую руку из окна, чтобы смахнуть пепел с лобового стекла.
Мысли его блуждали. Сколько еще продлится война? Сколько он проживет с Мими в Англии? И она что, изо дня в день будет вот так разглагольствовать? Или, оказавшись наконец-то на той стороне Северного моря, они потеряют друг друга из виду? Это было бы лучше всего. Им овладела странная фантазия. А вдруг сейчас, когда они доберутся до причала, окажется, что пять дней назад грузовое судно, на котором была Сиси, по той или иной причине не смогло выйти в море. Все дни войны оно так и стояло у причала, а Сиси в смертельном страхе оставалась на борту. Не знала, что делать. Пыталась ему позвонить, но телефоны не работали. Боялась заговорить из-за своего немецкого акцента. Но теперь судно наконец могло отплыть. И, пока Сиси, стоя у перил, будет им махать, они в последний момент успеют взбежать по трапу.
Но у причала, где пять дней назад стоял корабль Сиси, было пусто. Рядом еще продолжал дымиться, уткнувшись носом в берег, сгоревший эсминец.
Недалеко от берега дрейфовал английский крейсер, время от времени луч его прожектора скользил по переднему ряду домов.
Люди теснились около автомобиля Эрика: все почему-то думали, что это едут первые немцы. Но, растолкав других и подойдя ближе, видели, что ошибались, и, разочарованные, отходили.
– Мы едем медленнее, чем если бы шли пешком, – сказала Мими. – Ну отойдите же вы все в сторону, ну нет в нас ничего особенного!
Гудеть Альберехт не решался.
Навстречу шли нидерландские солдаты без оружия, с непокрытой головой, в расстегнутых гимнастерках; они шли длинной колонной, некоторые под руку, они пританцовывали и так веселились, как будто выиграли войну. У воды толпились мужчины, женщины и дети в надежде сесть на какое-нибудь рыболовецкое судно, которых в гавани осталось уже совсем мало. Толпу сдерживала полиция.
Дядя Герланд жил в крошечном домишке, всего с одним окном. Рама была поднята, а высовывавшийся на улицу толстяк и оказался дядей. В комнате у него за спиной под потолком горела яркая лампа.
Дядя сидел, положив скрещенные руки на подоконник, и наблюдал за суматохой на улице. Когда перед его домом остановились шикарный «дюзенберг» и маленький «рено», он надвинул кепку на лоб и почесал в затылке.
Герланд вышла первой, и хотя Эрик, Альберехт и Мими вылезли не сразу, они отчетливо слышали, как она сказала:
– Привет, дядя, вот и мы. Во сколько отплываем?
Альберехт и Мими сначала подошли к Эрику, а потом все втроем приблизились к Герланд и встали рядом, чуть позади нее.
– У твоего нынешнего друга шикарное авто, ничего не скажешь, – произнес дядя.
Эрик шагнул к окну и протянул дяде руку.
– Значит, вы и есть дядя Герланд? Моя фамилия Лосекат.
– Ничего не скажешь, – повторил дядя, не обращая внимания на протянутую руку Эрика, – шикарное авто. Хорошая вещь.
Теперь Герланд представила дяде своих спутников:
– Это менейр Лосекат, дядя, а это мефрау Лосекат, а вот это менейр Альберехт.
– Всем добрый вечер, – сказал дядя, – добрый вечер.
Мими с Альберехтом в ответ кивнули. У Альберехта пересохло во рту.
– Бежим от фрицев? – спросил дядя.
Он и не подумал подать им руку. Подоконник, на который дядя опирался, был довольно-таки низкий, поэтому одну ногу он держал согнутой, а вторую вытянутой назад. Если бы подоконник вдруг сломался, дядя полетел бы на улицу, как ядро из пушки.
– Может быть, обсудим это в доме, дядя?
– Можешь обсуждать, что хочешь, но мне обсуждать нечего.
– Ну что ты, дядя. Ну пожалуйста. Что-то случилось?
– Сегодня я никуда не поплыву, милочка. Да и завтра тоже. Я уже ученый.
– Но вы не можете бросить нас в беде, – сказал Эрик, – Вы же не хотите, чтобы мы попали в руки немцам?
– Поступайте, как знаете. Я здесь ни при чем. Хоть соловьем заливайся, а я в море не выйду.
– Как это? Вы ведь обещали?
– Я в море не пойду.
Если бы дядю не было видно, можно было бы подумать, что этот высокий гнусавый голос принадлежит какой-нибудь упрямой бой-бабе. Но дядя был отлично виден и непреклонен.
– Ну что вы, – сказал Эрик, – для начала мы отдаем вам эти два автомобиля.
– И что мне с ними делать, когда меня будут есть рыбы на дне моря?
– Не надо так мрачно, – начал Альберехт, – немцы тоже устали от войны, их пока нигде не видно. К тому же у нас есть деньги.
– Вы же вчера обещали, – тихо сказала Герланд; на лице Греты Гарбо появилось каменное выражение. – Неужели вы струсили?
– Наглостью меня не возьмешь, детка, – ответил дядя, – наглых девчонок дядя не любит.
Альберехт вытащил бумажник и достал оттуда три купюры по сотне гульденов, полученные от Бёмера. Снова убрал бумажник в карман, знак того, что не собирается класть деньги обратно.
– Эта война, – сказал дядя, – продлится еще пять лет. Мы с женой не проживем пять лет на триста гульденов.
– Конечно, – сказал его Эрик, – это все понимают.
Эрик сделал шаг вперед и достал из внутреннего кармана толстый конверт.
– Именно поэтому, – продолжал Эрик, – и прошу вас пустить нас в дом, чтобы вы сами пересчитали.
Дядя причмокнул губами и плюнул: коричневая струйка слюны, тонкая и длинная, как нитка, приземлилась на мостовую точно между Эриком и Герланд.
Эрик открыл конверт. Он покраснел до ушей, когда достал толстую стопку банкнот по тысяче гульденов и показал ее дяде.
Дядя не проронил ни слова.
– Здесь двадцать купюр по тысяче гульденов. Все еще мало? – спросил Эрик почти угрожающим тоном.
– Эрик! – воскликнула Мими.
– Дело хорошее, – хмыкнул дядя, – в жизни столько не видал. Веришь?
– Зачем тянуть кота за хвост? Пересчитайте.
Эрик положил левую руку на руку дяди и держал конверт прямо у него перед носом.
– Даже ежели они настоящие, – сказал дядя, – даже если настоящие, то завтра сгодятся только, чтобы зад подтереть.
Эрик, держа конверт в правой руке, на миг обернулся, потом доверительно поставил локоть левой на дядин подоконник.
– Еще у меня есть кое-какое золото, – прошептал он.
Дядя снова сплюнул на мостовую струйку табачной слюны.
Тогда Эрик пожал плечами, пошел к машине, все еще с пачкой банкнот в руке, наклонился к бардачку и вернулся с бутылкой и кожаным футлярчиком в форме стопки. Зажав бутылку под мышкой, достал из футляра набор посеребренных стопочек.
Подойдя к дяде, сказал:
– Давайте еще раз спокойно все обсудим.
Наполнил стопку и предложил дяде.
– Ты поступай, как знаешь, – отказался он, – а я так в рот не беру.
Эрик посмотрел на Мими, потом на Герланд, затем на Альберехта, залпом выпил налитое и вставил стопку в другие.
– Вообще-то очень вкусно.
– Ох, дядя, не валяйте дурака, – воскликнула Герланд, – вы что, заболели?
– Вы человек непоколебимый, – сказал Эрик. – Что вы хотите получить за то, что переправите нас в Англию? Просто скажите.
– Это не угодно Господу Богу, – ответил дядя, – Господь Бог хочет наказать этот народ.
– Но королева-то в Англии, – вставил Альберехт.
– А вот эта девица – вовсе не королева. Эта девица всегда была испорченная.
– Если дело во мне, то я остаюсь здесь! Я останусь здесь, если дело во мне! – закричала Герланд.
Все еще со скрещенными на груди руками дядя встал во весь рост, для чего ему пришлось втянуть голову с улицы в комнату, и теперь продолжал смотреть на них через окно. Его мысли были кристально ясны. Он выжидающе переводил взгляд с одного на другого, и когда никто из стоявших на улице не произнес ни слова, никто из трех спутников Герланд не сказал: «Если она не поедет, то я тоже не поеду», эти люди настолько глубоко пали в глазах непреклонного моралиста, что он молча опустил раму и резко задернул штору.
– Дядя! – заорала Герланд. – Так нечестно!
– Тише, – сказал Эрик и обнял ее, – это все равно не поможет.
Тут к ним обратился человек, уже какое-то время молча стоявший рядом, которого они до сих пор замечали только краешком глаза.
– А баркас-то он свой продал где-то с час назад. За триста тысяч гульденов, дирекции Международного Кредитного банка. Я живу тут рядом. Все знаю. Дали ему бриллиантов на триста тысяч.
– О! – взмолилась Мими. – А вы не знаете кого-нибудь другого, кто может перевезти нас в Англию за двадцать тысяч гульденов и кое-какое золото?
– Если вы дадите мне аванс в тысячу гульденов, – сказал человек, – то я пособлю с поисками, но обещать ничего не могу.
– Мы тоже, – ответил Альберехт и потянул Мими за руку, сделал несколько шагов и обернулся проверить, идут ли они следом. Герланд вырвалась из рук Эрика, побежала назад и начала колотить кулаками в дядино окно.
– Гадкий обманщик! Грязный, подлый врун! Вонючий ханжа! Я тебе еще покажу! Имей в виду! Я напишу анонимку налоговому инспектору. Грязный, подлый надувала! Вот придут фрицы, и тебе достанется! Я все расскажу в гестапо, понял? Про все твои грязные делишки! В гестапо узнаешь, почем фунт лиха, они для тебя придумают что-то новенькое! Мерзавец! Гад!
Стекло издавало такой же звук, как кусок металла в театре за сценой, когда изображают гром, но не разбилось.
О, как больно мне описывать эту сцену, которую устроила Герланд, в ней не было ничего общего ни с одной из сцен, когда-либо сыгранных великой Гретой Гарбо.
Эрик схватил ее за талию.
– Герланд, – закричал Альберехт, – прекрати!
Прожектор с крейсера на секунду осветил домишко дяди, и Герланд, словно испугавшись, что в нее будут стрелять, вырвалась из рук Эрика и убежала прочь. Эрик побежал за ней.
Мими с Альберехтом стояли около «рено». Толпа обтекала их со всех сторон, не замечая. Немного погодя вернулась Герланд, без Эрика. Ее раскрасневшееся лицо опухло, а волосы все время лезли в глаза. Куда подевался Эрик, она не знала.
– Возьми сигарету, – сказала Мими и тоже закурила.
В голову Альберехту лезли горькие мысли. «Откуда Эрик взял столько денег? – спросил черт. – Всего пять дней назад ты просил у него несколько сотен гульденов, и он не мог тебе помочь. А теперь – пожалуйста вам двадцать банкнот по тысяче гульденов, и ведь это далеко не все, готов поспорить».
– Не слушай эту клевету, – сказал я. За пять дней что угодно может произойти. Такой человек, как Эрик, способен за такое время добыть любую сумму из-под земли.
Черт рассмеялся:
– Он бросил тебя здесь, с Мими и Герланд. Они обе надоели ему хуже горькой редьки. Он уплывет в Англию один, вот увидишь.
Они попытались разыскать Эрика в толпе у берега, иногда им казалось, что они видят его, но это всегда оказывался кто-то другой.
Мими начала чертить указательным пальцем линии на пепле, покрывшем «дюзенберг». Альберехт смотрел, что она делает, ожидая, что она что-нибудь напишет, только не знал, что именно, из линий ничего не складывалось. Толпа становилась все более плотной. Они боялись отойти от машин, обсудили, не пойти ли кому-нибудь одному искать Эрика, отказались от этой мысли.
– Эрик же знает, где он нас оставил, – сказал Альберехт, – он наверняка рассчитывает, что здесь мы его и будем ждать.
И меня порадовало это здравое высказывание моего протеже.
Но ничуть не менее меня занимали суровые, но справедливые высказывания дяди Герланд.
Море полно опасностей, всегда, везде. И особенно в такую ночь, как эта, когда нидерландские войска, aus genommen die Truppenin Seeland, уже капитулировали, а другие союзники еще продолжали военные действия. Немцы, которым нидерландская армия теперь не оказывала сопротивления, могли доехать от места дислокации до побережья за полчаса, словно речь идет об увеселительной прогулке.[44]
Установить на побережье пушки. Сбросить с самолетов осветительные ракеты. И с легкостью топить каждый кораблик, который покажется на море.
Я сидел на плече у Альберехта и прислушивался к его сердцебиению. Заглядывал ему в голову и читал его убогие мыслишки, его надежду, которой я не позволю сбыться, что Эрик в последний момент все-таки найдет судно, готовое переправить их в Англию.
Но вот вернулся Эрик. Бутылку и стопочки он где-то потерял.
– Безнадежно, – сказал он, – совершенно безнадежно. Все плавсредства или уже уплыли, или переполнены.
– Но чего тогда ждут все эти люди? – спросила Мими.
– Надеются, что корабли высадят пассажиров и вернутся обратно. Глупо. Отсюда до Англии рыбачьему суденышку плыть по меньшей мере двенадцать часов. Туда-обратно – целые сутки.
– И что теперь?
– Поехали домой, – сказал Эрик. – Может быть, это знак свыше. Завтра утром попробуем снова, утром будет хоть какая-то вероятность найти корабль.
Мими возразила:
– Что ты мелешь? Завтра здесь уже точно будут немцы и они-то уж никого не выпустят. Ты что, не понимаешь?
– С помощью денег и правильно найденных слов можно добиться многого, – ответил Эрик.
– Жизнь тебя, похоже, ничему не научила, – съязвила Мими. – Но я не хочу идти на такой риск. Вот увидишь, мы встретим фрицев уже на обратном пути.
Она подбежала к «дюзенбергу» и рывком открыла багажник.
Спустя некоторое время она с большой охапкой бумаг подошла к краю причала и бросила бумаги в воду. Несколько листов, отнесенных ветром в другую сторону, она столкнула в воду ногой.
Мими проделала путь от машины к причалу, с бумагами и папками в руках, еще два раза, и только когда она бросила в воду последнюю кипу, Альберехт спросил:
– Ну и что ты сделала? Бумага же не тонет. Бумагу же могут выловить. Надо было все сжечь. Кто-нибудь, кто не должен, прочитает вашу фамилию, и пиши пропало.
С какой радостью я отметил про себя, что даже в таких напряженных обстоятельствах в мире еще остаются добрые люди. Какой-то парень, который понял, в чем дело, подошел с багром к воде и одну за другой потопил все бумаги, что еще плавали на поверхности, так что вскоре они все исчезли под водой.
По сравнению с багровым заревом горящего Роттердама уличные фонари и лампы в домах сверкали, как бриллианты. Роттердам. Казалось, будто горизонт выплевывал в черное небо волны крови.
Они ехали обратно по той же дороге.
Теперь, когда решение вернуться было принято окончательно, Альберехта охватило необъяснимо приятное, спокойное чувство, так что он спросил:
– Ты очень разочарована?
– Скорее, рада, – сказала Мими. – Странно, правда? Человек гораздо более труслив, чем думает. Или я радуюсь оттого, что вокруг меня снова будут привычные стены, привычная мебель. Смешно и стыдно, правда?
– Вполне может быть, что в Англии мы бы все четверо сразу пожалели, что приехали, потому что на самом деле нам там делать нечего.
– К тому же что будет, если немцы победят и Англию через недельку-другую?
– Нет-нет, вот об этом можно не думать, – сказал Альберехт, – если ты так думаешь, то ошибаешься. Гитлеру никогда в жизни не переплыть Северное море. Германия – не морская держава.
– Дни Англии сочтены, – сказала Мими. – Ты как идеалист веришь в высокопарные слова, что давно уже устарели.
– Чего не смог Наполеон, того не сможет и Гитлер.
– Реакционные мещанские суеверия. История не стоит на месте. После Наполеона прошло сто пятьдесят лет. Даже Маркс, Карл Маркс, хорошо знавший Англию и проживший там много лет, уже сто лет назад заметил, что Англия приближается к краху и созрела для пролетарской революции. Уже сто лет назад.
Мими вдруг расплакалась.
– Ах, Берт, это ужасно. Всему конец, всему, всему конец.
– Не говори так. С нами еще ничего плохого не произошло.
– Ах, Берт, включи-ка радио. Может быть, мы едем прямо немцам навстречу.
Альберехт нажал кнопку «радио» на приборной панели. Засветилась шкала длинноволнового диапазона с названиями городов Европы, но звука не было.
Альберехт снова и снова нажимал на кнопку, покрутил ручку настройки, громкости. Ни звука. Не слышалось ни треска, ни шипения.
– Что случилось? Может быть, уже взорвали все наши радиостанции?
– Нет, это у меня радио не работает.
– Откуда ты знаешь, что дело в этом?
– Если бы взорвали все наши радиостанции, мы бы слышали иностранные.
– А почему у тебя радио вдруг перестало работать?
– Оно все время то работает, то нет. Давно уже надо было заменить лампы. Ерунда это – такое маленькое машинное радио.
Он обхватил Мими правой рукой, прижал к себе и поцеловал в щеку. Рука, покоряясь судьбе, лежала на ее плоской груди.
– Все в порядке, – сказал он, – все в порядке. Честное слово, немцы сюда пока еще и носа не кажут. На море куда опаснее.
Альберехт переложил правую руку на ребра Мими и пощекотал. Машина вильнула.
– Осторожно, Альберехт, смотри, что ты делаешь. Еще врежешься в Эрика.
– Я плохо вижу из-за этих синих фар.
Мими, успокоившись, прижалась затылком к его щеке.
Удивительное дело, но радость от того, что полная опасностей горькая чаша в итоге их миновала, оказалась намного сильнее страха перед опасностью, который совсем недавно погнал их в Хук-ван-Холланд. Таков человек. Воображение играет с ним злую шутку. Он, человек, всегда старается спасти свое бренное тело, хотя раз за разом выясняется, что его усилий для этого не требуется, его прекрасно спасают и без его участия.
А как же приятна мысль о возвращении к родному очагу, даже если ты пытался спастись бегством.
Казалось, они вернулись на десять лет назад, так славно сейчас текла беседа с Мими. Они ехали навстречу потоку беженцев, и это выглядело так, будто они находились в привилегированном положении, будто заключили сделку с самой судьбой и бояться им нечего. Или будто они были единственными, кому не надо никуда бежать. Милостивая рука Господня защищала их. И хотя они еще недавно тоже старались спастись бегством, все равно были не такими, как остальные. Которые, если им тоже придется вернуться, не будут знать, куда возвращаться. Потому что их дома в Роттердаме сгорели. Потому что их родные лежат под руинами.
Настроение человека переменчиво. Он ничего не знает наверняка, но оттого что жизнь идет своим чередом, вынужден делать вид, будто целенаправленно осуществляет свои планы. В его душе озабоченность сменяется беспечностью, а за одной иллюзией следует другая, потому что он не хочет без конца сомневаться, но не хочет и бездумно плыть по реке жизни навстречу старости. Единственная точка отсчета – это Бог, но что это дает? Бог не раскрывает своих карт.
Альберехт сказал:
– Интересно, что скажет Лина, когда мы вернёмся настолько раньше времени. Мне нужно забрать у нее ключи?
– Если тебя не затруднит.
– Меня это совсем не затруднит.
– Я так и думала, что ты это скажешь.
– Мне кажется, что она постоянно чего-то хочет, а остальные не в состоянии понять, чего именно она хочет.
– О, она диковатая. С причудами. Тиранка. Ей что-то взбредет в голову, и она тут же это делает. Иногда беснуется, как фурия.
– Она счастлива в браке?
– Муж у нее шофер плюс бухгалтер.
– Но…
– Говоря образно. Что у них за отношения, я не могу судить. Она спит с другими мужчинами в его присутствии. Ты бы хотел так попробовать?
– Со зрителем – ни за что.
– Утром он приносит ей в постель чай и яичницу, честное слово.
– Откуда ты это знаешь?
– Не от Эрика, разумеется. Его не интересуют интрижки с дамами старше двадцати.
Альберехт попытался отыскать в памяти исключение из этого правила, но пришлось признать, что Мими, пожалуй, права.
– И все же я восхищен твоей силой духа, – сказал он, – ты никогда не переживаешь из-за его выходок.
– Меня это совершенно не волнует. Почему бы ему не поразвлечься? Эрик наполняет мою жизнь смыслом, это для меня важнее всего. И он не может без меня, единственной, кому он доверяет, единственной, кто с ним действительно сотрудничает. Работа Эрика для него всегда на первом месте. Так что ты догадываешься, на каком месте находятся все эти восемнадцатилетние цыпочки.
– Я завидую Эрику, – ответил Альберехт, – мужчина, который поглощен своей работой и может любить свою жену благодаря работе и ради работы. У меня нет ни жены, ни работы, которую я мог бы делить с женой. Если бы не началась война, то я бы плюнул на все и начал жизнь с чистого листа.
– С Сиси?
– Да, – ответил он, сомневаясь в правдивости своих слов, сомневаясь, что Мими ему поверит, потому что, когда он позволил Сиси уехать, еще не было никакой войны, но он все равно не решился на все плюнуть и уехать с ней вместе. Не в состоянии открыться Мими, он повторил:
– Да, с Сиси.
– Эрик, – ответила она, – Эрик не такой человек, который может взять и все бросить.
– Но он достаточно ловкий, чтобы быстро сориентироваться в Англии или в любой другой стране. Он везде пробьется. В отличие от меня.
– Может быть, но политика никогда не была для него на первом месте. Если бы он по-настоящему занимался политикой, то уехал бы в Англию раньше, например когда ты заговорил об этом в первый раз, в четверг вечером.
– Но у него не было денег, как и у меня.
– Знаешь, что Эрик сегодня сказал перед тем, как ты поднялся к нам по лестнице?
– Вы действительно говорили обо мне?
– Эрик сказал: такой государственный человек, как Берт, полон железобетонных убеждений, с которыми не сможет расстаться, даже если весь мир провалится в тартарары. Берт – это государственный человек с железобетонными убеждениями, которыми никогда не поступится.
– Что он имел в виду?
– Берт, сказал Эрик, это человек с чувством долга. Берт считает отъезд в Англию предательством. Вот что имел в виду Эрик.
– И ты с ним согласилась?
– Конечно, я ведь так давно тебя знаю. Даже если ты случайно поедешь на красный свет, ты будешь еще несколько дней переживать по этому поводу. Но не заблуждайся – Эрик точно такой же.
– И ты этому рада?
Он почувствовал, что она повернулась к нему, но продолжал пристально смотреть на дорогу.
«Конечно, она этому рада, – подумал он. – Потому что если бы Эрик был другим, то он уехал бы в Англию с Герланд, без Мими».
Что же все-таки Мими имеет в виду?
– Сейчас объясню тебе, что она имеет в виду, – сказал черт. – Противоположное тому, что ты думаешь. Она имеет в виду, что ей жаль, что Эрик не уехал с Герланд в Англию, а она не осталась с тобой. Вот что она имеет в виду.
Мими не ответила на его вопрос, рада ли она этому.
– Возможно, ты права, – сказал Альберехт, – Эрик верен своему долгу. Свой дом, свое дело и свою жену он не может просто взять и бросить, он просто никогда не решится на такое. Может быть, мы переоцениваем опасность. Даже немцам не под силу арестовать всех.
– Самые опасные материалы лежат сейчас на дне канала Ниуве Ватервег.[45]
– Я тоже верен долгу, Мими, я тоже. Можешь считать это ограниченностью, но если бы я был другим, то меня, наверное, уже не было бы в живых. Или я валялся бы в канаве.
Мир. Ему на секунду показалось, что он перестал бороться с собой, смирился, как обычно происходит в таком случае, при удобном сочетании полуправды и лжи.
Мими сказала:
– Подумай о тех ужасных вещах, которые могли бы произойти, но не произошли. Бомба, взорвавшаяся рядом с твоим домом, шальная пуля. Это удача в чистом виде, что ты вышел из здания суда как раз перед тем, как его разбомбили. И ты правильно сказал: немцы не смогут арестовать всех, кто нехорошо отозвался о Гитлере.
– Думаю, так оно и есть.
– Мы с Эриком, возможно, не в такой уж большой опасности. А вот ты…
– Для меня было главным поехать вдогонку Сиси.
– Серьезно? Если бы тебе это удалось, то мы бы сейчас тут не сидели и не разговаривали. Мне было бы жалко. Но я считала, что ты хотел уехать из-за дела Ван Дама. Как думаешь, фашисты захотят посадить тебя за то, что ты потребовал освободить от судебного преследования журналиста, оскорбившего Гитлера?
– Думаю, это зависит от того, что решит судья, признает он Ван Дама виновным или же нет.
– А не лучше ли было бы с самого начала прекратить преследование? Ты не мог сразу закрыть дело или как это называется?
– То-то и оно. Человек никогда не знает, какое решение окажется правильным. Я не закрыл дело против Ван Дама только потому, что не хотел давать немцам повода на нас напасть. А то они бы сказали: в этой стране нашего фюрера высмеивают безнаказанно. Изначально я собирался потребовать для него четыре года тюремного заключения, чтобы фрицы на нас не напали и Сиси могла спокойно жить у нас в стране. Но когда Сиси все равно уехала, я пожалел о своем намерении и потребовал освобождения от преследования.
– Это было еще до оккупации. А теперь, когда немцы нас победили, ты снова можешь жалеть о том, что не потребовал для Ван Дама тюремного заключения.
– Вот уж о чем я не буду жалеть, – ответил Альберехт, – и надеюсь, что судьи тоже проявят смелость и не назначат ему наказания.
Мими ненадолго притихла.
– Другого ответа я от тебя не ожидала, – сказала она.
Что это задумал Эрик?
Он выставил сигнал левого поворота и выехал на середину дороги. Альберехт последовал его примеру, хотя его кольнуло чувство беспокойства. Вскоре он увидел, куда собирается свернуть Эрик. У начала этого проезда стоял красный дорожный знак с белой полосой, сообщавший, что въезд сюда запрещен.
– Что это Эрик собирается сделать? – закричал Альберехт и нажал на гудок.
Не переставая сигналить, он ехал следом за Эриком.
– Это Марельский проезд. По нему запрещено двигаться в этом направлении, – воскликнул Альберехт.
– Эрик наверняка хочет посмотреть, как дела у Лейковичей.
– Но ведь здесь может быть встречное движение! Это полная безответственность!
Альберехт не переставал гудеть до тех пор, пока у «дюзенберга» не загорелись стоп-сигналы.
Сам он тоже остановился и открыл дверцу.
– Да ладно, пусть едет, – сказала Мими, – какая разница, здесь вообще нет транспорта.
Но Альберехт уже бежал вперед.
– Эрик, с этой стороны сюда нельзя въезжать, нельзя!
– Почему?
На лице Эрика играла ироническая улыбка, в полутьме казавшаяся жутковатой, а дыхание пахло алкоголем.
У Альберехта, ухватившегося за дверцу с открытым окном рядом с Эриком, появилось ощущение, что он просит о чем-то в окошке кассы.
– Здесь одностороннее движение, – сказал он, – ты что, не видел знака при въезде?
– Ну и что? – спросил Эрик. Его нога в шутку пританцовывала на педали газа, мотор угрожающе рычал.
– Там знак…
– Брось ты, здесь никто не ездит. Нас не увидит ни одна собака, а у полиции хватает других забот.
– Так и есть, Берт, – рассмеялась Герланд, – и ты это по себе знаешь.
– Это может привести к несчастному случаю. Я не хочу. Проехать по шоссе до другого въезда займет меньше пяти минут, а Лейковичи живут все равно ближе к тому концу.
– Знаешь что? Поезжай-ка ты по шоссе. До скорой встречи!
Эрик включил сцепление и уехал. Альберехт вздохнул. Холодный ночной воздух со слабым запахом бензина прогнал из носа запах алкоголя. Альберехт сунул руку в карман, достал коробочку с мятными пастилками. «Как смешно, что я не могу избавиться от этой привычки, – думал он, – и что я всегда об этом думаю, когда кладу в рот пастилку». Он сразу же разжевал мятный кружочек и вернулся к своей машине. Синий свет фар упал ему на ноги. У горизонта все еще смутно виднелся горящий Роттердам. Отсветы огня, падавшие на дым, висевший над городом, освещали небо, подобно северному сиянию. Между тем уже взошла луна.
– Нет, Мими, я здесь не поеду. Я знаю, что это запрещено.
Он медленно выруливал задним ходом. От того, что приходилось все время смотреть назад, заболела шея.
– Эрик сошел с ума, – сказал он, когда они снова выехали на шоссе. – Ехать по шоссе или по Марельскому проезду – разница в каких-то пять минут.
– Конечно. Но, милый, как замечательно, что ты так строго это соблюдаешь даже в такой день, как сегодня.
Альберехт ничего не ответил. Его сердце стучало, как бешеное, у него было предчувствие, что хоть он и едет по правилам, с ним произойдет такой же несчастный случай, как тогда. Из-за того что фары были покрашены синей краской, он плохо видел дорогу. Несколько раз крепко зажмуривался в надежде, что зрение от этого станет острее. Руки, державшие руль, дрожали, он ехал очень медленно и все время боялся, что Мими сделает по этому поводу какое-нибудь замечание. Но она не обращала внимания на скорость, или такая скорость была ей по вкусу. Или она все замечала, но ничего не говорила.
Без каких-либо происшествий они доехали до того места, где Марельский проезд выходил на шоссе другим концом. Почти одновременно увидели задние фары машины Эрика. Она стояла здесь, у обочины шоссе, а рядом, посередине проезжей части, стоял человек и размахивал руками.
Альберехт затормозил и подождал, чтобы человек приблизился к нему. Это был Алевейн Леман.
– Менейр Альберехт, мы вас тут ждем. С Лейковичами случилось ужасное. Они попытались отравиться газом.
Альберехт открыл дверцу и поставил ноги на асфальт. К нему из темноты вышли Эрик и Герланд.
– Они хотели отравиться газом, но пока еще живы, – сказал Эрик. – Их надо отвезти в больницу. На твоей машине, мой «дюзенберг» ведь двухместный.
– Где они? – пролепетал Альберехт.
– Лежат рядом с домом. Мы с Трюди вынесли их на улицу и положили на траву. Трюди с ними.
Альберехт пошел к Марельскому проезду.
– Ты что? – закричал Эрик. – Лучше подъехать поближе на машине, чтобы их не так далеко было нести.
Действительно, это было лучше. Альберехт вернулся к машине и сел за руль. Алевейн сел сзади. Альберехт выставил знак левого поворота, хотя кругом не было ни души, и свернул на проезд. Машина Эрика ехала за ним.
– Мы положили их на траву, – рассказывал Алевейн, – около того места, где тропинка выходит на проезд. Такое впечатление, что сейчас в Нидерландах очень многие пытаются отравиться газом, особенно евреи. Когда мы с Трюди подошли к их дому, то сразу поняли, что случилось. Я выбил окошко в двери и почувствовал запах газа. Они неплотно закрыли дверь из кухни в коридор. Это их и спасло.
– Ты уверен, что они еще живы? – спросила Мими.
– Пока мы их укладывали на траву, они еще дышали, хоть и были без сознания. Может быть, лучше бы они умерли.
– Лучше бы умерли? – воскликнула Мими.
– Но когда видишь таких вот полуживых людей на полу, размышлять некогда. Мы с Трюди не медлили ни секунды. Сразу же вытащили их на улицу. Странно ведь было бы сначала сесть и подумать, что для них лучше.
– А почему бы и не подумать? – сказал Альберехт. – Зачем спасать жизнь людям, которым она не нужна?
– А если вернется их приемная дочка, Берт? – спросила Мими.
– Не верю ни на йоту.
– Не понимаю, Берт, что не так?
– Люди, к которым я в последнее время заходил по два раза в день, чтобы принести продукты, – сказал Алевейн. – Люди, с которыми я разговаривал часами, не могу же я просто оставить их лежать? Выйти из дому и закрыть за собой дверь с разбитым окошечком?
В темноте опять показался человек, размахивающий руками. Трюди. Альберехт остановился, и Эрик остановился за ним.
– Трюди, немцев здесь не видно? – спросила Мими.
– Немцы придут завтра, так объявили по радио, – сказала Трюди.
Альберехт хотел выйти, но Мими потянула его за рукав обратно.
– Сиди здесь. А то скомпрометируешь себя еще больше, чем своей речью по делу Ван Дама. Не ходи в дом к этим людям. А еще лучше – выйди из машины и пойди прогуляйся. Мы донесем их до машины, а потом Эрик поедет на твоей машине, а ты на его. Тогда, если что, тебе легче будет говорить, что не имеешь к этим людям никакого отношения. И тебя не будут упрекать в том, что знал о нелегальном пребывании Лейковичей в Нидерландах.
Намерения у Мими были явно добрые, но рассуждения не совсем в точку. Альберехт сделал в темноте несколько шагов, не оборачиваясь. За спиной он слышал тихие голоса и звуки, будто что-то тащат. Альберехтом овладело столь полное безразличие, что он сам испугался. «Что тебе мешает? – прошептал черт. – Скажи, чтобы этих людей бросили в кусты, в подвал от разрушенного дома. Если они там придут в себя, все их проблемы разрешатся, а тебе ничего от этого не будет».
«Пять дней войны, – подумал Альберехт, – а умершие люди значат уже ничуть не больше, чем дохлые мухи». Шорохи и шепот за спиной раздражали его, и время от времени он украдкой поглядывал назад.
Мими, Трюди, Эрик и Алевейн – все старались поднять Лейковичей, поддержать, отнести к машине Альберехта.
С четырьмя открытыми во всю ширь дверцами машина напоминала в темноте фантастическую птицу-мать. Синие глаза горели. С той стороны, где был Роттердам, кроваво-красный горизонт вгрызался в черное небо, точно верхняя челюсть гигантского монстра, который еще немного – и поглотит весь мир. Глубоко дыша, стараясь не слышать голосов и возни на дорожке, он стоял перед своей машиной, и мысли его были холодны, как лед.
Для этих людей будет лучше всего, если они не выживут. И я единственный, кто об этом знает. А также я единственный, для кого это тоже будет лучше всего. Но они не умрут, а придут в себя и снова начнут ломать голову, куда делась их Оттла. Веверка.
Сколько людей погибло в последние дни? Несколько тысяч? Несколько десятков тысяч? Его фантазия подбрасывала картины ужаснейших страданий: наполовину живые тела, придавленные обрушившимися балками. Дети, задыхающиеся под развалинами домов. Летчики в горящих самолетах, падающих на землю, подобно метеоритам. Солдаты с оторванными конечностями, медленно истекающие кровью, он сам такое видел. Люди, которые могли бы еще жить и жить и получать от жизни куда больше удовольствия, чем Лейковичи, если придут в себя.
– Не везет тебе, – сказал ему черт. – Лучше бы они умерли. Ведь тысячи других людей погибли, а тебе от этого ничуть не легче.
Ох уж этот Альберехт. Слеп к тому факту, что ангел-хранитель постоянно оберегает его. Неблагодарен по отношению к Богу, сохранившему жизнь этим двоим страдальцам!
– Несчастный! – обратился я к нему. – Убийца, который желает смерти также возможным свидетелям своего преступления.
При слове «убийца» Альберехт испугался. Отказался согласиться с таким определением, сказал себе: я не убийца, я приличный человек, с которым произошел несчастный случай, но для меня это слишком жестокое наказание – везти этих людей в больницу, где им спасут жизнь.
Альберехт отказался сесть за руль Эриковой машины:
– Я к ней не привык, это опасно.
Алевейн с Трюди закрыли задние дверцы.
Альберехт медленно ехал задним ходом, ориентируясь на фары Эрика, который тоже ехал задним ходом.
Альберехту стоило больших усилий не смотреть на черные неподвижные фигуры на заднем сиденье.
Что делать, если они выживут? Попытаться с помощью Эрика все-таки переправить их за границу, после того как они окрепнут в больнице?
– Отличный план, – сказал я, – план, доказывающий, что ты прислушиваешься не только к черту. Эти люди, которые столько страдали, имеют большее право на спасение от немцев, чем ты.
– Превосходный план, – сказал черт. – Жаль, Лейковичи не знают, что их везут в больницу на той же машине, которая задавила их любимицу. В минуту ясновидения они попытались отравиться газом. Но убийца их ребенка отвез их в больницу, где они завтра проснутся. По улицам будут маршировать их немецкие палачи, и они так и не узнают, жива девочка или умерла.
Я сидел на плече у Альберехта и закрывал ему уши своими крыльями, надеясь, что он не услышит черта, но моя надежда была тщетной.
Теперь они ехали по городу. Фонари горели, обитатели домов больше не заделывали окна черной бумагой. Здесь улицы тоже были запружены. Движение заблокировала колонна нидерландской военной техники. Эта колонна из грузовиков, тягачей, перевозивших пушки, и даже пушек на конной тяге вилась по городу, как дохлый червяк в яблоке.
Чтобы проехать, Альберехту пришлось резко взять вправо.
– Видишь вот тут вот, по правую руку, канал? – спросил черт. – Езжай прямо в него – и всем горестям конец. Эрик избавится от Мими и сможет попытать счастья с Герланд или с какой-нибудь новенькой. Лейковичам ты окажешь благодеяние, вернув в царство смерти, откуда их вытащили этот глупец Леман со своей шустрой сестрицей. Благословенны Нидерланды, где столько воды, что в ней можно утопить любой позор.
Вот так взять и махнуть в канал? Но как? На улице столько народу… Совсем рядом военные с тракторами и автокранами…
Крыша машины не успеет скрыться под водой, как отважные спасатели попрыгают следом в канал, чтобы укрепить на колесах стальные кабели.
Таким образом они и доехали без задержек, достойных упоминания, и без каких-либо происшествий до дверей больницы, остановившись перед которыми Эрик выскочил из машины, бросился в больницу и вернулся с четырьмя санитарами и парой носилок.
Когда на Лейковичей, лежащих на носилках, упал свет от мощных фонарей, освещавших площадь перед больницей, Альберехт впервые увидел этих людей. Странное дело: единственная мысль, вертевшаяся у него в голове, была такая: я знаю ответ на все ваши вопросы.
Он понимал, насколько безбожна эта мысль, но что он мог сделать, не веря, не зная, что эти слова нашептал ему черт? «Я знаю ответ на все ваши вопросы, и я единственный, кто знает, что я это знаю».
Он смотрел, как они лежали на носилках и как их проносили мимо него, в больницу. На Лейковиче были ботинки на резиновой подошве с полностью стершимся рисунком, серые мятые брюки, пиджак от другого костюма и зеленый свитер. На ввалившихся закрытых глазах поблескивало пенсне, которое он, видимо, носил всегда, потому что упоры на пружинках проделали глубокие вмятины на переносице его белого бесформенного носа.
Голова его жены выглядела очень большой, такой большой, что ничего другого в ее облике Альберехту не запомнилось. Ее голова напомнила ему портреты королевы Вильгельмины с маленьким подбородком и большим, чувственным ртом без губ. Волосы, черные и седые пряди без промежуточных оттенков, были туго зачесаны назад и так крепко забраны шпильками, что прическа оставалась в полном порядке.
«Вот это и есть те люди, которым я причинил столько горя, – думал Альберехт, пока ехал дальше следом за Эриком. – Сколько еще пройдет времени, прежде чем они выяснят, что это сделал я?»
На запруженном машинами перекрестке он потерял Эрика из виду и уже не пытался его догнать.
– Ты, конечно, прав, – сказала Мими, – лучше бы они умерли.
– Я бы тоже хотел умереть.
– Быть может, нам всем было бы лучше умереть. Но стоит подождать и посмотреть, что собираются делать немецкие убийцы.
– Я завидую Бёмеру, – сказал Альберехт. – Бомба. Насмерть. Тогда погибло двенадцать человек.
– Если попытаться представить себе, как немцы будут унижать наши судебные органы и полицию, то действительно можно ему позавидовать. Но, Бертик, пока ты жив, надо быть сильным.
– Может быть, и надо, но я-то совсем не сильный. И почему я тогда не задержался в здании суда хоть на пять минут. Лежал бы теперь спокойненько под обломками, как Бёмер.
Вот ведь, на теле ни единой царапины и ни один смертный не знает о его преступлении – а он, неблагодарный, произносит святотатственные речи! Я даже расплакался. И уверен, что Господь тоже расплакался и в его Святое сердце закралось сомнение: зачем Я уберег этого недостойного? И я обратился с мольбой к Господу, чтобы он простил моего подопечного.
– Такое нельзя говорить вслух, – сказала Мими.
– Нельзя говорить вслух! – повторил Альберехт, и в его голосе послышались злые нотки. – Лучше бы вы говорили вслух побольше. Лучше бы пораньше рассказали мне о Лейковичах. Тогда, возможно, удалось бы так устроить, чтобы они вовремя уехали из Нидерландов. Могли бы, например, вместе с Сиси, на том же грузовом судне, уплыть в Америку. Это было вполне реально, если бы я знал. И были бы они сейчас в Америке вместе с Сиси и приемной дочкой. Почему вы мне ничего не рассказывали? Почему Эрик молчал?
– Но подумай сам, Берт, на какие деньги они жили бы в Америке? Здесь все было просто. Лейкович плодотворно работал у Эрика в издательстве. Да старик и не захотел бы никуда уезжать!
– Вы с Эриком, – ответил Альберехт, – отлично знаете, как надо перестроить мир в соответствии с идеями Маркса, который умер уже шестьдесят лет назад, а то и больше. И маленькое такое кровопролитие, если оно потребуется, вас тоже не смутит. А когда люди рядом с вами оказываются в беде, вы ходите, точно зашоренные.
– Зашоренные? Мы? Что ты, Берт… Если бы Эрик не помогал, Лейковичи не смогли бы жить в Нидерландах.
– Говоришь, Лейкович плодотворно работал в издательстве. Ну а Ренсе? У вас все стены завешены картинами, но нет ни одной картины Ренсе.
– Точно не знаю. По-моему, что-то его есть на чердаке. Во всяком случае, Эрик не раз оплачивал его выпивку, это точно.
«Она говорит это, лишь бы что-нибудь сказать, – думал Альберехт. – Лишь бы что-нибудь сказать. Люди часто так говорят. Да я и сам тоже. Я уже много дней подряд говорю, лишь бы не молчать. “Берт, ты поможешь найти пропавшую девочку?” – и я что-то говорю. Не хочу, чтобы меня разоблачили, я в опасности. Но и другие говорят, лишь бы что-нибудь сказать. Порой кажется, что у любого человека на совести есть задавленный ребенок». Альберехт кашлянул и сказал:
– Но вы могли бы его морально поддержать и повесить какое-нибудь его полотно?
– А ты у себя повесил?
– Я – нет. Но Ренсе обвиняет меня в мещанстве. И правильно делает. В художественном мире я чужак. Если бы я повесил у себя какую-нибудь картину, он бы усомнился в собственном таланте. Но вы-то знатоки. У вас в этом мире есть связи, вы могли бы ему помочь добиться успеха. Вы пользуетесь авторитетом.
– То-то и оно. И мы убеждены, что истинное призвание Ренсе – преподавание. Он мастерски умеет рисовать реалистично, если захочет, поэтому так обидно, что он пишет только однотонные синие полотна.
– Рисовать предметы, как в жизни, утратило смысл, говорит он, после изобретения фотографии.
– Этому утверждению уже больше ста лет – столько, сколько прошло с момента изобретения фотографии. И Ренсе далеко не первый, кто высказывает такое мнение. Но ты же понимаешь: красить полотно в синий цвет или вообще не заниматься живописью – это одно и то же.
– Он не хочет соревноваться с фотографией.
– Предпочитает соревноваться с малярами и штукатурами, ну-ну.
– Возможно, в будущем люди будут судить об этом иначе. Через двадцать лет он может стать знаменитым на весь мир. Почем ты знаешь? Час назад ты сама говорила, что в будущем его будут считать великим пионером.
– Но я не живу в этом будущем, Берт, я не живу в бесклассовом обществе. Мои вкусы сформировал капитализм.
– Ты человек милый, но непоследовательный. Ты только что говорила совсем другое.
– Вовсе нет. Сейчас я говорю о моем субъективном впечатлении, о моем личном отношении к синим картинам Ренсе. Но вовсе не утверждаю, что с объективной точки зрения он неправ. Вовсе не утверждаю. Но я человек сегодняшнего дня, а Ренсе, если действительно что-то собой представляет, – человек будущего. Я же не могу заставлять себя чувствовать не то, что чувствую? Это было бы неискренне!
– Но Ренсе от этого не легче ни на каплю. Для Ренсе все выглядит очень кисло.
Когда они подъехали к вилле, в комнатах уже был включен свет и фонарь над входной дверью тоже горел, освещая машину Эрика, сверкавшую хромированными деталями.
– Значит, Эрик уже взял ключи у Лины, – сказала Мими.
– Быстро же она его отпустила!
– Возможно, ее муж вернулся.
– Нет, этого не может быть. Он ведь в армии! Когда армия капитулирует, солдаты не расходятся просто так по домам. Их берут в плен.
– Ты так думаешь? Какой бред.
Альберехт посмотрел на дом Лины и увидел, что там тоже горит свет, но только в двух окнах, остальные окна темные. Он въехал в сад и поставил машину под сливу. Выключив мотор, почувствовал громкий шум в ушах и подумал: «Я бы хотел много дней подряд не садиться за руль».
Все в округе выглядело таким мирным и таким целым, как будто нет никакой войны. Даже пожара в Роттердаме отсюда, с земли, не было видно.
Эрик сидел на пуфе посередине гостиной. Играло радио.
– Бога ради, не надо радио, – сказала Мими и выключила звук.
Эрик уже снял пиджак и развязал галстук. Рядом с ним на полу стояла керамическая бутылка йеневера и налитая до половины рюмка.
Герланд, стоя на коленях у одного из книжных шкафов, водила пальцем по корешкам книг и время от времени снимала с полки то одну, то другую книгу, а затем бросала ее Эрику. Эрик раскладывал их вокруг себя невысокими стопками.
– Что ты собираешься делать? – спросил Альберехт.
– Хочу их сжечь, – сказал Эрик, – все-все сжечь. Если сюда заявятся фрицы, то мне совершенно неохота, чтобы меня немедленно замели из-за нескольких запрещенных книжонок.
– Откуда ты знаешь, какие книги запрещенные?
– Это понятно и ребенку. Вот смотри: Герман Раушнинг, «Разговоры с Гитлером». Самые острые моменты переводчик выпустил. Но все равно. Когда Адольф злится, он катается с пеной у рта по полу и кусает ковер. Вот еще. Томас Манн. Сейчас в Америке. Проклял Гитлера. Запрещен. А тут его брат – Генрих Манн. Написал книгу «Верноподданный». Читал? Нет? Рекомендую прочитать. Тогда бы ты понимал, какие свиньи задают тон в Германии. Причем он написал это задолго до того, как Гитлер пришел к власти. Если не боишься, можешь взять. При условии, что ты мне ее не вернешь.
Эрик протянул «Верноподданного» Альберехту, но тот не пошевелился. Эрик не стал настаивать и положил роман на одну из стопок.
– Где ты их собираешься сжигать? В камине?
– В саду. Камин для этого мал.
– Собрание сочинений Гейне, – сказала Мими. – Им тоже не понравится?
– Ты еще спрашиваешь! Гейне! Не только еврей, но и социалист.
– Но он уже так давно умер, – заметила Герланд.
– Все равно давай его сюда, – сказал Эрик и сделал большой глоток йеневера.
Это было великолепное издание, в натуральной коже, шесть или семь томов, Альберехт не успел сосчитать.
Герланд вынул их из шкафа, и они упали в беспорядке на пол.
– Я тебе помогу, – сказала Мими и села на корточки рядом с Герланд у книжного шкафа.
Альберехт открыл двери в сад, вернулся и отнес порцию книг на террасу. Где лучше развести костер? У края террасы, не слишком близко к дому? Или на траве? Где огонь хорошо разгорится, но дому ничего не сделается? Он стоял в нерешительности с собранием сочинений Гейне в руках. «Никогда не читал, – размышлял он, – может быть, несколько стихов в школьные годы, но я уже не помню, о чем. Единственное, что я делаю с книгами этого поэта, – я их сжигаю».
Альберехт решил устроить костер на траве. Поставил книги стоймя, приоткрытыми, решив, что так они будут гореть лучше, чем лежа на земле в закрытом виде. Вернулся в комнату за новой партией книг.
Мими с Герланд все подносили и подносили книги к ногам Эрика. Тот брал их по очереди в руки, открывал, опять закрывал. Прощался со своими книгами и подливал себе йеневера.
Альберехт взял ветки и поленья, приготовленные для разжигания камина, отнес на улицу и разложил среди книг. Пока раскладывал их, сидя на корточках, услышал за спиной шаги по гравию. Обернулся и посмотрел вверх.
«Уже во второй раз я смотрю на нее снизу вверх», – подумал он.
Лина была в летнем полотняном платье белого цвета, без чулок, юбка на палец не доходила до колена. Поверх платья она надела вязаную шерстяную кофту, которая, оттого что Лина сложила руки на груди, туго обтягивала ее бюст.
– Сжигаем книги?
– В такой момент особенно остро осознаешь, как мало ты читал.
Альберехт положил на приготовленную для сожжения пирамиду из книг новую порцию и встал.
– Людям свойственно преувеличивать, – сказала Лина. – Вон та книга, «Разговоры с Гитлером», Германа Раушнинга. Если Гитлер действительно такой идиот, каким его изображает этот его бывший вассал-перебежчик, то все те, кого Гитлер побеждает, должны быть еще большими идиотами. К тому же гений имеет право на причуды. Почему Ван Гогу можно отрезать себе ухо, а Гитлеру нельзя кусать ковер?
В руке у Лины была маленькая сумочка, из которой она достала пачку сигарет.
– Спасибо, я не курю, – сказал Альберехт.
Лина зажала сигарету губами и, закурив, отдала свою зажигалку Альберехту.
Он снова сел на корточки, попытался поджечь веточку, но ветер задул зажигалку.
– Я буду защищать от ветра, – сказала Лина и села на корточки напротив него.
Альберехт сунул левую руку в карман пиджака, ища бумагу для растопки. В правой руке он держал зажигалку. Лина обеими ладонями обхватила его руку с зажигалкой.
«Трусы у нее в цветочек, – подумал Альберехт, – и от меня они секретов не скрывают».
В кармане пиджака он нашел письмо Оттлы Линденбаум. Не вынимая руку из кармана, скомкал его, так что получилась длинненькая трубочка. Затем чиркнул зажигалкой, поднес к ней письмо и, когда оно разгорелось, поджег от него ветки.
– Лучше бы ты вырвал страницу из книги, – сказала Лина, – на письме были непроштемпелеванные марки.
– Не согласен, – ответил Альберехт, – не согласен. Разжигать костер из книг с помощью выдранных из них страниц – это то же, что вешать человека за его собственные волосы.
«Веверка, – подумал он, – такое вот имя. Или слово, которое что-то значит. Интересно, что? Я не знаю чешского языка. Веверка. Наверное, я забуду это слово, прежде чем доберусь до словаря».
Горящие книги! Менно тер Браак, Макс Брод, Херман Хейерманс, Бертольд Брехт, Й. Хейзинга, Генрих Манн, Клаус Манн, Томас Манн, Ян Ромейн, Эрих Мария Ремарк, Генрих Гейне, Курт Тухольский, Якоб Вассерман, Стефан Цвейг, стопки анонимных памфлетов и прочее, и прочее – все-все поглотило пламя. Альберехт украдкой бросил в огонь листок с приметами Оттлы и обрывки оранжевой листовки.
Они спустились в подвал за кочергой и большой лопатой для угля, которые стояли около котельной установки, потому что плохо горевшие книги приходилось время от времени ворошить.
Страницы, вобравшие в себя пот и слезы людей, их писавших, одновременно исполненные их духовного огня, горели из рук вон плохо. Наверное, дело было в поте и слезах?
В стародавние времена этот же эффект наблюдался при сожжении на кострах святых.
Между тем из города на велосипедах приехали Алевейн Леман и его сестра Трюди. Они рассказали, что немного прибрали в домике у Лейковичей и заперли дверь на ключ. И, кстати, услышали там по радио последние известия.
Населению Нидерландов было велено уничтожить свои запасы вин и крепкого алкоголя. Иначе немецкие солдаты завладеют этими горячительными напитками и начнут совершать злодеяния.
– Букбук! – воскликнул Алевейн, – дай мне ключ от твоего винного погреба! Он должен прекратить свое существование!
– Хорошо, мой юный друг, хорошо! – сказал Эрик и отдал ему связку ключей.
– Спасибо, Букбук, до скорой встречи!
Алевейн вприпрыжку удалился из гостиной в направлении винного погреба.
– По-моему, далеко не факт, что немцы с ходу прикончат весь алкоголь, а потом разнесут все вокруг, – сказала Лина. – Я слышала, что это французские войска так ведут себя в Зеландии.
– Да, конечно, а фрицы увезут все бутылки на грузовике, а потом предложат купить их обратно за бешеные деньги.
– Совсем как евреи, – сказал Эрик заплетающимся языком. – Мими развивает теорию, что на самом деле не немцы испортились из-за соседства с евреями, как уверяет Гитлер, а некоторые евреи испортились по образцу немцев.
– Так и есть, – сказала Мими, – я правда так считаю. Когда я встречаю несимпатичного еврея, то всегда говорю себе, что дело в его происхождении из Германии.
Герланд тоже решила внести вклад в рассуждения о психологических особенностях разных народов:
– Очень может быть! Ведь сразу видно, что португальские евреи совсем другие, чем немецкие.
– Данный вопрос следует исследовать подробнее, – сказал Эрик. – Хуже то, что я испытываю жажду, которая становится все сильнее и сильнее. К счастью, не весь алкоголь хранится в погребе.
Он с трудом встал на ноги и подошел к шкафчику, в котором стояли рюмки и всевозможные бутылки.
– Лина, чего тебе налить?
Горящие книги! Время от времени дуновение ночного ветра приносило в комнату запах дыма.
– Гейне, Томас Манн или антигитлеровский памфлет за три цента, – говорил Эрик с грустным-грустным лицом, – это называется: пахнет жареным. Ну и вонища!
– Эрик как книгоиздатель знает, что, чем и когда пахнет, – произнесла Мими и сделала большой глоток «виски сауэр» – коктейля, который она сама себе приготовила.
– Прости, дорогая, но когда воняют горящие книги, то претензии к производителям бумаги, а не ко мне.
– Глупая шутка в вечерний час, – заметила Лина.
– Ах, Эрик, тебе лишь бы шутить, – сказала Мими. – А вот мне не до шуток. Я люблю книги. Не только читать, но и держать в руках, и смотреть на них, когда они стоят в шкафу. А ты их не любишь. Ты любишь только денежки, которые они тебе приносят.
– А вот Алевейн, как только напишет рецензию на книгу, сразу относит ее к букинисту, – сказала Трюди. – Думаю, от него, от поэта, вы такого не ожидали!
– Я варвар, – торжественно произнес Эрик и допил рюмку до дна. – Признаюсь, не лукавя, что я варвар. Но книгоиздание – это всегда лотерея, так что какая разница.
В таком вот духе протекала беседа этих служителей безбожной словесности, чьи бастионы пали, а сами они мнили, что никто за ними не наблюдает.
К моему великому сожалению, Альберехт поставил рядом с собой бутылку рома. Пил его маленькими глоточками, долго держал на языке, прежде чем проглотить.
Отечество потерпело полное поражение, попытки бежать провалились, завтра сюда придут немцы, Лейковичи живы, какая разница – пить или не пить?
Ром. Уже сколько месяцев не брал его в рот. Альберехт убедил себя, что если будет пить только потому, что это вкусно, то его склонность к алкоголизму пройдет. Пить только вкусные напитки будет доставлять удовольствие, которое заглушит потребность.
Посмотрите на Мими, посмотрите на Эрика, посмотрите на Трюди, на Герланд и Лину. Все они медленно, но верно напиваются.
Трюди поставила свой бокал на стол и отнесла в костер новую пачку книг. Из сада в комнату снова принесло запах дыма.
– Становится холодно к ночи, – заметила Герланд.
– Мы точно с ума сошли, – сказала Мими. – Давайте посидим у нашего костра.
Все взяли бокалы в руки, сунули каждый свою бутылку под мышку и вышли на улицу. Расположились на траве у костра, с наветренной стороны.
Альберехт опустился на землю между Мими и Линой. Лина сказала, кивнув в направлении горящих книг:
– Это похоже на закат Европы, но и без всякой войны и безо всякого Гитлера большинство этих писателей через двадцать лет были бы полностью забыты.
– Даже если книгу читают в течение двух тысячелетий, что это дает? – возразила Мими. – Например, Библию. Стал ли мир от этого лучше?
Альберехт пошевелил кочергой медленно горящую бумагу и посмотрел на взметнувшиеся к небу искры.
– Должен признаться, что никогда в жизни не читал даже Гейне.
– Кто всегда много читал, так это Сиси, – вспомнила Мими, – и всё-всё запоминала.
Лина придвинулась к Альберехту и шепнула ему на ухо:
– Если не считать таких классиков, как Гейне, которые все равно не сгорят, большую часть книг, что издает Эрик, читать просто невозможно.
Послышался негромкий хлопок, как будто ребенок выстрелил пробкой из пистолета-пугача.
– Ты любишь огонь? – спросил Альберехт.
– А ты?
– Когда мне весело, то очень даже.
– Сегодня, перед вашим отъездом, я тебе понравилась?
– Да, очень.
– Тогда зачем же ты поехал в Хук-ван-Холланд?
– Если бы не поехал со всеми, то не пришел бы к тебе с ключами.
– У меня было предчувствие, что ты придешь.
– Как ты могла такое обо мне подумать?
– Мужчины, которые мне нравятся, всегда ко мне приходят рано или поздно.
Она рассмеялась, но так, как будто смеется над совершенно невинной шуткой.
Пххх, снова такой же звук.
«Даже если бы я тогда в глубине души ставил цель у тебя остаться, вовсе не факт, что я пришел бы», – думал он с горечью, постепенно растекавшейся по телу, как бывает, когда тебе вколют шприцем какое-нибудь обжигающее вещество.
Он смотрел на нее и думал: «Я знаю, что глаза у меня водянистые и унылые и по моему лицу не прочитать, как она мне нравится. Наверное, она недоумевает: как так может быть, что меня тянет к этой тряпке».
– Я, пожалуй, немножко ясновидящая, – сказала Лина. – Тебе надо научиться смеяться, несмотря на твое горе.
Лина, сидя на траве, обхватила колени руками. Руки до локтя были голые, кофта оказалась просто накинута на плечи. Из-под задравшегося подола виднелись бедра. Альберехт взял себя в руки и сказал:
– Бедра твои дюнам подобны.
В темноте послышался шорох шагов по гравию. Показался Алевейн с корзиной в руке, слегка покачивающийся.
– Ну как? Всё выпил?
– Вылакал только две бутылки, остальные рассортировал.
Алевейн поставил корзину на землю.
– В эту корзину я сложил по одной бутылке каждого сорта. Остальные стоят в чулане.
– И что ты собираешься с ними сделать? – спросил Эрик.
– Слушай, Эрик, – сказала Трюди, – не прикидывайся дураком. Ты же понимаешь, он хочет взять их себе домой.
– Я не нашел штопора, – сказал Алевейн. – Не знаю, как из них вылить вино.
– А как же ты выпил две бутылки?
– Это было шампанское.
– Хороший мальчик, – сказал Эрик, – послушный, но и кулачки тоже можешь пустить в ход. Надеюсь, ты не выстрелил пробкой в потолок. Это очень дурной тон.
– Я не имею привычки стрелять, – сказал Алевейн. – Пусть стреляют отказники от военной службы.
– Жаль, что ты в детстве не занимался спортом, – пошутила Трюди. – Тебя бы тогда признали годным к службе в армии. И ты защищал бы отечество.
– И не дожил бы до выхода в свет моих стихов, потому что уже пал бы на поле боя. Кстати, Эрик, где рукопись моего сборника?
– Лежит на дне Ниуве Ватервег, – сказал Альберехт, торжественным и одновременно пьяным голосом. – Мы доверили их водной стихии, а после смерти Гитлера стихи будут снова выужены.
Лина сказала:
– Если рыбы не зачитают их к тому времени до дыр.
– Не может быть! Эрик, неужели, правда?
– Но ты же наверняка оставил себе копию? – спросил Эрик.
– Копию? Черт побери, ну ты и бздун! От страха перед Гитлером бросил мои стихи в Ниуве Ватервег. Понимаешь ли ты, мудило, что таких стихов мне уже не написать никогда в жизни? Понимаешь?
– Пойди-ка лучше открой бутылку, – сказал Эрик и лег на левый бок.
Правой рукой он попытался что-то найти в глубине правого кармана, но не нашел.
Альберехт вспомнил про свой швейцарский офицерский нож и протянул его Алевейну.
– Здесь есть штопор.
Но Алевейн его не слышал, потому что все его внимание было сосредоточено на Эрике.
– Это так, – сказал Эрик и снова сел прямо, – ведь у тебя моя связка ключей? На ней висит также штопор. Открой еще несколько бутылок.
– Мне совсем не смешно, – сказал Алевейн. – Черт тебя дери! Стоило Гитлеру пукнуть, и мой издатель уже наложил в штаны. Ядрена вошь. И это называется культуртрегер. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Старый пердун. Культурпредатель. Иуда. Издательский паразит! Представь себе, что христиане покидали бы в воду вообще все Библии, когда пришли исламисты. Представь себе, что…
– Глупый ты мальчишка, – воскликнула Трюди, – ты же подложил два листа копирки, когда писал набело, так что у тебя дома лежат две копии, да еще и черновики. Это я точно знаю.
– Точно знаешь! – язвительно произнес поэт. – Но ты не знаешь, что эти копии я уничтожил уже в первый день войны, потому что…
Громогласный хохот всех присутствующих не дал ему договорить. Если бы они не сидели на земле, то наверняка попадали бы со смеху все, как один. Герланд обхватила Эрика за шею, и они оба опрокинулись на траву. Мими и Лина навалились с двух сторон на Альберехта. Трюди запуталась в объятьях Эрика и Герланд.
– Я думала, что настоящий поэт знает свои стихи наизусть! – воскликнула Лина.
– Слушайте! – рявкнул Алевейн. – Слушайте вы, все!
Он замахал руками, как сумасшедший дервиш, стал высоко поднимать ноги, как будто под ним горит земля, хотя на самом деле стоял достаточно далеко от огня. Затем он наклонился к корзине, взял из нее бутылку, встал поустойчивее и метнул бутылку, словно ручную гранату, в костер. То же самое он проделал с другими бутылками. Над костром поднялся густой пар с запахом алкоголя, но огонь не погас.
С великим прискорбием взирал я на этого пиита, тщетно пытавшегося своим деянием избавить других пиитов от погибели на костре.
Тщетно. Казалось, что от вина огонь, наоборот, разгорелся еще ярче, точно так же, как и во все века вино только раздувает пламя поэзии.
Но что вдруг увидел Альберехт, лежа в приступе смеха на земле, одной рукой обняв Мими, другой Лину? Что он увидел, точнее, что ему примерещилось, нет, что он все-таки увидел сквозь пахнущие алкоголем клубы пара, что это было там, у костра, в красных отблесках пламени, вырывавшегося из книг?
Привидение? Или воскресший из мертвых?
Альберехт со стоном снова сел ровно, разинув рот и тараща глаза. По гравию шел человек в роговых очках и вел за руль велосипед. Человек, очень похожий на Бёмера. Альберехт с трудом встал во весь рост. Это действительно был Бёмер. На его круглом солидном лице появилась удивленная улыбка, подойдя ближе, он поправил очки, словно тоже не мог поверить в то, что видит вокруг себя.
– Отто… – пробормотал Альберехт.
– Да, здравствуй, Берт, как дела?
– Отто, но я думал…
– Прости, что я помешал, – сказал Бёмер.
Он сделал шаг в сторону, кивнул компании на траве и сказал:
– Добрый вечер!
– Подсаживайтесь к нам, дружище, – крикнул ему Эрик.
– Простите, что я помешал, – повторил Бёмер, делая неотчетливый жест, – но я должен кое-что сообщить Альберехту, причем весьма срочно. Вы не возражаете?
Никто не возражал. Даже Алевейн Леман не издал ни звука.
– Садитесь пожалуйста! – воскликнул Эрик театральным голосом. – И берите с нас пример. Согревайтесь, пока бушует великий пожар Рима.
Хотя Бёмер ничего не сказал, было ясно, что он хочет поговорить с Альберехтом наедине.
Альберехт это понял, подошел к нему на несколько шагов, и они вместе прошли на газон. Бёмер все еще вел за руль велосипед.
Они остановились спиной к огню.
– Боже мой, Бёмер, а я уж думал…
Насколько бессмысленна была бы эта фраза: я думал, что ты погребен под обломками здания суда. Какое счастье, что Бёмер его перебил, словно ничего не слышал.
– Боюсь, что я допустил ужаснейшую оплошность, Берт, но это, честное слово, нечаянно. Твой брат Ренсе не значится в немецком списке. Там нет его имени. Нет.
– Значит, немцы его…
– Немцы его не разыскивают. Человек, рассказавший мне об этом, ошибся.
– На этот раз ты видел список?
– Нет, но я разговаривал с человеком, который сам держал его в руках. Это точно, на сто процентов. И Ренсе в списке нет.
– Так что там все-таки написано? Они же не перепутали буквы R и B? Там написано B. Alberecht?
– Ты меня неправильно понял. В списке вообще не было фамилии Альберехт.
– Правда?
– Клянусь. Там было написано Альбрахт или что-то в этом роде. В общем, Альбрахт. Фамилия, фигурировавшая в платежной ведомости британской разведки. Они всё проверили.
Альберехт достал носовой платок и вытер лоб. Напряжение прошло, и он разговорился.
– B. Alberecht было бы мало правдоподобно. При крещении мне дали имена Simon, Christian, Hendrik, Urbaen, Bert. Получается S. C. H. U. Bert. Шуберт. Понимаешь, так захотелось моей матушке.
– Имя, составленное из инициалов, – улыбнулся Бёмер, – да, действительно.
Бёмер подсел к костру, и Алевейн, немного успокоившийся, пошел в дом, чтобы принести ему рюмку.
Альберехт поспешил к машине. Голоса за спиной, отблески в небе, винные пары в носу, сухие-пресухие ладони. Ренсе нет в списке. Наша семья благополучно пережила войну. Никто из друзей и знакомых не пострадал.
И я напомнил ему строчку из стихотворения благочестивого поэта XIX века, которое они должны были читать в школе:
«Но более всего страдает человек, грядущего страданья опасаясь».[46]
Было уже далеко за полночь, по улице еще двигались люди, но уже намного меньше, чем раньше. Фонари светили, как ни в чем не бывало. В тех домах, где люди еще не спали, горело электричество. Нигде никаких выстрелов, никто не бегает и не кричит. Казалось, будто никакой войны вообще никогда и не было.
Столько переживаний – и всё зря. Бедный Ренсе со своими Ренсерозами и Лазуренсами. Его картины гроша ломаного не стоят, но это все, что у него есть. «Надо спешить, – думал Альберехт, – надеюсь, я еще успею, надеюсь, он их еще не выбросил в канал и не сжег».
Превышая разрешенную скорость, легко управляя машиной, чувствуя себя хозяином положения, как бывает только с пьяницей, когда он сделает уступку своей жажде, но не слишком большую, Альберехт мчался по улицам на своей маленькой машинке, внезапно наполнившей его умилением. Ах ты шустрый озорник, ты отвозишь меня всюду, куда надо. Я прощаю тебе, что ты убил Оттлу. Ты не виноват, ведь это я сидел за рулем.
Шины скрипели на поворотах, он ехал вперед и вперед и остановился, взвизгнув тормозами, перед домом Ренсе, позади его «форда».
Альберехт громко захлопнул за собой дверцу, для того чтобы предупредить Ренсе о своем приезде, так как воображал, что брат узнаёт этот звук издалека. Свистнул. Почувствовал, что с головой что-то не то, не как обычно. Потрогал ее руками и теперь только обнаружил, что забыл надеть шляпу. Свистнул еще раз и посмотрел вверх. Несколько шагов, и он уже стоит на тротуаре перед дверью и звонит. Через окошечко в двери Альберехт увидел, что наверху лестницы горит свет.
Дверь открылась почти мгновенно. Альберехт вошел и посмотрел вверх. Там на лестничной площадке стояли три или четыре человека. Он никак не мог их узнать, как ни вглядывался; оттого что приходилось задирать голову, у него зарябило в глазах.
– Паула, это ты?
Глупый вопрос, на который не последовало ответа. Альберехт встал на нижнюю ступеньку лестницы и крикнул:
– Паула! Ренсе нет в списке. Ему нечего бояться!
– Паула? – спросил женский голос, не принадлежавший Пауле.
Альберехт начал подниматься по лестнице.
– А где же Паула? Ренсе нет в списке гестапо. Это была ошибка. Я приехал им рассказать. Я его брат. Я так за него рад! Это была ложная тревога. Ренсе!
Тут Альберехт услышал, как женщина разразилась рыданиями и произнесла, всхлипывая:
– Паула в больнице. Ренсе повесился.
СЛОВНО боясь упасть, Альберехт обеими руками хватается за перила. Не может сделать больше ни шага. Не может сказать ни слова, в голову не приходит ни одной мысли.
Зачем ему разговаривать с совершенно незнакомыми людьми?
В этот миг ему показалась, что жизнь его выключили, что она больше не течет в будущее, а только капает, словно вода из плохо закрывающегося крана.
Не говоря ни слова, он разворачивается на узкой ступеньке, на скользком кокосовом коврике, спускается. Никто его ни о чем не спрашивает. Единственное, что он слышит, это приглушенный разговор наверху лестницы. Лает собака. Вернувшись к входной двери, он открывает ее за веревочку, выходит на улицу и как можно осторожнее закрывает за собой.
С ощущением, что вот-вот рухнет на землю, доходит до машины, садится, заводит мотор и уезжает. Мотор странно воет, и хотя он вжимает педаль газа до самого пола, машина двигается со скоростью инвалидной коляски.
– Проклятье! – кричит он.
Альберехт отпускает педаль газа и вжимает ее снова, но мотор по-прежнему воет, машина по-прежнему идет со скоростью 25 километров в час.
Из сострадания я положил его руку на рычаг переключения скорости, и тогда он понял, что забыл переключить скорость и едет на второй. Он переключил скорость, мотор перестал выть, машина поехала нормально.
«Ох уж наш Ренсе, – думал он, – ох уж наш Ренсе. Моя мама никогда не была счастлива. Муж ушел. Сыновья оказались далеки от ее идеала. У меня нет музыкального слуха, хоть меня и зовут S. C. H. U. Bert. Отец предчувствовал, что такое имя ничего не даст, и настоял на том, чтобы Ренсе назвали попроще. И правильно, потому что у Ренсе тоже нет музыкального слуха. Какой талант у него есть? А какой талант у меня?
Я одержим злым духом, который ведет меня к гибели. Я погибну так же бесславно, как Ренсе, разница в том, что поживу подольше и буду больше страдать».
Эти слова Альберехта неприятно поразили Господа – после всего, что я сделал для своего подопечного! И Господь решил преподать ему, неблагодарному, урок, чтобы он прочувствовал, что бывает с человеком, когда у него нет ангела-хранителя.
Альберехт ехал по улице, которая называлась Бастионной. И вот у него совершенно неожиданно заглох мотор. Альберехт отключил сцепление, нажал на газ, услышал, что мотор заработал, проехал несколько метров и опять встал, прямо посреди улицы. Попытался повторить все снова, стартер завыл, фары погасли, двигатель отказывался работать.
Проклятье!
Альберехт глубоко вздохнул, от бессилия и уныния прикрыл глаза. Взгляд его упал на датчик уровня бензина. Прибор показывал, что бак пуст. О Господи! Похоже, я схожу с ума. Забыл заправиться. Какая глупость!
Альберехт вылез из машины и оттолкал ее, выруливая правой рукой, к поребрику, где и оставил.
У него было ощущение, что в лицо ему ударил ледяной ветер будущего, еще более черного, чем настоящее. А ведь всего полчаса назад он думал, что национальная катастрофа, вроде как не затронувшая его самого и его близких, не так уж катастрофична!
Ренсе нет в живых. Ушел из жизни из-за нелепой ошибки.
А кто сообщил Ренсе, что его разыскивает гестапо? Я!
Надо было от Бёмера сразу потребовать: покажи мне этот список! От рассказов да пересказов толку нет. Я не собираюсь волновать моего брата, пока не увижу список своими глазами.
Но я попался на крючок, потому что от паники еле соображал.
Бёмер с его серьезным лицом, по которому видно, что он не способен ошибаться. А теперь пришел как миленький, это, говорит, была ошибка. Похоже, от войны у всех размягчение мозгов. Все перестали соображать.
Почему Лейковичи решили отравиться газом? От страха, оттого что они евреи?
Маловероятно. Ведь они отказались бы бежать в Англию, потому что не знали, что случилось с девочкой… отказались бы уезжать из Нидерландов, чтобы она не осталась здесь одна…
А тут решили отравиться газом?
Ну конечно, дурень ты, дурень! Да, решили отравиться, потому что узнали правду. Да, во время вечерней прогулки нашли в кустах ее тело. Вот и ответ на вопрос, почему они попытались совершить самоубийство. Лейковичи нашли тело девочки.
И что они с ним сделали? Взяли домой? Нет, Трюди с Алевейном увидели бы, они же заходили в дом. Лейковичи девочку похоронили. Или, если не хватило сил рыть могилу, накрыли ее чем-нибудь, одеяльцем или цветочками. Надо поехать посмотреть, правильные ли я делаю умозаключения. Но откуда взять бензин?
«Прокурор – вот ведь профессия! Я умею раскладывать по полочкам поступки других людей вплоть до мельчайших деталей, но неизменно терплю фиаско, когда пытаюсь сам что-то предпринять».
Собственно, идти ему было недалеко. Еще два квартала, а там уже и мамин дом.
Приближаясь к первой улице, которую надо было перейти, Альберехт услышал доносящийся оттуда шум и гул тяжелых моторов. На углу стояла группа людей, смотревших на что-то, что там происходило. Он удивился, почему они не подойдут ближе, чтобы рассмотреть получше.
Дойдя до угла, он посмотрел туда же, куда и все, и так испугался, что всхрапнул, как будто задыхается. Там были немцы.
Остановиться он побоялся, но несколько мгновений ноги его не слушались и отказывались нести дальше.
Немцы хотели поставить на этой улице целую вереницу танков и грузовиков для переброски пехоты. У танков стволы пушек были опущены и прикрыты чем-то вроде полотняных чехлов. Для маскировки танки и грузовики были обложены ветками деревьев с листьями. Солдаты из танковых расчетов слезали со своих боевых машин и ходили туда-сюда, курили, разговаривали и ничего плохого не замышляли. Их каски, похожие на походные котлы, были обвязаны сеткой, из которой тоже торчали ветки с увядшими в жарком бою листьями. Кого – Макбета или короля Лира – погубил этот движущийся лес?
Две смеющиеся девушки, долго и старательно расчесывавшие волосы, осмелились подойти к танкам ближе других, так что иноземные военнослужащие уже собрались с ними познакомиться.
Испуганно глядя на происходящее, как будто это было запрещено, Альберехт перешел через улицу. И хотя никакого запрета не существовало, он все равно не мог остановиться среди зевак от чувства стыда. Тяжелые цепи, которые начали развешивать вокруг танков, с грохотом упали на мостовую.
Альберехт услышал, как рядом с ним один немец крикнул другому:
– Ach, du Karl! Du Luder![47]
Он вспомнил, что так и не успел выяснить, действительно ли евреи в Чехословакии разговаривают по-немецки. Но Линденбаум – немецкая фамилия. Значит, родным языком девочки был немецкий. А письмо она написала по-чешски, наверное, только потому, что боялась, что его откроют. Письмо, написанное по-чешски, немцы не так легко прочитают. Я его тоже не прочитал. Веверка. У Альберехта вдруг прорезался сильный насморк, так что пришлось два раза судорожно шмыгнуть носом.
Через пять минут он уже дошел до дома матери. В гостиной и коридоре горело электричество, шторы были раздвинуты, так что на тротуар перед домом падали полосы света.
На траве вокруг бомбоубежища напротив дома разбросаны скомканная бумага, газеты, пустые пакеты и апельсинные корки, как будто там был праздник, теперь уже закончившийся.
Содрогаясь всем телом, Альберехт стоял перед дверью, особенно холодно было голове. Достал из кармана серебряную коробочку. В ней остались две мятные пастилки. Сунул обе в рот и разжевал.
Нажимая на кнопку звонка, заглянул внутрь через окошечко в верхней части двери.
«Сейчас я должен буду рассказать, что Ренсе нет в живых, – подумал Альберехт, – я, теперь ее единственный сын. Но в какой мере тридцативосьмилетний сын остается сыном?
Если бы она не была так одинока, мне было бы легче».
– Мужайся, – шепнул я ему, – Господь тебе поможет.
Альберехт услышал, как на ближайшей колокольне пробило два часа. «Почему она еще не спит?» – подумал он.
Он видел, как она приближается к двери. Медленно, держа в правой руке носовой платок. Она плакала. Ей уже все известно.
Она открыла дверь и обняла Альберехта.
– Ах, Берт, как мило с твоей стороны, что ты ко мне приехал. Мне невыносимо тяжело. Я совсем одна. Боюсь ложиться спать. Просто не знаю, что делать.
Она поцеловала его в обе щеки, и он почувствовал запах алкоголя. Поцеловал ее в ответ и подумал: «Как так – не понимаю, но она уже все знает».
Идя рядом друг с другом, они дошли до гостиной, и мама сказала:
– Меня бросила Хильдегард. Моей немецкой служанки и след простыл. Пошла на улицу посмотреть, тут ли уже солдаты с ее родины, с ее Heimat. Вот уж от нее не ожидала. Ах, Берт, хочешь – верь, хочешь – не верь, но эту страну предали такие вот немецкие служанки. Это правда. Это смешно, это даже не трагично.
– Послушай, мама…
Они вошли в гостиную.
Скрепя сердце, он подыскивал слова, беспомощно, отчаянно. На низком столике стоял ее бокал и хрустальный графин, наполовину полный виски.
– Я правда очень рада, что ты заехал меня проведать. Но не многовато ли ты пьешь? По глазам вижу. И с пьяных глаз садишься за руль. Не делай этого, Берти. Ко мне тут заходил какой-то человек, твой давнишний друг, Фритс Бертельс. Я его с трудом узнала. Принес для тебя письмо. Куда же я его положила?
Письмо лежало на рояле. Довольно толстое письмо.
– Но, мама…
– Ладно, ладно, сыночек. Посмотри скорее, что там внутри. Фритс сказал, это очень срочно. Он приложил много усилий, чтобы тебя разыскать.
Альберехт послушно вскрыл конверт. Он уже давно понял, что лежит в конверте, и чувствовал себя шпагоглотателем, подавившимся шпагой.
Показались банкноты по сотне фунтов стерлингов и записка: «Все-таки получилось. Счастливого пути. Всего доброго! Голландия будет свободной. Твой старый друг Андре».
– Ах, – сказала мама, – там деньги?
Похоже, она не заметила, какие деньги, ведь была без очков.
Да, это были деньги. Английские банкноты обжигали ему руки, словно говоря: «Мы слишком хороши для твоих голландских пальцев. Наши пушки не молчат. Наш король не бежал от немцев. Мы не обесценились и стоим ровно столько же, сколько вчера».
– Мама, – сказал Альберехт. И кашлянул.
– Деньги, – сказала она, – что на них можно купить? На моем веку это уже вторая война. Начинается ужасное время. Не знаю, зачем мне петь, когда люди думают только о том, как бы впиться друг другу в глотку. Мир сошел с ума, и сошедшие с ума люди хлопают в ладоши, когда им об этом рассказываешь, если только музыка красивая. Начинаешь себя презирать за то, что, несмотря на стыд, еще способна петь.
Она пересела в кресло и оперлась щекой о руку, в которой держала носовой платок.
– Ренсе с Паулой я больше не видела.
– Мама, мама… – его голос скрипел, как треснувший деревянный башмак. – Мама, Ренсе наложил на себя руки.
г. Харен (пров. Гронинген),
7 сентября 1970 г. – 30 мая 1971 г.
Примечания
1
The Cloud of Unknowing – религиозный трактат, написанный неизвестным мистиком в XIV в. В ХХ веке трактат привлек внимание таких мыслителей, как Эрих Фромм, Сьюзен Зонтаг и др.
(обратно)2
Schatz (нем.) – дорогой (досл. «сокровище»), ср. schat (нид.).
(обратно)3
Шляпа борсалино – шляпа из мягкого фетра, обвитая лентой. Названа по имени фирмы, выпускавшей такие шляпы с XIX века.
(обратно)4
Стамппот – традиционное национальное блюдо нидерландской кухни. В русском языке иногда встречается название «лейденская смесь». Основной состав этого блюда – картофельное пюре, смешанное с другими овощами или фруктами.
(обратно)5
НСБ – Национал-социалистическое движение. Так называлась нацистская партия в Нидерландах, существовавшая с 1931-го по 1945 г.
(обратно)6
«Смехом бичует нравы». Девиз Театра комедии (Opéra Comique) в Париже. Первоначально – девиз итальянской труппы комического актера Доминика (Dominico Brancolelli) в Париже, сочиненный для нее неолатинским поэтом Сантелем (XVII век).
(обратно)7
Г-ну доктору Анатолю Линденбауму, Карпова ул., 15, Прага, Чехословакия, Протекторат Богемии и Моравии, Германия (чешский и немецкий).
(обратно)8
Знаменитый американский фильм 1938 г., режиссер Фрэнк Капра.
(обратно)9
Традиционный голландский джин.
(обратно)10
Фокер G.1 (нидерл. Fokker G.1) – нидерландский двухмоторный самолет, применялся как истребитель и разведчик. Состоял на вооружении в Нидерландах с сентября 1939 года. Всего изготовлено от 61 до 63 экз.
(обратно)11
Koninklijke Luchtmaatschappij – знаменитая нидерландская авиакомпания, существующая до наших дней.
(обратно)12
(нем. 3,7 cm Flugzeugabwehrkanone) – немецкое 37-мм зенитное орудие, разработанное компанией «Рейнметалл».
(обратно)13
Восьмидесятилетняя война, в нашей стране больше известная под названием «Нидерландская буржуазная революция XVI века», – вооружённая борьба Нидерландов за освобождение от испанского владычества, продолжавшаяся суммарно 80 лет, с 1568-го по 1648 г.
(обратно)14
«Жизнь коротка, искусство вечно» (латинское изречение).
(обратно)15
Госпожа на верхнем этаже (нем.).
(обратно)16
Шоу должно продолжаться (англ.).
(обратно)17
Том Пус – знаменитый своей изобретательностью кот – герой необычайно популярных комиксов Мартена Тоондера (1912–2005).
(обратно)18
Герой той же серии комиксов, барбос-полицейский.
(обратно)19
Вольные стрелки – те, кто не подпадает под определение параграфа 1 главы 1 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года, называющегося «О том, кто признается воюющим».
(обратно)20
Veverka (чешск.) – белка.
(обратно)21
Гронинген – одна из 11 существовавших в то время провинций Нидерландов, расположенная на северо-востоке страны, у границы с Германией.
(обратно)22
Дамба на севере Нидерландов, соединяющая соседнюю с Гронингеном провинцию Фрисландию с западной провинцией Северная Голландия.
(обратно)23
Город Леуварден – столица Фрисландии.
(обратно)24
Менейр (нид. meneer) – вежливое обращение к мужчине, господин, ср. мсьё во французском.
(обратно)25
Fahndungsliste (нем.) – список разыскиваемых.
(обратно)26
l'assurance (франц.) – страхование.
(обратно)27
Rense d’or (франц.) – Ренсе из золота.
(обратно)28
Rense de fer (франц.) – Ренсе из железа.
(обратно)29
Авиаматка, или гидроавианосец, – корабль-база для гидросамолетов. Были на вооружении многих стран с начала Первой мировой войны.
(обратно)30
Я мать (нем.).
(обратно)31
Твоя дочь. Твоя маленькая дочь (нем.).
(обратно)32
Основатель Национал-социалистического движения в Нидерландах. В годы оккупации страны – «вождь» (leider), то есть глава марионеточного правительства страны.
(обратно)33
Дословно: «равное включение (в деятельность)» (нем.) Под гляйхшальтунгом подразумевалось вовлечение нацистами в свою деятельность структур, организаций и лиц, изначально им не подчинявшихся.
(обратно)34
Одно из обозначений Бога в иудаизме, досл. «Наш Господь».
(обратно)35
Это дом Божий и врата Небес (лат.)
(обратно)36
Петрус Герардус Вертин (1819–1893) – гаагский художник эпохи романтизма.
(обратно)37
Средняя школа в центре Амстердама, названная в честь нидерландского героя XVII века.
(обратно)38
Термином «воздушная война» обозначают ведение военных действий с помощью летательных аппаратов. Воздушная война включает воздушную разведку и применение самолетов для нанесения ударов по врагу.
(обратно)39
Термином «воздушная война» обозначают ведение военных действий с помощью летательных аппаратов. Воздушная война включает воздушную разведку и применение самолетов для нанесения ударов по врагу.
(обратно)40
«Морская война» (лат.).
(обратно)41
Юмористическое стихотворение Геррита ван де Линде (1808–1858) «Предки и потомки», в котором могучим и славным предкам противопоставляются ничтожные духом и болезненные потомки.
(обратно)42
За исключением войск в Зеландии (нем.)
(обратно)43
Voilà c'est tout – вот и все (франц.).
(обратно)44
«Кроме войск в провинции Зеландия» (нем.)
(обратно)45
Судоходный канал в дельте Рейна и Мааса, выходящий к морю около Хук-ван-Холланд
(обратно)46
Строка из стихотворения П. А. де Хенестета (1829–1861).
(обратно)47
Ах ты, Карл, ты сука! (нем.)
(обратно)



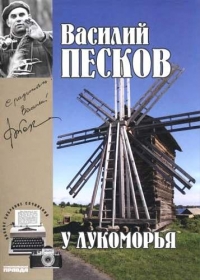

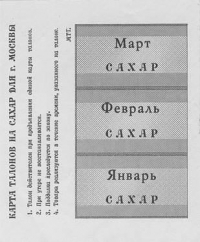
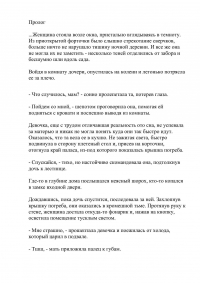
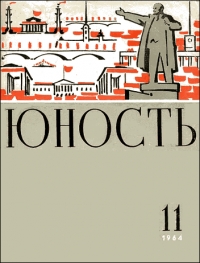
Комментарии к книге «Воспоминания ангела-хранителя», Виллем Фредерик Херманс
Всего 0 комментариев