Esquire, № 110, 2015
Владимир Набоков
Человек остановился
В текстах сохранены авторские орфография и пунктуация.
Story, Copyright © 2015, Vladimir Nabokov Estate Afterword, Copyright © 2015, Gennady Barabtarlo.
Человѣкъ остановился. Дорога спускалась къ селу, огненной синевой сіяли на солнцѣ зажоры, — прошумѣлъ недавно ливень, ядренымъ серебромъ остался на кустахъ. Человѣкъ прищурился, и взмахомъ костляваго плеча приладилъ поудобнѣе мѣшокъ за спиной.
— Эвона, куды заскакала... Урка, Урка... скотинка окаянная...
Высокій бабій голосъ надрывался за ольшанникомъ. Мелькнулъ алый платъ. Жеребенокъ задравъ хвостъ, мягко шмакая копытами по мокрой травѣ рѣзвился на лугу. Мокрое солнце прожигало его насквозь рыжимъ золотомъ. А тамъ, за лугами, далеко-далеко млѣла синяя мякоть сосновыхъ лѣсовъ, плыли, толкаясь огромными боками, расплываясь и сливаясь вновь, бѣлыя, какъ свѣжая бурдава, тучи, — Рассея, благодать, ширина, синева свѣжая.
Человѣкъ прищурился опять не то на осеребренный дождемъ ольшанникъ, не то на какую-то свою тайную думу, и негромко позвалъ:
— Тетка, а тетка...
Баба, обойдя кусты, встала на краю канавы, ладонью заслонилась отъ солнечнаго пала.
— Чего тебѣ? Шляешься-то отколѣ?
— Я, тетка, въ Курайскій скитъ, я иду изъ Сосновки. Вотъ ты мнѣ и скажи, на деревнѣ у васъ — какъ, бродягъ-то не хапаютъ?
Баба подошла ближе, показала красное, рябое свое лицо.
— Чего-же то васъ хапать? сказала она весело. Мало-ли васъ тутъ ходютъ. Во дворъ не пустимъ, — а большакъ не тронетъ. У насъ деревня тихая.
— Да я такъ только, протянулъ человѣкъ, — а то на мельницѣ, въ Сосновкѣ, сказывали, что комиссаръ-то у васъ больно строгій, шатуновъ не любитъ.
Онъ еще разъ поправилъ мѣшокъ, и медленно, усталыми, широкими шагами продолжалъ свой путь.
— Вотъ и ладно... Иди, иди... все такъ же весело крикнула баба — и подула на овода, норовившаго сѣсть ей на потную щеку.
Деревня была и въ самомъ дѣлѣ тихая. Вся погрязла, загвохала она въ жирной шоколадной грязи, ослѣпленная, разморенная лѣтнимъ дождемъ. Прошелъ мужикъ, и коса его полыхнула крутымъ огнемъ. Человѣкъ подошелъ къ одной изъ крайнихъ избъ, — и сѣлъ на лавку, стоящую въ буйной заросли терпко пахнущей крапивы. Погодя, онъ рогожкой, вынутой изъ мѣшка, вытеръ босыя ноги, съ которыхъ засохшіе комья грязи сыпались какъ шелуха — неторопливо обулся, тщательно засупонилъ подъ задокъ красныя ушки разбитыхъ, съ чужой ноги штиблетъ. Въ окно избы высунулась дѣтская голова, потомъ вторая. Потомъ хриплый голосъ сказалъ:
— Входи-то въ кабачишко. Чего разсѣлся...
Бродяга всталъ и вошелъ въ избу.
Человѣкъ пять мужиковъ сидѣли у низкаго халтежнаго стола, какихъ понавезли съ погибшаго почемъ зря Курайскаго завода, и пили чай, хрустѣли сухарями. Двое ребятишекъ хлопали по мухамъ, садящимся на горячую, солнцемъ облитую лавку. Старикъ въ бѣлой рубахѣ ломалъ щепки въ углу, покрякивая на корткахъ.
Человѣкъ скинулъ мѣшокъ свой подъ столъ и, разминая плечи, усѣлся.
— Далече мѣтишь? коротко спросилъ одинъ изъ мужиковъ, тощій, въ старой хабанѣ, порвавшейся на плечахъ, съ живыми зеленовато-карими глазками, такъ и снующими по лицу, по рукамъ вошедшаго человѣка.
— Не... Въ Курайскій скитъ. Тамъ у меня братецъ...
— Не по нашему что-то баешь... проговорилъ другой мужикъ, процѣживая желтую бороду сквозь короткія пальцы. Изъ какихъ мѣстъ?
— Изъ Сосновки, братъ. Чайкомъ угостите?
— Чаешь чайкомъ... бормотнулъ первый мужикъ и хотѣлъ что-то добавить, но вмѣсто этого почесалъ себѣ грудь подъ рубахой.
И вдругъ человѣкъ, приложивъ кулакъ ко лбу, затрясся смѣхомъ. Онъ смѣялся такъ, что все лицо прыгало, и острые плечи ходуномъ ходили, и дрожащій свистъ смѣха разрывалъ грудь.
— Чтой-то, сказалъ бородатый, хохотунъ какой на тебя напалъ. Никакъ шалый...
Человѣкъ поднялъ голову. Смѣхъ все еще бѣжалъ по его лицу. Широко раскрытые глаза горѣли влажнымъ блескомъ.
— Все по-старому, сказалъ онъ, словно про себя. Эхъ вы, мужики...
Выпрямился. Вскинулъ за плечо мѣшокъ.
— Куда-жъ это ты? недоуменно уставился мужикъ; другой подхватилъ: Пьянъ ты што-ли?
Человѣкъ опять засмѣялся, но уже тише и легче, и не оглядываясь вышелъ изъ избы. Широко ступая по жирной грязи, онъ свернулъ на лебедой поросшую тропинку, льющуюся вдоль забора въ трепещущій, ослѣпительно зеленый березнякъ. Тамъ онъ остановился, глядя снизу вверхъ на березы, словно мѣрилъ ихъ ростъ. Точно, онѣ были очень стройны, очень хороши. Тройнымъ звучнымъ и влажнымъ свистомъ заливалась иволга.
Погодя, человѣкъ пошелъ дальше, миновалъ полуразвалившуюся калитку. Въ глубинѣ аллеи бѣлѣлъ бывшій помѣщичій домъ. На пескѣ аллеи янтарными кругами ходило солнце.
Человѣкъ по этой аллеѣ пошелъ тише. Что-то робкое, почти воровское было въ его походкѣ. И когда неожиданный окрикъ грянулъ на него гдѣ-то сбоку, онъ спотыкнулся и какъ-то по-бабьи приложилъ руку ко рту.
На деревянной тумбѣ — оставшейся отъ исчезнувшей скамейки — сидѣлъ огромный, весь обросшій бѣлой шерстью старикъ и, чавкая беззубымъ ртомъ, глядѣлъ себѣ подъ ноги.
— Тутъ тебѣ не проѣзжая дорога, проговорилъ онъ, все не поднимая головы... Всякая шустрядь тутъ пображничаетъ.
Человѣкъ подошелъ къ нему и опустился рядомъ съ нимъ.
— Я такъ, проходилъ, сказалъ онъ тихо. Не сердись, дѣдъ.
— Школьный я сторожъ, зашамкалъ старикъ. Вот и мое дѣло слѣдить. Тамъ-то школа, — мотнулъ онъ головой на бѣлый блескъ дома въ глубинѣ аллеи. — Старая сгорѣла, — вотъ туда и перебрались. Ранѣ господскій домъ былъ.
Человѣкъ обхватилъ колѣни руками, прикрылъ глаза.
— ...Домъ былъ, сказалъ погодя старикъ. — Тутъ бы тебя псы заѣли, коли въ садъ эдакъ зашелъ, безъ спросу. Хозяева-то теперь за границей, добавилъ онъ равнодушно. — Лѣтъ восемь, что-ли, а то и всѣ десять. А убили-бы ихъ безпремѣнно, коли тогда не удрали.
— Я-бы домъ-то... того... посмотрѣть хотѣлъ, вдругъ сказалъ человѣкъ не открывая глазъ.
— Чего тамъ... осмотрѣть. Иди своей дорогой. Чай, не весь вѣкъ тутъ съ тобой лясы точить.
— Такъ, сказалъ человѣкъ и всталъ. Потеръ лобъ, виски. Спросилъ скучнымъ голосомъ:
— А хозяевъ здѣшнихъ ты, дѣдъ, помнишь?
— Не... старикъ недовольно тряхнулъ головой. — Я не изъ здѣшнихъ. Дочка тутъ за мужика вышла, вотъ и меня привезли. А такъ — слыхалъ отъ людей. Господа были, богато жили... Сынокъ, что-ли, былъ, въ офицерахъ. Да теперь что толку-то болтать... Укатили, туды имъ и дорога, значитъ. А ты, братецъ, гуляй.
— Прощай, дѣдъ, сказалъ человѣкъ и зашагалъ прочь. Отойдя шаговъ сто, онъ оглянулся — и быстро шагнулъ въ кусты. Затѣмъ, прыгая по кочкамъ черникъ, онъ пробрался назадъ между частыхъ стволовъ, къ самому дому.
Тогда человѣкъ прислонился плечомъ къ зеленой колоннѣ стараго клена и долго смотрѣлъ, ошаривалъ влажнымъ взглядомъ крыльцо дома, рѣзьбу надъ окнами, ослѣпительную лужу подъ водосточной трубой. Въ одномъ окнѣ синѣла географическая карта. Потомъ вышла из дому и сѣла съ книгой на ступеньку худая стриженая дѣвица въ макинтошѣ.
Человѣкъ оторвался отъ дерева и безшумно пошелъ прочь. Снова онъ вышелъ къ сломанной калиткѣ, снова услышалъ шепотокъ березовой листвы, тройной крикъ иволги. Потомъ вышелъ на деревню, зашлепалъ по шоколадной, уже высыхающей грязи. Мальчишки играли въ городки. Чурки съ громкимъ звономъ взлетали, брехала лохматая собаченка. Человѣкъ миновалъ село, пошелъ быстрѣе по той же дорогѣ въ сіяющихъ зажорахъ, по которой онъ поднимался недавно. У поворота ему повстрѣчались двѣ бабы — одна въ аломъ платкѣ, которую онъ окликнулъ, когда раньше проходилъ.
— Что назадъ-то идешь, звонко спросила она, поровнявшись. — Аль раздумалъ?
— Раздумалъ, тетенька, отвѣтилъ онъ, усмѣхнулся и прошелъ.
На пятой верстѣ он вдругъ остановился, посмотрѣлъ себѣ на ноги, потомъ присѣлъ на щебень при дорогѣ. Осторожно стянулъ сапоги, стукнулъ ими объ камни, отряхивая сухую грязь, всунулъ въ мѣшокъ. И съ едва замѣтной улыбочкой оглянувшись вокругъ, пошелъ дальше, твердо шлепая по теплой мягкой корѣ дороги, въ голубое марево лѣтняго дня, обратно, къ дальней польской границѣ.
Василій Шалфеевъ
Послесловие Геннадия Барабтарло
Весьма вероятно, что этот рассказ Набокова — без заглавия, без точной даты — последний из неопубликованных. Собственно, дата на первой странице рукописи имеется (1925), но поставлена она очевидно много позже и по памяти. Скорее всего рассказ был написан летом 1926 года, когда Набоков из отчужденного любопытства прочел несколько книг молодых советских писателей из числа орнаментальных стилизаторов простонародной речи: «Виринею» Сейфуллиной, «Барсуки» Леонова, может быть кого-нибудь еще из «Серапионовых братцев». Этого рода узорчатый, будто-бы крестьянский, на самом же деле ярко-искусственный слог напрашивается на пародию, и можно думать, что Набоков поначалу это и имел в виду: чрезмерность, густота и настойчивость просторечий создают свойственную нарочитой имитации натянутость. Первые же фразы подводят к границе шаржа, и все, что за нею, должно, казалось бы, только подтверждать, что все это не всерьез.
Но если таково было первоначальное намерение, то скоро Набоков словно забывает о нем, усмешка уступает место грустной улыбке, подмигиванье — серьезному и даже несколько влажному выражению глаз. Так клоун, жонглируя полыми гирями, гримасничая и отдуваясь, как если бы они в самом деле были пудовыми, по ходу номера вдруг чувствует, что они каким-то образом и впрямь наливаются чугуном и нужно внимательно следить, чтобы не уронить одну из них себе на ногу, не то бутафорские слезы могут обернуться настоящими.
Дело тут в болезненно незаживавшей теме, которую Набоков выбрал для своего стилистического опыта: «человек», по-видимому бывший белый офицер, ежеминутно рискуя жизнью, в середине двадцатых годов переходит смертоносную советскую границу для того только, чтобы увидеть свой дом, из которого он и те, кто ему дорог, были безпощадно вышвырнуты. Вероятия погибнуть в этих случаях значительно превосходили шансы возвратиться невредимым в трагическую безопасность беженства. Но и обдумывать такую возможность было до того упоительно, что Набоков много раз разыгрывал ее в воображении — поэтическом, прозаическом, и даже драматическом (в пьесе «Человек из С.С.С.Р.»). В 1927-м и снова в 1928 году Набоков написал два стихотворения под названием «Расстрел»; второе страшно прозаической точностью описания, первое — одно из самых его пронзительных:
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Мартын Эдельвейс, герой «Подвига», переходит финскую границу с совдепией и пропадает там, а Федор Годунов, герой «Дара», не раз совершает мучительную мысленную экспедицию в свое петербургское имение. В последний раз эта тема звучит, уже в другой тональности и как бы выдыхаясь, в последнем романе Набокова «Взгляни на арлекинов!», где повествователь — у которого те же инициалы, что у автора и очень похожие заглавия написанных книг — с фальшивым паспортом приезжает на три дня в Ленинград, но только особенный колер петербургских закатов да тень от гранитного парапета невской набережной вызвали у него в памяти город, где он родился, город, стоявший на том же месте, но под другим именем: теперь все казалось вытоптано, искажено и заменено на советский продукт — виды, звуки, запахи, и особенно речь.
Рукопись рассказа находится в архиве нью-йоркской публичной библиотеки. Отсутствие названия и некоторая внезапность начала могут навести на мысль, что не достает первой страницы. Однако глубокая отступка от края листа в начале и нумерация страниц от первой до восьмой (правда, сделанная позже, но зато скорее всего рукою Набокова или его вдовы) указывают на то, что текст по-видимому полный, причем это не черновик, но по крайней мере один раз перебеленный вариант. Он воспроизводится здесь так, как написан, т.е. согласно русскому правописанию; исправлены только явные описки. Четыре слова, по всей видимости, придуманы Набоковым специально, может быть в угоду первому замыслу о пародии. Несколько фарсовый псевдоним — созвучный его «Василию Шишкову» конца тридцатых годов, — может означать, что он собирался напечатать рассказ в каком-нибудь эмигрантском издании.
В Esquire, выходившем тогда в Чикаго, Набоков напечатал несколько своих вещей, в том числе английские версии таких знаменитых рассказов, как «Картофельный Эльф» и «Посещение музея» (последний описывает леденящий ужас человека, заурядный эмигрантский ночной кошмар которого сделался страшной явью: он неведомо как очутился на набережной Невы в конце тридцатых годов.) В Esquire же в 1969 году был помещен его восторженный отзыв на полет американских астронавтов на Луну. В этом месяце исполняется семьдесят пять лет эмиграции Набокова из Европы в Америку, где он перестал сочинять по-русски, но и в английских своих романах не оставил темы воображаемого возвращения в бывшую Россию — как бы ни понимать это слово.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



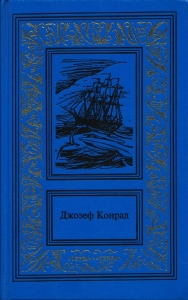
Комментарии к книге «Человек остановился», Владимир Владимирович Набоков
Всего 0 комментариев