Томас Манн БЫЛОЕ ИАКОВА
ПРОЛОГ «СОШЕСТВИЕ В АД»
1
Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?
Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неуемностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.
Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоистоке, довольствуясь, какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.
Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссеянин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени «Амун-доволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости — лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та'Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу, но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, — Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, — так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южновавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».
Оттуда в далеком прошлом — Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, — отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной — Нимрода и властелина земного — власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнением; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.
Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, — беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было, скорее, изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.
Так он пришел на Запад, к амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.
Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, — предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их — узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит, скорее, как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетовании, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасна, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе стольких приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, — одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою » — вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано: а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.
2
Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом, первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет — такой же, как между нами и готическим средневековьем — такой же и все-таки не такой же.
Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, — хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, — Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, — что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.
Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, — образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например, ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца — причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но, если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.
Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца — свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, — куски ее Иосиф знал даже наизусть, — был сыном Эй, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева — древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, — но была ли она началом начал?
Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой — со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.
3
Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слыхал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера — не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных, серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым господь истребил первых человеков за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово «первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал — владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, — велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письмена этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.
Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительному искажению его мудрости, — мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.
У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, — короче, незапамятной — давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» — так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютый зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней… «В дни Сета» — людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.
На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятитрехметровой высоты полулев-полудева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амун-доволен, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.
Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менее или Гор-Мени, а дотоле была «преддинастическая эпоха»; что этот Мени впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, — во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и, если вглядеться пристальнее, то первоправитель Мени — это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Мени совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластья и многовластья и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Мени мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» — сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзанье Усира, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.
4
«В дни Сета» — это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему; нам тоже, как и людям земли Египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях: ведь на какие дела человеческие ни кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык, и все на свете, если вглядеться как следует, уходит своим началом действительно «в дни Сета».
В тот момент, когда начинается наша повесть, — момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать «со дней Сета», — итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме: когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно»: крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой амуррейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, — разница тут ничтожна.
Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была «некогда» выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее «давно» не существует вообще. Она стала домашним животным не иначе как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Таммуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти.
Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника, к величайшей своей досаде, не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, — ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, — к их дикорастущим предкам, и ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградарства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека, отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Ною, пережившему потоп праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим и еще Атрахасис, премудрый, и кто поведал о началах вещей позднему своему потомку Гильгамешу, герою упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, — что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковницы, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и когда он был пьян, над ним надругались и оскопили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его «прадеда», то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность, — причем и эта древность, добавим мы с тихим изумлением, была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагороженье дикой лозы.
Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мысы. Когда мы говорим о «древности», мы обычно имеем в виду греческо-римский мир, то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых «коренных» жителей Греции, пеласгов, мы видим, что острова, где они осели, были дотоле заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикияне, и, значит, финикияне как «первые морские разбойники» — это только очередная завеса, очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти «варвары» были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону Геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью земли, — это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизация, а также история премудрого Ноя связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями.
Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестиво, считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Мицраима видели в страдальце Усири благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы и чья деятельность прервалась только из-за козней Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фу-Хи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще, по мнению этого высшего существа, не созрели, ибо, согласно их летописям, эта наука была преподана им только тринадцать столетий спустя великим чужеземным императором Таи-Ко-Фоки, хотя синеарские жрецы-звездочеты разобрались в знаках зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно; ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей, по Солону, за девять тысяч лет до рождения этого ученого, и что, значит, уже за одиннадцать с половиной тысяч лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств.
Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше — ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая, поначалу с помощью Елиезера, и вавилонскую, и финикийскую, и хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом историй, а в Тире и Сидоне — Таутом и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, — к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там внизу больше всех других должностей, — к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг; ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного.
Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось во дни Тота. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Гор-Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы.
Но уж если так несметны века запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, праязыком, был индогерманский, индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержавший в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека.
5
Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек как биологический вид появился пятьсот тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-первых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек как животное является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на земле в различных зоологических личинах — в виде земноводных и пресмыкающихся; во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот похожий на сумчатое животное, бродящий, как во сне, зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого Утнапиштима-Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеорное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, — одним словом, стал тем смышленым, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саисский жрец истолковал Солону греческое предание о Фаэтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомненнее, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретавшие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен.
Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали среди прочего историю великого потопа. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче; она бытовала на его Западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в Двуречье. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложенье, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась и, если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов господь и творец, чьи ангелы и те замарались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней стодвадцатилетней отсрочки вынужден был, к собственному огорчению, обрушить на землю карающие хляби! И о том, как господь бог по величественному своему добродушию (которого ангелы отнюдь не разделяли) все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, — об этом Иосиф знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег: то был десятый день месяца хешвана, а потоп начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер, и тут-то начинаются всякие сокращения, смешения и смещения, которых так много в этом предании.
Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением, вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события не скажем: породили, нет, но, во всяком случае, в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены даже при самых благочестивых побуждениях; откуда людям знать, праведны или неправедны они перед богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые человеки не знают бога и не знают приговора преисподней; во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знаменья и, благодаря хитроумной своей предусмотрительности, единственный из множества тысяч ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знанья, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время — таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени; но форма вневременности — это Вот Сейчас и Вот Здесь.
Итак, потоп был у Евфрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопа, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше, при пятом императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии-подлиннике сохранилась у самых различных народов; подобно тому как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список со все более и более древних подлинников, сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом люди — с наибольшим, по их мнению, основанием — считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды; эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепилась в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за девять тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории земли весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием; истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием «Лемурия», в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана.
Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов, упомянутый уже курчавобородый Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворе в Фивах и носил имя «Амун-доволен», и все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями бога Солнца, — то есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое рождество заново родится на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на «празднике плачущих женщин», «празднике зажженных светильников», празднике в честь Таммуза, под всхлипывания флейт и крики радости, переживал, как будто все это случалось при нем, — и убийство «пропавшего сына» отрока-бога, Усира-Адонаи, и его воскресение, — то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает, — занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп.
6
К истории потопа примыкает история Великой Башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что, например, башню вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила, или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой великой башней, — это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагилы, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий — черноголовых — сам Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хаммурагаш, семиуступная эта башня, о финифтяном великолепии которой слыхал Иосиф, была для всех халдеев зримо-реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен — Великой Башни, творения рук человеческих, высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например, с идеей «рассеяния», то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом; для людей Синеара между мигдалами, крепостными башнями их городов, и названным нами понятием не было ничего общего: напротив, законодатель Хаммурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы «вновь сплотить» под своим, посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям Нимрода рассеялся; поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости; камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда», то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня.
С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила — это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки, тоже имелась своя «башня» или, вернее, своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение — дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами: какой-то, по уверениям тамошних жителей, пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многое говорит в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды, и похоже на то, что куда бы ни прибывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек, и в частности, Горы Богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю Башни и потому кончаем свои рассужденья об этом странном предмете.
7
Где же находился рай, «сад на востоке», место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор и плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишащий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной — Египет. Курчавобородые синеарцы тоже считали, что их столица, которую они называли «Врата бога» и «Союз Неба и Земли» (мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке: «Вав-илу, маркас шаме у ирситим», — произносил он быстро и ловко) — что Вавилон, стало быть, — это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который, еще в молодости, отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харран от «Семи колодцев», где жила его семья, нежданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной: то был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю; но рай был и не здесь, а на изначальной родине, он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды.
Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса-преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, — только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного; только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину — вернее, бездонность, к которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, — о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства.
Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон — это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.
Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, «Фрат», или Евфрат, выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше.
Четыре стороны — так учил Иосифа уже старик Елиезер — дал миру бог: утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижнеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Так же расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям с соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей земли, а именно — Атлантиды, где, по Платону, посреди острова возвышалась Гора Богов, а от нее точно так же, то есть крестом, на четыре стороны света, растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении «главных рек» и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно праздный характер благодаря сведеньям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокомудрое человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но «садом в Эдеме», прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была; она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая; ибо первобытного человека, адамита, история земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды.
О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, — то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблужденье, зная о мире лемуров, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами? Это не был «сад в Эдеме», это был ад. Это была, скорее, первая после паденья, несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства, был сорван и съеден плод с дерева вожделенья и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились; история человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.
8
Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского adam gadmon; его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные ученья и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их, в начале начал прачеловек был избранником бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел пораженье, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существованья и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных человеков. Чудесные истории! В них уже различим элемент веры в спасенье, но он еще прячется за космогоническими целями: оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет — те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отраженье, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольнему миру.
В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас предания; ведь такое проясненье наступает в тот миг, когда уход сына-бога из горнего царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно-добровольного, вожделенного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно перестает быть загадкой значение «второго посланца», в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от пут темноты и вернуть восвояси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица — материю, душу и дух, — между каковыми, с участием божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о «падении».
Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась — это слово употреблено в прямом смысле и показывает направленье — к бесформенной еще материи, одержимая желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслажденье. Однако после того, как душа поддалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и косной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей; он сотворил мир, то есть создал в нем, в угоду первобытно-человеческому началу, прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир, к человеку, дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенной в материю душе, что, если бы не ее дурацкое соединенье с материей, мир не был бы сотворен и что, когда она отделится от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа, поняв эту ситуацию, вновь признала наконец горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет; к материи вернется ее косное упрямство; не связанная больше формами, она сможет, как и в правечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива.
Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее «раньше», представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом, исконном виде. Прачеловеческая душа — это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем «второго посланца», призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе; он порожден и послан богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает божьим соратником в битве против зла и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие скорей потому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено.
Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вожделенья и воспарила домой, — что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее — таково уж тлетворное влияние чужбины — какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отозванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене.
Нет ни малейшего сомнения, что по мере того как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это в самом деле вопрос позиции, точки зренья, решить его можно и так и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче, иначе с тобой произойдет то, что мы, не обинуясь, назвали растленьем, и ты не выполнишь естественного своего назначенья. Тут обнаруживается известная слабохарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм — славой, которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя самой воле к рассуждению, — этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу; но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее страсти, он говорит совсем не то, что собирался сказать, поощряет душу и ее увлеченье и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение; не продолжает ли он все равно, даже и таким способом, служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что, в сущности, знает, что может себе позволить подобное повеленье, — этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой «второй посланец» есть второе «я» светочеловека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо.
9
Если все как следует взвесить, то о «грехопадении» души или изначального светочеловека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой — легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед богом, — нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере согласно принятому нами учению, от бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что бог запретил первым людям есть от древа познания «добра и зла», то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого бога, в результате познания материи душой; и если бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывать злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро и зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу и добавление к чистому тексту и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, — то вполне вероятно, что и само упоминание о «запрете» тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку.
В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что бог не разгневался на душу за ее любострастное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией, то, уж во всяком случае, жалостью, — ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь, он лично вмешался в ее познавательно-любовное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще невозможно.
Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Елиезера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего, они показывают, что «строгость» присуща не столько богу, сколько его окружению, от которого он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они — и, наверно, не без основания — подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде: «Что есть человек, господи, и какой тебе от него прок?» — не сходят у них с языка, и бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Семаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елиезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Семаил всегда подзуживал ангелов против человека или, вернее, против того пристрастия, какое бог питал к человеку; и когда однажды господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Семаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем сотворенным из сияния славы божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного, — и тут-то как раз он и был низвергнут, что, по описанию Елиезера, издали походило на паденье звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиленье греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморре, — это очередное торжество для святой рати и очередная незадача для творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку — не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей «второго посланца», духа? Действительно ли он послан затем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы?
Можно предположить, что это не входит в замысел бога и что на самом деле, вопреки своей славе, дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают слова учения о том, что второй посланец — это все тот же посланный прежде на борьбу со злом светочеловек. Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, возможно, должны означать, что некогда они будут едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего, утверждение «будет», «должно быть», меж тем как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному «было». Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать; обе стороны — и слившаяся с природой душа, и находящийся вне мира дух, принцип прошлого и принцип будущего, — обе стороны, каждая по-своему, претендуют на званье живой воды и обвиняют друг друга в содействии смерти — и обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда бога состоит, вероятно, в их слиянье, в настоящем приходе духа в мир души, во взаимопроникновенье обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны.
Вот, быть может, каков тайный, сокровеннейший смысл этого ученья, — хотя сомнительно, чтобы уже известное нам, самоотверженно-угодливое поведение духа, вызванное чрезмерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к вышеобрисованной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, а себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, — кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой: напоминающим гонцом, тем принципом осужденья, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и ублаженных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромной беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно-неведомое и уподобляет камню, который, покатившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений.
10
Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, — она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, и это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы:
Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу, Сына зачем наделил ты душой мятежной?Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, радение о боге, горькое, полное сомнений раздумье об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени, о собственной сущности, о подлинной воле всевышнего — как отражалось все это, унаследованное через поколения от урского странника, на высоколобом стариковском лице Иакова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз и как любил Иосиф этот душевный склад, исполненный сознания своей благородной недюжинности и который как раз благодаря этой, гордившейся собой высшей тревоге, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность! Неутомимость и достоинство — это печать духа, и без робости, с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственный этот чекан, хотя сам обладал более веселым и беспечным нравом, унаследованным, скорее, от его прелестной матери, и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтение определила характер Иосифа и стала его натурой; она определила и его отношение ко всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторенье отца и будучи искренне убежден, что бог любит его, Иосифа, так же горячо, как отец. Забегая вперед, назовем его отношенье к Адону неба отношеньем невесты — по аналогии с посвятившими себя Иштар или Милитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обет безбрачия, жили в кельях при храмах и назывались «чистыми» или «святыми», а также «невестами бога», «эниту». В его мироощущении было что-то от этих эниту, какая-то строгость, какое-то сознание своей обрученности, и еще, в связи с этим, какое-то игривое фантазерство, — оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, — представлявшее собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие духа в его случае.
Однако, при всей своей привязанности к Иакову, он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца: озабоченность, тоску, нервозность, проявлявшиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально-оседлому быту, который, казалось бы, подобал его степенности, в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездомном укладе жизни. Ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем он тоже заботился и если оказывал предпочтенье — больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это безусловно прежде всего ради отца. Бог Шаддаи обогатил Иакова в Месопотамии скотом и всяким добром, — и, окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, тот мог бы быть князем среди князей страны, да и был им, был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как «наби», то есть «глашатай», как вещий, сведущий в боге мудрец, как один из тех старцев и духовных вождей, к кому перешло наследие халдеянина и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе, как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой» и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он не жил со своими домашними как состоятельный горожанин в самом Хевроне, в Урусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов? Почему, словно измаильтянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен Кириаф-Арбы, почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов и скипидарных деревьев, готовый сняться с места когда угодно, как будто не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был с часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины и стойла, навьючить на верблюдов шесты, войлок и шкуры и двинуться дальше? Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец потому, что служил богу, далекому от покоя и житейских удобств, богу помыслов о грядущем, богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, который и сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становленье и был поэтому богом беспокойства, хлопотным богом: он хотел, чтобы его искали, и ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным и начеку.
Короче говоря, это дух, возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью, и если маленький Иосиф, отнюдь не равнодушный ко всякой светской представительности и даже пышности, об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства. Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом и, значит, без внешнего принужденья бросающихся в очень рискованное дело (слово «бросающихся» употреблено здесь в прямом смысле и показывает направленье), то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте, долговременной остановки. Разве не знакомо такое и нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя — разве это не Луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, тот с приключеньями добирается и до стоянок; но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указанья, и вскоре уже вновь колотится его сердце, колотится и от любопытства, и от испуга, от плотского страха, но, во всяком случае, в знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу, на новые приключенья, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа.
Мы уже давно в пути, и уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались, мы уже забыли ее, мы уже издали, по обычаю путешественников, завязали отношенья с ожидаемым нами и ожидающим нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными и беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодец прошлого.
Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце, и колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого же путеводного указанья, и не только от любопытства, но и куда сильнее от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так, но почему наше любопытно-трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверно, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, — от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть — это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни — настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее, души, одиночное заключенье. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильней, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его — альфа и омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов — человек, которого мы ищем в преисподней и в смерти, как искала там Иштар Таммуза, а Исет — Усири, ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее.
Ибо оно есть, есть всегда, хотя народ и пользуется словом «было». Так говорит миф, а миф только одежда тайны, но торжественный ее наряд — это праздник, который, повторяясь, расширяет значения грамматических времен и делает для народа сегодняшним и былое, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались и по скрепленному обычаем праву доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни?..
Праздник повествования, ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вневременность доступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад, ты поистине праздник и утеха облеченной плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и к благочестивому «было». Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу!
Итак, без боязни вниз! Разве мы собираемся прыгнуть напропалую в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на три тысячи лет, — а что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами: это такие же люди, как мы, если не считать некоторой мечтательной неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так, бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются озноб и сердцебиенье, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку. В конце концов, говорит он себе, разве я собрался на край света, в неведомые места? Ничего подобного, я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали, да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна Га-га, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления! Так нет же, это страна как страна, средиземноморская, не то чтоб уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так, с горами и долами, с городами, дорогами и холмами виноградников, со своей рекой, хмуро и торопливо бегущей в зеленых рощах, она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском! Мы на месте. Вот они, глядите, — резкие лунные тени на мирных холмах! Вот она, ощутите, мягкая свежесть по-летнему звездной весенней ночи!
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ «У КОЛОДЦА»
Иштар
То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Урусалима, в месяце адаре, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня и каждый лист, каждый похожий на кисть цветок одиноко стоявшего здесь теребинта, дерева старого и кряжистого, невысокого, но развесистого, вырисовывался донельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасное это дерево было священным; получить в тени его наставленье можно было по-разному: либо из уст человеческих (кто хотел поделиться какими-либо соображеньями о божественном, собирал слушателей под его ветвями), либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне совета и вразумленья те, кто засыпал, склонив голову к его стволу, а всесожжения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитою, жертвеннику, где, слегка курясь, теплился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птиц и даже небесными знаменьями.
Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшее особняком: и той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утоптанную землю ростки из стволов, вечнозеленые, промежуточные между хвойными и лиственными дерева, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями, к югу, по направленью к закрывавшему город холму и немного дальше по его склону находились хижины и стойла, и в ночной тишине оттуда порой доносились глухое мычанье коровы, фырканье верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой, с низкими перилами террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянье уже высокого и на три четверти полного светила, простиралась равнина — ближе вся в масличных деревьях и кустах тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни пастушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых, лиловая и розовая, блекли от лунного света, во мху и в траве под деревьями — белые крокусы и красные анемоны. Пахло цветами и пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом.
Небо было прекрасно. Широкий венец окружал Луну, свет которой при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то реже, то гуще роясь мерцающими скопленьями. Ярко, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус-Нинурту, составлявший, казалось, одну фигуру с Прокионом Малого Пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мардук, который взошел вскоре после захода Солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеска не затмевала Луна. Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Нергал, семиименный враг, приносящий чуму и смерть эламитянин, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее, в полуденном круге. Клонясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми глазу очертаньями Орион, тоже препоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же, только южнее, парил Голубь. Регул в созвездии Льва посылал привет из зенита, к которому уже поднялась воловья упряжка Колесницы, тогда как желто-красный Арктур Волопаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило Козы с созвездьем Возничего село уже в вечерне-полуночной стороне. Но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей рати кокабимов была Иштар, сестра, супруга и мать, Астарта, идущая за Солнцем царица, низко на западе. Она серебрилась, испускала улетучивающиеся лучи, сверкала вспышками, и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх.
Слава и действительность
Были глаза здесь, достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать, темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сиянье. Они скользили по валу зодиака, прочной плотины, смиряющей небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени; по священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с Тельца: когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, сведущие эти глаза, Близнецам, спускавшимся с высоты на вечер; они покосились на восток и отыскали колос в руке Девы, но возвратились в световые пределы Луны и к ее серебряному, мерцающему щиту, неодолимо притягиваемые чистым и мягким его блеском.
Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного, со сводчатым навесом, колодца, который, неподалеку от священного дерева, открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые, выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое, с широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава спущенной своей рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося, по сравнению с детской еще головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие и лежевесные плечи маслено лоснились при свете луны. Ибо после омовенья очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковша, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписанья, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом из тускло поблескивавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при этом ни редко сплетенного миртового венка, который он носил в волосах, ни амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке с шеи на грудь — ладанки с отворотными корешками.
Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к Луне и залитым ее светом лицом, прижав к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх и слегка раскачиваясь, вполголоса нараспев произносил одними губами не то слова, не то просто звуки… На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которой он, как щеголь, окрасил их, должно быть, по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим на крышах женщинам, — хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему богом хорошенькое личико, которое, при детской еще округлости, было и в самом деле, главным образом благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усиливать естественную красоту и «прихорашиваться», вероятно, из какого-то послушанья отрадному своему жребию, в каком-то служенье природному своему дару, и служенью этому нельзя отказать в благочестии, а значит, и в правомерности, тогда как расфуфыренный урод — зрелище грустное и нелепое. К тому же ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию; она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ею же установленного, — а это стыд ложный, потому что тайна ее, собственно, и состоит в притягательности несовершенства.
Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказанье создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши, и подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивиться этой славе — хотя неверные чары лунной ночи скорей подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку! Что лицо его могло посрамить красоту солнца и луны — это еще самое скромное из таких славословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, «погружались в блаженное созерцание» и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание, не обинуясь, утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картиной монеты весом в шесть лотов, в которую могла бы слиться вся красота нашего мира: тогда пять из них, фантазирует поэт, пришлись бы на долго этого несравненного красавца.
Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятой оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за двадцать до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харрана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец, и слава его овец была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги, хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности в подчиненье! Но, не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянье сравнить с реальной действительностью, мы не должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте; он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, стать на ту эстетическую точку зрения, — а она практически и была определяющей, — с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за бога.
Итак, будем осторожны в словах и, не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно да» же своими неправильностями. Например, ноздри его довольно короткого и очень прямого носа были слишком широки; но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выраженье, хорошо сочетавшееся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражения надменной чувственности, которым он был обязан толстым губам. Оно бывает обманчиво, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были бы вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой — если бы именно это не сообщало особого обаяния уголкам рта, в которых от одного лишь смыкания губ, без всякого напряжения мышц, появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей половине, над широкими, красивого рисунка бровями, был гладок, но выпукло выдавался выше, под густыми, черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными миртовым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве.
Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять. Его бормотанье и однозвучное, вполголоса, пенье с поднятыми руками походили, скорее, на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал:
— Аву… Хамму… Аоф… Аваоф… Авирам… Хаам… ми… ра… ам…
В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия, ибо если он говорил сейчас Луне вавилонские нежности, называя ее «аву» — отец, и «хамму» — дядя, то в то же время в речь его вкрадывалось имя Аврама, его истинного и мнимого предка, и, как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя — «Хамму-раби», означающее: «Мой божественный дядя величествен», а кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому Востоку звездопоклонства и семейных воспоминаний и с запинками примерялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких.
— Яо… Аоф… Аваоф, — звучал его напев. — Ягу, Ягу! Я-а-ве-илу, Я-а-ум-илу…
И когда он так, подняв руки, раскачиваясь, кивая головой и любовно улыбаясь светящей Луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было: молитвой, лирической беседой или еще чем-то, — явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пенье было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно; слова «Ягу, Ягу!» были произнесены задыхающимся шепотом, при совершенно пустых легких, которые юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне: запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц, и мгновенно закатились глаза — пустые белки жутковато сверкнули на лунном свету.
Надо сказать, что такой непорядок в поведенье этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз, он совершенно не вязался с тем убедительным впечатленьем приветливой разумности, которое приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, то впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для спасенья оставалось достаточно, — а что доля игры тут безусловно была, явствовало из поведенья нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.
Отец
Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услыхал этот зов на третий раз, во всяком случае только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»
Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствует преувеличенным представленьям, Иаков — или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, — казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность — то ли сознательно, то ли безотчетно — приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупносборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина. сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженая, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо — маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни.
На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов — очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, — и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде — к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью — в них сказывался услужливый, приветливый нрав — и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и повадке посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знавал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он в общем-то от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещенья, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.
Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы назвали полным чувств, потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал:
— Дитя сидит у бездны?
Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе нянечье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец.
Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выраженье своего лица, ибо второе замечанье Иакова прозвучало строже. Тот приказал:
— Прикрой свою наготу!
Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущеньем, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянье от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного приключенья, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро.
Некто Иевше
Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой шатре отца, с теми своими братьями, точнее сказать — сводными братьями, что как раз находились на месте: другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, «затылок», а также Мабарфа, то есть «проход». С жителями Шекема Иакова связывали и религиозные дела; ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса и того изуродованного вепрем цветущего юноши, Таммуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-эльон, Баал-берит, то есть Всевышний, Глава завета. Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного всевышнего бога, бога Авраама, а в сихемитах своих единоверцев, тем более что, согласно надежному, переходившему из поколенья в поколенье преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре — это была ученая беседа с содомским старостой — познанного им бога «Эльэльон», а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мелхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратись из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра.
Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад.
В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, костлявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного — стать моряком. С тех пор как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключеньях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле: о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о ластоногих и о всяких других диковинках… Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Неффалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями; а сегодня в доме был гость.
Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку таанакский градоправитель Ашират-яшур — его называли царем, но это было преувеличеньем — сплошь исписал этот черепок посланьем своему «брату», князю Газы, по имени Рифат-Баал; пожелав Рифат-Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират-яшур сообщал, что не может послать «брату» леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует, поелику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевше необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетаанакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе, — так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждения, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю, а Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваянье Аштарты, фигурку женщины в шароварах, с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него, Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубежденья, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от господа и вернул в свой дом ослепленного старика.
Обслуживаемые двумя рабами в свежевыстиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалалиилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки (Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга), поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, к которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, — беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов; о семейных обстоятельствах Иевше и его служебном положении при Ашират-яшуре, владыке города; о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне; о ценах на скот и на зерно у него на родине; о культе Цветущего Шеста Ашеры Таанакской, и о ее «персте», то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат-Баала в Газе; о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими, весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами: кто защитит место Таанак, покуда изваяние Ашеры будет в пути; как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу? На это Иевше отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Аширта является и мужчиной и женщиной, то есть сразу и Баалом и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле Египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу, и получается, что дело идет в общем-то об Эль-эльоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит надо всем, и служат ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевше особого сочувствия. Подобно тому как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило и в нем предстает, подобно тому как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбы людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником Цветущего Шеста утехи и вольности, поскольку чистота присуща лишь Солнцу и неделимой прабожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятия «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой… Иаков отвечал на это очень вдумчиво: он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и Солнце — это только творенье Эль-эльона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого господа, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, и гость Иевше сам расписался в том, что местные боги — это производные бога, — от более обидного обозначения, он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший Солнце, путеводные знаки, планеты и землю, — бог высочайший, то он также и единственный бог, а о других в этом случае лучше вообще не говорить, не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог», разум должен приравнять к понятию бога единственного… Вопрос о различье и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Иевше перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он как друг и родственник ханаанского градодержца знал больше, чем обыкновенный человек: речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди; что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шуббилулима и располагает столь большой военной силой, что грозится захватить богов митаннийского царя Тушратты, хотя тот состоит в свойстве с великой фиванской династией; что вавилонский кассит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство; что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Аммуна и на эти же деньги построил Аммуну новый храм с тысячью колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хеттская держава, оспаривающая у людей Аммуна господство в Ханаане, и многие аморитские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Аммуна. Тут Иевше подмигнул одним глазом, вероятно, затем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират-яшур не чурается такой политики, но как только перестали говорить о боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись: Иевше — чтобы удостовериться, что с Астартой Дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать; Иаков — чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный Гад внезапно сказал ему:
— Убирайся, шалопай и паскудник, ты нам не нужен!
Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить:
— Ты похож на бревно. Гад, по которому еще не прошелся струг, и на бодливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. А если я передам их Рувиму, нашему брату, он, по своей справедливости, задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь: если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня — особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте!
Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один.
Он совершил небольшую вечернюю прогулку — если только то удрученное состоянье, в каком из-за грубости Гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом, находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хожденье словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом у хеттеянина Двойная Пещера, где покоился прах предков, праматери-вавилонянки и позднейших старейшин: карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части; и благоговейные чувства, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.
Доносчик
Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но проницательными глазами в прекрасные, черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув финифтью редких своих зубов, но потом опустил — и просто из почтительности, и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказаньем одеться. Он и вправду помешкал с одеваньем не ради приятной воздушной ванны или не только ради нее и подозревал, что отец понял, какие побужденья и представленья заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным, он был убежден, что это ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее — или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринял как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношенье стыдливости. Нужно иметь в виду, что обряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве Египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своем детородном члене перед совокупленьем с женщиной. Союз с богом был половым, он заключался с вожделеющим, стремящимся к безраздельному обладанью творцом и владыкой, а потому усмирял и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти — это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, не затемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определеньем из небесной, собственно, сферы и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищенье были взаимны.
Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они, во всяком случае, от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечанья смутное чувство вины. Ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием доавраамовской его отсталости и всегда готова заклеймить его словом самого страшного своего осужденья, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода. Но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын. Иаков выбрал другие. Он начал так:
— Право, было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?
Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал, а Иосиф знал, что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы:
— К такому уж полюбовному соглашенью пришли мы с братьями.
Иаков продолжал:
— Случается, что лев пустыни и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден, и ищет добычи в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее как пять дней назад пастух Альдмодад лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка двух ярок и одну уволок, чтобы сожрать. Альдмодад был чист предо мною без клятвы: он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падет на мою голову.
— Он невелик, — польстил отцу Иосиф, — и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его господь.
Иаков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия сего стороны. Он ответил:
— Кому много было дано, у того может быть и отнято многое. Если господь сделал меня серебряным, то он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок; ибо прихоть бога могущественна и пути его справедливости нам непонятны. У серебра бледный свет, — продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. — Серебро — это печаль, а самый жестокий страх страшащегося — это легкомыслие тех, о ком он печется.
Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав:
— Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в ста шагах отсюда или двухстах. А дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, нагое, беспечное, беззащитное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сраженья? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия, да хранит их бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город аморитян? Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с четырьмя сотнями человек и душа моя не знала, чем все это кончится перед господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя — тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью…
Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Иаков не мог произнести без слез, хотя прошло уже восемь лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал.
Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам.
— Ах, как напрасно, — сказал он с нежным упреком, — тоскует сердце папочки моего и милого господина и ах, как преувеличены его спасенья! Когда гость простился с нами, чтобы проведать драгоценное свое изваянье, — он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил: — которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке…
— Ты его видел? — перебил сына Иаков. Даже это было ему неприятно и омрачило его.
— Я попросил гостя показать его мне перед ужином, — сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. — Работа средней руки, и бессилье прямо-таки написано у этой фигурки на лбу… Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Лииной служанки — кажется, это был честный и прямодушный Гад — предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а ненастоящими, дурными именами, на которые я не отзываюсь…
Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его сообщительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом, эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положенье, ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла — в неладах или в ябедничестве, но как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку — такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство по природе своей склонно к необузданности и к избалованному самоублажению; оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, «выставиться», как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся. Такова невоздержность людей чувства; а Иакова еще поощряло в ней господствовавшее в его преданьях и в его роду представление о невоздержности самого бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий: предпочтение, оказываемое Эль-эльоном отдельным избранникам совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо, оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе; и сознавая, — сознавая, правда, в смиренье и страхе, — что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков в подражание богу всячески потрафлял своему пристрастью и давал ему полную волю.
Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, девяти лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, вспылив из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая, в шатре, а у ставшей тогда любимой женой служанки Валлы, сорвал отцовское ложе с нового места и, с проклятьями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаянье не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишить его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства — первенцу Рахили, Иосифу.
Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решенья отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намеренье и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрение старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим «пошутил» с Валлой.
То была история, гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона, на одной из стоянок между Хевроном и Вефилем. Рувим, которому был тогда двадцать один год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца — той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он подглядел, как она купалась, — сначала случайно, потом — ради удовольствия унизить ее без ее ведома, затем — с возрастающим вожделеньем. Грубое, порывистое желанье овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота, и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как ни трепетала она перед Иаковом, полнотой своей силы и молодостью.
Из этой сцены страсти, страха и преступленья маленький Иосиф, праздно, хотя и без всякого намеренья шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно много, чтобы с простодушным воодушевленьем, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим «шутил» и «смеялся» с Валлой. Он употребил эти слова, в прямом своем смысле не выражавшие всего, что ей понял, но своим вторым, обиходным значением выразившие все. Иаков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой, и с искреннейшим сокрушеньем, подняв руки и уткнув в землю посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал его Хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом и бесстыжим гиппопотамом: в последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому, что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представленьем, что, совокупляясь с собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, — и назначил ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонавшего Рувима его первородство — только, правда, отнял это почетное звание, но покамест не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно-откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты.
Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимей, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознавая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой (слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки), Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие, он находил в ней по контрасту с собственной неуклюжестью что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословенье божье досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из двенадцати братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому.
Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зелфы, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию не самому худшему из братьев, справедливостью Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бранил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока, великодушие брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого; усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти, нести которое было противно его природе, и давала ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушеньем обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, — и все это продолжалось, несмотря на то что Иосиф не раз давал себе слово придерживать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношенья с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были, в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью.
Напрасные обещания! Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало, и с горожанами; стоило Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного, запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны; стоило кому-либо из братьев провиниться перед Единственным и Всевышним, тайком покадив изваянью, что ставило под угрозу плодовитость скота и навлекало на него болезни — оспу, паршу или веретенницу; стоило сыновьям, здесь или под Шекемом, попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Иакова разделить между собой какой-то дополнительный барыш — отец узнавал это от своего любимчика. Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их; так, по его словам, поступали все четыре сына наложниц, но чаще других — Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения, которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зренья Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась; вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожидания порки, чтобы с помощью этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наважденья. Но понятно, что в этом случае возмущенье братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточеньем, словно в ней можно было все-таки сомневаться и в виденьях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больнее всего нас уязвляют обвиненья, которые хоть и вздорны, но не совсем…
Имя
Иаков вспылил было, услыхав о дурных именах, которыми Гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбленье священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего.
— Это пустяки, — слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. — Я по-братски побранил его за грубость, и поскольку он принял к сведенью мои увещанья, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Ефрона; здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадья черной луны, то он остался в зарослях Иардена (название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными; он сказал: «Иарден», — с небным, но не раскатистым «р» и с довольно открытым «е») и нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали.
Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал:
— Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, разбойник, если бы Альдмодад не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека, потому что бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится, разве не знает он, как возопил Семаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творенье, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «свят, свят!», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах? Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверно, Жажда Крови? — спросил бы я, чтобы над ним подшутить. — Или, может быть, тебя зовут Смертельный Прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул: «Лев! Ты — лев, вот кто ты по своему разряду и подразряду, и тайна твоя мне открыта, и видишь, мне ничего не стоит ее назвать». И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях…
Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же как и предшествовавшей похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, — к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом в таких местах скопления документов, как Кириаф-Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность.
— Пусть папочка, — продолжал он, — приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже, у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещенья. Затем дитя развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую они выучило и может занимательно изложить. Во времена поколении потопа ангел Семазаи увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня!» А она сказала в ответ; «Не смей и надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазаи и вправду открыл ей это имя, до того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями и он погрузился в раздумья?
Действительно, Иаков не слушал, он «задумался». Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощенье задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически-сосредоточенной отрешенности, — тут уж он ничего не слышал; если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за сто шагов, великолепная, могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состояньем и этой картиной: старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях… Людям чувства свойственна внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стесненья о себе заявляет; выразительность — это порожденье большой и нежной души, где Слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговенье, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность — к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выспренней выразительностью были тогда глубже и безотчетней, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра!»
Яркая выразительность душевных движений Иакова, и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще — была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выраженье задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившая себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышленье почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновенье прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом, он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и «значенье» — употребляя слово «значенье» в самом прямом смысле, — определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно, как выспренне и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем! А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освящая ее, идея преисподней и царства мертвых, — идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но, как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, — представление о дольней стране, где правил Усири. Растерзанный, о местопребывании Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств; лоно, куда бросали зерно и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Таммуз, после чего земля переставала родить и, оплаканная, скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей флоры.
Как было не трепетать голосу Иакова, как мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом — чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна»? Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадке Иакова оно придало величавость и духовную торжественность, оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама! Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом, в прошлом, однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом; и Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена.
Ну, а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминанья, к которым побудила его болтовня сына об «имени», — томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем, особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастья сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива: увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя — но не имя этого странного человека: оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как ни донимал незнакомца, как ни наседал на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опозданья, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку — Израиль, то есть «Бог ведет войну»… Он снова видел перед собой иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве, после того как уже перевел через поток женщин, одиннадцать сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву; видел тревожное, в тучах, небо той ночи, когда он, между двумя попытками задремать, полный тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объясненья с одураченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло, с помощью бога, благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближенье еще одного обманутого и обиженного. Как он молил элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность! И незнакомца, с которым он, бог весть почему, нежданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете выплывшей вдруг из-за туч тогдашней луны: его широко расставленные, немигающие воловьи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню; и в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом… Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его: «Отпусти меня!» Ни один из них не одолел другого, но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что волоокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Нанося его, боровшийся, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочлененье, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится… А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему: «Отныне имя тебе будет Израиль», — после чего он, Иаков, выпустил из рук своих обладателя этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам…
О дурацкой земле Египетской
Закончил свои размышленья и очнулся от отрешенности величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул с себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось, к стыду своему, признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Иакова. Иосиф дал повод и для других опасений, и ему ничего не было спущено. Он услыхал:
— Далеко внизу есть страна, страна служанки Агари, она зовется еще страною Хама или черной, дурацкая земля Египетская. Люди ее черны душой, хотя и красноваты лицом, и выходят старыми из материнского чрева, а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков в уже через час начинают болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все, как один, они надменны, печальны и похотливы. Одеваются же они согласно проклятию, что пало на Хама, которому ведено было ходить нагим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова «грех», ни такого понятия. Животы своих мертвецов они начиняют пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваянье навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содома и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа ила обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они и сами как животные, и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слыхал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Биндиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи?
Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бранят. За покаянно-обиженным выраженьем лица он скрывал, однако, усмешку) он знал, что нравы Мицраима Иаков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки, и даже попытался вызвать ее осторожным сближеньем, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал:
— Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их несовершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее мне кажется, что тонкость египетского полотна и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле и могло бы, с другой стороны, при известных условиях, говорить и в их пользу. И если они не стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверно, заметить в их оправданье, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что…
Теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающее нетерпенье и нежность взволнованно боролись друг с другом:
— Ты говоришь, как дитя! Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее — это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство господа и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семя. Глаза мои видели, что ты сидел нагой при луне, как будто всевышний не вложил в наше сердце разуменья греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестному обычаю детей Сима. Ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер. И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи…
— Нет, нет! — воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом; но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало — и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно! Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три: в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и, наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнения не находя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать.
— Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было! — уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата; и чтобы придать своему протесту большую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил:
— Сужденье папочки, право, огорчительно отклонилось от истины!
Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал, не глядя, завязывать тесемки, которыми стягивался халат под шейным вырезом.
— О воздушных поцелуях не может быть и… Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны! Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно-прохладном ночном сиянье. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста:
Чтоб мерили время твои перемены, Он брачным союзом связал тебя с ночью, О Син, и заставил сиять и украсил Венцом торжество твоего завершенья.Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед, ладонями вверх, кисти рук и при каждом первом полустишии наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором — в другую.
— Шапатту, — сказал он. — Это день торжества завершенья, день красоты. Он близок, он наступит завтра или назавтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени, ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Он…
— Кто? — спросил Иаков тихо. — Кто заставил его сиять?
— Мардук-Бел! — опрометчиво выпалил Иосиф, но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул: «Э… э…» — и продолжил:
— …Как называют его в историях. Однако, — и папочка мой отлично знает это и без жалкого своего дитяти, — это владыка богов, более могучий, чем всякие ануннани и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ, нечестивцы и грешники — это зловоние для его носа, но того, кто вышел из Ура, он возлюбил и поставил меж ним и собою завет, что будет богом ему и его семени. И благословение бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя — званье Израиля, а он великий и рассудительный вестник и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно господу, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположенье нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу, и если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел…
Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней; и старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно-умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф — согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим:
— Вот теперь стало хорошо и приятно, я просидел бы так все три ночные стражи подряд, мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только отсвет кротости на космато-багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна господу, но не Каина и не Исава, чьи лица — как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты Авель, ты луна и пастух, и мы, члены твоей семьи, — мы все пастухи-овчары, а не люди возделывающего поля Солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сохой и за волами сохи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх на Владыку Дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя, в белом наряде… Скажи мне, — продолжал он скороговоркой, почти не переводя дыхания, — разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мардуку — палящему Солнцу, и поставил его выше всех богов Синеара к огорчению людей Сина? И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, — как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя! Разве не звали Сахарь, что значит «луна», жену Авраама? А теперь, погляди, какой я сделаю расчет. Семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти четырех дней эти трижды двенадцать. Получится триста восемнадцать ночей видимой Луны. Но как раз триста восемнадцать рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена энамитянина Кудур-Лаомера. Как же любил Авирам, отец наш, луну и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сраженья точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал, — скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?
Испытание
— Ты умен, — сказал Иаков, снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движенье лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась, — ты умен, Иашуп, сын мой. Голова твоя внешне красива и прекрасна, как когда-то голова Мами (он употребил ласкательное, вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф называл мать, фамильярно-обиходное имя Иштар), а внутри полна остроумья и благочестья. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе, но сейчас она уже немного устала от историй, не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышленья; устала она и от трудностей, от Авраамова наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу и жаркому пламени; он как-никак сжег Содом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через господний огонь. Господь наш — это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром, когда наступают сумерки и мы в страхе сидим в шатре и едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель…
Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Иосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит.
— Что с моим господином? — воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Иаков переменил позу нескоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью, горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту.
— Я подумал о боге с ужасом, — сказал он так, словно губы его отказывались шевелиться. — Мне почудилось, будто рука моя — это рука Авраама и лежит она на голове Ицхака. И будто доносится до меня голос его и его повеленье…
— Повеленье? — спросил Иосиф, вызывающе и по-птичьи отрывисто мотнув головой…
— Повеленье и указанье, ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях, — отвечал срывающимся голосом Иаков, который сидел теперь наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. — Я услыхал их, ибо разве Он слабее, чем бык Мелех, царь баалов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике? И разве не вправе Он требовать от своих почитателей того же, чего требует Мелех от тех, кто верит в него? Вот Он и потребовал этого, и я услыхал голос Его и сказал ему: «Вот я!» И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло. И оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и господь учинил нам смех, когда объявил о тебе, и ты был для меня всем на свете, и все будущее было в тебе! И наколол я дров для всесожжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел три дня из Беэршивы к Едому и к земле Муцри и к горе этой земли — Хореву. И когда издали увидал я гору господню и вершину горы, я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всесожжения и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной: «Отец мой?» — я не сумел сказать тебе: «Вот я», — потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом: «Вот огонь и дрова; где же овца для всесожжения?» — я не сумел ответить тебе, как должен был, что господь усмотрит себе овцу, и мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу, и я опять застонал, и тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова, и связал дитя веревкой и положил его поверх дров. И взял нож и закрыл тебе левой рукою оба глаза. И когда я приставил нож и лезвий ножа к твоему горлу — вот тогда я ослушался господа, и рука моя опустилась, и нож выскользнул, и я пал на лицо свое и грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками, и кричал: «Заколи, заколи его ты, господь и губитель, ибо он для меня все на свете, и я не Авраам, и душа моя отказывается повиноваться тебе!» И когда я кричал и колотил землю, гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. И был у меня сын, и не было больше господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю, да, да, не нашел, — простонал он, качая лбом, по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох.
— Неужели в, последнее мгновенье, — спросил, поднимая брови, Иосиф, — душа твоя дрогнула? Ведь в следующее мгновенье, — продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, — ведь в ближайшее же мгновенье раздался бы голос и воззвал бы к тебе: «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего!», и ты бы увидел овна в чаще.
— Я этого не знал, — ответил старик, — ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла.
— Но разве ты сам не сказал, что воскликнул: «Я не Авраам»? — с улыбкой возразил Иосиф. — А раз ты им не был, значит, ты был Маковом, моим папочкой, и эта история была стара, и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был Ицхаком, — прибавил он опять с тем же изящным движением головы. — Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна.
— Речь твоя хитроумна, но неверна, — отвечал старик, забывая за спором свою боль. — Во-первых, если я был Иаковом, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда, и я не знал, не пожелает ли господь довершить то, что он некогда отложил. Во-вторых, посуди, чего стоила бы моя твердость перед господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что бог может провести будущее через огонь целым и невредимым и взломать запоры смерти и что воскресение во власти бога? В-третьих, разве меня испытывал бог? Нет, он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо любовь моя была сильнее, чем моя вера, и я не нашел в себе силы совершить это, — простонал он снова и снова склонил к посоху лоб; ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству.
— Конечно, я говорил вздор, — смиренно отвечал Иосиф, — глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец, а уж верблюд, в сравнении с этим бестолковым юнцом — это просто сам Ной премудрый по рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее, ко тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Иаковом, а — страшно сказать — господом, который испытывал Иакова Авраамовым испытанием, и ты обладал мудростью господа и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Иакова — тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца. Ведь он сказал ему: «Я царь баалов, бык Мелех. Принеси мне в жертву своего первенца!» Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, господь сказал: «Посмей только! Разве я царь баалов, бык Мелех? Нет, я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны, и то, что я приказал, я приказал не затем, чтобы ты это сделал, а затем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим, и кстати вот тебе овен». Мой папочка, развлеченья ради, испытывал себя, хватит ли у него сил сделать то, что господь запретил Аврааму, и огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы.
— Как ангел, — сказал Иаков, выпрямляясь и растроганно качая головой. — Как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Иегосиф, божий мой мальчик! Хотел бы я, чтобы тебя послушала Мами: она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха. В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере. Но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил миррой остроумия, ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости?
О масле, о вине и о смокве
— Дело тут вот в чем, — отвечал Иосиф. — Остроумие обладает природой гонца на посылках, посредника между солнцем и луной, между властью Шамаша и властью Сина над человеческим телом и духом. Это я узнал от Елиезера, мудрого твоего раба: он открыл мне науку о звездах и об их встречах и об их власти над часом, которая зависит от того, как они друг на друга глядят, и составил гороскоп моего рожденья в Харране, в Месопотамии, в месяце Таммуза в полдень, когда Шамаш стоял в высшей своей точке и в знаке Близнецов, а на востоке всходил знак Девы.
Взглянув вверх, он указал пальцем на эти созвездия, одно из которых склонялось к западу, а другое и сейчас поднималось на востоке, и продолжал:
— Это, да будет известно папочке, знак Набу, знак Тота, писца таблиц, легкого, подвижного бога, который устанавливает мир между вещами и поощряет обмен. И значит, солнце тоже стояло под знаком Набу, он был владыкой часа и пребывал на свиданье с луной, — благотворном для него, как считают жрецы и гадатели, ибо оно делает его хитрость кроткой, а сердце мягким. Но посреднику Набу противостоял Нергал, злокозненный лукавец, из-за которого владычество Набу принимает жестокий характер, отмеченный печатью на свитке судьбы. Так же обстояло дело и с Иштар, чей удел — мера и привлекательность, любовь и милосердие: в тот час она находилась в высшей своей точке и приветливо переглядывалась с Сином и с Набу. К тому же она пребывала в знаке Тельца, а опыт учит, что это залог спокойного нрава, терпеливой храбрости и занятного ума. Но и с ней, по словам Елиезера, находился в треугольном соотношенье стоявший под Дельфином Нергал, и Елиезер этому порадовался, потому что, по его мнению, сладость ее вследствие этого не приторна, а полна душистой пряности меда. Луна стояла тогда в знаке Рака, ее собственном, а все переводчики — если не в своих собственных, то в дружественных знаках. А сочетание сильной позиции Луны с умником Набу означает, что родившийся далеко пойдет в мире, и если солнце, как и было в тот час, находится в треугольном соотношенье с воителем и ловчим Нинурту, то это предвещает участие в делах земных царств и обладание властью. Так что по правилам гороскоп получается неплохой, если только нелепое это дитя не погубит все своей глупостью.
— Гм, — промычал старик, бережно проводя рукой по волосам Иосифа и глядя в сторону. — Это зависит от господа, — сказал он, — который направляет звезды. Но то, что он сообщает нам через их посредство, не может всякий раз иметь одно и то же значенье. Будь ты сыном человека важного и могучего в мире, тогда, пожалуй, можно было бы прочесть, что тебе суждено участие в делах государственных и правительственных. Но поскольку ты всего лишь пастух и сын пастуха, то разуму ясно, что все это следует толковать иначе, по более мелкому счету. Но почему же ты назвал остроумие гонцом на посылках?
— Сейчас я к этому подойду, — отвечал Иосиф, — и в этом направлении я поведу свою речь. Благословенье отца моего — это было солнце, стоявшее в час рожденья в зените, соотносившееся с Мардуком в знаке Весов и с Нинурту в одиннадцатом знаке, а также взаимоотношение обоих этих отцовских переводчиков, царя и ратника. Это могучее благословение! Но по сильным позициям Сина и Иштар господин мой может судить, сколь могучим было и благословение материнское, благословение Луны! Вот тут-то и создается остроумие, создается, например, соотношеньем, в каком находились Набу и Нергал, могущественный писец и суровое светило снижающегося злодея под знаком Дельфина; а создается оно затем, чтобы посредничать между отцовским и материнским наследием, уравновешивать власть Солнца властью Луны и весело примирять дневное благословение с благословением ночи…
Улыбка, с которой он вдруг умолк, была чуть кривой, но Иаков, сидевший выше и позади Иосифа, этого не увидел. Он сказал сыну:
— Старик Елиезер — человек знающий, он накопил много всяческой мудрости и, так сказать, читал камни, оставшиеся от допотопных времен. Он дал тебе много правдивых и почтенных сведений о началах, о родословьях и о всяких других вещах, а также много полезных знаний, которые могут пригодиться в мире житейском. Но об ином не скажешь с уверенностью, можно ли его причислить к правдивому и полезному, и сердце мое сомневается в том, что он поступил правильно, познакомив тебя с искусствами синеарских звездочетов и колдунов. Я, конечно, считаю голову моего сына достойной всяческих знаний, но я не слыхал, чтобы наши отцы читали по звездам или чтобы бог велел делать это Адаму, а потому не уверен, что это не равнозначно звездослуженью, и боюсь, что это мерзость перед лицом господа и демонически двойственная смесь благочестия с поклонением идолам.
Он озабоченно покачал головой, погрузившись в наиболее свойственное ему состояние — печали о надлежащем и праведном, задумчивой тревоги о непонятности бога.
— Многое на свете сомнительно, — отвечал Иосиф, если то, что он говорил, было ответом. — Например, что за чем скрывается — день за ночью или, наоборот, ночь за днем? Это было бы важно определить, и я часто размышлял об этом в поле и в хижине, чтобы прийти к какому-то решенью и сделать из него выводы о достоинствах солнечного благословения и благословения лунного, а также о прекрасных особенностях отцовского и материнского наследства. Моя матушка, чьи щеки благоухали, как лепестки роз, сошла вниз, в ночь, когда родила брата, который живет еще в шатрах женщин, и, умирая, она хотела назвать его Бен-Они, так как известно, что в Оне египетском пребывает любимый сын Солнца, Усири, царь преисподней. Ты же назвал младенца Бен-Иамин, чтобы все знали, что он сын праведной и самой любимой, и это тоже прекрасное имя. Однако я не всегда тебя слушаюсь. И иногда называю братца Бенони, и он охотно отзывается на это имя, ибо знает, что, уходя, Мами одно мгновенье хотела назвать его именно так. Она теперь в царстве ночи и шлет нам свою любовь из царства ночи, малышу и мне, и ее благословение — это лунное благословение и благословение бездны. Господин мой, конечно, знает о двух деревьях в саду мира? От одного из них идет масло, которым помазывают царей земли, чтобы они жили. От другого идет смоква, зеленая и розовая, полная сладких гранатовых зерен, и кто вкусит от нее, тот умрет. Из широких его листьев Адам и Гева сделали себе набедренники, чтобы прикрыть свой срам, потому что уделом их стало познание, а оно стало им под полной луной летнего солнцеворота, когда она справляет брачное свое торжество, чтобы потом пойти на убыль и умереть. Масло и вино посвящены Солнцу, и хорошо тому, у кого мирра каплет со лба и чьи глаза светятся хмельным светом от красного вина! Ибо слова его будут умны, они будут смехом и утешеньем народам, и он усмотрит для них овна в чаще, чтобы принести его в жертву господу вместо первенца, и они оправятся от Муки и страха. Сладкий же плод смоковницы посвящен луне, и хорошо тому, кого матушка кормит из царства ночи смоковной плотью. Ибо он будет расти словно у родника, и душа его пустит корни, откуда пойдут родники, и слово его будет телесным и веселым, как тело земли, и пребудет с ним дух прорицанья…
Как говорил он? Шепотом. Это было такое же, как прежде, до прихода отца, странное бормотанье, при виде которого становилось не по себе. Он подергивал плечами, руки дрожали у него на коленях, он улыбался, но при этом у него некстати закатывались глаза до белков. Иаков этого не видел, но он слушал. Он наклонился к нему, и руки его висели одна над, а другая рядом с головой мальчика, осторожно, на некотором расстоянии, прикрывая ее. Затем он, однако, опять положил левую на его волосы, что сразу же дало возбужденью Иосифа разрядку, и, пытаясь другой своей рукой найти на коленях сына правую его руку, с настороженной доверительностью сказал:
— Вот что, Иашуп, дитя мое, хочу я спросить у тебя, ибо это вселяет мне в сердце тревогу о скоте и о благополучии стад! Ранние дожди были приятны, и выпали они до наступленья зимы, и тучи не лопались, затопляя поля и только наполняя колодцы кочевников, а все время тихо накрапывало, что всего благодатней для почвы. Но зима была сухая, и море не посылало нам дуновения своей кротости, а налетали ветры из пустыни и степи, и небо было ясно, глаза-то оно радовало, но сердце тревожило. Беда, если и поздних дождей не будет, тогда пропали урожай земледельца и посев хлебопашца, и травы засохнут до срока, и скот не найдет себе корма, и вымя у маток вяло повиснет. Пусть же скажет дитя, что оно думает о ветре и о погоде и о видах на погоду, и какого оно мнения о том, успеют ли еще поздние дожди выпасть вовремя?
Он еще ниже склонился над сыном, отвернув при этом лицо и держа ухо над его головой.
— Ты прислушиваешься ко мне, — сказал Иосиф, хотя этого не видел, — а дитя направит слух свой дальше, наружу и внутрь, и передаст твоему слуху нужную весть. Чует ухо мое, как падают капли с ветвей и как журчит по долам вода, хотя луна светит куда как ясно и ветер идет от Гилеада. Сейчас этих звуков нет во времени, но они близки во времени, и я слышу нюхом, и слышу уверенно, что еще до того, как луна ниссана уменьшится на одну четверть, земля понесет от мужского семени неба и взопреет и изойдет, слышится мне, паром от радости, и луга наполнятся овцами, и заколосятся хлеба на нивах, так что хоть пой и пляши. Я слыхал и усвоил, что сначала землю поил поток Тави, который выходил из Вавилона и орошал ее раз в сорок лет. Но затем господь положил поить ее с неба — по четырем причинам, и одна из них та, чтобы глаза глядели у всех вверх. Вот мы и будем с благодарностью взирать на небо престола, где находятся двигатели погоды и кладовые вихрей и гроз, такие, какими я их увидел во сне, когда задремал вчера под деревом наставленья. Один херуву, он назвал себя Иофиилом, дружелюбно повел меня туда за руку, чтобы я осмотрелся там и кое с чем познакомился. И я видел пещеры, полные пара, с дверями из пламени, и видел, как трудятся там и хлопочут подручные. И я слышал, как они говорили друг другу: отдан приказ о тверди и облачном небе. Засуха одолела запад, великая сушь поразила равнину и пастбища плоскогорья. Надо принять меры, чтобы как можно скорее прошли дожди в земле амореев, аммонитян и фереситян, мидианитов, хевитов и иегвуситов, особенно же в окрестностях места Хеврона на возвышенности водораздела, где пасет бесчисленные свои стада сын мой Иаков, по прозванью Израиль! Это привиделось мне с не допускающей никаких насмешек живостью, и вдобавок под священным деревом, так что господин мой может быть совершенно спокоен насчет орошенья.
— Хвала элохимам, — сказал старик. — Во всяком случае, мы отберем скот для всесожженья и сотворим пред ними трапезу, будем жечь требуху с ладаном и медом, чтобы сбылось то, что ты сказал. А то я боюсь, что горожане и здешние жители все испортят, учинив, плодородия ради, очередное непотребство в честь Баалат, какой-нибудь праздник совокупленья с обычной трескотней кимвалов и громкими криками. Это прекрасно, что мой мальчик благословен сновиденьями; недаром он первенец мой от праведной и самой любимой. Я тоже сподабливался кой-каких откровений, когда был моложе, и то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Беэршивы и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе. Я люблю тебя, потому что ты успокоил меня насчет орошенья, но не говори всем и каждому, что ты видишь сны под священным деревом, не говори этого детям Лии и не рассказывай об этом детям служанок, у них может вызвать раздраженье твой дар!
— Клянусь тебе в этом и кладу руку под твое стегно, — отвечал Иосиф. — Слово твое — печать на моих устах. Я знаю, что я болтун, но когда разум этого требует, я прекрасно владею собой; и владеть собой мне будет тем легче, что мои виденьица и вправду ничтожны по сравнению с тем, что выпало на долю моему господину у места Луза, когда гонцы восходили и нисходили между землею и воротами и когда элохим открылся ему…
Двуголосная песнь
— Ах, папочка, дорогой господин мой! — сказал он, оборачиваясь со счастливой улыбкой и обнимая одной рукой отца, к его восхищенью. — Как чудесно, что бог любит нас и благоволит к нам и что он допускает дым наших жертв до своих ноздрей! И хотя Авель не успел родить детей и был убит в поле Каином из-за их сестры Ноэмы, мы все-таки из колена жителя шатров Авеля и из колена Исаака, последнего, кто был благословен. Вот почему нам даны и разум и сновиденья, и оба эти дара — великая радость. Ибо отрадно обладать мудростью и владеть словом, благодаря чему ты способен говорить и возражать и в состоянье назвать любую вещь. Но столь же отрадно быть глупцом перед господом и, ровно ничего не подозревая, набрести на место, что связует небо и землю, и во сне узнать замыслы совета и уметь толковать видения, если они указывают, что будет делаться из месяца в месяц. Таким был премудрый Ной, которому господь объявил о потопе, чтобы тот спас жизнь. Таким был и Енох, сын Цареда, потому что он жил непорочно и умывался в живой воде. Это был отрок Ханок, а ты знаешь о нем? Я доподлинно знаю все, что с ним было, и знаю, что любовь бога к Авелю и к Ицхаку была слабой по сравнению с его любовью к Ханоку. Ибо Ханок был настолько умен и благочестив и начитан в таблицах тайны, что отделился от людей и господь взял его, и больше его не видели. И сделал его ангелом перед лицом своим, и он стал метатроном, великим писцом и князем мира…
Он умолк и побледнел. Под конец он говорил задыхаясь и теперь, оборвав свою речь, спрятал лицо на груди отца. Тот был рад укрыть его там. Бросая над ним слова в серебряную вышину, Иаков сказал:
— Да, я знаю о Ханоке, из первого колена людского, сыне Иареда, а Иаред был сыном Магалалеила, а тот — сыном Каинана, а тот — сыном Еноса, а Енос был сыном Сифа, а тот сыном Адама. Вот родословие Еноха до самого начала. Внуком же его сына был Ной, второй первочеловек, а Ной родил Сима, чьи дети черны, но миловидны, а от Сима в четвертом колене родился Евер, и поэтому Сим — отец всех детей Евера и всех евреев и наш отец…
Это было известно, ничего нового он не сообщил. Каждый в роду и семье с детства знал назубок родословную предков, и старик просто воспользовался случаем развлечься ее повтореньем и подтвержденьем. Иосиф понял, что разговор их собьется на «прекраснословие», то есть превратится в такую беседу, которая служит уже не для полезного обмена мнениями о тех или иных практических или религиозных делах, а только для перечисленья известных обоим истин, только для напоминанья, подтвержденья и назиданья, и представляет собой разговорную двуголосицу, подобную той перекличке, какую заводили ночами у полевых костров рабы-пастухи: «Знаешь ли ты об этом?» — «Знаю доподлинно». — И выпрямившись, Иосиф подхватил:
— А от Евера родился Фалек, а тот родил Серуха, а сын Серуха Нахор, отец Фарры, о радость! А Фарра родил Авраама в Уре Халдейском, и вышел оттуда с сыном своим Авраамом и с женой сына своего, которая звалась, как луна, Сахарью и была бесплодна, и с племянником сына своего Лотом. И взял их, и вывел их из Ура, и умер в Харране. И тогда бог повелел Аврааму, чтобы тот, вместе с душами, которых он приобрел господу, шел дальше через равнину и через поток Фрат по дороге, что связывает Синеар с землей Амуррейской.
— Знаю доподлинно, — сказал Иаков и взял опять слово. — То была земля, которую господь пожелал ему указать. Ибо другом бога был Авраам, и открыл он духом своим воистину высочайшего владыку среди богов. И пришел в Дамаск, и родил там со служанкой Елиезера. И пошел дальше по этой земле со своими людьми, что принадлежали богу, и в согласии с духом своим заново освящал святыни людей той земли, и жертвенники, и каменные круги и наставлял народ под деревьями, и учил его, что придет благословенное время, и прибывали к Аврааму окрестные жители, и пришла к нему служанка — египтянка Агарь, мать Измаила. И пришел он в Шекем.
— Я это знаю так же, как ты, — пропел Иосиф, — и двинулся отец наш из долины к горе и пришел в славное место, что нашел Иаков, и поставил между Вефилем и прибежищем Гаем жертвенник Иагу, всевышнему. И пошел оттуда к югу, к земле Негев, а это вот здесь, где горы отлого сбегают к Едому. И сошел совсем вниз и пришел в грязную землю Египетскую и в страну царя Аменемхета и стал там золотым и серебряным, и был очень богат скотом и всяким добром. И поднялся снова к Негеву и там отделился от Лота.
— И знаешь почему? — спросил Иаков для формы. — Потому, что и Лот был очень богат и мелким и крупным скотом, и шатрами, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Но заметь, как кроток был наш отец, когда пошел между их пастухами спор из-за пастбищ, ибо решено было дело не так, как то принято у разбойников-степняков, что приходят и убивают людей, чьим пастбищем и колодцем хотят завладеть, нет, он сказал племяннику своему Лоту: «Пусть не будет раздора между твоими людьми и моими! Земля широка, и лучше нам разделиться, и один пусть пойдет налево, а другой — направо без злобы». И двинулся Лот к востоку и избрал себе всю пойменную окрестность Иорданскую.
— Так оно и было воистину, — снова вступил Иосиф. — И стал Авраам жить у четырехградия Хеврона, и освятил дерево, что доставляет нам тень и сны, и путнику было пристанище, а бездомному — кров. Он давал жаждущим воду, и выводил на дорогу заблудшего, и защищал от разбойников. И не требовал за это ни платы, ни благодарности, а только учил поклоняться своему богу, Эль-эльону, владыке дома, отцу милосердному.
— Ты сказал это верно, — нараспев подтвердил Иаков. — И поставил господь завет с Авраамом, когда тот приносил жертву при захождении солнца. И взял Авраам телицу, козу и овна трехлетних, и горлицу, и молодого голубя. И рассек он всех четвероногих пополам, и положил одну часть против другой, и положил по птице слева и справа, и оставил открытым путь связи между частями и следил за орлами, что налетели на мясо. И тут напал на него сон, непохожий на сон, и охватили его ужас и мрак. И господь говорил с ним во сне и дал ему увидеть дали мирские и царство, что вышло из семени духа его и простерлось из беспокойства и правды его духа, и великие дела, о каких знать не знали князья и цари Вавилона, Ассура, Элама, Хатти и земли Египетской. И прошел в ночи пламенем по пути связи между частями жертвы.
— Ты знаешь это поистине бесподобно, — снова подал голос Иосиф, — но мне известно еще кое-что. И пало на Исаака и на господина моего Иакова наследие Авраама — завет и обетованье. И не было его со всеми детьми Евера, и не досталось оно ни аммонитянам, ни моавитянам, ни едомитянам, а выпало в удел только избранному богом колену, где господь усмотрел себе первородных — не плотью, не милостью материнской утробы, а духом. И были избранники его кротки и мудры.
— Да, да! Ты рассказываешь все, как было, — заговорил Иаков. — И то, что случилось однажды с Авраамом и Лотом, — которые разошлись, случалось и после, и народы расходились в разные стороны. И рожденные от Лота собственной его плотью Моав и Аммон не остались на его пастбищах вдвоем, ибо Аммон привязался к пустыне и к жизни пустыни. А на пастбищах Исаака не остался Исав, он ушел со своими женами, сыновьями, дочерями и домочадцами, и с имуществом своим, и со своим скотом в другую землю и стал Едомом на горе Сеир. А что не стало Едомом, было Израилем, и это — особый народ, не похожий ни на бродяг из земли Синайской, ни на голодранцев-разбойников из страны Аравайя, но не похожий также на людей Ханаана, ни на земледельцев, ни на жителей городов. Нет, это владыки и пастухи и свободные люди, которые пасут свои стада и берегут свои колодцы и помнят о господе.
— А господь помнит о нас и о нашей исключительности, — воскликнул Иосиф, запрокидывая голову и обнимая вытянутыми руками отца. — И поэтому дитя ликует в отцовских объятьях, оно в восторге от этих знакомых истин и упоено этим взаимным поученьем! Знаешь ли ты мой самый сладостный сон, который снился мне тысячи раз? Это сон о преимуществе и о сыновстве. Многое будет даровано божьему сыну, ему будет удача во всем, что он ни начнет, он будет находить благоволение в глазах у всех, и цари будут наперебой хвалить его. Знаешь, мне хочется пропеть хвалебную песнь владыке рати небесной, и чтобы язык мой при этом был так же проворен и ловок, как писчая палочка! Они посылали мне свою ненависть и ставили силки, чтобы меня поймать, они выкопали яму перед моими ногами и бросили жизнь мою в яму, где моей обителью была темнота. Но я выкликнул его имя из мрака ямы, и он исцелил меня и вырвал меня у преисподней. Он сделал меня великим среди чужеземцев, и народ, которого я не знал, служит мне на лбу. Сыны чужеземцев подольщаются ко мне, ибо без меня они бы умерли с голоду…
Грудь его тяжело поднималась и опускалась. Иаков глядел на него широко открытыми глазами.
— Что ты видишь, Иосиф? — спросил он тревожно. — Дитя говорит внушительно, но не сообразно с разумом. Как понимать, что чужбина служит ему на лице своем?
— Это были просто красивые слова, — отвечал Иосиф. — Я хотел попышнее прославить господа. А луна немного морочит мне голову.
— Береги свою душу и будь разумен, — сказал Иаков ласково. — Тогда и получится так, как ты говоришь: ты найдешь благоволение в глазах у всех. А я собираюсь подарить тебе одну вещь, которой порадуется твое сердце и которая оденет тебя. Господь пролил на уста твои сладость, и я молюсь, чтобы он освятил тебя навеки, мой агнец!
Сверкая чистым светом, преображавшим ее материальность, луна продолжала высокий свой путь во время их разговора, а звезды, повинуясь закону своего часа, тихо переместились. Ночь дышала миром, тайной и будущим. Старик еще немного посидел у колодца с сыном Рахили. Он назвал его «даму», ребенком, и «думузи», истинным сыном, как жители Синеара называли Таммуза. Еще он назвал его лестным именем «незер», что на языке Ханаана значит «росток» и «цветущий побег». Когда они вернулись к шатрам, он настоятельно посоветовал ему не хвастаться перед братьями и не говорить ни сыновьям Лии, ни сыновьям служанок, что отец так долго сидел с ним и так задушевно беседовал; и тот обещал молчать. Однако на следующий же день он не только рассказал им об этом, но и опрометчиво выболтал сон о погоде, что очень их разозлило, тем более что сон этот сбылся: поздние дожди были обильны и благодатны.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ «ИАКОВ И ИСАВ»
Лунная грамматика
В «прекраснословной» беседе, нами подслушанной, в этой вечерней антифонной песни, спетой у колодца Иаковом и его небезгрешным любимцем, старик между прочим упомянул о Елиезере, рожденном какой-то рабыней праотцу, когда тот со своими людьми находился в Дамашки. Яснее ясного, что, говоря об этом Елиезере, Иаков не мог иметь в виду того ученого старика, тоже, правда, вольноотпущенного сына рабыни, вероятно даже Иаковлева сводного брата, что жил в собственном его доме, был тоже отцом двух сыновей — Дамасека и Элиноса, и под деревом наставленья совершенствовал мальчика Иосифа во многих полезных и сверхполезных науках. Ясно, как день, что Иаков имел в виду того Елиезера, чьего первенца Авраам, этот странник из Ура или Харрана, до поры до времени вынужден был считать своим наследником — точнее сказать, до того времени, пока не появились на свет сначала Измаил, а потом, самым смешным образом, ибо обыкновенное женское у Сарры уже прекратилось, да и сам Авраам был так стар, что его можно было назвать столетним, — а потом, самым смешным образом, истинный сын, Ицхак или Исаак. Однако ясность дня, солнечная, так сказать, ясность — это совсем не то, что ясность лунная, а она-то и царила на диво во время этого сверхполезного разговора. При ясности лунной вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной, а там и тогда первая могла представляться ясностью истинной. Поэтому, признаемся по секрету, что, сказав: «Елиезер», Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя и первого раба — вернее сказать, и его тоже, обоих, стало быть, сразу, и не только обоих, но Елиезера вообще, со времен старейшего Елиезера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елиезер, и у него часто были сыновья, которых звали Дамасек и Елинос.
Такой взгляд Иакова — в этом старик мог быть уверен — вполне разделял Иосиф, который был очень далек от того, чтобы четко, с солнечной ясностью, отличать от прауправляющего Елиезера старого своего учителя, тем более что учитель и сам был от этого очень далек и, говоря о «себе», в большой мере имел в виду Авраамова домочадца. Так, например, он не раз рассказывал Иосифу историю о том, как он, Елиезер, сватал Ицхаку в Месопотамии у родственников Авраама Ревекку, дочь Вафуила и сестру Лавана, причем рассказывал с мельчайшими подробностями, такими, как бубенцы в виде маленьких лун и полумесяцев на шеях его десяти дромадеров или точная цена в шекелях всех носовых серег, запястий, нарядов и пряностей, отданных в выкуп за деву Ревекку и в приданое ей, рассказывал как случай из своей жизни, как собственную историю, не уставая расписывать ту очаровательную кротость Ревекки, с какой она у колодца перед Нахоровым городом опустила в тот вечер кувшин свой с головы на руку и напоила его, жаждущего раба, назвав его — и это он особенно ставил в заслугу ей — «господин мой»; ту стыдливую скромность, с какой она при виде Исаака, который вышел в поле поплакать о своей недавно умершей матери, спрыгнула с верблюда и закуталась покрывалом. Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елиезера, ничуть не смущаясь тем, что «я» старика не имело достаточно четких границ, а было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого. Но что значит «собственно»? Разве человеческое «я» — это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал и находится вне его, разве констатация, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущенья, сделанного лишь для удобства и для порядка и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим? В конце концов идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что идея единства, целостности, совокупности, общности, и различие между сознаньем вообще и индивидуальным сознаньем далеко не всегда занимало умы в такой большой мере, как в том «сегодня», которое мы покинули, чтобы повести рассказ о другом «сегодня», чья манера выражаться давала верную картину его представлений, если понятия «личность» и «индивидуальность» оно обозначало лишь такими точными словами, как «религия» и «верование».
Кто был Иаков
Именно в этой связи мы и заводим речь об обогащении Авраама. По прибытии в Нижний Египет (это случилось, по-видимому, во времена двенадцатой династии) он еще отнюдь не был так богат, как в ту пору, когда отделился от Лота. С необычайным его обогащеньем дело обстояло вот как. С самого начала Авраам испытывал величайшее недоверие к нравственности египтян, которая, справедливо или нет, представлялась ему поросшей камышом топью, — вроде рукавов нильского устья. Он боялся египтян, боялся из-за своей жены Сары, которая сопровождала его и была очень красива. Его пугала разнузданная похотливость тамошних жителей, он опасался, что при виде Сары они сразу воспылают желаньем и убьют его, чтобы завладеть ею; в преданье запечатлено, что об этом, то есть о своих опасеньях насчет собственного благополучия, он говорил с ней, как только вступил в Египет, где и велел ей назваться не его женой, а его сестрой, чтобы отвести от него зависть бесстыжего населенья, — что она могла сделать, даже не солгав, ибо, во-первых, возлюбленную часто, особенно в Египте, называли сестрой, а во-вторых, Сара была сестрой Лота, которого Авраам считал своим племянником и называл братом. Поэтому он-то, во всяком случае, мог смотреть на Сару как на свою племянницу и называть ее в общепринятом широком смысле слова сестрой, чем он и воспользовался для обмана и самозащиты. Действительность не только подтвердила, но и превзошла его ожиданья. Сумрачная красота Сары привлекает к себе в этой стране вниманье знатных и незнатных, весть о ней доходит до престола властителя, и знойноокую азиатку забирают у ее «брата» — не силой, не по-разбойничьи, а за хорошую плату, то есть покупают, признав, что она достойна обогатить отборный запас фараоновых жен. Туда ее и доставляют, а ее «брату», который, по общему мнению, не то что не обижен, а просто осчастливлен таким ходом событий, разрешают находиться вблизи нее; мало того, двор непрестанно осыпает его благодеяньями, подарками и наградами, и тот, невозмутимо их принимая, вскоре становится богат и мелким и крупным скотом, и ослами и рабами, и рабынями, и ослицами, и верблюдами. А тем временем при дворе фараона — и это старательно скрывают от народа — разыгрывается беспримерный скандал. Аменемхета (или Сенусерта; нельзя с полной определенностью сказать, какой победитель Нубии одарял тогда благодатью своего господства обе страны) — одним словом, бога во цвете лет. Его Величество, и как раз тогда, когда он собирается отведать новинку, поражает бессилие — причем не один раз, а снова и снова, и одновременно, как мало-помалу выясняется, все его окруженье, всех высших сановников и вельмож царства постигает эта же позорная и — учитывая высшее космическое значение детородной силы — ужасающая беда. Совершенно ясно, что тут что-то неладно, что допущен какой-то промах, что это дают себя знать какие-то чары, какое-то высшее противодействие. Брата еврейки призывают к престолу, его допрашивают, и допрашивают настойчиво, и он наконец открывает правду. Поведение его святейшества выше всяких похвал: это — само благоразумие, само достоинство. «Почему, — спрашивает он, — сделал ты это со мной? Почему уготовил ты мне такую неприятность двусмысленной речью?» И, даже не подумав лишить Авраама даров, столь щедро ему пожалованных, фараон возвращает пришельцу его жену и заклинает их богами идти своей дорогой, причем дает им еще надежную охрану, чтобы та сопровождала людей Авраама до границ Египта. Праотцу же, который не только вернул себе Сару нетронутой, но и стал куда богаче, чем прежде, остается только радоваться удавшейся пастушеской плутне. А ведь допустить, что он с самого начала рассчитывал на то, что бог так или иначе убережет Сару от осквернения, допустить, что подарки он принимал только на этом наперед известном условии, будучи уверен, что такой его образ действий посрамит египетскую блудливость лучше всего, — допустить это тем соблазнительнее, что только при такой точке зрения все его действия: отрицание своего супружества, пожертвование Сары ради собственного благополучия — предстают в правильном свете — весьма остроумными.
Такова эта история, правдивость которой предание особо еще подчеркивает и подтверждает тем, что приводит ее вторично, с той лишь разницей, что на сей раз она разыгрывается уже не в Египте, а в земле филистимлян и в ее столице Гераре, при дворе царя Авимедеха, куда халдеянин с Сарой пришел из Хеврона и где все, начиная от просьбы Авраама к жене и кончая счастливой развязкой, протекает в точности так же, как изложено выше. Повторение рассказа, как средство подчеркнуть правдивость его — прием необычный, но он не очень бросается в глаза. Гораздо примечательней то, что предание, которое письменно было закреплено, правда, в более позднюю пору, но как предание существовало, конечно, всегда, восходя к рассказам и сообщениям самих патриархов, — что, излагая это же приключенье в третий раз, предание приписывает его Исааку и что, следовательно, Исаак оставил память об этом приключенье, как о своем собственном, случившемся с ним — или и с ним тоже. Ибо, спасаясь от голода, Исаак тоже (это было вскоре после рожденья его близнецов) пришел со своей красивой и умной женой в страну филистимлян, к герарскому дворцу; там он тоже по тем же причинам, что Авраам Сару, выдал Ревекку за свою «сестру» — не совсем не по праву, поскольку она была дочерью его двоюродного брата Вафуила — а дальше в его случае история пошла вот как: «через окно», то есть как тайный лазутчик и соглядатай, царь Авимелех увидел, как Исаак «шутит» с Ревеккой, и был этим так испуган и разочарован, как только может быть испуган и разочарован влюбленный, узнав, что предмет его желаний, который он считал свободным, на самом деле находится в крепких руках. Слова Авимелеха выдают его с головой. Когда призванный к ответу Исаак открыл ему правду, филистимлянин с упреком воскликнул: «Какую опасность навлек ты на нас, чужеземец! Один из народа моего чуть не совокупился с твоей женой, и какая бы тогда пала на нас вина!» Выражение «один из народа» не допускает никаких кривотолков. Кончилось дело, однако, тем, что супруги оказались под особым и личным покровительством этого благочестивого, хотя и сластолюбивого царя, и что благодаря его покровительству Исаак разбогател в земле филистимской так же, как некогда там или в Египте разбогател Авраам, и нажил столько скота и рабов, что филистимлянам стало уже невмоготу видеть это, и они осторожно выпроводили его из своей страны.
Если предполагать, что Авраамово приключенье случилось в Гераре, то невероятно, чтобы Авимелех, с которым имел дело Ицхак, был все тем же Авимелехом, который оказался не в состоянии лишить Сару супружеской чистоты. Тут два разных характера: если державный поклонник Сары направил ее прямиком в свой гарем, то Исааков Авимелех вел себя гораздо более робко и застенчиво, и полагать, что это было одно и то же лицо, может разве лишь тот, кто объясняет осторожное поведение царя в случае с Ревеккой тем, что, во-первых, со времен Сары он сильно постарел, а во-вторых, история с Сарой послужила ему уроком. Но интересует нас не личность Авимелеха, а личность Исаака, вопрос о его, Исаака, отношении к изложенной истории, да и этот вопрос беспокоит нас, строго говоря, лишь косвенно, лишь ради следующего вопроса — кто был Иаков, тот Иаков, что беседовал при нас со своим сынком Иосифом, Иашупом или Иегосифом лунной ночью.
Взвесим имеющиеся возможности. Допустим, что в Гераре Ицхак пережил примерно то же, что пережил там или в Египте его отец. В этом случае налицо явление, которое можно назвать подражанием или преемственностью, налицо мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современностью, заново претворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами. Возможно, однако, что муж Ревекки пережил эту историю не «сам», не в узких физических рамках своего «я», но тем не менее считал ее частью своей жизни и как таковую передал ее потом Нам, потому что отличал «я» от «не-я» менее четко, чем это (со сколь сомнительным правом, было уже намеком замечено) делаем мы — или делали до того, как вступили в это повествование; потому что для него жизнь отдельного существа отграничивалась от жизни рода поверхностнее, рожденье и смерть не были для него такими глубокими сдвигами бытия — вспомним позднего Елиезера, рассказывавшего Иосифу приключения пра-Елиезера в первом лице; это было явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности и, слившись с ним, определяет чувство собственного достоинства.
Нисколько не заблуждаясь относительно того, как трудно повествовать о людях, не знающих толком, кто они такие, мы не сомневаемся в необходимости учитывать такую зыбкость сознанья, и если Исаак, заново переживший египетское приключенье Авраама, считал себя тем Исааком, которого хотел принести в жертву странник из Ура, то для нас это еще не есть убедительное доказательство, что он им и был, — разве только попытка жертвоприношения входила в схему и повторно предпринималась. Пришелец из Халдеи был отцом Исаака, которого он хотел заколоть, но насколько невероятно, чтобы этот Исаак был отцом Иосифова отца, сидевшего на наших глазах у колодца, настолько вероятно, что Исаак, подражательно повторивший или вобравший в личное свое бытие Авраамову плутню, пусть отчасти, а все же путал себя с Исааком, чуть не погибшим на жертвеннике, хотя в действительности был куда более поздним Исааком и его отделяло от урского Авирама не одно поколенье. Не нужно доказывать, — это и так сразу видно, — нужно только ясно сказать, что история предков Иосифа в том виде, как ее излагает предание, есть благочестивое сокращение действительных обстоятельств дела, то есть той череды поколений, что должна была заполнить века, отделявшие Иакова, которого мы видели, от урского Авраама; и подобно тому как Елиезер, внебрачный сын и домоправитель урского Авраама, сватавший Ревекку молодому своему господину, после того сватовства часто существовал во плоти, часто высватывал за Евфратом какую-нибудь Ревекку и как раз теперь снова здравствовал в качестве учителя Иосифа — много Авраамов, Исааков и Иаковов ходило с тех пор под солнцем, не проявляя в одиночку склонности к педантической точности в определенье границ плоти и времени, не отличая свою действительность от прежней с солнечной ясностью и не проводя такой уж четкой грани между своей «индивидуальностью» и индивидуальностью более ранних Авраамов, Исааков и Иаковов.
Имена эти были наследственными — если это слово уместно и достаточно точно, когда речь идет о сообществе, в котором они повторялись. Ведь сообщество это росло не как семья, а как группа семей, а кроме того, рост его издавна и в значительной мере основывался на присоединении новообращенных, на пропаганде веры. В пришельце из Ура, Аврааме, нужно видеть главным образом родоначальника духовного, и чтобы Иосиф, чтобы отец Иосифа на самом деле состояли с ним в физическом родстве — а тем более таком прямом, как они полагали, это очень и очень сомнительно. Сомнительно, впрочем, было это и для них самих; только сумеречность их собственного и всеобщего сознания позволяла им сомневаться в этом мечтательно-сонно, благочестиво-оцепенело, принимая слова за действительность, а действительность наполовину только за слово, и называть халдеянина Авраама своим дедом или прадедом примерно в таком же смысле, в каком тот сам называл Лота из Харрана своим «братом», а Сару своей «сестрой», что тоже было одновременно правдой и неправдой. Но даже и во сне люди Эль-эльона не могли приписать своему сообществу цельность и чистоту крови. Вавилонско-шумерская, а значит, не совсем семитская порода прошла тут через быт Аравийской пустыни, еще сюда прибавились элементы из Герара, из земли Муцри, даже из Египта — в лице, например, рабыни Агари, которую удостоил своего ложа сам великий родоначальник и сын которой женился опять же на египтянке; а сколько горя принесли Ревекке хеттейские жены ее Исава, дочери племени, тоже не считавшего своим прародителем Сима, а вторгшегося когда-то в Сирию из Малой Азии, из урало-алтайской сферы, — это всегда было слишком хорошо известно, чтобы распространяться сейчас и на этот счет. Некоторые колена рано отпали. Известно, что и после смерти Сары урский Авраам производил на свет детей, неразборчиво вступив в связь с ханаанеянкой Хеттурой, хотя сам же не хотел, чтобы его Ицхак женился на ханаанеянке. Одним из сыновей Хеттуры был Мидиан, чьи потомки жили южнее округи Исава, Едома-Сеира, на краю Аравийской пустыни, подобно тому как дети Измаила жили перед Египтом; ибо Ицхак, истинный сын, был единственным наследником, а от детей побочных отделывались подарками и сплавляли их куда-нибудь на восток, где они теряли всякие связи с Эль-эльоном, если вообще когда-либо признавали его, и служили собственным своим богам. Божественное же, то есть наследственная работа над идеей бога, было связующим обручем, скреплявшим при всей ее генеалогической пестроте ту духовную семью, что, в отличие от других евреев, сыновей Моава, Аммона и Едома, называла себя этим племенным именем в особом и узком смысле, тем более что как раз теперь, как раз в то время, в которое мы вступили, она стала связывать это имя с другим — Израиль — и им обусловливать первое.
Имя и звание, добытое некогда Иаковом, не было изобретением странного его противника. Богоборцами всегда называло себя одно разбойничье-воинственное и отличавшееся весьма первобытными нравами племя пустыни, отдельные части которого, меняя степные пастбища, пригнали свой мелкий скот к селеньям плодородных земель, перешли от чисто кочевой жизни к полуоседлому быту и после вероучительной вербовки вошли в семью Авраамовых единомышленников. Их богом в родной пустыне был злобный воитель и громовержец по имени Иагу, крайне несговорчивый дух, с чертами скорее демоническими, чем божественными, хитрый, деспотичный, лукавый, перед которым смуглый его народ, кстати сказать, гордившийся им, трепетал, хотя и пытался колдовством и кровавыми обрядами как-то обуздать и обратить на пользу себе бешеный нрав этого демона. Иагу мог без какого-либо видимого повода напасть среди ночи на человека, к которому у него были все основания относиться доброжелательно, — чтобы его удушить; существовал, однако, способ заставить Иагу отказаться от его страшного намерения: жена того, на кого он напал, должна была, не мешкая, обрезать своего сына каменным ножом и, прикоснувшись крайней плотью к срамным частям демона, прошептать ему некую мистическую формулу, более или менее вразумительный перевод которой на наш язык сопряжен с не преодоленными до сих пор трудностями, но которая смягчала и прогоняла убийцу. Вот каков был Иагу. И все же этому темному, в образованном мире совершенно неизвестному божеству суждено было большое теологическое поприще как раз благодаря тому, что часть его паствы оказалась в сфере Авраамова богомыслия. Если, приобщившись к идеям, пущенным в ход урским странником, пастушеские эти семьи усилили своей плотью и кровью человеческую базу богословских традиций халдеянина, то, с другой стороны, какая-то доля неистовства их бога проникла в то божество, что стремилось обрести действительность в человеческом духе, божество, в формировании которого участвовали своими красками и духовным своим материалом также ведь и Усири Востока, Таммуз, и Адонаи, растерзанный сын и овчар Мелхиседека и его сихемитов. Разве мы не слышали, как его, Иагу, имя, бывшее некогда боевым кличем, слетало лирическим лепетом с красивых и прекрасных губ? И в той форме, в какой принесли его из пустыни смуглые ее сыновья, и в своих сокращенных и производных формах, связывавших его с местными, ханаанскими условиями, имя это принадлежало к звукам, которыми примеривались к невыразимому. Так, например, одна здешняя местность издавна называлась «Бети-йа», «дом Иа», то есть точно так же, как «Бетель» или «Вефиль», «дом бога», и достоверно известно, что переселявшиеся в Синеар амурреи еще до эпохи законодателя носили имена, включавшие в себя обозначение бога «Иа'ве», — мало того, еще урский Авраам назвал дерево у святилища Семь Колодцев «Иагве эль олам», «Иагве бог всех времен». Имени же, которым называли себя бедуины-воины Иагу, суждено было стать отличительным признаком наиболее чистого и наиболее высокого еврейства, приметой духовного потомства Авраама, как раз благодаря тому, что Иаков добыл его в трудную ночь над Иавоком…
Елифаз
Такие люди, как Симеон и Левий, сильные сыновья Лии, могли, пожалуй, втайне посмеиваться над тем, что отец завоевал себе, как бы отторгнув его у неба, именно это разбойничье-дерзкое имя. Ибо Иаков не был воинствен. Никогда бы он не сделал того, что сделал урский Аврам, который, когда наемники Востока, войска Элама, Синеара, Ларсы и левобережья Тигра, вторглись из-за не выплаченной вовремя дани в долину Иордана, разграбили ее города и увели в плен Лота Содомского, смело и решительно вооружил несколько сот рожденных в доме рабов и окрестных единоверцев, людей Эль-берита, всевышнего, двинулся с ними большими переходами из Хеврона, догнал уходивших эламитов и гоев и, приведя в смятенье их арьергард, освободил множество пленников, а Лота и похищенное его имущество с триумфом доставил домой. Нет, на такие дела Иаков не был способен, тут он спасовал бы, в чем мысленно и признался себе, когда Иосиф завел речь об этой старой, часто упоминавшейся истории. Он «не нашел бы в себе силы на это», как не нашел бы в себе, по собственному его признанию, силы сделать со своим сыном то, чего потребовал господь. Освобождать Лота он предоставил бы Симеону и Левию; но если бы те, со своим обычным в таких случаях ужасным криком, устроили бы лунопоклонникам кровавую баню, он закутал бы свое лицо покрывалом и сказал: «Душа моя не с ними!» Ибо душа эта была пугливой и кроткой; она гнушалась насилия и страшилась претерпеть насилие и была полна воспоминаний о посрамленьях своего мужества, но воспоминания эти не шли в ущерб ее достоинству и ее торжественности, потому что именно в такие часы физического униженья ее каждый раз озарял луч духа, она сподоблялась нового, утешительнейшего подтверждения милости, которая давала ей полное право вознести голову, потому что она, душа, сама же рождала и завоевывала эту мысль в неуниженной своей глубине.
Как было дело с Елифазом, великолепным сыном Исава? Елифаза родила Исаву одна из тех его хеттейско-ханаанских жен, баалопоклонниц, которых он рано ввел в дом в Беэршиве и о которых Ревекка, дочь Вафуила, говаривала: «Я жизни не рада от дочерей хеттейских». Иаков уже не помнил, кого из этих хеттеянок Елифаз называл своей матерью; кажется, это была Ада, дочь Елона. Во всяком случае, тринадцатилетний, рано возмужавший внук Ицхака был молодой человек необыкновенно приятный: простодушный, но храбрый, чистосердечный, благородных мыслей, здоровый душой и телом, полный гордой любви к обиженному своему отцу. Жилось Елифазу трудно — причем не только из-за сложных семейных отношений, но также из-за религиозных разногласий. Ибо не меньше чем три вероисповедания оспаривали друг у друга его душу: дедовский Эль-эльон, баалы материнской родни и мечущее громы и стрелы божество по имени Куцах, почитавшееся горцами юга, сеирцами или людьми Едома, к которым Исав издавна тяготел, а позднее и окончательно перешел. Огромная скорбь и бессильная ярость этого космача по поводу разительных событий, разыгравшихся по воле Ревекки в темном шатре подслеповатого деда и погнавших затем Иакова от родного очага на чужбину, потрясли мальчика Елифаза до глубины души, в его ненависти к своему ложно благословенному дяде было что-то иссушающее, что-то прямо-таки опасное для его собственной жизни: казалось, что такая ненависть превосходила силы нежного его возраста. Дома, под бдительным оком Ревекки, против похитителя благословения нельзя было предпринять вообще ничего. Но когда выяснилось, что Иаков бежал, Елифаз бросился к Исаву и рьяно стал призывать его догнать и убить изменника.
Но обреченный пустыне Исав был слишком подавлен, он слишком ослаб от горького плача о своей преисподней судьбе, чтобы пойти на такое дело. Он плакал, потому что ему полагалось плакать, потому что это соответствовало его роли. Его манера смотреть на вещи а на себя самого обуславливалась к определялась врожденными канонами мышленья, которые связывали его, как всех на свете, и отражали круговращенье космоса. Благодаря отцовскому благословению Иаков стал окончательно человеком полной и «прекрасной» луны, а Исав — темной луной, а значит — человеком солнца, а значит — жителем преисподней, а в преисподней полагалось плакать, хотя бы ты там и разбогател. Если потом он совсем переметнулся к горцам юга и к их богу, то сделал он это потому, что так ему подобало поступить, ибо юг ассоциировался с преисподней, как, кстати сказать, и пустыня, куда пришлось удалиться соответствующему брату Исаака Измаилу. Отношения же с людьми Сенра Исав завязал давно, задолго до того, как на него пало беэршивское проклятье, а это доказывает, что благословение и проклятье были всего только неким подтверждением, что его характер, то есть его роль на земле, была определена издавна и что он всегда прекрасно сознавал эту свою роль. В отличие от Иакова, который жил в шатрах и был пастухом луны, он стал охотником, бродячим гостем чистого поля, и стал им, спору нет, в силу своей природы, на основании своей ярко выраженной мужественности. Но мы ошиблись бы и не отдали должного мифически-схематическому складу его ума, полагая, будто его самоощущение, его сознание своей роли опаленного солнцем сына преисподней было лишь следствием его охотничьего призванья. Наоборот, как раз наоборот, он избрал это занятие потому, что так ему и подобало поступить, то есть из-за своей мифической просвещенности, из покорности схеме. На просвещенный взгляд — а у Исава, при всей его грубости, такой взгляд на вещи всегда был — его отношение к Иакову повторяло и переносило в настоящее время — во вневременную действительность — отношение Каина к Авелю; а уж тут Исаву доставалась роль Каина, она доставалась ему как старшему брату, который, хотя новый закон мира и на его стороне, прекрасно чувствует, что со времен седой материнской древности глубокой симпатией человечества пользуется младший и самый младший. Да, если известная история о чечевичной похлебке соответствует действительности, а не была присочинена задним числом для оправдания обмана с благословением (почему Иаков все равно вполне мог верить в ее правдивость), то кажущееся легкомыслие Исава объясняется несомненно таким чувством. Уступая так дешево первородство Иакову, он надеялся завоевать хотя бы симпатию, которая по традиции принадлежит младшему.
Словом, красный, волосатый Исав плакал и выказал полное нежелание мстить и преследовать. Он совсем не хотел еще и убить авелевского своего брата, что только довело бы до предела то сходство, к которому с самого начала клонили дело родители. Но когда Елифаз вызвался или, вернее, решительно пожелал догнать в таком случае и убить благословенного на собственный страх и риск, у Исава не нашлось против этого никаких доводов, и он сквозь слезы кивнул сыну головой в знак согласия. Ибо убей племянник дядю, это было бы приятным для него, Исава, нарушеньем досадной схемы, историческим новшеством, которое могло бы стать эталоном для позднейших мальчиков Елифазов, а его, Исава, избавило бы от роли Каина хотя бы в последней ее части.
Итак, Елифаз собрал пять или шесть человек, державших сторону его отца и обычно сопровождавших его при отлучках в Едом, вооружил их имевшимися в доме длинными камышовыми копьями с очень опять-таки длинными и опасными остриями над пестрыми пучками волос, затемно вывел из стойл Ицхака верблюдов, и прежде чем наступил полдень, Иакова, ехавшего, благодаря заботам Ревекки, тоже на верблюде, и притом в сопровождении двух рабов, с большим количеством съестных припасов и меновых ценностей, — Иакова преследовал по пятам отряд мстителей.
Всю свою жизнь Иаков не забывал ужаса, который охватил его, едва до него дошел смысл этой погони. Поначалу, когда показались всадники, он польстил себя надеждой, что Ицхак слишком рано заметил его исчезновение и хочет его вернуть. Но, узнав сына Исава, он понял всю серьезность положенья и пришел в отчаяние. Начались гонки не на жизнь, а на смерть — лежевесно были вытянуты шеи быстро бежавших, храпевших от усердья, увешанных кистями и лунами дромадеров. Но Елифаз и его люди ехали с меньшей поклажей, чем Иаков; он видел, как с каждым мгновеньем сокращалось расстоянье, от которого зависела его жизнь, и когда его перегнали первые копья, он сделал знак, что сдается, спешился со своими людьми, и, пав лицом на землю, с поднятыми пустыми руками, застыл в ожидании своего преследователя.
То, что произошло затем, было самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Иакова, и могло бы, наверно, у кого-нибудь другого навсегда подорвать чувство собственного достоинства. Он должен был, если хотел остаться в живых, — а остаться в живых он хотел любой ценой, не просто из трусости, что нужно настоятельно напомнить, а потому, что был посвящен, потому что на нем лежал завещанный Авраамом обет, — он должен был этого разъяренного мальчика, собственного племянника, такого по сравнению с ним молодого, такого третьестепенного члена семьи, который уже — и не один раз — заносил над ним меч, — он должен был постараться смягчить его мольбами, самоуниженьем, слезами, лестью, жалобными призывами к его великодушию, тысячами извинений, — одним словом, убедительным доказательством того, что не стоит труда пронзать мечом такое ничтожество. Он это и делал. Он, как безумец, целовал ноги мальчика, он осыпал свою голову целыми пригоршнями пыли, и его подгоняемый страхом язык, не перестававший уговаривать и заклинать, двигался с величайшим проворством, которое должно было удержать и действительно удержало озадаченный, поневоле ошеломленный таким словоизверженьем рассудок мальчика от поспешных действий.
Разве он желал этого обмана? Разве это был его замысел, его изобретенье? Пусть из него выпустят потроха, если он хоть в чем-нибудь виноват! Только мать, только бабушка все это придумала и подстроила — из чрезмерной любви, из незаслуженного пристрастия к нему, Иакову, а он всячески противился ее затее, пугая ее тем, что Исаак откроет правду и проклянет не только его, но и ее, не в меру находчивую Ревекку. С проникновенностью отчаянья вопрошал он ее, каково ему будет стоять перед величавым лицом своего первородного брата, если даже хитрость удастся! Не радостно, не весело и не дерзко, о нет, а дрожа и робея вошел он в шатер отца, в шатер любимого деда с кушаньем из козленка и вином, одетый в праздничное платье Исава, со шкурами на запястьях и на шее. Пот так и побежал у него по бедрам от смущенья и страха, голос так и замер у него в горле, когда Исаак спросил его, кто он, когда тот ощупал и обнюхал его — но даже умастить его благовонным, пахнущим полевыми цветами маслом Исава не забыла Ревекка! Это он-то обманщик? Ах, скорее он жертва женской хитрости, Адам, совращенный Гевой, подругой змея! И пусть мальчик Елифаз всю свою жизнь — да продлится она много сот лет и долее — остерегается советов женщины и мудро обходит ловушки ее лукавства! Он, Иаков, попался, ему теперь конец. Это он-то благословен? Во-первых, какое же это отцовское благословение, если оно дано по ошибке, если сын выкрал его против собственной воли? Разве оно имеет какую-то ценность, какой-то вес? Разве оно обладает какой-либо силой? (Он прекрасно знал, что благословение — это благословение и что оно обладает полным весом и полной силой, но он спрашивал так, чтобы сбить Елифаза с толку.) А во-вторых, разве он, Иаков, проявил хоть малейшую готовность воспользоваться ошибкой, завладеть домом по праву благословенного и вытеснить Исава, своего господина? О нет, как раз наоборот! Он добровольно ретируется, Ревекка, раскаявшись, прогнала его сама, он навсегда удаляется в чужие, неведомые края, уходит в изгнание, прямехонько в преисподнюю, и доля его — вечные слезы! И его-то хотел поразить острым своим мечом Елифаз — голубь светлокрылый, молодой тур во цвете своей красоты, прекрасный олень? Но разве господь не обещал Ною взыскивать пролитую человеческую кровь, и разве не прошли времена Каина и Авеля, разве не правят ныне в стране законы, нарушив которые благородный и юный Елифаз может оказаться в величайшей опасности? О нем и печется его достаточно уже наказанный дядя, и если он, Иаков, уничиженный и обедневший, идет теперь на чужбину, где станет рабом, то пусть зато Елифаз будет богат и счастлив, а его мать благословенна среди детей Хета, потому что рука его не пролила крови, а душа отвернулась от злодеянья…
Вот каким потоком хлынули многословные от страха мольбы Иакова, и Елифаз только диву давался, у него голова шла кругом от этого разлива речей. Он готовился встретить смеющегося разбойника, а увидел несчастного человека, чье унижение, казалось, целиком восстанавливало честь Исава. Мальчик Елифаз был добродушен, как, собственно, и его отец. В сердце его одно пламенное чувство быстро сменилось другим, злоба отступила перед великодушием, и он воскликнул, что пощадит дядю, и тогда Иаков заплакал от радости, покрывая поцелуями край Елифазова платья и его руки и ноги. К волнению мальчика примешивались неловкость и легкое отвращенье. Немного досадуя на собственную нерешительность, он резко заявил, что беглецы должны отдать ему свою поклажу, ибо все, что сунула дяде Ревекка, принадлежит обиженному брату Исаву. Иаков попытался было вкрадчивой речью изменить и это решенье, но Елифаз на него презрительно прикрикнул, а затем так основательно обобрал Иакова, что у того и вправду осталась только голова на плечах: золотые и серебряные сосуды, кувшины с лучшим вином и маслом, малахитовые и сердоликовые запястья и бусы, куренья и медовые конфеты — все это пришлось отдать Елифазу; даже оба раба, тайком ушедшие со двора, один из которых был, кстати сказать, ранен копьем в плечо, а также их верблюды должны были отправиться с преследователями обратно — и в полном одиночестве, приторочив к седлу несколько глиняных кувшинов с водой, Иаков мог — кто знает в каком состоянии духа, — продолжать сумрачный свой путь на восток.
Вознесение главы
Он спас свою жизнь, свою драгоценную, обетованную жизнь, для бога и для будущего — что значили в сравнении с ней золото и сердолик? Жизнь — это было самое главное, и юный Елифаз был обманут, в сущности, еще великолепнее, чем его родитель, но чего это стоило! Не просто дорожной клади, а всей, без остатка, мужской чести; нельзя было опозориться больше, чем Иаков, который валялся в ногах у какого-то молокососа и скулил с искаженным от слез и от размазанной пыли лицом. А что было потом? А что было сразу же после такого униженья?
Сразу же или через несколько часов после этого, вечером, при свете звезд, он достиг места под названием Луз, дотоле ему неизвестного, так как вообще вся эта сторона была для него уже чужой, — расположенного на одном из уступчатых, засаженных виноградом холмов, которые повсюду возвышались окрест. Немногочисленные кубики домов этой деревни теснились на середине испещренного тропинками склона, и так как внутренний голос посоветовал обедневшему путнику остановиться здесь на ночлег, он погнал своего норовистого, еще совершенно оторопелого после недавних плачевно-бурных событий верблюда, перед которым ему было немного стыдно, к этому холму. У колодца, который находился с внешней стороны глинобитной ограды, он напоил животное и смыл с лица своего следы позора, что уже значительно улучшило его настроение. Однако просить приюта у жителей Луза он все-таки не стал, чувствуя себя нищим, а повел в поводу живую свою собственность, единственное теперь свое достоянье, мимо селенья вверх по холму, к его тупой вершине, вид которой заставил его пожалеть, что пришел он сюда не раньше, не своевременно. Ибо священный каменный круг, гилгал, показывал, что место это — убежище для преследуемых, и тому, кто остановился бы здесь, юный Елифаз, разбойник с большой дороги, не посмел бы причинить никакого вреда.
Посредине гилгала, торчком, стоял особый камень, угольно-черный, конический, явно упавший с неба, так что в нем дремали звездные силы. Своей формой он напоминал детородный член, и поэтому Иаков благочестиво поднял кверху глаза и руки и почувствовал новый прилив сил. Здесь он решил провести ночь, покуда ее снова не скроет день. Изголовьем Иаков избрал одну из каменных глыб круга. «Ну-ка, — сказал он, — отрадный старый камень, вознеси на ночь голову беспокойному страннику!» Он подстелил головное покрывало, вытянулся на земле лицом к фаллическому высланцу неба, поглядел, щурясь, на звезды и уснул.
Тут-то и началось, тут-то и пошло, тут-то и в самом деле, должно быть, среди ночи, после нескольких часов глубокого забытья, голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему видению, где соединились все таившиеся в его душе представленья о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим униженьем душа, наполнила, чтобы утешиться и подкрепиться, пространство своего сна… Ему не снилось, что он находится в каком-то другом месте. Он и во сне опирался головою на камень и спал. Но сквозь веки его проникало ослепительное сиянье; он видел сквозь них, видел Вавилон, видел пуповину, связывающую небо и землю, лестницу, ведущую к высочайшему дворцу, ее бесчисленные, огненные и широкие, уставленные астральными стражами ступени, поднимавшиеся на невероятную высоту, к верховному храму и к престолу верховного владыки. Они не были ни каменными, ни деревянными, ни из какого-либо другого земного вещества; казалось, что они сооружены из раскаленной руды, из звездного огня; планетное их сиянье безмерно широко разливалось по земле, переходя выше и дальше в ослепительный блеск, глядеть на который можно было только сквозь веки, потому что открытые глаза его не выдержали бы. Пернатые человекозвери, херувимы, коровы в венцах с лицами дев и со сложенными крыльями неподвижно стояли по обеим сторонам лестницы, глядя прямо вперед, а пространство между их расставленными ногами было заполнено металлическими плоскостями, на которых рдели священные письмена. Скорчившиеся боги-быки с жемчужными пронизями на лбу и локонами такой же длины, как свисавшие у них со щек бахромчатые, завитые внизу бороды, поворачивали головы наружу и глядели на спящего спокойными глазами из-под длинных ресниц — в чередованье с сидевшими на хвостах львами, выпуклые груди которых были покрыты огненной шерстью. Эти, казалось, фыркали четырехугольниками разверстых своих пастей, отчего и топорщились их усы под свирепыми и тупыми носами. А между зверями кишмя кишели служители и гонцы, поднимавшиеся и спускавшиеся по ступеням медленной чередой, которая несла в себе счастье звездного закона. Нижняя часть тела была у них окутана платьем, покрытым остроконечными письменными знаками, а груди их казались слишком мягкими для юношеских и слишком плоскими для женских грудей. Одни, подняв руки, несли на головах чаши, другие, поддерживая согнутой рукою скрижаль, указующе водили по ней пальцем; многие играли на арфах, флейтах и лютнях, иные били в литавры; а следом за ними двигались песнопевцы, которые наполняли пространство своими высокими, металлически звонкими голосами, прихлопывая в лад пенью в ладоши. Согласные звуки гремели по всей длине этого вселенского подъема, оглашая его снизу доверху вплоть до того ярчайшего сиянья, где находилась узкая огненная арка, ворота дворца с пристенными столбами и высокими башнями. То были столбы из золотых кирпичей с выпуклыми изображениями чешуйчатых зверей, чьи передние лапы были как у барса, а задние — как у орла, а огненные ворота подпирали с обеих сторон существа с бычьими ногами, четырехрогим венцом, алмазными глазами и завитой, курчавыми прядями, бородой на щеках. Перед воротами стояли престол царской мощи и золотая скамеечка для ее ног, а позади престола — лучник с колчаном, державший опахало над венцом мощи. А одета она была в наряд из лунного света с бахромой из маленьких языков огня. Руки бога были чрезвычайно жилистыми и сильными, и в одной он держал знак жизни, а в другой — чашу для питья. Синюю его бороду сжимали в жгут медные кольца, и лицо его с нависающими бровями было грозно в суровой своей доброте. Перед ним стоял еще кто-то с широким обручем вокруг головы, похожий на визиря и главного приближенного престола; и он-то, заглянув в лицо мощи, указал ладонью на спавшего на земле Иакова. Господь кивнул головой и спустил со скамеечки жилистую свою ступню, а главный помощник поспешно нагнулся и убрал скамеечку, чтобы господь встал. И бог встал с престола и протянул в сторону Иакова знак жизни и выпятил грудь, набрав в нее воздуху. И голос его был великолепен, потому что сливался в нежно-могучей гармонии со звуками арф и со звездной музыкой тех, что спускались и поднимались. А сказал он: «Я есмь! Я господь Авирама и Ицхака и твой. Око мое взирает на тебя, Иаков, с дальновидной приязнью, и семя твое будет многочисленно, как песок земной, и благословен ты у меня перед всеми, и овладеешь вратами врагов своих! И буду хранить тебя там, куда ты пойдешь, и верну тебя богатым в ту землю, где ты сейчас спишь, и никогда тебя не покину. Я есмь, и такова моя воля!» И голос царя растворился в гармонии звуков, и Иаков проснулся.
Вот это был сон, вот это было вознесенье главы! Иаков плакал от радости и нет-нет да смеялся над Елифазом, бродя под звездами по кругу камней и глядя на тот из них, который приподнял ему голову для такого виденья. На какое место, думал он, я случайно набрел! Ему было холодно, и, дрожа от ночной прохлады и от волненья, он говорил: недаром дрожу я, недаром! Жители Луза плохо представляют себе, что это за место, и хотя они устроили здесь убежище и соорудили гилгал, они не знают, как не знал я, что это самое настоящее место присутствия, ворота величия, соединенье неба с землей! Затем, полный тайного смеха, он проспал крепким и гордым сном еще несколько часов, но на рассвете встал, спустился в Луз и направился к торговым рядам. Ибо в складке пояса у него был припрятан перстень с ярко-синей лазуритовой печаткой, которого не нашли Елифазовы слуги. Он продал его ниже цены, за толику сухой пищи и несколько кувшинов масла, ибо именно масло нужно было ему, чтобы сделать то, что он считал теперь своим долгом. Прежде чем продолжить свой путь на восток и к воде Нахарина, он еще раз поднялся на место, где видел сон, поставил камень, на котором спал, памятником, стоймя, и щедро полил его маслом с такими словами: «Вефиль, Вефиль пусть зовется отныне это место, а не Луз, ибо это дом присутствия и бог-вседержитель открылся здесь униженному и укрепил его душу сверх меры. Ведь конечно, он впал в преувеличение и превзошел всякую меру, воскликнув в лад арфам, что семя мое умножится, как песок, а имя мое будет в почете и славе. Но если Он будет со мной, как Он обещал, и сохранит шаги мои на чужбине; если Он даст мне хлеб и одежду для моего тела, позволит мне вернуться в дом Ицхака целым и невредимым, то пусть богом моим будет Он, а не кто другой, и я буду отдавать Ему десятую часть всего, что Он мне дарует. Если же вдобавок сбудутся и те слова, какими Он, превосходя всякую меру, укрепил мою душу, то пусть этот камень превратится в святилище, где Ему будут непрестанно приносить пищу и, кроме того, неукоснительно ублажать его нюх пряными воскуреньями. Это обет, это обещанье за обещанье, и пусть бог, пусть бог-вседержитель действует теперь по своему усмотренью».
Исав
Вот как было с Елифазом, жалким все же птенцом по сравнению с Иаковом, униженной жертвой его гордости, который, благодаря неведомым Елифазу запасам душевных сил, с легкостью восторжествовал над оскорблениями, нанесенными ему каким-то мальчишкой, да и всегда сподоблялся откровений как раз в самые плачевные свои часы. И разве с отцом получилось не то же, что с сыном? Мы имеем в виду ту встречу с самим Исавом, на которую намекнул Иаков в разговоре, нами подслушанном. В этом случае вознесенье главы и великое ободрение состоялось заранее — в Пениэле, в ту страшную ночь, когда он добыл себе имя, над которым посмеивались Симеон и Левий. И, уже обладая именем, то есть наперед зная, что победа за ним, он пошел навстречу своему брату, защищенный в глубине души от любого, если уж его не удастся избежать, униженья, защищенный даже от унизительности своего страха перед встречей, которая должна была так убедительно доказать непохожесть одного близнеца на другого.
Он не знал, в каком настроении приближается к нему Исав, оповещенный через гонцов им самим же, так как выяснить отношения казалось необходимым. От лазутчиков ему было известно, что тот идет во главе четырехсот человек, а это одинаково могло означать и почесть, как следствие подобострастной лести его, Иакова, посольства, и большую опасность. Он принял меры предосторожности. Самое дорогое, Рахиль и ее пятилетнего сына, он спрятал позади, среди вьючного скота, дочь свою Дину, дитя Лии, положил, как мертвую, в сундук, где она чуть не задохнулась, а других детей с их матерями разместил у себя за спиной, выставив вперед наложниц и их потомство. Он выстроил предназначенный в подарок скот и пропустил его с пастухами вперед, двести коз и козлов, столько же овец и баранов, тридцать дойных верблюдиц, сорок коров с десятью бычками, двадцать ослиц с их ослятами. Он велел гнать их отдельными гуртами, с промежутками, чтобы, встречая очередной гурт, Исав, в ответ на свой вопрос, узнавал, что это подарок ему, господину, от Иакова, его раба. И если в час, когда Исав покидал Сеирские горы, его отношение к возвращавшемуся на родину брату было очень еще неопределенно, двойственно и неясно ему самому, то в час, когда он впервые после двадцатипятилетней разлуки увидел Иакова воочию, Исав находился уже в самом веселом расположении духа.
Но как раз эта веселость, хотя он сам же всячески ее добивался, была Иакову крайне неприятна, и едва поняв, что теперь, что по крайней мере сию минуту, бояться ему нечего, он уже с трудом скрывал свое отвращенье к безмозглому Исавову благодушию. Он навсегда запомнил, как тот приближался… Близнецам Ревекки, «душистой траве» и «колючему кусту», как называли их уже в детстве в местах между Хевроном и Беэршивой, было тогда по пятидесяти пяти лет. Но «душистая трава», гладкокожий Иаков, никогда не отличался особенной моложавостью, будучи с самого детства шатролюбив, задумчив и робок. А теперь он уже многое испытал на своем веку, Иаков, человек на вершине лет, полный достоинства, благодаря своим историям, исполненный духовной тревоги и отягощенный возросшим своим богатством, — тогда как Исав, хотя он и поседел не меньше, чем брат, казался все тем же бездумным и непримечательным малым, который то воет, как зверь, то полон животного легкомыслия и даже лицом нисколько не изменился; ведь внешнее возмужание большинства товарищей нашей юности в том и состоит, что у них на мальчишеском лице вырастает борода и появляется морщина-другая, и оно остается таким же мальчишеским, только что с бородой и морщинами.
Первым, что услышал Иаков от Исава, была его игра на свирели, с детства вошедшее у него в привычку высокое и глухое гуденье на связке тростниковых, скрепленных поперечными бечевками дудок разной длины — излюбленном инструменте сеирских горцев, вероятно, ими же изобретенном, из которого Исав, еще в детстве переняв его у них, довольно искусно извлекал звуки толстыми своими губами. Глупая и дикая поэзия этих звуков, это безответственное, прижившееся на преисподнем юге «тра-ля-ля» было издавна ненавистно Иакову, и в нем взыграло презренье, когда он услыхал его снова. Вдобавок Исав плясал со своей дудкой у рта, с луком за спиной и клоком козлиной шкуры на чреслах, но без всякой другой одежды, в которой он и впрямь не нуждался, будучи волосат настолько, что шерсть буквально свисала у него с плеч седовато-рыжими космами, он плясал и подпрыгивал, остроухий, с приплюснутым к безусой губе носом, пешком идя по равнине впереди своего ополчения навстречу брату, он дудел, кивал головой, смеялся и плакал, и со смесью презренья, стыда, жалости и отвращенья Иаков повторял про себя что-то похожее на «Боже мой, боже мой!».
Спешился, впрочем, и сам он, чтобы, насколько позволяло отечное его бедро, поспешить, подобрав платье, навстречу этому пляшущему козлу и уже на ходу представить ему все предусмотренные свидетельства самоуниженья и самоуничиженья, каковые после ночной победы мог позволить себе без истинного ущерба для собственного достоинства. Раз семь, несмотря на боль, падал он ниц, поднимая разжатые руки над опущенной головой, и так и подполз к ногам Исава, к которым прижался лбом, меж тем как руки его гладили поросшие шерстью колени брата, а язык твердил слова, определявшие отношения между братьями, несмотря на благословение и проклятье, недвусмысленно выгодным для Исава образом, слова, которые должны были обезоружить его и смирить: «Господин мой, я раб твой!» Но Исав держался не только миролюбиво, но и ласково сверх всякого и даже, вероятно, собственного ожидания; ибо весть о возвращении брата привела его в состояние общей и неясной взволнованности, которая еще перед самой встречей легко могла обернуться не растроганностью, а яростью. Он силой поднял брата из праха, прижал его, громко всхлипывая, к своей волосатой груди и принялся, чмокая, целовать его в щеки и в губы, так что столь щедро обласканному стало вскоре невмоготу. Однако он тоже плакал — отчасти потому, что теперь в нем разрядилось напряженье неопределенности и страха, отчасти же по нервной своей мягкости, о времени, о жизни, о судьбе человеческой вообще. «Братец мой, братец мой! — лепетал Исав между поцелуями. — Забудем все! Забудем всякие пакости!» — такое неприятно откровенное великодушие способно было скорей унять слезы Иакова, чем вызвать новые их потоки — а затем стал расспрашивать брата, отложив покамест вопрос, который, собственно, и беспокоил его, — о встреченных им стадах, и для начала с высоко поднятыми бровями осведомившись о женщинах и детях, сидевших на верблюдах позади Иакова. Они спешились и были представлены: сначала перед космачом склонились наложницы со своими четырьмя детьми, затем Лия со своими шестью и, наконец, прекрасноокая Рахиль с Иосифом, которых привели из дальнего тыла, и при каждом новом имени Исав прикладывался к свирели толстыми своими губами, он хвалил детей за их складность, а женщин за их груди, и, громко удивившись близорукости Лии, предложил ей какое-то едомское снадобье для ее, как всегда, воспаленных глаз, за что та, кипя от злости, поблагодарила его, поцеловав ему пальцы ног.
Даже чисто внешне братьям было трудно друг друга понять. Беседуя, оба искали в памяти слова своего детства и находили их лишь насилу; Исав объяснялся на грубом сеирском наречии, отличавшемся от говора тех мест, где прошло их детство, синайскими и мидианитскими примесями, а Иаков привык в стране Нахараим говорить по-аккадски. Оба то и дело прибегали к жестам, но Исав сумел все-таки довольно ясно выразить свой интерес к встреченным на дороге тучным стадам, и то, как он церемонно отказывался принять этот роскошный подарок, когда Иаков заявил, что надеется снискать им милость перед лицом своего господина, — свидетельствовало о хороших манерах. Он придал своей церемонности форму беспечного равнодушия к имуществу, богатству и всякой такой докуке.
— Ах, братец мой, что за глупости, ничего мне не нужно! — восклицал он. — Оставь себе свои стада, и владей ими, и храни их, я дарю их тебе обратно, я и без них готов забыть и простить эту гнусную старую шалость! Я забыл, я простил ее, я примирился со своей участью и доволен жизнью. Ты думаешь, мы в преисподней только и знаем, что вешаем носы? Хи-хи, ха-ха, это совершенно неверное представленье! Мы, конечно, не шествуем, закатив глаза, с благоговением на челе, но мы тоже живем, и живем, поверь мне, по-своему довольно весело! Нам тоже доставляет удовольствие спать с женщиной, и в сердце нам тоже вложена любовь к ребятишкам. Ты думаешь, проклятие, которым я обязан тебе, дорогой ты мой мошенник, сделало меня шелудивым нищим и я подыхаю в Едоме с голоду? Прямо! Я там господин, я велик среди сыновей Сеира. У меня вина больше, чем воды, и вдоволь меда, а масла, плодов, ячменя и пшеницы больше, чем я могу съесть. Те, кто подо мной, меня кормят, они, что ни день, шлют мне хлеб, мясо и птицу, и все уже приготовлено, так что садись да ешь, и дичи у меня хоть отбавляй, — и сам добываю, и они охотятся со своими псами в пустыне, — а молочной пищи столько, что, бывает, полночи рыгаешь, поевши. Стада в подарок? Чтобы искупить и предать забвению старую пакость, которую учинили мне ты и та женщина? Плевал я на это — тьфу! — И он сделал губами соответствующее движенье. — Зачем нам с тобой подарки? Главное — это сердце, а мое сердце простило и забыло эту давнюю подлость, когда ты, плут ты этакий, обложил себя козлиными шкурами, чтобы старик принял их за мои патлы, я смеюсь над этим сегодня, на старости лет, а ведь тогда я плакал кровавыми слезами и послал Елифаза тебе вдогонку, к великому твоему страху, бабий ты смех!
И он опять обнял брата и снова принялся чмокать его в лицо, что Иаков только, страдая, терпел без всяких ответных объятий и нежностей. Речь Исава вызвала у него глубокое отвращенье, он нашел ее в высшей степени неприятной, глупой и безалаберной и желал одного — поскорее избавиться от этого чужого родственника, прежде, однако, окончательно с ним рассчитавшись и еще раз откупив у него первородство считанной данью, тем более что Исаву и самому хотелось, чтобы его уговорили принять ее. Поэтому последовали новые вежливости, свидетельства смиренья и настойчивые просьбы, и когда Исав наконец согласился благосклонно принять подарок из рук брата, добрый этот бес был и в самом деле полон расположения к благословенному и относился к примирению гораздо серьезнее и добросовестнее, чем это казалось допустимым тому.
— Ах, братец мой, — воскликнул он, — теперь ни слова больше об этом старом, несчастном деле! Разве мы не вышли из чрева одной матери, один за другим, почти одновременно? И ты, как тебе известно, держался за мои пятки, а я, как более сильный, вытянул тебя на свет за собой. Мы, правда, немного толкали друг друга в утробе, да и вне утробы тоже толкали, но не станем больше об этом вспоминать! Будем жить вместе по-братски, как близнецы перед господом, будем есть из одной миски и не будем разлучаться никогда в жизни! Итак, направимся в Сеир и поселимся вместе!
«Благодарю покорно! — думал Иаков. — Чтобы и я стал в Едоме козлом-дударем и вечно жил рядом с тобой, остолоп? Не того хочет бог, не того хочет моя душа. Все, что ты говоришь, — это неприятный для моего слуха вздор, ибо то, что произошло между нами, незабываемо. Ты сам упоминаешь об этом при каждом движении языка и мнишь, убогая голова, что сможешь забыть это и простить?»
— Слова моего господина, — сказал он вслух, — восхитительны, и каждое в отдельности отвечает сокровеннейшим желаньям его раба. Но господин мой видит, что со мной малые дети и даже младенцы, как вот этот пятилетний, Иегосиф по имени, и он плохо переносит дорогу; затем мертвое, узы, дитя в ларе, мчаться с которым очертя голову было бы неблагочестиво, и еще дойный скот, мелкий и крупный. Все это погибнет, если я погоню их вперед. Поэтому пусть господин мой пойдет впереди, а я медленно пойду за ним, сообразуясь с силами своего скота и своих детей, и приду в Сеир немного позднее, и мы будем жить вместе в задушевном согласии.
Это был отказ в мягкой форме, и выпучивший глаза Исав сразу почти так это и понял. Он сделал, правда, еще одну попытку, предложив брату оставить с ним для охраны несколько человек из своего отряда. Но Иаков ответил, что это совершенно не нужно, если только он приобрел благоволения в очах своего господина, и тут уж стала совсем ясна неискренность его согласия с предложением жить вместе. Исав пожал волосатыми плечами, повернулся спиной к нежному и неверному Иакову и направился в свои горы со скотом и со свитой. Иаков сперва поплелся за ним, но при первой же возможности повернул и ушел в сторону.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ «ИСТОРИЯ ДИНЫ»
Девочка
Поскольку пришел он тогда в Сихем, то сейчас уместно будет изложить сихемские истории и тяжкие передряги, причем изложить их в соответствии с действительностью, то есть отказавшись от тех маленьких исправлений правды, какие позднее предпринимались в «прекраснословных беседах», построенных по формуле «Знаешь ли ты об этом? — Знаю доподлинно», — исправлений, с какими они потом и вошли в родовое и мировое предание. Если мы описываем печальные и в конечном счете кровавые события той поры, которые запечатлелись на усталом и полном значительности лице Иакова наряду с другими, составляя с ними почетное бремя воспоминаний его старости, то делаем это лишь ради нашего рассмотрения его душевного склада, тем более что его поведение в этом деле может лучше всего объяснить, почему Симеон и Левий тайком толкали друг друга в бок, когда отец пускал в ход свое торжественное, данное от бога звание.
Несчастной героиней шекемских приключений была Дина, единственная дочка Иакова, рожденная Лией в начале второго периода плодовитости, — да, именно в начале, а не в конце, не после Иссахара и Завулона, как то было записано много позднее. Письменная эта хронология не может быть верна, потому что если бы она была верна, то ко времени своего несчастья Дина физически еще не созрела бы для него, была бы ребенком. В действительности она была на четыре года старше Иосифа, и значит, в момент прибытия людей Иакова в Сихем ей было девять, а в момент катастрофы тринадцать лет — на два весьма и весьма важных года больше, чем получилось бы при вычислительной проверке традиционной хронологии, ибо как раз за эти два года она расцвела, стала женщиной, и женщиной такой привлекательности, какой только можно было ожидать от дочери Лии, а на время даже еще привлекательнее, чем того в общем-то можно было ожидать от этой крепкой, но некрасивой породы. Она была истинное дитя месопотамской степи, которой дана ранняя и чрезвычайно богатая цветами весна, но где за весной не следует полного жизни лета; ведь уже в мае все это волшебное великолепие выжигается безжалостным солнцем. Таковы были физические задатки Дины; а события, со своей стороны, способствовали тому, чтобы превратить ее до срока в усталую и увядшую женщину. Что же касается ее места в ряду потомков Иакова, то указание писцов на этот счет ничего не значит. Их рукой водили небрежность и равнодушие, когда они ставили имя этой девочки просто в конце перечня детей Лии, а не на подобающем ему месте — чтобы не прерывать перечисления сыновей такой несущественной и даже докучливой мелочью, как имя девочки. Кому нужна точность, когда речь идет о девочке? Разница между рожденьем девочки и настоящей бездетностью была незначительна, и появление на свет Дины, если верно определить его время, послужило как бы переходом от недолгого бесплодия Лии к новому периоду плодовитости ее чрева, который всерьез начался лишь тогда, когда родился Иссахар. Каждый школьник знает сегодня, что у Иакова было двенадцать сыновей, и помнит наизусть их имена, а о существовании несчастной маленькой Дины широкая публика понятия не имеет и удивляется, когда упоминают о ней. Между тем Иаков любил ее так, как только мог он любить дитя неправедной, он спрятал ее от Исава в похоронном ларе, и когда пришло время, страдал за нее всей душой.
Бесет
Итак, Израиль, благословенный перед господом, с домочадцами и с имуществом, со своими стадами, где одних овец было пять с половиной тысяч голов, с женами и детьми, со служанками, рабами, погонщиками, пастухами, козами, ослами, вьючными и верховыми верблюдами, — итак, держа путь от Иавока после встречи с Исавом, Иаков, отец, переступил Иарден и, довольный, что ушел от нестерпимого зноя речной долины, а также от кабанов и барсов в ее ивняках, оказался в умеренно гористом краю плодородных, богатых цветами и журчащими ключами долин, где рос дикий ячмень и в одной из которых он набрел на место Шекем, уютное, многовековой древности, затененное скалой Гаризим селенье с толстой, построенной из нескрепленных каменных глыб обводной стеной, охватывавшей с юго-востока Нижний город, а с северо-запада — Верхний, который назывался Верхним и потому, что стоял на насыпи высотой в пять двойных локтей, но, кроме того, именовался так и в переносно-почтительном смысле, потому что весь почти состоял из дворца местного князя Еммора и прямоугольной глыбы храма Баал-берита — как самые высокие, оба эти здания и были первым, что бросилось в глаза людям Иакова, когда они вступили в долину, приближаясь к восточным воротам города. В Шекеме было около пятисот жителей, не считая египетского гарнизона человек в двадцать, начальник которого, очень молодой офицер родом из Дельты, был назначен сюда только для того, чтобы каждый год взыскивать непосредственно с князя Еммора и косвенно с купцов Нижнего города несколько кольцевидных золотых слитков, которые пересылались затем вниз в город Амуна, и непоступление которых сулило бы юному Усер-ка-Бастету (так звали этого военачальника) большие личные неприятности.
Можно представить себе, с какими тревожными чувствами узнали о приближении кочевого племени люди Шекема, оповещенные своими дозорными и возвращавшимися в город согражданами. Неизвестно было, что на уме у этих бродяг — добро или зло; в последнем случае им достаточно было обладать некоторой военной сноровкой и некоторым разбойничьим опытом, чтобы поставить Шекем, несмотря на его мощную стену, в незавидное положенье. Дух этого места не отличался отвагой, тяготея скорее к торговле, покою и миру, князь Еммор был брюзгливым стариком с больными, узловатыми суставами, а сын его, молодой Сихем — избалованным барчонком, имевшим собственный гарем, хлыщом, сластеной и неженкой, и при этих обстоятельствах жители с радостью доверились бы военной доблести оккупационного гарнизона, будь хоть малейшая возможность довериться ей. Однако этот сплоченный вокруг штандарта с изображением сокола и павлиньими перьями гарнизон, именовавший себя «отрядом, блестящим, как солнечный диск», не внушал никаких надежд в случае серьезной опасности, и прежде всего не внушал их начальник, упомянутый уже Усер-ка-Бастет, походивший на воина весьма отдаленно. Большой друг княжеского сынка Сихема, он знал две страсти, в служении которым доходил до сумасбродства: это были кошки и цветы. Родом он был из нижнеегипетского города Пер-Бастета, название которого здешнее произношение переделало в «Пи-Бесет», отчего сихемиты называли и его, начальника отряда, просто «Бесет». Местным божеством его города была кошачьеголовая богиня Бастет, и в своем кошкопоклонстве он был неистов: его постоянно окружали эти животные, не только живые, всех возрастов и мастей, но и мертвые, ибо множество закутанных кошачьих мумий стояло, опираясь о стены, в его жилище, и он плача приносил им в жертву молоко и мышей. С этой слабостью сходилась его любовь к цветам, которая, если бы она дополняла и уравновешивала какие-то более мужские склонности, могла бы быть названа прекрасной чертой, но из-за отсутствия таковых производила удручающее впечатление. Он неизменно носил широкий воротник из живых цветов, и даже самый пустяковый предмет его обихода непременно увенчивался цветами, что в отдельных случаях было просто смешно. Одевался он самым штатским образом: ходил в белом батистовом платье, сквозь которое просвечивал набедренник, а руки его и торс были обвиты лентами, и никто никогда не видел его в латах, да и вообще единственным его оружьем была тросточка. Только благодаря известной грамотности «Бесет» вообще стал офицером.
Что касается его подчиненных, о которых он, кстати сказать, не очень-то пекся, то они хоть и постоянно, с таким же хвастовством, как и надписи, твердили о воинских подвигах прежнего царя их страны, Тутмоса Третьего, и египетского войска, завоевавшего под его руководством в семнадцати боевых походах все земли до реки Евфрата, но сами отличались главным образом по части гусиного жаркого и пива, а в остальных случаях, например во время пожара или при нападении бедуинов на примыкавшие к городу неукрепленные поселенья, оказывались самыми настоящими трусами — особенно коренные египтяне, ибо среди них были еще желтоватые ливийцы и даже несколько нубийских мавров. Когда они, только чтобы показать себя, пригнувшись и быстрым шагом, словно спасаясь бегством, проходили с деревянными своими щитами, копьями, серьгами и кожаными треугольниками поверх набедренников по узким шекемским улицам, сквозь толчею верховых ослов и верблюдов, продавцов арбузов и дынь, торгующихся у лавок купцов, — горожане обменивались у них за спиной презрительными взглядами. Еще воины фараона развлекались играми «Сколько пальцев» и «Кто тебя ударил?» и пением песен о тяжкой доле бойца, особенно бойца, которому приходится коротать свою жизнь в горемычном краю Аму, вместо того чтобы радоваться ей на берегах богатого стругами жизнетворца, и под узорчатыми колоннами «Но», просто города, города, не имеющего себе равных, Но Амуна, города бога. Что судьба и защита Шекема имела для них не больше значенья, чем зернышко хлеба, в этом, увы, сомневаться не приходилось.
Отповедь
Беспокойство горожан было бы еще сильней, если бы они могли подслушать разговоры, которые вели между собой старшие сыновья приближающегося вождя — те слишком близко касавшиеся Шекема планы, которые вполголоса обсуждали эти запыленные и на вид предприимчивые молодые люди, прежде чем сообщили о них отцу, отчитавшему их, правда, со всей решительностью за такие намеренья. Рувиму, или Ре'увиму, как звали, собственно, самого старшего, было в ту пору семнадцать лет, Симеону и Левию — соответственно шестнадцать и пятнадцать, пятнадцать лет было также Дану, сыну Баллы, мальчику изобретательному и хитрому, а стройному, подвижному Неффалиму столько же, сколько сильному, но мрачному Иуде, — четырнадцать. Эти-то сыновья Иакова и участвовали в упомянутых тайных совещаниях. Гад и Асир, хотя и они в свои одиннадцать и десять лет были уже крепкими и умственно зрелыми парнями, оставались тогда еще в стороне, не говоря уже о трех самых маленьких.
О чем шла речь? О том самом, о чем тревожились и в Шекеме. Те, что шушукались вне городской стены, эти до черноты загоревшие под нахаринским солнцем юнцы в подпоясанных лохматых кафтанах и со слипшимися от жары волосами, были довольно дикими, всегда готовыми взяться за нож и за лук сынами пастушеской степи, привыкшими к встречам с дикими быками и львами, а также к жестоким дракам с чужими пастухами из-за пастбищ. От кротости и богомыслия Иакова они мало что унаследовали, ум их имел направленье сугубо практическое и, отличаясь юношеской строптивостью, которая прямо-таки ищет обиды и повода к драке, был полон племенного гонора, гордости религиозным своим благородством, хотя им-то как раз оно совсем не было свойственно. Прожив долгое время бездомно, в пути, в движенье, они чувствовали себя рядом с жителями плодородной страны, куда пришли, кочевниками, которым их свобода и смелость дают преимущество перед оседлым людом, и стали подумывать о разбое. Дан был первый, кто шепотом предложил захватить и разграбить Шекем. Рувим, при всей своей порядочности всегда поддававшийся внезапным порывам, быстро увлекся этой затеей; Симеон и Левий, самые большие драчуны, закричали и заплясали от удовольствия и боевого задора; воодушевление других было усилено гордым сознанием своего участия в заговоре.
Ничего неслыханного в их замыслах не было. Набеги на города и даже временный захват их вторгавшимися с юга или с востока жадными сынами пустыни, хабирами или бедуинами, если и не были в порядке вещей, то, во всяком случае, представляли собой явленье не такое уже редкое. Но предание, идущее не от горожан, а от хабиров или иврим в узком смысле слова, от сыновей Израиля, — это предание со спокойной совестью, не сомневаясь в дозволенности такого эпического очищенья действительности, утаивает от мира тот факт, что с самого начала в стане Иакова намечали определить отношения с Шекемом военным путем и что только сопротивление главы рода отсрочило реализацию этих планов на несколько лет, то есть до печального случая с Диной.
Сопротивление это было, правда, величественно и непреодолимо. Иаков находился тогда в особенно приподнятом настроении, что объяснялось его образованностью, значительностью его души, его склонностью к далеко идущим ассоциациям. Последние двадцать пять лет его жизни виделись выспреннему его уму в свете космического соответствия, они представлялись подобием кругооборота, сменой вознесения, сошествия в ад и воскресения, счастливейшим заполнением мифической схемы роста. Из Беэршивы он пришел некогда в Вефиль, в место, где ему привиделась великая лестница, это было вознесение. Оттуда — в степь преисподней, где ему пришлось служить, потеть и мерзнуть дважды семь лет, но где он стал затем очень богат, одурачив одного хитрого и в то же время глупого беса по имени Лаван, — по своей образованности он не мог не видеть в своем месопотамском тесте демона черной луны и злого дракона, который его обманул, но которого он потом тоже основательно обманул и обокрал, после чего со всем украденным, а главное, со своей освобожденной Иштар, прекрасноокой Рахилью, смеясь в сердце своем великим и благочестивым смехом, он сломал запоры преисподней, поднялся из нее и пришел к Сихему. Сихемская долина могла и не быть такой цветущей, какой он действительно увидел ее в час прибытия, чтобы показаться задумчивому его воображению местом весеннего обновления в круговороте его жизни; авраамитские воспоминания об этом месте тоже наполняли его сердце кротким благоговением перед ним. Да, если отпрыски Иакова вспоминали о воинственности Авраама, о смелом его нападении на полчища Востока и о том, как он обломал бока звездопоклонникам, то сам он, Иаков, вспоминал о дружбе праотца Авраама с Мелхиседеком, сихемским первосвященником, о благословении, полученном им от Мелхиседека, о дани признанья и симпатии, отданной Авраамом сихемскому божеству; и поэтому, когда большие его сыновья в осторожной и почти поэтической форме намекнули на грубую свою затею, они встретили у него самый скверный прием.
— Прочь от меня, — воскликнул он, — и немедленно! Позор вам, сыновья Лии и Валлы! Разве мы разбойники пустыни, которые налетают на страну, как саранча, как бич божий, и пожирают урожай земледельца? Разве мы бродяги, без имени и без роду, и нам нужно выбирать между попрошайничеством и воровством? Разве Авраам не был князем среди князей этой земли и братом владык? Или вы хотите добыть себе власть над городами мечом окровавленным и жить в постоянных войнах и страхах, — как будете вы пасти ягнят наших на лугах, которые против вас, а коз наших — в горах, которые оглашены ненавистью? Прочь, болваны! Посмейте только! Поглядите, все ли в порядке в хозяйстве, и нельзя ли уже отнять от маток трехнедельных ягнят, чтобы сберечь молоко. Пойдите, соберите верблюжьей шерсти, чтобы у нас была плотная одежда для пастухов и рабов, ведь как раз об эту пору верблюды линяют! Пойдите, говорю я, проверьте веревки шатров и петли на крышах шатров, не прогнило ли что-нибудь, чтобы не случилось беды, не рухнул дом над Израилем. А я, знайте это, препояшусь и пойду под ворота города для мирной и мудрой беседы с горожанами и пастырем их Еммором, чтобы заключить с ними письменный договор и получить у них землю и вести с ними торговлю себе на пользу и им не в убыток.
Договор
Произошло это так. Иаков раскинул свой стан неподалеку от города, у купы старых шелковичных и скипидарных дерев, показавшейся ему священной, среди волнистого простора лугов и пашен, откуда видны были голые утесы горы Эвал и где возвышался скалистый вверху, но благословенный у своего подножья Гаризим; послав отсюда к пастырю Еммору в Шекем трех человек с хорошими подарками — связкой голубей, лепешками из сушеных фруктов, светильником в виде утки и несколькими красивыми кувшинами с изображениями рыб и птиц, — он велел передать, что великий странник Иаков хотел бы переговорить под воротами с главами города насчет проживанья и прав. Был назначен час встречи, и когда он наступил, подагрик Еммор со своими домочадцами и со своим сыном Сихемом, вертлявым юнцом, вышли из восточных ворот; вышел из любопытства и Усер-ка-Бастет — в воротнике из цветов и с несколькими кошками; с другой стороны прибыл исполненный достоинства Иаков бен Ицхак — в сопровождении старшего своего раба Елиезера и в окружении великовозрастных своих сыновей, которым ведено было вести себя в этот час безупречно вежливо; таким образом, стороны встретились под воротами, и там же, под воротами и перед ними, состоялись переговоры, ибо ворота эти представляли собой тяжелое строение, палатообразно выступавшее наружу и внутрь, а внутри была рыночная и судная площадь, и туда набилось много народу, чтобы из-за спин знати наблюдать за совещанием, которое началось, как того требовала учтивость, со всяческих церемоний, да и вообще отнюдь не спешило приступить к делу, так что продлилось шесть часов и торговцы на рыночной площади успешно распродали свой товар. После первого обмена любезностями стороны сели друг против друга на походные сиденья, циновки и коврики; было подано угощение: пряное вино и простокваша с медом; долго говорили только о здоровье глав и их близких, затем о дорожных условиях по обе стороны «стока», затем о еще более посторонних вещах; к тому, ради чего встретились, подбирались словно бы нехотя, пожимая плечами, снова и снова отвлекаясь от этого, как будто предлагая друг другу совсем об этом не говорить, именно потому, что это и было существом разговора, делом, предметом, которому, ради высшей человечности, непременно следовало придать видимость чего-то презренного. Ведь, в сущности, роскошь неделовитости и мнимое, чисто почетное господство прекрасной формы, а значит, благородно-беспечная трата времени на нее — это и есть достойное человека благо, даруемое цивилизацией, а не просто природой.
Впечатление, произведенное Иаковом на горожан, было самым благоприятным. Если не с первого взгляда, то вскоре после начала переговоров они поняли, с кем имеют дело. Это был владыка и князь милостью божьей, аристократ по духовным своим качествам, облагораживавшим и его внешность. Тут оказало свое действие то самое благородство, которое в глазах народа издавна было приметой преемников или новых воплощений Авраама и, нисколько не завися от рожденья, основываясь на духе и форме, обеспечивало этому типу людей религиозный авторитет. Волнующая кротость и глубина взгляда Панова, совершенное его благообразие, изысканность его жестов, дрожанье его голоса, его просвещенная и цветистая, построенная на тезисах и антитезисах, созвучиях мыслей и мифических намеках речь настолько расположила к нему в первую очередь подагрика Еммора, что тот вскоре поднялся и, подойдя к шейху, поцеловал его, чем снискал громкое одобрение народа, толпившегося во внутренней палате ворот. Что касалось просьбы чужеземца, которая была известна заранее и имела в виду право постоянного жительства, то она была для градоправителя несколько затруднительна, ибо, если бы дальней и высшей инстанции донесли, что он, Еммор, отдает свою землю хабирам, это навлекло бы на его старость немалые неприятности. Однако взгляды, которыми он безмолвно обменялся с начальником гарнизона, проникшимся таким же теплым чувством к Иакову, как он сам, успокоили его в этом отношении, и, открыв переговоры красивым и, разумеется, не принятым всерьез, а вызвавшим лишь ответный поклон предложением, чтобы Иаков взял землю и права просто в подарок, Еммор назвал довольно высокую цену: он потребовал сто шекелей серебром за клин в три квадратных десятины и, готовый к упорному торгу, прибавил, что это, конечно, пустяки для такого покупателя и продавца. Но Иаков не торговался. Душа его была взволнована и окрылена подражаньем, повтореньем, возобновленьем. Он был Авраамом, который пришел с востока и покупал у Ефрона поле, двойную усыпальницу. Разве прародитель спорил о цене с главой Хеврона и детьми Хета? Столетий как не бывало. Что было когда-то, происходило сейчас. Богатый Авраам и богач с востока Иаков платили с достоинством сразу: рабы-халдеяне притащили весы и каменные гири. Старший раб Елиезер вышел вперед с глиняным сосудом, полным серебра в кольцах; подбежавшие писцы Еммора, присев, стали составлять мирную и торговую грамоту по всем правилам. Была взвешена мзда за поле и пастбище, договор имел священную силу, и проклят был тот, кто его нарушит. Люди Иакова были сихемитами, полноправными гражданами. Они могли входить и выходить через городские ворота когда угодно. Они могли свободно передвигаться по стране и вести в ней торговлю. Их дочерей могли брать в жены сыновья Шекема, а дочери Шекема — их сыновей в мужья. Таков был закон, и нарушитель его на всю жизнь лишал себя чести. Деревья на купленном поле принадлежали также Иакову — и враг закона тот, кто это оспорит. Усер-ка-Бастет, как свидетель, оттиснул на глине жука своего перстня, Еммор — свой камень, Иаков — печатку, висевшую у него на шее. Свершилось. Последовал обмен поцелуями и любезностями. Вот как поселился Иаков у места Сихем в стране Ханаан.
Иаков живет у Шекема
«Знаешь ли ты об этом? — Знаю доподлинно». И вовсе не знали этого, а тем более доподлинно, пастухи Израиля, когда поздней, у костров, делали это предметом «прекраснословных бесед». Со спокойной совестью искажали они одни события и умалчивали о других ради чистоты этой истории. Не упоминая о том, как криво усмехнулись тогда же, при подписании договора, сыновья Иакова, особенно Левий и Симеон, они изображали дело так, будто договор был заключен только тогда, когда история с Диной и княжеским сыном Сихемом уже началась, — да и началась-то она не совсем так, как они это «знали». По их рассказу выходило, что известное условие, поставленное Сихему касательно дочери Иакова, составляло одну из статей документа о братстве, — а условие это было поставлено совершенно особо и совсем не в тот момент, который они будто бы «доподлинно знали». Сейчас мы это объясним. Началом всего был договор. Без него люди Иакова вообще не поселились бы близ Шекема и дальнейшее не могло бы произойти. Они уже почти четыре года прожили в шатрах близ Шекема, у входа в долину, когда начались неурядицы; они растили свою пшеницу на пашне и свой ячмень в поле; они собирали масло своих деревьев, пасли свои стада и торговали этим в стране; они выкопали там, где поселились, колодец в четырнадцать локтей глубиной и очень широкий, и выложили его кирпичом, колодец Иакова… Колодец — такой глубины и ширины? Зачем вообще понадобился колодец детям Израиля, если у дружественных им горожан имелся колодец перед воротами, а в долине было полно родников? Да ведь сразу он им и не понадобился, они начали рыть его не тотчас по прибытии, а несколько поздней, когда оказалось, что для них, иврим, жизненно необходимо иметь в своем распоряжении большой, не иссякающий и при величайшей засухе запас воды на собственной территории. Орудие братского сближения было создано, и кто сомневался в нем, из того надлежало выпустить потроха. Но создано оно было главарями, хотя и под одобрительные возгласы соответственно настроенного тогда народа, а в глазах людей Шекема люди Иакова оставались все-таки чужаками, пришельцами — к тому же не очень приятными и безобидными, а весьма чванными и склонными поучать, убежденными в религиозном своем превосходстве надо всем миром и умевшими при продаже скота и шерсти заботиться о своей выгоде так, что у тех, кто имел с ними дело, страдало чувство собственного достоинства. Словом, братство не было глубоким, оно ослаблялось разными помехами, в частности тем, что уже вскоре евреям, чтобы немного их ограничить, запретили пользование наличными водоемами, не упомянутое, кстати сказать, и в орудии, — отчего и появился большой колодец Иакова, свидетельствующий о том, что еще до тяжких раздоров отношения между племенем Израиль и жителями Шекема были такими, какими они обычно бывали между вторгшимися хабирскими племенами и коренными жителями страны, а не такими, какими они должны были стать согласно договору, заключенному под городскими воротами.
Иаков знал это и не знал этого, то есть он не обращал на это внимания, направляя кроткий свой ум на дела религиозные и семейные. Тогда у него еще была жива Рахиль, прекрасноокая, тяжко доставшаяся, опасно похищенная и спасительно уведенная в страну отцов, праведная и самая любимая, услада глаз его, радость сердца, утеха души. Иосиф, отпрыск ее, истинный сын, тогда подрастал; он превращался — о дивная пора! — из младенца в мальчика, и притом в такого красивого, смышленого, приятного, обворожительного, что при виде его у Иакова душа переполнялась восторгом, и уже тогда старшие его сыновья стали переглядываться по поводу сумасбродства, до которого доходил старик в своей любви к этому языкастому шалуну. Кроме того, Иаков часто отлучался от хозяйства, бывал в отъезде, в пути. Он установил связи с городскими и сельскими единоверцами, посещал посвященные Авраамову богу места на горах и в долинах, выяснял в беседах природу единственного и всевышнего. Можно не сомневаться, что прежде всего он спустился к полудню, чтобы после разлуки, длившейся почти целый человеческий век, обнять отца и, показав ему себя богатым, подтвердить перед ним свою благословенность, которая столь очевидным образом пошла ему, Иакову, впрок. Ибо Ицхак был тогда еще жив, он был очень стар, и давно совершенно ослеп, а Ревекка уже сошла в царство мертвых. По этой-то причине Исаак и перенес место своих жертвоприношений, находившееся прежде у дерева «Иагве эль олам» близ Беэршивы, к пророческому теребинту возле Хеврона — чтобы находиться в непосредственной близости от «двойной пещеры», где он похоронил дочь двоюродного своего брата и свою сестру во браке, и где вскоре он сам, Ицхак, неугодная жертва, был после долгой и богатой историями жизни погребен и оплакан своими сыновьями Иаковом и Исавом, когда Иаков, подавленный, пришел туда из Вефиля после смерти Рахили, с маленьким ее убийцей, новорожденным Бен-Они, Вениамином…
Сбор винограда
Четыре раза зеленели, а затем и желтели пшеница и ячмень на нивах Шекема, четыре раза цвели, а затем увядали анемоны долины, и восемь раз уже люди Иакова стригли овец (крепчал молодняк Иакова, отращивал руно в мгновение ока и дважды в году щедро приносил ему шерсть: и в месяце сиване, и в осеннем месяце тишри). И вот однажды жители Шекема собирали виноград и справляли праздник винограда в городе и на ступенчатых склонах Гаризима, и было это в полнолунье осеннего равноденствия, когда год обновлялся. В городе и долине только и знали, что веселились, устраивали шумные шествия и воздавали хвалу урожаю, ведь виноград они уже с пеньем собрали, уже голышом растоптали его в давильне, вырубленной в скале, отчего ноги их делались пурпурными по самые бедра, а сладкая кровь текла по желобу в чан, и они, стоя возле него на коленях, со смехом наполняли ею кувшины и бурдюки, чтобы она забродила. И вот теперь, когда вино было разлито, они справляли семидневный праздник, приносили в жертву десятую часть первин, и от крупного, и от мелкого скота, и от зерна, и от масла, и от виноградного сусла, пили и ели, приводили на поклон к Адонаи, великому баалу, в дом к нему, меньших богов, и процессией, под бой барабанов и звон кимвалов, носили его самого в ладье на плечах по стране, чтобы он снова благословил гору и поле. А на середину праздника, на третий его день, они назначили пляски и хороводы перед городом, в присутствии княжеского двора и всякого, кто пожелает прийти, не исключая детей и женщин. И вот прибыли сюда старик Еммор, которого принесли качалочники, и вертлявый Сихем, тоже в носилках, со всем персоналом жен и скопцов, с чиновниками, купцами и челядью, и из шатрового своего стана пришел сюда в сопровождении жен, сыновей и рабов Иаков, и все они собрались и уселись у того места, где раздалась музыка, и близ того, где должен был начаться хороводный пляс — под масличными деревьями, в долине, где открывался широкий простор, плавно изгибалась каменистая сверху, но приятная в нижней своей части Гора Благословенья, а в ущелье Горы Проклятья, щипая сухую траву, бродили козы. Вечер был синий и теплый, закатный свет украшал всех и вся и покрывал позолотой тела танцовщиц, которые, в вышитых повязках на бедрах и волосах, с насурмленными ресницами и удлиненными краской глазами, плясали перед музыкантами, поводя животом и отворачивая голову от гремевшего под их пальцами бубна. Музыканты, сидя, играли на лирах и лютнях и оглашали окрестность пронзительным плачем коротких флейт. Другие, находившиеся позади игравших, только отбивали, хлопая в ладоши, такт, а третьи пели, теребя при этом кожу на горле рукой, чтобы звуки получались сдавленные и трогательные. Мужчины тоже выходили плясать; они были бородатые и нагие, с подвязанными бычьими хвостами, и прыгали, как козлы, ловя девушек, которые, извиваясь, убегали от них. Еще играли в мяч, а еще девушки ловко жонглировали несколькими шарами, скрестив руки или сидя на бедре у подружки. Всем было очень весело, и горожанам, и жителям шатров, и хотя Иаков не любил трезвона и шума, потому что они его оглушали и рассеивали мысли о боге, он ради остальных делал довольное лицо и из вежливости иногда отбивал такт хлопками.
Вот тогда-то княжеский сын Сихем и увидел Дину, тринадцатилетнюю дочь иврима, а увидев, пожелал ее так, что больше уже не переставал желать ее. Она сидела со своей матерью Лией на циновке, сразу возле музыкантов, напротив сиденья Сихема, и он неотрывно глядел на нее смущенными глазами. Она не была красива, красив не был никто из детей Лии, но какое-то очарование исходило в то время от ее молодости, сладостное, вязкое, словно бы тягучее, как финиковый мед, и, глядя на Дину, Сихем уподобился вскоре мухе на липучке: он повел лапками, чтобы узнать, сумеет ли он освободиться, если пожелает, хотя всерьез этого не желал, потому что слишком уж сладкой была липучка, но испугался до смерти, поняв, что освободиться не сумеет и при желанье, и заерзал на походном своем сиденьице, то и дело заливаясь румянцем и снова бледнея. У нее было смуглое личико с черной челкой на лбу, под головным покрывалом, продолговатые, сумрачно-томные, клейкой черноты глаза, которые от непрестанных взглядов влюбившегося невольно начинали косить, широконоздрый нос, в перепонке которого висело золотое кольцо, широкий, красный и пухлый рот, скорбно изогнутый, и почти не было подбородка. Ее непрепоясанное платье из синей и красной шерсти прикрывало только одно плечо, а другое, голое, было очаровательно узко, оно было самим очарованием — причем дело не улучшалось, а лишь ухудшалось, когда она поднимала со стороны этого плеча руку и заносила ее за голову, так что Сихем видел влажные завитки в маленьких ямках ее подмышек, а сквозь рубашку и платье проступали очертанья ее изящно твердых грудей. Очень опасны были и ее смуглые ножки с медными пряжками на лодыжках и мягкими золотыми колечками на всех пальцах, кроме больших. Но, пожалуй, опасней всего были маленькие, золотисто-коричневые руки с накрашенными ногтями, когда они играли у ее лона, тоже в кольцах, детские и в то же время умные, и стоило Сихему подумать, как это было бы, если бы эти руки ласкали его в постели, у него кружилась голова и спирало дыханье.
А о том, чтобы лечь с ней в постель, он подумал сразу же и ни о чем другом больше не думал. Поговорить с самой Диной и польстить ей иначе, чем взглядами, обычай ему не позволил. Но уже на обратном пути и затем дома он стал твердить отцу, что не может жить и зачахнет без этой хабирянки и чтобы старик Еммор отправился и купил ее в жены для его постели, а не то он, Сихем, вскоре зачахнет. Что тут было делать подагрику, как не велеть двум рабам отнести себя к волосяному дому Иакова, как не склониться перед ним, назвать его братом и, рассказав ему после всяких околичностей о жестокой сердечной страсти своего сына, посулить богатое вено, если отец Дины согласится на этот союз? Иаков был застигнут врасплох и озадачен. Это предложение вызвало у него двойственные чувства, смутило его. С житейской точки зрения оно было почетно, влекло за собой установление родственных отношений между его домом и домом местного князя и могло принести ему и его племени известную пользу. Новость эта взволновала его еще и как напоминание о далеких днях, о том, как он сам сватал Рахиль у беса Лавана и как тот сначала медлил исполнить, а потом использовал и обманул это его желанье. Теперь он сам оказался в роли Лавана, теперь его дочери желал юноша, и он, Иаков, не хотел ни в каком отношении вести себя, как Лаван. С другой стороны, он сильно сомневался в высшей дозволенности этого союза. Он никогда до сих пор особенно не пекся о девчушке Дине, так как чувства его принадлежали восхитительному Иосифу, и никогда не получал свыше никаких указаний на ее счет. Но она была как-никак его единственной дочерью, а притязания княжеского сына повысили ее достоинство в его, Иакова, глазах, и ему показалось опасным растрачивать перед богом это не пользовавшееся особенным вниманием имущество. Разве не велел Авраам Елиезеру положить руку свою под его стегно в том, что не возьмет Ицхаку, истинному сыну, жены из дочерей ханаанеев, среди которых он, Авраам, жил, а добудет жену на востоке, на родине его и из его родни? Разве Ицхак не передал этого запрета ему самому, праведному своему сыну, разве не сказал он: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских»? Дина была всего лишь девочкой, и притом дочерью неправедной и, конечно, вопрос о том, с кем она вступит в брак, не был так важен, как вопрос о браке благословенных. Но дорожить собой перед богом все-таки следовало.
Условие
Иаков позвал на совет десятерых своих сыновей, вплоть до Завулона, и они все сидели перед Еммором, поднимали руки и качали головами. Старшие, которые задавали тон, были не такими людьми, чтобы сразу принять это предложение, как будто о лучшем они и мечтать не могли. Без всяких объяснений между собой они сходились на том, что нужно не спеша обдумать, как лучше поступить при таких обстоятельствах. Дину? Их сестру? Дочь Лии, только что достигшую зрелости, прелестную, бесценную Дину? За Сихема, сына Еммора? Тут, само собой разумеется, было над чем подумать. Они испросили себе срок на размышление. Они сделали это потому, что вообще любили заключать сделки не торопясь, однако у Симеона и Левия были еще свои особые задние мысли и смутные надежды. Ведь они отнюдь не отказались от старых своих замыслов, и то, чего еще не повлек за собой запрет на водоемы, могло, так думали они, приспеть благодаря Сихемовым желаньям и домогательствам.
Итак, три дня на размышление. И Еммора, несколько обиженного, унесли домой. По истеченье же этого срока Сихем сам приехал на белом осле в стан Иакова, чтобы довести до конца свое дело, как того потребовал от него потерявший охоту продолжать переговоры отец и как то вполне отвечало его, Сихемову, нетерпенью. Он вел дело не по-торгашески, совершенно не кривя душой и не скрывая, что буквально сгорает от желания обладать девочкой Диной.
— Просите чего хотите! — сказал он. — Просите не стесняясь — дары и вено! Я Сихем, княжеский сын, меня великолепно содержат в отцовском доме, и, клянусь баалом, я дам, что ни скажете мне!
Тогда они сказали ему свое условие, выполнить которое надлежало до продолжения каких бы то ни было переговоров, условие, на котором они тем временем успели сойтись.
Тут нужно быть очень внимательным к истинной последовательности событий, отличной от той, в какой их позднее располагали и передавали пастухи в «прекраснословных беседах». Если верить пастухам, то Сихем сделал свое злое дело сразу и неожиданно и вызвал коварный ответный удар; в действительности же он решился действовать явочным порядком только тогда, когда люди Иакова несправедливо с ним поступили и он увидел, что его водят за нос, а то и вообще обманули. Итак, они сказали ему, чтобы прежде всего он обрезался. Это необходимо: таковы уж их убеждения, в их глазах было бы мерзостью и позором отдать свою дочь и сестру человеку необрезанному. Поставить это условие посоветовали отцу братья, и, довольный оттяжкой, которую оно сулило, Иаков не мог не согласиться с ним и по существу, хотя он и удивился такому благочестию сыновей.
Сихем прыснул со смеху и тут же извинился, прикрыв рот руками. И это все? — спросил он. — Больше ничего им не нужно? Ну, знаете! Да за то, чтобы обладать Диной, он готов отдать глаз, правую руку, а не то что такую безразличную часть тела, как крайняя плоть! Сутех свидетель, это действительно сущий пустяк! Его друг Бесет тоже обрезан, и его, Сихема, никогда это не смущало. Ни одна из маленьких сестер Сихема в доме игр и утех не посетует на такую нехватку. Можно считать, что дело сделано — и притом руками одного искусного во врачеванье священника из храма всевышнего! Как только тело его выздоровеет, он вернется! И он выбежал из шатра, делая знаки своим рабам, чтобы те поскорее подали ему белого осла.
Когда он снова явился, явился как можно скорее, неделю спустя, почти больной, еще не совсем оправившись от своего жертвоприношенья, но сияя надеждой, оказалось, что глава семьи в отъезде. Иаков уклонился от встречи с Сихемом. Он предоставил действовать сыновьям. Получалось, что он все-таки целиком принял роль беса Лавана, и он предпочел сыграть ее заочно. И что же сказали сыновья бедному Сихему в ответ на его бодрое сообщенье, что условие выполнено, что это не такой пустяк, как ему представлялось, а дело довольно тягостное, но что дело это все-таки сделано и теперь он ждет сладчайшей награды? Сделано-то сделано, сказали они. Очень может быть, что и сделано, они охотно верят. Но сделано не в надлежащем духе, без высшего смысла и пониманья, поверхностно, без значенья. Сделано? Возможно. Но сделано только ради брака с Диной, с женщиной, а не в смысле бракосочетания с «Ним». К тому же сделано, вероятно, не каменным ножом, как то необходимо, а металлическим, что уже само по себе ставит все под вопрос или даже сводит на нет. А кроме того, у княжеского сына Сихема есть ведь уже главная сестра во браке, есть ведь уже первая и праведная, Рехума, хевитянка, так что Дина, дочь Иакова, стала бы только одной из наложниц, а об этом нечего и думать.
Сихем заметался. Откуда они знают, вскричал он, в каком духе и с каким значеньем сделал он это неприятное дело, и почему они заговорили о каменном ноже только теперь, хотя обязаны были сказать об этом сразу? Наложница? Но ведь сам царь Митанни отдал свою дочь, Гулихипу по имени, замуж за фараона и отправил ее к нему с великой пышностью не в качестве царицы стран, царица стран — богиня Тейе, а в качестве побочной жены, и уж если сам царь Шутарна?..
Ну, что ж, отвечали братья, то были Шутарна и Гулихипа. А сейчас речь идет о Дине, дочери Иакова, князя от бога, семени Авраамова, и уж она-то не может быть наложницей при шекемском дворе, до этого Сихем, подумав как следует, дойдет и своим умом.
И это Сихем должен считать последним их словом?
Они пожали плечами, развели руками. Не могут ли они порадовать его подарком, скажем, двумя-тремя барашками?
Тут его терпение лопнуло. Он вынес много неприятного и тяжкого из-за своего желания. Священник из храма оказался вовсе не таким искусником, каким он себя выставлял, и не избавил сына Еммора ни от воспаления, ни от лихорадки, ни от жестоких болей. И вот награда за все? Он выкрикнул проклятие, сводившееся к пожеланию, чтобы сыновья Иакова сделались столь же невесомы, как свет и воздух, проклятие, которое те быстрыми и ловкими движеньями постарались отвести от себя, — и бросился прочь. Четыре дня спустя исчезла Дина.
Похищение
«Знаешь ли ты об этом?» Надо соблюдать последовательность! Сихем был только распутным юнцом, падким на лакомства, не приученным отказываться от каких бы то ни было плотских желаний. Но это не основание всегда к величайшей его невыгоде принимать на веру каждое слово некоторых тенденциозных пастушеских сказок Если история эта оставила на озабоченном лице Иакова такие глубокие следы, то как раз потому, что, хотя он первый же рассказал ее сокращенно и приукрашенно, веря в нее в таком виде, покуда рассказывал, — втайне Иаков отлично знал, кто первый помышлял о разбое и о насилии, кто с самого начала к этому и клонил, знал, что сын Еммора не просто похитил Дину, а начал с честного сватовства и, лишь будучи обманут, счел себя вправе сделать свое счастье основой дальнейших переговоров. Одним словом. Дина была украдена, похищена. Среди бела дня, в открытом поле и даже на виду у ее родни, к ней подкрались несколько горожан, когда она играла с ягнятами, заткнули ей рот платком, вскинули ее на верблюда и успели далеко продвинуться с нею к городу, прежде чем Израиль оседлал для погони верховых животных. Дина исчезла, запертая в доме игр и утех, где ее окружали, впрочем, неведомые ей дотоле городские удобства, и Сихем поспешно лег с ней в постель, против чего она даже не могла убедительно возразить. Она была существо серое, покорное, без собственного мненья и безответное. То, что с нею произошло, когда это произошло самым явным и энергичным образом, она приняла как нечто непреложное и естественное. Кроме того, Сихем ведь не причинил ей никакого зла, напротив, да и остальные его сестрички, не исключая Рехумы, первой и праведной, были приветливы с ней.
Но братья! Но Симеон и Левий, особенно они! Их ярость, казалось, не знала границ — Иакова, смущенного и подавленного, они просто измучили. Обесчещена, изнасилована, гнусно растлена — и кто? Их сестра, черная горлинка, непорочнейшая, единственная, Авраамово семя! Они изломали свои нагрудные украшенья, изорвали свое платье, надели мешки, рвали на себе волосы и бороды, выли, делали себе на лице и теле длинные порезы, придававшие им ужасный вид. Они падали на живот, били кулаками землю и клялись, что не будут ни есть, ни испражняться до тех пор, пока не спасут Дину от похоти содомитов и не превратят в пустыню место, где над ней надругались. Месть, месть, нападение, смертоубийство, кровопролитье — только об этом они и твердили. Потрясенному, озадаченному, мучительно растерянному Иакову, который, впрочем, чувствовал, что вел себя по-лавановски, и прекрасно понимал, что братья ждут скорого исполненья первоначальных своих желаний, было трудно сдерживать их, не рискуя получить упрек в недостатке чувства чести и отцовского чувства. Он тоже до известной степени участвовал в демонстрациях скорбной их ярости, облачившись в грязное платье и немного растрепав себе волосы, но потом постарался объяснить им, сколь мало толку в насильственном освобождении Дины, которое ведь не решит, а только поставит вопрос о том, как быть с изнасилованной и опозоренной. После того как она побывала в руках Сихема, ее возвращение, если хорошенько подумать, нежелательно, и гораздо мудрее обуздать свое горе и подождать действовать — на разумность такого поведения указывает ему, Иакову, как он считает, и печень заколотой для гаданья овцы. Несомненно, что при тех взаимоотношениях, какие сложились на основе договора между городом и племенем, Сихем вскоре снова даст знать о себе, обратится к ним с новыми предложениями и предоставит возможность придать этому безобразному делу если не прекрасный, то хоть мало-мальски пристойный вид.
И вот, к удивлению самого Иакова, сыновья неожиданно умолкли и согласились подождать княжеского посольства. Их уступчивость сразу встревожила его чуть ли не больше, чем их неистовство, — что крылось за нею? Он с тревогой следил за ними, но в их совете он не участвовал и о новом их решении узнал не раньше посыльных Сихема, каковые, в точности как он ожидал, явились к ним через несколько дней, чтобы вручить написанное на вавилонском языке и потребовавшее нескольких глиняных дощечек письмо, по форме весьма учтивое, а по своему смыслу тоже очень любезное и предупредительное. Оно гласило:
«Иакову, сыну Ицхака, князя от бога, отцу моему и господину, которого я люблю и чьей любовью донельзя дорожу. Говорит Сихем, сын Еммора, Твой зять, который Тебя любит, княжеский наследник, которого народ приветствует криками ликованья! Я здоров. Да будешь здоров и Ты! Да пребудут в отменном здоровье также Твои жены. Твои сыновья. Твои домочадцы, Твой крупный и мелкий скот и все, что Тебе принадлежит! Некогда отец мой Еммор учредил и скрепил с Тобой, другим моим отцом, договор о дружбе, и горячая дружба между нами и вами длилась четыре кругооборота, во время которых я непрестанно думал: пусть боги устроят, чтобы все было так, как теперь, а не иначе, то есть чтобы, по воле моего бога Баал-берита и Твоего бога Эль-эльона, которые суть почти один и тот же бог и отличаются друг от друга лишь мелочами, в отношении теплоты нашей дружбы все обстояло во веки веков так, как теперь!
Когда же глаза мои увидели дочь Твою Дину, дитя Лии, дочери Лавана, халдеянина, я от всей души пожелал, чтобы наша дружба, без ущерба для своей бесконечной длительности, стала в тысячу тысяч раз крепче. Ибо дочь Твоя подобна молодой пальме у воды и цвету гранатовой яблони в саду, и сердце мое дрожит от вожделения к ней, и я понял, что без нее мне и дыханье не в радость. Тогда, как Ты знаешь, князь города Еммор, которого народ приветствует криками ликованья, прибыл к Тебе, чтобы поговорить со своим братом и посоветоваться с моими братьями, Твоими сыновьями, и ушел обнадеженный. И когда я пришел сам, чтобы посвататься к Дине, дочери Твоей, и попросить у Вас воздуха, которым я мог бы дышать. Вы сказали: «Дорогой, Ты должен обрезаться, прежде чем Дина станет Твоей, иначе это будет для нас мерзость перед нашим богом». И я не ранил обидой сердце отца моего и братьев моих, а ответил по-дружески: «Я исполню Ваше желанье». И я радовался сверх меры и велел Яраху, писцу книги божьей, поступить со мною так, как Вы наказали, и натерпелся такой боли под его руками и после, что у меня лились слезы, и все ради Дины. Когда же я пришел к Вам снова, оказалось, что все напрасно. Тогда, поскольку условие было выполнено. Дина, дитя Твое, пришла ко мне, чтобы я показал ей любовь на своей постели — к величайшему своему и не меньшему ее удовольствию, как я узнал из ее собственных уст. Но чтобы из-за этого не вышло распри между Твоим и моим богом, пусть отец мой поспешит назначить цену и условия моего брака с милой моему сердцу Диной, дабы устроить великий праздник в стенах Шекема и сыграть свадьбу всем вместе, со смехом и песнями. И на память об этом дне и вечной дружбе между Шекемом и Израилем отец мой Еммор велит отчеканить триста каменных жуков с моим именем и именем Дины, моей супруги. Дано в городе в двадцать пятый день месяца сбора урожая. Мир и здоровье получателю!»
Подражание
Таково было это письмо. Иаков и его сыновья изучали его поодаль от шекемских посланцев, и когда Иаков взглянул на сыновей, те сказали ему, как они положили вести себя при таком обороте дела, и он удивился, но не мог не согласиться по существу с их предложением; он понимал, что выполнение нового условия, ими намеченного, будет, во-первых, важной религиозной победой, а во-вторых, удовлетворительным искуплением учиненного злодеянья. Поэтому, когда они снова вышли к посыльным, он предоставил слово обиженным братьям Дины, и слово взял Дан, который и сообщил посольству принятое решение. Они, сказал он, богаты милостью божьей и не придают большого значения размерам выкупа за Дину, которую Сихем очень удачно сравнил с пальмой и с душистым гранатовым цветом. Это пусть Еммор и Сихем определят сами, как велит им их честь. Но Дина вовсе не «пришла» к Сихему, как тот пожелал выразиться, а была украдена, чем создано новое положение, с которым они, братья, просто так не помирятся. Помирятся они с ним лишь при условии, что вслед за похвально обрезавшимся Сихемом обрежется весь мужской пол в Шекеме, старики, мужчины и мальчики, причем не далее как через три дня и непременно каменными ножами. Когда это произойдет, можно будет и в самом деле сыграть свадьбу и устроить в Шекеме великий праздник со смехом и гамом.
Условие это казалось нескромным, но в то же время выполнить его было легко, и посыльные сразу выразили свою уверенность в том, что их владыка Еммор не преминет отдать необходимые распоряжения. Но едва они удалились, у Иакова внезапно возникли такие ужасные догадки насчет смысла и цели этого притворно благочестивого требования, что внутренности у него перевернулись от страха и он предпочел бы вернуть горожан. Он не верил ни в то, что братья забыли свои старые, первоначальные желанья, ни в то, что они отказались от мести за похищенье и позор Дины; а сопоставив это с недавней их внезапной уступчивостью и с высказанным ими теперь требованием и вспомнив, какие выражения приняли их изрезанные в знак скорби лица, когда их оратор упомянул о свадьбе и о праздничном шуме, которые будут устроены в Шекеме по выполнении условия, он подивился своей несообразительности, тому, что не сразу, не тогда же, когда они говорили, увидел их черные задние мысли.
Радость подражания и преемственности — вот что его ослепило. Он вспомнил Авраама, — как тот по велению господа и для союза с ним обрезал однажды весь свой дом, Измаила и всех рабов, рожденных в доме или купленных у иноплеменников, весь мужской пол своего дома, он, Иаков, был уверен, что и сыновья, выставляя свое требование, опирались на эту историю, — да, опирались-то они на нее, замысел пришел к ним оттуда, но как намеревались они довести его до конца! Он повторял про себя рассказ о том, как на третий день, когда Авраам был в болезни, господь пришел проведать его. Бог стоял перед хижиной, и Елиезер не заметил его. Но Авраам-то заметил и настоятельно пригласил войти. Однако, видя, что Авраам перевязывает рану свою, господь сказал: «Не подобает мне здесь останавливаться». Вот как кротко отнесся господь к священносрамному недугу Авраама, — ну, а они, какую кротость собирались они явить горожанам на третий день, когда те будут в болезни? Иаков содрогнулся при мысли о таком подражанье, и он содрогнулся снова, увидев их лица, когда из города сообщили, что условие принято без раздумий и что точно в срок, на третий день от вчерашнего, будет принесена эта всеобщая жертва. Ему не раз хотелось воздеть к ним руки с мольбой; но он боялся силы их возмущенной братской гордости, боялся их обоснованного права на месть и понимал, что затея, которую он мог некогда подавить торжественным своим запрещеньем, теперешними обстоятельствами сильно подкреплена. Был ли он — если спросить осторожно — даже чуть-чуть благодарен им втайне за то, что они не посвящали его в свои замыслы, не впутывали его в них, так что при желании он мог ни о чем не знать или даже ни о чем не догадываться и предоставить случиться тому, что случиться должно было? Разве не возгласил в Вефиле под звуки арф бог-вседержитель, что он, Иаков, овладеет воротами, воротами врагов своих, а не значило ли это, что, несмотря на личное его миролюбие, завоевания, война и разбой все-таки написаны ему на роду?.. Он перестал спать от страха, тревоги и сокровеннейшей гордости коварным мужеством своих отпрысков. Не спал он и в ту страшную ночь, третью по истечении срока, когда, закутавшись в плащ, лежал в шатре и с ужасом внимал глухому гулу вооруженного приступа…
Побоище
Мы подходим к концу правдивого нашего изложенья шекемского эпизода, дававшего позднее столько поводов для песен и прикрашенных сказаний, — прикрашенных в израильском понимании, в отношении последовательности приведших к резне событий, но вовсе не в отношении самой резни — тут прикрашивать было нечего, и на ужасных ее подробностях в прекраснословных беседах настаивали с каким-то даже щегольством и хвастовством. Благодаря кощунственной своей хитрости люди Иакова, численностью значительно уступавшие горожанам, ибо нападающих было всего человек пятьдесят, справлялись с Шекемом довольно легко — и при перелезании через стену, которая почти не охранялась и на которую они, пока еще молча, взобрались с помощью веревочных и приставных лестниц, и во время суматохи, которую они затем, перестав вдруг таиться, учинили внутри города, к полной растерянности поневоле нерасторопных жителей. Все шекемцы мужского пола, от мала до велика, не исключая и большей части военного гарнизона, томились лихорадкой, страдали и «перевязывали рану свою». Люди же племени иврим, здоровые телом и морально сплоченные девизом «Дина!», который они то и дело выкликали во время своей кровавой работы, неистовствовали как львы, они казались вездесущими и, с самого начала вселив в души горожан представление о неотвратимой каре, не встречали почти никакого сопротивленья. Особенно главари, Симеон и Левий, вызывали своим криком, заученным, переворачивавшим внутренности бычьим ревом тот страх божий, жертвы которого видели средство уйти от смерти разве что в ошалелом бегстве, но ни в коем случае не в борьбе. Горожане кричали: «Горе! Это не люди! Среди нас Сутех! Во все их члены вселился многославный баал!» И, пускаясь наутек, погибали под ударами дубинок. Огнем и мечом, в буквальном смысле слова, вершили расправу евреи; город, крепость и храм дымились, улицы и дома были залиты кровью. Только здоровых и крепких молодых людей брали в плен, остальных убивали, и если при этом жестокость убийц не ограничивалась простым умерщвленьем, то в оправдание их нужно учесть, что в своих действиях они руководствовались поэтическими представлениями не в меньшей мере, чем те несчастные; им виделась борьба с драконом, победа Мардука над змеем хаоса Тиаматом, и с этим было связано отрезание «подлежавших предъявлению» членов — увечье, которым они часто сопровождали убийство, отдавая дань мифу. К концу этого побоища, не продолжавшегося и двух часов, княжеский сын Сихем торчал вниз головой в сточной трубе своей купальни, изувеченный самым отвратительным образом, да и труп Усера-ка-Бастета, лежавший в растерзанном цветочном ожерелье прямо на улице, в луже крови, тоже был в большой мере неполным, что с точки зрения его родной веры имело особую важность. Что касается старика Еммора, то он просто умер от ужаса. Дина, этот ничтожно-безвинный повод такой беды, находилась в руках своих соплеменников.
Грабеж длился еще долго. Старая мечта братьев сбылась: они могли потешить сердце разбоем, победителям досталась превосходная добыча — весьма и весьма значительное богатство города, так что их возвращение домой, на исходе последней ночной стражи, с пленными, которых вели на привязи, с большим грузом золотых жертвенных чаш и кувшинов, мешков с кольцами, обручами для волос, поясами, пряжками и бусами, изящной домашней утвари из серебра, янтаря, фаянса, алебастра, корналина, слоновой кости, не говоря уж об обилии плодов земледелия и всевозможных припасов, льна, масла, муки мелкого помола и вина, — превратилось в затяжной триумф. Иаков не вышел из шатра, когда они прибыли. Ночью он долго занимал свое беспокойство искупительным жертвоприношеньем бескумирному богу под священными деревами стана, окропляя камень кровью молочного ягненка и сжигая жир с благовониями и пряностями. Теперь, когда сыновья, довольные собой, еще не остывшие, явились к нему со столь мерзостно возвращенной Диной, он, закутавшись, лежал ничком и долго не соглашался даже взглянуть ни на нее, злосчастную, ни на них, изуверов.
— Прочь! — сделал он знак. — Болваны проклятые!..
Они упрямо стояли на месте, надув губы.
— Разве можно было, — спросил один из них, — поступить с нашей сестрой, как с блудницей? Пойми, мы омыли душу свою. Вот дитя Лии. Оно отомщено семидесятисемикратно.
И так как он по-прежнему молчал и не открывал лица своего:
— Пусть господин наш поглядит на добро, что снаружи. И это еще не все, ибо мы оставили нескольких человек, чтобы они собрали в поле стада горожан и привели их к шатрам Израиля.
Он вскочил и занес над ними сжатые кулаки, и они попятились.
— Будь проклят ваш гнев, — закричал он изо всей силы, — ибо он жесток, и ярость ваша, ибо она свирепа! Несчастные, что вы со мной сделали, ведь я теперь смержу перед жителями этой земли, как падаль, к которой слетаются мухи. А что, если они теперь соберутся, чтобы отомстить нам, что тогда? Нас жалкая горстка. Они побьют нас и истребят, меня, и мой дом, и Авраамово благословение, которое вы должны нести потомкам, в грядущие времена, и все, что создано, пойдет прахом! Слепцы! Они идут в город, убивают больных, добывают нам богатство на миг, и нет у них ума подумать о будущем, о завете, об обетовании!
Они только и делали, что надували губы. Они только и знали, что повторяли:
— Разве мы должны были поступить с нашей сестрой, как с блудницей?
— Да! — крикнул он вне себя, заставив их ужаснуться. — Лучше так, чем ставить под угрозу жизнь и обетование! Ты беременна? — крикнул он Дине, которая униженно притаилась на полу.
— Откуда мне знать уже? — завыла она.
— Ребенку не жить, — отрезал он, и она завыла опять.
— Израиль снимается с места со всем своим достоянием, — сказал он спокойно, — и уходит с богатствами и стадами, которые вы добыли мечом в отместку за Дину. Он не останется на месте этих ужасов. У меня было ночью видение, и господь сказал мне во сне: «Встань и пойди в Вефиль!» Долой отсюда! Укладывать вещи!
Видение и наказ ему действительно были, были тогда, когда он, после ночной жертвы, в то время как сыновья грабили город, задремал на постели. То было разумное видение, оно пришло из глубины его сердца; ибо прибежище Луз, которое он так хорошо знал, обладало для него большой притягательной силой при таких обстоятельствах, и, уходя туда, он как бы спешил припасть к стопам вседержителя бога. Ведь беглецы, спасшиеся от кровавой свадьбы, направились в разные окрестные города, чтобы сообщить там о судьбе своего, а кроме того, как раз в это время до города Амуна дошли наконец некие письма, изготовленные отдельными главами и пастырями городов Ханаана и Еммора, и письма эти пришлось, к сожалению, представить Гору, во дворце, священному его величеству Аменхотепу Третьему, хотя тогда этот бог был не только изнурен одним из часто допекавших его зубных нарывов, но и настолько поглощен строительством своего собственного храма смерти на западе, что просто не мог уделить внимания таким досадным известиям из горемычной страны Аму, как «потеря городов царя» и «завоевание страны фараона хабирами, грабящими все страны царя» (ибо именно это говорилось в письмах глав и пастырей). А потому эти документы, показавшиеся при дворе к тому же из-за их плохого вавилонского языка довольно смешными, были сданы в архив раньше, чем в уме фараона успели созреть решенья о мерах против названных разбойников, да и вообще люди Иакова могли считать, что им повезло. Окрестные города, повергнутые в страх божий необычайной дикостью их поведенья, ничего против них не предприняли, и после всеобщего очищения, после того как он собрал и собственноручно зарыл под священными деревами многочисленных идолов, проникших за эти четыре года в его стан, Иаков, отец, мог без помех тронуться в путь с людьми и кладью и, удаляясь от страшного места Сихема, над которым кружили коршуны, податься с богатством вниз в Вефиль по торным дорогам.
Дина и мать ее Лия ехали вдвоем на умном и сильном верблюде. По обе стороны горба висели они в украшенных корзинах, под противосолнечным, натянутым на тростниковые шесты покрывалом, которое Дина почти все время целиком опускала, так что сидела в темноте. Она была беременна. Ребенок, которого она, когда пришел ее час, родила, был, по решению мужчин, подкинут. Сама она высохла от горя задолго до срока. В пятнадцать лет злосчастное ее личико было похоже на лицо старухи.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ «БЕГСТВО»
Древнее блеянье
Тягостные истории! Иаков, отец, был так же богат и почетно отягощен ими, как имуществом и собственностью, — и новыми, свежепрошедшими, и старыми, и стариннейшими, историями и историей.
История — это то, что произошло и что продолжает происходить во времени. А тем самым она является наслоением, напластованием под почвой, на которой мы стоим, и чем глубже уходят корни нашего бытия в бесконечные пласты того, что находится вне и ниже плотских границ нашего «я», но это «я» все-таки определяет собой и питает, отчего в менее точные часы мы порой говорим об этих пластах в первом лице, словно они составляют часть нашей плоти, — тем больше смысла в нашей жизни и тем почтеннее душа нашей плоти.
Когда Иаков вернулся в Хеврон, или, как его еще называли, четырехградие, когда он вернулся к дереву вразумления, посаженному и освященному Аврамом, — тем Авирамом или другим, неизвестно каким, — когда он воротился к отцовской хижине после самого тяжкого, о чем будет поведано в надлежащее время, — Исаак пошел на убыль и умер, Исаак, слепой и древний старик с наследственным этим именем, Ицхак, сын Авраама, и в священный час смерти, перед Иаковом и всеми, кто был рядом, он с жутковатой выспренностью и со сбивчивостью ясновидца говорил о «себе» как о неугодной жертве и о крови овна, как о его, истинного сына, собственной крови, пролитой, искупленья ради, за всех. А перед самым своим концом он с редкостным успехом заблеял овном, и одновременно бескровное лицо его приобрело поразительное сходство с физиономией этого животного, — вернее, вдруг обнаружилось, что сходство это существовало всегда, — и все в ужасе поспешили пасть ниц, чтобы не видеть, как сын превратится в овна, хотя он, заговорив снова, назвал овна отцом и богом.
— Заколоть надо бога, — бормотал он слова древней песни и, запрокинув голову, широко раскрыв пустые глаза и растопырив пальцы, продолжал бормотать, — чтобы все пировали, чтобы все ели мясо и пили кровь заколотого овна, как сделали это некогда Авраам и он, отец и сын, которого заменило собой богоотчее это животное.
— Да, его закололи, — лопотал, хрипел и вещал Исаак, и никто не отваживался глядеть на него, — закололи отца и овна, вместо человека и сына, и мы ели. Но воистину, говорю вам, заколют человека и сына вместо животного и взамен бога, и вы снова будете есть.
Затем он еще раз очень похоже проблеял и скончался.
Они долго еще не отрывали лбов от земли, после того как он умолк, не зная, действительно ли он мертв и не будет больше вещать и блеять. Всем казалось, что у них перевернулись внутренности и нижнее становится верхним, так что их вот-вот вырвет; ибо в словах и повадке умирающего было что-то первобытно-непристойное, что-то мерзостно-древнее, священно-досвященное, таившееся под всеми наслоениями цивилизации в самых заброшенных, забытых и внеличных глубинах их души и тошнотворно поднятое теперь на поверхность кончиной Ицхака: непристойный призрак глубочайшей древности — животное, которое было богом, овен, который был богом-родоначальником племени, овен, чью божественную кровь они когда-то, в непристойные времена, проливали и высасывали, чтобы освежить свое животно-божественное племенное родство, — прежде чем пришел Он, бог из далекой дали, элохим, бог вездесущий, бог пустыни и луны в зените, который, избрав их, отрезал связь с их первобытной природой, обручился с ними кольцом обрезанья и основал новое божественное начало во времени. Поэтому их мутило от овноподобного вида умирающего Ицхака, от его блеяния; Иакова тоже мутило. Но и тяжелой торжественности была полна его душа, когда он, босой, запыленный и остриженный, заботился теперь о похоронах, об обрядовых плачах и о чашах для жертвенных приношений умершему, — заботился вместе с Исавом, козлом-дударем, который прибыл с Козьих гор, чтобы проводить с ним отца в двойную пещеру, заливая слезами бороду и подвывая плакальщикам и плакальщицам «Хойадон!» с ребяческой несдержанностью. Они вместе зашили Ицхака с подтянутыми к подбородку коленями в баранью шкуру и отдали его так на съедение времени, которое пожирает своих детей, чтобы они не возносились над ним, но вынуждено вновь извергать их из своего чрева, чтобы они жили в старых и тех же самых историях теми же самыми детьми. (Ведь великан этот не замечает на ощупь, что умная мать отдает ему только похожий на камень предмет, завернутый в шкуру, а не дитя.) «Горе, господин умер!» — это не раз восклицалось над Ицхаком, неугодной жертвой, а он снова жил в своих историях и по праву рассказывал их от первого лица, ибо истории эти были его историями: отчасти потому, что его «я», расплываясь, уходило в прошлое и сливалось со своими прообразами, отчасти же потому, что прошлое могло в его плоти снова стать настоящим и, согласно установлению, вновь повториться. Так это и услыхали, так это и поняли Иаков и все, когда он, умирая, еще раз назвал себя неугодной жертвой: услыхали словно бы двойным слухом, а поняли просто — как мы и в самом деле слушаем двумя ушами, глядим двумя глазами, а слышим и видим что-то одно. К тому же Ицхак был древний старик, а говорил он о маленьком мальчике, которого чуть не закололи, и был ли им когда-то он сам или кто-то более ранний, знать это и думать об этом не стоило уже потому, что даже чужое жертвенное дитя не могло быть более чужим его старости и находиться в большей степени вне его, чем дитя, которым он некогда был.
Красный
Итак, задумчивой и тяжелой торжественности полна была душа Иакова в те дни, когда он хоронил с братом отца, ибо все истории встали перед ним вновь и обрели настоящее время в его духе, как некогда, следуя шаблонному прообразу, обретали его во плоти, и ему казалось, что он находится на какой-то прозрачной тверди, которая состоит из бесконечного множества уходящих в бездонную глубину слоев хрусталя, просвечиваемых горящими между ними светильниками, а он, Иаков, нынешний, находится наверху в историях своей плоти и наблюдает за Исавом, проклятым благодаря хитрости, который тоже, согласно своему шаблону, находится с ним вместе, будучи Едомом, Красным.
Этим словом фигура его определена, несомненно, безошибочно, — «несомненно» в известном смысле и «безошибочно» с оговоркой, ибо верность этого «определенья» есть верность лунного света, а в ней много обманчивого, дурачаще-двусмысленного, и довольствоваться ею со слегка углубленным задумчивостью простодушием нам, в отличие от действующих лиц нашей истории, не к лицу. Мы рассказали о том, как красношерстный Исав еще в юные годы, живя в Беэршиве, завязал и поддерживал связи со страной Едомом, с людьми Козьих гор, сеирских горных лесов, и о том, как позднее он совсем перешел к ним и к их богу Куцаху с чадами и домочадцами, с ханаанскими своими женами Адой, Оливемой и Васемафой, а также с их сыновьями и дочерьми. Значит, козий этот народ уже существовал на свете неведомо как давно, когда Исав, дядя Иосифа, прибился к нему, и если предание, то есть прошедшее через много поколений прекраснословие, закрепленное позднее в виде хроники, называет Исава «отцом едомитов», их, следовательно, родоначальником, и, так сказать, архикозлом, то верно это только магически-двусмысленной лунной верностью. Им Исав не был, этот Исав, лично он, — если даже прекраснословие и считало его таковым, как, при известных обстоятельствах, наверно, и он сам. Народ Едома был гораздо старше, чем дядя Иосифа, — мы повторно называем его дядей Иосифа, потому что куда вернее будет определить это лицо по нисходящей, а не по восходящей линии родства, — народ Едома был неизмеримо старше, чем он, ведь с изначальностью того Белы, сына Беора, которого таблица называет первым царем Едома, дело обстоит явно не лучше, чем с перводержавием Мени Египетского, общеизвестного временного мыса. Итак, строго говоря, родоначальником Едома теперешний Исав не был; и если в песнопевческом порядке о нем настойчиво говорится: «Он Едом», а не: «Он был Едом», то настоящее время этого утверждения выбрано не случайно, оно служит вневременной типизации, поднимающейся над всякими индивидуальными чертами. В историческом и, следовательно, индивидуализирующем аспекте архикозлом козьегорцев был несравненно более древний Исав, по чьим следам теперешний Исав и шагал, — следам, надо прибавить, хорошо утоптанным и сильно исхоженным, которые, чтобы уж сказать все до конца, не были даже, наверно, собственноножными следами того, о ком прекраснословие могло бы по праву сказать: «Он был Едом».
Тут, однако, речь наша доходит до тайны, и наши путеводные указатели теряются в ней, — теряются в бесконечности прошлого, где любое начало оказывается на поверку мнимым пределом, а вовсе не окончательной целью пути, в бесконечности, таинственная природа которой основана на том, что она, бесконечность, не прямолинейна, а сферична. У прямой нет тайны. Тайна заключена в сфере. А сфера предполагает дополнение и соответствие, она представляет собой единство двух половин, она складывается из верхнего и нижнего, из небесного и земного полушарий, которые составляют целое таким образом, что все, что есть наверху, есть и внизу, а все, что происходит на земле, повторяется на небе и небесное вновь обретает себя в земном. Это взаимосоответствие двух половин, образующих вместе целое и сливающихся в округлость шара, равнозначно их взаимозамене, то есть вращению. Шар катится: такова природа шара. Верх становится низом, а низ верхом, если при таких условиях можно во всех случаях говорить о верхе и низе. Небесное и земное не только узнают себя друг в друге, — в силу сферического вращенья небесное превращается в земное, а земное в небесное, а из этого явствует, из этого следует та истина, что боги могут становиться людьми, а люди снова богами.
Это так же верно, как то, что растерзанный страдалец Усири был некогда человеком, царем земли Египетской, а потом стал богом — с постоянной, правда, склонностью снова сделаться человеком, как ясно показывает уже сама форма существования египетских царей, каждый из которых был богом во плоти человека. Если же спросить, кем был Усир сначала и в первую очередь, богом или человеком, то на это ответить нельзя; у катящейся сферы нет начала. Так же ведь обстоит дело и с его братом Сетом, который, как нам давно известно, убил его и растерзал. У этого злодея была, по имеющимся сведениям, ослиная голова, кроме того, он отличался будто бы воинственным нравом, любил охоту и в Карнаке, близ города Аммона, учил царей Египта стрелять из лука. Другие называли его Тифоном, а еще раньше в его веденье отдали сухой и горячий ветер пустыни хамсин, солнечный зной и самый огонь, отчего он стал Баал Хаммоном, или богом палящей жары, и назывался у финикиян и евреев Молохом или Мелехом, быкообразным царем баалов, чье пламя пожирает детей и первенцев, тем самым Мелехом, которому Авраам чуть было не принес в жертву Ицхака. Кто скажет, что в начале начал или в конце концов Тифон-Сет, красный ловец, обитал на неба и был не кем иным, как Нергалом, семиименным врагом, Красным, огненною планетою Марсом? С таким же правом можно утверждать, что первоначально и в конечном счете он был человеком. Сетом, братом царя Усири, которого он свергнул с престола и убил, а уж потом сделался богом и звездой, всегда, правда, готовой снова стать человеком сообразно вращенью сферы. Он и то и другое попеременно, сразу — и божественная звезда, и человек, но ни то, ни другое в первую очередь. Поэтому к нему нельзя отнести никакое глагольное время, кроме как вневременное настоящее, заключающее в себе вращение сферы, и о нем по праву всегда говорится: «Он Красный».
Но если стрелок Сет и огненная планета Нергал-Марс находятся в отношениях небесно-земной взаимообратимости, то совершенно ясно, что такие же отношения подвижного соответствия существуют между убитым Усиром и царственной планетой Мардуком, той, которую тоже приветствовали недавно черные глаза у колодца и бог которой назван также Юпитером-Зевсом. А о нем рассказывают, что своего отца Крона, того самого божественного великана, который пожирал собственных детей и лишь благодаря находчивости матери не сожрал также и Зевса, он, сын его, оскопил серпом и сбросил с престола, чтобы самому сесть царем на его место. Это важно для всякого, кто, познавая истину, не останавливается на полпути, ибо это явно означает, что Сет или Тифон был не первым цареубийцей, что уже и сам Усир был обязан своей властью убийству и что как царь он претерпел то, что совершил как Тифон. В том и состоит часть сферической тайны, что благодаря вращению шара цельность и однообразие характера уживаются с изменением характерной роли. Ты Тифон, покуда притязаешь на престол, вынашивая убийство; но после убийства ты царь, ты само величие успеха, а тифоновские шаблон и роль достаются другому. Многие утверждают, что оскопил и свергнул Крона не Зевс, а красный Тифон. Но это пустой спор, ведь при вращении все едино: Зевс — это Тифон, пока он не победил. Вращение распространяется, однако, и на взаимоотношение отца и сына; и не всегда сын закалывает отца: в любой миг роль жертвы может выпасть сыну, которого тогда, наоборот, закалывает отец. Тифона-Зевса, стало быть, Крон. Это хорошо знал пра-Аврам, собираясь принести в жертву красному Молоху единственного своего сына. Он явно держался того грустного мнения, что ему надлежит опираться на эту историю и выполнить эту схему. Но бог отверг его жертву…
Одно время Исав, дядя Иосифа, постоянно общался со своим собственным дядей Измаилом, изгнанным сводным братом Исаака, поразительно часто навещал его в преисподней его пустыне и строил с ним планы, о чудовищности которых мы еще услышим. Эта привязанность была, разумеется, не случайна, и, говоря о Красном, надо сказать и об Измаиле. Мать его звали Агарь, что значило «странница» и уже само по себе призывало прогнать ее в пустыню, чтобы имя ее оправдалось. Непосредственный повод к этому доставил, однако, Измаил, чьи преисподние склонности всегда были слишком очевидны, чтобы рассчитывать на длительное его пребывание на верхнем свету богоугодности. О нем написано, что он был «насмешник», но это не означает, что он был дерзок, — такой недостаток еще не сделал бы его непригодным для верхней сферы, — нет, слово «насмехаться» в его случае значит, по сути дела, «шутить», и однажды Аврам увидел «через окно», как Измаил весьма преисподним образом шутил со своим младшим единокровным братом, что было отнюдь не безопасно для истинного сына Ицхака, ибо Измаил был прекрасен, как закат в пустыне. Поэтому будущий отец множества испугался и нашел, что ситуация созрела для решительных мер. Отношения между Сарой и Агарью, которая некогда возгордилась своим материнством перед еще бесплодной первой женой и однажды уже бежала от ее ревности, были давно самыми скверными, и Сара все время добивалась изгнания египтянки и ее отпрыска, — добивалась не в последнюю очередь из-за неясности и спорности порядка наследования при наличии старшего сына от побочной жены и младшего от праведной: стоял вопрос, не является ли Измаил равноправным с Ицхаком, а то и вовсе первым по порядку наследником — ужасный для одержимой материнской любовью Сары и щекотливый для Авирама вопрос. Поэтому замеченный проступок Измаила пал на колебавшиеся весы Авраамовых решений последней гирей, и, дав кичливой Агари ее сына, а также немного воды и лепешек, праотец велел ей посмотреть белый свет и не возвращаться. А как же иначе? Неужели Ицхак, неугодная жертва, должен был в конце концов пасть все-таки жертвой огненного Тифона?
Вопрос этот нужно понять верно. Он звучит оскорбительно для Измаила, но по праву. Ибо нечто оскорбительное есть в самом Измаиле, и то, что он шел по нечистым следам и, так сказать, «имел опыт», неоспоримо. Достаточно чуть-чуть изменить первый слог его имени, чтобы стало видно, насколько оно высокомерно, и то, что в пустыне он стал таким искусным лучником, это тоже явно произвело впечатление на учителей, уподобивших его дикому ослу, животному Тифона-Сета, убийцы, злого брата Усири. Да, он злодей, он Красный, и хотя Авраам выдворил его и защитил благословенного своего сыночка от огненно-беспутных его преследований, — когда Исаак излил семя в женское лоно, Красный вернулся снова, чтобы жить в своих историях рядом с угодным богу Иаковом, ибо Ревекка произвела на свет двух братьев, «душистую траву», и «колючий куст», красношерстного Исава, которого учители и знатоки поносили куда ожесточеннее, чем того заслуживала его обывательски-земная повадка. Они называют его змеей и сатаной, и еще кабаном, диким кабаном, чтобы изо всех сил намекнуть на вепря, который растерзал овчара и владыку в ливанских ущельях. Даже «чужим богом» называет его их ученая ярость, чтобы неуклюжее добродушие обывательской его повадки никого не ввело в заблужденье насчет того, чем он является в круговращении сферы.
Она вращается, и они бывают иной раз отцом и сыном, эти двое несходных. Красный и благословенный, и сын оскопляет отца или отец закалывает сына. Но иной раз — и никто не знает, кем они были сперва, — они бывают братьями, как Сет и Усир, как Каин и Авель, как Сим и Хам, и случается, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти обе пары: с одной стороны, пару «отец — сын», а с другой стороны, пару «брат — брат». Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Исааком. Для первого он сын с серпом, для второго — красный брат. Но разве Измаил хотел оскопить Авраама? Конечно, хотел. Ведь он готов был склонить Исаака к преисподней любви, а если бы Исаак не излил семени в женское лоно, то не было бы на свете Иакова и двенадцати его сыновей, и что стало бы тогда с обещаньем бесчисленного потомства и с именем Авраама, которое означает «отец множества»? А сейчас они существовали в реальности своей плоти как Иаков и Исав, и даже болван Исав знал примерно, какие за ним водятся свойства, — насколько же лучше знал это образованный и многоумный Иаков?
О слепоте Ицхака
Угасшим и туманным взглядом смотрели умные, карие, уже немного усталые глаза Иакова на ловчего, его близнеца, когда тот помогал ему хоронить отца, и все истории вставали в нем, Иакове, заново и становились мысленной действительностью: и детство, и то, как после долгой неопределенности разрешились проклятье и благословение, а потом и все дальнейшее. Глаза Иакова были сухи в задумчивости, у него лишь изредка дрожала грудь от горестей жизни, и он шумно втягивал воздух. Исав же во время всех этих приготовлений хныкал и выл, и все-таки ему не за что было благодарить старика, которого они сейчас зашивали, кроме как за обреченье пустыне — единственное, что для него, Исава, осталось после благословенья — к великому горю отца, как заставлял себя верить, как не мог не заставлять себя верить Исав, отчего он и желал время от времени слышать это, хотя бы из собственных уст и, покуда братья зашивали Исаака, то и дело приговаривал среди вытья.
— Тебя, Иекев, любила женщина, а меня любил отец, и моя дичь приходилась ему по вкусу, вот как дело было. «Ах ты, космач, — говорил он, бывало, — ах ты, мой первенец, до чего же хороша дичина, которую ты добыл для меня и зажарил, вздувши огонь. Да, она мне по вкусу, рыжеволосый сынок мой, спасибо тебе за твое старанье! Ты всегда будешь моим первенцем, и я век буду это помнить». Вот как, а не иначе говорил он сотни, тысячи раз. Но тебя любила женщина, и она тебе говорила: «Иекев, любимчик мой!» А любовь матери, видят боги, греет сильней, чем любовь отца, в этом я убедился.
Иаков молчал. Поэтому Исав опять вставлял в свои вопли то, что необходимо было слышать его душе:
— И ах, как ужаснулся старик, когда я пришел после тебя и принес ему то, что я приготовил, чтобы он подкрепился для благословенья, и когда он понял, что прежде приходил не Исав! Ужасу его не было меры, и он восклицал то и дело: «Кто же был этот ловчий, кто же он был? Теперь он останется благословен, ведь я же хорошо подкрепился для благословения! Исав мой, Исав, что нам теперь делать?»
Иаков молчал.
— Не молчи, гладкий! — крикнул Исав. — Не молчи своекорыстным своим молчаньем, молча выдавая его за кроткую бережность, это меня бесит и злит! Разве старик меня не любил, разве он тогда не ужаснулся безмерно?
— Ты это говоришь, — отвечал Иаков, и Исаву пришлось на том помириться.
Но от того, что он так говорил, это не становилось более правдивым, чем было в действительности, и не делалось менее запутанным, а оставалось двусмысленной полуправдой, и то, что Иаков либо молчал, либо отвечал односложно, было не ехидством и не лукавством, а бессилием перед запутанностью и трудностью положения, которое нельзя было поправить ни подвываньями, ни простоватой сентиментальностью — приукрашивающей и самообманной сентиментальностью живого, который задним числом изображает отношенье к нему умершего в самом привлекательном свете. Конечно, Исаак и вправду мог ужаснуться, когда Исав пришел после того, как он, Иаков, уже побывал в шатре. Ведь старик мог испугаться, что в темноте у него побывал кто-то чужой, какой-то совсем посторонний обманщик, и что тот похитил благословение, а это, разумеется, следовало бы считать великим несчастьем. Но пришел ли бы он в такой же, то есть в такой же искренний ужас, зная наверняка, что опередил Исава и получил благословенье Иаков, это вопрос особый и решить его было не так просто, как то отвечало душевной потребности Исава; решать этот вопрос следовало в том же примерно плане, что и другой — действительно ли любовь родителей распределялась так четко, как то, в угоду своей потребности, изображал Исав: с одной стороны, материнской, «любимчик Иекев», с другой, отцовской, «рыжеволосый сынок». У Иакова имелись причины сомневаться в этом, хотя ему и не подобало ссылаться на них перед голосившим Исавом.
Бывало, когда младший ласкался к матери, она рассказывала ему, как тяжко ей было носить близнецов в последние месяцы перед их появлением на свет, как задыхалась она, обезображенная, с трудом волоча свои перегруженные ноги, как донимали ее толчками братья, которые, вместо того чтобы мирно сидеть в утробе, спорили о том, кому из них выйти первым. Вообще-то бог Исаака, утверждала она, назначил первородство ему, Иакову, но так как Исав упорствовал в своих притязаньях, Иаков по доброте и из вежливости отступил — втайне сознавая, наверно, что для близнецов ничтожная разница в возрасте сама по себе не очень важна, что она ничего, в сущности, не решает, что истинное религиозное первородство и то, чей жертвенный дым поднимется перед господом прямо — это определится только снаружи и лишь со временем. Рассказ Ревекки звучал правдоподобно. Так он, Иаков, конечно, вполне мог вести себя, и ему самому казалось, будто он помнит, что так он себя и вел. Но, излагая события таким образом, мать проговаривалась, что маленькое и к тому же узурпированное преимущество Исава родители никогда не считали решающим и что долго, до самого возмужания братьев, до самого дня судьбы, не было ясно, кого из них благословят, так что Исав мог жаловаться разве что на несчастный свой жребий, но никак не на ущемление в правах. Долгое время, особенно для отца, фактическое его первородство как-то уравновешивало неприглядность его стати — подразумевая под словом «стать» и физические качества, и духовно-нравственные, — долгое время, но все-таки до поры до времени. Он появился на свет весь в рыжеватой шерстке, как детеныш косули, и с полными зубов челюстями; но зловещие эти приметы Исаак заставил себя приветствовать, истолковав их в самом великолепном смысле. Он очень хотел дружить с первенцем и сам был основоположником и многолетним защитником мнения, за которое цеплялся Исав, — что это его сын, а Иаков, наоборот, маменькин сынок. С этим гладким, беззубым, говорил он, делая над собой усилие, — ведь маленькая фигурка как раз этого второго так и светилась кротостью, и он улыбался смышленой и мирной улыбкой, в то время как первый весь содрогался от истошного визга, корча премерзкие гримасы, — с этим гладким дело обстоит явно скверно, почти, безнадежно, но зато у косматого, кажется, задатки героя и он, несомненно, преуспеет пред господом. Исаак твердил это изо дня в день, машинально, в одних и тех же, поговорочно-устойчивых выраженьях, правда, вскоре уже дрожащим подчас от скрытой досады голосом; ибо своими отвратительными ранними зубами Исав жестоко искусал груди Ревекки, так что вскоре оба соска болезненно воспалились, и маленького Иакова тоже пришлось кормить разбавленным водой молоком дойных животных. «Он будет героем, — говаривал по этому поводу Ицхак, — он мой сын и мой первенец. Но гладкий — твой, дочь Вафуила, сердце груди моей!» «Сердце груди моей» он именовал ее в этой связи, называя приятное дитя ее сыном, а косматое — своим. Которому же оказывал он предпочтенье? Исаву. Так говорилось позднее в пастушеской песне, и так уже тогда думали окрестные жители. Ицхак любит Исава, а Ревекка Иакова — таково было общее мнение, которое Исаак создал словами и сохранил в слове, маленький миф внутри мифа куда более великого и могучего, но противоречивший этому более великому и могучему мифу до такой степени, что… Ицхак ослеп из-за этого.
Как это понимать? Понимать это надо в том смысле, что единение тела и души гораздо полнее, что душа намного более телесна, а телесные свойства зависят от движения души куда больше, чем смели порой думать. Исаак был слеп или почти слеп, когда умирал, от этого мы не отказываемся. Но когда близнецы его были детьми, его зрение далеко еще не притупилось от старости, и если в пору их юности он уже сильно продвинулся к слепоте, то объясняется это тем, что он годами запускал свое зренье, не упражнял, не напрягал и даже попросту выключал его, оправдываясь предрасположенностью к воспалению конъюнктивы, очень в его сфере распространенному (ведь и Лия, и многие ее сыновья страдали от этого всю жизнь), но на самом деле из-за своего недовольства. Может ли человек ослепнуть или настолько приблизиться к слепоте, насколько Ицхак действительно приблизился к ней в старости, оттого что ему не хочется видеть, оттого что зрение для него — источник мук, оттого что он лучше чувствует себя в темноте, где могут произойти некие вещи, которые произойти должны ? Мы не утверждаем, что такие причины оказывают такое действие; нам достаточно установить, что причины были.
Исав созрел рано, как созревают животные. В отроческом, так сказать, возрасте он женился несколько раз подряд: на дочерях Ханаана, хеттеянках и евеянках, как известно, сначала на Иегудифе и Аде, затем на Оливеме и Васемафе. Он поселил этих женщин на отцовской шатровой усадьбе, был плодовит с ними и тем невозмутимее позволял им и приплоду их поклоняться, по наследственному их обычаю, природе и истуканам на глазах у родителей, что и сам был равнодушен к высокому Аврамову наследию и, заключив на юге охотничье-религиозный союз с сеирцами, открыто служил громовержцу Куцаху. Это, как пелось потом в песне и все еще говорится в предании, «было в тягость» Исааку и Ревекке — обоим, таким образом, причем Ицхаку, несомненно, гораздо больше, чем его сестре во браке, хотя недовольство высказывала она, а он молчал. Он молчал, а если говорил, то такие слова: «Красный — мой. Он — первенец, я люблю его». Но Исаак, благословенный хранитель завоеванного Аврамом, Исаак, которого единоверцы считали сыном халдеянина и его воплощением, тяжко страдал от того, что он видел или, вернее, из-за чего закрывал глаза, чтобы не видеть этого, он страдал от собственной слабости, которая мешала ему положить конец этому бесчинству, выдав Исава пустыне, как то сделали с Измаилом, его дикарски красивым дядей. Исааку мешал «маленький» миф, ему мешало фактическое Исавово первородство, которое тогда, при не решенном еще вопросе о призванном избраннике, было существенным доводом в пользу Исава; поэтому Исаак жаловался на свои глаза, на то, что они слезятся, на жжение в веках, на то, что взгляд его тускл, как умирающая луна, на то, что свет причиняет ему боль, — и искал темноты. Утверждаем ли мы, что Исаак стал «слеп», чтобы не видеть идолопоклонства своих невесток? Ах, это было самым незначительным из всего, что отбивало у него охоту видеть, что заставляло его желать слепоты, — потому что только при ней могло произойти то, что произойти должно было.
Ибо чем больше мальчики созревали, тем явственнее вырисовывались черты «большого» мифа, внутри которого «маленький», вопреки всей принципиальной приверженности отца к старшему сыну, становился все более неестественным и несостоятельным; тем яснее становилось, кто они были, по чьим стопам шли, на какие истории опирались, — Красный и Гладкий, Ловчий и Домосед, — как же мог Исаак, который и сам противостоял своему брату, дикому ослу Измаилу, Исаак, который и сам был не Каином, а Авелем, не Хамом, а Симом, не Сетом, а Усиром, не Измаилом, а Ицхаком, истинным сыном, — как же мог он, оставаясь зрячим, хранить верность общему мненью, будто он предпочитает Исава? Поэтому глаза его пошли на убыль, как умирающий месяц, и он пребывал в темноте, чтобы его обманули вместе с Исавом, его старшим.
Великая потеха
По правде сказать, обманут не был никто, не исключая Исава. Если мы, самым затруднительным для себя образом, повествуем сейчас о людях, которые не всегда вполне точно знали, кто они такие, и если Исав тоже не всегда знал это вполне точно, так что иногда считал себя архикозлом сеирцев и говорил о нем в первом лице, — то эта имевшая порой место нечеткость касалась все же только каких-то индивидуальных и временных обстоятельств и была как раз следствием того, что вневременную, мифическую и типическую свою сущность каждый знал превосходно, в том числе и Исав, о котором недаром было сказано, что по-своему он был так же благочестив, как Иаков. Да, он плакал и негодовал после «обмана», да, он готовил своему благословенному брату еще более жестокую месть, чем Измаил своему, да, это правда, что он обсуждал с Измаилом планы убийства Исаака и Иакова. Но делал он все это потому, что именно этого требовала его характерная роль, он делал это благочестиво и точно зная, что все случается лишь во исполнение предначертанного, и случившееся случилось потому, что должно было случиться по сложившемуся шаблону. Иными словами, это не было новинкой, это случилось по всем правилам, по готовому образцу, приобрело сиюминутность, словно бы в празднике, и возвратилось, как возвращаются праздники. Ведь Исав, дядя Иосифа, не был родоначальником Едома.
Поэтому, когда настал час и братьям было почти по тридцати лет; когда Ицхак выслал из темноты своего шатра раба-прислужника, одноухого малого, которому отрезали одно ухо за его легкомысленные провинности, что очень его исправило; когда тот скрестил на черноватой своей груди руки перед Исавом, трудившимся вместе с рабами на пашне, и сказал ему: «Господина моего требует господин», — Исав так и прирос к земле, и красное его лицо побледнело под потом, который его покрыл. Он пробормотал формулу повиновения: «Вот я». А в душе он думал: «Сейчас начнется!» И душа эта была полна гордости, страха и торжественной грусти.
Он вошел после солнечной полевой работы к отцу, который лежал в полумраке с двумя пропитанными примочкой тряпочками на глазах, поклонился и сказал:
— Господин мой звал меня.
Исаак отвечал несколько жалостливо:
— Я слышу голос моего сына Исава. Это ты, Исав? Да, я звал тебя, ибо час настал. Подойди ближе, старший мой, я хочу удостовериться, что это ты!
И Исав, в набедреннике из козьей кожи, стоял на коленях возле постели, он сверлил глазами тряпочки, словно хотел проникнуть сквозь них в глаза старика, а Исаак, ощупывая его плечи, руки и грудь, говорил:
— Да, это твои космы, это красная Исавова шерсть. Я вижу это руками, которые волей-неволей научились довольно исправно исполнять должность слабеющих глаз. Слушай же, сын мой, широко и гостеприимно открыв уши слову твоего слепого отца, ибо час настал. Так вот, я уже настолько покрыт годами и днями, что вскоре, наверно, исчезну под ними, и поскольку зренье мое давно уже идет на убыль, то очень вероятно, что скоро я полностью сойду на нет и исчезну во мраке, так что жизнь моя превратится в ночь и не будет видна. А потому, чтобы мне не умереть, не отдав благословенья, не оставив своей силы и не перепоручив наследства, пусть будет так, как не раз бывало. Ступай, сын мой, возьми орудия свои для стрельбы, которыми ты так ловко и жестоко владеешь пред господом, и пойди в поля и луга, настреляй дичи. И приготовь мне из нее кушанье, как я люблю, сварив мясо в кислом молоке на живом огне и тонко приправив, и принеси мне, чтобы я поел и попил и подкрепилась душа моего тела и я благословил тебя зрячими своими руками. Таков мой наказ. Иди.
— Уже исполнено, — пробормотал Исав машинально, но остался стоять на коленях и низко опустил голову, над которой продолжали глядеть в пустоту слепые тряпочки.
— Ты еще здесь? — осведомился Исаак. — Одно мгновение я думал, что ты уже ушел, это меня не удивило бы, ведь отец привык, чтобы все исполняли его приказы не мешкая, с любовью и страхом.
— Уже исполнено, — повторил Исав и поднялся. Но, уже приподняв шкуру, завешивавшую выход из шатра, он отпустил ее и вернулся, еще раз стал на колени у постели и срывающимся голосом проговорил:
— Отец мой!
— Что такое, что еще? — спросил Исаак, поднимая брови над тряпочками. — Ничего, — сказал он затем. — Ступай, сын мой, ибо час настал, великий для тебя и для всех нас великий. Ступай, убей и свари, чтобы я благословил тебя!
И тут Исав вышел с поднятой головой и, со всей гордостью этого часа покинув шатер, громко объявил всем, кто мог его слышать, о почете, в котором он сейчас пребывал. Ведь истории возникают не сразу, они происходят последовательно, у них есть свои этапы развития, и было бы совсем неверно называть их сплошь печальными только потому, что у них печальный конец. У истории с печальной развязкой тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете; ведь их действительность ни чуть не уступает по своей силе действительности конца. Поэтому в свой час Исав был горд и во весь голос кричал:
— Слушайте, люди усадьбы, слушайте, дети Аврама и кадильщики Иа, слушайте и вы, кадильщицы Баала, жены Исава со своими чадами, плодами чресел моих! Час Исава настал. Господин хочет благословить своего сына еще сегодня! Исаак посылает меня в поля и луга, чтобы я луком своим добыл ему пищи для подкрепления ради меня! Падите же ниц!
И те, кто находился поближе, пали ниц, а одна служанка, увидел Исав, пустилась бежать куда-то с такой быстротой, что у нее даже груди запрыгали.
Эта-то служанка и рассказала, задыхаясь, Ревекке, чем похвалялся Исав. И эта же служанка, уже едва дыша, прибежала к Иакову, который в обществе остроухого пса по кличке Там пас овец и, опираясь на свой длинный, изогнутый сверху посох, стоял в раздумье о боге, и прохрипела, плюхнувшись лбом в траву:
— Госпожа!..
Иаков взглянул на нее и после долгого молчания тихо ответил:
— Вот я.
А пока он молчал, он думал в душе: «Сейчас начнется!» И душа его была полна гордости, страха и торжественности.
Он оставил свой посох под охраной Тама и вошел к Ревекке, которая уже с нетерпением ждала его.
Ревекка, преемница Сарры, была статной, широкой в кости пожилой женщиной в золотых серьгах, с крупными чертами лица, сохранявшими еще многое от той красоты, которая когда-то подвергла опасности Авимелеха Герарского. Черные глаза ее глядели из-под высоких, разделенных резкими складками и симметрично подведенных свинцовым блеском бровей умно и твердо, нос у нее был крепкий, мужской вылепки, с сильными ноздрями, орлиный, голос низкий и полнозвучный, а верхнюю ее губу покрывал темный пушок. Волосы Ревекки, причесанные на прямой пробор и спускавшиеся на лоб густыми серебристо-черными прядями, окутывало коричневое, низко свисавшее за спиной покрывало, зато янтарно-смуглых ее плеч, гордой округлости которых, как и ее благородных рук, годы почти не изменили, — плеч ее не прятали ни покрывало, ни узорчатое, без пояса, шерстяное, до щиколоток платье, которое она носила. Еще недавно ее маленькие, жилистые кисти рук, быстро исправляя огрехи, сновали между руками женщин, которые, сидя у ткацкого стана, — навои его были колышками прикреплены к земле под открытым небом, — пальцами и палочками продевали и протягивали сквозь основу льняные нити утка. Но она велела прервать работу и, отпустив служанок, ждала сына внутри своего шатра госпожи, под волосяным скатом и на циновках которого встретила почтительно вошедшего Иакова живым и нетерпеливым взглядом.
— Иекев, дитя мое, — сказала она тихо низким своим голосом, прижимая поднятые его руки к своей груди. — Время пришло. Господин хочет благословить тебя.
— Меня? — спросил Иаков, бледнея. — Он хочет благословить меня, а не Исава?
— Тебя в нем, — сказала она нетерпеливо. — Сейчас не до тонкостей! Не рассуждай, не мудри, а делай то, что тебе велят, чтобы не вышло ошибки и не случилось несчастья!
— Что прикажет мне моя матушка, благодаря которой я живу, как жил в то время, когда находился в ее утробе? — спросил Иаков.
— Слушай! — сказала она. — Он велел ему настрелять дичи и приготовить из нее кушанье по своему вкусу, чтобы подкрепиться для благословения. Ты можешь сделать это быстрее и лучше. Сейчас же пойди в стадо, отбери двух козлят, заколи их и принеси мне. Из того, который окажется лучше, я приготовлю отцу такое кушанье, что он у тебя ничего не оставит. Ступай!
Иаков задрожал и так и не переставал дрожать, пока все не кончилось. В иные мгновенья ему приходилось делать над собой большое усилие, чтобы у него не стучали зубы. Он сказал:
— Милосердная матерь людей! Каждое твое слово подобно для меня слову богини, но то, что ты говоришь, страшно опасно. Исав сплошь волосат, а дитя твое, за небольшими исключениями, гладко. Вдруг господин дотронется до меня и почувствует мою гладкость — кем я окажусь перед ним? Самым настоящим обманщиком, — и не успею я оглянуться, как навлеку на себя проклятье вместо благословенья.
— Ты, значит, опять мудришь? — прикрикнула она на него. — Проклятье падет на мою голову. Я отвечаю. Прочь, и давай козлят. Беда будет…
Он уже бежал. Он помчался к склону горы, где неподалеку от стойбища паслись козы, схватил двух весеннего приплода козлят, прыгавших возле матки, и перерезал им горло, крикнув пастуху, что это для госпожи. Он спустил их кровь перед богом, перекинул их себе через плечо за задние ноги и пошел обратно с колотящимся сердцем. Козлята висели у него сзади, поверх кафтана — с детскими еще головками, кольчатыми рожками, рассеченными глотками и остекленевшими глазами, — рано принесенные в жертву, предназначенные для великой цели. Ревекка стояла уже и делала ему знаки.
— Скорее, — сказала она, — все готово.
Под ее крышей находился сложенный из камней очаг, где под бронзовым котлом уже горел огонь, и все кухонные и хозяйственные принадлежности были на месте. И мать взяла у него козлят и стала их поспешно свежевать и разделывать, она усердно и ловко орудовала вилкой у пылающего очага, помешивала, посыпала, приправляла, и они молчали во время всей этой работы. И когда кушанье еще варилось, Иаков видел, как она доставала из своего ларя сложенные одежды, рубаху и халат. То были Исавовы праздничные одежды, которые она, как узнал Иаков, прятала; и он побледнел снова. Затем он увидел, как она разрезает ножом на куски и на полосы шкурки козлят, еще влажные и липкие от крови с внутренней стороны, и задрожал при виде этого. Но Ревекка велела ему снять с себя длинный кафтан с полудлинными рукавами, который он в то время обычно носил, и надела на его гладкие, дрожавшие члены короткую исподнюю одежду брата, а поверх нее — его тонкий красно-синий шерстяной халат, державшийся только на одном плече и не закрывавший рук. Потом она сказала: «А теперь подойди ко мне!» И в то время, как губы ее двигались в шепоте, а резкие складки между ее бровями застыли, она обложила все голые и гладкие места его тела, шею, руки, голени и тыльные стороны ладоней, кусками шкур и крепко привязала их нитками, хотя они и без того прилипли неприятнейшим образом. Она бормотала:
— Дитя обовью, закутаю сына, изменят дитя, переменят мне сына шкуры коз, козий мех.
И бормотала снова и снова:
— Дитя обовью, обовью господина: ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся.
Затем она собственноручно вымыла ему ноги, как делала это, наверно, когда он был маленьким, взяла благовонное масло, которое пахло лугом и цветами луга и было благовонным маслом Исава, и умастила Иакову сначала голову, а потом вымытые ноги, приговаривая сквозь зубы:
— Дитя умащу, умащу я камень, слепой да поест, и падут тебе в ноги братья из бездны, братья из бездны!
Потом она сказала: «Готово!» — и, покуда он растерянно и неловко поднимался в животном своем облачении, покуда он стоял, растопырив руки и ноги, и стучал зубами, она положила сдобренное пряностями мясо в миску, прибавила пшеничного хлеба и золотисто-прозрачного масла, чтобы макать в него хлеб, а также кувшин вина, вручила ему все это и сказала:
— Теперь иди своей дорогой!
И он пошел, нагруженный, неуклюжий, толстоногий, боясь, что противно прилипшие шкурки сползут под нитками, с громко стучащим сердцем, перекошенным лицом и опущенными глазами. Многие домочадцы видели его, когда он так шел по усадьбе, они воздевали руки, прищелкивали языком, качали головами, целовали кончики своих пальцев и говорили: «Глядите-ка, господин!» Так подошел он к шатру отца, приложил рот к занавеске и сказал:
— Это я, отец мой! Дозволено ли рабу твоему войти к тебе?
Из глубины шатра донесся голос Исаака, он звучал жалостливо:
— Но кто же ты? Не разбойник ли ты и не сын ли разбойника, если приходишь к моей хижине и говоришь о себе «я»? «Я» может сказать всякий; кто это говорит — вот что важно.
Отвечая, Иаков не стучал зубами, потому что сейчас он их сжал:
— «Я» говорит твой сын, он настрелял тебе дичи и приготовил кушанье.
— Это другое дело, — ответил Ицхак из шатра. — Если так, то войди.
Иаков вошел в полумрак шатра, в глубине которого возвышалась глинобитная, покрытая подстилкой лавка, где, закутавшись в плащ, с тряпочками на глазах, лежал Исаак; лежал на подголовнике с бронзовым полукольцом, который возносил ему голову. Он спросил снова:
— Кто же ты?
И отказывающимся служить голосом Иаков ответил:
— Я Исав, космач, больший твой сын, и сделал, как ты велел. Приподнимись, сядь и подкрепи душу свою, отец мой. Вот кушанье.
Но Исаак еще не приподнимался. Он спросил:
— Неужели так скоро встретилась тебе дичь, неужели так быстро оказалась она перед тетивой твоего лука?
— Твой господь, бог твой, послал мне удачу, — отвечал Иаков, и голос прозвучал только в отдельных слогах, остальные были произнесены шепотом. Он сказал «твой бог» из-за Исава; ведь бог Исаака не был богом Исава.
— Что чудится мне? — спросил Исаак снова. — Твой голос невнятен, старший мой сын Исав, но мне слышится в нем голос Иакова.
От страха Иаков не знал, что ответить, и только дрожал. Но Исаак кротко сказал:
— Голоса братьев бывают сходны, и слова звучат в их устах совсем одинаково. Подойди же ко мне, я ощупаю тебя и погляжу зрячими своими руками, Исав ли ты, старший мой сын, или нет.
Иаков повиновался. Он поставил все, что ему вручила мать, и подошел ближе, давая ощупать себя. Подойдя, он увидел, что отец привязал к голове тряпочки ниткой, чтобы они не упали, когда он приподнимется, — точно так, как прикрепила Ревекка противные шкурки.
Растопырив остропалые свои руки, Исаак немного пошарил в пустоте, прежде чем наткнулся ими на приблизившегося к постели Иакова. Затем эти худые, бледные руки нашли его, и, ощупывая не прикрытые платьем места, шею, плечи, тыльные стороны ладоней, прикасались повсюду к шерсти козлят.
— Да, — сказал он, — конечно, теперь я убедился, это — твое руно, это красные космы Исава, я вижу их зрячими своими руками. Голос похож на Иаковлев, но волосы Исавовы, а они решают дело. Ты, значит, Исав?
— Ты это видишь и говоришь, — ответил Иаков.
— Так дай мне поесть! — сказал Исаак и сел.
Плащ повис у него на коленях. Иаков взял миску с едой, сел на корточки у ног отца и протянул ему миску. Но Исаак сначала склонился над ней, с обеих сторон положив руки на волосатые руки Иакова, и понюхал кушанье.
— Хорошо! — сказал он. — Хорошо приготовлено, сын мой! В кислых сливках, как я приказал, и с кардамоном, и с тимьяном и с тмином.
И он назвал еще несколько пущенных в дело приправ, которые различал его нюх. Затем он кивнул головой и принялся есть.
Он съел все, и длилось это долго.
— Есть ли у тебя и хлеб, Исав, сын мой? — спросил он, не переставая жевать.
— Разумеется, — отвечал Иаков. — Пшеничные лепешки и масло.
И, отломив кусок хлеба, он обмакивал его в масло и клал в рот отцу. Тот жевал и снова принимался за мясо, он поглаживал себе бороду и одобрительно кивал головой, а Иаков глядел вверх, в лицо ему, и рассматривал его лицо, покуда он ел. Оно было так нежно и так прозрачно, это лицо с маленькими впадинами щек, поросших жидкой седой бородой, и с большим, хрупким носом, ноздри которого были продолговаты и тонки, а изогнутая переносица походила на лезвие отточенного ножа, — такая была в нем, несмотря на тряпки с примочкой, священная одухотворенность, что ни это жеванье, ни эта убогая трапеза никак не вязались с ним. Было даже немного совестно видеть, как он ест, и казалось, что ему и самому должно быть совестно, когда его видят за этим занятием. Но возможно, что тряпочки на глазах защищали его от такой неловкости; во всяком случае, он спокойно жевал своей хрупкой, в жидкой бороде, нижней челюстью, и так как в миске были только лучшие куски, он вообще ничего не оставил.
— Дай мне пить! — сказал он затем.
И тогда Иаков поспешно подал ему кувшин с вином и сам поднес его к губам одержимого послеобеденной жаждой отца, а тот снова положил руки на шкурки, привязанные к тыльным сторонам рук Иакова. Но когда Иаков оказался так близко от отца, тот почуял своими тонкими, продолговатыми ноздрями запах нарда, исходивший от его волос, и запах полевых цветов, исходивший от его платья, оторвался от вина и сказал:
— Это поистине поразительно, как благоухают нарядные одежды моего сына! Точно так же, как поля и луга в молодом году, когда господь благословит их цветами во множестве, чтобы усладить наши чувства.
И, чуть приподняв с краю двумя острыми пальцами одну из тряпочек, он сказал:
— Ты в самом деле Исав, больший мой сын?
Иаков засмеялся смехом отчаяния и ответил вопросом:
— Кто же еще?
— Тогда все хорошо, — сказал Исаак и надолго приложился к вину, отчего нежный его кадык поднимался и опускался под бородой. Затем он приказал полить ему воды на руки. Когда же Иаков сделал и это и вытер ему руки, отец сказал:
— Да свершится же!
И, могуче взбодренный едой и питьем, с раскрасневшимся лицом, он возложил руки на съежившегося и дрожавшего, чтобы благословить его изо всех сил, и так как душа его была сильно подкреплена трапезой, слова его были полны всей мощи и всего богатства земли. Он отдал ему тук ее и женскую ее пышность, и в придачу росу и влагу мужскую неба, отдал все плоды полей, деревьев и лоз, и непрестанное умножение стад, и по два настрига шерсти в году. Он поручил ему завет, возложил на него обетование, велел передать созданное будущим временам. Как поток, лилась его речь и звенела. Главенство в борьбе света и тьмы завещал он ему и победу над змеем пустыни, он нарек его прекрасной луной, а также источником перемен, обновленья и великого смеха. Застывшим заклятием, которое уже бормотала Ревекка, он тоже воспользовался; древнее, ставшее уже тайной, оно по точному своему смыслу не совсем подходило к данному случаю, поскольку братьев налицо было только два, но все-таки Исаак торжественно произнес и его: пусть служат благословенному сыны его матери и пусть падут все его братья к умащенным его ногам. Затем он трижды выкликнул имя бога, сказал: «Да будет так!» — и выпустил Иакова из своих рук.
Тот помчался прочь, к матери. А немного позже вернулся Исав с диким козленком, которого он убил из лука, — и тут эта история приняла веселый и страшный оборот.
Ничего из того, что последовало, Иаков не видел собственными глазами, да и не хотел видеть; он тогда спрятался. Но с чужих слов он знал все доподлинно и вспоминал обо всем так, словно сам был при этом.
Возвращаясь, Исав находился еще в почетном своем положении; о том, что за это время произошло, он решительно ничего не знал, ибо для него эта история еще не продвинулась настолько далеко. Радостно-самодовольный, напыщенный, шагал он с козлом на спине и с луком в волосатой руке, красуясь собой, рисуясь: он очень высоко вскидывал ноги и, хмуро сияя, вертел головой во все стороны — поглядеть, видят ли его в час его славы и возвышенья, и уже издали снова принялся бахвалиться и разглагольствовать — на досаду и на потеху всем, кто слышал его. А сбежались и те, кто видел, как входил к господину и выходил от него окосмаченный Иаков, и те, которые не видели этого сами. Но жены и дети Исава не вышли, хотя он опять призывал их в свидетели своего величия и чванства.
Люди сбегались и смеялись, глядя, как он печатает шаг, они окружали его тесной толпой, чтобы посмотреть и послушать, что будет дальше. А он, не переставая во всеуслышанье похваляться, стал на виду у всех свежевать, потрошить и разрубать на части свою добычу, высек огонь, поджег хворост, повесил котел над костром и принялся выкрикивать приказанья смеявшимся зрителям, посылая их за другими предметами, необходимыми для его почетной стряпни.
— Эге-гей, зеваки благоговеющие! — покрикивал он хвастливо. — Принесите-ка мне большую вилку! Принесите мне кислого овечьего молока, ведь в молоке он упишет это за милую душу! Принесите мне соли с соляной горы, лодыри, тащите сюда кишнец, мяту, чеснок и горчицу — пощекотать ему глотку, я накормлю его так, что сила из него хлынет! Еще принесите мне хлеба из муки шолет, чтобы он заедал им, и еще, бездельники, масла, выдавленного из плодов, и процеженного вина, только чтоб в кувшин не попало гущи, а не то залягай вас белый лошак! Бегом, живее! Ведь сегодня праздник кормленья Исаака и благословения, праздник Исава, сына, которого господин послал за дичью для кушанья, героя, которого он благословит в шатре еще до того, как кончится этот час!
Он продолжал орудовать языком и руками, крича «эге-гей», выспренне жестикулируя и громогласно разглагольствуя о любви к нему отца и насчет большого дня космача, и дворня только корчилась, только животы надрывала от смеха, только хохотала до слез, до упаду. А когда он отправился со своим фрикасе, когда он понес его перед собой, как дарохранительницу, снова так же фиглярски вскидывая ноги и хвастаясь в продолженье всего пути до шатра отца, они заорали от восторга, захлопали в ладоши, затопали ногами, а потом притихли. И у занавески шатра Исав сказал:
— Это я, отец мой, я несу тебе, чтобы ты благословил меня.
Изнутри донесся голос Исаака:
— Кто говорит «я» и хочет войти к слепому?
— Это Исав, твой космач, — отвечал Исав. — Он застрелил и сварил что нужно для подкрепленья, как ты приказал.
— Ах ты, глупец и разбойник, — послышалось в ответ. — Зачем ты лжешь мне? Исав, первенец мой, давно уже побывал здесь, он накормил меня, и напоил, и ушел с благословением.
От ужаса Исав чуть не уронил всю свою ношу, он зашатался и задрожал, и подливка из кислого молока расплескалась и замарала его. Домочадцы оглушительно хохотали. В изнеможенье от этой потехи они качали головами, вытирали кулаками слезы и стряхивали их наземь. Исав же незвано ринулся в шатер, и наступила тишина, во время которой стоявшие снаружи зажимали себе ладонями рты и толкали друг друга локтями. Вскоре, однако, из шатра донесся вопль, совершенно неслыханный, и оттуда выбежал Исав — не с красным, а с фиолетовым лицом и с высоко поднятыми руками.
— Проклятье, проклятье, проклятье, — кричал он изо всех сил, как ныне порой скороговоркой выкрикивают при какой-нибудь маленькой неприятности. Но тогда и в косматых устах Исава это был новый и свежий возглас, полный первоначального смысла, ибо он сам был действительно проклят и торжественно обманут, а не благословен, и стал небывалым посмешищем.
— Проклятье, — кричал он, — проклятье, обман и позор!
Затем он сел на землю и выл, далеко высунув язык и роняя крупные, как орешины, слезы, а люди кружком стояли около него и держались за поясницы, — так они ныли у них от великой потехи: ведь у Исава, у красного, обманом отняли благословенье отца.
Иаков должен уехать
Затем было бегство, уход Иакова из дому, придуманный и устроенный Ревеккой, решительной и исполненной самых высоких побуждений родительницей, которая поступалась своим любимцем и шла на то, чтобы, может быть, никогда больше не увидеть его, лишь бы только он получил благословенье и передал его будущим временам. Она была слишком умна и дальновидна, чтобы не предусмотреть неизбежных последствий торжественного обмана; но она сознательно взяла их на себя, сознательно навязав их сыну, и пожертвовала своим сердцем.
Она сделала это молча, ведь и в ее подготовившем все необходимое разговоре с Исааком они обходили суть дела молчанием и о главном не заикались ни разу. Что Исав затевал месть в бестолковой своей душе, что в меру отпущенного ему воображения он старался найти способ поправить дело, не подлежало сомненью и было, так сказать, записано издавна. Способ, каким он делал Каиново свое дело, стал ей вскоре известен. Она узнала, что он бунтарски установил связь с Измаилом, человеком пустыни, сумрачным красавцем, отверженным. Ничего не могло быть естественнее. Оба были одного племени обездоленных: брат Ицхака, брат Иакова; они шли по одним и тем же стопам, неугодные, отставленные; они должны были найти друг друга. Дело обстояло хуже, и опасность шла дальше, чем предвидела Ревекка, ибо кровавые желанья Исава распространялись не только на Иакова, но и на Исаака тоже. Она узнала, что Исав предложил Измаилу, чтобы тот убил слепого, после чего он, Исав, взялся бы за гладкого. Исав боялся Каинова преступленья, боялся стать из-за него еще больше, еще явственнее самим собой. Поэтому он хотел, чтобы дядя ободрил его своим примером. Несговорчивость Измаила дала его невестке время действовать. Тому не понравилось предложенье Исава. Трогательные воспоминания о чувствах, которые он когда-то испытывал к нежному своему брату и которые послужили поводом к его, Измаила, изгнанию, мешают ему, намекнул он, поднять руку на Исаака. Пусть Исав сделает это сам, а потом он, Измаил, пустит стрелу в затылок Иакову с такой меткостью, что она вылетит через кадык и уложит на месте обласканного подобным способом.
Это было похоже на дикого Измаила — затеять такое. Он придумал что-то новое, а у Исава на уме было только традиционное братоубийство. Он вообще не понимал, о чем говорит Измаил, и думал, что тот заговаривается. Отцеубийство — такой возможности его мышленье не допускало, такого никогда не случалось, такого на свете не было, предложенье Измаила было нелепо, это было предложенье, по природе своей бессмысленное. Отца можно было разве что оскопить серпом, как оскопили Ноя, но убить его — это была беспочвенная болтовня. Измаил смеялся над остолбенелой несообразительностью племянника. Он знал, что его предложенье совсем не беспочвенно, что такое бывало, и еще как, и было, возможно, началом всего, что Исав просто слишком недалеко идет вспять, довольствуясь слишком поздними началами, если думает, что такого не бывало на свете. Он сказал ему это, он сказал ему еще больше. Измаил сказал ему такое, что у Исава, едва он это услышал, шерсть встала дыбом и он убежал. Он рекомендовал ему, убив отца, обильно поесть его мяса, чтобы присвоить себе мудрость его и силу, благословенье Аврамово, которое тот носит, причем для этой цели мясо Исаака не следовало варить, а надо было съесть сырым с костями и кровью, — после чего Исав и убежал.
Он пришел, правда, снова, но переговоры племянника и дяди о распределении кровавых ролей затянулись, и Ревекка выиграла время для предупредительных мер. Она ничего не сказала Исааку о том, что, по ее сведеньям, замышляли — пока еще туманно — близкие родственники. Супруги говорили только об Иакове, да и о нем не по поводу опасности, которая ему, как Исаак тоже, наверно, знал, угрожала, — вне всякой связи, следовательно, с недавним обманом и гневом Исава (об этом молчали, и только), а лишь в том смысле, что Иаков должен уехать, и уехать в Месопотамию, в гости к арамейской родне, ибо если он останется здесь, то можно опасаться, что он — и он тоже! — вступит в какой-нибудь пагубный брак. Если Иаков, говорила Ревекка, возьмет себе жену из дочерей этой земли, хеттеянку, которая, как жены Исава, притащит в дом мерзостных своих идолов, то она, Ревекка, спрашивает Исаака всерьез, для чего ей тогда и жить. Исаак кивал головой и соглашался: да, она права, Иакову действительно следует поэтому на время уехать. На время — Иакову она тоже сказала так, и она верила в эти слова, она надеялась, что она вправе в них верить. Она знала Исава, это был человек взбалмошный, но легкий, он забыл бы. Сейчас он жаждал крови, но легко мог отвлечься. Она знала, что, навещая Измаила в пустыне, он по уши влюбился в его дочь Махалафу и собирался взять ее в жены. Возможно, что уже теперь мирное это дело занимало его недалекий ум больше, чем план мести. Когда он совсем забудет о нем и успокоится, она уведомит об этом Иакова, и тот снова припадет к ее груди. А покамест его с распростертыми объятьями примет ради нее брат ее Лаван, сын Вафуила, живущий в семнадцати днях пути отсюда, в земле Арам Нахараим. Так было устроено бегство, так был Иаков тайно снаряжен для путешествия в Арам. Ревекка не плакала. Но она долго не отпускала его в тот рассветный час, гладила его щеки, увешивала амулетами его и его верблюдов, прижимала его к себе и думала в глубине души, что, если ее или другой какой-нибудь бог захочет того, она, может быть, не увидит Иакова больше. Так и вышло. Но Ревекка ни в чем не раскаивалась ни тогда, ни позднее.
Иаков должен плакать
Мы знаем, что было с путником в первый же день, нам известны его униженье и возвышенье. Но возвышенье было внутренним, оно было великим виденьем души, а униженье, наоборот, физическим и реальным, как путешествие, которое ему пришлось проделать под знаком этого униженья и в роли его жертвы: нищим и в одиночестве. Дорога была далека, а он не был Елиезером, которому «земля скакала навстречу». Он много думал об этом старике, Аврамовом старшем рабе и гонце, который похож был на праотца лицом, как все говорили, и проделал этот же путь с великой миссией — привезти Исааку Ревекку. Тот ехал совсем по-другому, представительно и сообразно своему положению, у того было десять верблюдов и вдоволь всего необходимого и лишнего, как у него, Иакова, самого перед этой проклятой встречей с Елифазом. Почему так угодно было вседержителю богу? Почему он наказывал его столькими тяготами и невзгодами? А что дело идет о наказанье, об искупительной каре за Исава, казалось ему несомненным, и во время утомительно-убогого своего путешествия он много думал о нраве господа, который, конечно, хотел того, что случилось, и содействовал этому, а теперь мучил его, Иакова, и взыскивал с него горькие Исавовы слезы, правда, как бы только приличия ради и в доброжелательно неточной пропорции. Ведь как ни были тягостны все его злоключения, разве можно было оплатить ими по достоинству его преимущество и вечную обиду брата? Задавая себе этот вопрос, Иаков усмехался в бороду, которая выросла во время пути на его уже темно-коричневом и худом, блестевшем от пота, окутанном влажным и грязным покрывалом лице.
Был разгар лета, месяц ав, стояла безнадежная жара и сушь. Слой пыли, толщиной с палец, лежал на кустах и деревьях. Расслабленно сидел Иаков на хребте своего нерегулярно и плохо кормившегося верблюда, чьи большие, мудрые, облепленные мухами глаза глядели все утомленнее и печальнее, и закутывал лицо, когда мимо проезжали встречные путники. Или же, чтобы облегчить животное, он вел его в поводу, и тогда верблюд шагал по одной из параллельных тропинок, из которых состояли дороги, а сам он шел по соседней, меся ногами каменистую пыль. Ночевал он под открытым небом, в поле, у подножья дерева, в масличной роще, у деревенской стены, где придется, и часто ему приходилось прижиматься к своему животному, чтобы согреться добрым теплом его тела. Ибо ночи часто случались холодные, как в пустыне, и, будучи неженкой и сыном хижины, он сразу же простудился во сне и вскоре, как чахоточный, кашлял среди дневного зноя. Это очень мешало ему, когда он добывал пропитанье; для того чтобы есть, он должен был говорить, рассказывать, занимать людей описанием злосчастного приключенья, из-за которого он, сын такого славного дома, впал в нищету. Он рассказывал об этом приключении в селеньях, на рынках, у наружных колодцев, водой которых ему разрешалось поить своего верблюда и умываться. Мальчики, мужчины и женщины с кувшинами обступали его и слушали его прерываемую кашлем, но вообще-то искусную и живую речь. Он называл себя, хвалил свое происхожденье, подробно описывал барскую жизнь, которую вел дома, особо останавливаясь на жирной и душистой еде, которую ему подавали, а затем живописал ту любовь и богатую обстоятельность, с какой он, первородный сын, был снаряжен для этого путешествия, путешествия в Харран, что в земле Арам, на восход и на полночь, по ту сторону воды Прата, где живут его родственники, чье почетное среди тамошних жителей положенье неудивительно, так как родственники эти владеют несметным количеством мелкого скота. К ним-то его и послали из дому, а мотивы его миссии были частью торгово-деловые, частью же религиозно-дипломатические, но все — необычайной важности. Он подробнейшим образом описывал подарки и меновые ценности, находившиеся в его клади, украшенья своих верблюдов, оружие княжеской своей охраны, лакомые припасы для него и для свиты, и его жадные до впечатлений слушатели, которые хорошо знали, что иной и прилгнет, но дружно отказывались отличать от правды складную ложь, широко раскрывали рты и глаза. Вот, стало быть, как он выехал, но, увы, некоторые местности кишмя кишат разбойниками. На него напали совсем юные разбойники, но невероятно наглые. Когда его караван проходил по ложбине, они, пользуясь огромным своим численным превосходством, отрезали ему путь вперед и назад и не дали возможности отойти в сторону, и начался бой, который останется в памяти человечества самым волнующим событием этого рода, бой, который Иаков описывал во всех подробностях, останавливаясь на каждом ударе, броске и рывке. Ложбина наполнилась трупами людей и животных; он один уложил семижды семерых юных разбойников, и без малого столько же уложил каждый его провожатый. Но, увы, превосходящие силы врагов были неодолимы; один за другим падали его люди вокруг него, и после многочасовой борьбы, оставшись в полном одиночестве, он вынужден был наконец просить позволенья дышать.
Почему же, спросила одна женщина, не убили и его?
На это и был расчет. Главарь разбойников, самый юный и самый наглый из них, занес уже над ним меч, чтобы поразить его насмерть, но тогда, в бедственный этот миг, он, Иаков, призвал своего бога и выкликнул имя бога своих отцов, и меч кровожадного юнца распался в воздухе на семижды семьдесят мелких частей. Такой оборот дела ошеломил мерзкое дитя, поразил его страхом, и оно пустилось наутек со своими молодчиками, забрав, однако, все имущество Иакова, почему тот и оказался нищим и голым. Нищий и голый, он преданно продолжал свое путешествие, у цели которого его ждали сплошной бальзам, молоко и мед, а в качестве одежды пурпур и тонкое полотно. Но покамест, увы, ему негде даже приклонить голову и нечем унять пронзительный крик своего желудка, ведь в животе у него давно не было ни травинки.
Он бил себя в грудь, и то же делали его слушатели у рыночных лотков и у водопоев, его рассказ будоражил их и волновал; они называли позором то, что такие случаи еще бывают на свете и что дороги настолько опасны. У них здесь, говорили они, есть караулы на дорогах, через каждые два часа — караул. А потом они кормили побитого лепешками, клецками, огурцами, чесноком и финиками, иной раз даже голубями или уткой, а верблюду его задавали сена или даже зерна, так что животное тоже подкреплялось для дальнейшего путешествия.
Так двигался он вперед, против течения Иордана, во впалую Сирию, к теснине Оронта и к подножию Белых гор, но продвиженье было медленным, ибо способ, каким он добывал себе хлеб, требовал много времени. В городах он захаживал в храмы, беседовал со жрецами о делах божественных и располагал их к себе своей образованностью и остроумной речью, так что они разрешали ему подкрепиться и поживиться в кладовых бога. На своем пути он видел много прекрасного и священного, видел, как сверкает словно бы огненными каменьями царственная гора крайнего севера, и молитвенно восхитился ею, видел земли, превосходно орошенные горными снегами, где высокие, тонкие стволы пальм подражали чешуйчатым драконьим хвостам, где темнели кедровые и смоковные рощи, а иные деревья угощали его гроздьями сладких, мучнистых плодов. Он видел кишевшие людьми города, видел Димашки, утопавший в плодовых лесах и волшебных садах. Там он увидел солнечные часы. Оттуда же он со страхом и отвращеньем увидел пустыню. Она была красная, как и полагалось. Одетая багровой дымкой, она уходила на восток, море порока, обиталище злых духов, преисподняя. Да, преисподняя была теперь уделом Иакова. Бог посылал его в пустыню за то, что он исторг у Исава громкий и горький вопль — как того пожелал бог. Круг его пути, приведший его на взгорье Вефиля к такому отрадному вознесенью, привел его теперь к закату, к спуску в ад, и кто знал, какие беды, какие драконы ждали его там, внизу! Он заплакал, когда, качаясь на горбе верблюда, достиг пустыни. Впереди него бежал шакал, длинный, остроухий, грязно-желтый, лежевесно вытянув хвост, зверь печального бога, недобрая тварь. Он бежал перед ним, временами подпуская всадника так близко, что тот слышал едкий его запах, он поворачивал к Иакову собачью свою морду, глядел на него своими маленькими, безобразными глазками и трусил дальше, издав короткий смешок. Знания и мышленье Иакова были слишком богаты ассоциациями, чтобы он не узнал его, открывателя вечных путей, проводника царства мертвых. Иаков был бы очень удивлен, если бы тот не бежал впереди него, и он несколько раз прослезился, следуя за шакалом в те пустынные, безотрадные места, где сирийская земля переходит в нахаринскую землю, и проезжая то среди осыпей и проклятых скал, то через каменные поля, то по глинистому песку, то по выжженной степи, то сквозь высохшие заросли тамариска. Он довольно хорошо знал свой путь, путь, которым когда-то в обратном направленье следовал праотец, сын Фарры, когда он, посланный на запад, пришел оттуда, куда теперь направлялся Иаков, посланный на восток. Мысль об Аврааме несколько утешала его среди безлюдья, нет-нет да являвшего, впрочем, следы человеческого попеченья и ухода за дорогой. Иногда на пути попадалась глиняная башня, на которую можно было взобраться, во-первых, для обозренья местности, а также при угрозе нападенья на путника диких зверей. Время от времени встречались даже хранилища дождевой воды. Но больше всего было дорожных указателей, столбов и камней с надписями, позволявших передвигаться даже ночью, при хоть сколько-нибудь прекрасной луне, и служивших, несомненно, еще Авраму во время его путешествия. Воздавая хвалу богу за блага цивилизации и руководствуясь Нимродовыми путеводными знаками, Иаков двигался к воде Прату, а именно к тому месту, к которому он предполагал и куда ему действительно надлежало выйти, — где Широчайший, прорезав с полуночи горы, вырывается из ущелий на равнину и успокаивается. О, этот великий час, когда Иаков, стоя наконец в иле и камышах, поил бедное свое животное желтой водой! Реку пересекал плавучий мост, а на том берегу лежал город; но это не был еще дом лунного бога, город дороги и город Нахора. Тот был еще далеко на востоке, за степью, которую надо было пересечь с помощью дорожных знаков, под небесными светилами ава. Семнадцать дней? Ах, для Иакова дней набежало гораздо больше из-за необходимости непрестанно повторять свою кровавую разбойничью сказку, он не знал, сколько именно, он перестал их считать, он знал только, что земля отнюдь не скакала ему навстречу, а скорее уж делала обратное, и по мере сил отдаляла цель его усталого странствия. Но он навсегда запомнил, — он говорил об этом и на смертном одре, — как потом, когда он полагал эту цель еще далекой, в тот миг, когда он меньше всего надеялся достигнуть ее, она вдруг нечаянно оказалась достигнута или почти достигнута, как цель эта все-таки словно бы вышла ему навстречу вместе с самым лучшим и дорогим, что могла показать и что Иаков некогда, после негаданно долгой задержки, увел оттуда.
Иаков прибывает к Лавану
Однажды — дело шло уже к вечеру, солнце садилось у него за спиной в бледное марево, и слитная тень всадника и верблюда, плывшая по степи, вытянулась в длину, — итак, однажды, на исходе дня, не становившегося, однако, прохладнее, а пылавшего под медным небосводом безветренным зноем, от которого воздух, как будто он вот-вот вспыхнет, мерцал над сухой травой, а у Иакова язык присыхал к небу, ибо со вчерашнего дня у него не было во рту ни капли воды, — он увидел, отупело качаясь в седле, между двумя холмами, служившими воротами в длинной волнистой гряде, что-то живое далеко на равнине, и его зоркие, несмотря на усталость, глаза тотчас же разглядели сгрудившееся вокруг колодца овечье стадо, собак, пастухов. Он испуганно встрепенулся от счастья и послал благодарственный вздох Иа, но на уме у него было только одно: «Вода!», и, прищелкивая пальцами, во всю мощь пересохшего горла, он кричал это слово своему животному, которое и само почуяло уже эту благодать, вытянуло шею, раздуло ноздри и, напрягши от радости силы, ускорило шаг.
Вскоре он был уже так близко, что мог различить цветные метки на спинах овец, лица пастухов под наголовниками от солнца, волосы у них на груди, браслеты у них на руках. Псы зарычали и залаяли, не переставая следить за овцами, чтобы те не разбредались; но пастухи беззаботно прикрикнули на собак, потому что не боялись одинокого путника и видели, вероятно, что он еще издали мирно и вежливо приветствовал их. Пастухов было четверо или пятеро, как помнилось Иакову, с двумя примерно сотнями овец из породы крупных курдючных, как он определил наметанным глазом, и пастухи праздно стояли или сидели вокруг колодца, который был еще закрыт круглым камнем. Все они были вооружены пращами, а один из них пощипывал струны лютни. Иаков тогда сразу же заговорил с ними, назвав их «братьями», и, приложив руку ко лбу, крикнул наудачу, что бог их велик и могуч, хотя не знал толком, под каким они богом. Но в ответ на это, как и в ответ на все другое, что он говорил, они только переглядывались и качали головами, вернее, водили ими от плеча к плечу, с сожаленьем прищелкивая языком. Удивляться тут было нечему, они, конечно, его не поняли. Но среди них нашелся один, с серебряной монетой на груди, он назвал свое имя — Иерувваал и был, по его словам, родом из страны Амурру. Он говорил не совсем так же, как Иаков, но очень похоже, так что они друг друга понимали, и пастух Иерувваал мог служить толмачом, переводя слова Иакова на их тарабарское наречие. Они поблагодарили его за дань уваженья, отданную силе их бога, пригласили его посидеть с ними и представились по именам. Их звали Вулутту, Шамаш-Ламасси. Пес Эй и еще как-то в подобном роде. После этого им не пришлось спрашивать у Иакова, как его зовут и каково его происхождение; он сам поспешил сообщить им то и другое, не преминув горько намекнуть для начала на дорожное приключенье, ввергшее его в нищету, и попросил прежде всего воды для своего языка. Ему подали глиняную бутылку, и хотя вода в ней была уже теплая, он осушил ее с великим блаженством. Верблюду же его пришлось подождать, да и овец тоже, казалось, еще не поили, поскольку камень еще лежал на дыре колодца и по какой-то причине никому не приходило на ум отвалить его.
Откуда родом его братья, спросил Иаков.
— Харран, Харран, — отвечали они. — Бел-Харран, владыка дороги. Великий, великий. Самый великий.
— Во всяком случае, один из самых великих, — сказал Иаков с достоинством. — Но как раз в Харран я и направляюсь! Это далеко отсюда?
Он был совсем недалеко. Город находился за поворотом гряды холмов. С овцами до него можно было добраться за час.
— Чудо господне! — воскликнул Иаков. — Значит, я на месте! После более чем семнадцати дней пути! Просто не верится!
И он спросил их, знают ли они, коль скоро они из Харрана, Лавана, сына Вафуила, Нахорова сына.
Они отлично его знали. Он жил не в городе, а всего в получасе ходьбы отсюда. Они ждали его овец.
Здоров ли он?
Вполне здоров. А что?
— А то, что я о нем слышал, — сказал Иаков. — Вы ощипываете своих овец или стрижете их ножницами?
Они все надменно отвечали, что, конечно, стригут. Неужели у него дома их ощипывают?
— Нет, как можно, — отвечал он. — В Беэршиве и вообще в тех местах ножницы тоже никому не в диковинку.
Затем они вернулись к Лавану и сказали, что ждут Рахиль, его дочь.
— Об этом я и хотел вас спросить! — воскликнул он. — Насчет ожиданья! Я давно уже дивлюсь на вас. Вы сидите вокруг закрытого колодца и камня колодца, как сторожа, вместо того чтобы отвалить камень от скважины и напоить скот. В чем тут дело? Правда, сейчас еще немного рано гнать стадо домой, но раз уж вы здесь, раз уж вы пришли к скважине, вы бы все-таки могли отвалить камень и напоить овец вашего господина, вместо того чтобы бить баклуши, даже если эта девица, которую вы назвали, как бишь ее, Лаванова дочь, еще не явилась.
Он говорил с рабами наставительно и как человек, стоящий выше их, хотя и называл их «братьями». Вода взбодрила его тело и душу, и он чувствовал свое превосходство над ними.
Посовещавшись на своем тарабарском наречье, они сказали ему через Иерувваала: так уже заведено, что они ждут, так оно и положено. Они не могут отвалить камень, напоить стадо и погнать его домой, пока не придет Рахиль с овцами своего отца, которых она пасет. Сначала нужно собрать все стада, а потом уже гнать скот домой, и когда Рахиль приходит к колодцу первой, раньше, чем они, она тоже ждет, чтобы они пришли и отвалили камень.
— Охотно верю, — усмехнулся Иаков. — Она делает это потому, что ей одной не отвалить крышку, тут нужны мужские руки.
Но они отвечали, что это безразлично, по какой причине она их ждет, так или иначе она ждет их, и поэтому они ждут ее тоже.
— Ладно, — сказал он, — пожалуй, вы даже правы, и пожалуй, иначе вам и не подобает вести себя. Жаль только, что моему верблюду приходится столько времени терпеть жажду. Как, сказали вы, зовут эту девицу? Рахиль? — повторил он. — Иерувваал, объясни-ка им, что это значит на нашем языке! Разве она и впрямь уже объяснилась, эта овечка, которая заставляет нас ждать?
О нет, сказали они, она чиста, как лилия в поле весной, как лепесток розы в росе, и мужские руки ей еще незнакомы. Ей двенадцать лет.
Видно было, что они относятся к ней почтительно, и невольно Иаков тоже проникся почтеньем к ней. Он, улыбаясь, вздохнул, ибо сердце его слегка екнуло от радостного любопытства при мысли о предстоявшем знакомстве с дочерью дяди. Через посредство Иерувваала он еще немного поболтал с ними о здешних ценах на овец, о том, что можно выручить за пять мин шерсти и сколько сила зерна в месяц жалуют им хозяева — покуда один из них не сказал: «Вот и она». Для времяпрепровожденья Иаков уже начал рассказывать кровавую свою сказку о юных разбойниках, но при этих словах он умолк и повернулся туда, куда указывала рука пастуха. Тут он и увидел ее впервые, судьбу своего сердца, невесту своей души, ту, ради глаз которой ему пришлось служить четырнадцать лет, овцу, мать агнца.
Рахиль шла посреди своего стада, которое плотно сбилось вокруг нее, потому что это скопище шерсти все время обегал, высунув язык, пес. В знак приветствия она подняла, держа его за середину, свой посох, пастушеское оружие, металлическая часть которого состояла из серпа или мотыги, при этом она склонила голову к плечу и улыбнулась, и впервые, издали уже, Иаков увидел ее очень белые, редкие зубы. Приблизившись, она перегнала семенивших перед нею овец, проложив себе дорогу концом посоха, и вышла из их толпы.
— Вот и я, — сказала она и, сначала сощурив глаза, как это делают близорукие люди, а потом подняв брови, добавила удивленно и весело: «Ба, чужеземец!» Чужой верблюд и незнакомая фигура Иакова должны были уже давно броситься ей в глаза, если она не была сверхблизорука, однако она не сразу показала, что заметила их.
Пастухи у колодца молчали и держались в стороне при встрече господских детей. Иерувваал тоже, казалось, решил, что они как-то уж договорятся между собой, и глядел в пустоту, жуя какие-то зерна. Под тявканье пса Рахили Иаков приветствовал ее поднятыми руками. Она ответила быстрым словом, а потом, в косом, цветном свете уходящего дня, окруженные овцами и окутанные их добродушным дыханьем, под высоким и широким бледнеющим небом, они стояли с самыми серьезными лицами друг против друга.
Дочь Лавана была сложена изящно, этого не могла скрыть и мешковатость ее длинного желтого одеяния с красной, в крапинах черных лун, каймой от шеи до подола над маленькими босыми ногами. Нехитро скроенное и даже не подпоясанное, оно сидело на ней приятно, наивно-удобно, но тесно облегая плечи, показывало трогательную их тонкость и хрупкость и имело узкие, кончавшиеся гораздо выше локтей рукава. Черные волосы девушки были скорее взлохмачены, чем кудрявы. Она была подстрижена очень коротко, во всяком случае короче, чем Иаков когда-либо видел дома у женщин, оставлены были только две длинные пряди, которые, падая от ушей и по обе стороны щек на плечи, завивались внизу. С одной из них она и играла, покуда стояла и глядела. Какое милое лицо! Кто опишет его обаянье? Кто расчленит совокупность всех отрадных и счастливых сочетаний, из каких жизнь, широко пользуясь наследственным добром и добавляя неповторимое, создает прелесть человеческого лица — очарование, которое держится на лезвии ножа, всегда висит, хотелось бы сказать, на волоске, ибо изменись лишь одна черточка, лишь один крохотный мускул, и уже ничего не останется и весь покорявший сердце обворожительный морок исчезнет начисто? Рахиль была красива и прекрасна. Она была красива красотой одновременно лукавой и кроткой, которая шла от души, видно было, — Иаков тоже видел это, ибо глядела Рахиль на него, — что за этой миловидностью кроются, как источник ее, дух и воля, обернувшиеся женственностью храбрость и ум. Так была она выразительна, так полна воплощенной готовности к жизни. Она смотрела прямо на него, держа одну руку у косицы и сжав другой посох, который был выше ее, и разглядывала похудевшего в дороге молодого человека в пропыленном, выцветшем, изношенном кафтане, с каштановой бородой на потемневшем от пота лице, которое не было лицом раба, — и несколько толстоватые крылья ее носика, казалось, потешно надувались, а верхняя губа чуть нависала над нижней, самопроизвольно, без всякого напряженья мускулов, образуя с ней в уголках рта нечто в высшей степени милое — спокойную улыбку. Но самым красивым и самым прекрасным было то, как она глядела, смягченный и своеобразно просветленный близорукостью взгляд ее черных, пожалуй, чуть косо посаженных глаз: этот взгляд, в который природа, без преувеличения, вложила всю прелесть, какой она только может наделить человеческий взгляд, — глубокая, текучая, говорящая, тающая, ласковая ночь, полная серьезности и насмешливости; ничего подобного Иаков еще не видел или полагал, что не видел.
— Тихо, Мардука! — воскликнула она, с укором наклонившись к неумолкавшему псу. А потом задала вопрос, который Иаков, и не понимая языка, легко угадал:
— Откуда пришел господин мой?
Он указал через плечо на закат и сказал:
— Амурру.
Она поискала глазами Иерувваала и, смеясь, кивнула ему подбородком.
— Какая даль! — сказала она лицом и устами. А затем явно попросила точнее назвать место, откуда он родом, заметив, что запад обширен, и назвав два или три тамошних города.
— Беэршива, — ответил Иаков.
Она насторожилась, она повторила. И ее рот, который он уже начал любить, назвал имя Исаака.
Лицо его дрогнуло, кроткие глаза увлажнились слезами. Он не знал людей Лавана и не торопился вступить с ними в общенье. Он был бесприютным пленником преисподней, он оказался здесь не по своей воле, и оснований для умиленья было немного. Но нервы его сдали, истощенные передрягами странствия. Он был у цели, и девушка с глазами сладостной темноты, которая назвала имя далекого его отца, была дочерью брата его матери.
— Рахиль, — сказал он, всхлипывая, и протянул к ней дрожащие руки, — можно мне поцеловать тебя?
— С какой стати тебе целовать меня? — сказала она и, смеясь, удивленно попятилась от него. Она еще не признавалась, что о чем-то догадывается, как прежде не сразу призналась, что заметила чужеземца.
А он, все еще протягивая к ней одну руку, упорно указывал на свою грудь.
— Иаков! Иаков! — говорил он. — Я! Сын Ицхака, сын Ревекки, Лаван, ты, я, дитя матери, дитя брата…
Она тихо вскрикнула. И хотя она, упираясь ладонью в его грудь, еще отстраняла его от себя, они, смеясь и оба со слезами на глазах, перечисляли друг другу общую родню, кивали головами, выкликали имена, знаками поясняли друг другу родословные, складывали указательные пальцы, скрещивали их или прикладывали левый лежевесно к кончику правого.
— Лаван — Ревекка! — восклицала она. — Вафуил, сын Нахора и Милки! Дед! Твой, мой!
— Фарра! — восклицал он. — Аврам — Исаак! Нахор — Вафуил! Авраам! Прадед! Твой, мой!
— Лаван — Адина! — восклицала она. — Лия и Рахиль! Сестры! Двоюродные сестры! Твои!
Они кивали головами и смеялись сквозь слезы, договорившись насчет кровной своей родни со стороны обоих его родителей и ее отца. Она подставила ему щеки, и он торжественно поцеловал ее. Три собаки с лаем прыгали вокруг них в том возбужденье, какое овладевает этими животными, когда люди, с добрыми или со злыми намерениями, друг до друга дотрагиваются. Пастухи дружно хлопали в ладоши и весело, глухим фальцетом, кричали: «Лу, лу, лу!» Так поцеловал он ее, сначала в одну щеку, потом в другую. Он запретил своим чувствам ощущать при этом прикосновении к ней что-либо, кроме нежности ее щек; он поцеловал ее благочестиво и церемонно. Но как все-таки ему повезло, что он смог поцеловать ее сразу, ведь ему уже вскружила голову приветливая ночь ее глаз! Иному приходится долго поглядывать, желать и служить, прежде чем ему будет даровано то умопомрачительное разрешенье, которое на Иакова просто с неба свалилось, потому что он был двоюродным братом из дальних краев.
Когда он отпустил ее, она, смеясь, потерла ладонями места, где ее оцарапала дорожная его борода, и воскликнула:
— Эй, Иерувваал! Шамаш! Буллуту! Скорей отвалите камень от ямы, чтобы овцы попили, и смотрите, чтобы они напились, ваши и мои, и напоите верблюда моего двоюродного брата Иакова, и будьте расторопны и сметливы, а я, не мешкая, побегу к Лавану, отцу моему, и скажу ему, что прибыл Иаков, его племянник. Отец в поле, недалеко отсюда, и он прибежит сюда в спехе и радости, чтобы его обнять. Управляйтесь побыстрей — и трогайтесь за мной, а я бегом…
Все это Иаков понял в общих чертах из жестов и тона, а кое-что и дословно. Он уже начал учиться местному языку ради ее глаз. И когда она побежала, он громко, чтобы она успела услышать, остановил пастухов и сказал:
— Эй, братья, прочь от камня, это забота Иакова! Вы охраняли его, как добрые сторожа, а я отвалю его от ямы для Рахили, двоюродной своей сестры, я один! Ибо дорога поглотила не всю силу мужских рук, и силу их мне пристало одолжить Лавановой дочери, отвалив этот камень, чтобы снять с луны черноту и чтобы круг воды стал прекрасен.
Они уступили ему место, а он стал изо всех сил отодвигать крышку, и хотя для этой работы требовался не один человек, а руки его были не самыми сильными, отвалил один увесистый этот камень. Толпясь и толкая друг друга, многоголосо заблеяли бараны, овцы и ягнята, и, фыркая, встал на ноги верблюд Иакова. Пастухи зачерпывали и разливали по колодам живую воду. Вместе с Иаковом они следили за овцами, отгоняли напившихся и подпускали к воде еще не пивших, и когда все утолили жажду, водрузили камень на яму и, прикрыв его дерном, чтобы места этого не было видно и колодцем без спроса никто не пользовался, погнали овец всех вместе домой — и Лавановых, и тех, что принадлежали их господам, а Иаков на своем верблюде возвышался среди толпившихся на ходу стад.
Персть земная
Вскоре довольно близко подбежал и потом остановился какой-то человек в шапке с затыльником. Это был Лаван, сын Вафуила. Он всегда подбегал при таких обстоятельствах, — несколько десятилетий, один недолгий человеческий век тому назад, он подбегал точно так же, — в тот раз, когда, застав у колодца свата Елиезера с его десятью верблюдами и людьми, сказал ему: «Войди, благословенный господом!» Теперь, с седой уже бородой, он подбежал снова, когда Рахиль сказала ему, что прибыл Иаков из Беэршивы — не раб, а внук Авраамов, его племянник. Остановился же он и предоставил приезжему самому подойти к нему по той причине, что на лбу у Рахили не увидел никакой золотой пряжки, а на руках у нее никаких запястий, как тогда на Ревекке, и еще оттого, что чужак этот прибыл явно не во главе богатого каравана, а совершенно один, и притом на ободранном, тощем верблюде. Поэтому Лаван не захотел ронять свое достоинство, побежав слишком далеко навстречу новоявленному племяннику, с недоверьем остановился, скрестил руки и стал ждать его приближенья.
Иаков прекрасно понимал это, со стыдом и болью сознавая свою нищету и жалкую свою зависимость. Ах, он явился не богатым посланцем, который мог шествовать уверенным шагом, обвораживая всех многошекельными подарками из своих вьюков и заставляя просить себя погостить лишний день или десяток дней. Он пришел с пустыми руками, бесприютным беглецом, который не может оставаться у себя дома и просит крова, и у него были все основанья для робкой униженности. Но он сразу распознал хмуро стоявшего перед ним человека и понял, что было бы неумно показаться ему таким уж несчастным. Поэтому он спешился без особенной торопливости, подошел к Лавану со всем достоинством своего рода и чинно приветствовал его, сказав:
— Отец мой и брат! Ревекка, твоя сестра, в знак своего внимания к тебе, послала меня сюда пожить некоторое время под твоей крышей, и я приветствую тебя от ее имени, как и от имени Ицхака, ее и моего господина, а также от имени общих отцов и призываю бога Авраама хранить твое здоровье, а равно здоровье твоей жены и детей.
— Я тоже, — ответил Лаван, который понял суть сказанного. — Ты, значит, в самом деле сын Ревекки?
— В самом деле! — отвечал Иаков. — Я первенец Ицхака, ты сказал это верно. Не смотри ни на мое одиночество, ни на мою одежду, которую солнце превратило в лохмотья. Уста мои объяснят тебе все это в должное время, и ты увидишь, что, хотя у меня нет ничего, кроме главного, главное все-таки со мной, и что, обратись ты ко мне словами: «Благословенный господом!» — ты попал бы в самую точку.
— Позволь же обнять тебя, — хмуро сказал Лаван, после того как пастух Иерувваал передал ему эти слова по-тарабарски, и, положив руки на плечи Иакову, наклонился рядом с ним сначала направо, потом налево и поцеловал воздух. У Иакова сразу сложилось весьма двойственное впечатленье от этого дяди. Между глазами у него было несколько недобрых складок, и один его глаз все время щурился, а в то же время казалось, что как раз этим, почти закрытым глазом он видит больше, чем другим, открытым. Это дополнялось, на той же стороне лица, явно преисподним изгибом рта, угол которого, в черно-седой бороде, паралично свисал, что походило на кислую ухмылку и тоже показалось Иакову сомнительным. Вообще же Лаван был человек сильный, его густые поседевшие волосы торчали и ниже затыльника, а одет он был в длинный, до колен, кафтан, за поясом которого торчали плетка и нож; узкие рукава не закрывали ниже локтя жилистых рук. Они, как и его мускулистые ноги, поросли черно-седым волосом, а заканчивались широкими, теплыми, тоже волосатыми кистями, кистями ограниченного кругом угрюмо-земных мыслей собственника, настоящей персти земной, как подумалось Иакову. При этом дядя мог бы быть даже красивым, у него были густые, совсем еще черные брови, мясистый нос, продолжавший линию лба, полные, заметные и в бороде губы. Глаза Рахиль унаследовала явно от него, — Иаков установил это с тем смешанным чувством узнаванья, растроганности и ревности, с каким знакомишься с наследственными чертами и естественной историей дорогого тебе существа: знакомство это радостно, поскольку позволяет нам проникнуть внутрь этого существа и как бы увидеть его насквозь, но чем-то, с другой стороны, и оскорбительно, а потому наше отношенье к таким прообразам представляет собой странную смесь уваженья и неприязни.
Лаван сказал:
— Ну, что ж, добро пожаловать, ступай за мной, чужеземец, называющий себя — хочу верить, по праву — моим племянником. Нашлось ведь у нас когда-то место для Елиезера, нашлись ведь солома и корм для его десяти верблюдов, найдутся они и для тебя и для этого верблюда, кроме которого у тебя, кажется, ничего нет. Подарков мать, значит, не послала с тобой, золота, одежд, пряностей или еще чего-нибудь?
— Она щедро нагрузила меня ими, можешь в этом не сомневаться, — отвечал Иаков. — А почему я прибыл без них, ты услышишь, когда я помою ноги и немного поем.
Он говорил нарочно нескромно, чтобы не уронить своего достоинства перед этой перстью земной, и тот удивился такой самоуверенности при такой нищете. Они больше не говорили, пока не дошли до усадьбы Лавана, где чужие пастухи отделились от них, чтобы погнать свой скот дальше, к городу, а Иаков помог дяде распределить овец по глинобитным загонам, увеличенным в высоту, для защиты от хищников, плетнями из камыша. С крыши дома за их работой следили три женщины; одна была Рахиль, другая — жена Лавана, третья — Лия, старшая дочь, страдавшая косоглазием. Дом, как и вообще весь поселок (ибо жилое здание было окружено еще несколькими хижинами из камыша и похожими на большие ульи амбарами), произвел большое впечатление на Иакова, жителя шатров, который, правда, на своем пути видел в городах дома куда лучшие, да и не хотел показывать ни малейшего восхищенья. Он даже с ходу побранил этот дом, небрежно бросил, что деревянная лесенка, которая вела на крышу снаружи, недостаточно хороша, и нашел, что ее следует заменить кирпичной лестницей, а кстати оштукатурить стены и снабдить нижние окна деревянными решетками.
— Лестница есть со стороны двора, — сказал Лаван. — Я своим домом доволен.
— Не говори так! — возразил Иаков. — Если человек доволен малым, то и бог не беспокоится о нем, не желает ему большего и не осеняет его благословляющей дланью. Сколько овец у моего дяди?
— Восемьдесят, — ответил хозяин.
— А коз?
— Около тридцати.
— А крупного скота совсем нет?
Лаван раздраженно кивнул бородой на глинобитно-камышовый загон, служивший, очевидно, хлевом для крупного скота, но не назвал числа.
— Будет больше, — сказал Иаков. — Больше скота, и притом всяческого.
И Лаван бросил на него хоть и мрачный, но за этой мрачностью испытующе-любопытный взгляд. Потом они направились к дому.
Ужин
Дом этот, стоявший среди множества более высоких, чем он, тополей, один из которых был сверху донизу опален молнией, представлял собой грубое, довольно скромное по размерам, уже несколько обветшалое строение из кирпича, хотя воздушность верхней его части придавала ему какое-то архитектурное изящество: его покрытая землей крыша с маленькими, из камыша, надстройками, только частично, посредине и по углам, опиралась на кирпичную кладку, а в промежутках — на деревянные столбы. Вернее было бы говорить о нескольких крышах, ибо и посредине дом был открыт и замыкал четырехугольником своих крыльев маленький дворик. Ступеньки из утрамбованной глины вели к входной двери пальмового дерева.
Два или три раба-ремесленника, один гончар и один пекарь, пришлепывавший куски ячменного теста к внутренней стенке маленькой своей духовки, трудились среди служб надворья, через которое проходили дядя и племянник. Служанка в набедреннике несла воду. Она набрала ее в ближайшей водоотводной канаве под названием Бел-Канал, орошавшей огороженные неподалеку Лавановы посевы ячменя и кунжута и получавшей воду, в свою очередь, из другой канавы — Эллил-Канала. Бел-Канал принадлежал одному городскому купцу, который прорыл его на свои средства и за потребленье воды взимал с Лавана обременительную плату маслом, зерном и шерстью. По ту сторону поля открытая степь волнисто убегала к самому горизонту, над которым возвышалась уступчатая башня харранского храма Луны.
Женщины, спустившись с крыши, ждали хозяина и его гостя в передней, куда те через пальмовую дверь и вошли и где в глиняный пол была вделана большая ступа, чтобы толочь зерно. Адина, жена Лавана, была довольно невзрачная пожилая женщина в ожерелье из разноцветных камней и в длинном покрывале поверх плотно облегавшего ее волосы чепца, своей безрадостностью выраженье лица ее напоминало выраженье лица ее супруга, только рисунок ее рта был не столько брюзглив, сколько горек. У нее не было сыновей, и этим тоже можно было отчасти объяснить мрачность Лавана. Позднее Иаков узнал, что в начальную пору брака у этой четы был самый настоящий сынок, но его, по случаю постройки дома, они принесли в жертву, то есть живьем, в глиняном кувшине, в придачу к светильникам и чашкам, похоронили в подстенье, чтобы снискать дому и хозяйству удачу и процветанье. Мало того, однако, что жертва эта не принесла особой удачи, Адина с тех пор была не в состоянии произвести на свет мальчика.
Что касается Лии, то сложеньем она отнюдь не уступала Рахили, а ростом и статностью даже превосходила сестру, но могла служить примером того, как безупречное телосложенье странно обесценивается некрасивым лицом. Правда, у Лии были необычайно пышные пепельные волосы, тяжелыми узлами падавшие на затылок из-под покрывавшей их сверху скуфейки. Но ее серо-зеленые глаза печально косились на длинный и красноватый нос, и красноваты были струпистые веки больных этих глаз, и руки ее, которые она старалась спрятать, как прятала и косой свой взгляд, постоянно опуская ресницы с каким-то стыдливым достоинством. «Вот, пожалуйста, тусклая луна и луна прекрасная», — подумал Иаков, разглядывая сестер. Заговорил он, однако, с Лией, а не с Рахилью, пересекая с Лаваном мощеный дворик, посреди которого высился камень для жертвоприношений, но та только с сожаленьем щелкнула языком, как это уже делали пастухи в поле, и, по-видимому, посоветовала Иакову прибегнуть к помощи толмача, чье ханаанское имя она произнесла несколько раз — домочадца, которого звали Абдхебой, того самого, как оказалось, что пек лепешки на внешнем дворе. Ибо он подал Иакову воду для ног и рук, когда по кирпичной, поднимавшейся дальше, до самой крыши лестнице все прошли в открытую верхнюю комнату, где протекал ужин, и сообщил, что родился в одной из урусалимских деревень, но был продан своими родителями в рабство только из-за нужды, и за двадцать сиклей — устойчивая эта цена явно определяла его умеренное чувство собственного достоинства — прошел уже через много рук. Он был мал ростом, седоволос и со впалой грудью, но речист и сразу же переводил все, что говорил Иаков, на местный язык, после чего с такой же легкостью и быстротой передавал ему смысл ответа.
Длинное, узкое помещенье, где они расположились, было местом довольно приятным и полным воздуха: сквозь опорные столбы крыши с одной стороны видна была темнеющая степь, а с другой — мирный четырехугольник вымощенного булыжником и завешенного цветными полотнищами внутреннего двора и деревянная его галерея. Смеркалось. Служанка в набедренной повязке, та, что тащила воду, принесла теперь огня от очага и зажгла три глиняных, на треногах, светильника. Затем она вместе с Абдхебой подала еду: горшок густой, заправленной кунжутным маслом мучной похлебки («Паппасу, паппасу!» — повторяла Рахиль с ребяческим ликованьем, забавно и сладострастно облизывая губы и хлопая в ладоши), не остывшие еще ячменные лепешки, редьку, огурцы, пальмовую капусту, а также напитки — козье молоко и воду из канала, запас которой висел в большой глиняной амфоре на одной из подпорок крыши. У наружной стены комнаты стояли два ларя, тоже глиняных, уставленных медными чашками, сосудами для смешиванья жидкостей, кружками; и ручная мельница была там. Кто как, сидели члены семьи вокруг низкого, обтянутого бычьей кожей стола: Лаван и его жена устроились рядом на лавке с прислоном, дочери, поджав ноги, — на камышовых, покрытых подушками сиденьях, а у Иакова были расписной глиняный стул без спинки и такая же скамеечка для ног. Паппасу ели двумя изготовленными из коровьего рога ложками, пользуясь ими поочередно: опорожнив ложку, каждый тотчас же наполнял ее из горшка и передавал соседу. Иаков, сидевший возле Рахили, всякий раз наполнял ей ложку до края, чем очень смешил ее. Лия видела это и косила сильнее, совсем уж удручающе.
За едой ничего сколько-нибудь значительного не говорилось, все замечания касались только самой пищи. Например, Адина говорила Лавану:
— Кушай, муж мой, все принадлежит тебе!
Или она говорила Иакову:
— Угощайся, чужеземец, услади усталую свою душу!
Или же кто-нибудь из родителей говорил одной из дочерей:
— Я вижу, ты норовишь съесть побольше и ничего не оставить другим. Если ты не умеришь свою жадность, ведьма Лабарту перевернет тебе внутренности, и тебя вырвет.
Абдхеба неукоснительно и самым точным образом переводил Иакову и эти мелочи, и тот поддерживал беседу уже на местном наречии, говоря, например, Лавану:
— Кушай, отец мой и брат, все твое!
Или Рахили:
— Угощайся, сестра, услади свою душу!
Абдхеба, как и служанка в набедреннике, ужинали одновременно с хозяевами, которым прислуживали, но с перерывами, присаживаясь время от времени на пол, чтобы наспех съесть редьку-другую и по очереди, из одной чашки, запить ее козьим молоком. Служанка — ее звали Ильтани — то и дело стряхивала кончиками пальцев обеих рук хлебные крошки с длинных своих грудей.
Когда с едой было покончено, Лаван велел принести хмельного себе и гостю. Абдхеба притащил мех с перебродившим полбенным пивом, и когда им были наполнены две кружки, в которых торчали соломинки, потому что на поверхности во множестве плавали зерна, Лаван, торопливо коснулся руками голов женщин, и те удалились, оставив мужчин одних. С Иаковом они тоже простились на ночь, и когда с ним прощалась Рахиль, он еще раз заглянул в приветливую ночь ее глаз и поглядел на белые, редкие зубы ее рта, когда она, улыбаясь, сказала:
— Много паппасу… в ложке… доверху!
— Авраам… прадед.», твой, мой! — отвечал он ей как бы для объяснения, снова поперечно кладя один указательный палец на кончик другого, и они закивали головами, как тогда в поле, и мать горько улыбнулась, Лия скосилась на свой нос, а лицо отца застыло в хмуром прищуре. Затем дядя и племянник остались одни в этой полной воздуха комнате, и только Абдхеба сидел возле них на полу, тяжело дыша после своих трудов, и переводил взгляд с губ одного на губы другого.
Иаков и Лаван заключают соглашенье
— Говори же, гость, — сказал хозяин, выпив, — и открой мне обстоятельства твоей жизни!
И тогда Иаков подробно рассказал ему все, совершенно правдиво и в точности так, как было на самом деле. Он разве что несколько приукрасил встречу с Елифазом, хотя и тут, считаясь с очевидными фактами, внешней своей наготой и нищетой, держался, по существу, правды. Время от времени, выложив достаточную, но еще обозримую толику сведений, он прерывал свой рассказ и делал рукой знак Абдхебе, который переводил, и Лаван, часто прикладывавшийся к пиву во время рассказа, слушал все это, угрюмо щурясь и качая изредка головой. Иаков повествовал объективно. Он не давал никаких оценок тому, что произошло между ним. Исавом и их родителями, он сообщал об этом свободно и богобоязненно, ибо все это сводилось к тому великому и решающему факту, который так или иначе был налицо во всей своей важности и лишал нынешнюю наготу его и нищету какого бы то ни было высшего значенья, — к тому факту, что благословенье было с ним а не с кем-то другим.
Лаван слушал это с тяжелым прищуром. Через свою соломинку он втянул в себя уже столько пива, что лицо его уподобилось ущербной луне, когда та поздно, зловеще-багровая, выходит в свой путь, а тело разбухло, отчего он расстегнул пояс, скинул кафтан и сидел в одной рубахе, скрестив свои мускулистые руки на полуобнаженной, мясистой, в завитках седовато-черных волос груди. Неуклюже наклонившись вперед, с круглой спиной, он сидел, поджав ноги, на своей лавке и, как человек искушенный в делах практических и хозяйственных, собирал сведенья об имуществе, которым хвалился его визави и которое он, Лаван, остерегался признать таким уж завидным. Он нарочно сомневался в этом имуществе. Оно казалось ему не свободным от долгов. Разумеется, Иаков на это всячески напирал: конечном счете Исав человек проклятья, а благословен его брат. Но и с благословеньем, если учесть способ, каким оно было получено, связана доля проклятья, которая, несомненно, как-то скажется. Таковы уж боги Все они одинаковы — здешние ли, с которыми Лаван, конечно, должен был ладить, или безымянный, вернее, не имеющий определенного имени бог Исааковых близких, которого он, Лаван, знал и тоже, до известной степени, признавал. Боги желают и заставляют действовать, а расплачивается человек. Над достояньем, на которое полагается Иаков, тяготеет долг, и спрашивается, с кого он взыщется. Иаков уверял, что он совершенно свободен и чист. Он почти не действовал, он просто предоставил случиться тому, что случиться должно было, и то с тяжелым внутренним сопротивленьем. Бремя лежит разве что на деятельной Ревекке, которая все подстроила. «Проклятье падет на мою голову!» — сказала она, сказала, правда, только на всякий случай, на случай, если отец распознает обман, но слова эти выражали ответственность, которую она взяла на себя, а его, дитя, она по-матерински считала ни в чем не повинным.
— Да, по-матерински, — сказал Лаван. После пива он тяжело дышал ртом, и верхняя часть его туловища косо осела вперед. Он выпрямил ее, и она, качнувшись, повалилась в другую сторону. — По-матерински, как все матери и родители. Как все боги.
Родители и боги благословляли своих любимцев одинаково двусмысленно. Благословенье их было силой и шло от силы, ведь и любовь была только силой, а боги и родители благословляли своих любимцев из любви сильной жизнью, сильной и своим счастьем и своим проклятьем. Вот как обстояло дело, вот что такое было благословение. «Проклятие падет на мою голову» — это только красивые слова, материнская болтовня, не знающая, что любовь — это сила, и благословенье — сила, и жизнь — это сила, и ничего больше. Ревекка — всего только баба, а он, Иаков, — благословенный, на имуществе которого лежит главное бремя расплаты за обман.
— С тебя взыщется, — сказал Лаван отяжелевшим языком и указал на племянника отяжелевшей рукой и отяжелевшим пальцем. — Ты обманул, и тебя обманут. Абдхеба, пошевели языком и переведи ему это, несчастный. Я купил тебя за двадцать шекелей, и если ты будешь спать, вместо того чтобы переводить, я на неделю закопаю тебя в землю по самые губы, болван!
— Тьфу ты, — сказал Иаков и плюнул. — Уж не проклинает ли меня отец мой и брат? В конце-то концов, я, по-твоему, кость от кости твоей и плоть от плоти твоей или нет?
— Да, — отвечал Лаван, — ничего не скажешь, ты действительно кость от кости и плоть от плоти моей. Ты правдоподобно рассказал мне о Ревекке, об Исааке и о красном Исаве, ты Иаков, сын моей сестры, это доказано. Дай мне обнять тебя. Но рассмотрим положенье вещей на основе твоих же данных и извлечем, каждый для себя, выводы по законам хозяйственной жизни. Я убежден в правдивости твоего рассказа, но у меня нет повода восхищаться твоей откровенностью, ведь чтобы объяснить свое положение, тебе только и оставалось, что быть откровенным. Итак, ты сказал раньше неправду, заявив, что Ревекка послала тебя сюда для того, чтобы оказать мне внимание. Тебе просто нельзя было оставаться дома, потому что Исав мог убить тебя за твои действия и за действия твоей матери, успеха которых я не хочу отрицать, но которые пока что сделали тебя нагим и нищим. Ты пришел ко мне не добровольно, а потому, что тебе негде было приклонить голову. Ты зависишь от меня, и я должен извлечь из этого вывод. Ты не гость в моем доме, а раб.
— Речь дяди моего правомерна, — сказал Иаков, — но его справедливость не сдобрена солью любви.
— Глупости, — отвечал Лаван. — Такова уж та естественная суровость хозяйственной жизни, с которой я привык считаться. Купцы из Харрана — это два брата, сыновья Ишуллану, — тоже требуют с меня, чего захотят, потому что мне очень нужна вода и они знают, что она мне нужна; вот они и требуют, что им заблагорассудится, и если я не заплачу, они продадут меня со всем моим добром, а выручку возьмут себе. Я тоже не хочу быть в мире простофилей. Ты от меня зависишь, значит, я тебя потрясу. Я не настолько богат и благословен, чтобы тешиться своим любвеобилием и устраивать в своем доме приемы всяким бездомным. Рабочих рук у меня всего-то и есть, что вот этот мозгляк да еще Ильтани, служанка, которая глупа, как курица и как квочка, а горшечник человек бродячий, он пробудет у меня только десять дней, по нашему договору, и когда приходит время жатвы или стрижки овец, я не знаю, где взять рабочие руки, — ведь платить я не могу. Давно уже не пристало Рахили, меньшей моей дочери, пасти овец, томясь днем от жары, а ночью от стужи. Ты будешь делать это за кров и за овощную пищу и ни за что больше, ибо тебе некуда податься и ты не волен назначать мне условия, — вот как обстоит дело.
— Я охотно буду ходить за овцами для дочери твоей Рахили, — сказал Иаков, — и служить ради нее, чтобы ей легче жилось. Я с детства пастух, я умею обращаться со скотом и думаю, что дело у меня пойдет. Я и так не собирался бить баклуши и сидеть у тебя на шее; тем более готов я служить тебе, зная, что это пойдет на благо дочери твоей Рахили и что мужские мои руки потрудятся для нее.
— Вот как? — спросил Лаван и, тяжело прищурившись, с отвисшим уголком рта, поглядел на него. — Ну, что ж, — сказал он. — Ты должен служить мне волей-неволей, таковы требования хозяйственной жизни Но если ты будешь делать это с охотой, то и ты в выигрыше, и я не внакладе. Завтра мы составим письменный договор.
— Вот видишь, — сказал Иаков, — оказывается, существуют на свете обоюдные выигрыши, которые смягчают естественную суровость жизни. А тебе это было невдомек. Ты не хотел ничем сдабривать правовой разговор, и я сам, из собственного запаса, сдобрил его, несмотря на всю свою теперешнюю легкость и наготу.
— Глупости, — заключил Лаван. — Мы скрепим договор печатью, чтобы все было как полагается и никто не мог нарушить его незаконными действиями. Теперь ступай, меня клонит ко сну и пучит от пива. Гаси светильники, мозгляк! — сказал он Абдхебе, вытянулся на своей лавке, укрылся кафтаном и уснул с открытым вперекос ртом.
Иакову предоставлено было самому искать себе место для ночлега. Он поднялся на крышу, лег на подстилку под полотнища камышовой палатки, которая там была сооружена, и думал о глазах Рахили, покуда его не поцеловал сон.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ «НА СЛУЖБЕ У ЛАВАНА»
Как долго пробыл Иаков у Лавана
Так началось пребывание Иакова в Лавановом царстве и в стране Арам Нахараим, которую он про себя задумчиво называл страной Курунгией: во-первых, потому, что страна, куда ему пришлось бежать, была для него преисподней вообще и заранее, но еще потому, что, как выяснилось с годами, эта замкнутая меж двух потоков земля задерживала и, по-видимому, так и не отпускала того, кто в нее попадал, что она действительно и буквально была Страной, Откуда Никогда Не Возвращаются. Ведь что значит «никогда не возвратиться»? Это значит не возвратиться до тех пор, пока человек хотя бы приблизительно сохраняет еще свое состояние и свою форму и остается еще самим собой. Возвращение через двадцать пять лет уже не имеет никакого касательства к тому человеку, который, отправляясь в путь, рассчитывал вернуться через полгода, на худой конец годика через три, и собирался после эпизодической этой отлучки продолжить свою жизнь там, где она прервалась, — такое возвращение для этого человека равнозначно невозвращению. Двадцать пять лет — это не эпизод, это сама жизнь, это, если они начались в пору мужской молодости, основа и костяк жизни, и хотя после своего возвращения Иаков жил еще долго, хотя он изведал потом самое тяжкое и самое величественное из всего, что ему довелось пережить, — ведь когда он, опять-таки в преисподней стране, торжественно умер, ему было, по нашим точным подсчетам, сто шесть лет, — то сон своей жизни он видел все-таки, можно сказать, у Лавана, в стране Арам. Там он любил, там он женился, там, от четырех женщин, родились все его дети, кроме меньшего, двенадцать человек, там стал он богат имуществом и почтенен возрастом, и тот юноша так и не вернулся, а вернулся и направился к Шекему стареющий, пятидесятипятилетний человек, странствующий восточный шейх с огромными стадами, который пришел на запад, как в чужую страну.
Что Иаков прожил у Лавана двадцать пять лет, можно доказать, это убедительнейше подтверждается трезвым исследованием. Песня и предание обнаруживают в этом вопросе такую неточность мышления, какой мы не простили бы себе так же легко, как им. Они утверждают, будто Иаков пробыл у Лавана в общей сложности двадцать лет: четырнадцать и шесть. Этим делением они как раз и отмечают, что еще за несколько лет до того, как Иаков сломал покрытые пылью запоры и бежал, он потребовал, чтобы Лаван отпустил его, но не был отпущен и обязался остаться на новых условиях. Момент, когда он так поступил, обозначен словами «после того как Рахиль родила Иосифа». Когда же это было? Если бы к тому времени прошло только четырнадцать лет, то за эти четырнадцать лет, вернее, за последние семь из них, у него должны были бы родиться все двенадцать детей, включая Дину и Иосифа и, за исключением только Вениамина, что само по себе, при участии четырех женщин, не было невозможно, но назначенному богом порядку рождений никак не соответствовало бы. Согласно этому порядку уже лакомка Асир, который был на пять лет старше Иосифа, родился по истечении дважды семи лет, то есть на восьмом году брака, и, как выяснится в деталях, Иосиф не мог родиться у Рахили раньше, чем через два года после появления на свет морелюбивого Завулона, а именно на тринадцатом году брака или на двадцатом харранском году. Как же иначе? Иосиф был сыном старости Иакова, и, значит, тому должно было уже исполниться пятьдесят, когда родился его любимец, а следовательно, к тому времени Иаков должен был прожить у Лавана двадцать лет. Но так как из двадцати лет годами службы были, собственно, только дважды семь, то есть четырнадцать лет, то между ними и моментом, когда Иаков заявил о своем уходе и договор был заключен заново, остается еще шесть бездоговорных, молча прожитых у Лавана лет, каковые, однако, с точки зрения конечного богатства Иакова, нужно причесть к последним пяти, снова прошедшим под знаком договора годам. Ибо хотя эти пять лет дают самое лучшее и самое важное объяснение непомерного богатства Иакова, их просто-напросто не хватило бы, чтобы нажить состояние, которое так пышно всегда расписывалось в песне и в учении. Спору нет, дело не обошлось без сильных преувеличений, и несостоятельность, например, утверждения, что у Иакова было двести тысяч овец, сразу бросается в глаза. Но все-таки у него были их тысячи, не говоря уж о всяком другом скоте, о металлических ценностях и рабах, и слова Лавана, который, догнав бежавшего зятя, потребовал, чтобы тот вернул ему все, что «украл» днем и «украл» ночью, были бы внутренне совершенно не оправданны и вообще не имели бы смысла, если бы Иаков обогатился только на основании нового договора, если бы он и раньше уже — как раз в те промежуточные шесть лет — не хозяйничал в довольно большой мере по собственному усмотрению и не заложил таким образом основы позднейшего своего благосостояния.
Двадцать пять лет — а для Иакова они прошли, как сон, как проходит жизнь для живущего — в желаниях и достижениях, в ожидании, разочарованьях, удачах, складываясь из дней, которых он не считает и каждый из которых приносит свое; коротаемые один за другим, в надеждах и усилиях, терпеливо и в нетерпении, дни сплавляются в большие единицы — месяцы, годы, ряды лет, — каждая из которых похожа в конечном счете на один день. Трудно сказать, что лучше и быстрей убивает время — однообразие или членящие перемены; дело сводится, во всяком случае, к тому, что его убивают; живущее стремится вперед, стремится оставить время позади, оно стремится, в сущности, к смерти, полагая, будто стремится к целям и поворотам жизни; и хотя его время расчленено и разделено на эпохи, оно, будучи именно его временем, протекает все же под неизменным знаком его «я», отчего время и жизнь коротаются всегда при участии обеих сил — однообразия и расчлененности.
В конечном счете деление времени весьма произвольно и мало чем отличается от проведения линий в воде. Их можно проводить и так, и этак, но пока ты их проводишь, все успевает сомкнуться в одно целое. Пятижды пять харранских лет Иакова мы уже разделили по-разному — один раз на двадцать и пять, другой раз на четырнадцать, шесть и пять лет; но он мог делить их также на первые семь до брака, затем на тринадцать, в течение которых рождались дети, и, наконец, на пять дополнительных, подобных пяти високосным дням солнечного года, не укладывавшимся в число двенадцатью тридцать. И так, стало быть, и еще как-нибудь мог он вести счет харранским годам. Всего их было, во всяком случае, двадцать пять, однообразных не только потому, что все они сплошь были Иаковлевыми годами, но и потому, что по всем внешним обстоятельствам они были до неразличимости похожи один на другой, и перемена аспектов, под которыми они были прожиты, не могла уменьшить расплывчатого их однообразия.
Иаков и Лаван скрепляют договор
Разделом, своего рода эпохой в жизни Иакова сразу явилось то, что договор, который он заключил с Лаваном в первый же по прибытии день, уже через месяц был отменен и заменен новым, совсем другого рода, связавшим его, Иакова, гораздо сильнее. На следующее же утро после прибытия Иакова Лаван действительно потрудился узаконить то отношение племянника к своему дому, которое было определено за пивом с земной деловитостью. Они рано вышли из дому и верхом на ослах отправились в город, в Харран: Лаван, Иаков и раб Абдхеба, который должен был служить свидетелем перед писцом и законником. Судья этот заседал во дворе, где толпилось множество людей, ибо многим нужно было скрепить или обжаловать соглашение о купле-продаже, об откупе, найме, обмене, браке или разводе, и судья-заседатель со своими двумя писарями или помощниками, сидевшими на корточках по бокам от него, должен был трудиться не покладая рук, чтобы справиться с наплывом городских и сельских просителей, так что Лавановым людям пришлось долго ждать, пока дошла очередь до их вообще-то незначительного и несложного дела. За некоторую толику зерна и масла Лаван заранее нанял второго свидетеля, какого-то человека, слонявшегося здесь как раз в ожидании такого случая, и тот вместе с Абдхебой поручился за соблюдение сделки, после чего оба скрепили ее печатями, вдавив ноготь большого пальца в глину выпуклой на обороте дощечки. У Лавана был перстень с печаткой, а Иаков, который своего перстня лишился, оттиснул на грамоте край своего кафтана. Так был заверен нехитрый текст, нацарапанный одним из писарей под машинальную диктовку судьи: овцевод Лаван брал в рабы на неопределенный срок бездомного уроженца страны Амурру такого-то, сына такого-то, и тот обязан был отдавать все силы своего тела и ума Лаванову хозяйству и дому, не получая никакого другого вознаграждения, кроме пищи насущной. Ни отмене, ни пересмотру, ни обжалованию договор не подлежал. Всякий, кто в нарушение закона воспротивился бы этому договору или попытался оспаривать его, проиграл бы дело и был бы наказан взысканием пяти мин серебра. И точка. Лаван должен был возместить издержки, связанные с изготовлением грамоты, и он оплатил их несколькими медными пластинками, которые, бранясь, швырнул на весы. Втайне он считал, однако, что закабаление Иакова на столь выгодных условиях вполне стоит маленьких этих расходов, ибо придавал Ицхакову благословению куда больший вес, чем показал это в разговоре с племянником, и недооценил бы его деловой сметки тот, кто подумал бы, что он не сразу, не с самого начала понял, что приобщенье Иакова к делам его дома — большая удача. Он был человек угрюмый, богам неугодный, он не полагался на свое счастье, а потому и не сподабливался до сих пор особого успеха в делах. Он всегда прекрасно сознавал, как полезно ему сотрудничество с человеком благословенным.
Поэтому после заключения договора он был в сравнительно хорошем настроенье и, делая на улицах кое-какие покупки — он покупал ткани, съестные припасы и разную мелкую утварь, — призывал своего спутника восхититься городом и шумной его жизнью; толщиной его стен и бастионов; прелестью обильно орошаемых садов, его окружавших, где гирлянды винограда вились среди финиковых пальм; священным великолепием храма Э-хулхула, обнесенного валом, и его дворов с обитыми серебром воротами, которые охранялись бронзовыми быками; величавостью башни, которая ступенчато, ярусами, возвышалась на огромной насыпи — семицветная изразцовая громада, вверху лазоревая, отчего тамошнее святилище, временная резиденция бога, где ему было приготовлено брачное ложе, сливалось, сияя, с синевой неба. Но у Иакова все эти достопримечательности вызывали только уклончивое «гм» или «ну-ну». Он не был охотником до городской жизни и не любил ни гама, ни суеты, ни кичливой огромности зданий, притворявшихся вечными, но, как он понимал, обреченных на гибель, и притом через самый ничтожный хотя бы лишь перед богом срок, сколь бы хитроумно ни была укреплена эта гора кирпича смолой и циновками и как бы искусно от нее ни отводилась вода. Он тосковал по родным пастбищам Беэршивы; но хвастливая пышность города, угнетавшая пастушескую его душу, заставляла его теперь думать о Лавановом доме чуть ли не как о родине, тем более что он оставил там пару черных глаз, которые смотрели ему навстречу с поразительной готовностью и с которыми, как ему казалось, надо было договориться о чем-то весьма важном. О них думал он, рассеянно глядя на бренную пышность, о них и о боге, обещавшем охранять его шаги на чужбине и вернуть богатым домой, об Аврамовом боге, из-за которого испытывал ревнивое чувство при виде дома и двора Бел-Харрана, охраняемых дикими быками и змееядными грифами, твердыни идолопоклонства, где в самой внутренней, сверкавшей каменьями каморке из золоченых кедровых балок, на серебряном цоколе, стояло бородатое изваяние идола, которому кадили и льстили по тщательно разработанному, достойному царя церемониалу, — тогда как Иаковлев бог, которого тот считал величайшим из всех, величайшим до единичности, вообще не имел дома на земле и принимал незамысловатые знаки почтения под деревьями или на высоких местах. Ничего другого ему, несомненно, и не было нужно, и, конечно, Иаков гордился тем, что его бог презирает и осуждает всякий городской, житейский, земной блеск, потому что никаким блеском не может довольствоваться. Но к этой гордости примешивалось подозрение, вместе с которым она и создавала чувство ревности, — подозрение, что бог, в сущности, тоже охотно жил бы в доме из финифти, золоченых кедров и карбункулов, которому, конечно, следовало быть в семь раз прекрасней, чем дом этого лунного идола, и осуждает подобные хоромы только потому, что еще не может иметь их, только потому, что народ его слишком еще малочислен и слаб, чтобы их построить. «Дайте срок, — думал Иаков, — а пока что кичитесь пышностью высокого своего владыки Бела! Мой бог обещал мне в Вефиле сделать меня богатым, и в его воле сделать тяжелыми от богатства всех, кто в него верует, и, когда мы разбогатеем, мы построим ему дом, который будет сплошь из золота, сапфира, яшмы и горного хрусталя внутри и снаружи, и перед этим домом померкнут дома всех ваших владык и владычиц. Прошедшее ужасно, а настоящее могущественно, ибо оно бросается в глаза. Но самое великое и священное — это, несомненно, будущее, и оно утешает удрученную душу того, кому оно суждено».
О видах Иакова
Как ни было поздно, когда дядя с племянником возвратились из города домой, Лаван счел нужным этой же ночью спрятать дощечку с договором в подвале дома, служившем хранилищем для таких документов; Иаков, тоже с горящим светильником в руке, сопровождал Лавана. Помещение это находилось под полом нижней комнаты левого крыла дома, напротив галереи, где вчера ужинали, и представляло собой некое сочетанье архива, часовни и склепа; здесь, в глиняном ларе, стоявшем посредине подполья в окружении чаш, жертвенной снеди и треног с курильницами, покоились кости Вафуила, и где-то здесь же, еще глубже под землей или в стене, должен был находиться большой глиняный кувшин с останками принесенного в жертву Лаванова сына. В глубине подвала была ниша со сложенным из кирпичей жертвенником и низкими, узкими лавками, на одной из которых, по правую руку от жертвенника, лежали дощечки со всевозможными расписками, счетами и договорами, здесь сберегаемыми. На другой стояли в ряд десять — двенадцать маленьких истуканов, очень странного вида, частью в высоких шапках и с бородатыми детскими лицами, частью без бород и плешивые, иные в чешуйчатых юбочках и с обнаженным туловищем, на котором, почти у самого подбородка, были мирно сложены ручки, а иные в складчатых, не очень искусно скроенных одеждах, не закрывавших маленьких и топорных пальцев ножек. То были домовые и вещуны Лавана, его терафимы, к которым он был сильно привязан и с которыми угрюмый этот человек советовался здесь внизу по каждому важному поводу. Они хранили дом, как он объяснил Иакову, довольно надежно предсказывали погоду, давали ему советы относительно купли и продажи, могли указать, в каком направлении ушла отбившаяся от стада овца, и так далее.
Иакову было не по себе вблизи костей, расписок и истуканов, и он был рад, когда, поднявшись по стремянке к люку, они вернулись из этой преисподней в верхнюю, чтобы лечь спать. Лаван отдал дань благоговения раке Вафуила, поставив там для услаждения умершего свежую воду, то есть сотворив ему «возлияние водой», а также почтил поклонами терафимов и не помолился, таким образом, только деловым документам. Иаков, не одобрявший ни каких бы то ни было приношений мертвым, ни идолопоклонства, был огорчен той религиозной неясностью и неуверенностью, которая явно царила в этом доме, хотя от Лавана, внучатого племянника Авраама и брата Ревекки, можно было ожидать куда более просвещенного богомыслия. На самом деле Лаван знал о религиозной традиции своих западных родственников, но к этому его знанию примешалось столько местных поверий, что они стали, по сути, основой его убеждений, а наследие Авраама, наоборот, примесью. Хотя он жил у первоисточника религиозной истории или именно потому, что он остался там жить, Лаван чувствовал себя самым настоящим подданным Вавилона и его государственной веры и, обращаясь к Иакову, называл Иа-Элохима только «бог твоего отца», причем он еще самым нелепым образом путал его с верховным божеством Синеара, Мардуком. Это было разочарованием для Иакова, ибо нравы Лаванова дома рисовались ему, как явно и пославшим его сюда родителям, более передовыми, и это особенно огорчало его из-за Рахили, в красивой и прекрасной головке которой царил, конечно, такой же сумбур, как в головах ее близких, и он с первого же дня не упускал случая приобщить ее к истинному и праведному. Ибо с первого дня, с того, собственно, мгновения, как он увидел ее у колодца, он смотрел на нее как на свою невесту, и не будет преувеличением сказать, что и Рахиль, уже тогда, когда она тихо вскрикнула, узнав, что перед ней стоит ее двоюродный брат, увидела в нем своего жениха.
Брак между родственниками, супружеский союз между членами одного и того же рода был тогда вообще — и на то имелись причины — делом обычным; он считался единственно пристойным, разумным и надежным видом брака, и мы прекрасно знаем, как сильно напортил себе своими эксцентричными женитьбами бедный Исав. Это не было личной прихотью Авраама — настоять на том, чтобы Ицхак, истинный сын, взял себе жену непременно из его, Авраамова, рода и дома его отца, а именно из дома Нахора в Харране, дабы знать наверняка, что он получит; и когда теперь в этот дом, где были дочери, пришел Иаков, он следовал по стопам Исаака, вернее, свата Елиезера, и идея сватовства была для него, как и для Исаака и Ревекки, с его визитом естественно связана, она сразу связалась бы с этим визитом и у Лавана, если бы этот очерствевший в хозяйственных делах человек мог сразу заставить себя узнать в нищем беглеце жениха. Лавану, как всякому другому отцу, показалось бы весьма нежелательным и опасным отпустить своих дочерей в совершенно чужой и незнакомый род, «продать их», как он выразился бы, «на чужбину». Гораздо безопаснее и достойнее было оставить их в лоне рода и в качестве жен, и так как налицо был двоюродный брат с его, отца, стороны, то этот двоюродный брат, Иаков, был, значит, для них — то есть не только для одной из них, но для обеих сразу — естественным, прямо-таки в буквальном смысле слова суженым мужем. Таково было молчаливо-всеобщее мнение в Лавановом доме, когда появился Иаков, мнение, в сущности, и хозяина дома, но прежде всего мнение Рахили, которая хоть и первой встретила пришельца, хоть и достаточно хорошо понимала свою роль на земле, чтобы знать, что она красива и прекрасна, а Лия, напротив, дурна лицом, — но все-таки, глядя тогда на Иакова у колодца тем испытующим, полным готовности взглядом, который так его взволновал, думала отнюдь не о себе одной. Жизнь пожелала, чтобы с прибытием двоюродного брата она, Рахиль, вступила в женское соревнование со своей сестрой и подругой, но соревнование это не имело отношения к вопросу, кого он выберет (на первых порах ей и положено было, наверно, привлекать его особенно сильно ради них обеих); соревнование это предстояло ей, собственно, лишь позднее, и касалось оно вопроса о том, кто из них будет брату-супругу лучшей, более усердной, более плодовитой и более любимой женой, вопроса, следовательно, в котором у нее не было никаких преимуществ перед сестрой и которого более или менее преходящая привлекательность отнюдь не решала.
Вот как смотрели на вещи в доме Лавана, и только сам Иаков — а это-то и было источником многих недоразумений — смотрел на них не так. Прежде всего он знал, что, кроме праведной жены, можно иметь побочных жен и наложниц-рабынь, от которых родятся полузаконные дети, но ему не было известно и стало известно лишь много позже, что в этих местах, и как раз в Харране и его окрестностях особенно, браки с двумя равноправными женами заключались очень часто, а при благоприятном имущественном положении даже как правило; кроме того, его сердце и мысли были слишком заполнены обаянием Рахили, чтобы думать еще о ее старшей, более статной и менее красивой сестре, — он не думал о ней даже тогда, когда из вежливости с ней разговаривал, и она это видела и с печальным достоинством, горько усмехаясь, опускала веки косых своих глаз, и Лаван тоже это видел и проникался ревностью из-за своей старшей, хотя договором превратил этого брата-жениха в раба-наемника, чему радовался из сочувствия обойденной его вниманием Лии.
Находка Иакова
Итак, Иаков не упускал случая поговорить с Рахилью, но такие случаи представлялись довольно редко, ибо весь день у обоих было много обязанностей, и что касается Иакова, то он находился в положении человека, который полон большого чувства и хочет сделать это чувство единственной своей заботой, но, кроме того, вынужден тяжко трудиться, и притом как раз ради своей любви, — хотя, с другой стороны, труд наносит ей ущерб, потому что за работой он о ней забывает. Для человека чувства, каким был Иаков, это тяжело, ведь ему хочется покоиться в своем чувстве и жить только для него, а он должен, наоборот, не давать себе роздыха как раз в честь своего чувства, ибо какая же честь его чувству, если он даст себе роздых? Поистине это было одно и то же, его чувство к Рахили и его работа в хозяйстве Лавана; как утвердил бы он свое чувство, если бы ему не было удачи в работе? Нужно было, чтобы Лаван, окончательно убедившись в высокопробности достояния, на которое опирался его племянник, загорелся желанием привязать его к себе. Одним словом, нужно было не посрамить благословение Исаака, ибо такова обязанность мужчины: приложить усилие, пошевелить руками, чтобы благословение, доставшееся ему в наследство, не было посрамлено, а стяжало честь чувству его сердца.
Тогда, в начале службы Иакова, пастбище, куда он, с запасом еды в суме, пращой за поясом и длинным посохом в руке, гнал по утрам овец Лавана, чтобы весь день стеречь их там с помощью пса Мардуки, находилось недалеко от дома дяди, всего в каком-нибудь часе ходьбы от него, и в этом было то преимущество, что Иаков не должен был ночевать в поле, а мог с заходом солнца пригнать стадо домой и здесь на усадьбе, словом и делом, показать себя во всем блеске. Он был рад этому, ибо поначалу пастушья его работа предоставляла ему мало возможностей создать у дяди впечатление, что с ним, беглецом, в хозяйство вошла удача. Правда, не было случая, чтобы хоть одного ягненка не оказалось на месте, когда он вечером, перед загонами, на глазах у Лавана пересчитывал стадо, пропуская его под своим посохом, кроме того, Иаков необычайно быстро отнял от маток летний приплод, что дало Лавану больше молока и простокваши, и очень любовно и умело вылечил от парши одного из двух баранов стада, породистого производителя. Но Лаван принимал эти и другие услуги без изъявлений благодарности, относясь к ним как и обычной работе дельного пастуха, и, когда Иаков, едва приступив к службе, оградил нижние окнища дома красивыми деревянными решетками, он тоже принял это как должное. На штукатурку наружных кирпичных стен он по скупости отказался тратиться, и поэтому столь очевидное украшение усадьбы Иакову связать со своим прибытием не удалось. Ему было довольно трудно найти способ подтвердить свою благословенность; но внутреннее напряжение настойчивых этих поисков как раз, может быть, и подготовило его к откровению, как раз, может быть, и сделало его героем того важного по своим последствиям события, о котором он всю жизнь с радостью вспоминал.
Он нашел воду вблизи пашни Лавана, живую воду, подземный ключ, нашел, как хорошо знал, с помощью своего бога, хотя это сопровождалось явлениями, которые, собственно, должны были претить господу и походили на уступку чистой его природы духу места, ходовым в этой стране представленьям. Иаков только что, с глазу на глаз, поговорил возле дома с милой Рахилью, поговорил столь же галантно, сколько и чистосердечно. Он сказал ей, что она прелестна, как египетская Хатхор, как Исет, что она прекрасна, как телица. Она светится светом женственности, выразился он поэтически, она кажется ему матерью, питающей влажным огнем добрые семена, и взять ее в жены и родить с нею сыновей — это самая большая его мечта. Рахиль держалась при этом очень приятно, честно и целомудренно. Брат и супруг пришел, она испытала его глазами и любила его всей своей молодой готовностью к жизни. И когда теперь, держа в ладонях ее голову, он спросил ее, была ли бы и она рада подарить ему сыновей, она молча кивнула ему со слезами в своих прекрасных черных глазах, и слезы эти он вытер ей поцелуем, — губы его были еще мокры от них. Он гулял в поле при двойном свете луны и угасавшего дня, как вдруг что-то потянуло его за ногу и какая-то жгучая судорога, словно его поразила молния, пробежала у него от плеча до ступни. Вытаращив от удивления глаза, он увидел перед собой очень странное существо. У него было туловище рыбы, серебристо-скользко мерцавшее в свете луны и дня, и рыбья же голова. А под ней, покрытая ею, как шапкой, была человеческая голова с вьющейся бородой, и еще были у этого существа человеческие ножки в виде коротких наростов на рыбьем хвосте и такие же короткие ручки. Оно стояло сгорбившись и, держа обеими руками ведро, что-то усердно черпало из земли и выливало, выливало и черпало. Затем, семеня на своих коротеньких ножках, оно отбежало в сторону и скользнуло в землю, во всяком случае, скрылось.
Иаков мгновенно понял, что это был Эа-Оаннес, бог водяной бездны, владыка срединной земли и океана над нижней, которого здешние жители считали источником чуть ли не всех своих знаний и богом величайшим, таким же великим, как Эллил, Син, Шамаш и Набу. Иаков, со своей стороны, знал, что по сравнению со всевышним он не был так уж велик, не был хотя бы потому, что обладал внешним обликом, и притом отчасти даже смешным. Он знал, что если Эа сейчас явился и что-то ему указал, то случиться это могло только по почину Иа, единственного бога, бога Исаакова, который был с ним. А что указал ему меньший этот бог своим поведеньем, это тоже открылось ему сразу же — открылось не только само по себе, но и во всех своих связях и следствиях, и он побежал на усадьбу за бурильными принадлежностями и, призвав на помощь двадцатишекельного Абдхебу, рыл землю полночи, затем поспал всего один час и снова копал затемно, после чего, себе на муку, должен был погнать стадо на выпас, бросив свою работу на целый день, — ему не стоялось, не лежалось и не сиделось на месте, когда он пас Лавановых овец в этот день.
До начала зимних дождей и полевых работ было еще далеко. Все было выжжено солнцем, Лаван забросил свое ноле, он трудился на усадьбе и не ходил туда, где копал Иаков, а потому ничего не заметил и не подозревал о работе, которую тот возобновил вечером я продолжал при свете странствующей луны, пока не появилась Иштар. Иаков делал разведочные скважины в разных местах небольшого участка, в поте лица своего пробиваясь через глину и камень. И вот, когда на востоке ожило небо, хотя верхний край солнца еще не поднялся над землей, вода вдруг брызнула, ключ забил, забил мощной, высотою в три пяди, струей, наполняя неровно и наспех вырытую скважину и окропляя землю вокруг себя, и вода его пахла сокровищами преисподней.
Тут Иаков стал молиться и, еще продолжая молиться, помчался уже за Лаваном. Но, увидев его издали, замедлил шаг, подошел к нему с приветствием и, тяжело дыша, сказал:
— Я нашел воду.
— Что это значит? — ответил вопросом Лаван, и рот его при этом отвисал паралично.
— Подземный ключ, — был ответ Иакова, — который я откопал между усадьбой и полем. Он бьет на локоть от земли.
— Ты помешался.
— Нет. Господь, бог мой, сподобил меня его найти согласно благословению отца моего. Пусть мой дядя пойдет и поглядит.
Лаван побежал, как побежал, когда ему доложили о прибытии богатого посла Елиезера. Задолго до Иакова, который неторопливо за ним следовал, подойдя к клокочущей яме, он стоял и смотрел.
— Это вода жизни, — сказал он потрясенно.
— Ты это говоришь, — подтвердил Иаков.
— Как это тебе удалось?
— Я верил и рыл.
— Эту воду, — сказал Лаван, не отрывая взгляда от ямы, — я смогу отвести по канаве к моему полю и оросить его.
— Наилучшим образом, — сказал Иаков.
— Я смогу, — продолжал Лаван, — расторгнуть договор с сыновьями Ишуллану, потому что мне больше не нужна их вода.
— И у меня, — сказал Иаков, — мелькнула уже такая мысль. А кроме того, при желании ты можешь устроить пруд и заложить сад, посадить финиковые пальмы и всякие плодоносные деревья, например, смоковницу, гранат, шелковицу. А если вздумаешь и тебе загорится — то и фисташки, груши, миндаль и, пожалуй, еще несколько земляничных деревьев, и финики дадут тебе и мякоть, и сок, и косточки, и вдобавок у тебя будут и пальмовое масло, и листья для плетеных поделок, и ветки для всяких хозяйственных надобностей, и луб для веревок и пряжи, и лес для построек.
Лаван молчал. Он не обнял благословенного, не пал перед ним ниц. Он ничего не сказал, постоял, повернулся и ушел. Иаков тоже поспешил к Рахили, она сидела в хлеву у вымени и доила. Он ей все рассказал и говорил, что теперь, вероятно, им суждено будет родить друг с другом детей. И они взялись за руки и немного поплясали, напевая «Аллилу-Иа!».
Иаков сватается к Рахили
Прожив у Лавана месяц, Иаков снова пришел к нему и сказал, что так как гнев Исава, в опаснейшей своей части, наверно, уже остыл, он, Иаков, хотел бы переговорить с дядей.
— Прежде чем говорить, — отвечал Лаван, — выслушай меня, ибо я со своей стороны собирался сделать тебе одно предложение. Ты живешь у меня уже месяц, и мы уже приносили жертвы на крыше и в новолунье, и при половинном сиянье, и при прекрасной полноте, и в день исчезновенья. За это время я нанял, кроме тебя, на некоторый срок еще трех рабов, которым и плачу как положено. Ибо не без твоего содействия была найдена вода, и мы начали облицовывать камнем жерло источника и строить из кирпича отводной желоб. Мы наметили также границы пруда, который надо вырыть, и если придется закладывать сад, то будет много работы и мне потребуются сильные руки — и твои, и тех, дополнительно нанятых, которых я кормлю и одеваю, платя им, кроме того, ежедневно по восьми сила зерна. До сих пор ты служил мне, по нашему договору, безвозмездно, из родственных чувств. Так вот, мы заключим новый договор, ибо неудобно перед богами и людьми чужим рабам платить жалованье, а собственному племяннику — нет. Итак, скажи, что ты с меня спросишь. И я дам тебе, что даю другим, и еще немного больше того, если ты обяжешься прожить у меня столько лет, сколько дней в неделе и сколько лет остается под паром поле, когда земля отдыхает от посевов и жатв. Семь, стало быть, лет придется тебе служить за ту плату, которую ты назначишь.
Таковы были слова Лавана и таков был ход его мыслей — слова правомерные, поскольку служили одеждой правомерных мыслей. Но даже мысли человека земного, не говоря уж о его словах, — это только одежда, только украшенье его домогательств и интересов, которым он, думая, придает правомерную форму, так что обычно он лжет еще раньше, чем говорит, и слова его звучат так честно потому, что ложь заключена, собственно, не в них, а в самих мыслях. Лаван очень испугался, когда ему показалось, что Иаков хочет уйти, ибо с тех пор, как забил ключ, он знал, что Иаков действительно носитель благословенья и человек благословенной руки, и теперь ему было чрезвычайно важно привязать к себе племянника, чтобы и впредь его, Лавана, делам шло на пользу благословенье, которое тот приносил туда, куда приходил. Открытие воды было великой удачей, настолько богатой последствиями, что освобождение Лавана от уплаты обременительного оброка сыновьям Ишуллану явилось лишь первым, но не самым важным из них. Сыновья Ишуллану, конечно, всячески изворачивались, ссылаясь на то, что без воды их канала Лаван вообще не смог бы возделывать поле, и утверждая, что, независимо от того, нуждается ли он в этой воде теперь или нет, он поэтому вечно обязан платить им зерном, шерстью и маслом. Но судья-заседатель побоялся богов и решил тяжбу в пользу Лавана, что тот равным образом склонен был объяснить вмешательством бога Иакова. Теперь было затеяно и начато множество дел, для успешного завершения которых благодатное присутствие Иакова оказалось необходимо. Хозяйственное соотношенье сил изменилось в пользу племянника: Лаван считал, что нуждается в нем, и для Иакова, прекрасно это знавшего, возможность пригрозить своим уходом была оружием, с которым земной ум Лавана не мог не считаться. Поэтому, предупреждая события, еще до того, как Иаков пустил свое оружие в ход, Лаван в глубине души поспешил найти условия, на которых работал на него сын Ревекки, недостойными, и перебил его правомерными предложеньями. Иаков, который в действительности не смел думать о том, чтобы вернуться домой уже теперь, так как лучше всех знал, что условия для этого далеко еще не созрели, был рад, что дядя заблуждается относительно расстановки сил, и признателен ему за его предупредительность, хотя и понимал, что вызвана она не правомерностью и не любовью к нему, Иакову, лично, а только заинтересованностью. Признателен, значит, он был ему, собственно, за заинтересованность, привязывавшую Лавана к нему, благословенному; ведь так уж устроен человек, что на радушие, в которое облекается такая заинтересованность, он непроизвольно отвечает любовью. Помимо этого, Иаков любил Лавана за то, что дядя должен был отдать и что он, Иаков, намерен был у него потребовать; и это было дороже всяких сила и сиклей. Он сказал:
— Отец мой и брат, если ты хочешь, чтобы я остался и еще не возвращался к умиротворившемуся Исаву, а служил тебе, то отдай за меня Рахиль, дитя твое, и пусть она будет наградой за мою службу. Ибо красотою она подобна телице, и она тоже глядит на меня с приязнью, и мы сошлись в беседе на том, что хотели бы вместе родить детей по образу своему. Поэтому отдай ее мне, и я твой.
Лаван нисколько не удивился. Мысль о сватовстве, мы уже это сказали, была с самого начала тесно связана с прибытием племянника и двоюродного брата и только из-за бедственного положения Иакова отошла в мыслях Лавана на задний план. Что Иаков теперь, когда соотношение сил изменилось в его пользу, высказал ее, было понятно и даже обрадовало Лавана, персть земную, который сразу увидел, что этим Иаков снова, и в довольно большой мере, лишает себя преимущества перед ним. Ибо своим признанием, что Рахиль ему по сердцу, он снова отдал себя в руки Лавана в такой же степени, в какой тот был в его руках, и ослабил свое оружие, каким была угроза ухода. Но что Иаков говорил о Рахили, только о ней, и даже не заикнулся о Лии, это отца злило. Он отвечал:
— Ты хочешь, чтобы я отдал тебе Рахиль?
— Да, ее. И она сама этого хочет.
— А не Лию, старшее мое дитя?
— Нет, эта мне не так по сердцу.
— Она старше, и сначала нужно сватать ее.
— Спору нет, она немного старше. К тому же она статна и горда, несмотря на некоторые недостатки ее наружности или как раз благодаря им, и возможно, что она смогла бы родить мне детей, каких я хочу. Но так уж случилось, что сердцем я привязался к Рахили, меньшей твоей дочери, ибо она кажется мне подобной Хагхор и Исет, она поистине светится для меня светом женственности, словно сама Иштар, и милые глаза ее всегда со мною, куда бы я ни пошел. И знаешь, однажды губы мои были мокры от слез, которые она ради меня пролила. Отдай же мне ее, и я буду тянуть у тебя лямку.
— Разумеется, лучше отдать ее тебе, чем кому-то чужому, — сказал Лаван. — Но, по-твоему, я должен отдать кому-то чужому Лию, старшее мое дитя, или, может быть, пускай она засохнет без мужа? Возьми сначала Лию, возьми обеих.
— Ты очень щедр, — сказал Иаков, — но хотя это может показаться непонятным, Лия нисколько не разжигает моих мужских желаний, и даже совсем наоборот, и рабу твоему нужна только Рахиль.
Лаван поглядел на него своим паралично сощуренным глазом и грубо сказал:
— Как хочешь. Обязуйся прожить у меня и служить мне за эту плату семь лет.
— Семижды семь! — воскликнул Иаков. — Хоть до лета оставления! Когда свадьба?
— Через семь лет, — ответил Лаван.
Представьте себе ужас Иакова!
— Что? — сказал он. — Я должен служить тебе за Рахиль семь лет, прежде чем ты отдашь мне ее?
— А как же иначе, — отвечал Лаван, изображая крайнее удивление. — Я был бы дураком, если бы отдал тебе ее сразу, чтобы ты ушел с ней, когда тебе заблагорассудится, а я бы остался ни с чем. Что-то ты не вручаешь мне ни вена, ни выкупа, ни надлежащих подарков, чтобы я привязал их к поясу невесты и, как велит законодатель, оставил себе, если бы ты отказался от сговора? Они при тебе, мина серебра и все прочее, или они у тебя где-нибудь спрятаны? Ты же беден, как мышь в поле, и даже того беднее. Поэтому надо записать у судьи, что я продаю тебе девку за семь лет службы и расплачусь с тобой после того, как ты отслужишь свое. И дощечку эту мы спрячем под землей, в домашнем святилище, и вверим ее терафимам.
— Сурового, однако, дядю, — сказал Иаков, — даровал мне господь!
— Глупости! — ответил Лаван. — Я суров настолько, насколько мне это позволяют обстоятельства, а если обстоятельства того требуют, то я мягок. Ты хочешь взять в жены мою девку — так вот, либо уходи без нее, либо отслужи.
— Отслужу, — сказал Иаков.
О долгом времени ожиданья
Вот как обозначилась первая, краткая и предварительная полоса долгого пребывания Иакова у Лавана, пролог, длившийся всего один месяц и закончившийся заключением нового договора, уже на определенный срок, и притом на очень большой. Это был и брачный договор, и вместе договор о службе, смесь того и другого, с какой чиновник машким, или судья-заседатель, вероятно, еще не часто, но все-таки уже раз-другой имел дело, — во всяком случае, он признал этот документ правомочным и, по воле обеих сторон, имеющим законную силу. Грамота в двух экземплярах была для вящей ясности составлена в виде разговора; речь Иакова и речь Лавана приводилась дословно, и благодаря этому было ясно, как они пришли к своему полюбовному соглашению. Такой-то сказал такому-то: «Отдай мне свою дочь в жены», — и тот спросил: «А что ты мне дашь за нее?» И у первого ничего не было. Тогда второй сказал: «Коль скоро у тебя нет ни вена, ни даже залога, который я мог бы повесить невесте на пояс в знак сговора, прослужи мне столько лет, сколько дней в неделе. Это и будет твое выводное, и, когда истечет срок службы, ты получишь невесту, чтобы спать с ней, и в придачу мину серебра и служанку, которую я дам девице в приданое, причем две трети мины будут покрыты стоимостью служанки, а одну треть я выплачу наличными или же дарами поля». Тогда первый сказал: «Пусть будет так». Именем царя быть по сему. Оба взяли по дощечке. Кто нарушит этот договор незаконным своим поведением, тот не жди добра.
Соглашение это было убедительно, судья мог признать его справедливым, и с чисто хозяйственной точки зрения Иакову тоже не на что было жаловаться. Если он должен был дяде мину серебра в шестьдесят шекелей, то семи лет службы даже не хватало, чтобы погасить этот долг; среднее жалованье наемного раба составляло всего шесть шекелей в год, и значит, семилетний заработок долга не покрыл бы. Иаков, правда, хорошо чувствовал, что хозяйственный аспект в данном случае обманчив и что если бы существовали на свете какие-то справедливые, божьи весы, то чаша, на которую брошено семь лет жизни, высоко взметнула бы чашу с миною серебра. Но в конце концов эти годы ему предстояло прожить вблизи Рахили, а это делало его жертву любовно-радостной, и, кроме того, с первого же дня действия договора Рахиль становилась его законной невестой, благодаря чему никакой другой мужчина не смел к ней приблизиться, не взяв на себя столь же тяжкой вины, как совращенье замужней женщины. Увы, они должны были ждать друг друга семь лет, двоюродные брат и сестра; они должны были перейти на совсем другую, чем нынешняя, возрастную ступень, прежде чем смогут родить друг с другом сынов, а это было горькое требование, свидетельствовавшее либо о жестокости Лавана, либо о недостатке у него воображения, во всяком случае, снова и самым выразительным образом показывавшее, что это человек бессердечный и лишенный симпатии. Вторым неприятным обстоятельством были необычайная скупость и стремление обсчитать ближнего, заявлявшие о себе в той части договора, что касалось приданого, этого отцовского, отсроченного на семь лет дара, который не сулил бедному Иакову никакой выгоды, ибо какая-то служанка неведомых качеств была бессовестно оценена вдвое дороже в денежном выражении, чем стоил вообще-то здесь или на западе средней руки раб. Но и с первой, и со второй неприятностью приходилось мириться. Время более выгодных сделок, Иаков это ощущал, должно было еще прийти, — он чувствовал в душе у себя обетование выгодных сделок и тайную, необходимую для них силу, несомненно превосходившую ту, что была в груди у этого беса преисподней — его тестя, у этого арамеянина Лавана, чьи глаза стали прекрасны в Рахили, его дочери. А что касалось семи лет, то их нужно было начать и прожить. Легче было бы их проспать; но не только ввиду невозможности этого Иаков подавлял в зародыше такое желание, а еще и находя, что лучше все-таки деятельно бодрствовать.
Это он и делал, и это же надо бы делать рассказчику, а не воображать, будто, сказав: «Прошло семь лет», он может проспать время и через него перепрыгнуть. Рассказчикам, спору нет, свойственно говорить такие общие слова, но все же подобное заклинанье, раз уж к нему приходится прибегать, должно произноситься не иначе, как со значеньем, не иначе, как с робостью от почтительного уважения к жизни, чтобы и для слушателя оно прозвучало веско и осмысленно и он удивился бы, как же они все-таки умудрились пройти, эти необозримые или обозримые только для разума, но не для души семь лет — и притом так, словно это были не годы, а дни. Известно же предание, что семь лет, которых Иаков сначала боялся до отчаяния, показались ему за несколько дней, и предание это, само со бой разумеется, восходит в конечном счете к собственным его словам, оно, как говорится, аутентично, да и совершенно понятно. Тут не было никакого сна наяву и вообще никакого волшебства, кроме волшебства самого времени, большие отрезки которого проходят так же, как малые — ни быстро, ни медленно, а просто проходят. В сутках двадцать четыре часа, и хотя час — это значительный промежуток, охватывающий изрядный кус жизни и тысячи ударов сердца, от утра до утра, во сне и бдении, — двадцать четыре таких промежутка все же проходят неведомым тебе образом, и столь же неведомым образом проходят семь таких суток жизни, то есть неделя, а всего четырех таких отрезков достаточно для того, чтобы луна пробежала через все свои фазы. Иаков не рассказывал, что семь лет прошли для него «так быстро», как несколько дней, он не хотел умалять вес одного дня жизни этим сравнением. И день проходит не «быстро», но он проходит со своими временами дня: утром, полднем, послеполуденными часами и вечером, — проходит такой же, как многие другие, и так же, со своими временами года, от начала до начала, такой же, как многие другие, столь же не поддающимся определению образом проходит и год. Вот почему Иаков и передал, что семь лет показались ему за несколько дней.
Незачем напоминать, что год состоит не только из своих времен, не только из круговращенья от весны, зеленых лугов и стрижки овец через жатву и летний зной, первые дожди и осеннюю пахоту, снег и заморозки снова к розовым цветам тамариска; что это только обрамление, а год — это внушительная вязь жизни, море происшествий. Такую же вязь из мыслей, чувств, дел и событий образует и день, и час тоже — в меньшем масштабе, если угодно; но различия в величине между отрезками времени довольно условны, и масштаб их определяет заодно и нас, наше восприятие, нашу настроенность, нашу приспособляемость, так что при случае семь дней или даже часов — это море, плавание в котором требует больше сил и смелости, чем плавание в море целого семилетия. Впрочем, при чем тут смелость! Как ни входи в этот поток — с веселой отвагой или робея, — чтобы жить, надо ему отдаться, а больше ничего и не требуется. Уносит он нас стремительно, однако стремительность эта ускользает от нашего внимания, и когда мы оглядываемся, то оказывается, что место, где мы вошли в него, давно позади, на расстоянье от нас, например, в семь лет, которые прошли, как проходят и дни. Больше того, нельзя даже заключить и различить, как отдается человек времени — с радостью или с робостью; необходимость отдаться времени выше таких различий, она их сводит на нет. Никто не утверждает, что Иаков приступил к этим семи годам с радостью; ведь только по их истечении он приобретал право родить с Рахилью детей. Но это была умственная печаль, которую в большой мере ослабляли и устраняли факторы чисто органические, определявшие его отношение ко времени — и времени к нему. Ведь Иакову суждено было прожить сто шесть лет, и если ум его этого не знал, то тело его и душа его плоти знали это, а потому семь лет были для него хоть и не таким малым сроком, как для бога, но все же и далеко не столь долгим, как для того, кому суждено прожить только пятьдесят или шестьдесят лет, и душа его могла относиться к ожиданью спокойней. И наконец, для всеобщего успокоения, нужно указать еще на то, что время ожиданья, ему назначенное, не являлось чистым временем ожиданья — для этого оно было слишком долгим. Чистое ожидание — это пытка, и никто не в силах в течение семи лет или хотя бы семи дней сидеть или ходить взад-вперед и ждать, как порой случается ждать в течение часа. В большем и большом масштабе это невозможно потому, что тогда ожидание настолько разбавляется и разжижается, а с другой стороны, так сильно смешивается с жизнью, что на долгие отрезки времени оно вообще предается забвению, то есть отступает в глубины души и уже не осознается. Поэтому полчаса сплошного и чистого ожидания могут быть ужаснее и представлять собой более жестокое испытание терпенья, чем необходимость ожиданья в оболочке семи лет жизни. Если то, чего мы ждем, близко, то как раз в силу своей близости оно раздражает наше терпенье гораздо острее и непосредственнее, чем издалека, превращая его в нетерпенье, истощающее нервы и мышцы, и делая из нас больных, которые буквально не находят себе места, тогда как ожидание, рассчитанное на долгий срок, не нарушает нашего покоя и не только позволяет нам, но и заставляет нас думать о других делах и делать другие дела, ибо мы должны жить. Вот как получается то поразительное положение, что независимо от страстности ожиданья оно дается тебе не тем трудней, а тем легче, чем дальше во времени то, чего ждешь.
Правдивость этих утешительных рассуждений — истина, сводящаяся к тому, что природа и душа всегда находят выход из трудного положения — обнаружилась и подтвердилась в случае Иакова даже особенно ясно. Он служил Лавану главным образом в качестве пастуха-овчара, а у пастуха, как известно, много свободного времени; по меньшей мере несколько часов, а то и полдня удел его — праздная созерцательность, и если он чего-то ждет, то оболочка деятельной жизни на его ожиданье не очень толста. Но тут-то и сказалась необременительность ожиданья, рассчитанного на долгий срок; ведь об Иакове никак не скажешь, что он не находил себе места или бегал по степи, схватившись за голову. Нет, на душе у него было очень спокойно, хотя вместе и немного печально, и ожидание составляло не верхний голос, а лишь генерал-бас его жизни. Конечно, он думал также о Рахили и о детях, которых надо было родить с ней, когда вдали от нее, в обществе пса Мардуки, опершись локтем о землю, а щекой на ладонь или скрестив на затылке руки и закинув ногу на ногу, он лежал где-нибудь в тени скалы или куста или же, опираясь на посох, стоял среди широкой равнины и следил за овцами, — но все-таки думал он не только о ней, а еще и о боге, и обо всех историях, близких и далеких, о своем бегстве и странствии, о Елифазе и о гордом сновиденье в Вефиле, о празднике проклятия Исава, о слепом Ицхаке, об Авраме, о башне, о потопе, об Адапе или Адаме в райском саду… и тут вспоминал о саде, заложить который благословенно помог бесу Лавану к великой пользе для его хозяйства и достатка.
Нелишне знать, что в первый договорный год Иаков еще не пас или только изредка пас овец, предоставляя это по большей части двадцатишекельному Абдхебе или даже Лавановым дочерям; что же касалось его самого, то по желанью и приказанью дяди он участвовал в работах, явившихся следствием его благословенной находки, — в устройстве водоотвода и пруда, для чего была использована естественная лощина, стены которой, выровняв ее лопатой, обмуровали, а дно зацементировали. Наконец, появился сад — а Лаван придавал очень большое значенье тому, чтобы и к этому начинанью племянник непосредственно приложил свою благословенную руку, ибо теперь Лаван уже убедился в действенности выманенного благословенья и радовался, что так умно и на такой долгий срок заставил эту действенность служить своим хозяйственным интересам. Разве не было яснее ясного, что сын Ревекки приносит счастье чуть ли не вопреки собственной воле, что одним своим присутствием он дает толчок и неожиданный ход делам, обреченным, казалось, на вечный застой? Какая вдруг пошла работа, какая многообещающая деятельность закипела на усадьбе Лавана и на его поле: тут и копали, и стучали молотками, и пахали, и сажали деревья! Лаван занял денег, чтобы сделать необходимые для расширенья хозяйства закупки: сыновья Ишуллану из Харрана дали ему ссуду, хотя они и проиграли судебное дело против него. Это были люди холодные, трезво-деловые, к личным обидам совершенно нечувствительные, отнюдь не считавшие поражение в тяжбе причиной не заключать с человеком, выигравшим у них эту тяжбу, новой сделки, и притом как раз потому, что хозяйственный козырь, которым он их побил, сделал его в их глазах надежным должником, и давать ссуду под этот козырь они могли без опаски. Так оно и бывает в хозяйственной жизни, и Лаван этому не удивлялся. Заем нужен был ему хотя бы для того, чтобы оплачивать и кормить трех новых домочадцев, наемных рабов, которых он взял напрокат у одного городского владельца и которым Иаков давал заданья, после чего, не щадя и собственных рук, следил за стараньями их мышц как надсмотрщик и как начальник. Ведь его положение в доме, и без всяких договоров на этот счет, не шло, разумеется, ни в какое сравненье с положением этих остриженных и клейменых наемников, у которых имя их хозяина было написано на правой руке несмываемой краской. Нет, семилетний договор, хранившийся внизу у терафимов в глиняном ларце, никоим образом не ставил его на одну доску с этими рабами. Он был хозяйским племянником, был женихом, он был, кроме того, владыкой источника и потому главным строителем водоотвода и главным садовником — Лаван сразу признал за ним эти права, и на это у Лавана были причины.
Он полагал также, что у него есть причины поручать Иакову большую часть закупок всяческих орудий, строительных материалов, семян и рассады, закупок, в которые ввиду затеянных новшеств и вкладывались ссудные деньги. Он верил в легкую руку племянника, и по праву; ибо так он все же тратился меньше и получал лучший товар, чем если бы он, человек неблагословенный и мрачный, закупал его сам, хотя Иаков и наживался на этом и уже тогда начал закладывать слабую еще, правда, основу позднейшего своего благосостоянья. Ибо, ведя торговые дела в городе и в отдаленных селениях, он не сковывал себя ролью только Лаванова уполномоченного и посредника, а действовал, скорее, как перекупщик и свободный купец, и притом купец такой умелый, ловкий, обходительный, обаятельный, что всегда, платя ли наличными или, как это часто бывало, совершая обмен, он урывал большую или меньшую прибыль себе, так что фактически небольшое собственное стадо овец и коз было у него еще до того, как он по-настоящему начал ходить за стадом Лавана. Бог-вседержитель под звуки арф возгласил, что в дом Ицхака Иаков должен вернуться богатым, и это было одновременно обетованием и приказом, — приказом постольку, поскольку без содействия человека обетования, конечно, не могут исполниться. Неужели он должен был выставить лжецом вседержителя бога, преступно посрамив его слово из чистого разгильдяйства, да еще из непомерной щепетильности в отношении дяди, который мрачно мирился со всеми суровостями хозяйственной жизни, хотя никогда по-настоящему не умел извлекать из них прибыль? У Иакова даже в мыслях не было брать на себя такую вину. Не нужно думать, что он лгал Лавану и тайно его обсчитывал. Тот в общем знал, как ведет себя Иаков, а в частных случаях, когда это поведение бывало очевидным, закрывал на него в переносном смысле глаза, а буквально — один глаз, и притом с отвисшим уголком рта. Он видел, что почти всегда все равно получает большую выгоду, чем получил бы, действуя на свой незадачливый риск, да и было у него основание бояться Иакова и смотреть на его проделки сквозь пальцы. Тот был очень обидчив, и обращаться с ним надо было осторожно, щадя его благословенную стать. Он сам заявил об этом со всей откровенностью и раз навсегда предупредил Лавана на этот счет.
— Если ты, господин мой, — сказал он, — будешь браниться и спорить со мной из-за каждой мелочи, которая перепадет мне при торговле у тебя на службе, и будешь косо глядеть на меня, когда иной раз хитроумие раба твоего принесет выгоду не только тебе, ты расстроишь мне сердце в груди и благословение в теле и добьешься только того, что твои дела перестанут мне удаваться. Торговцу Белану, у которого я купил для тебя семенное зерно, необходимое для расширенья твоего поля, господь, бог мой, сказал во сне: «Ты торгуешь не с кем иным, как с Иаковом, благословенным, чью главу и чьи стопы я храню. Поэтому ты берегись и клади ему на каждый из пяти гур зерна, которые он хочет купить у тебя за пять шекелей, двести пятьдесят сила, а не двести сорок и, уж конечно, не двести тридцать, как ты мог бы, пожалуй, положить Лавану, — а не то смотри у меня! Вместо первого шекеля Иаков даст тебе девять сила масла, вместо второго — пять мин шерсти, и еще ты получишь хорошего кладеного барана, который стоит полтора шекеля, а на остальные деньги — ягненка из его стада. Вот чем он заплатит тебе за твои пять гур зерна вместо пяти шекелей, а еще он заплатит тебе приветливыми взглядами и поднимающими настроенье речами, так что тебе будет приятно иметь дело с твоим покупателем. Но если ты вздумаешь содрать с него больше, то берегись! Тогда я подберусь к твоему скоту и напущу на него всяческую заразу, а на жену твою — бесплодие, а на детей, которые у тебя уже есть, слабоумие и слепоту, и ты попомнишь меня!» И Белану испугался господа, бога моего, и поступил так, как тот ему велел, так что ячмень достался мне дешевле, чем достался бы кому-либо, и особенно моему дяде. Пусть он, и правда, посудит сам и спросит себя, приняли бы у него или нет девять сила масла за шекель и пять мин овечьей шерсти за второй, если на рынке на эту сумму можно купить двенадцать, а то и больше сила масла и шесть мин шерсти, а об исчислении гура я не говорю. И разве за оставшиеся полтора шекеля ты не отдал бы за милую душу трех ягнят или свинью и ягненка? Поэтому я и взял себе двух ягнят из твоего стада и отметил их своим знаком, и они мои теперь. Но какое это имеет значенье для нас с тобой? Разве я не жених твоей дочери и разве все, что у меня есть, не принадлежит, благодаря ей, и тебе? Если ты хочешь, чтобы мое благословенье шло тебе на пользу и я служил тебе с охотой и лукавством, то нужно, чтобы я мог рассчитывать на награду и получал поощренья, а иначе душа моя утратит силу и бодрость, и мое благословенье не сослужит тебе никакой службы.
— Оставь себе этих ягнят, — отвечал Лаван; и объяснялись они так несколько раз, покуда Лаван не предпочел умолкнуть и предоставить Иакову свободу действий. Ведь, конечно, он не хотел, чтобы душа племянника утратила силу и бодрость, и вынужден был ему потворствовать. Но все-таки он был рад, когда водоотвод был достроен, пруд наполнен, сад заложен, а поле расширено и он смог посылать Иакова с овцами в степь, прочь от двора, сначала недалеко, а потом и подальше, так что Иаков, бывало, целыми неделями и месяцами не являлся домой, под Лаванову крышу, соорудив в поле, вблизи какой-то цистерны, собственное легкое укрытие от солнца и дождя, а также загоны из глины и камыша и рядом легкую вышку для защиты и наблюденья. Там жил он впроголодь со своим посохом-багром и своей пращой, следил вместе с псом Мардукой за разбредавшимся по пастбищу стадом и отдавался времени, разговаривал с Мардукой, делавшим вид, что понимает его, и отчасти действительно его понимавшим, поил овец и загонял их по вечерам за загородки, сносил жару и стужу и мало спал; ибо ночами, чуя запах ягнят, выли волки, и если подкрадывался лев, то приходилось шуметь и кричать за десятерых, чтобы обмануть этого разбойника и отогнать его от овец.
О лавановой прибыли
Когда он в один или в два дневных перехода пригонял стадо домой, чтобы дать хозяину отчет о его сохранности и приросте и пропустить на виду у Лавана овец под посохом, он видел Рахиль, которая тоже ждала во времени, и они, рука об руку, уходили туда, где никто их не видел, и горячо обсуждали свой жребий, они говорили о том, как долго должны они дожидаться друг друга, все еще не смея родить друг с другом детей, и утешать приходилось то ему ее, то ей его. Чаще, однако, утешать приходилось Рахиль, ибо для нее это время было длиннее и представляло собой для ее души более суровый искус, так как ей суждено было дожить не до ста шести лет, а только до сорока одного года, и значит, в ее жизни семь лет весили в два с лишним раза больше, чем в его. Поэтому во время тайных встреч жениха и невесты слезы лились у нее поистине из глубины души и обильно текли из ее милых черных глаз, когда она жаловалась:
— Ах, Иаков, двоюродный брат мой с чужбины, обещанный мне, как болит у маленькой твоей Рахили сердце от нетерпенья! Смотри, месяцы чередуются, и время проходит, и это и хорошо и печально, ибо мне уже четырнадцатый год, а должно стать девятнадцать, прежде чем для нас зазвучат тимпаны и арфы и мы пойдем в спальню, и я буду перед тобой как Непорочная в верхнем храме перед богом, и ты скажешь: «Я сделаю эту женщину плодоносной, как плоды сада». По воле отца, который продал меня тебе, до этого еще так далеко, что к тому времени я уже буду совсем другой, и, кто знает, не коснется ли меня раньше какой-нибудь демон, так что я заболею и болезнь поразит даже корешок языка и человеческая помощь будет напрасна? И если я даже оправлюсь от порчи, то произойдет это, может быть, ценой потери волос, и кожа у меня испортится, пожелтеет и покроется пятнами, так что друг мой и не узнает меня? Этого я боюсь несказанно и не могу спать, и сбрасываю с себя одеяло, и брожу по дому и по двору, когда родители забываются сном, и ропщу на время за то, что оно проходит и не проходит, ибо ясно чувствую, что могла бы плодоносить тебе, и к девятнадцати моим годам у нас могло бы быть уже шесть сыновей или даже восемь, ибо иногда, наверно, я приносила бы тебе двойню, и я плачу, что до этого еще так далеко.
Потом Иаков сжимал ее голову ладонями и целовал ее ниже обоих глаз, — Лавановых глаз, которые в ней стали прекрасны, — он вытирал ей поцелуями слезы, так что губы его были мокры от них, и говорил:
— Ах, моя маленькая, добрая, умная, нетерпеливая овечка, не беспокойся! Смотри, эти слезы я возьму с собой в поле и в одиночество, как залог и свидетельство того, что ты моя и близка мне и ждешь меня с терпеньем и нетерпеньем, как я тебя. Ибо я люблю тебя, и ночь твоих глаз мне милее всего на свете, и тепло твоей головы, когда ты прижимаешь ее к моей голове, трогает меня до глубины души. Волосы твои своей шелковистостью и темнотой походят на шерсть козьих стад, что пасутся на склонах Гилеада, зубы твои белы, как свет, а щеки твои поразительно напоминают мне нежность персика. Рот твой подобен молодым смоквам, когда они алеют на дереве, и когда я закрываю его поцелуем, то дыхание ноздрей твоих благоухает яблоками. Ты необыкновенно красива и прекрасна, но ты будешь еще лучше, когда тебе исполнится девятнадцать, поверь мне, и груди твои будут как гроздья фиников и гроздья спелого винограда. Ибо кровь твоя чиста, любимица моя, и никакая хворь к тебе не пристанет, и никакой демон тебя не коснется; господь, бог мой, который привел меня к тебе и сберег тебя мне, этого не допустит. Что же касается меня, то моя любовь и нежность к тебе неиссякаемы, они — пламя, которого не погасят дожди даже великого множества лет. Я думаю о тебе, когда лежу в тени скалы или куста или стою, опираясь на посох; когда брожу в поисках отбившейся от стада овцы, когда хожу за больным ягненком или несу на руках усталого; когда оказываю сопротивленье льву или черпаю воду для стада. За всем этим я думаю о тебе и убиваю время. Ибо за всеми моими делами и занятиями оно непрестанно проходит, и бог не разрешает ему остановиться хотя бы на один миг, нахожусь ли я в покое или в движенье. Мы с тобой ждем не напрасно, не на авось, мы знаем свой час, и наш час знает нас, и он к нам придет. А в известном отношении это, может быть, совсем и не плохо, что между ним и нами есть еще некоторое поле деятельности, ибо когда он придет, мы уйдем отсюда в ту землю, куда ушел праотец, и хорошо будет, если к тому времени я стану благодаря удаче в делах еще немного состоятельнее, чтобы исполнилось обетование моего бога, что он вернет меня богатым в Ицхаков дом. Ведь глаза твои для меня как глаза Иштар, богини объятий, которая сказала Гильгамешу такие слова: «Овцы твои и козы принесут двойни». Да, если нам и нельзя еще обнимать друг друга и быть плодоносными, то скот тем временем плодоносит и дает ради нашей любви хороший приплод, так что я поправлю дела Лавана и свои собственные и стану состоятелен перед господом, прежде чем мы отправимся в путь.
Так утешал он ее, чутко попадая своими словами об овцах и об их как бы заменительной плодовитости в самую точку; действительно, можно было подумать, что местная богиня объятий, скованная мрачной Лавановой суровостью в области человеческой, отводит душу и отыгрывается на бессловесных тварях, а именно на порученном Иакову Лавановом мелком скоте, который процветал, как никакой другой, так что на нем благословенье Иакова сказывалось еще сильнее, чем на чем-либо до сих пор, и Лаван все больше радовался тому, что приобрел раба в лице этого племянника, ибо польза от него была велика, он поражался этому расцвету, когда верхом на воле выезжал на расстояние одного или двух дней пути для осмотра отар, но не говорил ничего, воздерживаясь и от одобрительных и от неодобрительных замечаний, — да, и от неодобрительных тоже, потому что простейшее благоразумие велело ему спускать такому благословенному животноводу, даже если тот и преследовал свою выгоду и, торгуя, прибирал кое-что к рукам из соображений принципиальных, откровенно изложенных. Было бы неумно возражать против этого принципа, если им не злоупотребляли; обращаться с таким человеком следовало осторожно, расстраивать благословение у него в теле нельзя было.
Став скотоводом и владыкой овчарни, Иаков действительно был в своей стихии в гораздо большей степени, чем прежде на усадьбе, в качестве владыки воды и сада. Он был пастухом по крови и по складу характера, человеком луны, а не человеком солнца и пашни; пастушеская жизнь, при всех ее неудобствах и даже опасностях, соответствовала его природе, она была полна достоинства и созерцательна, она давала ему досуг, чтобы думать о боге и о Рахили; что же касается животных, то их он любил всей душой, — да, всей своей кроткой и сильной душой был он им предан, он любил их тепло, их разбросанность по выгону и их скученность, идиллическое многоголосье их блеянья под небесным простором, — любил их кроткие, замкнутые физиономии, лежевесно торчащие лопасти их ушей, их широко расставленные, зеркальные глаза, между которыми шерстистая челка закрывала верхнюю часть приплюснутого носа, мощную священную голову барана, более нежную и более изящную головку овцы, детскую несмышленую морду ягненка, — любил космато-курчавый, драгоценный товар, который они мирно с собой носили, всегда подраставшее руно, которое он весною и осенью, вместе с Ливаном и рабами, мыл у них на спине, чтобы потом отстричь; и его симпатия к ним оборачивалась мастерством в уходе за ними и в разумном регулированье их течки и размноженья, которое он с благоговейной добросовестностью, на основе точного знанья пород и особей, свойств шерсти и организма, подчинял требованьям своей скотоводческой сметки — хотя достигнутые им необыкновенные результаты мы не склонны приписывать только ей. Ведь мало того что он улучшал породу и получал великолепнейшие экземпляры шерстистых и убойных овец, — рост поголовья и многородящая плодовитость стада превзошли под его опекой все привычные меры и были огромны. В загонах его не было ялового скота, овцы ягнились все, как одна, они приносили двойни и тройни, они оставались плодовиты и в восьмилетнем возрасте, и течка продолжалась у них два месяца, а суягными они ходили только четыре, их ягнята достигали детородной зрелости за один год, и чужие пастухи уверяли, что в стаде этого пришедшего с Запада Иакова даже кладеные бараны шалят при полной луне. Это была суеверная шутка; но она свидетельствует о разительной необычайности успехов Иакова на этом поприще, явно выходивших за грани простого знания дела. Нужно ли было и в самом деле привлекать местную богиню объятий для объясненья этого вызывавшего зависть успеха? Мы держимся мненья, что источник его был в самом владыке овчарни. Он любил и ждал; ему еще нельзя было плодоносить с Рахилью; и если уже не раз бывало на свете, что желанья и сила, когда их тормозили и сдерживали, находят выход в великих подвигах духа, то в данном случае такой видоизмененной отдушиной оказался расцвет подведомственной опеке и симпатии страдавшего естественной жизни.
Предание, представляющее собой ученый комментарий к первоначальному тексту, который, в свою очередь, является позднейшей письменной обработкой пастушеских антифонных песен и прекраснословных бесед, приводит сверхотрадные сведения об удачах Иакова в торговле овцами; для вящего прославленья Иакова преданье это допускает преувеличенья, на которые мы, однако, окончательно проясняя эту историю, не должны делать слишком больших скидок, чтобы не исказить истину снова. В большой мере преувеличенье идет не от позднейших справок и примечаний, оно идет, на поверку, от самих событий или, собственно, от людей; мы же знаем, как склонны они всегда к чрезмерности при оценке и оплате вещей, которые по прихоти моды вызывают у них восхищенье и вожделенье. Так обстояло дело и с выращенным Иаковом стадом. Слух о его беспримерных достоинствах распространился со временем в ближних и дальних окрестностях Харрана, среди таких же, как Иаков и Лаван, и мы не беремся исследовать, в какой мере сказалось тут известное ослепленье, вызванное благословенностью этого человека. Как бы то ни было, желаньем заполучить хотя бы одну Иаковлеву овцу одержимы были решительно все. Из этого сделали вопрос чести. Люди прибывали издалека, чтобы с ним торговать, и, убедившись на месте, что молва привирает и дело идет о самых обыкновенных, хотя и очень хороших овцах, все-таки заставляли себя, в угоду моде, видеть в них каких-то чудесных животных и даже сознательно позволяли ему обманывать себя, принимая только на основании его уверенья овцу, у которой уже явно выпали передние зубы и которой, следовательно, было по меньшей мере шесть лет, за годовалую ярку или за матку. Они платили ему столько, сколько он требовал. Утверждают, что он получал за овцу осла, даже верблюда, и даже раба или рабыню, — это преувеличение, если выдавать подобные сделки за общее правило; но такого рода уступки при обмене бывали, и даже в сведеньях о расплате рабами есть доля правды. Ведь со временем Иакову потребовалась подсобная рабочая сила, подпаски, и он нанимал их у своих контрагентов, возмещая стоимость найма натурой: шерстью, сметаной, шкурами, жилами, а также скотом. С годами он даже предоставил иным из этих подпасков полную самостоятельность в выборе пастбищ, в уходе за скотом и охране его, договорившись с ними о твердом оброке: ежегодно от шестидесяти шести до семидесяти ягнят или один сила сметаны за сотню овец, или по полторы мины шерсти с головы, — доход этот принадлежал, конечно, Лавану, но, проходя через руки Иакова, частично оставался в них потому хотя бы, что Иаков снова пускал его в оборот.
Исчерпывалась ли этим удача, которую принес Иаков Лавану, персти земной? Нет — если предположить, что самая счастливая и самая неожиданная Лаванова прибыль была связана с присутствием племянника причинной связью, а такое предположенье обоснованно безусловно и в любом случае, дадим ли мы этому радостному феномену разумное объяснение или усмотрим в нем что-то загадочное. Если бы мы сочиняли истории, если бы мы, в молчаливом сговоре с публикой, считали своим делом придавать лжи на какой-то занимательный миг видимость правды, все, что мы сейчас должны сообщить, было бы, несомненно, воспринято как вранье и наглость и нас упрекнули бы в том, что мы лжем без зазренья совести, только чтобы пустить в ход лишний козырь и ошеломить легковерье слушателей, имеющее как-никак свой предел. Тем лучше, стало быть, что такой роли мы на себя не берем, а опираемся на факты преданья, незыблемость которых ничуть не страдает от того, что не все они всем известны и что иные из них для иных новость. И мы можем вести свой рассказ голосом, который, будучи спокойным, но в то же время решительным и уверенным, с самого начала устраняет реальную иначе опасность таких возражений.
Одним словом, Лаван, сын Вафуила, в течение первых семи лет службы у него Иакова стал снова отцом, причем отцом сыновей. Богатевшему этому человеку была возмещена его неудачная и явно отвергнутая некогда жертва, младенец в кувшине, и возмещена не просто, а в тройном размере. Ибо три раза подряд, на третьем, четвертом и пятом году службы Иакова, Адина, невзрачная жена Лавана, зачинала, затем, с гордым покряхтываньем, вынашивала плод, нося на шее символ своего состоянья, полый камешек, внутри которого перекатывался еще один, меньший, наконец с воем и молитвами разрешалась от бремени в доме Лавана и в его присутствии, стоя на коленях, под которые подкладывали по два кирпича, чтобы ребенку было просторнее перед вратами ее чрева, и одна повитуха охватывала ее руками сзади, а другая сидела на корточках при вратах. Роды проходили благополучно и, несмотря на пожилой возраст Адины, не осложнялись никакими опасностями для ее жизни. Каждый раз ставилось угощение красному Нергалу, его задабривали пивом, полбенными хлебами и даже приносили ему в жертву овец, чтобы он запретил четырнадцати своим слугам-хворобоносцам вмешиваться в это дело. Поэтому ни в одном из трех случаев внутренности роженицы не переворачивались и ведьме Лабарту не приходило в голову запереть ее чрево. Родила она трех здоровых мальчиков, чья неугомонность превратила давно уже скучный Лаванов дом в подлинную колыбель жизни. Одного назвали Беором, второго Алубом, а третьего Мурасом. Естеству же Адины эти непрерывно следовавшие друг за другом беременности и роды не только не повредили, но даже пошли на пользу: она казалась после них даже моложе и не такой невзрачной и старательно украшала себя повязками, поясами и ожерельями, которые Лаван покупал ей в Харране-городе.
Заскорузлое сердце Лавана радовалось. Он сиял, насколько это было ему дано. Параличное отвисанье уголка рта не придавало теперь его лицу кислого выраженья, а приобрело вид сытой и самодовольной усмешки. Если соотнести процветанье его хозяйства, прекрасный ход его дел со счастливой плодовитостью его чресел, с милостивой отменой проклятия, так долго тяготевшего над его домом из-за ошибочной религиозной спекуляции, то его напыщенность довольно понятна. Он не сомневался в том, что, как и все его счастье, рождение сыновей теснейшим образом связано с близостью и причастностью к дому Иакова, с благословением Ицхака, и был бы очень несправедлив, если бы сомневался в этом. Даже если брачную деятельность супругов, снова открыв творила их плодовитости, оживило их собственное, особенно Лавана, приподнятое настроенье, то, поскольку поднялось оно благодаря деловым успехам племянника, конечной причиной этого плодотворного оживленья был, разумеется, Иаков. Но это не мешало Лавану гордиться собой. Ведь это он сумел так ловко, искусно и мудро привязать к дому носителя благословения — нищего беглеца, от которого явно исходило преуспеянье, куда бы он ни подался, желал он этого или нет. А что он не так уж сильно желал отцовского счастья своему дяде, Лаван заключил из той сдержанности, с какой Иаков счел нужным выразить ему свою радость и восхищенье по поводу рождений Беора, Алуба и Мураса.
— Скажи мне, племянник и зять, — говорил в таких случаях Лаван, когда, верхом на воле, приезжал в поле поглядеть на стада или когда Иаков навещал усадьбу, чтоб отчитаться. — Скажи, разве я не счастливец, скажи, улыбаются боги Лавану или нет, если на старости лет они дают мне силу зачинать сыновей и моя жена Адина родит их одного за другим, хотя она уже казалась невзрачной?
— Ну, что ж, радуйся! — отвечал Иаков. — Но ничего такого уж особенного для нашего бога тут нет. Авраму было сто лет, когда он родил Ицхака, а у Сарры, как известно, давно уже прекратилось обыкновенное женское, когда господь уготовил им этот смех.
— У тебя есть неприятная привычка, — говорил Лаван, — умалять большие дела и отравлять человеку радость.
— Нам не подобает, — холодно возражал Иаков, — поднимать слишком большой шум из-за удач, которые мы вправе поставить себе в заслугу.
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ «СЕСТРЫ»
Нечистый
И вот, когда семь лет подошли к концу и приблизилось время, чтобы Иаков познал Рахиль, ему казалось это невероятным, и он радовался безмерно, и сердце его билось изо всех сил, стоило ему подумать об этом часе. Ибо Рахили было теперь девятнадцать, и она дожидалась его в чистоте своей крови, защищенная этой чистотой от порчи и хвори, которая могла бы погубить ее для жениха, и, таким образом, в части ее цветенья и миловидности исполнилось все, что Иаков нежно ей предвещал, и она была очаровательна среди дочерей страны со своими в изящных размерах совершенными и приятными формами, со своими мягкими косами, с толстыми крыльями своего носика, с близоруко-ласковым взглядом своих раскосых, наполненных приветливой ночью глаз и особенно с той своей улыбкой, которая, благодаря прекрасной лепке уголков ее рта, создавалась простым смыканием губ. Да, миловидна она была среди всех; если же мы скажем, как это всегда говорил про себя Иаков, что особенно миловидна она была рядом с Лией, то это не значит, что Лия была всех безобразней; просто она служила ближайшим поводом для сравненья, и неблагоприятно для Лии оно было только в части миловидности, так что вполне можно представить себе мужчину, который, придавая этому свойству меньше значенья, чем Иаков, отдал бы старшей, несмотря на болезненную воспаленность ее косивших голубых глаз, которые она гордо и горько прятала под опущенными веками, даже предпочтенье ради светлой пышности ее сплетенных в тяжелый узел волос и статности ее хорошо приспособленного для материнства тела. Кроме того, к чести маленькой Рахили необходимо подчеркнуть, что ей и в голову не приходило ставить себя выше сестры, кичась перед ней своим хорошеньким личиком только потому, что она, Рахиль, была дитя и подобие прекрасной луны, а Лия — луны ущербной. Нет, Рахиль не была столь невежественна, чтобы не уважать и тусклое светило, чье состоянье тоже имело свои права, и в глубине своей совести она даже сетовала на то, что Иаков совсем пренебрегал сестрой и так необузданно-односторонне направил все свое чувство на нее одну, хотя, с другой стороны, не могла полностью освободить свое сердце от женского удовлетворенья по этому поводу.
Праздник брачного ложа был назначен на полнолунье летнего солнцеворота, и Рахиль тоже признавалась, что с радостью ждала этого большого дня. Но на самом деле она была и явно печальна в последние перед свадьбой недели и тихо проливала слезы у щеки и плеча Иакова, не отвечая на его настойчивые расспросы ничем, кроме напряженной улыбки и покачиванья головой, настолько быстрого, что слезы отрывались от ее глаз; Что было у нее на сердце? Иаков не понимал этого, хотя и он тогда часто бывал печален. Печалилась ли она о своем девичестве, потому что кончалось время ее цветенья и она должна была стать деревом, которое приносит плоды? Это была, пожалуй, та печаль жизни, что вполне совместима со счастьем, та же печаль, какую в то время часто испытывал Иаков. Ведь брачная вершина жизни есть начало смерти и праздник поворота, когда луна вступает в день величайшей своей высоты и полноты и снова поворачивается лицом к солнцу, в которое потом и канет. Иакову предстояло познать ту, кого он любил, и начать умирать. Ибо отныне вся жизнь была уже не в одном Иакове, и он уже переставал быть единственным и одиноким владыкой мира; ему предстояло раствориться в своих сыновьях, а самому умереть. И все-таки он любил бы их, тех, кто нес бы его разделенную и разрознившуюся жизнь, потому что это была его жизнь, которую он, познавая, излил в лоно Рахили.
В то время ему приснился сон, надолго запомнившийся Иакову своей особой, примирительной и мирной печалью. Он видел его в теплую ночь месяца Таммуза, проводя ее в поле возле загонов, когда по небу, низкобокой ладьей, плыла уже та луна, которая должна была, разросшись до прекрасной округлости, освещать ночь блаженства. Иакову примерещилось, будто бегство его из дому не то продолжается, не то повторяется; будто он снова должен въехать в красную пустыню, а впереди него, лежевесно вытянув хвост, трусит рысцой остроухий, с головой пса, оглядывается и посмеивается; все это одновременно продолжалось и повторялось; не получив некогда настоящего развития, эта ситуация восстановилась, чтобы найти завершение.
Дорога Иакова была усеяна камнями-окатышами, и ничего, кроме сухого кустарника, кругом не росло. Нечистый зигзагами обегал валуны и кусты, исчезал за ними, показывался опять и оглядывался. Когда тот однажды исчез, Иаков прищурился. И только он прищурился, как это животное оказалось вдруг перед ним: оно сидело на камне и все еще было животным, если судить по его голове, скверной собачьей голове с навостренными ушами и клювообразно вытянутой мордой, оскал которой доходил до ушей; но тело, вплоть до почти незапылившихся пальцев ног, было у него человеческое и приятное для глаза, как тело тонкого и легкого пальчика. Он сидел на камне в небрежной позе, немного нагнувшись вперед, положив одну руку на бедро подтянутой к туловищу ноги, так что на животе над самым пупком у него образовалась складка, и вытянув перед собой, пяткой в землю, другую ногу. Эта вытянутая нога с изящным коленом и длинной, слегка выпуклой, тонкой голенью была всего приятней для глаз. Но уже на узких плечах, на верхней части груди и на шее у бога росли волосы, переходившие в глиняно-желтую шерсть песьей головы с широким разрезом пасти и маленькими, злобными глазками, головы, которая подходила к нему так, как может подходить безобразная голова к статному телу, каковое она печальным образом обесценивает, так что все это, нога и грудь, только могли бы быть миловидны, но при этой голове миловидны не были. К тому же, подъехав поближе, Иаков услышал во всей его остроте едкий шакалий запах, самым печальным образом исходивший от этого полупса-полумальчика. И уж совсем было печально и странно, когда тот раскрыл свою широкую пасть и заговорил надсадным, гортанным голосом:
— Ап-уат, Ап-уат.
— Не затрудняй себя, сын Усири, — сказал Иаков. — Я знаю, ты Ануп, проводник и открыватель дорог. Я удивился бы, если бы не встретил тебя здесь.
— Это была ошибка, — сказал бог.
— Ты о чем? — спросил Иаков.
— Они породили меня по ошибка, — пояснил тот, надсаживая свою пасть, — владыка запада и моя мать Небтот.
— Сожалею об этом, — отвечал Иаков. — Но как же это случилось?
— Она не должна была стать моей матерью, — продолжал юноша, и пасть его шевелилась уже ловчее. — Не она должна была ею стать. Ночь была виновата. Она корова, ей все равно. Она носит между рогами солнечный диск в знак того, что в нее время от времени входит солнце, чтобы породить с нею молодой день, но и рождая такое множество светлых сыновей, она всегда оставалась такой же тупой и равнодушной.
— Я постараюсь осознать, что это опасно, — сказал Иаков.
— Очень опасно, — закивал головой бог. — Готовая по коровьей своей доброте слепо объять все, что в ней ни произойдет, она принимает происходящее с тупым равнодушием, хотя бы это и происходило только потому, что темно.
— Худо, — сказал Иаков. — Но кто же должен был зачать тебя, если не Небтот?
— Ты этого не знаешь? — спросил собакоголовый.
— Я не могу различить, — отвечал Иаков, — что я сам знаю и что узнаю от тебя.
— Того, чего ты не знаешь, — возразил юноша, — я не мог бы тебе и сказать. В начале, не в самом начале, но поближе к началу были Геб и Нут. Это были бог Земли и богиня Неба. Они произвели на свет четырех детей: Усира, Сета, Исет и Небтот. И Исет стала сестрой во браке Усира, а Небтот — красного Сетеха.
— Это ясно, — сказал Иаков. — И что же, эта четверка недостаточно строго соблюдала такой порядок?
— Половина из них — нет, — отвечал Ануп. — К сожалению, нет. Что поделаешь, мы рассеянны, невнимательны и беспечно-мечтательны с детства. Заботливость и осторожность — это грязно-земные качества, но, с другой стороны, чего только не натворила уже беспечность в жизни!
— Совершенно верно, — подтвердил Иаков. — Нужно быть осторожным. Но если говорить откровенно, то все дело, по-моему, в том, что вы только идолы. Бог всегда знает, чего он хочет и что делает. Он дает слово и держит его, он ставит завет и остается верен ему навеки.
— Какой бог? — спросил Ануп.
Но Иаков ответил ему:
— Ты притворяешься. От совокупленья Земли с Небом, может быть, и родятся великие цари и герои, но только никак не боги, будь то четыре или один. Ты ведь и сам признаешь, что Геб и Нут были не в самом начале. Откуда же они появились?
— Из Тефнет, великой матери, — не задумываясь, отвечал сидевший на камне.
— Хорошо, — продолжал Иаков во сне, — ты говоришь это потому, что я это знаю. Но была ли Тефнет началом? Откуда появилась Тефнет?
— Ее призвал Невозникший, Сокрытый, чье имя Нун, — ответил Ануп.
— Я не спрашивал у тебя его имени, — сказал Иаков. — Но теперь, полумальчик-полусобака, ты начинаешь говорить разумные вещи. Я не собирался спорить с тобой. Как-никак ты идол. Так как же вышла оплошность у твоих родителей?
— Ночь была виновата, — повторил дурнопахнущий, — и он, носящий бич и пастушеский посох, был беспечно рассеян. Величество этого бога влекло к его сестре во браке Исет, но случайно, в слепой ночи, оно набрело на Небтот, сестру Красного. И великий этот бог обнял ее, ошибочно полагая, что это его жена, и ночь любви, с полным своим равнодушием, объяла обоих.
— Случится же такое! — воскликнул Иаков. — Что стряслось?
— Такое легко может случиться, — отвечал мальчик. — В своем равнодушии ночь знает правду, и ей наплевать на бойкие предрассудки дня. Ведь тело у одной женщины такое же, как и у другой, пригодное для любви, пригодное для зачатия. Только лицо отличает одно тело от другого и внушает нам, будто это тело мы хотим оплодотворить, а то — нет. Лицо — достояние дня, у которого бойкое воображенье, а для ночи, которая знает правду, лицо ничего не значит.
— Речь твоя груба и бесчувственна, — удрученно сказал Иаков. — Для столь тупоумных суждений есть, видно, основанья у обладателя такой головы, как твоя, и лица, которое нужно заслонить рукой, чтобы вообще заметить, не говорю уж — признать, что нога твоя красива и прекрасна, когда она вот так вытянута.
Ануп опустил глаза, подтянул к туловищу вторую ногу и спрятал руки между коленями.
— Не обо мне речь! — сказал он затем. — Я еще избавлюсь от своей головы. Так хочешь ты знать, что было дальше?
— Что же? — спросил Иаков.
— В ту ночь, — продолжал собакоголовый, — владыка Усир был для Небтот как Сет, Красный, ее супруг, а она для него — совсем как владычица Исет. Ибо он пригоден был для того, чтобы оплодотворять, а она для того, чтобы зачинать, а до всего остального ночи не было дела. И они услаждали друг друга, оплодотворяя и зачиная, ибо, полагая, что они любят, они только оплодотворяли чрево. И понесла меня эта богиня, а не Исет, праведная, как надо бы.
— Печально, — сказал Иаков.
— Когда настало утро, они разошлись, — продолжал человекопес, — и все могло бы кончиться хорошо, если бы величество этого бога не забыло у Небтот своего венка из лотосов. Красный Сет увидел этот венок и заревел. С тех пор он посягал на жизнь Усира.
— Ты рассказываешь то, что я знаю, — вспомнил Иаков. — Затем произошла история с ларем, не правда ли, куда Красный заманил брата, и с помощью этого ларя он убил его, и Усир, мертвый владыка, поплыл вниз по реке к морю в запаянном гробу.
— А Сет стал царем стран на престоле Геба, — добавил Ануп. — Однако на этом я не собираюсь задерживаться, и не это накладывает отпечаток на сегодняшнее твое сновиденье. Ведь Красный недолго оставался царем стран, потому что Исет родила мальчика Гора, который его побил. Но заметь, когда она искала по свету убитого и потерянного, когда она, не переставая, кричала: «Приди в свой дом, приди в свой дом, возлюбленный! О прекрасное дитя, приди в свой дом!» — с нею была Небтот жена его убийцы, которую принесенный в жертву обнимал по ошибке, она не отставала от нее ни на шаг, их сблизила боль, и они плакали вместе: «О ты, чье сердце уже не бьется, я хочу тебя видеть, о прекрасный властитель, я хочу тебя видеть!»
— Это была мирная и печальная картина, — сказал Иаков.
— Но это-то, — отвечал сидевший на камне, — и накладывает отпечаток. Ведь кто еще был с ней и помогал ей в ее поисках, блужданьях и плачах, и тогда, и позднее, когда Сет, найдя найденное и спрятанное тело Усира, расчленил его на четырнадцать частей, которые Исет пришлось искать, чтобы собрать тело владыки? Еще с нею был я, Ануп, сын неправедной, отпрыск убитого, я был с нею в ее блужданьях и поисках, я не отставал от Исет, и в пути она опиралась на меня, обнимая меня за шею одной рукой, и мы плакали вместе: «Где ты, левая рука моего прекрасного бога, и где ты, правая лопатка и правая его стопа, где ты, благородная его голова, где священный уд, который пропал, кажется, совсем, так что нам придется заменить его подделкой из смоковного дерева?»
— Ты говоришь непристойно, совсем как мертвецкий бог обеих стран, — сказал Иаков.
Но Ануп возразил ему:
— В твоем положении следовало бы знать толк в таких вещах, ведь ты жених и должен оплодотворить и умереть. Ибо в детородном члене заключена смерть, а в смерти заключен детородный член, такова тайна могилы, и детородный член разрывает пелены смерти и восстает против смерти, как это и случилось у владыки Усири, над которым Исет парила, как самка коршуна: она заставляла мертвеца изливать семя и совокуплялась с ним, плача.
— Пожалуй, лучше всего проснуться, — подумал Иаков.
И когда ему еще казалось, что он видит, как этот бог взлетает с камня и исчезает, причем взлетает и исчезает одним рывком, он проснулся среди звездной ночи возле загонов. Сон о шакале Анупе померк вскоре у него в памяти, словно бы уйдя со своими подробностями назад, в простое и подлинное дорожное приключенье, так что только оно Иакову и запомнилось. И лишь умиротворяющая печаль осталась еще не надолго в его душе от этого сна, печаль о том, что оплошно обнятая Небтот искала и плакала вместе с Исет, а та, обойденная, опиралась и полагалась на ошибочно зачатого.
Свадьба Иакова
Часто совещаясь тогда с Лаваном насчет предстоявших событий и насчет подробностей праздника брачного ложа, Иаков слышал, что тот задумал пышное торжество и намерен устроить свадьбу на славу, не считаясь с расходами.
— Раскошелиться, конечно, придется, — говорил Лаван, — потому что ртов на усадьбе стало много, а накормить надо всех. Но жалеть об этом не стоит, ведь хозяйственное наше положенье не совсем скверно, нет, оно более или менее благоприятно по разным причинам, среди которых, надо, пожалуй, назвать и благословенье Исаака, с тобой пребывающее. Потому-то я и смог увеличить рабочую силу и купил двух служанок вдобавок к этой неряхе Ильтани — Зелфу и Валлу, девок отменных. В день свадьбы я подарю их дочерям: Зелфу — Лии, старшей моей, а моей второй — Валлу. И поскольку жених — ты, то и служанка будет твоя, ты получишь ее в приданое, и две трети мины серебра войдут в ее стоимость, согласно нашему договору.
— Прими ласковую мою благодарность, — говорил Иаков, пожимая плечами.
— Это еще пустяк, — продолжал Лаван. — Ведь праздник я устрою целиком за свой счет, я приглашу отовсюду людей на шабаш, найму музыкантов, чтобы они играли и плясали! Уложу двух коров и четырех овец и напою гостей допьяна, так что у них будет двоиться в глазах. На это придется мне раскошелиться, но я понесу расходы безропотно, ведь это же свадьба моей дочери. Кроме того, я собираюсь сделать невесте один подарок, который оденет ее и которому она очень обрадуется. Я давно уже купил эту вещь у одного странствующего торговца и хранил ее в ларе, ибо она дорого стоит: это покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Иштар и чтобы ты поднял его с посвященной. Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушке знатного рода, очень уж искусно вышито оно всевозможными знаками Иштар и Таммуза; и пусть она покроется им, непорочная. Ведь она непорочна, и пусть она будет как одна из Эниту, как невеста небесная, которую на празднике Иштар в Вавилоне жрецы ежегодно приводят к богу: они ведут ее вверх при всем народе по лестницам башни и через семь ворот, и у каждых ворот снимают с нее что-нибудь из ее украшений и ее одежд, а у последних — срамной плат, и священно нагую уводят в верхнюю спальню башни Этеменанки. Там на постели она принимает бога в кромешной темноте ночи, и тайна эта велика чрезвычайно.
— Гм, — отозвался Иаков, ибо Лаван вытаращил глаза, растопырил по обеим сторонам головы пальцы и принял такой торжественный вид, какой, на взгляд племянника, был этой персти земной совсем не к лицу.
Лаван продолжал:
— Приятно, конечно, и славно, когда у жениха есть собственный дом и двор или когда он ни в чем не знает отказа в родительском доме и прибывает во всем своем великолепии, чтобы взять невесту и с пышностью отвезти ее по суше или по воде в наследственные свои владенья. Но ты, как тебе известно, всего-навсего бездомный беглец, ты поссорился со своей семьей и останешься жить у меня, став моим зятем, — ну, что ж, помирюсь и на том. Никакого брачного путешествия — ни по суше, ни по воде — не будет, после ужина и попойки вы останетесь у меня; но когда я стану между вами и прикоснусь к вашим лбам, мы не нарушим здешнего обычая и с пеньем поведем тебя вокруг двора в спальню. Ты будешь там сидеть на кровати, с цветком в руке, и ждать невесты. Ибо ее, непорочную, мы тоже проведем вокруг двора с факелами и пеньем, а у двери спальни факелы мы погасим и я подведу к тебе посвященную и оставлю вас одних, чтобы ты подал ей в темноте этот цветок.
— Так принято и это законно? — спросил Иаков.
— Везде и всюду, ты это говоришь, — отвечал Лаван.
— Ну, что ж, не стану перечить, — сказал Иаков. — Полагаю, впрочем, что хоть один-то факел или светильник будет гореть, чтобы я мог видеть свою невесту, когда протяну ей цветок и после.
— Замолчи! — воскликнул Лаван. — Как это тебе приходит в голову вести такие бесстыдные речи, и к тому же при отце, которому и так горько и тяжело вести свою дочь к мужчине, чтобы он снял с нее покрывало и спал с ней. Прикуси же, по крайней мере, свой похотливый язык и замкни в себе свое безмерное сластолюбье! Разве у тебя нет рук, чтобы видеть, и тебе нужно пожирать непорочную глазами, чтобы полней насладиться ее стыдом и трепетом ее девственности? Уважай тайну верхней храмины башни!
— Извини, — сказал Иаков, — прости меня! Мои мысли не были такими бесстыдными, какими они выглядят в твоем изложенье. Мне просто хотелось бы видеть невесту глазами. Но если везде и всюду принято поступать так, как ты предписываешь, то я пока удовлетворюсь этим.
Так приближался день полнолунья и праздник брачного ложа, и во дворе и доме Лавана, удачливого овцевода, резали скот, варили, жарили, стряпали, и было угарно, стоял треск, и у всех слезились глаза от едкого дыма, валившего из-под котлов и из-под жаровен: чтобы не тратиться на древесный уголь, Лаван топил почти одними колючками и навозом. Хозяева и челядь, в том числе и сам Иаков, не покладая рук готовили угощенье для пира не только многолюдного, но и продолжительного, ибо свадьба должна была длиться семь дней, и дом навлек бы на себя позор и насмешки, если бы преждевременно иссякли запасы пирожных, кренделей, пирогов с рыбой, похлебок, киселей, молочных блюд, пива, фруктовых напитков и крепких водок, не говоря уже о жареной баранине и телячьих окороках. За работой пели песни во славу толстяка Удунтамку, ведающего едой бога чревоугодия. Трудились и пели все — Лаван и Адина, Иаков, и Лия, и неряха Ильтани, и служанки дочерей Валла и Зелфа, и двадцатишекельный Абдхеба, и рабы новокупленные. Поздние сыновья Лавана, в одних рубашонках, с восторгом бегали среди этой суеты взад и вперед, падали, поскользнувшись, в лужи пролитой крови заколотых животных и пачкались в ней, после чего отец надирал им уши, а они, как шакалы, выли; и только Рахиль тихо и праздно сидела одна в доме, ибо теперь ей не полагалось видеть жениха, а ему невесту, и разглядывала подаренное ей отцом драгоценное покрывало, которое должна была надеть на праздник. Оно было великолепно, это чудо ткацкого и вышивального искусства — казалось незаслуженной удачей, что такая вещь попала в Лаванов дом и ларец; человек, который ему дешево ее уступил, не мог не быть в очень стесненных обстоятельствах.
Длинное и просторное, сразу и просто платье и платье верхнее, с широкими рукавами, в которые можно было при желании просунуть руки, покрывало это было скроено так, что часть его надевалась на голову или обматывалась вокруг головы и плеч, но могла быть также откинута за спину. До странного трудно было определить вес девичьего этого одеянья на ощупь, оно было одновременно легким и тяжелым, неодинаковой тяжести в разных местах: легкое благодаря своей голубоватой основной ткани, бесплотной, как воздух и туман, и такой невесомой, что покрывало, казалось, можно спрятать в одной руке, — оно было в то же время полно тяжелых вкраплений блестящей и пестрой вышивки, плотной и выпуклой, выполненной золотыми, бронзовыми, серебряными и всяких других цветов нитками — белыми, пурпурными, розовыми, оливковыми, которые встречались также в похожих на эмалевые краски черно-белых и пестрых сочетаньях и составляли нагляднейшие картины и знаки. Многократно и на разные лады изображена была Иштар-Мами: нагая и маленькая, она руками выжимала молоко из своих грудей, а по бокам у нее располагались Луна и Солнце. То и дело повторялось также многокрасочное изображенье пятиконечной звезды, означавшей «бога», и во многих местах серебряно сияла голубка — птица богини любви и материнства. Герой Гильгамеш, на две трети бог и на треть человек, был вышит со львом, которого он душил одной рукой. Легко было узнать и двух скорпионочеловеков, охраняющих на краю света ворота, через которые уходит в преисподнюю солнце. Показаны были также разные животные, в каких превратила Иштар своих любовников — волк, например, и летучая мышь, та самая, что когда-то была садовником Ишаллану. В пестрой птице нетрудно было узнать овчара Таммуза, первого наперсника сладострастных забав Иштар, уделом которого та сделала ежегодный плач, и налицо был также огнедышащий бык небесный, которого Ану наслал на Гильгамеша из сочувствия неутоленному желанью Иштар и в ответ на ее пылкие жалобы. Перебирая руками ткань, Рахиль видела также мужчину и женщину, сидевших по обе стороны дерева и протягивавших руки к его плодам; а за спиной женщины дыбилась уже змея. Вышито было и некое священное дерево; возле него, друг против друга, стояли два бородатых ангела, прикасаясь к нему, чтобы оплодотворить его чешуйчатыми шишками мужского цветенья; а над древом жизни, окруженный солнцем, луной и звездами, парил знак женского естества. Еще были вышиты изречения — широкими, заостренными знаками, которые либо лежали, либо косо или прямо стояли, разнообразно пересекая друг друга. И Рахиль разбирала слова: «Я сняла платье свое, не надеть ли мне его снова?»
Она подолгу играла пестрой этой тканью, этим ослепительным покрывалом; она закутывалась в него, вертелась и оглядывала себя, изобретательно драпируясь узорной его прозрачностью. Это было ее развлеченьем, покуда она уединенно ждала, а другие готовили праздник. Иногда ее навещала Лия, ее сестра. Та тоже примеряла прекрасный этот наряд, а потом они сидели рядом, с плащаницей на коленях, и плакали, гладя одна другую. Почему они плакали? Это было их дело. Скажем только, что плакали они каждая о своем.
Когда Иаков с расплывающимся взглядом предавался воспоминаньям и все истории, запечатлевшиеся на его лице и придававшие его жизни вес и достоинство, воскресали в нем и делались его мысленным настоящим, как это произошло, когда он с красным своим близнецом хоронил отца, — самыми яркими оказывались тот день и та история, которые нанесли его чувству такое умопомрачительное пораженье и оскорбленье, что душа его долго не могла оправиться и выздоровела, вновь обретя веру в себя, только, в сущности, благодаря новому чувству, воскресившему прежнее, растоптанное и поруганное, — ярче всего оживали тогда для него история и день его свадьбы.
Они все вымыли голову и тело, Лавановы домочадцы, в благословенной воде пруда, умастились и завились должным образом, надели праздничное платье и сожгли много душистого масла, чтобы встретить приглашенных гостей приятным запахом. Гости прибывали пешком, верхом на ослах и в повозках, запряженных волами или лошаками, и одни мужчины, и мужья с женами, и даже дети, если их не с кем было оставить дома, — окрестные крестьяне и скотоводы, тоже умащенные, завитые и в праздничном платье, люди такого же, как Лаван, тяжелого нрава, и с таким же хозяйственным направленьем ума. Они кланялись, прикладывая руку ко лбу, справлялись о здоровье, а затем располагались в доме и во дворе, у котлов и накрытых столов, чтобы, ополоснув руки и прищелкнув языком, призвав на помощь Шамаша и воздав хвалу хозяину дома и отцу невесты Лавану, приступить к долгому пиршеству. Пир шел и в наружном дворе, между амбарами, и в мощеном, внутреннем, вокруг камня для жертвенных даров, на крыше дома и на деревянной его галерее, а у самого жертвенника разместились нанятые в Харране музыканты, арфисты, тимпанщики и кимвалисты, которые были также и плясунами. День выдался ветреный, а вечер и вовсе, скользившие мимо луны облака порою целиком ее прятали, что многим, хотя они этого и не высказывали, казалось недобрым знаком; ведь то были люди простые, и для них не было разницы между затемняющей лик облачностью и настоящим затменьем. Душный ветер, со вздохами ходивший по дому, свистевший в камышовых крышах амбаров и заставлявший скрипеть и шелестеть тополя, ворошил запахи свадьбы, испаренья умащенных застольцев, кухонный чад, смешивал их, развевал и, казалось, так и норовил сорвать дымное пламя с треног, на которых сжигали нард и смолу будулу. Этот едкий, взбаламученный ветром дух пряностей, праздничного пота и жареного мяса Иаков ощущал в носу неизменно, когда он вспоминал о тогдашнем.
Он сидел с Лавановыми домочадцами среди других пирующих в верхней горнице, там, где семь лет назад впервые преломил хлеб с чужеземной родней, сидел с хозяином дома, его плодовитой женой и их дочерьми за нагроможденными на скатерти десертом и лакомствами, опресноками, финиками, чесноком и огурцами, и чокался с гостями, поднимавшими перед ним и перед хозяевами хмельную чашу. Рахиль, невеста его, которую он должен был сейчас получить, сидела с ним рядом, и время от времени он целовал край покрывала, окутывавшего ее тяжелыми от вышивки складками. Она ни разу не подняла его, чтобы прикоснуться к еде и к напиткам: посвященную накормили, по-видимому, перед торжественным ужином. Она сидела тихо и молча и только смиренно склоняла закутанную голову, когда он целовал покрывало, и он, Иаков, тоже сидел молча, оглушенный праздничной суетой, с цветком в руке, с белоцветной веточкой мирта из орошенного Лаванова сада. Он выпил пива и финикового вина, в голове у него кружилось, и душа его не растворялась в мыслях и не воспаряла к созерцательной благодарности, а отяжелела в его умащенном теле, и тело было его душой. Он очень хотел думать и постигать размышленьем, как бог устроил все это, как он явил некогда беглецу возлюбленную, дитя человеческое, которую тому достаточно было увидеть, чтобы навеки избрать ее сердцем и полюбить навсегда, полюбить не только в ней самой, но и в детях, которых она принесет его нежности. Он очень хотел радоваться своей победе над временем, над горьким временем ожидания, назначенным ему, надо полагать, во искупление обиды Исава и горьких его слез; он хотел с хвалой на устах положить ее, эту победу, это свое торжество, к стопам господним, ибо принадлежала она не кому иному, как богу, который через него, Иакова, и через его деятельное терпенье поборол время, чудовище семиглавое, как некогда змея хаоса, отчего все, что было затаенным желаньем, стало теперь действительностью и Рахиль сидела рядом с ним в покрывале, которое он скоро поднимет. Он очень хотел участвовать в своем счастье душой, Но со счастьем дело обстоит так же, как и с его ожиданьем, которое, чем дольше длилось, тем больше утрачивало свою чистоту, смешиваясь с житейскими заботами и деловыми усилиями. И когда деятельно ожидаемое приходит, оно тоже совсем не эфирно, как то казалось при взгляде в будущее, нет, оно становится физической реальностью и обладает физической тяжестью, как всякая жизнь. Ибо жизнь во плоти никогда не бывает сплошным блаженством, она противоречива и отчасти неприятна, и когда счастье становится физической жизнью, то вместе с ним становится ею душа, его дожидавшаяся; и теперь она ужи не что иное, как тело с напоенными маслом порами, от которого и зависит ныне это когда-то далекое и блаженное счастье.
Иаков сидел, напрягши бедра, и думал о своей мужской стати, от которой зависело теперь счастье и которая вскоре могла и обязана была показать себя в священной темноте спальни. Ибо счастье его было счастьем свадьбы и праздником Иштар, оно было чадным, обжорливым, пьяным, хотя когда-то зависело от бога и находилось в его руках. И если раньше Иакову бывало жаль ожиданья, когда оно невольно забывалось в суете жизни, то сейчас ему было жаль бога, который, будучи верховным владыкой жизни и всего, какого только можно желать, будущего, отдавал власть над часом свершенья тем божкам и идолам плоти, под знаком которых этот час находился. Поэтому Иаков целовал голое изображенье Иштар, когда поднимал край покрывала Рахили, которая сидела рядом с ним, как чистая жертва продолжению рода.
Напротив него, наклонившись к нему и опершись тяжелыми руками на доску стола, сидел Лаван и глядел на него тяжелым, пристальным взглядом.
— Радуйся, сын и племянник, ибо пришел твой час и наступил день расплаты, и тебе будет заплачено по закону и договору за семь лет, которые ты служил дому моему и хозяйству к большему или меньшему удовлетворенью хозяина. Заплачено не деньгами и не товаром, а девчоночкой, дочерью моей, которой желает твоя душа, ты получишь ее, как того желаешь, и она будет послушна твоим объятьям. Сердце стучит у тебя, наверно, вовсю, ведь это великий час для тебя, час поистине жизненно важный, равный, как я полагаю, самым великим часам твоей жизни, такой же великий, как час, когда ты получил у отца благословенье в шатре, как ты мне когда-то рассказывал, хитрый сын хитрой матери!
Иаков не слушал. А Лаван, грубо подтрунивая над ним при гостях, продолжал:
— Скажи-ка, зятек, каково у тебя на душе? Не в ужасе ли ты от счастья, что обнимешь невесту, и не страшно ли тебе, как тогда, когда ты, позарившись на благословенье, вошел к отцу с трясущимися коленками? Не говорил ли ты, что у тебя пот катился по бедрам от страха и даже голос, кажется, пропал у тебя, когда нужно было опередить проклятого твоего брата? Смотри же, счастливчик, чтобы радость не сыграла с тобой шутку и у тебя не пропала детородная сила! Невеста не простила бы тебе этого.
Верхнюю горницу огласил оглушительный хохот, и тогда Иаков еще раз поцеловал, улыбаясь, изображенье Иштар, которой отдал этот час бог. А Лаван тяжело поднялся и, не совсем твердо держась на ногах, сказал:
— Ну, что ж, пора, уже полночь, подойдите ко мне, я вас сведу.
Тут все столпились, чтобы поглядеть, как жених и невеста стоят на коленях перед отцом невесты на каменном полу, и послушать, как Иаков держит ответ, согласно обычаю. И Лаван спросил его, будет ли эта женщина его женой, а он ее мужем и протянет ли он ей цветок, и на это Иаков отвечал утвердительно. И еще спросил, доброго ли он рода и намерен ли он сделать эту женщину богатой, а чрево ее плодородным. И на это Иаков отвечал, что он сын великого человека и наполнит подол этой женщины серебром и золотом, и сделает ее плодоносной, как плоды сада. Тогда Лаван дотронулся до их лбов, стал между ними и возложил на них руки. Затем он велел им встать и обнять друг друга, и брак их был заключен. И посвященную он отвел назад к матери, а зятя взял за руку и под пенье напиравших сзади гостей повел по кирпичной лестнице на мощеный двор, где шествие возглавили музыканты. За ними двинулись рабы с факелами, а за рабами — дети в рубашках, с маленькими, подвешенными к цепочкам курильницами. В клубах поднимавшегося от них благовонного дыма, ведомый Лаваном, шагал Иаков, держа белоцветную миртовую ветку в правой руке. Он не участвовал в сопровождавшем шествие традиционном пенье и только, когда Лаван толкал его в бок, чтобы он раскрыл рот, что-то мычал. Сам же Лаван подпевал тяжелым басом, назубок зная все нежные и томные песни о нем и о ней вообще, о влюбленных, которые собираются разделить ложе и оба ждут не дождутся этого часа. О процессии, в которой все действительно участвовали, пелось, что она приближается со стороны степи и окутана лавандовым и мирровым дымом. Это шествовал жених, на голове его был венец, его мать украсила его дряхлыми своими руками в день его свадьбы. К Иакову это не могло относиться: его мать была далеко, он был всего только беглецом; и никак не подходили к частному его случаю слова о том, что жених уводит любимую в дом своей матери, в покои тех, кто его родил. Но именно поэтому, казалось, Лаван и подпевал так истово, чтобы возвеличить этот прекрасный образец перед несовершенной действительностью и заставить Иакова почувствовать эту разницу. Затем в песне шли речи жениха и полные страсти ответы невесты, обменивавшихся восторженными похвалами и нежностями. Наконец, ходатайствуя друг за друга, влюбленные заклинали всех не будить их до срока, когда они блаженно уснут, и дать жениху отдохнуть, а невесте поспать до тех пор, покуда они сами не пробудятся. Сернами и полевыми ланями заклинали они людей в этой песне, которую, шагая, все пели с большим внутренним участием, и даже кадившие дети, толком не понимая ее, пронзительно ей вторили. Так, среди ветреной, темнолунной ночи, процессия обошла усадьбу Лавана один раз и два раза, и подошла к дому и пальмовой двери дома, протиснулась вслед за музыкантами в дом и подошла к спальне на первом этаже, у которой тоже была дверь, и Лаван провел туда Иакова за руку. Он велел посветить факелами, чтобы Иаков осмотрелся в комнате и увидел, где стоят стол и кровать. Затем он пожелал ему благословенной мужской силы и повернулся к столпившемуся в дверях эскорту. Они удалились, снова затянув песню, а Иаков остался один.
И через много десятилетий, даже в глубокой старости и даже на смертном одре, где он торжественно об этом вещал, он ничего не помнил отчетливей, чем тот час, когда он стоял один в темноте спальни, на сквозняке; ибо ночной ветер с силой врывался в оконные проемы под потолком и, устремляясь к окнищам, выходившим на внутренний двор, теребил ковры и занавески, которыми, как увидел при свете факелов Иаков, украсили стены, и наполнял комнату шорохами и хлопаньем. Как раз под ней находились архив и склеп с терафимами и расписками; сквозь тонкий ковер, постеленный здесь по случаю свадьбы, Иаков нащупал ногой кольцо опускной двери, которая туда вела. Он успел разглядеть и кровать и подошел к ней с протянутой вперед рукой. Это была лучшая кровать в доме, одна из трех, Лаван и Адина сидели на ней во время того первого ужина семь лет назад: диван на ножках, облицованных металлом, и округлый подголовник тоже был из лощеной бронзы. Деревянный остов, как на ощупь определил Иаков, был застелен одеялами и сверху полотном, а подголовник обложен подушками; только ширины не хватало этой кровати. Рядом, на столике, стояли пиво и закуска. Еще в комнате были два табурета, тоже покрытые материей, и подставки для светильников у изголовья кровати. Но масла в светильниках не было.
Все это Иаков исследовал и установил в ветреной темноте, пока его провожатые, отправившись за невестой, наполняли гамом и топотом дом и двор. Затем, с цветком в руке, он сел на кровать и стал прислушиваться. Они снова покинули дом для шествия, с кимвалами и арфами впереди и с Рахилью, возлюбленной, которой принадлежало все его сердце и которая шла с ними под покрывалом. Лаван вел ее за руку, как раньше его, и Адина, может быть, тоже, и томные свадебные песни снова звучали хорами, то ближе, то дальше. Окончательно приблизившись, они пели:
Мой любимый принадлежит мне, он мой целиком. Я — запертый сад, полный манящих плодов, благоуханья тонкого полный: Приди в свой сад, возлюбленный мой! Смело собери манящие плоды, освежись их сладостным соком!Но вот ноги тех, кто это пел, были уже у двери, и дверь приоткрылась, так что один миг бренчанье и пенье проникали внутрь без препятствий, закутанная была уже в комнате, куда ее ввел Лаван, который сразу снова захлопнул дверь; и они были одни в темноте.
— Это ты, Рахиль? — спросил Иаков после короткого молчанья, подождав, чтобы те немного рассеялись… Он спросил это так, как спрашиваешь порой: «Ты вернулся?», хотя тот, к кому обращены эти слова, стоит перед тобой и, значит, не мог не вернуться, так что вопрос твой бессмыслен, это пустой звук, и спрошенный может только рассмеяться вместо ответа. Но Иаков услыхал, как она утвердительно кивнула головой: он заключил это из мягкого шелеста и шуршанья легко-тяжелого покрывала.
— Милая, маленькая, голубка моя, зеница моего ока, сердце моей груди, — сказал он ласково. — Здесь так темно и так дует… Я сижу на кровати, если ты этого не заметила, прямо в глубь комнаты и немного направо. Иди же сюда, но не наткнись на стол, а то потом на твоей нежной коже будет черное с синевой пятно, и ты опрокинешь к тому же пиво. Я вовсе не хочу пива, я не к тому, я хочу только тебя, гранатовое мое яблоко, — как хорошо, что тебя привели ко мне и я больше не сижу один на ветру. Ты идешь? Я с радостью пошел бы тебе навстречу, но, кажется, мне нельзя, ведь закон и обычай требуют, чтобы я подал тебе цветок сидя, и хотя нас никто не видит, лучше нам соблюдать правила, чтобы мы были настоящими мужем и женой, как того непреклонно желали в течение стольких лет ожиданья.
От избытка чувств голос его сорвался. Представленье о времени, которое он ради этого часа с терпеньем и нетерпеньем преодолел, наполнило его глубокой растроганностью, а мысль, что она ждала вместе с ним и сейчас тоже видела себя у цели своих желаний, заставляла его растроганное сердце биться еще сильнее. Такова любовь, если она совершенна: это сразу и растроганность и радость, нежность и чувственность, и в то время как у Иакова от потрясения лились слезы, он чувствовал, как напряжена его мужественность.
— Вот и ты, — говорил он. — Ты нашла меня в темноте, как я нашел тебя после более чем семнадцатидневного путешествия, когда ты пришла среди овец и сказала: «Ба, чужеземец!» И мы избрали друг друга среди людей, и я служил за тебя семь лет, и время это лежит у наших ног. Вот он, серна моя, моя голубица, вот он цветок! Ты не видишь и не находишь его, поэтому я приложу твою руку к веточке, чтобы ты взяла ее, и я дам ее тебе, и мы будем едины. Но руку твою я не отпущу, потому что люблю ее и люблю косточку ее запястья, хорошо мне знакомую, так что я к радости своей узнаю ее в темноте, и для меня рука твоя как ты сама и как все твое тело, а оно как пшеничный сноп, увенчанный розами. Любимая, сестра моя, ляг же рядом со мной, я подвинусь, и теперь места хватит для двух, и хватило бы для трех, будь в том нужда. Но как добр господь, что позволяет нам быть вдвоем, удалившись от всех, мне с тобой, а тебе со мной! Ибо я люблю только тебя за твое лицо, которого я сейчас не вижу, но которое тысячу раз видел и от любви целовал, ибо это его миловидность увенчала твое тело, как розами, и стоит мне подумать, что ты Рахиль, с которой я часто бывал, но так — еще никогда; которую ждал и которая ждала, да и теперь ждет меня и моей нежности, меня охватывает восторг, и он сильнее меня, и я изнемогаю от него. Темнота окутывает нас плотнее, чем покрывало, которым украсила себя непорочная, она лежит повязкой у нас на глазах, и они вне себя ничего не видят, они ослепли. Но ослепли, слава богу, только они, но ни одно из других наших чувств. Ведь мы же слышим друг друга, когда говорим, и темнота нас больше не разделяет. Скажи мне, душа моя, ты тоже восхищена величием этого часа?
— Для меня блаженство быть твоей, возлюбленный господин мой, — сказала она тихо.
— Это могла бы сказать Лия, старшая твоя сестра, — отвечал он. — Не по смыслу, а по произношению, разумеется. Видно, голоса сестер похожи, и слова звучат в их устах родственно. Ведь один и тот же отец зачал их в одной и той же матери, и хотя между ними есть некоторая разница во времени и живут они порознь, в лоне начал они едины. Знаешь, я немного боюсь слепых своих слов, ведь вот я сказал, что темнота не властна над нашими речами, а сам чувствую, что мрак проникает в мои слова и их пропитывает, и они меня немного пугают. Хвала же способности различать и тому, что ты Рахиль, а я Иаков, а не, к примеру сказать, Исав, красный мой брат! Отцы и я — мы не мало времени размышляли у загонов о том, что такое бог, и наши дети и дети наших детей будут об этом размышлять вслед за нами. Но в этот час я скажу, и речь моя будет светла, чтобы темнота перед ней отступила: бог — это способность различать! Поэтому я сниму с тебя покрывало, любимая, чтобы увидеть тебя видящими руками, и положу его осторожно на кресло, которое здесь стоит, ибо покрывало это драгоценно своими изображеньями, и мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью. Вот они, твои волосы, черные, но красивые, я так хорошо знаю их, я знаю их благоуханье, которому нет равного, я прижимаю их к своим губам, и что может сделать тут темнота? Она не может втиснуться между моими губами и твоими волосами. Вот они, твои глаза, улыбающаяся ночь в ночи, и нежные их впадины, и я узнаю те отлогости под ними, с которых я так часто стирал поцелуями слезы нетерпенья, отчего губы мои делались влажными. Вот они, твои щеки, мягкие, как пух и как тончайшая шерсть чужеземных коз. Вот они, твои плечи, которые предстают моим рукам чуть ли не более статными, чем днем глазам, вот руки твои, а вот…
Он умолк. Когда видящие его руки покинули ее лицо и нашли ее тело и кожу ее тела, Иштар проняла их обоих, бык небесный дохнул, и дыханье обоих смешалось в его дыханье. И всю эту ветреную ночь напролет Лаванова дочь была Иакову прекрасной подругой, недюжинной в сладострастье, неутомимой в труде зачатья, и принимала его снова и снова, так что они не считали, а пастухи отвечали друг другу, что девять раз.
Потом он спал на ее руке, сидя на полу, ибо постель была узка, а он хотел, чтобы отдыхать ей было просторно и удобно. Поэтому он спал, примостившись у кровати, щекой на ее руке, лежавшей у края. Забрезжил рассвет. Пасмурно-красный, притихший, он стоял за окнищами, медленно наполняя светом брачную спальню. Первым проснулся Иаков — от света зари, проникшего под его веки, и от тишины, ибо до глубокой ночи в доме и во дворе не утихал шум и смех продолжавшегося застолья и угомонились все только под утро, когда новобрачные уже спали. Кроме того, он устроился неудобно, хотя и с радостью, — потому ему легче было проснуться. Он встрепенулся, почувствовал ее руку, вспомнил, как все обстояло, и повернулся к ней ртом, чтобы поцеловать руку. Затем он поднял голову, чтобы поглядеть на любимую и на ее сон. Он взглянул на нее тяжелыми, слипавшимися от дремоты глазами, которые еще закатывались и видели еще плохо. И оказалась перед ним Лия.
Он опустил глаза и, улыбаясь, покачал головой. Вот еще, — думал он, хотя у него уже похолодели желудок и сердце, — вот еще новость! Язвительный морок, потешное наважденье! Глаза застилала темнота, и теперь, когда ее покров спал, они прикидываются незрячими. Может быть, сестры втайне очень похожи друг на друга, хотя сходства никак нельзя усмотреть в их чертах, но когда они спят, оно, может быть, становится видно? Поглядим-ка получше!
Но он медлил взглянуть на нее, потому что боялся, и все, что он говорил про себя, было только суесловием ужаса. Он уже видел, что у нее светлые волосы и красноватый нос. Он протер глаза суставами пальцев и заставил себя посмотреть. Перед ним спала Лия.
Голова у него пошла кругом. Как попала сюда Лия и где Рахиль, которую к нему впустили и которую он познал этой ночью? Он попятился от кровати, проковылял к середине комнаты, он стоял там в рубашке, прижав кулаки к щекам.
— Лия! — крикнул он со сдавленным горлом.
Она уже приподнялась. Она поморгала глазами, улыбнулась и опустила веки, как он это много раз видел. Одно плечо и одна грудь ее были обнажены; они были красивы и белы.
— Иаков, муж мой, — сказала она, — пусть будет так по воле отца. Ибо он этого хотел и это устроил, и я молю богов, чтобы ты еще поблагодарил за это его и их.
— Лия, — пробормотал он, указывая на свое горло, на лоб и на сердце, — с каких пор это ты?
— Это все время была я, — отвечала она. — Я была твоя этой ночью, с тех пор как вошла сюда в покрывале. Я всегда ждала тебя с нежностью, как и Рахиль, с тех пор, как впервые увидела тебя с крыши, и, надеюсь, я доказала это тебе всей этой ночью. Скажи сам, разве я не служила тебе, как только может служить женщина, и разве не была добросовестна в сладком труде? Я глубоко уверена, что понесла от тебя, и у нас будет сын, сильный и добрый, и пусть его зовут Ре'увим.
Иаков задумался и вспомнил, как этой ночью принимал ее за Рахиль, и подошел к стене, и положил на стену руку, а на руку лоб и горько заплакал.
Он долго стоял так, растерянный, и каждый раз, стоило ему подумать о том, как он верил и познавал, как все его счастье было обманом, как осквернен был час исполненья, час, ради которого он служил и победил время, ему казалось, что внутренности у него перевернутся, и он отчаивался в душе своей. А у Лии больше не было слов, она только плакала время от времени тоже, как уже плакала прежде с сестрой. Ибо она видела, в сколь малой мере была той, которая многократно его принимала, и только мысль, что, вероятно, она все-таки понесла от него сильного сына по имени Рувим, нет-нет да поддерживала ее дух.
Затем он оставил ее и бросился прочь из комнаты. Он чуть не споткнулся о тела, которые лежали за дверью и по всему дому и во дворе, среди беспорядка вчерашнего пира, на циновках и одеялах или на голой земле, и спали, упившись.
— Лаван! — крикнул он, шагая через спящих, которые недовольно бурчали, ворочались и продолжали храпеть. — Лаван! — повторил он свой оклик тише, ибо мука, ожесточенье и неистовая жажда привлечь Лавана к ответу не могли подавить в нем оглядку на тех, кто спал в этот ранний час после тяжелой попойки. — Лаван, где ты?
И он подошел к каморке Лавана, хозяина дома, где тот лежал со своей женой Адиной, постучался и позвал:
— Выйди, Лаван!
— Что такое! — отвечал Лаван изнутри. — Кто зовет меня ни свет ни заря, после того как я напился?
— Это я, выходи! — ответил Иаков.
— Вот оно что, — сказал Лаван. — Это мой зять. Он говорит, правда, «я», как малый ребенок, словно это одно уже определяет человека, но я узнаю его голос и выйду послушать, что ему нужно сообщить мне в такую рань, хотя сейчас у меня был как раз самый сон. — И он вышел в рубашке, с растрепанными волосами и хмурясь.
— Я спал, — повторил он. — Я спал превосходно и благотворно. Почему ты не спишь тоже или не занят тем, чего требует от тебя твое положенье?
— Это Лия, — сказал Иаков дрожащими губами.
— Само собой разумеется, — ответил Лаван. — И поэтому ты прерываешь на рассвете законный мой сон после тяжелой попойки, чтобы сообщить мне то, что я знаю не хуже твоего?
— Ах ты змей, тигр, бесовское отродье! — закричал Иаков, теряя самообладание. — Я говорю тебе это не затем, чтобы ты узнал это, а для того, чтобы показать тебе, что и я это теперь знаю, и призвать тебя к ответу за мою муку.
— Прежде всего обрати внимание на свой голос и понизь его! — оказал Лаван. — Это я вынужден тебе приказать, если тебе не приказывают это обстоятельства. а они все говорят в пользу этого. Ведь мало того, что я твой дядя и тесть и к тому же твой хлебодатель, на которого тебе отнюдь не подобает орать, дом и двор, как ты видишь, полны спящих гостей, которые через несколько часов отправятся со мной на охоту, чтобы повеселиться в пустыне и в камышах болота, где мы расставим сети птицам, куропатке и дудаку, или поймаем и заколем кабана, чтобы совершить над ним возлиянье. Для этого мои гости подкрепляются сном, который для меня свят, а вечером будет продолженье попойки. Что же касается тебя, то когда ты на пятый день выйдешь из спальни, ты тоже присоединишься к нам для веселой охоты.
— Знать не хочу ни о какой веселой охоте, — отвечал Иаков, — не тем занят бедный мой ум, который ты вопиюще опозорил и помутил. Ведь ты же сверх меры меня обманул, позорно обманул и жестоко, ты тайком впустил ко мне Лию, старшую свою дочь, вместо Рахили, за которую я тебе служил. Что мне теперь делать с собой и с тобой?
— Послушай, — возразил Лаван. — Есть слова, которых тебе не следовало бы употреблять, и лучше бы ты поостерегся произносить их вслух, ведь в земле Амурру живет, как я знаю, один космач, он плачет и рвет на себе шерсть и посягает на твою жизнь, и уж он-то мог бы говорить об обмане. Неприятно, когда одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не стыдится, а именно так обстоит сейчас дело у нас с тобой из-за твоих опрометчиво выбранных слов. По-твоему, я тебя обманул. Но в чем же? Может быть, я привел к тебе невесту, до которой уже дотрагивались и которая была бы недостойна прошествовать в объятья бога через семь лестниц? Или я доставил тебе невесту, которая оказалась нерадива телом и жаловалась на боль, что ты причинил ей, а не была услужлива и усердна в любви? Может быть, я обманул тебя в этом?
— Нет, — сказал Иаков, — в этом нет. Лия отменна в труде зачатья. Обманул и провел ты меня в том, что я ничего не видел и всю эту ночь принимал Лию за Рахиль и отдал не той душу свою и лучшую свою силу, и раскаянья моего не передать никакими словами. Вот что ты сделал со мной, волк ты этакий.
— И это ты называешь обманом и безбоязненно сравниваешь меня со зверями пустыни и злыми духами, если я держался обычая и как человек, уважающий закон, не осмелился противиться установленью, освященному временем? Не знаю, как заведено в земле Амурру или в земле царя Гога, но в нашей земле не принято выдавать младшую дочь прежде старшей, это было бы ударом по старинному правилу, а я чту закон и соблюдаю приличия. Поэтому я и поступил так, как поступил, мудро пойдя наперекор твоему неразумию и действуя как отец, который знает свой долг перед детьми. Ибо ты гнусно обидел меня в моей любви к старшей, когда сказал: «Лия не разжигает моих мужских желаний». Разве за это тебя не следовало проучить и осадить? Вот теперь ты увидел, разжигает она их или нет!
— Я ничего не видел! — воскликнул Иаков. — Та, кого я обнимал, была Рахилью.
— Да, это выяснилось на рассвете, — насмешливо возразил Лаван, — но это-то и значит, что младшей моей, Рахили, не на что жаловаться. Ведь Лии принадлежала действительность, а помыслы принадлежали Рахили. Но теперь я научил тебя помышлять и о Лии, и той, которую ты будешь обнимать в дальнейшем, будут принадлежать и помыслы, и действительность.
— Разве ты собираешься отдать мне Рахиль? — спросил Иаков…
— Само собой разумеется, — сказал Лаван. — Если ты желаешь ее и согласен заплатить мне за нее законный выкуп, ты получишь ее.
Тогда Иаков воскликнул:
— Но я же служил тебе за Рахиль семь лет!
— Ты служил мне, — ответил Лаван с твердостью и достоинством, — за мою дочь. А если ты хочешь получить и вторую дочь, что мне было бы приятно, плати второй раз!
Иаков молчал.
— Я добуду что нужно, — сказал он потом, — и соберу тебе вено. Мину серебра я займу у людей, знакомых мне по торговым делам, да и за подарки, чтобы повесить их невесте на пояс, тоже тебе заплачу, ведь я неожиданно кое-что нажил за это время и теперь уже не так нищ, как в свое время, когда сватался в первый раз.
— Опять в твоих речах нет никакой чуткости, — сказал Лаван, с достоинством качая головой, — и ты без стесненья говоришь о вещах, которые тебе пристало бы таить в своей груди, и ты должен быть доволен, если другие не заговаривают о них и не спорят с тобой, а не болтать о них вслух, снова создавая в мире такое положенье, что одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не способен на это. Не хочу знать ни о какой неожиданной наживе и тому подобных неприятностях. Не нужно мне от тебя ни серебра на выкуп, ни какого-либо товара, кому бы он ни принадлежал, в подарок невесте, нет, за вторую мою дочь тебе придется служить мне столько же времени, сколько и за первую.
— Волк ты, а не человек! — воскликнул Иаков, теряя самообладание. — Значит, ты хочешь отдать мне Рахиль только еще через семь лет?
— Кто это говорит? — надменно ответил Лаван. — Кто хотя бы лишь намекал на что-либо подобное? Ты один городишь чушь и преждевременно сравниваешь меня с оборотнем, ибо я отец и не хочу, чтобы дочь моя томилась по мужчине до тех пор, покуда он не состарится. Ступай на свое место и отбудь там чин чином неделю. А потом ты без шума получишь и вторую и, став ее мужем, прослужишь у меня за нее еще семь лет.
Иаков промолчал и опустил голову.
— Ты молчишь, — сказал Лаван, — и не можешь заставить себя упасть к моим ногам. Мне, право, любопытно, удастся ли мне еще смягчить твое сердце до благодарности. Что я ни свет ни заря стою здесь в одной рубашке, поднятый на ноги среди необходимого сна, и улаживаю с тобой дела, этого явно недостаточно, чтобы вызвать у тебя подобное чувство. Так вот, я еще не упомянул, что вместе с другой дочерью ты получишь и вторую из купленных мною служанок. Ибо Зелфу я дарю в приданое Лии, а Валлу — Рахили, и во втором случае мне тоже зачтутся две трети той мины серебра, которую я собираюсь вам дать. Вот видишь, одним махом ты приобрел четырех женщин, и теперь у тебя гарем, как у царя Вавилона или царя Элама, а ведь только что ты жил на усадьбе в бедности и в одиночестве.
Иаков все еще молчал.
— Жестокий ты человек, — сказал он наконец со вздохом. — Ты не знаешь, что ты сделал со мной, не знаешь и не замечаешь, как я убеждаюсь, и не можешь вообразить этого тупым своим умом! Душу свою и лучшую свою силу растратил я на неправедную этой ночью, и сердце мое разрывается из-за праведной, которой это предназначалось, и еще неделю я должен ублажать Лию, и когда плоть моя утомится, ибо я только человек, когда она насытится, а душа станет слишком вялой, чтоб испытать восторг, я получу праведную, сокровище мое Рахиль. А ты думаешь — все уладится. Но этого никогда не загладить — того, что ты сделал со мной и с Рахилью, своей дочерью, и, наконец, с Лией, которая сидит на кровати и плачет, потому что думал я не о ней.
— Значит ли это, — спросил Лаван, — что после свадебной недели с Лией у тебя не хватит мужественности сделать плодоносной вторую?
— Нет, нет, не приведи бог, — отвечал Иаков.
— Все остальное — чепуха, — заключил Лаван, — и пустое мудрствование. Доволен ли ты новым нашим договором и порешим мы с тобой на том или нет?
— Да, на том и порешим, — сказал Иаков и пошел к Лии.
О ревности бога
Таковы Иаковлевы истории, запечатлевшиеся на его стариковском лице, так проходили они перед его полными слез, заблудившимися в бровях глазами, когда он погружался в торжественное раздумье — будь то в одиночестве или на людях, которыми при виде такого выражения его лица неизменно овладевал священный страх, так что они украдкой толкали друг друга и говорили: «Тише, Иаков вспоминает свои истории!». Некоторые из них мы уже подробно изложили и окончательно уточнили, даже такие, которые относятся к гораздо более позднему времени, в том числе возвращенье Иакова на запад и то, что было после его прибытия туда; но семнадцать лет остается еще заполнить богатыми их историями и перипетиями, главными из которых явились двойная женитьба Иакова на Лии и на Рахили и появленье Рувима.
Ре'увим был от Лии, а не от Рахили; Лия родила Иакову первенца, который позднее промотал свое первородство, потому что бушевал, как вода, зачала его, выносила и подарила Иакову не Рахиль, невеста его чувства, и не она, по воле бога, родила ему Симеона. Левия, Дана, Иегуду или кого-либо из десяти до Завулона, хотя по истечении праздничной недели, когда Иаков на пятый день покинул Лию и несколько освежился на ловле, она тоже была отдана ему в жены, о чем мы распространяться не станем. Ведь уже рассказано, как принял Иаков Рахиль; из-за беса Лавана он принял ее сперва в Лии, и женитьба его была тогда и в самом деле двойной, он спал тогда с двумя сестрами: с одной действительно, но мысленно — с другой; а что тут значит «действительно»? В этом смысле Ре'увим был, конечно, сыном Рахили, зачатым с ней. И все же она, которая так полна была готовности и усердья, осталась ни с чем, а Лия пополнела и округлилась и довольно складывала руки на животе, смиренно склоняя голову набок и опуская веки, чтобы не видно было, как она косит.
Она разрешилась от бремени на кирпичах с величайшей легкостью, роды продолжались несколько часов. Это было чистое удовольствие. Ре'увим, как вода, сразу устремился наружу; когда Иаков, поспешно оповещенный, пришел с поля (ибо стояла пора уборки кунжута), новорожденный был уже выкупан, протерт солью и завернут в пеленки. Иаков возложил на него руку и при всех домочадцах произнес: «Мой сын». Лаван выразил ему свое уваженье. Он пожелал ему быть таким же молодцом, как он сам, и производить на свет сыновей три года подряд, а роженица на радостях воскликнула, со своего ложа, что она будет плодовита двенадцать лет — и без перерыва. Рахиль это слышала.
Ее нельзя было оторвать от колыбели, подвешенной к потолку таким образом, чтобы Лия, лежа в постели, могла покачивать ее рукой. По другую сторону сидела Рахиль и разглядывала ребенка. Когда он плакал, она брала его на руки, подносила к набухшей, в голубоватых жилках, груди сестры, ненасытно смотрела, как та кормила его, пока он не багровел и не раздувался от сытости, и, глядя на это, прижимала руки к собственной своей нежной груди.
— Бедная малышка, — говорила ей тогда Лия. — Не огорчайся, придет и твоя очередь. И возможности твои несравненно лучше моих, ибо на тебя, а не на меня глядят глаза нашего господина и на каждое его пребыванье в моем шатре приходится четыре или шесть ночей, когда он спит у тебя, как же тебе не понести?
Но если возможностей у Рахили и было больше, то реализовались они, по воле бога, у Лии, ибо, едва оправившись от первых родов, она опять зачала и, нося на спине Рувима, носила в животе Симеона, и ее почти не тошнило, когда плод стал расти, и она не роптала, когда он обезобразил ее, а была предельно бодра и весела и трудилась в саду Лавана до того часа, когда, чуть изменившись в лице, велела подставить ей кирпичи. И тогда Симеон с легкостью вышел на свет и чихнул. Все восхищались им; больше всех — Рахиль, и как больно ей было им восхищаться! С ним дело обстояло уже несколько иначе, чем с первым; не по неведенью, не из-за обмана родил его Иаков с Лией, он принадлежал ей полностью и несомненно.
А Рахиль, что сталось с этой малышкой? Ведь как серьезно и весело глядела она на двоюродного брата, с какой милой отвагой, с какой готовностью к жизни; как уверенно ждала и чувствовала, что будет родить ему детей по образу их обоих, иной раз и близнецов. И вот она оставалась ни с чем, а Лия качала уже второго, — как это вышло?
Буква предания — единственное, на что мы можем опереться, пытаясь объяснить печальное это положенье. А смысл ее вкратце таков: поскольку Лия не была любима Иаковом, бог сделал ее плодовитой, а Рахиль бесплодной. Именно поэтому. Эта попытка объясненья не хуже любой другой; она носит предположительный, а не безапелляционный характер, ибо прямого и директивного заявления Эль-Шаддаи о смысле этих его действий, которое было бы сделано Иакову или другому заинтересованному лицу, — такого заявления нет и, несомненно, не было. И все же нам пристало бы отвергнуть это объясненье и заменить его другим, если бы у нас было лучшее, а его у нас нет; напротив, имеющееся объясненье представляется нам по сути верным.
Суть в том, что решение бога было направлено не против или не в первую очередь против Рахили и не было принято ради Лии, а являлось назидательным наказаньем самому Иакову, которому этим путем указывалось, что изнеженность, прихотливость и самовлюбленность его чувства, высокомерие, с каким он лелеял его и обнаруживал, не пользовались одобреньем элохима — хотя эта избирательность и необузданная пристрастность, эта гордость чувства, не считающаяся ни с чьим мненьем и жаждущая всеобщего благоговейного признания, могла сослаться на более высокий образец и фактически была земным подражаньем ему. Хотя? Нет, как раз потому, что Иаковлева самоупоенность чувства была подражаньем, она и была наказана. Кто берется говорить о таких вещах, должен выбирать выраженья; но и после боязливой проверки предстоящего слова не остается сомненья в том, что первопричиной разбираемого нами распоряженья была ревность бога, который, унижая самоупоенное чувство Иакова, показывал, что упоение собственным чувством является его, господа, привилегией. Это объяснение, наверно, вызовет нареканья и, конечно, нам скажут, что такой мелкий и страстный мотив, как ревность, неприменим для толкования божественных назначений. Однако тем, кого наше толкованье коробит, представляется возможность считать это неприличное, на их взгляд, побужденье лишь не уничтоженным духовностью пережитком более ранних и более диких стадий образа бога — тех начальных стадий, на которые мы пролили кое-какой свет в другом месте и на которых облик Иагу, владыки войны и погоды у смуглой оравы сынов пустыни, называвших себя его бойцами, был наделен чертами куда более страшными и чудовищными, чем простая священность.
Завет, союз бога с бодрствовавшим в страннике Авраме человеческим духом был союзом ради взаимного освященья, союзом, в котором человеческие и божественные нужды так сплетены, что трудно сказать, с какой стороны, божественной или человеческой, последовал первый толчок к такому содружеству, но, во всяком случае, союзом, установленье которого свидетельствует о том, что освящение бога и освящение человека представляют собой двуединый процесс и связаны друг с другом теснейшими узами. Для чего же еще, спрашивается, нужен союз? Наказ бога человеку «Будь свят, как я!» уже предполагает освящение бога в человеке и означает собственно: «Пусть стану я свят в тебе, а потом будь и сам свят!» Другими словами, очищение бога от мрачного коварства и его освящение очищает и освящает человека, в котором, по настоятельному желанию бога, происходит этот процесс. Но эта общность интересов, когда бог обретает истинное свое достоинство только с помощью человеческого духа, а тот, в свою очередь, не может обладать достоинством, не созерцая реальности бога и с ней не считаясь, — эта поистине брачная взаимосвязанность, воплощенная и скрепленная кольцом обрезанья, делает понятным, что именно ревность оказалась самым долговечным пережитком досвященной страстности бога, будь то ревность к идолам или ревнивое отношение к своей привилегии на роскошество в чувствах, — что по сути одно и то же.
Ведь что иное, как не идолопоклонство, такое необузданное чувство человека к человеку, какое Иаков позволял себе питать к Рахили, а затем, в измененном и, пожалуй, усиленном виде, к ее первенцу? То, что претерпел Иаков из-за Лавана, еще можно отчасти хотя бы считать необходимым восстановлением справедливости с точки зрения судьбы Исава, взысканьем с того, в угоду кому справедливость потерпела ущерб. Но стоит задуматься о мрачной доле Рахили, а тем более узнать о том, что должен был вынести юный Иосиф, которому только благодаря его величайшему уму и обаятельнейшей ловкости в обращении с богом и людьми удалось повернуть все к добру, — и не останется никаких сомнений, что дело идет о самой настоящей, чистейшей воды ревности — не об общей и отвлеченной ревности к привилегиям, а ревности в высшей степени личной — к объектам идолопоклоннического чувства, на которые и падали удары, мстительно наносимые этому чувству, — одним словом, о страсти. Пусть это назовут пережитком пустыни, все равно именно в страсти сбывается и оправдывается неистовое слово о «боге живом». Наши слушатели увидят и согласятся, что Иосиф как ни вредили ему вообще-то его ошибки, чувствовал эту живость бога даже острее и приспосабливался к ней ловчей, чем его родитель…
О смятении Рахили
А маленькой Рахили все это было совершенно непонятно. Она висла у Иакова на шее и плакала:
— Дай мне детей, не то я умру!
Он отвечал:
— Что это, голубка моя? Твое нетерпенье делает немного нетерпеливым твоего мужа, а я никак не думал, что подобное чувство когда-либо поднимется против тебя в моем сердце. Право же, неразумно докучать мне слезами и просьбами. Ведь я же не бог, который не дает тебе плодов твоего тела.
Сваливая это на бога, он намекал на то, что за ним, Иаковом, дело не стало и что он, как это уже доказано, не виноват вообще; ведь в Лии же он был плодовит. Но кивать на бога значило утверждать, что все дело в ней, Рахили, и в этом-то, а также в дрожании его голоса, выражалось его нетерпенье. Конечно, он раздражался, ибо глупо было со стороны Рахили молить его о том, чего он сам так пламенно желал себе, не коря ее, однако, при этом за обманутые свои надежды. И все-таки в ее горе бедняжку многое оправдывало, ибо покуда она оставалась бесплодной, ей приходилось плохо. Она была: сама ласковость, но не завидовать сестре было бы не по силам женской природе, а зависть — это такая совокупность чувств, куда, кроме восхищенья, входит, увы, и нечто другое, вызывающее не самые лучшие ответные чувства. Это не могло не подточить сестринских отношений и уже их подтачивало. Положение матери семейства Лии было в глазах окружающих намного выше положения бесплодной сожительницы, все еще как бы ходившей в девушках, и потому Лия, пожалуй, даже лицемерила бы, если бы никак не показывала, что сознает почетное свое превосходство. Жену, благословенную детьми, принято было, не мудрствуя, называть «любимой», а бездетную попросту «ненавистной»; для слуха Рахили такое словоупотребленье было ужасно, ужасно своей несообразностью с ее действительным положением, и поэтому по-человечески ее можно понять, если бы она не довольствовалась безгласной правдой, а высказывала эту правду вслух. Так оно, к сожаленью, и было; бледная, со сверкающими глазами, она ссылалась на никогда не таившееся пристрастие к ней Иакова и на его частые ночные приходы, а это было больным местом Лии, и на прикосновенье к нему можно было только, вздрогнув, ответить: «А что толку?» И дружба прощай!
Стоявший между ними Иаков был удручен.
Лаван тоже хмурился. Он был, конечно, доволен, что его дитя, которым хотел пренебречь Иаков, оказалось в таком почете; но, с другой стороны, ему было жаль Рахили, а кроме того, он начал опасаться за свою мошну. Законодатель установил, что если жена не родит детей, тесть обязан возвратить мужу выкуп за нее, ибо такой брак признается неудавшимся. Лаван надеялся на то, что Иаков этого не знает, но узнать об этом тот мог в любой день, и однажды, когда у Рахили не останется никаких надежд, ему, Лавану, или его сыновьям придется заплатить Иакову за семь лет службы наличными, а с этой мыслью Лаван никак не мог примириться.
Поэтому, когда Лия забеременела и на третий год брака — тогда заявил о себе мальчик Левий, — а у Рахили никакого прибавленья не наметилось, Лаван был первым, кто счел нужным помочь беде и высказался за то, чтобы принять меры, назвав имя Валлы и потребовав, чтобы Иаков сошелся с ней и она родила на колени Рахили. Было бы ошибкой думать, будто Рахиль сама подала или особенно отстаивала эту вообще-то напрашивавшуюся мысль. Чувства, которые эта мысль у нее вызывала, были слишком двойственны, чтобы Рахиль могла сделать что-либо большее, чем просто смириться с ней. Но правда, что с Валлой, своей служанкой, существом привлекательным, перед прелестями которой Лии пришлось позднее окончательно отступить, Рахиль была очень дружна и близка; а ее жажда материнской славы победила даже естественное ее нежеланье сделать собственноручно то, что сделал некогда ее суровый отец, и привести к двоюродному супругу ночную свою заместительницу.
Собственно говоря, все было наоборот: она за руку ввела Иакова к Валле, поцеловав, как сестра, непомерно надушенную девочку, совеем потерявшую голову от счастливого смятенья, и сказав ей: «Если уж так должно случиться, то пусть это будешь ты. Умножься тысячекратно!» Утрирующее это напутствие было просто поздравлением и пожеланием, чтобы Валла зачала вместо своей госпожи, и Валла незамедлительно это сделала: она сообщила о полной удаче матери своего плода, чтобы та, в свою очередь, оповестила об этом его отца и своих родителей; в последующие месяцы утроба ее лишь незначительно отставала в росте от лона Лии, и Рахиль, которая все это время была очень нежна к Балле, часто гладила ее округлый живот и прикладывала к нему ухо, могла теперь видеть в глазах у всех то уваженье, какое снискал ей успех ее жертвы.
Бедная Рахиль! Была ли она счастлива? Признанный обычай помог ей смягчить до некоторой степени верховную волю, но ее слава, к смятению ее полной готовности и ожиданья души, росла все-таки в чужом теле. Это были половинная слава, половинное счастье, половинный самообман, с грехом пополам опирающиеся на обычай, но без опоры в ее собственной плоти и крови, и полунастоящими были бы дети, сыновья, которых родит ей Валла, ей и ее бесплодно любимому мужу. Рахили досталась радость, а боли достались бы другой. Это было удобно, но была в этом отвратительная пустота, какая-то скрытая мерзость не для ее ума, который повиновался обычаю и закону, а для честного и храброго ее сердечка. Она растерянно улыбалась.
Впрочем, все, что ей позволено и положено было сделать, она сделала радостно и благочестиво. Она дала Валле родить себе на колени — этого требовал церемониал. Рахиль обняла ее сзади и много часов подряд участвовала в ее усилиях, стонах и криках, став повитухой и роженицей в одном лице. Маленькой Валле пришлось нелегко, роды продолжались целые сутки, к концу которых Рахиль измучилась почти так же, как мать во плоти, но это как раз и было ей по душе. Так появился на свет отпрыск Иакова, названный Даном, — всего через несколько недель после Лииного Левия, на третьем году брака. А на четвертом, когда Лия разрешилась тем, кого назвали Хвалою Богу, или Иегудой. Валла и Рахиль общими силами принесли супругу второго своего сына, который, как им показалось, обещал стать хорошим борцом, отчего его и назвали Неффалим. Так, волей божьей, появились у Рахили два сына. Затем рожденья временно прекратились.
Мандрагоровые яблоки
Первые годы брака Иаков провел почти полностью на усадьбе Лавана и, предоставив управляться на выгонах издольщикам и подпаскам, устраивал время от времени строгую проверку вторым, а с первых взимал оброк скотом и товарами, которые принадлежали Лавану, но не целиком и даже не всегда в большинстве; ибо в поле и даже на усадьбе, где Иаков соорудил несколько новых сараев для хранения собственного добра, многое принадлежало уже Лаванову зятю, и дело шло, в сущности, о слиянии двух цветущих хозяйств, о весьма и весьма запутанной системе взаимных расчетов, которая была явно понятна и подвластна Иакову, по давно уже темна для тяжелого взгляда Лавана, хотя тот и не признавался в этом: отчасти из опасения посрамить свой разум, отчасти же из-за старой боязни расстроить благословение в крови своего вершителя дел мелочными придирками. Слишком уж хорошо при всем этом жилось ему самому; он вынужден был глядеть на все сквозь пальцы и фактически уже почти не вмешивался ни в какие дела — настолько потрясающе-убедительно подтверждалась богоизбранность Иакова. Шестерых сыновей — дарителей воды народил он себе за четыре года; это было вдвое больше того, на что оказался способен Лаван при благословенном соседстве. Тайное уважение Лавана к Иакову было почти беспредельно; оно лишь чуть-чуть ослаблялось бесплодием Рахили. Этому человеку следовало предоставить свободу действий, и это было просто счастье, что он как будто перестал думать об уходе и об отъезде.
В действительности мысль о возвращении домой, о воскресении из этой ямы и преисподней Лаванова царства никогда не была чужда душе Иакова; через двенадцать лет она была ей так же близка, как через двадцать и двадцать пять лет. Но он не спешил, органически сознавая, что время у него есть (ведь ему суждено было прожить сто шесть лет), и отвык связывать мысль об отъезде с моментом предположительного прекращения Исавова гнева. К тому же он поневоле в известной мере укоренился в нахаринской земле, ибо здесь он многое пережил, а истории, которые с нами где-либо происходят, подобны пущенным нами на этом месте корням. Прежде всего, однако, Иаков считал, что не извлек еще достаточной выгоды из своего сошествия в Лаванов мир, не стал еще в нем достаточно богат. Преисподняя таила в себе две вещи — грязь и золото. Грязь он изведал: в виде жестокого срока ожидания и еще более жестокого обмана, которым этот бес Лаван расколол ему душу в брачную ночь. Богатством он тоже начал обрастать, но недостаточно, не в должной мере; все, что можно было унести, надо было взять с собой, а бес Давав должен был дать еще золота, они не рассчитались, его следовало обмануть основательней: не ради мести Иакова, а просто потому, что так полагалось, чтобы и бес-обманщик был в итоге обманут самым издевательским образом, — только наш Иаков не видел еще решающего средства исполнить положенное.
Это его задерживало, а дела занимали его. Теперь он подолгу бывал вне дома, в степи и в поле, возле пастухов и стад, поглощенный хозяйством и торговлей в Лавановых и своих интересах; и это могло быть одной из причин, почему приостановился поток рождений, хотя жены со своими мальчиками, как и подросшие уже Лавановы сыновья, нередко бывали с ним вместе на выгонах и жили при нем в хижинах и шатрах. С грехом пополам добившись своего, Рахиль не подавляла больше своей ревности к выручившей ее Валле и не терпела уже общения господина и служанки, которые, кстати сказать, ничего не имели против ее запрета. Сама она оставалась бесплодна на пятом, на шестом году, навсегда, как то злосчастно казалось; и Лиино тело тоже пустовало — к великой ее досаде, но оно просто отдыхало, год и два года, и она говорила Иакову:
— Не знаю, что стряслось и за что мне такой позор, что я хожу праздно и бесполезно! Если бы у тебя была только я, этого бы не случилось, я бы не оставалась без ноши целых два года. Но сестра, которая нашему господину дороже всего на свете, отнимает у меня моего мужа, и я лишь с трудом удерживаюсь от того, чтобы проклясть ее, а ведь я же ее люблю. Наверно, этот разлад портит мне кровь, и поэтому я не могу понести, и твой бог не хочет больше вспоминать обо мне. Но что Рахили дозволено, то и мне не заказано. Возьми Зелфу, мою служанку, и спи с ней, чтобы она родила на мои колени и у меня были сыновья благодаря ей. Если я уже не имею цены для тебя, то все равно пусть у меня так или иначе родятся дети, ибо дети — это бальзам для ран, которые наносит мне твоя холодность.
Иаков почти не оспаривал ее жалоб. Его возражение, что ее он тоже ценит, откровенно носило характер пустой вежливости. Это следует осудить. Неужели он не мог сделать над собой небольшое усилие и быть добрее к женщине, из-за которой он, правда, претерпел жестокий обман души, неужели любое теплое слово, которое он мог бы сказать ей, он должен был сразу счесть ограбленьем драгоценного и холеного своего чувства? Ему суждено было горько поплатиться за это высокомерие своего сердца; но тот день был еще далек, и раньше еще чувству его суждено было даже пережить день величайшего своего торжества…
Предложение насчет Зелфы Лия сделала, вероятно, только для формы, чтобы облечь в него истинное свое желание — чтобы Иаков чаще ее навещал. Но одержимый чувством не почувствовал этого, он оказался тут высокомерно нечувствителен и попросту заявил, что готов и согласен призвать Зелфу для оживления благословенности детьми. Он получил необходимое освобождение у Рахили, которая не могла отказать в нем, тем более что высокогрудая Зелфа, немного похожая на свою госпожу и тоже так и не добившаяся настоящего расположения Иакова, на коленях просила у нее, как у самой любимой, прощения. И, приняв господина с покорностью и рабским усердием, служанка Лии забеременела и родила на колени своей госпожи, которая ей помогала стонать. На седьмом году брака, четырнадцатом году лавановского времени Иакова, она родила Гада и препоручила его удаче; а на восьмом и пятнадцатом — лакомку Асира. Так стало у Иакова восемь сыновей.
В ту пору, когда родился Асир, произошел случай с мандрагоровыми яблоками. Найти их посчастливилось Ре'увиму — тогда уже восьмилетнему, это был сумрачный, мускулистый мальчик с воспаленными веками. Он уже участвовал в начале лета в уборочных работах, на которые, покончив со стрижкой овец, выходили также Лаван с Иаковом, работах, требовавших большого напряжения от домочадцев, а также от нескольких нанятых на это время батраков. Лаван, овцевод, чьи земледельческие занятия к моменту прибытия Иакова ограничивались обработкой кунжутного поля, сеял с тех пор, как тот нашел воду, также ячмень, просо, полбу и особенно пшеницу; пшеничное поле, обнесенное глинобитной оградой, изрезанное канавами и насыпями, было самой важной его пашней. Площадью почти в полторы десятины, оно изгибалось отлогой грядой холмов, и земля его была тучной и мощной: если ее время от времени оставляли вод паром, как это, следуя священному и разумному правилу, делал Лаван, она давала урожай больше чем сам-тридцать.
В тот раз год был благословенный. Доброчестный труд возделывания, труд плуга и сеющей руки, мотыги, бороны и водоливной бадьи вознагражден был божественно. Пока не взошли колосья, у Лаванова скота было прекрасное пастбище, ни газель не прикоснулась к всходам, ни ворон, не налетела на поле саранча и не размыл землю паводок. Богатая была в тот год жатва, тем более что Иаков, хоть и не землепашец, как известно, проявил благословенную свою находчивость и в этой области и советом, и делом добился более густого, чем обычно, засева, отчего число зерен в колосе, правда, немного уменьшилось, но общий урожай оказался больше — настолько больше, что Лаван, как, во всяком случае, сумел втолковать ему Иаков, все равно оставался в барыше, если определенная часть урожая и отошла в личную собственность его зятя.
Все были на работе в поле, даже Зелфа, в промежутках кормившая грудью Гада и Асира, и только дочери остались дома готовить ужин. В камышовых, от солнца, наголовниках и лохматых набедренных повязках, лоснясь от пота и распевая божественные песни, размахивали серпами жнецы. Другие резали солому или вязали снопы, нагружали их на ослов или на запряженные волами повозки, чтобы доставить эту благодать на ток, где ее с помощью крупного рогатого скота молотили, а потом веяли, просеивали и ссыпали. Мальчик Рувим не отставал уже на этом празднике труда от детей Лавана. Когда же у него онемели руки, золотым вечером, он пошел побродить по краю поля. Там, у глинобитной стены, он нашел мандрагору.
Чтобы углядеть ее, нужны были острое зрение и сноровка. Шершавая ботва с овальными листьями едва-едва поднималась над землей, незаметная для неискушенного глаза. Но по темным, с орех, ягодам, которые и назывались мандрагоровыми яблоками, Рувим узнал, что здесь прячет земля. Он засмеялся и поблагодарил. Схватив тотчас же нож, он начертил кружок и окопал корневище, так что оно повисло только на тонких волокнах. Затем, произнеся заклинание из двух слов, он рывком отделил корешок от земли. Он ожидал, что тот закричит, но этого не случилось. И все-таки он держал за вихор самого настоящего волшебного человечка: телесного цвета, с двумя ножками, ростом с детскую ладонь, бородатый и сплошь покрытый волокнистым пушком, — это был гном удивительный и смешной. Мальчик знал его свойства. Они были многочисленны и полезны; но особенную пользу — так слышал Рувим — они приносили женщинам. Поэтому он сразу предназначил свою находку Лии, своей матери, и побежал вприпрыжку домой, чтобы отдать ей корень.
Лия очень обрадовалась. Она ласково похвалила своего старшего, сунула ему в кулак фиников и наказала не хвастаться этой удачей перед отцом, да и перед дедом.
— Молчать не значит лгать, — сказала она и добавила, что всем вовсе незачем знать о находке: достаточно того, что они почувствуют ее благотворное действие. — Я уж постараюсь, — заключила она, — выманить у корешка все, что он может дать. Спасибо тебе, Рувим, мой первенец и сын первой. Спасибо за то, что ты о ней вспомнил. Другие не о ней вспоминают. Удачливость досталась тебе от них. А теперь ступай!
С этими словами она отпустила его, надеясь оставить себе свое сокровище. Но Рахиль, сестра ее, подглядывала и все увидела. Кто позднее тоже вот так подглядывал и чуть не поплатился головой за свою болтовню? Эта черта, при всем ее обаянии, была ей свойственна, и она передала ее по наследству своей плоти и крови. Она сказала Лии:
— Что же это принес тебе наш сын?
— Мой сын, — отвечала Лия, — не принес мне ничего, кроме сущей безделицы. Ты случайно оказалась поблизости? По глупости своей он принес мне жука и пестрый камешек.
— Да ведь он же принес тебе земляного человечка с травой и ягодами, — сказала Рахиль.
— Да, это тоже, — ответила Лия. — Вот он. Гляди, какой забавный и толстый! Мой сын нашел его мне.
— И в самом деле, какой забавный и толстый! — воскликнула Рахиль. — А сколько на нем яблок, полных семян!
Она уже сложила вытянутые пальцы возле красивого своего лица и прижалась к ним щекой. Не хватало только, чтобы она просительно протянула руки вперед.
— Что ты с ним сделаешь?
— Я, конечно, надену на него рубашечку, вымыв его и умастив, — отвечала Лия, — а потом помещу его в коробку и стану ходить за ним, чтобы он приносил пользу дому. Он будет благорастворять нам воздух, чтобы не было порчи ни человеку, ни скоту в стойле. Он будет предсказывать нам погоду и узнавать то, что в данное время скрыто или произойдет в будущем. Он сделает неуязвимыми мужчин, которым я подсуну его, принесет им удачу в промысле и устроит так, что судья признает их правыми, даже если они не правы.
— Что ты мне рассказываешь? — сказала Рахиль. — Я и сама знаю, что он на это годится. А что ты еще сделаешь с ним?
— Я отстригу от него ботву и яблоки, — отвечала Лия, — и приготовлю из них отвар, который усыпит человека, как только он понюхает его, а если будет нюхать долго, то лишит языка. Это крепкая настойка, дитя мое, — кто хлебнет лишнего, мужчина ли, женщина ли, тот умрет, но малая толика хорошо помогает при укусе змеи, а если тебя режут по живому телу, то кажется, что тело чужое.
— Это же все совсем не главное, — воскликнула Рахиль, — а о том, что у тебя на уме прежде всего, об этом ты ни слова ни говоришь! Ах, Лия, сестрица моя, — воскликнула она, ласкаясь к ней и клянча руками, как малый ребенок, — зеница моего ока, самая статная среди дочерей! Удели мне от мандрагор твоего сына, чтобы я стала плодовита, ибо разочарование от того, что я до сих пор бесплодна, сокращает мне жизнь, и своей неполноценности я горько стыжусь! Лань моя, златокудрая среди черноголовых, ведь ты же знаешь, что это за отвар и как он воздействует на мужчин, ведь он же как влага небесная на женскую засуху, и женщины с его помощью зачинают счастливо и разрешаются от бремени с легкостью! У тебя в общем шесть сыновей, а у меня двое, и те не мои, зачем же тебе мандрагоры? Отдай их мне, дикая моя ослица, если не все, то хоть несколько, и я благословлю тебя и паду тебе в ноги, ибо я изнемогаю от желания их получить!
Лия, однако, прижала корень к груди и покосилась на сестру угрожающе.
— Вот так так! — сказала она. — Значит, милая моя пришла, все разведав, и ей нужны мои мандрагоры. Мало того что ты ежедневно и ежечасно отнимаешь у меня моего мужа, ты хочешь завладеть еще и мандрагорами моего сына? Стыда у тебя нет.
— До чего же гнусно ты говоришь, — возразила Рахиль, — неужели ты и при усилии не можешь говорить по-другому? Не выводи меня из себя, выставляя все в безобразном свете, в то время как мне хочется быть нежной с тобой ради нашего детства! Разве я отняла у тебя Иакова, нашего мужа? Это ты отняла его у меня в ту священную ночь, когда украдкой проникла к нему вместо меня и он слепо влил в тебя Рувима, которого должна была понести я. Поэтому, если бы все делалось честно, Рувим был бы сейчас моим сыном и принес бы мне эту зелень, и если бы ты попросила у меня часть ее, я бы дала тебе.
— Вот оно что! — сказала Лия. — Ты действительно зачала бы моего сына? Почему же ты не зачинала после, а теперь хочешь помочь своей беде колдовством? Ничего бы ты мне не дала, знаю доподлинно! Когда Иаков говорил тебе нежные слова и хотел взять тебя, разве ты хоть раз сказала ему: «Милый, подумай и о сестре»? Нет, ты млела и сразу же позволяла ему играть своими грудями, и ни до чего тебе не было дела, кроме как до собственного удовольствия. А теперь ты клянчишь: «Я бы дала тебе!»
— Ах, как гнусно! — отвечала на это Рахиль. — Как отталкивающе гнусно то, что ты вынуждена по природе своей говорить, — я страдаю от этого, но мне жаль и тебя. Ведь это же проклятье — выставлять все в безобразном свете, как только откроешь рот. Если я не посылала Иакова к тебе, когда он хотел спать у меня, то вовсе не оттого, что не могла заставить себя уступить его тебе, свидетели тому его бог и боги нашего отца! А оттого, что уже девятый год я, к безутешному своему горю, бесплодна пред ним, и каждую ночь, в которую он меня избирает, я страстно надеюсь на удачу, и я не вправе упускать случай. А у тебя, которая вполне может и пропустить раз-другой, какие у тебя мысли? Ты хочешь приворожить его мандрагорами и не даешь их мне, чтобы он забыл меня, и тогда у тебя будет все, а у меня ничего. Ведь у меня была его любовь, а у тебя — дети, и в этом еще была какая-то справедливость. А ты хочешь иметь и то и другое, и любовь и детей, а я пусть в прахе лежу. Вот как думаешь ты о сестре!
И она села на землю и громко заплакала.
— Я беру корешок своего сына и ухожу отсюда, — сказала Лия холодно.
Тогда Рахиль вскочила на ноги, забыла свои слезы и заговорила негромко и горячо:
— Ради бога, не делай этого, а останься и послушай меня! Он хочет быть со мной этой ночью, он сказал мне это утром, когда уходил от меня. «Милая, — сказал он, — спасибо за этот раз! Сегодня нужно жать пшеницу, но после страды дня я приду, любимая, и омоюсь в лунной твоей ласковости». Ах, как он говорит, наш муж! Речь его образна и торжественна. Разве мы не любим его обе? Но я отдам его тебе на ночь за мандрагоры. Я определенно отдам его тебе, если ты уделишь мне несколько ягод и я спрячусь где-нибудь, а ты скажешь: «Рахиль не хочет, она сыта поцелуями. Она сказала, чтобы ты спал у меня».
Лия покраснела и побледнела.
— Это правда, — сказала она, запинаясь, — ты хочешь продать мне его за мандрагоры моего сына, чтобы я могла сказать ему: «Сегодня ты мой»?.
Рахиль ответила:
— Ты это сказала верно.
Тогда Лия отдала ей мандрагору — и ботву, и корневище, все сразу сунула она в спехе ей в руку и сказала шепотом, с колыхавшейся грудью:
— Возьми и уходи, чтобы мне не видеть тебя!
А сама, когда рабочий день кончился и жнецы возвращались с поля, вышла навстречу Иакову и сказала:
— Ты будешь ночевать со мной, потому что наш сын нашел черепаху, и Рахиль выпросила ее у меня за эту цену.
Иаков ответил:
— Неужели я стою столько же, сколько черепаха или шкатулка с разводами, которая получается из ее панциря? Не помню, чтобы я был так уж твердо намерен провести эту ночь у Рахили. Она купила, значит, нечто определенное за нечто неопределенное, а за это я не могу не похвалить ее. Если вы полюбовно договорились насчет меня, то пусть так и будет. Ибо не должен мужчина противиться женской воле и бунтовать против того, что решено женщинами.
РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ «РАХИЛЬ»
Гадание на масле
Зачата была тогда девочка Дина, дитя несчастное. Но благодаря ей чрево Лии снова отверзлось; после четырехлетнего перерыва рачительная эта родильница опять разошлась. На десятом году брака она родила Иссахара, осла крепкого, а на одиннадцатом Завулона, который не хотел быть пастухом… Бедная Рахиль! Мандрагоры были у нее, а рожала Лия. Так хотел бог, и хотел он так еще некоторое время, а потом воля его изменилась или, вернее, достигла новой ступени; потом открылась дальнейшая часть его судьбоопределяющего замысла, и благословенному Иакову выпало счастье — такое живое и чреватое такими страданьями, что его связанное временем человеческое разуменье ничего подобного и представить себе не могло, когда он принимал это счастье. Прав был, видно, Лаван, персть земная, когда тяжело вещал за пивом, что благословенье — это сила, и жизнь — это сила, и ничего больше. Ибо плоское суеверие полагать, будто жизнь благословенных — сплошное счастье и пошлое благоденствие. Благословение составляет, собственно, только основу их естества, проглядывающую как бы золотым проблеском сквозь всяческие невзгоды и муки.
На двенадцатом году брака или на девятнадцатом лавановского времени Иакова детей не рождалось. Но на тринадцатом и двадцатом Рахиль забеременела.
Какой поворот и какая завязка! Представьте себе ее испуганно-недоверчивое ликованье и коленопреклоненный восторг Иакова! Ей был тогда тридцать один год; никто не думал, что этот смех припасен ей еще у бога. В глазах Иакова она была Саррой, которая, по предсказанью триединого мужа, должна была родить сына вопреки всякой вероятности, и он, у ног ее, называл ее именем праматери, глядя сквозь слезы благоговенья на ее бледнеющее лицо, казавшееся ему милей, чем когда-либо. А ее плод, зачатый наконец, долгожданный, дитя, в котором годами отказывала ее вере непонятная воля, он называл, в то время как она носила его, древним, архаическим именем официально уже почти не признаваемого, но все еще любимого в народе юного божества: Думузи, настоящий сын. Лия слышала это. Она родила ему шестерых настоящих сыновей и одну опять-таки самую настоящую дочь.
Она и без того понимала, что происходит. Своим четырем старшим, — им было тогда от десяти до тринадцати лет, это были почти взрослые, коренастые и очень дельные молодые люди мужественного склада, хотя лицом довольно некрасивые и все со склонностью к воспалению век, — старшим своим сыновьям она сказала ясно и откровенно:
— Сыновья Иакова и Лии, нам пришел конец. Если она родит ему сына — а я желаю ей добра, пусть хранят мою душу боги, — наш господин на нас не станет глядеть — ни на вас, ни на младших, ни на детей служанок, а на меня и вовсе, хотя бы я и десять раз была первая. А я первая, и его бог и боги моего отца семикратно одаряли меня материнской удачей. Но любимая — она, и потому она для него и первая, и единственно праведная, такое уж у него гордое чувство, и сына ее, который еще не появился на свет, он называет Думузи, вы это слышали. Думузи! Это как удар ножом в мою грудь, как пощечина мне, как удар в лицо любому из вас, но мы должны это терпеть. Вот как обстоят дела, мальчики. Мы должны сохранять самообладанье, вы и я, и держать свои сердца обеими руками, чтобы они не одичали, вознегодовав на несправедливость. Мы должны любить и чтить своего господина, даже если мы будем впредь отбросом в его глазах и он будет глядеть сквозь нас, как будто мы воздух. И ее я тоже буду любить и сожму свое сердце, чтоб ее не проклясть. Ведь сердце мое полно нежности к сестрице и приязни к подруге детства, но любимую жену, которая родит Думузи, оно очень склонно проклясть, и мои чувства к ней настолько двойственны, что телу моему дурно и тошно и я сама не своя.
Рувим, Симеон, Левий и Иуда неловко ласкались к ней. Они размышляли, моргая красноватыми глазами, и покусывали нижнюю губу. Тогда-то и началось. Тогда-то и подготовился в сердце Рувима тот горячий поступок, который был им позднее со зла совершен ради Лии и явился началом конца его первородства. Тогда-то и зародилась в сердцах братьев ненависть к жизни, что и сама находилась еще в зародыше; тогда-то и было посеяно то, чему суждено было взойти несказанной болью для Иакова, благословенного. Неужели так должно было непременно случиться? Неужели в Иаковлевом племени не могли царить безмятежность и мир и невозможен был иной ход событий, спокойный, ровный, согласный? Увы, нет, если должно было случиться то, что случилось, и если тот факт, что это случилось, является и доказательством того, что случиться это должно было. Происходящее в мире величественно, и так как мы не можем предпочесть, чтобы ничего не происходило, мы не вправе проклинать страсти, которые все и вершат; ибо без вины и без страсти не происходило бы вообще ничего.
Сколько шуму подняли по поводу состоянья Рахили, — это одно уже вызывало досаду и отвращенье у Лии, до чьих здоровых беременностей никому никогда не было дела. Рахиль же сразу стала как бы священна — такой взгляд шел, конечно, от Иакова, но все в доме, от Лавана до последнего скотника и дворового, невольно его разделяли. Вокруг нее ходили на цыпочках, с ней говорили не иначе, как слащаво-жалостливым голосом, склонив голову набок и словно бы оглаживая руками окружающий ее воздух. Оставалось только устилать ее путь пальмовыми ветками и коврами, чтобы нога ее не споткнулась о камень; и, бледно улыбаясь, она терпеливо сносила эти ухаживанья — не столько из себялюбия, сколько ради Иаковлева плода, которым она была наконец благословлена: во имя Думузи, настоящего сына. Но кто отличит у благословенных смиренье от высокомерия?
Увешанная амулетами, она не смела браться ни за какую работу ни в доме, ни во дворе, ни в саду, ни в поле. Иаков это запретил. Он плакал, если она не могла есть или удержать съеденное; целыми неделями она чувствовала себя скверно, и все очень опасались губительного влияния какой-нибудь нечисти. Адина, ее мать, постоянно накладывала ей повязки, пропитанные изготовленной по старинным рецептам мазью, которая оказывала двоякое действие: и как волшебное, защитное и отворотное средство, и как обычное смягчающее лекарство. Она растирала паслен, чернокорень, режуху и корень растенья Намтара, владыки шестидесяти болезней, добавляла в порошок чистого, надлежаще заговоренного масла и массировала этой смесью живот беременной возле пупка снизу вверх, бормоча непонятные, сумбурные и наполовину бессмысленные заклятия:
— Зловредный Утукку, зловредный Алу, долой ступайте; зловредный дух смерти, Лабарту, Лабашу, сердечная хворь, резь в животе, боль в голове, зубная боль, Ассакку, грозный Намтару, из дому прочь, заклинаю вас небом, заклинаю землей.
На пятом месяце Лаван настоял на том, чтобы отвезти Рахиль в Харран, к гадателю Э-хулхула, храма Сина, и послушать, что тот предскажет ей и ребенку. Внешне Иаков остался верен своим убежденьям, высказавшись против этой поездки и отказавшись участвовать в ней, но в глубине души он ждал прорицания с не меньшим любопытством, чем родственники, и, более чем кто бы то ни было, боялся какого-либо упущенья. Кроме того, старый прорицатель, жрец Риманни-Бел, что значит «Бел, помилуй меня», сын и внук прорицателей, о котором шла речь, был особенно искусным и популярным пророком и масловедом и, по всеобщему мнению, гадал мастерски, так что у него отбоя не было от клиентов; и если Иаков, само собой разумеется, отказался предстать перед ним в качестве вопрошателя и принести жертву Луне, то все же ему было слишком любопытно чье бы то ни было сужденье о состояний и видах Рахили, чтобы не отнестись к действиям родителей достаточно снисходительно.
Это они, Лаван и Адина, держали по дороге в Харран с обеих сторон узду осла, на котором сидела беременная, и осторожно вели его, чтобы он не оступился и не тряхнул немощную. А за ними, на поводу, тащилась овца, которую они собирались принести в жертву. Иаков помахал им рукой и остался дома, чтобы не видеть мерзостной пышности Э-хулхула и не раздражаться, глядя на примыкающий к храму дом блудниц и мальчиков для любви, которые, во славу своего идола, отдавались за большие деньги кому угодно. Он, не оскверняясь, дождался слова потомственного провидца, пророчества, которое Рахиль и ее родители задумчиво привезли домой, и молча выслушал рассказ их о том, что произошло с ними на территории храма и перед лицом масловидца Риманни-Бела, или Римута, как он для краткости позволил себя называть.
— Зовите меня просто Римут! — сказал этот кроткий гадатель. — Меня назвали, правда, Риманни-Бел, чтобы Син был ко мне милостив, но я сам полон милости к тем, кто готов принести жертву ввиду своих нужд и сомнений, а потому, обращаясь ко мне, говорите просто-напросто «милость», такое сокращение мне к лицу.
Затем он осведомился, что из необходимых предметов они привезли, удостоверился в безупречности даров и наказал им купить у лотков главного двора пряностей для сожженья.
Приятный был человек этот Риманни-Бел, или Римут, — в белом, полотняном платье и островерхом колпаке, тоже полотняном, уже старик, но стройный, не ожиревший, с седой бородой, красноватым, картошкой, носом и лукавыми глазками, в которые весело глядеть.
— Сложен я на славу, — сказал он, — и члены, и внутренности у меня безукоризненны, как у жертвенного животного, когда оно угодно, и как у овцы, к которой нельзя придраться. Все у меня складно и соразмерно, и ноги не искривлены ни наружу, ни внутрь, и зубы все, как один, на месте, и не могу пожаловаться ни на косоглазие, ни на шулятную хворь. Вот только нос, как видите, у меня красноват, но не от чего другого, как от веселого нрава, потому что я трезв, как прозрачная вода. Я мог бы ходить нагим перед богом, как принято было, говорят и пишут, когда-то. Теперь мы стоим перед ним в белом полотне, и это мне тоже нравится, потому что оно тоже чисто и трезво и подходит к моей душе. Я не завидую своим братьям, жрецам-заклинателям, которые правят службу в сплошь красных одеждах, чтобы запугивать пышностью своего облаченья демонов, пакостников и всякую нечисть. Эти жрецы тоже нужны и полезны и тоже не даром едят хлеб, но Риманни-Бел (это я) не хотел бы быть ни в их числе, ни жрецом омовенья и умащенья, ни бесноватым, ни жрецом-плакальщиком, ни таким, чью мужественность Иштар превратила в женственность, как это ни священно. Все они не вызывают у меня ни малейшей зависти, настолько доволен я своим уделом, и никакими гаданьями, кроме гаданья на масле, я бы не хотел заниматься, ибо это самый разумный, самый ясный и самый лучший способ гадать. Говоря между нами, гаданье по печени, да и по стрелам, допускает всяческий произвол, а при толковании снов и судорог вполне возможны ошибки, так что я порой смеюсь про себя надо всем этим. Что же касается вас, отец, мать и беременное дитя, то вы избрали правильный путь и постучались в надлежащую дверь. Ибо мой предок — Энмедуранки, который был до потопа царем в Сиппаре, мудрец и хранитель, обученный великими богами искусству наблюдать масло на воде и узнавать будущее по поведению масла. От него-то, по прямехонькой линии, от отца к сыну, я и веду свой род, и преемственность эта ни разу не нарушалась, ибо каждый отец заставлял своего любимого сына присягнуть Шамашу и Адад на письменных принадлежностях, а также изучить книгу «Когда сын прорицателей», и так продолжалось вплоть до веселого, безупречного Римута (это я). А от овцы, предупреждаю заранее, вам придется уделить мне заднюю часть, шерсть и горшок мясного отвара; затем сухожилия и половину всей требухи, согласно скрижалям и сообразно установленьям. Почечная часть, правый окорок и хорошая вырезка пойдут богу, а остальное мы все вместе съедим за храмовой трапезой. Согласны?
Так говорил Римут, потомственный прорицатель. И они принесли жертву на крыше, окропленной священной водой, поставили на стол господень четыре кувшина вина, двенадцать хлебов, кисель из простокваши и меда, насыпали соли. Затем накрошили в курильницы пряностей, закололи овцу — держал ее жертвователь, а удар нанес жрец — и отдали богу что полагалось. Как изящно, какими размеренными прыжками двигался безупречно сложенный старик Римут, исполняя заключительный танец у алтаря! Лаван и женщины не могли на него нахвалиться Иакову, который молча их слушал, скрывая нетерпеливое свое желание узнать наконец, что же тот предсказал.
Да, что касается пророческих указаний масла, то они были темны и многозначны; получив их, нельзя было похвастаться намного большей, чем прежде, осведомленностью, ибо звучали они одновременно и утешительно, и угрожающе, но так, наверно, и должно звучать заговорившее будущее, а оно, как-никак, прозвучало, хотя и невнятно, как бы не разжимая губ. Взяв в руки кедровый посох и чашу, Риманни-Бел молился и пел, наливал масло в воду и воду в масло и, склонив голову, разглядывал узоры, образуемые маслом в воде. Из масла получилось два кольца, большое и маленькое; это значило, что Рахиль, дочь овцевода, родит, по всей вероятности, мальчика. Из масла получилось кольцо, которое поплыло на восток и остановилось: это значило, что роженица будет здорова. Из масла при встряхивании получился пузырь: это значило, что покровительствующий ей бог поможет ей в беде, ибо придется ей туго. От беды человек уйдет, ибо масло погрузилось на дно и поднялось, когда влили воду, оно разделилось, но, всплывая, снова слилось, а это значило, что человек, хоть и после жестоких страданий, будет здоров. Но так как масло, когда в него влили воду, сначала опустилось, а затем поднялось и коснулось края чаши, то больной встанет на ноги, а здоровый умрет. «Но не мальчик же!» — не удержавшись, вскрикнул Иаков… Нет, судя по указаниям масла, которые, впрочем, именно в данном случае были невразумительны, ребенка ждала скорее противоположная участь. Ребенок попадет в яму и все-таки останется жив, он будет как зерно, которое не приносит плода, если само не умрет. Это, заверил Римут, не подлежит сомнению, ибо, когда налили воду, масло сначала разделилось на две части, а потом снова соединилось и поверхность его слишком уж своеобразно блеснула на солнце, а это означает вознесенье главы из смерти. Все это не очень понятно, сказал прорицатель, он сам этого не понимает и не хочет изображать себя перед ними мудрей, чем он есть, но это указанье надежно. Что же касается женщины, то гаданье и проверочное гаданье показало, что она не увидит звезды своего мальчика в высшей ее точке, если не станет остерегаться числа 2. Это число, несчастливое и вообще, дочери овцевода опасно особенно, и, судя по маслу, ей не следует отправляться в путь под знаком 2, не то она будет подобна войску, которое не доходит до поля боя.
Вот каковы были оракул и бормотанье оракула, слушая которое Иаков кивал головой и одновременно пожимал плечами. Что можно было отсюда извлечь? Услыхать это было важно, потому что относилось это к Рахили и к ее ребенку, но в общем-то приходилось принять это к сведенью и предоставить будущему распорядиться бормотаньем по своему усмотренью. Все равно судьба и будущее сохраняли за собой полную свободу действий. Многое могло случиться и не случиться, и все можно было так или иначе согласовать с этим оракулом и при желании считать, что именно это имелось в виду. Иаков часами размышлял о сущности пророчества как такового и заговаривал об этом с Лаваном, но тот и слышать ничего не хотел. Чем оно было по природе своей — разгадкой грядущего, в котором ничего нельзя изменить, или призывом к осторожности, велящим человеку делать все от него зависящее, чтобы предотвратить предсказанное несчастье? Последнее означало бы, что судьба не предопределена, что человеку дано влиять на нее. Но в таком случае будущее находится не вне человека, а внутри его, и как же оно тогда поддается прочтенью? Часто, кстати, случалось, что предупредительные меры прямо-таки навлекали на человека напророченную беду, которая, не прими он этих мер, явно не стряслась бы, так что и предостережение и судьба оказывались на поверку посмешищем демонов. Масло предсказало, что Рахиль, хотя и очень тяжело, но все же благополучно произведет на свет сына. Но если лишить роженицу ухода, не произносить заклинаний, прекратить необходимые растиранья, как тогда ухитрится судьба сохранить верность своему доброму предсказанью и остаться самой собой? Тогда, наперекор судьбе, греховно восторжествовало бы зло. Но не греховно ли тогда добиваться наперекор судьбе торжества добра?
Лаван не одобрял такой дотошности. Это, сказал он, заумное усложнение простых вещей. Будущее — оно и есть будущее, иными словами, его еще нет, и значит, оно неопределенно, но однажды оно наступит, такое-то и такое-то, и значит, в одном отношении оно определенно — в том, что оно будет, и больше тут ничего не скажешь. Сведенья о нем просвещают и умудряют душу, и жрецов-провидцев содержат для того, чтобы они, после многолетнего обученья, его предсказывали, и покровительствует им не кто иной, как царь четырех стран света в Вавилоне-Сиппаре, раскинувшемся по обеим сторонам реки, взысканец Шамаша и любимец Мардука, царь Шумера и Аккада, живущий во дворце с глубочайшими подвалами и неописуемо роскошным престольным покоем. Поэтому не мудрствуй!
Иаков уже молчал. К Нимроду Вавилонскому он всегда относился с глубокой иронией, унаследованной еще от странника-прародителя. Поэтому в его глазах оракул не стал священнее, оттого что Лаван сослался на могущественного властелина, который не делал ни шагу, не посоветовавшись со жрецами-гадателями. Лаван заплатил за пророчество овцой и съестными припасами для лунного истукана и уже потому вынужден был держаться за свое приобретение. Иаков, который ничего не платил, естественно, чувствовал себя вольнее; но с другой стороны, он был доволен, что, не платя, кое-что услыхал, а что касается будущего, то по крайней мере в одном вопросе — кого носит Рахиль: мальчика или девочку, — оно, считал Иаков, определилось уже сейчас. В лоне Рахили это решилось, только видеть этого еще нельзя было. Значит, существовало на свете определенное будущее, и то, что масло Риманни-Бела предвещало мальчика, было все же отрадно. Кроме того, Иаков был благодарен за практические указанья гадателя; ибо, как полагалось жрецу и служителю храма, тот был сведущ и во врачебном искусстве и, хотя эти его качества, несомненно, противоречили одно другому (ведь что медицина против будущего?), не поскупился на испытанные советы роженице, в которых врачебные предписанья и ритуальное заклинательство дополняли друг друга самым действенным образом.
Маленькой Рахили было нелегко. Задолго до того, как пришел ее час, едва не ставший потом смертным ее часом, началось врачеванье; и ей приходилось пить такие, например, невкусные жидкости, как масло, содержавшее порошок из толченых «беременных» камней, и носить на теле всяческие примочки, повязки, пропитанные мазью из горной смолы, свиного жира, рыбы и трав, и даже целые части нечистых животных, привязанные, как и примочки, нитками к ее членам. Кроме того, когда она спала, у нее в головах всегда лежал козленок, искупительная жертва жадным духам. Возле нее днем и ночью стояла глиняная кукла с поросячьим сердцем во рту, изваяние болоторожденной Лабарту, чтобы выманить эту отвратительную богиню из тела беременной, если она вселилась в него, и загнать ее в ее изображенье, каковое каждые три дня раскалывали мечом и хоронили в стене, в самом углу, не смея при этом оглядываться. Меч торчал в пылавших углях жаровни, которая, несмотря на теплую уже погоду и приближение месяца Таммуза, тоже должна была находиться вблизи Рахили и днем и ночью. Кровать ее была окружена маленькой стеной из густого киселя, и в ее каморке лежало три кучи зерна, что тоже соответствовало наставленью Риманни-Бела. Когда начались схватки, края кровати были поспешно обмазаны поросячьей кровью, а дверь дома — асфальтом и гипсом.
Роды
Тогда стояло лето, миновало уже несколько дней месяца владыки загонов, Растерзанного. С тех пор как великий час, когда настоящая и любимейшая родит ему сына, заявил о своем приближенье, Иаков уже не отходил от нее; теперь он собственноручно участвовал в уходе за ней, меняя примочки и однажды даже расколов и похоронив изваянье Лабарту. Эти обряды и меры шли, правда, не от бога его отцов, но через идола и его пророка могли все-таки идти от него, и, уж во всяком случае, никаких других не было предусмотрено. Бледная, изможденная и крепкая только своим чревом, где плод со слепой безжалостностью вытягивал из нее все соки и силы, Рахиль, улыбаясь, клала руку мужа туда, где ощущались глухие толчки ребенка, и сквозь покров плоти Иаков приветствовал Думузи, настоящего сына, и уговаривал его поскорее собраться с духом и выйти на свет, но выйти из своего укрытия ловко и осторожно, не причиняя чрезмерных страданий своей укрывательнице. Когда же ее бедное, улыбающееся лицо исказилось и она, задыхаясь, сказала, что сейчас начнется, он пришел в величайшее волнение, позвал родителей и служанок, велел приготовить кирпичи, забегал, засуетился, и сердце его было полно мольбы.
Нельзя нахвалиться на готовность и бодрое усердье Рахили. С радостной отвагой, не боясь никаких усилий и мук, приступила она к назначенному природой труду. Не напоказ и не потому, что теперь она переставала слыть бездетной и ненавистной, была она так деятельна, а по более глубоким, более материальным причинам, связанным с честью; ибо чувством чести обладает не только общество, это чувство знакомо, и притом еще лучше, чем обществу, самой плоти, как то узнала Рахиль, когда безболезненно и постыдно стала матерью в Валле. Теперь, когда ее час пришел, она улыбалась уже не прежней, смущенной улыбкой, в которой давала себя знать печальная совесть ее плоти. И, сияя от счастья и близорукости, глядели теперь ее красивые и прекрасные глаза в глаза Иакову, для которого ей предстояло родить на этот раз с честью; ибо именно этот час маячил перед ней, именно его ждала она со спокойной готовностью к жизни, когда однажды в поле пред нею впервые стоял чужеземец, двоюродный брат из чужой земли.
Бедная Рахиль! Она была так бодра, так полна добросовестной решимости не жалеть себя в назначенном природой труде, а природа была к ней так недоброжелательна, обошлась с ней, отважной, так круто! Неужели Рахиль, которая так честно жаждала материнства и так верила в свою способность к нему, в действительности, то есть во плоти, совсем не годилась для этого, не годилась, в отличие от нелюбимой Лии, настолько, что во время родов над ней нависал меч смерти и уже во второй раз упал на нее и убил ее? Неужели природа может вступать в такое противоречие с самой собой и так глумиться над теми желаньями, над той радостной верой, которые она сама же и вселила в сердце? Да, несомненно. Готовность Рахили не была принята, а вера ее была опровергнута, такова была участь этой усердной. Семь лет она, уповая, ждала вместе с Иаковом, а потом, в теченье тринадцати лет, надежды ее непонятным образом не сбывались. Но теперь, исполняя наконец ее мечту, природа брала с нее за свою уступку такую ужасную цену, какой не заплатили за всю свою материнскую славу Лия, Валла и Зелфа, вместе взятые. Сутки с половиной, от полуночи до полудня и еще целую ночь, до следующего полудня продолжался этот страшный труд, и продлись он еще час или полчаса, она испустила бы дух. Уже с самого начала Иакову было горько видеть разочарованье Рахили; ведь она надеялась справиться быстро, ловко и весело, а дело никак не двигалось. Первые признаки были, по-видимому, обманчивы; схватки следовали с многочасовыми перерывами, бесплодными промежутками пустоты и тишины, в которые Рахиль не страдала, а стыдилась и скучала. Она часто говорила Лии: «У тебя, сестра, все было иначе!», и та соглашалась, бросая при этом взгляд на Иакова, господина. Затем у роженицы начинались боли, с каждым разом все более жестокие и длительные, но когда они прекращались, казалось, что тяжкая эта работа пропала даром. Она перебиралась с кирпичей на постель, а с постели снова на кирпичи. Часы, ночные стражи, времена дня приходили и уходили; ей было стыдно и горько из-за ее неспособности. Рахиль не кричала, когда началась боль, которая ее уже вообще больше не отпускала; сжав зубы, она трудилась с безмолвным рвением, в полную меру своих сил, ибо, зная его мягкое сердце, не хотела пугать господина, который в промежутки изнеможенья сокрушенно целовал ей руки и ноги. Что толку было в ее рвении? Оно не было принято. Когда боль стала нестерпима, она все-таки закричала, закричала дико, чудовищно, так, что это было ей не к лицу и с маленькой Рахилью никак не вязалось. Ибо в то время — а тогда наступило второе утро — она была уже не в себе и не была уже самой собой, и по ее отвратительному воплю слышно было, что кричала не она, ибо голос был совершенно чужой, а демоны, которых поросячье сердце во рту глиняной куклы никак не могло выманить из нее в куклу.
То были схватки, ничуть не ускорявшие дела я только изводившие священно несчастную нескончаемой адской мукой, от которой кричащая маска ее лица посинела, а пальцы судорожно сжимались и разжимались. Иаков блуждал по дому и двору, повсюду спотыкаясь обо что-нибудь, потому что он заткнул себе уши большими пальцами и не отнимал от глаз восьми остальных. Он молил бога — уже не о сыне, Иакову было теперь не до сына, а о том, чтобы Рахиль умерла, чтобы она мирно опочила, избавившись наконец от адской пытки. Видя, что их зелья, мази и растиранья не помогли. Лаван и Адина в полной растерянности бормотали заклятья и под вопли роженицы, в ритмических фразах, напоминали Сину, богу Луны, о том, как он однажды помог при родах корове: пусть же он развяжет узел этой женщины и пособит девушке разрешиться от бремени. Лия стояла в углу родильного покоя, оттопырив от бедер кисти опущенных рук, и молча глядела своими синими, косящими глазами на беззаветную борьбу любимой Иакова.
А потом из Рахили вышел последний стон, полный предельной демонской ярости, стон, который нельзя издать дважды и остаться в живых и услыхать дважды и не лишиться рассудка, — и вместо причитаний о корове Сина у жены Лавана появились другие дела, ибо из кроваво-темного лона жизни вышел наружу сын Иакова, его одиннадцатый и первый, Думузи-Абсу, праведный сын бездны. Это Валла, мать Дана и Неффалима, бледная и смеющаяся, выбежала во двор, куда в беспамятстве метнулся Иаков, и, захлебываясь, доложила господину, что у нас родилось дитя, что нам дарован мальчик и что Рахиль жива; и он, дрожа всем телом, побрел к родильнице, упал к ее ногам и заплакал. Покрытая потом и словно преображенная смертью, она пела задыхающуюся песню изнеможенья. Врата ее тела были разорваны, язык искусан, а жизнь ее сердца еле теплилась. Так была вознаграждена ее ретивость.
У нее не было силы повернуть к нему голову и даже улыбнуться ему, но она гладила его темя, когда он стоял возле нее на коленях, а потом скосила глаза на колыбель, чтобы он поглядел на жизнь ребенка и возложил руку на сына. Выкупанное дитя уже перестало кричать. Оно спало, завернутое в пеленки. У него были гладкие черные волосы на головке, разорвавшей при выходе мать, длинные ресницы и крошечные ручки с четко вылепленными ногтями. Оно не было красиво в то время; да и как можно говорить о красоте, когда дело идет о столь малом ребенке. И все же Иаков увидел нечто такое, чего он не видел в детях Лии и не замечал в детях служанок, он с первого взгляда увидел то, что, чем дольше он глядел, тем сильнее переполняло его сердце благоговейным восторгом. Было в этом новорожденном что-то не поддающееся определенью, какое-то сияние ясности, миловидности, соразмерности, богоприятности и симпатии, которое Иаков, как ему казалось, пусть не понял, но различил. Он положил свою руку на мальчика и сказал: «Мой сын». Но как только он дотронулся до младенца, тот открыл глаза, которые были тогда синими и отражали солнце его рожденья в вершине неба, и крошечными, четко вылепленными ручками схватил палец Иакова. Он держал его в нежнейшем объятье, продолжая спать, и Рахиль, мать, тоже спала глубоким сном. А Иаков, столь нежно задержанный, стоял согнувшись и, должно быть, целый час глядел на ясного своего сыночка, покуда тот плачем не потребовал пищи; тогда он поднял его и передал матери.
Они назвали его Иосифом, или Иашупом, что означает умножение и прирост, как наше имя Август. Его полное имя, с упоминанием бога, было Иосиф-эль или Иосип-иа, но и в первом слоге тоже им уже слышался намек на самое высшее, и они называли его Иегосиф.
Крапчатый скот
После того как Рахиль родила Иосифа, Иаков был полон нежности и пребывал в самом радужном настроении; он говорил не иначе как торжественно-взволнованным голосом, и это самодовольство его чувства было непозволительно. Поскольку в тот полуденный час, когда родился ребенок, на востоке восходил зодиакальный знак Девы, который, как знал Иаков, находился в положении соответствия со звездою Иштар, планетным олицетворением небесной женственности, Иаков упрямо видел в Рахили, родительнице, какую-то небесную деву и матерь-богиню, какую-то Хатхор и Исет с ребенком у груди, а в мальчике — чудо-дитя и помазанника, с чьим появленьем связано начало радостной и благодатной поры и с которым пребудет сила Иагу. Нам ничего не остается, как осудить его за несоблюденье меры и за несдержанность. Мать и дитя — это, конечно, священный образ, но самый простой учет некоторых деликатных обстоятельств должен был бы помешать Иакову делать из этого образа «образ» в зазорнейшем смысле слова, а из маленькой Рахили — астральную деву-богиню. Он знал, конечно, что дева она не в обычном, земном значенье этого слова. Да и как она могла ею быть! Когда он говорил «дева», то был мифически-астрологический разговор. Но он настаивал на этом иносказании со слишком уж буквальным восторгом, и глаза его увлажнялись слезами упрямства. Точно так же, поскольку он был овцеводом, а возлюбленная его сердца звалась к тому же Рахилью, прозвище «агнец», данное им ее младенцу, могло сойти за вполне сносную и даже не лишенную обаяния игру мысли. Но тон, каким он произносил это прозвище и говорил об агнце, который вышел из девы, не имел ничего общего с шуткой и явно приписывал малышу в колыбели священность и непорочность жертвенного первенца стада. Все дикие звери, грезилось ему, нападут на его агнца, но он победит всех, — на радость ангелам и человекам на всей земле. Еще он называл своего сына ростком и побегом, который пущен нежнейшим корнем, ибо с этим в его сверхпоэтическом уме связывалось представленье о всемирной весне и том начавшемся теперь благословенном времени, когда отрок небесный побьет притеснителей посохом своих уст.
Какие преувеличенья чувства! И при этом для Иакова «начало благословенного времени», в той мере, в какой дело касалось его собственного, личного времени, имело вполне практическое значенье. Оно означало благословенность богатством — Иаков твердо считал рождение сына от праведной порукой в том, что теперь его дела на службе у Лавана, и раньше потихоньку обогащавшей его, решительно и очень резко улучшатся, что после этого поворота грязная преисподняя щедро отдаст ему все золото, которое в ней есть; а уж с этим тесно была связана более возвышенная и более проникнутая чувством мысль — мысль о возвращении с богатством наверх, в землю отцов. Да, появленье Иегосифа было тем поворотом в звездном круговороте его жизни, с которым, по существу, должно было бы совпасть его восшествие из царства Лавана. Но сразу это никак не могло получиться. К передвиженью не были способны ни Рахиль (бледная и обессилевшая, она с большим трудом оправлялась от страшных родов), ни — до поры до времени — ребенок, грудной младенец, которого нельзя было подвергать тяготам более чем семнадцатидневного Елиезерова путешествия. Удивительно и просто даже смешно, как бездумно порою судят и повествуют об этих делах! Так, утверждают, будто Иаков провел у Лавана четырнадцать лет, семь и семь; и будто на исходе их родился Иосиф, после чего Иаков отправился домой. Между тем сказано ясно, что при встрече с Исавом у Иавока Рахиль и Иосиф тоже подошли и поклонились Едому. Но как же может грудное дитя подойти и поклониться? Тогда Иосифу было пять лет, и эти пять лет Иаков прожил там дополнительно к двадцати и по новому договору. Он не мог отправиться в путь, но он мог сделать вид, будто намерен тотчас отправиться, чтобы оказать нажим на Лавана, персть земную, на которого только и можно было воздействовать нажимом и упорным использованием суровости хозяйственной жизни.
Поэтому Иаков пришел к Лавану и сказал:
— Пусть мой отец и дядя соблаговолит склонить свое ухо к моему слову.
— Прежде чем ты начнешь говорить, — поспешно перебил его Лаван, — послушай, что я скажу, ибо я должен сообщить тебе нечто более важное. Так дальше не может продолжаться, отношенья между людьми не узаконены, я больше не могу терпеть эту мерзость. Ты служил мне за жен семь и семь лет согласно нашему договору, который хранится у терафимов. Но вот уже несколько лет, кажется шесть лет назад, срок нашего письменного соглашения кончился, и царит у нас уже не право, а только привычка и рутина, так что никто не знает, чем ему руководствоваться. Наша жизнь стала походить на дом, который строится без отвеса, и еще, говоря откровенно, на жизнь животных. Я прекрасно знаю, ибо боги даровали мне зоркость, что ты свое получил, когда служил мне без всяких условий и без наперед определенного жалованья; ведь ты прибрал к рукам немало добра и всяких хозяйственных ценностей, которых я не стану перечислять, поскольку они уже все равно твои, и когда дети Лавана, мои сыновья Беор, Алуб и Мурас, корчили по этому поводу кислые рожи, я их одергивал. Ведь по труду и оплата, только нужно установить порядок оплаты. Поэтому давай сходим и заключим Новое соглашение, покамест еще на семь лет, и я готов вести с тобой переговоры обо всех условиях, которые ты мне поставишь.
— Это невозможно, — качая головой, отвечал Иаков. — К сожалению, мой дядя тратит свои драгоценные слова понапрасну, чего он избежал бы, выслушай он меня тотчас же. Ибо не о новом договоре пришел я говорить с Лаваном, а об уходе и увольнении. Я служил тебе двадцать лет, а как я служил, об этом я предоставляю высказаться тебе, сам я не могу это сделать, потому что мне не пристало употреблять выраженья единственно тут уместные. А тебе они были бы очень даже к лицу.
— Кто это отрицает? — сказал Лаван. — Ты служил мне вполне сносно, речь не об этом.
— И состарился и поседел я у тебя на службе без всякой нужды, — продолжал Иаков, — ибо причина, по которой я ушел из дома Ицхака и покинул свое место — гнев Исава, — она давно ушла в прошлое, и при ребяческом своем нраве этот охотник вообще не помнит старых историй. Я давным-давно мог в любой час уйти в свою землю, но я этого не сделал. А почему я этого не сделал? На это можно опять-таки ответить словами, употреблять которые я не вправе, ибо они хвалебны. Но вот Рахиль, небесная дева, в которой ты стал прекрасен, родила мне Думузи, Иосифа, моего и ее сына. Я возьму его вместе с другими своими детьми, Лииными и служанок, соберу все, что приобрел у тебя на службе, сяду на верблюда и поеду, чтобы вернуться в свою землю и на свое место и наконец зажить своим домом, после того как я столько времени корпел исключительно ради тебя.
— Я сожалел бы об этом в самом полном смысле слова, — отвечал Лаван, — и готов сделать все, что от меня зависит, чтобы этого не случилось. Пусть же мой сын и племянник, не стесняясь, выложит мне, чего он хочет ввиду новых обстоятельств, и клянусь Ану и Эллилом, я благосклонно выслушаю и самые большие его требования, если они хоть мало-мальски разумны.
— Не знаю, что ты найдешь разумным, — сказал Иаков, — если вспомнишь, чем ты владел до моего прихода и как все это умножилось в моих руках. Прирост не обошел даже твоей жены Адины, которая с неожиданной прытью принесла тебе на старости лет троих сыновей. Но с тебя станет, что ты объявишь мое требование неразумным, а поэтому я лучше помолчу и уберусь восвояси.
— Говори, и ты останешься, — ответил Лаван.
И тогда Иаков изложил свое требование и высказал условие, на котором он согласился бы остаться еще на год-другой. Лаван ожидал чего угодно, только не этого. В первое мгновение он был ошеломлен, и ум его судорожно заработал, стараясь, во-первых, уразуметь это требование, а во-вторых, немедленно ограничить его значенье самыми необходимыми ответными ходами.
Это была знаменитая история с крапчатыми овцами, которую тысячи раз пересказывали у костров и колодцев, тысячи раз повторяли и воспевали в прекраснословных беседах во славу Иакова и как образец остроумной пастушеской находчивости, история, которую в старости, когда он обо всем размышлял, Иаков и сам не вспоминал без того, чтобы его тонкие губы не ухмыльнулись в бороду… Одним словом, Иаков потребовал в награду за свой труд двуцветных черно-белых овец и коз — не тех, что уже имелись налицо, — в этом вся суть, — а будущий пестрый приплод Лаванова стада, чтобы приобщить его к личному своему имуществу, которое он исподволь нажил на службе у дяди. Речь шла, таким образом, о дележе всего выращиваемого впредь поголовья между хозяином и работником — правда, не поровну; в подавляющем большинстве овцы были белые, и пятнистых было немного, так что Иаков сделал вид, будто дело идет о некоей выбраковке. Но оба отлично знали, что крапчатый скот намного ярее и плодовитее белого, и Лаван не преминул с уваженьем и ужасом высказать это, огорошенный ловкостью и вымогательским бесстыдством племянника.
— Ну и взбредет же тебе в голову! — отвечал он. — От твоих условий просто глаза слепнут и уши глохнут! Крапчатых, стало быть, самых ярых? Ловко. Я не отказываю тебе, не думай! Я обещал согласиться с любым твоим требованием и не пойду на попятный. Если ты настаиваешь на этом условии, если ты иначе уедешь, оторвав от моего сердца моих дочерей, Лию и Рахиль, твоих жен, так что мне, старику, никогда уже больше не придется увидеть их, то пусть будет по-твоему. Хотя, сказать по правде, ты меня просто губишь.
И Лаван сел на землю, словно его хватил удар.
— Послушай! — сказал Иаков. — Я вижу, тебе нелегко согласиться с моим требованьем, и оно тебе не совсем по вкусу. Так вот, поскольку ты родной брат моей матери и родил мне Рахиль, звездную деву, праведную а любимейшую, я так обусловлю свое условие, что оно испугает тебя меньше. Мы пройдем по твоему стаду и отберем весь крапчатый и пестрый скот, а также черный, и отделим его от белого, так что одни не будут и знать о существованье других. После этого весь двуцветный приплод пойдет мне. Теперь ты доволен?
Лаван поглядел на него, прищурившись.
— Три дня пути! — воскликнул он вдруг. — Три дня пути должно быть между белым скотом и всем остальным, пятнистым и черным, и пасти их надо раздельно, чтобы одни не знали даже о существованье других! И заверить договор у судьи в Харране и спрятать в подвал к терафимам — вот мое непременное встречное условие.
— Нелегкое для меня! — сказал Иаков. — Да, очень-очень нелегкое и неприятное. Но я уже с самого начала привык к тому, что в делах хозяйственных мой дядя суров и строг и не считается ни с какими родственными отношениями. Поэтому я принимаю твое условие.
— И хорошо делаешь, — ответил Лаван, — потому что я все равно не отказался бы от него. Но скажи мне, какое стадо собираешься ты пасти и растить для себя — крапчатое или белое?
— Само собой разумеется, — сказал Иаков, — что каждый должен заботиться о том имуществе, которое принесет ему прибыль, — я, следовательно, о пятнистых овцах.
— Так нет же! — воскликнул Лаван. — Что нет, то нет! Ты выставил свое требование, и притом весьма жесткое. А теперь моя очередь, и я выставляю свое, самое скромное, на мой взгляд, и самое необходимое для сохранения хозяйственной чести. Этим договором ты снова подряжаешься ко мне на службу. Но коль скоро ты мой работник, то интересы хозяйства требуют, чтобы ты растил тот скот, который пойдет мне, а не тот, что пойдет тебе, — белый, стало быть, а не пятнистый. Пятнистый же будут пасти Беор, Алуб и Мурас, мои сыновья, которых мне в обилии принесла Адина на старости лет.
— Гм, — сказал Иаков, — ну что ж, пойду и на это, не стану с тобой пререкаться, ты знаешь мой мягкий нрав.
Так они пришли к соглашенью, и Лаван не подозревал, какую он играл роль и что обманутым бесом был на этот раз он. Расчетливый тугодум! В первую очередь он хотел извлечь пользу от Ицхакова благословения, надеясь, что оно будет сильнее естественной плодовитости пятнистых овец. Под надзором Иакова, полагал он, белое стадо, от которого после отделения пестрых и черных овец не приходилось ждать крапчатых ягнят, будет расти быстрее, чем двуцветное под надежной, но неталантливой опекой его сыновей. Персть земная! Он осмотрительно учитывал благословение, но учитывал его недостаточно, чтобы надлежаще представить себе остроумие и изобретательность Иакова и хотя бы отдаленно догадаться о замысле, скрывавшемся за требованием зятя и за его уступками — о глубокомысленной, заранее проверенной обстоятельными опытами идее, которая и была всему подоплекой.
Ибо не следует думать, будто на свой хитрый способ получать пестрый приплод даже от целиком белого стада Иаков набрел только после заключенья сделки, чтобы извлечь из нее выгоду. Первоначально эта идея не преследовала никакой цели, она была просто игрой ума и проверялась из чистой любознательности, а договор с Лаваном был лишь деловым ее применением. Она возникла еще до свадьбы Иакова, в те времена, когда его любовь жила ожиданьем, а его животноводческое чутье обладало наибольшей тонкостью и остротой, — она была плодом длительного этого состояния сочувственного вдохновенья и интуитивной проницательности. Приходится поистине восхищаться чуткостью и догадливостью, с какими он побудил природу открыть ему одну из ее чудеснейших тайн и экспериментально проверил свое открытие. Он обнаружил явление материнской впечатлительности. Он установил, что если во время течки животное глядит на пятнистый предмет, то это сказывается на зачинаемом потомстве, которое родится пятнисто-двуцветным. Его любопытство, следует подчеркнуть, носило лишь отвлеченный характер, и многочисленные случаи подтверждающего успеха он отмечал в ходе своих опытов с чисто умственным удовольствием. Какой-то инстинкт заставил его скрыть от всех, и в том числе от Лавана, что ему удалось заглянуть в это волшебство сопереживанья; но хотя мысль о том, чтобы сделать свое тайное знание источником решительного самообогащения, со временем и пришла, то все же она была вторична и окрепла только тогда, когда подоспело время нового договора с тестем.
Конечно, в прекраснословной беседе пастухов занимала только практическая сторона дела, ловкая, достойная величайшего пройдохи плутня. Как устроил Иаков подвох Лавану и систематически его обирал; как взял он прутьев тополевых и миндальных и, сняв кору, вырезал на них белые полосы, после чего положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, к которым скот приходил пить и возле которых, придя пить, зачинал; как зачинал скот перед прутьями и от одноцветных родителей рождались крапчатые ягнята и козлята; и как делал это Иаков только во время течки рожденного весною скота, оставляя поздний, то есть менее ценный скот Лавану, — обо всем этом пастухи пели и повествовали друг другу под звуки лютни, держась за бока от смеха по поводу такого великолепного мошенничества. Ведь они не обладали ни набожностью Иакова, ни его знанием мифов и не догадывались об истинных причинах его поведенья: во-первых, по долгу человека он должен был помочь вседержителю богу, который обетовал ему благосостояние, исполнить этот обет, а во-вторых, он должен был обмануть Лавана, беса, который обманул его в темноте, послав к нему статную, но песьеголовую Лию; он должен был соблюдать устав, по которому преисподнюю полагалось покидать не иначе как нагрузившись сокровищами, которые навалом валялись там среди грязи.
Итак, паслось три стада: белое — под присмотром Иакова, пестрое и черное — под надзором Лавановых сыновей, и личный скот Иакова, накопившийся у него за годы торговых дел, за которым ходили его подпаски и рабы и к которому постоянно присоединяли пятнистый приплод крапчатых и околдованных белых. И таким путем этот человек стал настолько богат, что по всему краю с благоговением говорили о том, сколько овец, служанок и рабов, ослов и верблюдов было теперь в его владении. Он сделался наконец намного богаче Лавана, персти земной, и всех хозяев, которых тот некогда пригласил на свадьбу.
Воровство
Ах, как помнил все Иаков, как глубоко и ясно он помнил! Это понимал каждый, кто видел, как он стоит в торжественной задумчивости, и каждый старался вести себя тише из благоговения перед жизнью, настолько наполненной историями. И вот положение богатого Иакова стало весьма щекотливым — сам бог, Эль, всевышний, признал, что из-за сплошной благодати оно стало непрочным, и дал ему соответствующие указанья в видении. До благословенного доходили сведенья — слишком достоверные сведенья — об отношении к нему, разбогатевшему, его шуринов, наследников Лавана, Беора. Алуба и Мураса: злобные речи этих троих, угрожающие их речи, передаваемые подпасками и рабами, слыхавшими их, в свою очередь, при встречах на усадьбе от челяди этих двоюродных братьев, речи, немалая правдивость которых не делала их менее тревожными ни в коей мере.
— Этот Иаков, дальний наш родственник, — говорили они, — явился сюда, когда нас еще на свете не было, бездомным нищим, ничего не имея за душой, и отец наш, по доброте душевной, приветил и приютил ради богов этого тунеядца. И глядите-ка, как обернулось дело! Он высосал из нас все соки, завладел добром нашего отца и до того разжирел и разбогател, что просто тошно становится, потому что это воровство перед богами и преступленье перед наследниками Лавана. Пора что-то предпринять, пора тем или иным путем восстановить справедливость во имя здешних богов. Ану, Эллила и Мардука, а равно и Бел Харрана, которым мы верны по обычаю наших отцов, меж тем как наши сестры, жены этого чужеземца, отчасти почитают, увы, и его бога, господа его племени, который учит его колдовать, чтобы получать крапчатый весенний приплод, завладевая добром нашего отца по какому-то гнусному договору. Посмотрим, однако, кто на этой земле и в этом краю окажется сильнее в решительный час — местные боги, которые здесь испокон веков дома, или его бог, у которого нет дома, кроме Вефиля, а это просто камень на холме. Ведь вполне возможно, что, справедливости ради, с ним что-то случится на этой земле, что его растерзает лев где-нибудь в поле, и это не будет ложью, ибо мы поистине львы в своем гневе. Правда, Лаван, наш отец, слишком боязливо блюдет договор, что хранится у домовых божков. Но ему можно будет сказать, что Иакова задрал лев, и отец на том помирится. Вот только у этого разбойника с запада дюжие сыновья, двое из которых, Симеон и Левий, рыкают иногда так, что просто дрожь берет. Но и нам тоже боги дали железную силу удара, хотя мы дети старого человека, и мы могли бы напасть ночью, когда он уснет, без предупрежденья, внезапно, а потом все свалить на льва, — отец нам легко поверил бы.
Вот какие речи вели между собой сыновья Лавана; речи эти не предназначались для слуха Иакова, но их передавали ему за вознагражденье рабы и подпаски; и он качал головой, не одобряя подобных разговоров по существу и думая, что без Исаакова благословения, которое было началом всему Лаванову процветанью, этих парней вообще не было бы на свете и что им следовало бы стыдиться строить такие козни ему, истинному их родителю. Но, кроме того, он встревожился и стал теперь присматриваться к Лавану, стараясь определить по его физиономии, как настроен он сам, хозяин, — захочет ли он поверить, что Иакова растерзал зверь, если это заявят шурья. Он вгляделся в лицо Лавана, когда тот прибыл на воле осмотреть стадо, и, найдя, что нужно еще раз вглядеться в него, съездил верхом на усадьбу, чтобы обсудить стрижку овец, и снова вгляделся в тяжелое это лицо. И вот оно показалось ему не таким, как было вчера и третьего дня, тот вообще не отвечал на его испытующие взгляды, тяжело супясь, он ни разу не поднял на Иакова глаз, а прятал их под надбровьями и потуплял в сторону, когда волей-неволей должен был выдавить из себя несколько слов, и поэтому после второй проверки Иакову стало совершенно ясно, что этот человек не только поверит в хищного зверя, но даже будет мрачно благодарен ему в душе.
Теперь Иаков знал достаточно, и, засыпая, каждый раз слышал во сне голос бога, и тот говорил: «Уходи!» И торопил его: «Собери все, что у тебя есть, лучше сегодня, чем завтра, возьми своих жен и детей и все, что, благодаря мне, стало за это время твоим, и, отягощенный богатством, подайся на родину, взяв направление на гору Гилеад, и я буду с тобой».
Это было указанье самое общее; предусмотреть и обдумать частности было делом человека, и с тихой осмотрительностью начал Иаков подготавливать свое бегство из преисподней. Прежде всего он вызвал в поле, где пас стадо, Лию и Рахиль, дочерей дома, чтобы договориться с ними и заручиться их согласием. Что же касается побочных жен, Валлы и Зелфы, то их мнение не имело значения, им оставалось только повиноваться.
— Вот как обстоит дело, — сказал он женам, когда они втроем, поджав под себя ноги, сидели перед шатром, — вот как оно обстоит. Ваши поздние братья посягают на мою жизнь, зарясь на мое имущество, которое принадлежит вам и будет наследством ваших детей. И, вглядываясь в лицо отца, чтобы узнать, защитит ли он меня от злодейства, я убеждаюсь, что он не глядит на меня, как вчера и третьего дня, и вообще не глядит; ибо одна половина его лица тяжело обвисает, словно ока у него отнялась, и другая тоже не хочет обо мне знать. А почему? Я служил ему, не жалея сил. Я служил трижды семь лет и четыре года, а он меня обманывал, как только мог, и переменял мне награду, как ему заблагорассудится, ссылаясь на суровость хозяйственной жизни. Но бог в Вефиле, бог моего отца, не допустил, чтобы он причинил мне вред, и обратил все мне на пользу. И когда было сказано: «пестрые будут тебе в награду», бараны тотчас покрыли овец, и все стадо родило пестрых, так что имущество отца вашего было отнято у него и отдано мне. Поэтому я должен умереть, и скажут: «Его растерзал лев». Но господь в Вефиле, бог, для которого я возлил масло на камень, хочет, чтобы я жил и дожил до глубокой старости, а потому он повелел мне во сне взять все мое достояние и тайно уйти за поток в землю моих отцов. Я сказал. Теперь говорите вы!
И оказалось, что обе жены держатся мнения бога — как могли они быть иного мнения? Бедный Лаван! Он проиграл бы, даже если бы у них и был выбор, а его у них не было. Они принадлежали Иакову. Выкуп за них был выплачен в четырнадцать лет. При обычных условиях их покупатель и господин давно увез бы их из отцовского дома в лоно своего собственного рода. Они успели стать матерями восьми его детей, до того как дело пошло естественным ходом и он воспользовался правами, которые давно приобрел. Неужели они отпустили бы его с сыновьями и Диной, дочерью Лии, а сами остались бы с отцом, который их продал? Неужели он должен был бежать один с богатством, которое его бог отнял у их отца и отдал им и их детям? Или, может быть, они должны были выдать замысел Иакова отцу, братьям и погубить его? Нет, все это невозможно. Одно невозможнее другого. Ведь прежде всего, они любили его, любили, соревнуясь со дня его прихода, а для соревнования в преданности не было еще мгновения, более благоприятного, чем это. Поэтому они прижались к нему с обеих сторон и сказали одновременно:
— Я твоя! Не знаю и знать не желаю, что на уме у другой. Но я твоя, где бы ты ни был и куда бы ты ни пошел. Если ты тайно уйдешь, то укради и меня вместе со всем, что даровал тебе бог Авраама, и да будет с нами Набу, вожатый и бог воров!
— Спасибо вам, — отвечал Иаков. — Одинаковое спасибо обеим! На третий день от нынешнего Лаван прибудет сюда стричь вместе со мной свое стадо. Затем он поедет дальше, на расстояние трех дней пути, стричь своих пестрых вместе с Беором, Алубом и Мурасом. Пока он будет в дороге, я соберу свой скот, дарованное мне богом стадо, которое пасется между этими двумя стадами, и на шестой день от нынешнего, когда Лаван будет далеко, мы тайно уйдем со всем своим богатством к потоку Прату и к Гилеаду. Ступайте, я люблю вас почти одинаково! Но ты, Рахиль, зеница моего ока, возьми на себя заботу об агнце девы, об Иегосифе, истинном сыне, чтобы ему было как можно удобнее в пути, и приготовь ему теплые пелены на случай холодных ночей, ибо этот росток нежен, как корень, из которого он среди болей и корчей вышел на свет. Ступайте же и обдумайте все, что я сказал.
Так и еще подробнее было обсуждено бегство, о котором Иаков и в старости вспоминал с лукавым весельем. Но растроганно вспоминал он и говорил до смерти о том, что сделала тогда маленькая Рахиль по милой своей простоте и пронырливости. Она сделала это совершенно самостоятельно, без чьего-либо ведома, и даже ему, Иакову, призналась в этом только позднее, чтобы не обременять его совесть своим поступком и чтобы он мог поклясться Лавану с чистой душой… Что же она сделала? Поскольку они бежали украдкой и мир находился под знаком Набу, она тоже украла. Когда Лаван уехал со двора стричь овец, она выбрала тихий час, спустилась через западную дверцу в кладовую могил и грамот, взяла, одного за другим, Лавановых домовых божков, терафимов, за их бородатые и женственные головки, сунула их под мышку и в поясной кошель, оставив двух-трех в руках, и незаметно пробралась с ними в женские покои, чтобы прикрыть глиняных истуканов домашней утварью и взять их с собой в воровскую дорогу. Ибо в головке ее была путаница, и это как раз и растрогало сердце Иакова, когда он обо всем узнал, — растрогало и огорчило. С одной стороны, на словах, она из любви к нему приняла веру в его бога, всевышнего и единственного; отказалась от местных верований. Но, с другой стороны, в глубине души она еще поклонялась идолам и, уж конечно, думала, что лишняя зарука не помешает. На всякий случай она забрала у Лавана его советчиков и вещунов, чтобы те не открыли ему путей беглецов, а наоборот, защитили их от погони, обладая, по распространенному поверью, в числе прочих достоинств и такой способностью. Она знала о привязанности Лавана к этим человечкам и к фигуркам Иштар, знала, как он дорожил ими, и все-таки она украла их у него ради Иакова. Не диво, что Иаков, прослезившись, поцеловал ее, когда она позднее призналась ему в своем поступке, и только ласково пожурил ее за ее нетвердость в вере и за то, что она заставила его поклясться Лавану своими кровными, когда тот их догнал: ибо по неведению Иаков поручился тогда жизнью их всех в том, что богов этих нет под его крышей.
Погоня
Ведь своих защитных свойств терафимы в этом случае отнюдь не явили, — может быть, потому что не хотели обращать их против законного своего хозяина. Что сын Ицхака со своими женами, служанками, двенадцатиголовым потомством и всем своим имуществом бежал, и бежал, разумеется, в западном направлении, Лаван узнал уже на третий день, едва лишь приехав стричь пятнистых и черных овец, узнал от рабов-пастухов, надеявшихся получить за верность своего языка лучшую награду, чем та, которая им досталась, ибо их чуть даже не поколотили. Разъяренный Лаван поспешил домой, где обнаружил похищение идолов, и оттуда, вместе со своими сыновьями и несколькими вооруженными родственниками, тотчас же пустился в погоню.
Да, все было совершенно так же, как двадцать пять лет назад, на пути Иакова в Месопотамию, когда его преследовал по пятам Елифаз: снова он бежал от страшной погони, тем более опять-таки страшной, что его преследователи были подвижнее, чем он со своей медленно тянущейся в пыли вереницей мелкого скота, вьючных животных и воловьих упряжек, и к ужасу, который его охватил, когда дозорные его тыла донесли ему о приближенье Лавана, прибавилось духовное удовлетворение этим соответствием и сходством. Семь дней, как известно, потребовалось Лавану, чтобы догнать своего зятя, который прошел уже самую трудную часть пути, пустыню, и добрался уже до лесистых круч Гилеада, откуда ему нужно было только спуститься, чтобы оказаться в долине Иордана, что течет в море Лота, или Соленое море, — когда его настигла погоня и ему не удалось избежать встречи и объяснения.
Место действия, сохранившийся вид окрестностей, поток, море и горы в дымке — вот свидетели и молчаливые поручители историй, которыми была богата и горда душа Иакова, которые внушали такую робость перед его задумчивостью и которые мы обстоятельно, то есть со всеми их обстоятельствами, излагаем, — так, как они происходили с ними здесь доподлинно, в убедительном согласии с горой и долиной. Здесь это было, все точно и правильно, мы сами с трепетом спускались в бездну и с западного берега зловонного моря Лота удостоверились воочию, что все сообразно и верно. Да, эти синеватые возвышенности на востоке по ту сторону щелочного моря — Моав и Аммон, земли детей Лота, отверженных, которых прижили от него его дочери. А там, далеко на юг от моря, виднеется область Едом, Сеир, Козлиная земля, откуда в смятении выступил навстречу брату Исав, который встретился с ним у Иавока. Верно ли указаны Гилеадские горы, как место, где Лаван догнал зятя, и их положенье относительно потока Иавока, к которому затем пришел Иаков? Совершенно верно. Название Гилеад распространялось, правда, и на земли, уходящие восточнее Иордана далеко на север, вплоть до реки Иармук, сливающей свои бурные воды с водами Иордана близ озера Киннерет или Геннисарет. Но горы Гилеад в узком смысле — это высоты, тянущиеся с запада на восток, по обоим берегам Иавока, и с них можно спуститься к его кустарникам и к броду, который и выбрал Иаков, чтобы перевести через реку свою семью, а сам он остался на ночь и в одиночестве пережил приключенье, навсегда сделавшее его походку прихрамывающей. Как естественно, кстати, что, вступив здесь в жаркое поречье, он не стал со своими усталыми людьми и животными спускаться в собственно родные места, а направился прямо на запад, в долину Сихема у подножий Гаризима и Гевала, где надеялся передохнуть. Да, все в точности сходится и надежно свидетельствует, что не лгут песни пастухов и прекраснословные их беседы…
Навсегда останется неясно, каково же, собственно, было на душе у Лавана, персти земной, во время его ожесточенной погони; ибо его поведенье у ее цели было для Иакова приятным сюрпризом, что, как он, Иаков, поздней отмечал, находилось опять-таки в прекрасном соответствии с неожиданным поведением Исава во время их встречи. Да, пускаясь в путь, Лаван явно пребывал в таком же смятенье, как Красный. Он негодовал и гнался с оружием за беглецом, но потом он назвал его действия всего-навсего безрассудными и в ходе беседы признался племяннику, что во сне его посетил бог, бог его сестры, и предостерег его, чтобы он не сказал Иакову ничего худого. Это вполне возможно, ибо Лавану достаточно было знать о существовании бога Авраама и Нахора, чтобы уже признавать этого бога таким же действительным, как Иштар или Адад, даже не причисляя себя к его почитателям. Но мог ли он, иноверец, и в самом деле услыхать и увидеть во сне Иего, единственного, — это вопрос спорный; учители и комментаторы высказывали свое недоуменье по этому поводу, и всего вероятней, что видением он для выразительности назвал какие-то охватившие его в дороге тревожные чувства, какие-то соображенья, возникшие у него в глубине души, — Иаков тут тоже толком не разобрался и удовлетворился этой формулировкой. Двадцать пять лет научили Лавана считаться с тем, что перед ним — человек благословенный, и если вполне понятно, что он вознегодовал, когда Иаков вместе с собой похитил у него силу своего благословенья, ради которой Лаван принес столько жертв, то не менее понятно, что первое его побуждение — применить силу — вскоре было заглушено робостью. Не было в общем-то никаких доводов и против увода жен, его дочерей. Они были куплены, они принадлежали Иакову душой и телом, и Лаван сам когда-то презирал нищего, которому некуда было увести их из дома родителей в свадебном шествии. Как, однако, боги все изменили и позволили этому человеку его обобрать! Яростно догоняя Иакова, Лаван едва ли собирался отнять у него богатство силой оружия, влекла Лавана вперед, скорее, смутная потребность смягчить ужас окончательной утраты всего, что перешло из его рук в Иаковлевы, хотя бы прощанием с удачливым вором и миром с ним: тогда ему стало бы легче. И только одним он был действительно возмущен, и только с одним не намерен был примириться — с кражей терафимов. Среди туманных и темных мотивов преследовательской его ярости это был единственно определенный и четкий: своих божков он хотел вернуть себе, и кто, несмотря на всю грубую черствость этого халдейского законника и деляги, способен хоть как-то ему посочувствовать, тому и сегодня еще будет неприятно и грустно, что он так их и не получил обратно.
Встреча беглеца и преследователя протекала на редкость мирно и тихо, хотя, судя по ярости, с какой Лаван пустился в погоню, можно было ожидать чуть ли не схватки. На Гилеад опустилась ночь, и, раскинув свой лагерь на влажном горном лугу, Иаков только что велел привязать верблюдов и кучно согнать мелкий скот, чтобы животные согревали друг друга, когда молча появился Лаван, молча, как тень, разбил по соседству шатер и исчез в нем, чтобы этой ночью вообще не показываться.
А наутро он тяжелой поступью подошел к палатке Иакова, перед которой тот несколько растерянно ждал его, и они прикоснулись пальцами ко лбу и груди и опустились наземь.
— Какая удача, — начал Иаков щекотливую беседу, — что я еще раз вижу своего отца и дядю. Надеюсь, что тяготы путешествия не нанесли ни малейшего ущерба здоровью его тела!
— Я не по годам прыток, — ответил Лаван. — И ты, несомненно, помнил об этом, навязывая мне эту поездку.
— Как это понимать? — спросил Иаков.
— Как это понимать? Милый мой, углубись в себя и спроси себя, как ты со мной поступил, если тайком убежал от меня и от нашего договора и безжалостно увел от меня моих дочерей, как пленниц, добытых мечом! По моему представленью, ты должен был навсегда остаться у меня по договору, который стоил мне крови, но которого я, по обычаю нашей земли, свято держался. Но уж если тебе так не терпелось уйти в свою вотчину, почему ты не раскрыл рта и не поговорил со мной по-сыновнему? Мы бы с опозданием сделали то, что помешали нам своевременно сделать твои обстоятельства, и проводили бы вас, как подобает, с кимвалами и арфами, по сухопутью или же по воде. А ты что сделал? Неужели ты всегда должен красть, и днем и ночью, неужели у тебя нет сердца и чувствительных внутренностей, если ты не позволил мне, старику, поцеловать своих детей напоследок? Я тебе скажу, как ты поступил, ты поступил совсем безрассудно — вот как я определил бы твои действия. А если бы я захотел и если бы я вчера не услыхал во сне голоса, — возможно, что то был голос твоего бога, — и этот голос не отговорил меня ссориться с тобой, то, поверь, у моих сыновей и рабов хватило бы железа в руках, чтобы отплатить тебе за твое безрассудство, поскольку мы догнали тебя как вора.
— О да, — отвечал тогда Иаков, — что правда, то правда. Сыновья моего хозяина — это вепри и юные львы, и будь их воля, они давно бы обошлись со мной, как вепри и львы, если не днем, то ночью, когда я спал бы, а ты бы охотно поверил, что меня растерзал зверь, и оплакивал бы меня, не щадя сил. Ты спрашиваешь, почему я ушел потихоньку, без долгих разговоров? А как же мне было не опасаться, что ты не отпустишь меня и отнимешь у меня моих жен, твоих дочерей, и уж, во всяком случае, навяжешь мне новые условия за разрешенье уехать и заберешь у меня все мое добро? Ведь мой дядя суров, и его бог — это неумолимый закон хозяйства.
— А зачем ты украл моих богов? — внезапно вскричал Лаван, и на лбу у него набухли жилы от гнева…
Иаков онемел от удивленья, о чем и сказал. В сущности, у него стало даже легче на душе, оттого что такое вздорное утверждение сделало Лавана неправым, — это было Иакову на руку.
— Богов? — переспросил он удивленно. — Терафимов? Я, значит, похитил у тебя из подвала твоих кумиров? В жизни не слыхал ничего нелепее и смешнее! Образумься же, человече, подумай хорошенько, в чем ты меня обвиняешь! Какая корысть мне от глиняных твоих идолов, чтобы идти из-за них на преступленье? Я знаю, что они сделаны на гончарном стане и высушены на солнце, как всякая другая посуда, и по мне, они не годятся даже на то, чтобы вытереть нос какому-нибудь сопливому рабскому пащенку. Я говорю о себе, ты, наверно, судишь несколько иначе. Но поскольку они у тебя, по-видимому, пропали, было бы неблагородно набивать им цену в твоих глазах.
Лаван ответил:
— Ты хитришь, делая вид, будто они для тебя ничего не значат, чтобы я поверил, будто ты их не крал. Не может человек настолько не ценить терафимов, чтобы ему не хотелось их украсть, это невозможно. И так как их нет на месте, то, значит, украл их ты.
— Выслушай же меня! — сказал Иаков. — Очень хорошо, что ты здесь, что, не пожалев стольких дней, ты все-таки догнал меня из-за этого дела, ибо его нужно выяснить до конца. Этого требую я, обвиняемый. Вот перед тобою мой стан. Обойди его, как пожелаешь, и обыщи! Перевороши все без страха по своему усмотренью, я предоставляю тебе полную свободу. И у кого ты найдешь своих богов, будь то я сам или кто-либо из моих людей, тот пусть умрет на месте у всех на глазах, и ты волен сам определить, примет ли он смерть от железа или от огня или будет зарыт живьем. Начни с меня и смотри как следует! Я настаиваю на самом тщательном обыске.
Он был доволен, что все свелось к терафимам, что речь шла вообще только о них и что после обыска он вправе будет принять вид оскорбленного достоинства. Он не подозревал, сколь зыбка почва у него под ногами и какое смертельно наглое предложенье он сделал. В этом была без вины виновата Рахиль; но она с величайшей ловкостью и твердостью взяла на себя все последствия своего легкомыслия.
Лаван ответил: «И правда, пусть будет так!», ретиво поднялся и приступил к обыску. Нам точно известен порядок, в каком он действовал — сначала с запальчивой обстоятельностью, а затем, после нескольких часов напрасного труда, постепенно устав и приуныв; ибо солнце как раз поднималось, и ему стало очень жарко, и хотя на нем не было верхнего платья, а была лишь рубаха с открытой грудью и засученными рукавами, под шапкой у него вскоре выступил пот, а лицо так раскраснелось, что впору было опасаться, что тяжелого этого старика хватит удар — и все из-за терафимов! Неужели Рахили не было жаль отца, если она могла так мучить и так невозмутимо дурачить его? Но нельзя забывать о силе переосмысляющего внушения, исходившей от незаурядной личности Иакова и религиозных его представлений и подчинявшей себе всех, кто его окружал, и особенно тех, кто его любил. Волей упрямого его духа Рахиль сама играла священную роль, роль звездной девы и матери несущего благодать небесного отрока; тем более склонна была она, значит, глядеть глазами Иакова на остальной мир и на своего отца, признавая отведенную ему в мире законную роль. Для Рахили, как для ее возлюбленного, Лаван был бесом-обманщиком и демоном черной луны, которого в конечном счете обманывали, и притом еще основательнее, чем обманывал он сам; потому-то Рахиль и глазом не моргнула, что акт совершался благочестивый, разумный, законный, в котором и Лаван более или менее сознательно и покорно играл свою священную роль. Она сочувствовала ему не больше, чем Ицхакова челядь Исаву во время великой потехи.
Лаван прибыл ночью и направился к Иакову утром, — несомненно, чтобы потребовать у него то, что она украла. Что отец кончил беседу и начал искать, сообщила ей девочка-служанка, которую она вовремя послала подглядывать и которая, чтобы быстрей домчаться, закусила подол своей одежды, совсем заголившись спереди на бегу. «Лаван ищет!» — сказала она громким шепотом. Рахиль засуетилась, схватила завернутых в платок терафимов и вынесла их из темноватого своего шатра, неподалеку от которого были привязаны ее и Лиин верблюды, изысканные, карикатурно красивые животные с мудрыми змеиными головами на изогнутых шеях и широкими, как подушки, не проваливающимися в песок ступнями. Рабы щедро насыпали им соломы, на которой они и лежали, надменно жуя. Сунув сверток в солому и целиком зарыв его, Рахиль уселась сверху, перед верблюдами, которые, продолжая жевать, выглядывали у нее из-за плеч. Так дожидалась она Лавана.
Тот, как мы знаем, начал поиски с шатра Иакова; он перевернул вверх дном весь дорожный скарб зятя, вытряхнул циновку для ног, поднял тюфяк складной кровати, переворошил рубахи, плащи и шерстяные одеяла и уронил ящик с шашками для игры «Злой взгляд», в которую Иаков любил играть с Рахилью, так что пять фигурок сломалось. Оттуда, злобно пожимая плечами, он направился в шатер Лии, а затем в шатры Зелфы и Валлы, где, чиня обыск без всякой пощады к маленьким тайнам женщин, впопыхах укололся их щипчиками и замарал бороду зеленой краской, которой те подводили глаза, чтобы они казались длиннее, так неловок он был от гнева и от смутного сознания, что это его роль — выставить себя на смех.
Потом он пришел туда, где сидела Рахиль, и сказал!
— Здравствуй, дитя мое! Ты не думала, что увидишь меня?
— Доброго здоровья! — отвечала Рахиль. — Мой господин ищет?
— Я ищу украденное, — сказал Лаван, — по всем вашим шатрам и загонам.
— Да, да, какая неприятность! — кивнула она, и оба верблюда, с высокомерно лукавой улыбкой, выглянули у нее из-за плеч. — Почему же Иаков, наш муж, не помогает тебе искать?
— Он ничего не нашел бы, — ответил Лаван. — Мне приходится искать одному и трудиться под восходящим солнцем на горе Гилеад.
— Да, да, какая неприятность! — повторила она. — Моя хижина вон там. Осмотри ее, если считаешь нужным. Но будь осторожен с моими горшками и ложками! У тебя борода и так уже немного позеленела!
Лаван, нагнувшись, вошел в шатер. Вскоре он вернулся оттуда к Рахили и к верблюдам, вздохнул и умолк.
— Там нет украденного? — спросила она.
— Для моих глаз — нет, — ответил он.
— Значит, оно в каком-нибудь другом месте, — сказала Рахиль. — Мой господин, конечно, давно уже удивляется, что я не встаю перед ним, как того требуют почтительность и приличие. Но это только потому, что я неважно себя чувствую и стеснена в движениях.
— Что значит «неважно»? — пожелал узнать Лаван. — Тебя бросает то в жар, то в холод?
— Нет, мне просто нездоровится, — отвечала она.
— Но что же это за нездоровье такое? — спросил он снова. — Зубная боль или, может быть, чирей?
— Ах, дорогой господин, у меня обыкновенное женское, месячные, — отвечала она, и в высшей степени высокомерно и лукаво улыбнулись верблюды у нее за плечами.
— Только и всего? — сказал Лаван. — Ну, это не в счет. Мне приятно, что у тебя месячные, приятнее, чем если бы ты была беременна. Ведь рожать ты не особенно ловка. Прощай! Мне надо искать украденное.
С этими словами он удалился и искал до потери сил, до того часа, когда лучи солнца стали косыми. Затем, грязный, измученный и отчаявшийся, он снова пришел к Иакову и опустил голову.
— Ну, где же оказались твои идолы? — спросил Иаков.
— Кажется, их нигде нет, — ответил тот и развел руками.
— Кажется? — ожесточился тогда Иаков; он был теперь хозяином положения и мог дать волю своему языку. — Ты говоришь мне «кажется» и не хочешь признать доказательством моей невиновности то, что ты ничего не нашел, хотя искал десять часов подряд и перерыл весь мой стан, горя желаньем убить меня или кого-нибудь из моих людей? Ты перебрал весь мой скарб — спору нет, с моего разрешенья, ибо я предоставил тебе такое право, но то, что ты на это решился, все-таки очень неблагородно с твоей стороны. И что же ты нашел из своих вещей? Предъяви их и уличи меня в краже перед твоими и перед моими людьми, чтобы нас рассудил народ! Как ты потел и марался, чтоб только меня погубить! А что я тебе сделал? Я был юнцом, когда пришел к тебе, а теперь я уже в почтенном возрасте, хотя и надеюсь, что Единственный дарует мне долгую жизнь, — вот сколько времени провел я у тебя на службе и был тебе домоправителем, каких мир не видел, — это я говорю тебе в гневе, а вообще-то я из скромности замыкался в себе. Я нашел тебе воду, и ты освободился от сыновей Ишуллану и, сбросив ярмо долгов, расцвел, как роза в Саронской долине, и оброс плодами, как финиковая пальма в низменном Иерихонском краю. Твои козы стали плодиться вдвое чаще, а овцы стали приносить двойни. Если я съел хоть одного барана из твоего стада, убей меня, ибо я щипал траву с газелями и утолял свою жажду со стадом на водопое. Так я жил для тебя и служил тебе четырнадцать лет за твоих дочерей, и шесть ни за что ни про что, и пять за приплод твоего стада. Я томился днем от жары, а ночью дрожал от стужи в степи, а спать я вообще не спал из-за своей бдительности. Но если, на беду, в стаде случался мор или овцу задирал лев, ты не позволял мне снять с себя вину клятвой, а взыскивал с меня недостачу и держался со мной так, словно я краду денно и нощно. И еще ты переменял мне награду, как тебе заблагорассудится, и подсунул мне Лию, когда я думал, что обнимаю праведную, и этого я не забуду до конца своих дней! Если бы не был со мною бог моих отцов, всемогущий Иагу, и если бы он не уделил мне кое-чего, то я, упаси боже, ушел бы от тебя таким же голым, каким пришел к тебе. Но этого Он все-таки не пожелал и не посрамил благословения. Он никогда не обращался к чужим, а к тебе он обратился ради меня и наказал тебе не говорить мне ничего худого. Вот так «ничего худого»: ты приходишь и кричишь, что я похитил твоих богов; но ты не нашел их, несмотря на неумеренные поиски, и смеешь говорить «кажется»!
Лаван помолчал и вздохнул.
— Ты так двуличен и мудр, — сказал он устало, — что с тобою не сладишь, и лучше вообще не связываться с тобой, потому что ты так или иначе всегда окажешься прав. Когда я оглядываюсь, мне все кажется сном. На что ни погляжу — все мое, дочери, дети, стада, повозки, верблюды, рабы — все мое, но все, сам не знаю как, перешло в твои руки и ты уходишь от меня с моим достояньем, и это как сон. Ты видишь, я мирно настроен, я хочу договориться с тобой и заключить с тобою союз, чтобы мы разошлись полюбовно и я не терзался из-за тебя всю жизнь.
— Это другое дело, — отвечал Иаков, — и когда ты говоришь так, то это приятнее слышать, чем всякие «кажется». Твои слова мне очень по душе. И правда, ты родил мне деву, мать сына, в которой ты стал прекрасен, и не к лицу мне отмахиваться от страха Лаванова. Только чтобы избавить тебя от тягостного прощанья, ушел я со своим добром украдкой и молча, но я буду очень рад, если мы разойдемся по-хорошему, и я тоже смогу вспоминать о тебе со спокойной душой. Я воздвигну камень — хочешь? Я сделаю это с удовольствием. И пусть четыре твоих раба и четыре моих сделают памятник, насыпав камней, и мы поедим перед богом и заключим перед ним договор, — идет?
— Пожалуй, да, — сказал Лаван. — Ничего другого я не вижу.
Тогда Иаков взял прекрасный продолговатый камень и поставил его, чтобы призвать бога в свидетели; восемь человек насыпали холм из щебня и мелких окатышей, и на этом холме они вдвоем ели кушанье из баранины с курдюком в середине горшка. Впрочем, почти весь курдюк Иаков оставил Лавану, а сам только отведал кусочек. Так поели они вдвоем, одни под небом, а затем скрепили свой договор рукопожатьем и взглядами поверх разделительного холма. Предметом клятвы Лаван избрал своих дочерей, потому что не знал, что еще можно избрать. Иаков должен был поклясться богом своих отцов и страхом Исаака, что не обидит своих жен и не возьмет себе жен, кроме них, — свидетелями были холм и трапеза. Однако Лавана не так уж заботила судьба дочерей; она была для него предлогом, чтобы как-то покончить счеты с благословенным и спать спокойно.
Он еще раз переночевал на горе со своими родственниками. Наутро он обнял женщин, напутствовал их и отправился восвояси. Иаков же вздохнул один раз — облегченно, и один раз — сразу же вслед за тем — опять озабоченно. Недаром говорится, что стоит человеку уйти от льва, как он встречает медведя. И тогда настала очередь Красного.
Бенони
Две женщины были беременны в обозе Иакова, когда он после тяжелых шекемских событий устремился к Вефилю, а оттуда — дальше, по направлению к Кириаф-Арбе и к дому Исаака, — две из тех, на кого падает свет описываемых событий, а были ли еще беременные среди неразличимой для нас челяди, на этот счет ничего сказать нельзя. Беременна была Дина, несчастное дитя: понесла она от несчастного Сихема, и суровый приговор тяготел над горестной ее ношей, и поэтому ехала она с закрытым лицом. И беременна была Рахиль.
Какая радость!.. Ах, умерьте свое ликованье, опомнитесь и умолкните! Рахиль умерла. Так хотел бог. Милая воровка, она, которая подошла к Иакову у колодца, выступив из толпы Лавановых овец и по-детски храбро глядя вперед, она родила в пути и не перенесла родов, перенеся их и в первый раз с великим трудом, ей не хватило дыханья, и она умерла. Трагедия Рахили, праведной и самой любимой, — это трагедия отвергнутой храбрости.
Трудно найти в себе мужество вчувствоваться в душу Иакова на этом месте, когда невеста его сердца угасла и пала жертвой ради его двенадцатого, — представить себе, какой удар поразил его разум и как глубоко втоптана была в прах мягкая надменность его чувства. «Господи! — кричал он, видя, как она умирает. — Что ты делаешь?» Кричать ему было хорошо. Но опасно — и это заранее пугает нас — было то, что гибель Рахили отнюдь не заставила Иакова поступиться дорогим ему чувством, этим самоупоенным пристрастьем, что он вовсе не зарыл его вместе с ней в придорожную, наспех вырытую могилу, а словно бы желая доказать всемогущему, что жестокостью тот ничего не добьется, перенес это пристрастье во всем его буйном упрямстве на первенца Рахили, девятилетнего красавца Иосифа, которого полюбил, следовательно, двойной и вовсе уже высокомерной любовью, снова тем самым страшно обезоружив себя перед судьбой. Вряд ли человек чувства сознательно пренебрегает свободой и покоем, нарочно бросает вызов року и хочет жить не иначе как в страхе и под занесенным мечом. Такая дерзкая воля, по-видимому, просто присуща разгулу чувства, ведь для всех очевидно, что он предполагает большую готовность к страданью и что нет большей неосторожности, чем любовь. Сказывающаяся тут противоречивость природы состоит только в том, что подобную жизнь выбирают нежные души, неспособные нести взваленное на себя бремя, — а кому оно пришлось бы по силам, те и не думают подвергать опасности свое сердце, и поэтому с ними ничего не может случиться.
Рахили было тридцать два года, когда она в священных муках родила Иосифа, и тридцать семь лет, когда Иаков, сломав покрытые пылью запоры, увел ее из дому. Ей было сорок один год, когда она снова забеременела и в таком состоянии вынуждена была покинуть Шекем и пуститься в дорогу, — то есть годы считаем мы; у нее же самой и в ее сфере такого обыкновения не было; ей пришлось бы долго соображать, чтобы хоть приблизительно ответить, сколько ей лет, — на это не обращали особого внимания. В утреннем краю мира почти не знают естественной для человека Запада летосчислительной чуткости, там куда равнодушнее предоставляют время и жизнь самим себе, не поверяя их мерой и счетом, и вопрос о личном возрасте настолько там поразителен, что задавший его должен быть готов к недоуменно-беззаботному ответу, колеблющемуся в пределах целых десятилетий, такому, например, как: «Может быть, сорок, а может быть, семьдесят…». Иаков тоже весьма неясно представлял себе свой возраст, нисколько, однако, этим не смущаясь. Иным годам, проведенным в земле Лавана, он, правда, вел счет, зато других не считал. Кроме того, он не знал и не задавался вопросом, сколько лет ему было, когда он прибыл к Лавану. Что касается Рахили, то неизменность любви и совместной жизни не давала ему заметить даже те естественные измененья, которым время, учтенной или неучтенное, не преминуло подвергнуть ее красивую и прекрасную внешность, превратив Милого полуребенка прежних дней в зрелую женщину. Для него, как это часто бывает, Рахиль все еще оставалась невестой, которая встретила его у колодца, которая ждала вместе с ним семь лет и которой он поцелуями вытирал веки, мокрые от слез нетерпенья; он видел ее словно бы дальнозоркими глазами, нечетко, в том образе, который когда-то нежно впивали в себя его глаза, а самого главного в этом образе время и не коснулось: сохранились ласковая ночь глаз, близоруко прищуривающихся, толстоватые крылья носика, вылепка уголков рта, покойная их улыбка, этот особый смык губ, передавшийся обоготворенному мальчику, но прежде всего — лукавство, кротость и храбрость в повадке Лавановой дочери, то выражение выжидательной готовности к жизни, которое у колодца сразу, с первого взгляда, всколыхнуло Иакову душу и так сильно, так мило проступило опять, когда она в становье перед Шекемом поведала ему о своей беременности.
«Еще одного!», «Умножь его, господи!» — таков был смысл имени, которое смертельно усталая роженица дала своему первенцу. И теперь, когда Иосиф должен был умножиться, она не боялась, а была радостно готова выдержать все, что выдержала тогда, ради этого умноженья и женской своей чести. Бодрости ее пришла, вероятно, на помощь и своеобразная органическая забывчивость женщин, иные из которых в родовых муках громко клянутся никогда больше не познавать мужчину, чтобы не испытывать этих страданий еще раз, — а уже через год снова беременны; ибо впечатление от той боли ослабевает у этого пола особым образом. Иаков зато отнюдь не забыл тогдашнего ада и испугался, когда подумал, что после девятилетнего покоя лоно Рахили еще раз подвергнется такому жестокому натиску. Конечно, его радовало торжество ее чести, и мысль, что число его сыновей сравняется теперь с числом храмов зодиака, тоже поддерживала его дух. Но в то же время он воспринял как непорядок то, что за младшим, явным любимцем, осмелился последовать еще меньший; ведь быть любимцем больше всего подходит самому младшему, и к отцовскому ожиданью Иакова примешалось поэтому что-то вроде обиды за восхитительного Иосифа, — короче говоря, после сообщенья Рахили он с самого начала не был особенно счастлив, словно понятное предчувствие недоброго возникло у него сразу.
Она сказала ему об этом еще в пору зимних дождей, в месяце кислеве, задолго до событий, случившихся с девочкой Диной. Он, как никогда, оберегал беременную и почтительно о ней заботился, горестно хватался за голову, когда ее рвало, и призывал бога, видя, как она бледнеет и чахнет и только живот ее становится все больше и больше; ибо грубое природное своекорыстие плода показало тут всю свою бессознательную жестокость. Существо, скрытое в чреве, хотело окрепнуть во что бы то ни стало, оно безжалостно и себялюбиво высасывало все соки и силы из беременной, оно пожирало ее, не испытывая при этом ни злых, ни добрых чувств, и если бы оно могло выразить свою точку зрения или хотя бы обладать ею, она заключалась бы в том, что мать — это только средство его ублаженья, только защитница и кормящая хранительница его роста и что ее доля — упасть на дорогу ненужной оболочкой и шелухой, как только оно, единственно важное существо, вырвется наконец на свет. Оно не могло ни подумать так, ни сказать, но таково было несомненно глубочайшее его убежденье, и Рахиль извиняюще улыбалась по этому поводу. Не всегда материнство в такой степени равнозначно жертве, это не обязательно. Однако в Рахили природа проявила такую склонность, она уже в Иосифовом случае обнаружила ее, достаточно ясно, но все же не столь решительным и не столь ужасным для Иакова образом, как в этот раз.
Его злость на старших сыновей, особенно на неразлучных забияк Симеона и Левия, за их шекемское злодеяние шла прежде всего от страха за Рахиль. Он не подумал бы пуститься в дорогу с немощной роженицей, силен в которой был только плод. И вот эти сорвиголовы наделали ему дел ради своей чести и мести. Безумцы! Именно теперь потребовалось им убивать в гневе мужей и по прихоти своей перерезать жилы тельцам. Они были Лииными детьми, как и Дина, за которую они мстили. Какое им дело было до хрупкости любимой и праведной и до отцовской заботы о ней? Об этом их буйные головы и думать не думали. И вот пришлось сняться с места. Больше восьми лун миновало уже с тех пор, как Рахиль сообщила ему о своей беременности; это были сосчитанные луны, луны Рахили; покуда они росли и убывали, в ней росло дитя и убывала она. В цветах начал свой круг новый год, стоял шестой месяц, элул, разгар летнего зноя, для путешествий эта пора была не очень-то хороша, но у Иакова не было выбора. Рахили пришлось сесть в седло — он дал ей умного осла, чтобы уберечь беременную от качки, неизбежной при езде на верблюде. Она сидела на крупе, где меньше всего трясет, и осла вели два раба, которым грозила порка, если животное споткнется или хотя бы заденет копытом камень. Так двинулись они со стадами. Конечной целью путешествия был Хеврон, куда большая часть племени прямо и направилась. Для себя же, для жен и для некоторых домочадцев Иаков наметил промежуточной целью и ближайшим прибежищем место Вефиль, которое, будучи священным, защитило бы его от преследования и нападенья, а кроме того, он хотел снова там побывать потому, что помнил ночь вознесенья главы и тогдашний сон.
Это была ошибка Иакова. У него было две страсти: бог и Рахиль. Тут они стали поперек дороги одна другой, и, отдавшись страсти духовной, он обрек земную на скверную участь. Он мог бы направиться прямо в Кириаф-Арбу, которой без остановок можно было достичь за четыре или за пять дней; если бы даже Рахиль умерла там, это не была бы, по крайней мере, такая беспомощная и убогая смерть при дороге. А он задержался с ней на несколько дней близ места Луз, на холме Вефиле, где он когда-то в горе уснул и увидел великий сон; ибо, находясь и теперь в беде и опасности, он был очень расположен снова сподобиться вознесенья главы и великого утешенья свыше. Гилгал, с черноватым звездным камнем посредине, был цел и невредим. Иаков показал его своим родственникам и указал им также то место, где он тогда спал и удостоился удивительного виденья. Камня же, что служил ему изголовьем и который он полил маслом, на месте не было, и это огорчило его. Он воздвиг другой и тоже окропил маслом и вообще все эти дни напролет совершал всякие богослужебные действия, всесожженья и возлиянья, приготовившись к ним самым тщательным образом; ибо, настаивая на достойном и удобном для службы благоустройстве места, которое он, сверх того значенья, какое оно издревле имело в этом краю, узнал как место свершений, Иаков счел нужным не только соорудить земляной очаг, чтобы превращать на нем в дым пищу для Иа, но и высечь в торчавшей на вершине холма скале алтарь со ступеньками и площадкой, а в середине площадки выдолбить чашу для приношений и пробуравить отверстие для стока крови. Это требовало труда, и руководивший работами Иаков не жалел времени. Его люди внимательно выполняли его указанья; но и из городка Луза на холм пришло много любопытных, которые, лежа или сидя на пятках, заполнили все свободное пространство перед алтарем и, вполголоса обмениваясь замечаниями, задумчиво наблюдали за действиями странствующего провозвестника и вольнослужителя бога. Они не видели ничего разительно нового, но им было ясно намеренье этого почтенного чужеземца придать обыкновенному исключительно глубокий и даже иной смысл. Например, он объяснил им, что рога по четырем углам его жертвенника — это не рога луны, ни в коем случае не бычьи рога Мардук-Баала, а рога овна. Они удивлялись этому и многократно это обсуждали. Когда он призвал господа, Адонаи, они подумали было, что речь идет о прекрасном, растерзанном и воскресшем юноше, но вскоре убедились, что имеется в виду кто-то другой. Имени Эля они не узнали. Предположение, что его зовут Израиль, оказалось ошибочным; так звали, скорее, самого Иакова — и лично его, и всех единоверцев, которых он возглавлял; поэтому возникло было мнение, что он сам и есть бог рогов овна и выдает себя за него, но это не подтвердилось. Выяснилось, что образа бога нельзя создать, ибо у него хоть и было тело, но не было формы; он был огнем и тучей. Некоторым это понравилось, другим не пришлось по душе. Во всяком случае, заметно было, что этот Иаков полон высоких мыслей о своем божестве, хотя умное и торжественное лицо его выдавало известную озабоченность, какую-то грусть. У него был необыкновенный вид, когда он там наверху собственноручно заколол козленка, выпустил кровь и обмазал ею рога, которые не были рогами луны. Кроме того, неведомому божеству были обильно возлиты вино и масло и принесены хлебы — жертвователь был, видимо, богат, что многих расположило в его пользу и в пользу его бога. Лучшие куски козленка он сжег, и дым благоухал самим и бесамим; из остального мяса было приготовлено кушанье, и, отчасти чтобы получить право участвовать в трапезе, отчасти же действительно покоренные величавым обликом странника, многие горожане изъявили желание приносить в будущем жертвы богу Израиля, хотя лишь между прочим и сохраняя исконный культ. Во время этих дел и этого общенья почти всех очаровала невероятная красота младшего сына Иакова — Иосифа. При виде его люди целовали кончики своих пальцев, всплескивали руками над головой, благословляли свои глаза и изнемогали от смеха, когда он с пленительной беззастенчивостью называл себя любимцем родителей и объяснял преимущественное свое положение своим телесным и умственным обаяньем. Игривым этим зазнайством они наслаждались с той педагогической безответственностью, что определяет наше отношение к чужим детям.
Поздние часы этих дней Иаков проводил в созерцательном уединении, готовясь к вещим снам, которые могли быть ему дарованы ночью. Они и в самом деле явились, хотя и не такие потрясающе наглядные, как тот, что он увидел здесь в юности. Торжественно и общо, возвышенно и туманно говорил ему голос о плодовитости и о будущем, о плотском союзе с Аврамом, и всего настоятельнее — об имени, которое спящий с исполненной страха силой завоевал себе когда-то у Иавока и которое голос могущественного подтверждал, как бы запрещая и уничтожая старое, первоначальное его имя и делая новое единственно действительным, что наполняло слушавшего волнующим чувством обновленья, как будто старое обрывалось и отпадало и начиналась новая молодость мира и времени. Это отражалось на его лице среди дня, и все перед ним робели. В своей глубокой и утомительной занятости он, казалось, забыл об опасном состоянье Рахили, и никто не решался напомнить ему о нем, и уж тем более сама роженица, которая любяще-скромно поступалась телесной своей заинтересованностью в быстрейшем возобновлении путешествия ради духовных его забот… Наконец он велел тронуться с места.
С Масличной горы близ Иевуса, который назывался также Уру-шалим и где по поручению египетского Амуна хеттеянин Путихепа исполнял обязанности пастыря и сборщика налогов, можно было увидеть, да, наверно, и увидели, как, изгибаясь крошечной цепочкой, караван Иакова двигался из Вефиля среди по-летнему выжженных холмов и, оставив Иевус слева, направился на юг к Дому Лахамы, или Бет-Лахему. Иаков был бы не прочь завернуть в Иевус, чтобы побеседовать со жрецами о солнечном божестве Шалим, которое обитало на западе этой страны и в честь которого город получил свое второе название; ибо разговоры о чужих и ложных богах тоже возбуждали у него религиозный интерес и шли на пользу внутренней его работе над образом Истинного и Единственного; но шекемские истории и слух о расправе сыновей с тамошним гарнизоном и его начальником Бесетом вполне могли давно дойти до ушей Амунова посланца и пастыря Путихепы, и это заставляло нашего путника соблюдать осторожность. Зато в Бет-Лахеме, Доме Хлеба, он хотел выяснить с калильщиками Лахамы сущность этой разновидности воскресшего и кормильца, с чьим культом заинтересованно поддерживал дружеские и до известной степени родственные отношенья уже Авраам. Иаков был рад, когда этот город наконец показался. Вечерело. Склонившееся к западу солнце выбрасывало из-под стены синеватых, грозовых туч, его закрывавших, широкие пучки света на гористые дали, и в лучах его огороженное это селенье забелело вверху. Пыль и камень были преображены этим смягченным и торжественно преломленным сияньем, наполнившим сердце Иакова гордым и благочестивым чувством божественного. Справа, за каменной, грубой кладки стеной, тянулись фиолетовые виноградники. Небольшие пашни заполняли просветы между осыпями слева от дороги. Дальние горы бледнели и растворялись в каком-то прозрачном сумраке. Очень старая, почти сплошь дуплистая шелковица склоняла над дорогой свой подпертый камнями ствол. Как раз мимо нее и проезжали, когда Рахиль в обмороке упала с седла.
Слабые боли начались уже несколько часов назад, но, чтобы не беспокоить Иакова и не задерживаться в пути, она это скрыла. Теперь ее вдруг пронзила такая резкая, такая дикая боль, что ослабевшая роженица, из которой крепкий ее плод высосал уже все, сразу потеряла сознанье. Дромадер Иакова, с высоким, роскошным седлом, догадливо стал на колени, помогая спешиться своему всаднику. Иаков кликнул старую рабыню, гутеянку из затигрских земель, сведущую в женских делах и уже не раз исполнявшую труд повитухи в Лавановом доме. Роженицу положили под шелковицей и принесли подушки. Если не благодаря пряности, которую ей дали понюхать, то из-за нового приступа боли она пришла в сознание и обещала не терять его больше.
— Теперь я буду бдительна и прилежна, — сказала она, тяжело дыша, — чтобы ускорить дело и не задерживать тебя надолго в пути, дорогой господин. Как досадно, что это началось именно сейчас, когда мы почти на месте! Но ведь нам не дано выбирать час.
— Ничего, голубка моя, — бодро ответил Иаков. И непроизвольно он стал бормотать слова, с которыми в Нахарине обращались в беде к богу Эа: «Вы сотворили нас, так отвратите болезнь, болотную лихорадку, озноб, несчастье». Подобные заклинанья произносила и гутеянка, надевая на свою госпожу, вдобавок к уже надетым, испытанный амулет из собственного запаса; но так как у бедной Рахили опять начались жестокие боли, рабыня принялась успокаивать ее на своем ломаном вавилонском языке:
— Не робей, плодовитая, выдержи, как бы ни было тяжко! Этого сына ты тоже родишь, в придачу к первому, поверь моей мудрости, не вытек бы только у тебя глаз, прежде чем ты увидишь его: такое уж это бойкое дитя.
Да, оно было бойко, это единственно важное существо. Оно решительно полагало, что его час настал, и рвалось на свет, стремясь сбросить материнскую оболочку. Оно как бы само рождало себя в нетерпеливом натиске на узкое лоно, почти без всякого, несмотря на искреннюю готовность, пособничества со стороны той, что радостно зачала и вскормила его своей жизнью, но никак не могла произвести на свет. Напрасно старуха, бормоча советы и причитая, придавала ее членам нужное положенье, наставляла ее, как дышать, как держать колени и подбородок. Приступы боли срывали всякую дисциплину, и несчастная беспорядочно корчилась и металась в холодном поту и с посиневшими губами. «Ай! Ай!» — кричала она, призывая попеременно богов Вавилона и бога ее мужа. Когда наступила ночь и над горами всплыла серебряная ладья луны, она сказала, очнувшись от обморока:
— Рахиль умрет.
Все вскрикнули, кто сидел рядом, — Лия, матери-служанки и другие допущенные к родильнице женщины, — и заклинающе протянули к ней руки. Затем с большой силой возобновилось ее однозвучное бормотанье, которое, подобно гудению пчелиного роя, сопровождало роды почти непрерывно. Иаков, который поддерживал голову отчаявшейся, лишь после долгой паузы вымолвил:
— Что ты говоришь!
Она покачала головой, пытаясь улыбнуться. Наступило затишье, во время которого нападающий словно бы призадумался в своем укрытии. Так как повитуха сочла этот перерыв чуть ли не добрым знаком и заявила, что он может затянуться надолго, Иаков предложил воспользоваться передышкой и, сделав для Рахили мягкие носилки, добраться до близкого уже Бет-Лахема и остановиться на постоялом дворе. Но Рахиль с этим не согласилась.
— Здесь началось, — сказала она усталыми губами, — здесь пусть и кончится. Да и кто знает, найдется ли для нас место на постоялом дворе! Повитуха ошибается. Сейчас я опять бодро примусь за дело и принесу тебе нашего второго сына, Иаков, мой муж.
Бедняжка, ни о какой ее бодрости не могло быть и речи, и она не тешила себя на этот счет такими словами. То, что она в глубине души понимала и знала, она уже высказала, и это тайное ее пониманье и знанье обнаружилось снова, когда она, среди ночи, между двумя пытками, уже отекшими от сердечной слабости, едва шевелящимися губами заговорила об имени, которое следовало дать второму сыну. Она спросила у Иакова его мненье, и тот ответил:
— Это сын единственно праведной, и поэтому пусть он зовется Бен-Иамин.
— Нет, — сказала она, — не сердись, но мне лучше знать. Имя этому живому пусть будет Бен-Они. Так и зовите господина, которого я тебе принесу, и пусть он помнит о Мами, которая сотворила его прекрасным по твоему и по своему образу и подобию.
Нужна была искушенность Иакова в сложных комбинациях ума, чтобы понять ее, почти не задумываясь. Мами или «мудрая Ма-ма» было распространенным именем Иштар, матери богов и родительницы людей, о которой говорили, что прекрасными она делает мужчин и женщин по собственному образу и подобию; и вот от слабости и шутки ради Рахиль неясно отождествила божественную родительницу с собой как матерью, тем более что Иосиф часто называл ее «Мами». Имя же «Бен-Они» означало для сведущего, чьи мысли шли верным путем, «сын смерти». Она, конечно, не помнила, что уже проговорилась, и хотела осторожно подготовить Иакова к тому, что, как она знала, приближалось, чтобы его не лишил рассудка внезапный удар.
— Вениамин, Вениамин, — сказал он, плача. — Никакой не Бенони!
И тогда в первый раз, как бы признаваясь, что он все понял, он бросил над ней в серебристую ночь вселенной вопрос:
— Господи, что ты делаешь?
В подобных случаях ответа не следует. Но тем и славна человеческая душа, что после этого молчанья она не ошибается в боге, а способна понять величие непостижимого и подняться еще выше. В стороне причитали и колдовали рабыни-халдеянки, надеясь направить желательным для человека образом могучие и неразумные силы. Но никогда Иаков так ясно не понимал, как в эти часы, почему это неверно и почему Аврам двинулся в путь из Ура. Он смотрел на этот кошмар с ужасом, но и со всей остротой взгляда, и его труд над богом, всегда отражавшийся на его лице выраженьем тревоги, продвинулся в эту страшную ночь, и его продвиженье находилось в известном родстве с мукой Рахили. Ведь это вполне отвечало сути ее любви, — чтобы Иаков, ее муж, был в религиозном выигрыше и от ее умиранья.
Ребенок появился на свет к концу последней ночной стражи, когда бледно посветлело небо, перед зарей. Старухе пришлось с силой вырвать его из бедного лона, ибо он задыхался. Рахиль, у которой уже не было сил кричать, потеряла сознание. Вытекло много крови, и пульс на ее руке уже не бился, а трепетал замиравшей струйкой. Но она увидела жизнь ребенка и улыбнулась. Она жила еще час. Когда к ней подвели Иосифа, она не узнала его.
В последний раз она открыла глаза, когда заалел восток, и на ее лицо тоже пал алый отсвет. Она взглянула на лицо Иакова, которое было над ней, неплотно смежила веки и зашептала:
— Ба, чужеземец!.. Зачем тебе меня целовать? Потому что ты мой двоюродный брат с чужбины и мы оба дети одного праотца? Ну что ж, поцелуй меня, и пусть радуются пастухи у колодца: лу, лу, лу!
Он, дрожа, поцеловал ее в последний раз. Она продолжала говорить:
— Ты отвалил мне камень мужской рукою, Иаков, любимый мой. Отвали же его еще раз от яму и положи в нее Лаванову дочь, ибо я ухожу от тебя. Вот и снято с меня всякое бремя, бремя ребенка, бремя жизни, и наступает ночь… Иаков, муж мой, прости, что я была бесплодна и принесла тебе только двух сыновей, но уж двух-то я принесла, Иегосифа, благословенного, и сыночка смерти, новорожденного, — ах, мне так тяжело от них уходить. И от тебя мне тоже тяжело уходить, Иаков, возлюбленный, ибо мы были друг для друга праведными. Без Рахили будешь ты теперь, размышляя, определять, кто есть бог. Определяй это и прощай… И прости, — прошептала она напоследок, — что я украла терафимов.
И смерть осенила ее лицо и погасила его.
Бормотанье заклинательниц умолкло по знаку Иакова. Все пали лбами на землю. А он сидел, все еще обнимая ее голову, и слезы его тихо и неиссякаемо падали на ее грудь. Через некоторое время его спросили, не нужно ли соорудить носилки и отнести умершую в Бет-Лахем или Хеврон, чтобы похоронить ее там.
— Нет, — сказал он, — здесь началось, здесь пусть и кончится, и где Он это сделал, там пусть она и лежит. Выкопайте яму, выройте ей могилу вон там, у стены! Достаньте из клади тонкое полотно, чтобы ее закутать, и выберите камень, чтобы поставить его памятником на могилу. Затем Израиль двинется дальше — без Рахили, с ребенком.
Пока мужчины копали могилу, женщины распустили волосы, обнажили груди, смешали пыль с водой, чтобы выпачкаться в знак горя, и запели под флейту плач «Скорбь о сестре», вскидывая одну руку на темя, а другой ударяя себя в грудь. А Иаков обнимал голову Рахили, покуда у него не отняли ее тело.
Когда над самой любимой, в том месте у дороги, где бог отнял ее у него, сомкнулась земля, Израиль двинулся дальше и временно раскинул шатры у Мигдал Эдера, башни первобытных времен. Там Рувим согрешил с наложницей Валлой и был проклят.



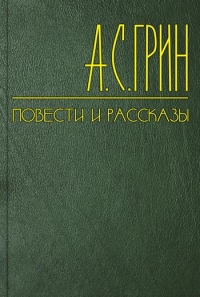
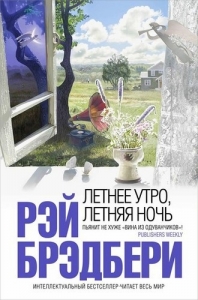
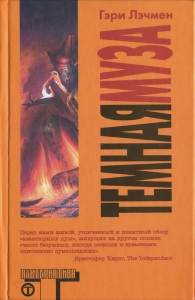
Комментарии к книге «Былое Иакова», Томас Манн
Всего 0 комментариев