ИЗ ФРОНТОВОЙ ЛИРИКИ Стихи русских советских поэтов
А. Коган Слова, пришедшие из боя
Тридцать пять лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне, все меньше ее участников остается в живых, все большее число людей знает войну лишь по книгам да кинофильмам. И все же память о войне не уходит, воспоминания о ней остаются для сердца читающего вечно живыми, даже если он, читатель, лично и не пережил, не успел застать войну — родился после Победы.
Литература Великой Отечественной войны оплачена сполна жизнями ее авторов и героев. Судьбы тех и других неразделимы.
Здесь с героем придуманным автор Друг на друга похожи лицом.(Е. Долматовский)
Читатель твой и автор Ходили вместе в бой.(С. Гудзенко)
Слова Маяковского: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем» — получают как бы вторую жизнь в литературе Отечественной войны. Испытания, легшие на народные плечи, были и ее испытаниями. «Никогда за всю историю поэзии не устанавливался такой прямой, близкий, сердечный контакт между пишущим и читающим, как в дни Отечественной войны», — говорил в 1944 году А. Сурков. Свыше тысячи писателей (а если считать и тех, кто вошел в литературу уже после Победы, принеся в творчество свой фронтовой опыт, то все полторы тысячи!) участвовало в Великой Отечественной войне непосредственно — в рядах нашей армии и флота, в партизанских отрядах, во фронтовой печати. Большая часть их награждена орденами и медалями, а свыше двадцати — удостоены звания Героя Советского Союза.
На фронт уходят и уже известные, признанные поэты старшего поколения — Прокофьев, Вс. Рождественский, Сельвинский, Сурков, Тихонов, Щипачев; и представители «комсомолии» 20-х годов — Алтаузен, Безыменский, Жаров, Светлов, Уткин; и поэты, вышедшие на «авансцену» незадолго до войны — Грибачев, Долматовский, Инге, А. Лебедев, Матусовский, Симонов, С. Смирнов, Твардовский, Шубин; и поэтическая молодежь призыва 1939–1941 годов — Вс. Багрицкий, Богатков, Гудзенко, Вл. Занадворов, П. Коган, Кульчицкий, Левитанский, Луконин, Львов, Лобода, Майоров, Межиров, Максимов, Наровчатов, Недогонов, Орлов, Самойлов, Старшинов, Слуцкий, Суворов, Соболь; несколько позже — Ваншенкин, Винокуров[1]… Уходят бойцами и политработниками, командирами и партизанами… Иные проводят в строю всю войну; иные могли бы сказать о себе словами Гудзенко: «Я был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне. Я стал армейским журналистом в последний год на той войне»; иные — с самого начала в редакциях. Но вражеский снаряд не сверялся с должностным расписанием… Алексей Лебедев и Всеволод Багрицкий, Джек Алтаузен и Иосиф Уткин, Михаил Кульчицкий и Николай Майоров, Владислав Занадворов и Борис Котов, Юрий Инге и Георгий Суворов… Список павших велик — более четырехсот писателей погибло смертью храбрых на фронтах или было расстреляно фашистами за участие в подпольной борьбе.
Цена поэтического слова оплачивалась на войне жизнью… Зато и слово это звучало как никогда громко, вопреки старинной поговорке: «Когда говорят пушки, музы молчат». «Казалось бы, теперь не до слов: спор решает металл, — писал И. Эренбург. — Но никогда слабый человеческий голос не звучал с такой силой, как на поле боя, среди нестерпимого грохота…» В гуле артиллерийской канонады под Москвой, над Волгой и под Берлином советский человек в военной шинели расслышал сурковскую «Землянку», взял на вооружение стихи Твардовского и Симонова, Тихонова и Уткина, Кедрина и Рыленкова, Гудзенко и Орлова, Прокофьева и Долматовского, Светлова и Сельвинского… «Василий Теркин» и «Пулковский меридиан», «Киров с нами» и «Февральский дневник», «Зоя» и «Сын» слагались не через год, не двадцать лет спустя, а тут же, по горячим следам событий. Не было жанров главных и второстепенных, деления работы на основную и вспомогательную: работать приходилось в тех жанрах, бить врага тем видом оружия, какого требовала победа, и все, что могло служить ей, делалось с одинаковой страстью.
«Стихи, проза, очерк и рассказ, листовка, статья, обращение — все было взято на вооружение, — вспоминал позднее Н. Тихонов[2]. По его свидетельству, «бывали дни, когда листовка была важнее рассказа, важнее любой поэмы…»[3].
Связь писателя с читателем на войне была двусторонней. Писатели-фронтовики черпали материал для своего творчества из повседневной фронтовой жизни; в свою очередь, писательское слово играло громадную роль в судьбе читателя, подымало его на подвиг. Это подтверждают тысячи примеров — от широко известной переписки Ильи Эренбурга с фронтовиками до стихотворения А. Суркова «Родина», найденного в кармане убитого бойца.
Народ на войне — вот что стоит в центре советской литературы тех лет, что делает ее подлинно народной и открывает секрет ее воздействия на читателя.
Фронтовая муза… В своем классическом, античном облике она не появится в стихах военной поры: другая жизнь, другая и муза… Не отрешенная, надмирная, — нет, скорее она близка некрасовской музе, разделявшей с народом все его радости и беды. «Это давнишние узы: делит с поэтом судьбу наша военная муза с гневною складкой на лбу» (В. Звягинцева).
Синявино, Путролово, Березáнье — Ведь это не просто селений названья, Не просто отметки на старой трехверстке — То опыт походов, суровый и жесткий, То школа народа — и счастье мое, Что вместе с бойцами прошел я ее.(В. Саянов)
Именно так рождались лучшие фронтовые стихи. Рождались — порой вопреки не раз возникавшему в ту пору ощущению: «И кажется, что нет искусства, а есть железо, хлеб и кровь» (М. Львов); «Война, война — святая проза и позабытые стихи» (Г. Пагирев). Строки эти верно передают тогдашнее чувство. Но само это чувство, как показало время, было обманчивым: стихи на войне не были забыты. И Алексей Недогонов, начавший, как и Пагирев, с категорического утверждения:
Поэт, покинь перо и музу, вставай и слушай гул брони, —позже с полным правом скажет о себе и своих сверстниках и товарищах по фронту и по поэзии:
Шел солдатом и поэтом, Муза рядом шла со мной.В кратком предисловии невозможно — да и не нужно — разбирать фронтовую поэзию по жанрам. Это тема особых исследований. Но об одном моменте в этом ряду сказать все же следует.
Путь фронтовой музы в Великую Отечественную войну начался с песни. В первые же дни войны газеты печатают «Священную войну» В. Лебедева-Кумача, «Песню смелых» А. Суркова… И дальше: «Землянка» А. Суркова, «До свиданья, города и хаты», «Огонек», «Ой, туманы мои, растуманы…», «В прифронтовом лесу» М. Исаковского, «Песня о Днепре» Е. Долматовского, «Шумел сурово Брянский лес» А. Софронова, «Темная ночь» В. Агатова, «Вечер на рейде» А. Чуркина, «Заветный камень» А. Жарова, «Соловьи» А. Фатьянова, «На солнечной поляночке» Я. Шведова, «Волховская застольная» П. Шубина… Этот список можно множить и множить. Но не в перечнях дело, а в том, что в этих — как правило, очень простых, бесхитростных, зато предельно искренних — стихах с большой силой выражало себя массовое сознание народа, в едином порыве поднявшегося на защиту Отечества. Песня — едва ли не первым из всех поэтических жанров — призвана была мобилизовывать народ на борьбу и победу. Впрочем, «призвана» — тут не то, слово: она сама взяла эту нагрузку на свои плечи и справилась с ней блестяще. В традиционных для народной поэзии «постоянных» эпитетах («сила темная», «смертный бой», «проклятая орда» — в «Священной войне»; «негасимая любовь» — в «Землянке»; «незваные гости» — в «Ой, туманы мои, растуманы…») оказалось точно схвачено состояние души народной в ту пору. И как просветляли эти слова, как подымали на борьбу! По точному воспоминанию И. Шаферана о его военном детстве, «люди, когда пели, словно душой обменивались»[4].
Литература войны отразила, пользуясь выражением Уткина, ее душевную сейсмографию. Это касалось всего — материала, темы, чувств. И, быть может, ни в чем это не прослеживается так ярко, как в трактовке темы Родины — важнейшей темы литературы Великой Отечественной войны.
Общеизвестны многие примеры творческой переклички поэтов разных национальностей и народностей СССР, — переклички, свидетельствующей о том чувстве семьи единой (П. Тычина), которое не только выдержало проверку на прочность, но и оказалось во сто крат обострено, усилено величайшими испытаниями, выпавшими в дни войны на долю всех народов Советского Союза. Понятия Родина и дружба народов стали неразрывны в нашем сознании. Национальные истоки, о которых с такой силой сказал в те дни Демьян Бедный («…Я верю в свой народ несокрушимою тысячелетней верой»), и черты новой, Советской России, с ее интернациональной миссией спасения всего человечества от фашистского варварства (А. Безыменский. «Я брал Париж!»), слились в едином сплаве. Россия закономерно становится во фронтовой поэзии символом Советской родины, которая дороже самой жизни.
Вот идем мы в схватке самой жаркой, Ратные в работе и в бою… Ничего нам, Родина, не жалко, Жалко потерять любовь твою.(А. Прокофьев)
В известном стихотворении Симонова, так программно и названном — «Родина», ее образ сначала развертывается, как мы бы сегодня сказали, глобально: «..касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города…»
Но в час, когда последняя граната Уже занесена в твоей руке И в краткий миг припомнить разом надо Все, что навек осталось вдалеке, — Ты вспоминаешь не страну большую, Какую ты изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину — такую, Какой ее ты в детстве увидал…Вспоминаешь «клочок земли, припавший к трем березам… речонку со скрипучим перевозом»… то, «где нам посчастливилось родиться», где мы «нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли».
Предельно личное, конкретное, можно сказать — интимное, восприятие Родины характерно было в годы войны для многих поэтов. В стихах Д. Алтаузена Родина смотрит на поэта «глазами белокурого ребенка», убитого фашистами, пишет ему «чистым почерком верной жены». «Если в бой идешь — сливается этот дом со всей Москвой» (А. Жаров. «Моряки-москвичи»). «Держась, как за личное счастье, за каждую пядь земли», — утверждает П. Железнов («На подступах к Москве»). С «пяди» суглинка начинается Родина для лирического героя стихотворения В. Казина «Проводы». Своя боль воспринимается как часть общей — «во имя правды большей, чем твоя» (П. Антокольский. «Сын»).
Неотрывно от темы Родины проходит сквозь всю поэзию Великой Отечественной войны другая ее главная тема — тема партии. В условиях войны коммунистам, как хорошо сказал об этом в своих воспоминаниях Л. И. Брежнев, предоставлялось только одно преимущество — первыми идти в бой, быть всегда там, где решалась судьба Родины, прежде других принимать на свои плечи всю тяжесть невиданных испытаний. Политработники были там, где всего труднее, личным примером, под ураганным огнем подымали воинов в атаку, вместе с бойцами стояли насмерть на оборонительных рубежах — под Могилевом и Брестом, под Вязьмой и Волоколамском, под Пулковом и на Синявинских высотах, на священной земле Сталинграда; вместе с ними форсировали Днепр и штурмовали рейхстаг… Коммунисты шли в первых рядах и погибали первыми; но на смену им вставали в строй новые бойцы. Вставали — и уходили в бой, порой не успев оформить свое вступление в партию, унося на груди записку: «Если не вернусь из боя, прошу считать коммунистом!..» Таков был свет подвига, сила нравственного примера. И тема партии звучит в стихах и поэмах военной поры прежде всего именно как тема нравственная, коммунисты предстают в этих стихах и как живые, близкие люди, и — одновременно — как образец и норма жизненного поведения — будь то строки Н. Тихонова из его поэмы о двадцати восьми панфиловцах:
Хвала и честь политрукам, Ведущим армию к победе.Или строки стихотворения Д. Алтаузена «Партбилет», написанного за несколько дней до гибели (и ровно за три года до дня Победы — 9 мая 1942 года). Строки, в которых за образом «мертвого, но прекрасного» бойца, исколотого фашистами, но и после гибели не выпускающего партбилет из намертво сжатой руки, встает пророчески предугаданная судьба самого автора:
Но все равно — сквозь злобный блеск штыка, Как верный символ нашего ответа, Тянулась к солнцу сжатая рука С простреленным листочком партбилета.Или «Ленин» С. Щипачева — стихотворение, в котором невероятное становится реальностью: статуя Ленина, низвергнутая фашистами с пьедестала в захваченном ими городке, — на рассвете, приводя в ужас фашистов, оказалась «незримой силой поднята из праха»:
То партизаны, замыкая круг, Шли на врага. И вел их Ленин.Или «Баллада о ленинизме» И. Сельвинского — яркое воплощение того, как пример Ленина в тяжелейших условиях войны воздействовал на поведение простых, рядовых коммунистов, помогал им в их последний час стать выше своей судьбы, — говоря словами Маяковского, «разгромадиться в Ленина». «Молоденький политрук», которого гитлеровцы вешают на глазах у согнанных к месту казни жителей, — последним, отчаянным движением (вот все, что ему осталось на земле!) «вытянул правую руку вперед»:
Так над селением взмыла рука Ставшего Лениным политрука.Или, наконец, пламенное обращение Н. Грибачева к партии:
Все вытерплю, все муки, все осилю И у последней роковой черты Вновь повторю: лишь ты спасешь Россию И к новой славе возродишь лишь ты!Мысль о стойкости советских людей в условиях тяжелейшего испытания проходит сквозь всю поэзию войны. Так, стихотворение Б. Лихарева «Камень» (1944), поначалу вроде бы довольно традиционное — о камне, «голом и синем, как лед», что «был нам постелью среди этих полярных широт», — буквально оживает на внутреннем противостоянии последних двустиший:
Все камень да камень. Холодный и голый… — Мы тверже, чем камень, Молчи!В те же годы С. Орлов написал пронзительные стихи о боевой машине, которой тяжелей, чем нам: «Мы люди, а она — стальная». А Григорий Люшнин в 1943 году, в концлагере Ней-Бранденбург, — о стремлении к свободе, достигающем такой силы, что «на решетке, сжав зубами, гайку ржавую верчу». И хотя с вышки смотрит часовой и даже «пули сыплет вниз», —
Есть ли сила в нем такая Задержать меня — не знаю, Я ведь гайку перегрыз.Поэзия войны отразила нелегкую диалектику подвига. Отразила в разных интонациях, от пламенного монолога-клятвы до неторопливого раздумья…
Есть высшее из всех гражданских прав: Во имя жизни встретить ветер боя И, если нужно, смертью смерть поправ, Найти в огне бессмертие героя.(Е. Долматовский)
Об этом же — памятные всем дудинские «Соловьи», «Высота» Михаила Львова, «На высоте Н» погибшего под Сталинградом Владислава Занадворова:
На развороченные доты Легли прожектора лучи, И эти темные высоты Вдруг стали светлыми в ночи. А мы в снегу, на склонах голых, Лежали молча, как легли, Не подымали век тяжелых И их увидеть не могли. Но, утверждая наше право, За нами вслед на горы те Всходила воинская слава И нас искала в темноте.Или у Александра Ойслендера:
И даже мертвые, казалось, Уже б не сдали ни за что Ту пядь, что с кровью их смешалась На отвоеванном платó.Отчетливо выражено это чувство и в пастернаковской «Смерти сапера»:
Мы оттого теперь у Гомеля, Что на поляне в полнолунье Своей души не экономили В пластунском деле накануне. Жить и сгорать у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и величию Своею жертвой путь прочертишь.Ненависть к врагу — во имя любви к Родине. Именно в этом состояла в годы войны высшая человечность.
Именем жизни клянемся — мстить, истребляя жестоко, И ненавидеть клянемся именем нашей любви, —писал в декабре сорок первого Алексей Сурков («В смертном ознобе под ветром трепещет осина…»).
Я стреляю — и нет справедливости Справедливее пули моей!(М. Светлов. «Итальянец»)
Но важно и то, о чем еще в первые, самые трудные и ожесточенные месяцы войны писал Михаил Гершензон в стихотворении «Рыжик», обращенном к сыну погибшего на войне фашистского солдата:
Твой отец был убийцей. И что же? Он к тебе не вернется вовек, Вырастай на него непохожим, Рыжий маленький человек.Не это ли чувство продиктовало и Борису Богаткову написанные буквально перед последним боем (из которого он не вернулся), проникнутые высоким гуманизмом и интернационализмом строки:
Звучит «Сурок». Летит орбитой вальса Бетховена невянущая медь. Стреляй наверняка. Но постарайся Бетховенскую песню не задеть.Закон подлинно высокой, социалистической человечности выражен и в «Балладе о черством куске» Владимира Лифшица, и в стихотворении Леонида Вышеславского «Вступаем в немецкое село»:
Пускай борьба до бесконечности мне злом испытывает душу — нигде закона человечности в борьбе за правду не нарушу. Детей не брошу ради мщения в дыру колодезя сырую… Не потому ль в конце сражения я здесь победу торжествую?!Противоречивость жизни на стыках мира и войны обусловливала поразительную, порой парадоксальную несочетаемость частей художественной структуры, их, казалось бы, невозможное — и все же в условиях войны вполне реальное — единство. В «Пулковском меридиане» В. Инбер «роскошь зимы, ее великолепья и щедрóты», которым так радовался бы человек в условиях нормальной, мирной жизни, становятся бедствием для жителей осажденного врагом Ленинграда. А коли так — меняется и их эстетическая оценка и функция. «Кристальные просторы, хрусталь садов и серебро воды», — к чему все это «в городе, в котором больных и мертвых множатся ряды»?! Здесь, в этих условиях подобные красóты воспринимаются как кощунство, — «закрыть бы их! Закрыть, как зеркалá в дому, куда недавно смерть вошла». Даже красота заката веет в поэме Инбер «лютой нежностью». Эпитет «лютый» мы издавна привыкли воспринимать в совсем ином контексте, рождающем совсем иные ассоциации: «лютый враг», «лютая злоба», «лютая ненависть»… И вдруг — «лютая нежность»! Поразительное словосочетание; сколько подспудной горечи, не рассказанных жизненных драм вмещает оно…
В поэтической структуре фронтовых стихов вообще тесно сплетены высокое — и бытовое, повседневное. С одной стороны — «завалящая пила», что «так-то ладно, так-то складно» пошла в руках у Теркина (А. Твардовский); с другой —
О, древнее орудие земное, Лопата, верная сестра земли…(О. Берггольц)
С одной —
Война… совсем не фейерверк, А просто — трудная работа, Когда — черна от пота — вверх Скользит по пахоте пехота…(М. Кульчицкий);
с другой —
В те дни исчез, отхлынул быт. И смело В свои права вступило Бытие.(О. Берггольц)
Высокое и «низкое»: испытания, требующие наивысшего напряжения человеческого духа, заставляющие вспомнить те, что запечатлены в древних мифах («про девушек, библейскими гвоздями распятых на райкомовских дверях», напишет в те дни С. Наровчатов), — и повседневность этих испытаний, дни и ночи войны («А война была четыре года. Долгая была война». — Б. Слуцкий), суровый реализм и высокая романтика — все это живет в военной поэзии, все связано, как было связано в самой жизни тех лет.
Вглядимся в самые, казалось бы, «прозаичные», обыденные из стихов войны — не о подвиге в его высшем, мгновенном озарении, а именно о суровом, каждодневном труде войны, ее буднях. Полемика с ложной романтикой, с иллюзорностью довоенных представлений в них налицо, — но означало ли это отход от всякой романтики, подавление бытия — бытом? Нет, перегрызенная военнопленным гайка (из уже упоминавшегося стихотворения Г. Люшнина) — не только бытовая реалия: она вырастает до символа нашей духовной стойкости, бессмертия нашего дела. И то «болото» (из одноименного стихотворения С. Аракчеева), в котором «от застоя дохла мошкара» и даже мины «не хотели рваться» — настолько оно отвратительно, — тоже зарисовано не только для зримости пейзажа: пребывание в нем становится мерой стойкости: «…если б не было за ним Берлина, мы б ни за что туда не забрели».
Нужно, однако, помнить: переход от предвоенных — книжно-романтических — представлений о войне к ее суровой реальности оказался нелегким. Для поэтов это был разрыв не только со старыми представлениями о войне, но и со старым арсеналом образных средств, облюбованных и не раз опробованных при привычном, «априорном» решении темы.
Война перечеркнула довоенные романтические представления о ней, оказалась совсем не такой, какой казалась. Но, вспоминая сегодня те дни, С. Наровчатов скажет с высоты времени,
Что ни главнее, ни важнее Уже не будет в сотню лет, Чем эта мокрая траншея, Чем этот серенький рассвет.Мокрая траншея… Серенький рассвет… Как далеко это от проносящихся со свистом всадников и вертящихся пропеллерами сабель из довоенных представлений о войне, воплощенных в начале последнего дошедшего до нас стихотворения М. Кульчицкого — «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..». И как близко к той реальной войне, которая — повторим еще раз слова Кульчицкого, продолжающие то же стихотворение, — «совсем не фейерверк, а просто трудная работа»; а главное — близко к подлинной жизни, к высокой, не книжной бытийности…
Я шел к тебе сквозь крошево атак, Сквозь хлябь болот, путей разбитых месиво, Сквозь свет ночей, ….. сквозь дни в сплошном бреду. И если мне порой бывает весело, То только оттого, Что я — иду.(Николай Панченко. «Из дневника солдата»)
Крошево, хлябь, месиво — что говорить, «невеселые» слова! Но здесь, в этом контексте, они оттеняют радость наступления, счастье освобождения родной земли…
Переход от мира к войне был не только переходом от книжных представлений о ней к суровой реальности. Это было — в полном смысле слова — смешение мира, вздыбленного войной, «перетряска» всех прошлых представлений не только о войне, но и о жизни в целом. Легко ли привыкнуть к тому, что во время боя даже «солнце в огне пожара чадило, как головня» (П. Железнов. «На подступах к Москве»). Меняются местами, вступают в неожиданные сочетания внутри художественной структуры война — и мир, земля — и небо, солнце над головой — и головешки от костра, труд оратая — и ратника.
Но труд и на войне оставался трудом, пусть другим по характеру, по цели, и все же — прежде всего — трудом, работой. Трудом пехотинца, роющего окоп, и артиллериста, тянущего по грязи пушку; трудом сапера, военного строителя, шофера… Это трудовое начало показано в военной поэзии ярко и многообразно: то — в момент наивысшего подвига водителя, везущего снаряды и попадающего под обстрел вражеского самолета (П. Шубин. «Шофер»); то — в своей бытовой повседневности, как в стихотворении А. Гитовича о солдате, дни и ночи корчующем пни на болоте, чтобы «одно к одному по болоту легли настила тяжелые бревна» и «на запад бойцов повела его фронтовая дорога», или как в стихотворении Николая Новоселова «На пути к победе»:
Лицо застилает пóтом. Дорога домой длинна: Вгрызается в грунт пехота, Ворочает глину рота Четвертую ночь без сна. Такая у нас работа — Война…Это стихотворение датировано 1942 годом, оно принадлежит ленинградцу. А в 1945-м дальневосточник Петр Комаров написал о бойцах, пришедших с Запада на Восток, чтоб разгромить империалистическую Японию:
Бездонные топи. Озера, болота — Зеленая, желтая, рыжая мгла. Здесь даже лететь никому неохота. А как же пехота все это прошла?..Что это: быт или бытие? Кажется, какое там «бытие», — сплошная проза… Но вспомним еще раз С. Аракчеева («Болото»): «И если б не было за ним Берлина, мы б ни за что туда не забрели…» Подчеркнуто приземленные детали озаряются высокой целью, и это переводит их в иной, высший план.
Едва ли не ярче всего оба стилистических «потока» — «высокий» и «низкий», бытийный и бытовой — скрещиваются в замечательном стихотворении Смелякова «Судья» (1942). «Высокая» стилистика («он все узнáет оком зорким») сливается в стихотворении с земными, живыми подробностями — «теплой сырой землей», которую зажимает в костенеющей руке сраженный пулей «суровый мальчик из Москвы». Именно взаимопроникновение этих двух начал и сообщает стихотворению такую душевность, теплоту. «Горсть тяжелая земли» перерастает в «горсть отвоеванной России», которую умирающий, «уходя в страну иную, …захотел на память взять», и эта горсть в день Страшного суда «будет самой высшей мерой, какою мерить нас могли».
Стихотворение «закольцовано» не только композиционно, но и стилистически. Мы вернулись — по видимости — все к той же конкретной детали: горстке земли с пашни, зажатой умирающим в руке. Но насколько тяжелее стала эта горсть, сколько вместила в себя!.. И с какой силой легла на наши, читательские сердца, если мы ощутили гибель юного фронтовика как свое личное горе…
О Великой Отечественной войне существует громадная литература — от популярных изданий до фундаментальных исследований: цифры, факты, документы, свидетельства очевидцев. И все же цифры остаются цифрами. А чтобы ощутить самому — заново или впервые — накал этих героических лет, — для этого существует только один путь — путь сопереживания, лишь одно средство — искусство. Лишь оно в силах перенести читателя из сегодня — во вчера, сделать чужой душевный опыт — твоим, личным…
Сохраняя память сердца о поре наивысших испытаний и трудностей, поре наивысшего духовного взлета, литература о войне, и прежде всего — литература самих военных лет, передает эту память все новым и новым поколениям читателей, закаляя их сердца, подымая на нелегкую борьбу за торжество высоких идеалов. Этой цели служит и настоящий сборник.
* * *
Несколько слов о принципах отбора материала для данной книги.
1. В книгу вошла не вся русская советская поэзия, связанная с темой войны, а лишь лирика, причем — лирика именно военных лет, по преимуществу — непосредственно фронтовая. Исключения сделаны в отношении:
а) главы из произведения, без которого немыслима никакая антология фронтовой поэзии, — «Василия Теркина» А. Твардовского;
б) нескольких поэтов, для которых пребывание в воинском строю было невозможно по возрасту или состоянию здоровья, но чьи стихи были хорошо известны и на фронте и в тылу и с полным правом могут быть отнесены к фронтовой лирике, то есть лирике, широко читавшейся и любимой на фронте, ставшей поэтическим оружием (П. Антокольский, Д. Бедный, М. Исаковский, С. Маршак, Б. Пастернак и др.). А некоторые из этих стихов и рождались в результате поездок на фронт.
2. Из многонациональной советской поэзии для книги — в соответствии с профилем издания — отобраны стихи поэтов, пишущих на русском языке. Таким образом, это не фронтовая лирика в целом, а один очень важный ее пласт — фронтовые стихи русских советских поэтов.
3. Учитывая характер издания, стихи большей частью печатаются в редакции военных лет.
4. В силу небольшого объема сборника составитель и редакция решили отказаться от стремления представить всех — понемногу, а отобрали стихи, по их мнению наиболее характерные для поэзии войны в целом, а из них — те, что сохраняют свое звучание и поныне.
Несомненно, такой отбор был в какой-то мере субъективен: другие составитель и редактор отобрали бы для другой книжки иные стихи и, возможно, с неменьшим основанием. Существуют — и с полным правом — сборники, построенные по принципу тематическому; есть целая серия изданий, специально посвященных поэтам, павшим на фронтах войны («Имена на поверке», «Стихи остаются в строю», «Пять обелисков», «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» и т. д.); есть сборники, где стихи войны соседствуют с пронзительными человеческими документами той поры («Строки, добытые в боях»)…
Наш отбор диктовался стремлением сочетать, насколько это возможно, два подхода, два угла зрения: исторический — и сегодняшний, современный; из многих высокопатриотических стихов войны представить прежде всего те, которые сохраняют и сегодня не только благородное гражданское, но и поэтическое звучание. Сохраняют — не благодаря техническим изыскам, поэтической «вольтижировке», небывалости рифм, ритмики, аллитераций, а благодаря прямому и, если так можно сказать, адекватному выражению души народа на войне, богатства его чувств и мыслей. В этом смысле поэзия войны и сегодня сохраняет для нас значение нормы и образца.
Передать это ощущение сегодняшнему молодому читателю, донести до него в поэтическом слове высокий нравственный мир народа, сражавшегося за свою землю и за свободу всего человечества, донести так, чтобы время словно бы сдвинулось, чтобы человек, читающий эти стихи сегодня, ощутил себя там, на полях сражений, в том времени, в дыму и пламени тех дней, и чтобы память о тех днях послужила нам и сегодня, — такова цель настоящего сборника.
Священная война Василий Лебедев-Кумач
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, — Идет война народная, Священная война! Дадим отпор душителям Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей! Не смеют крылья черные Над родиной летать. Поля ее просторные Не смеет враг топтать! Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, Отребью человечества Сколотим крепкий гроб! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, — Идет война народная, Священная война!1941
1941
Пусть приняла борьба опасный оборот, Пусть немцы тешатся фашистскою химерой, Мы отразим врагов. Я верю в свой народ Несокрушимою тысячелетней верой. Демьян БедныйИлья Авраменко «Ночной туман окутывает рощи…»
Ночной туман окутывает рощи, на блиндажи ложится лунный свет. А там, вдали, опять зловещий росчерк взлетающих и гаснущих ракет. Весь полог неба выстрелами вспорот, стремительными трассами прошит… Опять налет! Опять любимый город, огромный и встревоженный, не спит! И все острее боль от этих пыток. За тридцать верст в холодной вышине гремит огонь, но выстрелы зениток оттуда не доносятся ко мне. Передний край умолк перед атакой… О, как невыносимо тяжело смотреть на пламя, вставшее из мрака, что заревом над городом легло! Но трижды тяжелее от сознанья, что перед нами, в нескольких шагах, за рощей, растворившейся в тумане, злорадствует и тешит душу враг. Он захватил крутых высоток склоны, он оседлал дороги полотно…. Но до него, сквозь все его заслоны, мы доберемся нынче — все равно!1941
Ленфронт
Владимир Аврущенко Присяга
Владимир Аврущенко (род. в 1908 г.) погиб на Юго-Западном фронте в 1941 г.
Советского Союза гражданин — Я клятву нерушимую даю: От волн каспийских до полярных льдин Беречь большую родину мою… На верность присягну СССР, И голос сердца для врага — грозой. Передо мной Чапаева пример И подвиг героический Лазо. Не сдав ни пяди дорогой земли, Они дыханье отдали стране, Их образы сияют нам вдали, Их клятва раздается в тишине. Германцев гонит легендарный Щорс, Комбриг Котовский принимает бой, И к Феликсу чекисты на допрос Ведут шпионов полночью глухой… Клянусь твоею памятью, Ильич, Твоей, отчизна, клятвой боевой — Я пронесу родных Советов клич В стальном строю, в цепи передовой!23 июля 1941 г.
Маргарита Алигер «С пулей в сердце…»
С пулей в сердце я живу на свете. Мне еще не скоро умереть. Снег идет. Светло. Играют дети. Можно плакать, можно песни петь. Только петь и плакать я не буду. В городе живем мы, не в лесу. Ничего, как есть, не позабуду. Все, что знаю, в сердце пронесу. Спрашивает снежная, сквозная, светлая казанская зима: — Как ты будешь жить? — Сама не знаю. — Выживешь? — Не знаю и сама. — Как же ты не умерла от пули? От конца уже невдалеке я осталась жить, не потому ли, что в далеком камском городке, там, где полночи светлы от снега, где лихой мороз берет свое, начинает говорить и бегать счастье и бессмертие мое. — Как же ты не умерла от пули, выдержала огненный свинец? Я осталась жить не потому ли, что, когда увидела конец, частыми, горячими толчками сердце мне успело подсказать, что смогу когда-нибудь стихами о таком страданье рассказать. — Как же ты не умерла от пули? Как тебя удар не подкосил? Я осталась жить не потому ли, что, когда совсем не стало сил, увидала с дальних полустанков, из забитых снегом тупиков: за горами движущихся танков, за лесами вскинутых штыков занялся, забрезжил день победы, землю осенил своим крылом. Сквозь свои и сквозь чужие беды в этот день пошла я напролом.1941
Джек Алтаузен Родина смотрела на меня
Джек Алтаузен (род. в 1907 г.) в первые дни Великой Отечественной войны добровольно ушел в армию, работал в редакции газеты «Боевая красноармейская». За мужество, проявленное в боях, награжден орденом Красного Знамени. Погиб в бою под Харьковом в мае 1942 г.
Я в дом вошел, темнело за окном, Скрипели ставни, ветром дверь раскрыло, — Дом был оставлен, пусто было в нем, Но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся разный мусор на полу, Мурлыкал кот на вспоротой подушке, И разноцветной грудою в углу Лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд, и выкрашенный слон, И два утенка с длинными носами, И дед-мороз — весь запылился он, И кукла с чуть раскрытыми глазами, И даже пушка с пробкою в стволе, Свисток, что воздух оглашает звонко, А рядом, в белой рамке, на столе, Стояла фотография ребенка… Ребенок был с кудряшками как лен, Из белой рамки здесь, со мною рядом, В мое лицо смотрел пытливо он Своим спокойным, ясным синим взглядом… Стоял я долго, каску наклона, А за окном скрипели ставни тонко. И родина смотрела на меня Глазами белокурого ребенка. Зажав сурово автомат в руке, Упрямым шагом вышел я из дома Туда, где мост взрывали на реке И где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, Где непрерывно выстрелы звучали, Чтоб на земле фашисты никогда С игрушками детей не разлучали.1941
Павел Антокольский Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным
В ту ночь их части штурмовые вошли в советский город Б. И там прокаркали впервые «хайль Гитлер» в стихнувшей стрельбе. Входили вражеские части, плечо к плечу, ружье к ружью. Спешила рвань к чужому счастью, к чужому хлебу и жилью. Они прошли по грязи грузно, за манекеном манекен. А этот мальчик был не узнан, не заподозрен был никем, Веселый мальчик в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий. Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас? Пробрался утром он к квартире и видит: дверь не заперта. И сразу тихо стало в мире, сплошная сразу пустота. Мать и сестра лежали рядом. Обеих обер приволок. Смотрела мать стеклянным взглядом в потрескавшийся потолок. Они лежали, будто бревна, — две женщины, сестра и мать. И он стоял, дыша неровно, и разучился понимать, Потом он разучился плакать и зубы сжал, но весь дрожал. И той же ночью в дождь и слякоть куда-то зá город бежал, Без хлеба, в майке, в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий. Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь? Он знал одно: разбито детство, сломалось детство пополам. И шел, не смея оглядеться, по страшным вражеским тылам, По тихим, вымершим колхозам, где пахло смертью и навозом, Вдоль речек, тронутых морозом, и по некошеным полям. Он находил везде дорогу, и шел вперед, и шел вперед. И осень с ним шагала в ногу и возмужала — в свой черед. Она, как сказка, шла с ним рядом, чтобы его следы заместь, Смотрела вдаль недетским взглядом, неотвратимая, как месть. Так шел он, в майке, в серой кепке. Его приметы: смуглый, крепкий. Из вас не знает кто-нибудь, куда он мог направить путь? Когда фашисты покидали пустой, сожженный город Б., Уже за мглистой снежной далью расплата слышалась в пальбе. И мальчик раньше всех, как надо, вернулся в город свой родной. Вернулся он домой с гранатой. Он ей доверился одной. Он был фашистами не узнан, не заподозрен был никем. Следил он, как по снегу грузно, за манекеном манекен, Уходят вражеские части, ползет по швам железный ад: Видать, не впрок чужое счастье, не легок будет путь назад. Их тягачи, и мотоциклы, и танки, полные тряпья, Ползли назад. В нем все затихло. Он ждал, минуту торопя. А тягачи неутомимо спасали, что могли спасти. Но он не взвел гранаты. Мимо! Не в этих. Надо цель найти. Он всматривался, твердо зная в лицо мишень свою: SS. Где же машина та штабная, что мчится всем наперерез, — Всегда сверкающая лаком, кривым отмеченная знаком, С гудком певучим, с полным баком, франтиха фронта «мерседес»? Она прошла крутым виражем, кренясь и шинами визжа, — Машина та, с начальством вражьим, опухшим, словно с кутежа. И мальчик подбежал и с ходу гранату в стекла им швырнул. И вырвавшийся на свободу бензин из бака полыхнул. Два офицера с генералом, краса полка, штурмовики, Шарахнулись в квадрате алом, разорванные на куски. А где же мальчик в серой кепке? Его приметы: смуглый, крепкий. Не знает кто-нибудь из вас, погиб ли он, где он сейчас? Не знаю, был ли мальчик взорван. Молчит о нем кровавый снег. Ребят на белом свете прорва — не перечтешь, не вспомнишь всех. Но сказка о ребенке смелом шла по тылам и по фронтам, Написанная наспех, мелом, вдруг возникала тут и там. Пусть объяснит она сама нам, как он остался безымянным. За дымом фронта, за туманом шла сказка по его следам. Пятнадцать лет ему, иль десять, иль, может, меньше десяти? Его фашистам не повесить, не опознать и не найти. То к партизанам он пристанет, то, ночью рельсы развинтив, С пургой в два голоса затянет ее пронзительный мотив. Он возмужает понемногу, что делать дальше — разберет. А сказка с ним шагает в ногу и возмужает в свой черед. Она идет все время рядом, поет, и в землю бьет прикладом, И смотрит вдаль недетским взглядом, и гонит мальчика вперед.1941
Анна Ахматова Клятва
И та, что сегодня прощается с милым, — Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит!Июль 1941
Ленинград
Демьян Бедный Я верю в свой народ
Пусть приняла борьба опасный оборот, Пусть немцы тешатся фашистскою химерой, Мы отразим врагов. Я верю в свой народ Несокрушимою тысячелетней верой. Он много испытал. Был путь его тернист. Но не затем зовет он родину святою, Чтоб попирал ее фашист Своею грязною пятою. За всю историю суровую свою Какую стойкую он выявил живучесть, Какую в грозный час он показал могучесть, Громя лихих врагов в решающем бою! Остервенелую фашистскую змею Ждет та же злая вражья участь! Да, не легка борьба. Но мы ведь не одни. Во вражеском тылу тревожные огни. Борьба кипит. Она в разгаре. Мы разгромим врагов. Не за горами дни, Когда подвергнутся они Заслуженной и неизбежной каре. Она напишется отточенным штыком Перед разгромленной фашистскою оравой: «Покончить навсегда с проклятым гнойником, Мир отравляющим смертельною отравой!»1941
Ольга Берггольц «…Я говорю с тобой под свист снарядов…»
…Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна… Кронштадтский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом — смертная угроза… Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю: нас, граждан Ленинграда, Не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады — мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даю я, горожанка, мать красноармейца, погибшего под Стрельною в бою. Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей!Август 1941
Ленинград
Евгений Березницкий За честь родины
Евгений Березницкий (род. в 1909 г.), сотрудничал в газете «Советская Сибирь» и журнале «Сибирские огни», писал детские и лирические стихи. В начале войны ушел на фронт добровольцем. Погиб осенью 1941 г. под Ельней.
За каждый колос, опавший С твоих, отчизна, полей; За каждый волос, упавший С головок наших детей; За стон от боли жестокой, Слетающий с братских губ, Отплатим мы око за око, Отплатим мы зуб за зуб. Не быть рабыней отчизне, И нам рабами не жить! За счастье свободной жизни Не жалко голов сложить! Отсюда наше бесстрашье Начало свое берет. Священна ненависть наша, Расплаты близок черед! Нет краше, страна родная, Счастья — тебе служить, Идем мы, смерть презирая, Не умирать, а жить!1941
Николай Браун Родине
Родина, страна моя, Россия! Ясный свет! Дыхание мое! Над тобою — тучи грозовые, Грудь твою терзает воронье! Жадными кровавыми когтями, Землю рвет и черным клювом бьет, Кружится над древними полями, Лезет, оголтелое, вперед. Трупами дороги устилая, Вот оно ползет в огне, в дыму, Задыхаясь, кровью истекая, Подползает к сердцу твоему, — К твоему горячему, родному, — Черный клюв над сердцем занесен. Только ворону не быть живому, Будет сам он в клочья разнесен! Вся страна единым гневом дышит. Даль в снегу. Чуть брезжит зимний день. Не о мести ли взывают крыши Разоренных черных деревень? Не огнем ли мести запылали Те мосты, что партизаны жгут? Даже дети в гневе старше стали, Матери с оружием идут. Эта месть пускает под откосы Вражьи танки, вражьи поезда… Вот идут балтийские матросы В бой, неколебимы, как всегда. И не зря их ненавистью черной Ненавидит недруг искони: Не впервые след его тлетворный Выжигают начисто они. Ленинград! Твоя земля под нами, Навсегда священная земля! Лениным здесь поднятое знамя Реет и над башнями Кремля. Мы — одно. Мы насмерть будем драться За Москву, за Родину свою, Не дадим над нею надругаться Никакому злому воронью. Обломаем клюв его несытый, Вырвем когти жадные его, Чтоб над ним, повергнутым, разбитым, Нашей правды стало торжество!6 ноября 1941
Краснознаменный Балтийский флот
Леон Вилкомир «Мы победим. Мои — слова…»
19 июля 1942 г. в районе Новочеркасска был сбит наш штурмовик, на котором корреспондент газеты «Красная звезда» Леонид Вилкомир (род. в 1912 г.) выполнял обязанности стрелка-радиста.
Мы победим. Мои — слова, Моя над миром синева, Мои — деревья и кусты, Мои — сомненья и мечты. Пусть на дыбы встает земля, Вопит, и злобствует, и гонит — Меня к своим ногам не склонит, Как в бурю мачты корабля. Я буду жить, как я хочу: Свободной птицею взлечу, Глазам открою высоту, В ногах травою прорасту, В пустынях разольюсь водой, В морях затрепещу звездой, В горах дорогой пробегу. Я — человек, я — все могу!1941
Павел Винтман «Война ворвалась в дом…»
Павел Винтман перед войной учился в Киевском университете Добровольцем участвовал в боях с белофиннами. С первых дней Великой Отечественной войны — на Юго-Западном фронте. Погиб под Воронежем в 1942 г.
Война ворвалась в дом, Как иногда окно Само собой раскроется со стуком, Наполнит дом дыханьем и испугом, Сомнет гардин тугое полотно. Как ливень на запыленном стекле Порой чертит подобье светлых молний, Так дух войны сухой тревогой полнит Последний день почти что детских лет.1941
Евгений Долматовский Песня о Днепре
У прибрежных лоз, у высоких круч И любили мы и росли. Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, Над тобой летят журавли. Ты увидел бой, Днепр — отец-река. Мы в атаку шли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века, Коль сражался он, как герой. Враг напал на нас, мы с Днепра ушли. Смертный бой гремел, как гроза. Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, И волна твоя как слеза. Из твоих стремнин ворог воду пьет, Захлебнется он той водой. Славный день настал, мы идем вперед И увидимся вновь с тобой. Кровь фашистских псов пусть рекой течет, Враг советский край не возьмет. Как весенний Днепр, всех врагов сметет Наша армия, наш народ.1941
Юго-Западный фронт
Павел Железнов На подступах к Москве
Держась, как за личное счастье, за каждую пядь земли, — мы под Москвой встали насмерть, в грунт промерзлый вросли. Земля от взрывов дрожала. Трещала танков броня… Солнце в огне пожара чадило, как головня… Не только на этом взгорье, где наш окопался взвод, — на Балтике и в Черноморье Москву защищал народ. Но лишь в подмосковной зоне встряхнуть мое сердце мог, как часы на ладони, знакомый с детства гудок… Когда с орудийным раскатом мы подымались в бой, — поэт становился солдатом, поэтом — солдат любой!1941
Западный фронт
Юрий Инге Тральщики
Юрий Инге (род. в 1905 г.) 28 августа 1941 г. погиб на корабле, торпедированном фашистами при переходе кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт.
Седое море в дымке и тумане, На первый взгляд — такое, как всегда, Высоких звезд холодное мерцанье Колеблет на поверхности вода. А в глубине, качаясь на минрепах, Готовы мины вдруг загрохотать Нестройным хором выкриков свирепых И кораблям шпангоуты сломать. Но будет день… Живи, к нему готовясь, — Подымется с протраленного дна, Как наша мысль, достоинство и совесть, Прозрачная и чистая волна. И потому мы, как велит эпоха, Пути родного флага бережем, Мы подсечем ростки чертополоха, Зовущегося минным барражом. Где бы противник мины ни поставил — Все море мы обыщем и найдем. Согласно всех обычаев и правил, Мы действуем смекалкой и огнем. В морских просторах, зная все дороги, Уничтожаем минные поля. Свободен путь. Звучи, сигнал тревоги, Дроби волну, форштевень корабля.1941
Василий Кубанёв Ты должен помогать
Василий Кубанёв (род. в 1921 г.) в августе 1941 г. ушел добровольцем на фронт. В марте 1942 г. он умер в Острогожске от обострившегося на фронте туберкулеза; в тот же день фашистские авиабомбы уничтожили его дом и его могилу. Стихи и письма В. Кубанёва, собранные друзьями и близкими, составили сборники «Идут в наступление строки», «Человек-солнце», «Если за плечами только восемнадцать».
Ты тоже просился в битву, Где песни поют пулеметы. Отец покачал головою: «А с кем же останется мать? Теперь на нее ложатся Все хлопоты и заботы. Ты будешь ей опорой, Ты будешь ей помогать». Ты носишь воду в ведрах, Колешь дрова в сарае, Сам за покупками ходишь, Сам готовишь обед, Сам починяешь радио, Чтоб громче марши играло, Чтоб лучше слышать, как бьются Твой отец и сосед. Ты им говорил на прощанье: «Крепче деритесь с врагами!» Ты прав. Они это знают. Враги не имеют стыда. Страны, словно подстилки, Лежат у них под ногами. Вытоптаны посевы, Уведены стада. Народы в тех странах бессильны, Как птицы в железной клетке. Дома развалены бомбами, Люди под небом сидят. Дети бегут к казармам И выпрашивают объедки, Если объедки останутся В котелках у чужих солдат. Все это видят люди. Все это терпят люди. Зверь пожирает живое, Жаден, зубаст, жесток. Но недолго разбойничать Среди людей он будет: Наши трубы пропели Зверю последний срок! Отец твой дерется с врагами — Тяжелая это работа. Все люди встают, защищая Страну, как родную мать. У нее большие хлопоты, Большие дела и заботы. Ей будет трудно порою — Ты должен ей помогать.1941
Алексей Лебедев На дне
Штурман подводной лодки Алексей Лебедев (род. в 1912 г.) погиб на Балтике 29 ноября 1941 г. при выполнении боевого задания.
Лежит матрос на дне песчаном, Во тьме зелено-голубой. Над разъяренным океаном Отгромыхал короткий бой, А здесь ни грома и ни гула… Скользнув над илистым песком, Коснулась сытая акула Щеки матросской плавником… Осколком легкие пробиты, Но в синем мраке глубины Глаза матросские открыты И прямо вверх устремлены. Как будто в мертвенном покое, Тоской суровою томим, Он помнит о коротком бое, Жалея, что расстался с ним.1941
Марк Лисянский Моя Москва
Я по свету немало хаживал, Жил в землянках, в окопах, в тайге, Похоронен был дважды заживо, Знал разлуку, любил в тоске. Но Москвой я привык гордиться И везде повторяю слова: Дорогая моя столица, Золотая моя Москва! У горячих станков и орудий, В несмолкаемой лютой борьбе О тебе беспокоятся люди, Пишут письма друзьям о тебе. И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!1941–1942
Евгений Нежинцев «Пусть буду я убит в проклятый день войны…»
Евгений Нежинцев (род. в 1904 г.) — автор книг «Яблочная пристань» и «Рождение песни». Умер во время Ленинградской блокады 10 апреля 1942 г.
Пусть буду я убит в проклятый день войны, Пусть первым замолчу в свинцовом разговоре, Пусть… Лишь бы никогда не заглянуло горе В твой дом, в твои глаза, в твои девичьи сны… Пусть не осмелится жестокая рука Черкнуть в письме, в скупой на чувства фразе, Что ты в разорванном лежишь противогазе И бьется локон твой у синего виска…1941
Глеб Пагирев «Остановясь на полуслове…»
Остановясь на полуслове, Встаю, бросаю карандаш. Горит роднее Подмосковье, Гудит от выстрелов блиндаж. Ну что, поэт? Бери гранаты, Тяни латунное кольцо! По фронту хлещут автоматы, Песок и снег летят в лицо. Умри, но стой! Назад ни шагу: Ты эту землю не отдашь. Здесь ценят стойкость и отвагу, Здесь штык нужней, чем карандаш. Забудь пристрастье к многословью, К строке, что лирик сочинил. Сегодня люди пишут кровью За неимением чернил… Земля, седая от мороза, Окопы, надолбы, штыки. Война, война — святая проза И позабытые стихи.1941
Эдуард Подаревский «Серые избы в окошке моем…»
Эдуард Подаревский (род. в 1919 г.) перед войной окончил ИФЛИ. Погиб на фронте в 1943 г.
Серые избы в окошке моем, Грязные тучи над грязным жнивьем. Мы вечерами, Москву вспоминая, Песни о ней бесконечно поем — Каждый со всеми и все о своем. Ночью — далекие залпы орудий, Днем — от дождя озверевшие люди В тысячу мокрых, пудовых лопат Землю долбят, позабыв о простуде, Липкую, грязную глину долбят. Значит, так надо. Чтоб в мире любили, Чтобы рождались, работали, жили, Чтобы стихи ошалело твердили, Мяли бы травы и рвали цветы бы… Чтобы ходили, летали бы, плыли В небе, как птицы, и в море, как рыбы. Значит, так надо. Чтоб слезы и кровь, Боль и усталость, злость и любовь, Пули и взрывы, и ливни, и ветер, Мертвые люди, оглохшие дети, Рев и кипенье огня и свинца, Гибель и ужас, и смерть без конца, Муки — которым сравнения нет, Ярость — которой не видывал свет… Бой, небывалый за тысячу лет, Боль, от которой не сгладится след. Значит, так надо. В далеком «потом» Людям, не знающим вида шинели, Людям, которым не слышать шрапнели, Им, над которыми бомбы не пели, Снова и снова пусть скажут о том, Как уходили товарищи наши, Взглядом последним окинув свой дом. В земли-погосты, В земли-калеки… Пусть мы пройдем их опять и опять, Чтобы понять и запомнить навеки, Чтоб никогда уже не отдавать. Значит, так надо. Вернется пора: Синие, в звоне стекла-серебра, Вновь над Москвой поплывут вечера, И от вечерней багряной зари И до рассветной туманной зари Снова над незатемненной столицей Тысячью звезд взлетят фонари. Пусть же тогда нам другое приснится, Пусть в эти дни мы вернемся туда, В испепеленные города, Вспомним, как в дождь, поднимаясь до света, Рыли траншеи, окопы и рвы, Строили доты, завалы, преграды Возле Смоленска и возле Москвы… Возле Одессы и у Ленинграда. Вспомним друзей, что сейчас еще с нами, Завтра уйдут, а вернутся ль — как знать… Тем, кто увидит своими глазами Нашей победы разверстое знамя, Будет о чем вспоминать. … … … … … … … … … … … … Травы желты, и поля пусты, Желтые листья летят с высоты, Осень и дождь без конца и без края… Где ты, что ты, моя дорогая? Часто, скрываясь за облаками, Чьи-то машины проходят над нами. Медленный гул над землею плывет И затихает, к Москве улетает. Кто мне ответит, кто скажет, кто знает: Что нас еще впереди ожидает? Нет никого, кто бы знал наперед, Может быть, бомбой шальной разворочен, Жутко зияя оскалами стен, Дом наш рассыплется, слаб и непрочен… Может быть… Много нас ждет перемен… Что же… Когда-то, романтикой грезя, Мы постоянство считали грехом, То, что казалось кусочком поэзии, Нынче явилось в огне и железе, Сделалось жизнью, что было стихом.1941
Подмосковье
Александр Прокофьев Идут красноармейские колонны
Идут красноармейские колонны, Суров и грозен их походный строй. За Ленинград, наш город непреклонный, За Ленинград, любимый город свой, Идут они. Кругом — земля родная, Сентябрьский отблеск солнца на штыках, Идут они и, может быть, не знают, Что каждый шаг останется в веках! Вокруг — отчизна. Все холмы и скаты, Поля, поля, небес поблекший шелк… Идут они, и словно бы с плаката Правофланговый на землю сошел! Мгновенье, стой! Он рушит все преграды, Идет на танк со связкою гранат… За ним сады и парки Ленинграда! За ним в одном порыве Ленинград!1941
Константин Симонов
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
А. Суркову
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные, злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди. Как слезы они вытирали украдкою, Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, Как встарь повелось на великой Руси. Слезами измерянный чаще, чем верстами, Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждою русской околицей, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в бога не верящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина — Не дом городской, где я празднично жил, А эти проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою Дорожной тоской от села до села, Со вдовьей слезою и песнею женскою Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовом, Весь в белом, как на смерть одетый, старик. Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их? Но, горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые, Покуда идите, мы вас подождем. «Мы вас подождем!» — говорили нам пажити. «Мы вас подождем!» — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища На русской земле раскидав позади, На наших глазах умирают товарищи, По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился. За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла.1941
Западный фронт
«Жди меня, и я вернусь…»
Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души… Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло. — Не понять не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой, — Просто ты умела ждать, Как никто другой.1941
«Словно смотришь в бинокль перевернутый…»
Словно смотришь в бинокль перевернутый — Все, что сзади осталось, уменьшено. На вокзале, метелью подернутом, Где-то плачет далекая женщина. Снежный ком, обращенный в горошину, — Ее горе отсюда невидимо; Как и всем нам, войною непрошено, Мне жестокое зрение выдано. Что-то очень большое и страшное, На штыках принесенное временем, Не дает нам увидеть вчерашнего Нашим гневным сегодняшним зрением. Мы, пройдя через кровь и страдания, Снова к прошлому взглядом приблизимся. Но на этом далеком свидании До былой слепоты не унизимся. Слишком много друзей не докличется Повидавшее смерть поколение, И обратно не все увеличится В нашем горем испытанном зрении.1941
Борис Слуцкий Декабрь 41 го года
Та линия, которую мы гнули, Дорога, по которой юность шла, Была прямою от стиха до пули — Кратчайшим расстоянием была. Недаром за полгода до начала Войны мы написали по стиху На смерть друг друга. Это означало, Что знали мы. И вот — земля в пуху, Морозы лужи накрепко стеклят, Трещат, искрятся, как в печи поленья: Настали дни проверки исполнения, Проверки исполненья наших клятв. Не ждите льгот, в спасение не верьте: Стучит судьба, как молотком бочар, И Ленин учит нас презренью к смерти, Как прежде воле к жизни обучал.1941
Алексей Сурков
«Бьется в тесной печурке огонь…»
Софье Кревс
Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко. Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, А до смерти — четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви.1941
Западный фронт
«Человек склонился над водой…»
Человек склонился над водой И увидел вдруг, что он седой. Человеку было двадцать лет. Над лесным ручьем он дал обет: Беспощадно, яростно казнить Тех убийц, что рвутся на восток. Кто его посмеет обвинить, Если будет он в бою жесток?1941
«Вот бомбами разметанная гать…»
Вот бомбами разметанная гать, Подбитых танков черная стена. От этой гати покатилась вспять Немецкая железная волна. Здесь втоптаны в сугробы, в целину Стальные каски, плоские штыки. Отсюда в первый раз за всю войну, Вперед, на запад, хлынули полки. Мы в песнях для потомства сбережем Названья тех сгоревших деревень, Где за последним горьким рубежом Кончалась ночь и начинался день.Под Москвой, 1941
Александр Твардовский «Пускай до последнего часа расплаты…»
Пускай до последнего часа расплаты, До дня торжества — недалекого дня — И мне не дожить, как и многим ребятам, Что были нисколько не хуже меня. Я долю свою по-солдатски приемлю, Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья, То лучше, чем смерть за родимую землю, И выбрать нельзя.1941
Николай Тихонов
1919–1941
1
Я помню ту осень и стужу, Во мраке бугры баррикад, И отблеск пожарища в лужах, И грозный, как ночь, Петроград! И в ночь уходили мужчины С коротким приказом: вперед! Без песен, без слов, без кручины Шел питерский славный народ. И женщины рыли толпою Окопы, о близких шепча, Лопатой и ржавой киркою В тяжелую землю стуча. У них на ладонях темнели Кровавых мозолей следы, Но плакать они не умели — Как были те люди горды! И как говорили без дрожи: «Умрем, не отступим назад. Теперь он еще нам дороже, Родной, боевой Петроград! За каждый мы камень сразимся, Свой город врагу не сдадим…» И теми людьми мы гордимся Как лучшим наследьем своим!2
Враг снова у города кружит, И выстрелы снова звучат, И снова сверкает оружье В твоих августовских ночах. И снова идут ленинградцы, Как двадцать два года назад, В смертельном сраженье сражаться За свой боевой Ленинград! Их жены, подруги и сестры В полдневный, в полуночный час Киркой и лопатою острой В окопную землю стучат. Друзья, земляки дорогие! Боев ваших праведный труд И рвы, для врагов роковые, В народную память войдут. Так пусть от истока до устья Невы пронесется, как гром: «Умрем, но врага не пропустим В наш город, в родимый наш дом!»Август, 1941
Ленинград
Ленинское знамя
То не чудо сверкает над нами, То не полюса блеск огневой, — То бессмертное Ленина знамя Пламенеет над старой Невой. Ночь, как год девятнадцатый, плещет, Дней звенит ледяная кора, Точно вылезли древние вещи — И враги, и блокада, и мрак. И над битвой, смертельной и мглистой, Как тогда, среди крови и бед, Это знамя сверкает нам чистым, Окрыляющим светом побед! И ползущий в снегу с автоматом Истребитель — боец молодой — Озарен этим светом крылатым Над кровавою боя грядой. Кочегар в духоте кочегарки И рабочий в морозных цехах Осенен этим знаменем ярким, Как моряк на своих кораблях. И над каменной мглой Ленинграда, Сквозь завесы суровых забот, Это знамя сквозь бой и блокаду Великан-знаменосец несет. Это знамя — победа и сила — Ленинград от врага защитит, Победит и над вражьей могилой — Будет день! — на весь свет прошумит!1941
Михаил Троицкий «Застыли, как при первой встрече…»
Михаил Троицкий (род. в (1904 г.) 22 декабря 1941 г. погиб в районе Невской Дубровки в сражении за Ленинград.
Застыли, как при первой встрече. Стоят и не отводят глаз. Вдруг две руки легли на плечи И обняли, как в первый раз. Все было сказано когда-то. Что добавлять? Прощай, мой друг. И что надежней плеч солдата Для этих задрожавших рук?1941
Ленинградский фронт
Илья Френкель Давай закурим!
Дует теплый ветер. Развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге, — Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за тó, что дал мне закурить. Давай закурим По одной. Давай закурим, Товарищ мой!.. Снова нас Одесса встретит, как хозяев, Звезды Черноморья будут нам сиять, Славную Каховку, город Николаев, — Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за тó, что дал мне закурить. Давай закурим По одной. Давай закурим, Товарищ мой!.. А когда не будет Гитлера в помине И к своим любимым мы придем опять, Вспомним, как на запад шли по Украине, — Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за тó, что дал мне закурить. Давай закурим По одной, Давай закурим, Товарищ мой!..1941
Юго-Западный фронт
Юрий Черкасский Город
Юрий Черкасский (род. в 1912 г.) погиб на фронте в 1943 г. в Белоруссии.
Квартал горел — там шел смертельный бой, И дом наш бомбой вражеской расколот, Но все же, — как нас тянет этот город, Где мы впервые встретились с тобой! Там почернели худенькие клены, Что мы растили, помнишь, у пруда, И заросли и опустели склоны, — Но все же, — как мы тянемся туда! Пусть он в обломках, темен и изранен, У нас в сердцах он песнею живет, Всегда такой, как той весенней ранью, Очищенный от мелочных забот. Он связан с нами сотнями примет, Нагорным парком, улицей Артема, Грозой врасплох, когда померкнет свет И небо сразу вздрагивает громом. И, обрывая цвет на васильках, Веселые, шальные ливни хлещут, Когда деревья под дождем трепещут Диковинными птицами в силках. А после гроз от голоса грачей, От брызгов солнца праздничны дороги, Они с бугров бросаются под ноги — Одна другой просторней и звучней. Какую выбрать? Нет, не выбирай, На каждой встретишь дружбу и участье… Теперь стервятник рвет его на части — Мой гордый край, мой непокорный край. На тех дорогах падают друзья, Кто с пулей в сердце, кто с петлей на горле… Пришли враги, названья улиц стерли. Но выжечь их из памяти нельзя! Дыши одним законом — кровь за кровь, Готовь расплату гордо и сурово, Сквозь все заслоны гневная любовь Нас приведет к разрушенному крову. Сквозь все преграды мы туда придем В землянках жить и строить новый дом, Работать от рассвета до рассвета, Растить другие клены над прудом И славить город песней недопетой. И встанет он в проспектах и дворцах, Очищенным от горечи и дыма, Зеленым, ясным, шумным, ощутимым, Таким, как мы храним его в сердцах.1941
Анатолий Чивилихин Мы прикрываем отход
Отход прикрывает четвертая рота. Над Волховом тусклое солнце встает. Немецкая нас прижимает пехота. Мы смертники. Мы прикрываем отход. Браток! Вон камней разворочена груда — Туда доползи, прихвати пулемет. Кто лишний — скорей выметайся отсюда. Не видишь, что мы прикрываем отход. Прощайте! Не вам эта выпала доля. Не все ж отходить, ведь наступит черед… Нам надобно час продержаться, не боле. Продержимся, — мы прикрываем отход. Не думай — умру, от своих не отстану. Вон катер последний концы отдает, — Плыви, коль поспеешь, скажи капитану: Мы все полегли. Мы прикрыли отход.1941
Александр Чуркин Вечер на рейде
Споёмте, друзья, ведь завтра в поход — Уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет Седой боевой капитан. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, Что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской Подтянем дружнее, друзья. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой. На рейде большом легла тишина, А море окутал туман. И берег родной целует волна, И тихо доносит баян: Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранней порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой.1941
Елена Ширман Возвращение
Елена Ширман (род. в 1908 г.) работала в редакции ростовской газеты «Молот». В июле 1942 г. в станице Ремонтной была схвачена фашистами и казнена.
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди… К. Симонов Это будет, я знаю… Нескоро, быть может,— Ты войдешь, бородатый, сутулый, иной. Твои добрые губы станут суше и строже, Опаленные временем и войной. Но улыбка останется. Так иль иначе. Я пойму — это ты. Не в стихах, не во сне. Я рванусь, подбегу. И, наверно, заплачу, Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель… Ты поднимешь мне голову. Скажешь: «Здравствуй…» Непривычной рукой по щеке проведешь. Я ослепну от слез, от ресниц и от счастья. Это будет нескоро. Но ты — придешь.1941
Степан Щипачев Ленин
Из бронзы Ленин… Тополя в пыли, Развалины сожженного квартала. Враги в советский городок вошли И статую низвергли с пьедестала. Полковник-щеголь был заметно рад, Что с памятником справился так скоро. И щелкал долго фотоаппарат Услужливого фоторепортера. Полковник ночью хвастал, выпивал, А на рассвете задрожал от страха: Как прежде, памятник в саду стоял, Незримой силой поднятый из праха. Заторопились офицеры вдруг. В развалинах мелькали чьи-то тени: То партизаны, замыкая круг, Шли на врага… И вел их Ленин.1941
Северо-Западный фронт
Илья Эренбург 1941
Мяли танки теплые хлеба, И горела, как свеча, изба. Шли деревни. Не забыть вовек Визга умирающих телег, Как лежала девочка без ног, Как не стало на земле дорог. Но тогда на жадного врага Ополчились нивы и луга, Разъярился даже горицвет, Дерево и то стреляло вслед, Ночью партизанили кусты И взлетали, как щепа, мосты, Шли с погоста деды и отцы, Пули подавали мертвецы, И, косматые, как облака, Врукопашную пошли века. Шли солдаты бить и перебить, Как ходили прежде молотить, Смерть предстала им не в высоте, А в крестьянской древней простоте, Та, что пригорюнилась, как мать, Та, которой нам не миновать. Затвердело сердце у земли, А солдаты шли, и шли, и шли, Шла Урала темная руда, Шли, гремя, железные стада, Шел Смоленщины дремучий бор, Шел худой, зазубренный топор, Шли пустые, тусклые поля, Шла большая русская земля.1941
1942
Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле. Александр ТвардовскийДжек Алтаузен Партбилет
Под ясенем, где светлый луч бежал, Боец, сраженный пулей в полдень ясный, Сверкая каской, в полный рост лежал Лицом на запад, мертвый, но прекрасный. Как твердо стиснут был его кулак! Рука его была так крепко сжата, Что не могли ее разжать никак Два белобрысых зверя, два солдата. Они склонились в ярости над ним, — Скоты таких упорных не любили,— Кололи грудь ему штыком стальным И кованым прикладом долго били… Но все равно, сквозь злобный блеск штыка, Как верный символ нашего ответа, Тянулась к солнцу сжатая рука С простреленным листочком партбилета.9 мая 1942 г.
Анна Ахматова Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, — И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки!Февраль 1942
Всеволод Багрицкий Ожидание
Всеволод Багрицкий (род. в 1922 г.), сын Эдуарда Багрицкого; в декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, стал военкором газеты 2-й Ударной армии «Отвага»; погиб при выполнении редакционного задания.
Мы двое суток лежали в снегу. Никто не сказал: «Замерз, не могу». Видели мы — и вскипала кровь — Немцы сидели у жарких костров. Но, побеждая, надо уметь Ждать негодуя, ждать и терпеть. По черным деревьям всходил рассвет, По черным деревьям спускалась мгла… Но тихо лежи, раз приказа нет, Минута боя еще не пришла. Слышали (таял снег в кулаке) Чужие слова, на чужом языке. Я знаю, что каждый в эти часы Вспомнил все песни, которые знал, Вспомнил о сыне, коль дома сын, Звезды февральские пересчитал. Ракета всплывает и сумрак рвет. Теперь не жди, товарищ! Вперед! Мы окружили их блиндажи, Мы половину взяли живьем… А ты, ефрейтор, куда бежишь?! Пуля догонит сердце твое. Кончился бой. Теперь отдохнуть, Ответить на письма… И снова в путь!1942
Волховский фронт
Борис Богатков Перед наступлением
Борис Богатков (род. в 1922 г.) ушел на фронт добровольцем. После контузии был демобилизован, но добился вторичной отправки на фронт в составе сибирской добровольческой дивизии. Пал смертью храбрых 11 августа 1943 г. в бою за Гнездиловские высоты (в районе Смоленск — Ельня), поднимая бойцов в атаку; посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени; его имя присвоено одной из школ и одной из улиц Новосибирска. В 1973 г. в Новосибирске вышла «Единственная книга» Б. Богаткова, включающая стихи, письма, воспоминания.
Метров двести — совсем немного — отделяют от нас лесок. Кажется — велика ль дорога? Лишь один небольшой бросок. Только знает наша охрана — дорога не так близка. Перед нами — «ничья» поляна, а враги — у того леска. В нем таятся фашистские дзоты, жестким снегом их занесло, вороненые пулеметы в нашу сторону смотрят зло. Магазины свинцом набиты, часовой не смыкает глаз. Страх тая, стерегут бандиты степь, захваченную у нас. За врагами я, парень русский, наблюдаю, гневно дыша. Палец твердо лежит на спуске безотказного ППШа. Впереди — города пустые, нераспаханные поля. Тяжко знать, что моя Россия от того леска — не моя… Посмотрю на друзей-гвардейцев: брови сдвинули, помрачнев, — как и мне, им сжимает сердце справедливый, священный гнев. Поклялись мы, что встанем снова на родимые рубежи! И в минуты битвы суровой нас, гвардейцев, не устрашит ливень пуль, сносящий пилотки, и оживший немецкий дзот. Только бы прозвучал короткий долгожданный приказ: «Вперед!»1942
Илья Быстров Военная осень
Нева… Горбатый мостик… Летний сад… Знакомая чугунная ограда… Стоят бойцы. Теперь они хранят Червонную сокровищницу сада. О, мрамор статуй! Кто не помнит их Прозрачные, как у слепых, улыбки И лист осенний, ласковый и липкий, Что на плече покоился у них! Немецкого ефрейтора сапог Не запятнает золота аллеи, Где вижу я сторожевой дымок И двух бойцов, стоящих у траншеи. Осенний воздух ясен, строг и чист, Пылают клены, липы пожелтели. Стоят бойцы… Солдатской их шинели Касается, кружась, осенний лист.1942
Ленинград
Павел Винтман «Дорога торная, дорога фронтовая…»
Дорога торная, дорога фронтовая, Поникшие сады, горящие стога, И в злой мороз, и в зное изнывая, Идти по ней и вечность постигать. Такая в этом боль, тоска кругом такая В молчанье деревень и в дымном вкусе рос… Дорога торная, дорога фронтовая, Печальная страна обугленных берез.1941–1942
Варвара Вольтман-Спасская Мать
Мужчина вдруг на улице упал, Раскрытым ртом ловя дыханье полдня. Не собралась вокруг него толпа, Никто не подбежал к нему, не поднял. Кто мог бы это сделать, — все в цехах, А кто на улице, сам еле ползает. Лежит упавший. Слезы на глазах, Зовет срывающимся тонким голосом. И женщина, с ребенком на руках, Остановилась и присела возле. В ней тоже ни кровинки. На висках Седые пряди и ресницы смерзлись. Привычным жестом обнажила грудь И губы умиравшего прижала К соску упругому. Дала глотнуть… А рядом в голубое одеяло Завернутый, как в кокон, на снегу Ребенок ждал. Он долю отдал брату. Забыть я этой встречи не могу… О, женщина, гражданка Ленинграда!1942
Ленинград
Михаил Гершензон «Что сталось с небосводом? Никогда…»
Михаил Гершензон (род. в 1909 г.) — детский писатель. В начале войны добровольно вступил в ополчение, вышел из окружения; затем был военным переводчиком и инструктором политотдела 5-й армии. 8 августа 1942 г., возглавив атаку батальона, был ранен в бою и умер от ран.
Что сталось с небосводом? Никогда Он не был так вместителен и емок. От сизого рассвета до потемок В нем ветер строит башни, города Из облаков и туч. И синеве просторно, И радуга цветным ручьем течет, Оттенкам неба потерялся счет — Зеленый, матово-жемчужный, черный… Под этим куполом — как детские бирюльки, Деревни притулилися по кочкам, Церквушка машет беленьким платочком, И озеро лежит в своей кастрюльке. Леса в полях брели и заблудились, А он все ширится, огромный небосвод, Земное все, что дышит и живет, Вобрать в свой круг и успокоить силясь. Но он, как раковина, он вбирает шумы; Сквозь купол прорывается война, И если здесь земля пощажена, Ежеминутно слышится угрюмый, Тяжелый гул, такой, что и поля Подрагивают, шкурой шевеля, — Такие ухающие разрывы, Что и березки, вдруг затрепетав, Оглядываются, на носки привстав, И спрашивают: «Все еще мы живы?»1942
Александр Гитович Строитель дороги
Он шел по болоту, не глядя назад, Он бога не звал на подмогу, Он просто работал, как русский солдат, И выстроил эту дорогу. На запад взгляни и на север взгляни — Болото, болото, болото. Кто ночи и дни выкорчевывал пни, Тот знает, что значит работа. Пойми, чтобы помнить всегда и везде: Как надо поверить в победу, Чтоб месяц работать по пояс в воде, Не жалуясь даже соседу! Все вытерпи ради родимой земли, Все сделай, чтоб вовремя, ровно, Одно к одному по болоту легли Настила тяжелые бревна. …На западе розовый тлеет закат, Поет одинокая птица. Стоит у дороги и смотрит солдат На запад, где солнце садится. Он курит и смотрит далеко вперед, Задумавший точно и строго, Что только на запад бойцов поведет Его фронтовая дорога.1942
Волховский фронт
Семен Гудзенко Перед атакой
Когда на смерть идут — поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки, Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв — и умирает друг. И значит — смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят сорок первый год И вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий. А потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.1942
Западный фронт
Евгений Долматовский Раненые
Взошла рассветная звезда, И время к солнцу ближе. Увижу или никогда Я солнца не увижу? Товарищ раненый, не спи, Дышу я еле-еле. Торжественный рассвет в степи Играет на свирели. Прохлада трогает лицо, Звезда над нами вьется, Как парашютное кольцо Вытягивая солнце. Как вытянет — начнется бой, Кипенье дикой силы… И, может, только нам с тобой Уже не встать с носилок. А все же наша жизнь была, Скажу я перед гробом, Частицей раннего тепла, А не ночным ознобом. Отбросив наступленье тьмы, Испытаны бедою, Еще не солнцем были мы, Но утренней звездою.1942
Сталинградский фронт
Михаил Дудин Соловьи
О мертвецах поговорим потом. Смерть на войне обычна и сурова. И все-таки мы воздух ловим ртом При гибели товарищей. Ни слова Не говорим. Не поднимая глаз, В сырой земле выкапываем яму. Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас Остался только пепел, да упрямо Обветренные скулы сведены. Трехсотпятидесятый день войны. Еще рассвет на листьях не дрожал И для острастки били пулеметы… Вот это место. Здесь он умирал, Товарищ мой из пулеметной роты. Тут бесполезно было звать врачей, Не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей. Он умирал. И, понимая это, Смотрел на нас, и молча ждал конца, И как-то улыбался неумело. Загар сначала отошел с лица, Потом оно, темнея, каменело. Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней. Запри все чувства сразу на защелку. Вот тут и появился соловей, Несмело и томительно защелкал, Потом сильней, входя в горячий пыл, Как будто настежь вырвавшись из плена, Как будто сразу обо всем забыл, Высвистывая тонкие колена. Мир раскрывался. Набухал росой. Как будто бы еще едва означась, Здесь, рядом с нами, возникал другой В каком-то новом сочетанье качеств. Как время, по траншеям тек песок. К воде тянулись корни у обрыва, И ландыш, приподнявшись на носок, Заглядывал в воронку от разрыва. Еще минута. Задымит сирень Клубами фиолетового дыма. Она пришла обескуражить день. Она везде. Она непроходима. Еще мгновенье. Перекосит рот От сердце раздирающего крика, — Но успокойся, посмотри: цветет, Цветет на минном поле земляника. Лесная яблонь осыпает цвет, Пропитан воздух ландышем и мятой… А соловей свистит. Ему в ответ Еще — второй, еще — четвертый, пятый. Звенят стрижи. Малиновки поют. И где-то возле, где-то рядом, рядом Раскидан настороженный уют Тяжелым громыхающим снарядом. А мир гремит на сотни верст окрест, Как будто смерти не бывало места, Шумит неумолкающий оркестр, И нет преград для этого оркестра. Весь этот лес листом и корнем каждым, Ни капли не сочувствуя беде, С невероятной, яростною жаждой Тянулся к солнцу, к жизни и к воде. Да, это жизнь. Ее живые звенья, Ее крутой бурлящий водоем. Мы, кажется, забыли на мгновенье О друге умирающем своем. Горячий луч последнего рассвета Едва коснулся острого лица. Он умирал. И, понимая это, Смотрел на нас и молча ждал конца. Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле, Когда он, руки разбросав свои, Сказал: «Ребята, напишите Поле: У нас сегодня пели соловьи». И сразу канул в омут тишины Трехсотпятидесятый день войны. Он не дожил, не долюбил, не допил, Не доучился, книг не дочитал. Я был с ним рядом. Я в одном окопе, Как он о Поле, о тебе мечтал. И, может быть, в песке, в размытой глине, Захлебываясь в собственной крови, Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине: У нас сегодня пели соловьи». И полетит письмо из этих мест Туда, в Москву, на Зубовский проезд. Пусть даже так! Потом просохнут слезы, И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем У той поджигородовской березы Ты всмотришься в зеленый водоем. Пусть даже так. Потом родятся дети Для подвигов, для песен, для любви. Пусть их разбудят рано на рассвете Томительные наши соловьи. Пусть им навстречу солнце зноем брызнет И облака потянутся гуртом. Я славлю смерть во имя нашей жизни. О мертвецах поговорим потом.1942
Ленфронт
Владислав Занадворов Война
Владислав Занадворов (род. в 1914 г.) погиб под Сталинградом в ноябре 1942 г.
Ты не знаешь, мой сын, что такое война! Это вовсе не дымное поле сраженья, Это даже не смерть и отвага. Она В каждой капле находит свое выраженье. Это изо дня в день лишь блиндажный песок Да слепящие вспышки ночного обстрела; Это боль головная, что ломит висок; Это юность моя, что в окопах истлела; Это грязных, разбитых дорог колеи; Бесприютные звезды окопных ночевок; Это — кровью омытые письма мои, Что написаны криво на ложе винтовок; Это жизни короткий последний рассвет Над изрытой землей. И лишь как завершенье — Под разрывы снарядов, при вспышках ракет — Беззаветная гибель на поле сраженья.1942
Владимир Зотов Смерть солдата
Бывает так — еще не бой, Передний край еще спокоен, А, срезан пулею слепой, Упал на дно окопа воин. Застыл солдат недвижно прям В покое нерушимо прочном, И руки вытянул по швам Он перед отпуском бессрочным. Никто ему в последний раз По-русски тело не омоет. Лишь веки потускневших глаз, Тоскуя, друг ему закроет. И место мертвому найдут Угрюмого успокоенья, Привал последний и приют В забытом ходе сообщенья. Могила тесная узка. Ее, отмеря в рост длиною И в глубь на полтора штыка, Саперы выдолбят киркою. На вековечный отдых свой Солдат ложится безоружный. Его винтовку взял другой, — Оружие для мщенья нужно! Покойному отдать поклон Сберутся фронтовые братья. Простые, строгие, как он, Простятся, слез мужских не тратя. Стоят вокруг они, скорбя, Стоят в молчании суровом. Горюет каждый про себя, Не облегчая горя словом.1942
Ленфронт
Вера Инбер Душа Ленинграда
Их было много, матерей и жен, Во дни Коммуны, в месяцы Мадрида, Чьим мужеством весь мир был поражен, Когда в очередях был хлеб не выдан, Когда снаряды сотнями смертей Рвались над колыбелями детей. Но в час, когда неспешною походкой В историю вошла, вступила ты, — Раздвинулись геройские ряды Перед тобой, советской патриоткой, Ни разу не склонившей головы Перед блокадой берегов Невы. Жилье без света, печи без тепла, Труды, лишенья, горести, утраты — Все вынесла и все перенеслá ты. Душою Ленинграда ты была, Его великой материнской силой, Которую ничто не подкосило. Не лаврами увенчан, не в венке Передо мной твой образ, ленинградка. Тебя я вижу в шерстяном платке, В морозный день, когда ты лишь украдкой, Чтобы не стыла на ветру слеза, Утрешь, бывало, варежкой глаза.1942
Ленинград
Михаил Исаковский В прифронтовом лесу
Лиде
С берез, неслышен, невесом, Слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» Играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, И, словно в забытьи, Сидят и слушают бойцы — Товарищи мои. Под этот вальс весенним днем Ходили мы на круг, Под этот вальс в краю родном Любили мы подруг; Под этот вальс ловили мы Очей любимых свет, Под этот вальс грустили мы, Когда подруги нет. И вот он снова прозвучал В лесу прифронтовом, И каждый слушал и молчал О чем-то дорогом; И каждый думал о своей, Припомнив ту весну, И каждый знал — дорога к ней Ведет через войну… Так что ж, друзья, коль наш черед, — Да будет сталь крепка! Пусть наше сердце не замрет, Не задрожит рука; Пусть свет и радость прежних встреч Нам светят в трудный час, А коль придется в землю лечь, Так это ж только раз. Но пусть и смерть — в огне, в дыму — Бойца не устрашит, И что положено кому — Пусть каждый совершит. Настал черед, пришла пора, — Идем, друзья, идем! За все, чем жили мы вчера, За все, что завтра ждем: За тех, что вянут, словно лист, За весь родимый край… Сыграй другую, гармонист, Походную сыграй!1942
Дмитрий Кедрин
Родина
Весь край этот, милый навеки, В стволах белокорых берез, И эти студеные реки, У плеса которых ты рос. И темная роща, где свищут Всю ночь напролет соловьи, И липы на старом кладбúще, Где предки уснули твои. И синий ласкающий воздух, И крепкий загар на щеках, И деды в андреевских звездах, В высоких седых париках. И рожь на полях непочатых, И эта хлеб-соль средь стола, И псковских соборов стрельчáтых Причудливые купола. И фрески Андрея Рублева На темной церковной стене, И звонкое русское слово, И в чарочке пенник на дне. И своды лабазов просторных, Где в сене — раздолье мышам, И эта — на ларчиках черных — Кудрявая вязь палешан. И дети, что мчатся, глазея, По следу солдатских колонн, И в старом полтавском музее Полотнища шведских знамен. И санки, чтоб вихрем летели! И волка опасливый шаг, И серьги вчерашней метели У зябких осинок в ушах. И ливни — такие косые, Что в поле не видно ни зги… Запомни: Все это — Россия, Которую топчут враги.1942
Завет
В час испытаний Поклонись отчизне По-русски, В ноги, И скажи ей: «Мать! Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни! С тобою — жить, С тобою — умирать!» Будь верен ей. И, как бы ни был длинен И тяжек день военной маеты, — Коль пахарь ты, Отдай ей все, как Минин, Будь ей Суворовым, Коль воин ты. Люби ее. Клянись, как наши деды, Горой стоять За жизнь ее и честь, Чтобы сказать В желанный час победы: «И моего Тут капля меда есть!»1942
Семен Кирсанов Долг
Война не вмещается в оду, и многое в ней не для книг. Я верю, что нужен народу души откровенный дневник. Но это дается не сразу, — душа ли еще не строгá? — и часто в газетную фразу уходит живая строка. Куда ты уходишь? Кудá ты? Тебя я с дороги верну. Строка отвечает: — В солдаты. Душа говорит: — На войну. И эти ответы простые меня отрезвляют вполне. Сейчас не нужны холостые патроны бойцу на войне. Писать — или с полною дрожью, какую ты вытерпел сам, когда ковылял бездорожьем по белорусским лесам! Писать о потерянном? Или — писать, чтоб, как огненный штык, бойцы твою строчку всадили в бою под фашистский кадык. В дыму обожженного мира я честно смотрю в облака. Со мной и походная лира, и твердая рифма штыка. Пускай эту личную лиру я сам оброню на пути. Я буду к далекому миру с солдатской винтовкой ползти.1942
Борис Костров В разведке
Борис Костров (род. в 1912 г.) в начале войны добровольцем пошел в армию. Участвовал в боях под Ленинградом, в Карелии, на Калининском фронте, был трижды ранен. 11 марта 1945 г. в Восточной Пруссии был смертельно ранен, похоронен в Крейцбурге, на центральной площади.
Во фляге — лед. Сухой паек. Винтовка, пять гранат. И пули к нам наискосок Со всех сторон Летят. Быть может, час. Быть может, миг — И Тронет сердце Смерть. Нет, я об этом не привык Писать стихи И петь. Я говорю, Что это бред! Мы всех переживем, На пик немеркнущих побед, На пик судьбы Взойдем! А то, что день И ночь — в бою, Так это не беда. Ведь мы за родину свою Стоим горой Всегда! Винтовка, пять гранат. Пурга. Рвет флягу синий лед. Непроходимые снега, Но путь один — Вперед!1942
Наталья Крандиевская—Толстая «По радио дали тревоги отбой…»
По радио дали тревоги отбой. Пропел о покое знакомый гобой. Окно раскрываю, и ветер влетает, И музыка с ветром. И я узнаю Тебя, многострунную бурю твою, Чайковского стон лебединый, — Шестая, — По-русски простая, по-русски святая, Как Родины голос, не смолкший в бою!1942
Ленинград
Михаил Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..»
Михаил Кульчицкий (род. в 1919 г.) в декабре 1942 г. после окончания артиллерийского училища в звании младшего лейтенанта отбыл на фронт. Погиб под Сталинградом в январе 1943 г. Это — его последнее стихотворение, написанное в день окончания училища и отправки на фронт.
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник! Что? Пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал: «лейтенант» звучит «налейте нам». И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда, черна от пота, вверх скользит по пахоте пехота. Марш! И глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чеботы весом хлеба в месячный паек. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжелых орденов. Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино.Хлебниково — Москва
26 декабря 1942
Иосиф Ливертовский Папиросы
Иосиф Ливертовский (род. в 1918 г.) стихи начал писать с шестнадцати лет. Публиковал их в омских молодежных газетах, а позднее — во фронтовой печати. Погиб летом 1943 г. под Орлом, во время Орловско-Курского сражения.
Я сижу с извечной папиросой, Над бумагой голову склони, А отец вздохнет, посмотрит косо — Мой отец боится за меня. Седенький и невысокий ростом, Он ко мне любовью был таков, Что убрал бы, спрятал папиросы Магазинов всех и всех ларьков. Тут же рядом, прямо во дворе, Он бы сжег их на большом костре. Но, меня обидеть не желая, Он не прятал их, не убирал… Ворвалась война, война большая. Я на фронт, на запад уезжал. Мне отец пожал впервые руку. Он не плакал в длинный миг разлуки. Может быть, отцовскую тревогу Заглушил свистками паровоз. Этого не знаю. Он в дорогу Подарил мне пачку папирос.1942
Владимир Лифшиц Баллада о черством куске
(Зима 1941/42 года)
По безлюдным проспектам оглушительно звонко Громыхала — на дьявольской смéси — трехтонка. Леденистый брезент прикрывал ее кузов — Драгоценные тонны замечательных грузов. Молчаливый водитель, примерзший к баранке, Вез на фронт концентраты, хлеба вез он буханки, Вез он сало и масло, вез консервы и водку, И махорку он вез, проклиная погодку. Рядом с ним лейтенант прятал нос в рукавицу, Был он худ. Был похож на голодную птицу. И казалось ему, что водителя нету, Что забрел грузовик на другую планету. Вдруг навстречу лучам — синим, трепетным фарам — Дом из мрака шагнул, покорежен пожаром, А сквозь эти лучи снег летел, как сквозь сито, Снег летел, как мука, — плавно, медленно, сыто… — Стоп! — сказал лейтенант. — Погодите, водитель. — Я, — сказал лейтенант, — местный все-таки житель. — И шофер осадил перед домом машину, И пронзительный ветер ворвался в кабину. И взбежал лейтенант по знакомым ступеням. И вошел. И сынишка прижался к коленям. Воробьиные ребрышки… бледные губки… Старичок семилетний в потрепанной шубке… — Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!.. — И достал лейтенант свой паек из кармана. Хлеба черствый кусок дал он сыну: — — Пожуй-ка, — И шагнул он туда, где дымила буржуйка. Там, поверх одеяла, распухшие руки. Там жену он увидел после долгой разлуки. Там, боясь разрыдаться, взял за бедные плечи И в глаза заглянул, что мерцали, как свечи. Но не знал лейтенант семилетнего сына. Был мальчишка в отца — настоящий мужчина! И, когда замигал догоревший огарок, Маме в руку вложил он отцовский подарок. А когда лейтенант вновь садился в трехтонку, — Приезжай! — закричал ему мальчик вдогонку. И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь сито, Снег летел, как мука, — плавно, медленно, сыто… Грузовик отмахал уже многие версты. Освещали ракеты неба черного купол. Тот же самый кусок — ненадкушенный, черствый — Лейтенант в том же самом кармане нащупал. Потому что жена не могла быть иною И кусок этот снова ему подложила, Потому что была настоящей женою, Потому что ждала, потому что любила. Грузовик по мостам проносился горбатым, И внимал лейтенант орудийным раскатам, И ворчал, что глаза снегом застит слепящим, Потому что солдатом он был настоящим.1942
Ленфронт
Марк Максимов Мать
Жен вспоминали на привале, друзей — в бою. И только мать не то и вправду забывали, не то стеснялись вспоминать. Но было, что пред смертью самой видавший не один поход седой рубака крикнет: — Мама! — …И под копыта упадет.1942
Тыл врага
Сергей Михалков Десятилетний человек
Крест-накрест синие полоски На окнах съежившихся хат. Родные тонкие березки Тревожно смотрят на закат. И пёс на теплом пепелище, До глаз испачканный в золе, Он целый день кого-то ищет И не находит на селе… Накинув старый зипунишко, По огородам, без дорог, Спешит, торопится парнишка По солнцу — прямо на восток. Никто в далекую дорогу Его теплее не одел, Никто не обнял у порога И вслед ему не поглядел. В нетопленной, разбитой бане Ночь скоротавши, как зверек, Как долго он своим дыханьем Озябших рук согреть не мог! Но по щеке его ни разу Не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу Увидели его глаза. Все видевший, на все готовый, По грудь проваливаясь в снег, Бежал к своим русоголовый Десятилетний человек. Он знал, что где-то недалече, Быть может, вон за той горой, Его, как друга, в темный вечер Окликнет русский часовой. И он, прижавшийся к шинели, Родные слыша голоса, Расскажет все, на что глядели Его недетские глаза.1942
Сергей Наровчатов В те годы
Я проходил, скрипя зубами, мимо Сожженных сел, казненных городов По горестной, по русской, по родимой, Завещанной от дедов и отцов. Запоминал над деревнями пламя, И ветер, разносивший жаркий прах, И девушек, библейскими гвоздями Распятых на райкомовских дверях. И воронье кружилось без боязни, И коршун рвал добычу на глазах, И метил все бесчинства и все казни Паучий извивающийся знак. В своей печали древним песням равный, Я сёла, словно летопись, листал, И в каждой бабе видел Ярославну, Во всех ручьях Непрядву узнавал. Крови своей, своим святыням верный, Слова старинные я повторял, скорбя: — Россия, мати! Свете мой безмерный, Которой местью мстить мне за тебя!1942
Николай Новоселов На пути к победе
«Пот — не кровь, Не жалейте пота! — Проповедовал старшина. — Такая у нас работа — Война». Гимнастерки мокры от глины. Мы копаем траншеи опять. Нам до Гитлера, до Берлина Очень нужно их докопать. Капитана лицо рябое… Не дойдет до Берлина он. На рассвете в разведку боем Поднимется батальон. За нами блокадный город Горя, Веры, Любви. С нами пушки «Авроры» И ленинский броневик. Лицо застилает пóтом. Дорога домой длинна. Вгрызается в грунт пехота, Ворочает глину рота Четвертую ночь без сна. Такая у нас работа — Война.1942
Ленинградский фронт
Николай Овсянников Май 1941 — май 1942 года
Николай Овсянников (род. в 1918 г.) перед войной окончил ИФЛИ. Погиб в 1942 г. под Сталинградом.
В том мае мы еще смеялись, Любили зелень и огни. Ни голос скрипок, ни рояли Нам не пророчили войны. Мы не догадывались, споря (Нам было тесно на земле), Какие годы и просторы Нам суждено преодолеть. Париж поруганный и страшный, Казалось, на краю земли, И Ново-Девичьего башни Покой, как Софью, стерегли. И лишь врасплох, поодиночке, Тут бред захватывал стихи, Ломая ритм, тревожа строчки Своим дыханием сухим. Теперь мы и строжéй и старше, Теперь в казарменной ночú Не утренний подъем и марши — Тревогу трубят трубачи. Теперь, мой друг и собеседник, Романтика и пот рубах Уже не вымысел и бредни, А наша трудная судьба. Она сведет нас в том предместье, Где боя нет, где ночь тиха, Где мы, как о далеком детстве, Впервые вспомним о стихах. Пусть наша юность не воскреснет, Траншей и поля старожил! Нам хорошо от горькой песни, Что ты под Вязьмою сложил.1942
Леонид Решетников «Есть на войне жестокая примета…»
Есть на войне жестокая примета: Когда увидишь — свет звезды погас, Знай, не звезда упала с неба, — Это На белый снег упал один из нас. Все меньше звезд над нами в небе стылом. Все больше их на холмиках степных. Идем не по высотам — по могилам Своих друзей, товарищей своих… Пусть впереди стена огня и дыма, Идем с восхода сквозь огонь и дым К закату, где мы так необходимы, Как утром людям свет необходим.1942
Всеволод Рождественский Белая ночь
(Волховский фронт, 1942 год)
Средь облаков над Ладогой просторной, Как дым болот, Как давний сон, чугунный и узорный, Он вновь встает, — Рождается таинственно и ново, Пронзен зарей, Из облаков, из дыма рокового, Он, город мой. Все те же в нем и улицы, и парки, И строй колонн, Но между них рассеян свет неяркий, Ни явь ни сон. Его лицо обожжено блокады Сухим огнем, И отблеск дней, когда рвались снаряды, Лежит на нем. … … … … … … … … … … … … Все возвратится: островов прохлада, Колонны, львы, Знамена шествий, майский шелк парада И синь Невы. И мы пройдем в такой же вечер кроткий Вдоль тех оград Взглянуть на шпиль, на кружево решетки, На Летний сад. И вновь заря уронит отблеск алый, Совсем вот так, В седой гранит, в белесые каналы, В прозрачный мрак. О, город мой! Сквозь все тревоги боя, Сквозь жар мечты, Отлитым в бронзе с профилем героя Мне снишься ты. Я счастлив тем, что в грозовые годы Я был с тобой, Что мог отдать заре твоей свободы Весь голос мой, Я счастлив тем, что в пламени суровом. В дыму блокад Сам защищал и пулею, и словом Мой Ленинград!1942
Елена Рывина «Ленинградская ночь под обстрелом…»
Ленинградская ночь под обстрелом В ослепительном блеске луны. Над землей, беззащитной и белой, Все сентябрьские звезды видны. Город стал обнаженным, раскрытым, Демаскúрованным луной. Оглушающий грохот зениток Неумолчно стоит надо мной. Уходя за твой город сражаться, Все страданья людские измерь, Отомсти за твоих ленинградцев, Ненавидящих небо теперь. Уничтожь неприятеля, где бы Ни стоял на твоем он пути, Возврати ленинградцам их небо, Все их звезды назад возврати! Если ж дом мой сожжен иль повален — Не дождется счастливого дня, — Ты меня не ищи средь развалин, Ты найди только в песне меня!1942
Ленинград
Николай Рыленков
«В суровый час раздумья нас не троньте…»
В суровый час раздумья нас не троньте. Расспрашивать не смейте ни о чем! Молчанью научила нас на фронте Смерть, что всегда стояла за плечом. Она другое измеренье чувствам Нам подсказала на пути крутом. Вот почему нам кажутся кощунством Расспросы близких о пережитом. Нам было все отпущено сверх меры, Любовь, и гнев, и мужество в бою. Теряли мы друзей, родных, но веры Не потеряли в родину свою! Не вспоминайте ж дней тоски, не раньте Случайным словом, вздохом невпопад!.. …Вы помните, как молчалив стал Данте, Лишь в сновиденье посетивший ад?1942
Западный фронт
Испытание огнем и железом
Прошедшим фронт, нам день зачтется за год, В пыли дорог сочтется каждый след, И корпией на наши раны лягут Воспоминанья юношеских лет. Рвы блиндажей трава зальет на склонах Крутых холмов, нахлынув, как волна. В тех блиндажах из юношей влюбленных Мужчинами нас сделала война. И синего вина, вина печали, Она нам полной мерой поднесла, Когда мы в первых схватках постигали Законы боевого ремесла. Но и тогда друг другу в промежутках Меж двух боев рассказывали мы О снах любви, и радостных и жутких, Прозрачных, словно первый день зимы. Перед костром, сомкнувшись тесным кругом, Мы вновь клялись у роковой черты, Что, возвратясь домой к своим подругам, Мы будем в снах и в помыслах чисты. А на снегу, как гроздья горьких ягод, Краснела кровь. И снег не спорил с ней! За это все нам день зачтется за год, Пережитое выступит ясней.1942
Илья Сельвинский Баллада о ленинизме
В скверике нá море, Там, где вокзал, Бронзой на мраморе Ленин стоял. Вытянув правую Руку вперед, В даль величавую Звал он народ! Даже неграмотных Темных людей Вел этот памятник К высям идей: Массы, идущие К свету из тьмы. Знали: «Грядущее Это — мы!» Помнится — сизое Утро в пыли. Вражьи дивизии С моря пришли. Черепом мечена, Точно Смерть, Видит неметчина: В скверике — медь. Ловко сработано! Кто ж это тут? «ЛЕНИН». Ах, вот оно… «Аб!» — «Гут!» Дико из цоколя Высится шест. Грохнулся около Ленинский жест. Кони хвостатые Взяли в карьер. Нет статуи, Гол сквер. Кончено! Свержено. Далее — в круг Введен задержанный Политрук. Был он молоденький… Смотрит мертвó… Штатский в котике Выдал его. Люди заохали… («Эх, маетá!») Вот он на цоколе Подле шеста; Вот ему на плечи Брошен канат, Мыльные каплищи Петлю кропят… — Пусть покачается На шесте. Пусть он отчается В красной звезде! Всплачется, взмолится Хоть на момент. Здесь, у околицы, Где монумент, Так, чтобы жители, Ждущие тут, Поняли. Видели. «Ауф!» — «Гут!» Белым, как облако, Стал политрук; Вид его облика Страшен. Но вдруг Он над оравою Вражеских рот Вытянул правую Руку вперед — И, как явление, Бронзе вослед, Вырос Ленина Силуэт. Этим движением От плеча, Милым видением Ильича Смертник молоденький В этот миг Кровною родинкой К душам приник… Так над селением Взмыла рука Ставшего Лениным Политрука. Будто о собственном Сыне — навзрыд Бухтою об стену Море гремит! Плачет, волнуется, Стонет народ — Площадь, улица, Пляж, Грот. Мигом у цоколя Каски сверк! Вот его, сокола, Вздернули вверх; Вот уж у сонного Очи зашлись… Все же ладонь его Тянется ввысь — Бронзовой лепкою, Нáзло зверью, Ясною, крепкою Верой в зарю!1942
Константин Симонов Смерть друга
Памяти Евгения Петрова
Неправда, друг не умирает, Лишь рядом быть перестает. Он кров с тобой не разделяет, Из фляги из твоей не пьет. В землянке, занесен метелью, Застольной не поет с тобой И рядом, под одной шинелью, Не спит у печки жестяной. Но все, что между вами было, Все, что за вами следом шло, С его останками в могилу Улечься вместе не смогло. Упрямство, гнев его, терпенье — Ты все себе в наследство взял, Двойного слуха ты и зренья Пожизненным владельцем стал. Любовь мы завещаем женам, Воспоминанья — сыновьям, Но по земле, войной сожженной, Идти завещано друзьям. Никто еще не знает средства От неожиданных смертей. Все тяжелее груз наследства, Все Уже круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи, Не оставляя ничего, Огню, штыку, врагу навстречу, Неси его, неси его! Когда же ты нести не сможешь, То знай, что, голову сложив, Его всего лишь переложишь На плечи тех, кто будет жив. И кто-то, кто тебя не видел, Из третьих рук твой груз возьмет, За мертвых мстя и ненавидя, Его к победе донесет.1942
Ярослав Смеляков Судья
Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца. И, уходя в страну иную от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую зажал в костнеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили — в его военной красоте — в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. И если правда будет время, когда людей на Страшный суд из всех земель, с грехами всеми, трехкратно трубы призовут, — предстанет за столом судейским не бог с туманной бородой, а паренек красноармейский пред потрясенною толпой, держа в своей ладони правой, помятой немцами в бою, не символы небесной славы, а землю русскую свою. Он все увидит, этот мальчик, и ни иоты не простит, но лесть — от правды, боль — от фальши и гнев — от злобы отличит. Он все узнает оком зорким, с пятном кровавым на груди — судья в истлевшей гимнастерке, сидящий молча впереди. И будет самой высшей мерой, какою мерить нас могли, в ладони юношеской серой та горсть тяжелая земли.1942
Марк Соболь Когда-нибудь
Когда-нибудь, когда постигнут внуки из первых книг основы бытия, восстанет вновь — в крови, сиянье, муке — отчаянная молодость моя. Она войдет в сверкающие классы и там, в совсем не детской тишине, расскажет им глухим и хриплым басом торжественную повесть о войне. Тогда воскреснут подвиги былые — великая и трудная пора, — и мы войдем сегодняшние, злые, пять раз в атаку шедшие с утра, забыв о том, что вот сейчас уснуть бы так хорошо… Но мы, — который раз! — грядущих дней отстаивая судьбы, по многу суток не смыкаем глаз. Там всё поймут: короткий мир стоянок, над полем боя робкую звезду, и едкий запах сохнущих портянок, и песню, что возникла на ходу. И то, как в тяжком орудийном хрипе весенний день наведывался к нам, и нес он запах пороха и липы и был с дождем и солнцем пополам. И белокурый юркий непоседа вдруг станет строгим — вылитый портрет того, уже давно седого деда, который был солдатом в двадцать лет.1942
Анатолий Софронов Бессмертник
Спустился на степь предвечерний покой, Багряное солнце за тучами меркнет… Растет на кургане над Доном-рекой Суровый цветок — бессмертник. Как будто из меди его лепестки, И стебель свинцового цвета… Стоит на кургане у самой реки Цветок, не сгибаемый ветром. С ним рядом на гребне кургана лежит Казак молодой, белозубый, И кровь его темною струйкой бежит Со лба на холодные губы. Хотел ухватиться за сизый ковыль Казак перед самою смертью, Да все было смято, развеяно в пыль, Один лишь остался бессмертник. С ним рядом казак на полоске земли С разбитым лежит пулеметом; И он не ушел, и они не ушли — Полроты фашистской пехоты. Чтоб смерть мог казак молодой пережить И в памяти вечной был светел, Остался бессмертник его сторожить — Суровой победы свидетель. Как будто из меди его лепестки И стебель свинцового цвета… Стоит на кургане у самой реки Цветок, не сгибаемый ветром.1942
Юго-Западный фронт
Сергей Спасский Блокада
На нас на каждого легла печать. Друг друга мы всегда поймем. Уместней, Быть может, тут спокойно промолчать. Такая жизнь не слишком ладит с песней. Она не выше, чем искусство, нет. Она не ниже вымысла. Но надо Как будто воздухом других планет Дышать, чтобы понять тебя, блокада. Снаряды, бомбы сверху… Все не то. Мороз, пожары, мрак. Все стало бытом. Всего трудней, пожалуй, сон в пальто В квартире вымершей окном разбитым. Всего странней заметить, что квартал, Тобой обжитый, стал длиннее втрое. И ты устал, особенно устал, Бредя его сугробною корою. И стала лестница твоя крутой, Идешь — и не дотянешься до края. И проще, чем бороться с высотой, Лечь на площадке темной, умирая. Слова, слова… А как мороз был лют. Хлеб легок, и вода иссякла в кранах. О, теневой, о, бедный встречный люд! Бидоны, санки. Стены в крупных ранах. И все ж мы жили. Мы рвались вперед. Мы верили, приняв тугую участь, Что за зимой идет весне черед. О, наших яростных надежд живучесть! Мы даже улыбались иногда. И мы трудились. Дни сменялись днями, О, неужели в дальние года Историк сдержанный займется нами? Что он найдет? Простой советский мир, Людей советских, что равны со всеми. Лишь воздух был иным… Но тут — Шекспир, Пожалуй, подошел бы к этой теме.1942
Ленинград
Александр Твардовский Переправа (Из «Книги про бойца» «Василий Теркин»)
Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда… Кому память, кому слава, Кому темная вода, — Ни приметы, ни следа. Ночью, первым из колонны, Обломав у края лед, Погрузился на понтоны Первый взвод. Погрузился, оттолкнулся И пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся Третий следом за вторым. Как плоты, пошли понтоны, Громыхнул один, другой Басовым железным тоном, Точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, Притаив штыки в тени, И совсем свои ребята Сразу — будто не они, Сразу будто не похожи На своих, на тех ребят: Как-то все дружнее, строже, Как-то все тебе дороже И родней, чем час назад… Поглядеть — и впрямь — ребята! Как, по правде, желторот, Холостой ли он, женатый, Этот стриженый народ. Но уже идут ребята, На войне живут бойцы, Как когда-нибудь в двадцатом Их товарищи — отцы. Тем путем идут суровым, Что и двести лет назад Проходил с ружьем кремневым Русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, Возле их мальчишьих глаз Смерть в бою свистела часто. И минет ли в этот раз? Налегли, гребут, потея, Управляются с шестом, А вода ревет правее — Под подорванным мостом. Вот уже на середине Их относит и кружит… А вода ревет в теснине, Жухлый лед в куски крошит, Меж погнутых балок фермы Бьется в пене и в пыли… А уж первый взвод, наверно, Достает шестом земли, Позади шумит протока, И кругом — чужая ночь. И уже он так далеко, Что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, За холодною чертой, Неподступный, непочатый Лес над черною водой. Переправа, переправа! Берег правый, как стена… Этой ночи след кровавый В море вынесла волна. Было так: из тьмы глубокой, Огненный взметнув клинок, Луч прожектора протоку Пересек наискосок. И столбом поставил воду Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд, Густо было там народу — Наших стриженых ребят… И увиделось впервые, Не забудется оно: Люди теплые, живые Шли на дно, на дно, на дно… Под огнем неразбериха — Где свои, где кто, где связь? Только вскоре стало тихо,— Переправа сорвалась. И покамест неизвестно, Кто там робкий, кто герой, Кто там парень расчудесный, А наверно, был такой. Переправа, переправа… Темень, холод. Ночь как год. Но вцепился в берег правый, Там остался первый взвод. И о чем молчат ребята В боевом родном кругу, Словно чем-то виноваты, Кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу. За ночь грудою взялась Пополам со льдом и снегом Перемешанная грязь. И усталая с похода, Что б там ни было, — жива, Дремлет, скорчившись, пехота, Сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись пехота, И в лесу, в ночи глухой Сапогами пахнет, потом, Мерзлой хвоей и махрой. Чутко дышит берег этот Вместе с теми, что на том, Под обрывом ждут рассвета, Греют землю животом, — Ждут рассвета, ждут подмоги, Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги Ни вперед и ни назад… А быть может, там с полночи Порошит снежок им в очи, И уже давно Он не тает в их глазницах И пыльцой лежит на лицах — Мертвым все равно. Стужи, холода не слышат, Смерть за смертью не страшна, Хоть еще паек им пишет Первой роты старшина. Старшина паек им пишет, А по почте полевой Не быстрей идут, не тише Письма старые домой, Что еще ребята сами На привале при огне Где-нибудь в лесу писали Друг у друга на спине… Из Рязани, из Казани, Из Сибири, из Москвы — Спят бойцы. Свое сказали И уже навек правы. И тверда, как камень, груда, Где застыли их следы… Может — так, а может — чудо? Хоть бы знак какой оттуда, И беда б за полбеды. Долги ночи, жестки зори В ноябре — к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре Над холодною водой. То ли снится, то ли мнится, Показалось что невесть, То ли иней на ресницах, То ли вправду что-то есть? Видят — маленькая точка Показалась вдалеке: То ли чурка, то ли бочка Проплывает по реке? — Нет, не чурка и не бочка — Просто глазу маета. — Не пловец ли одиночка? — Шутишь, брат. Вода не та! — Да, вода… Помыслить страшно, Даже рыбам холодна. — Не из наших ли вчерашних Поднялся какой со дна? Оба разом присмирели. И сказал один боец: — Нет, он выплыл бы в шинели, С полной выкладкой, мертвец. Оба здорово продрогли, Как бы ни было, — впервой. Подошел сержант с биноклем. Присмотрелся: нет, живой. — Нет, живой. Без гимнастерки. — А не фриц? Не к нам ли в тыл? — Нет. А может, это Теркин? — Кто-то робко пошутил. — Стой, ребята, не соваться, Толку нет спускать понтон. — Разрешите попытаться? — Что пытаться! — Братцы, — он! И у заберегов корку Ледяную обломав, Он как он, Василий Теркин, Встал живой, — добрался вплавь, Гладкий, голый, как из бани, Встал, шатаясь тяжело. Ни зубами, ни губами Не работает — свело. Подхватили, обвязали, Дали валенки с ноги. Пригрозили, приказали — Можешь, нет ли, а беги. Под горой, в штабной избушке, Парня тотчас на кровать Положили для просушки, Стали спиртом растирать. Растирали, растирали… Вдруг он молвит, как во сне. — Доктор, доктор, а нельзя ли Изнутри погреться мне, Чтоб не все на кожу тратить? Дали стопку — начал жить, Приподнялся на кровати: — Разрешите доложить… Взвод на правом берегу Жив-здоров назло врагу! Лейтенант всего лишь просит Огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем Встанем, ноги разомнем. Что там есть, перекалечим, Переправу обеспечим… Доложил по форме, словно Тотчас плыть ему назад. — Молодец, — сказал полковник, — Молодец! Спасибо, брат… И с улыбкою неробкой Говорит тогда боец: — А еще нельзя ли стопку, Потому как молодец? Посмотрел полковник строго, Покосился на бойца. — Молодец, а будет много — Сразу две. — Так два ж конца… Переправа, переправа! Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле.1942
Западный фронт
Алексей Фатьянов Соловьи
Пришла и к нам на фронт весна, Солдатам стало не до сна,— Не потому, что пушки бьют, А потому, что вновь поют, Забыв, что здесь идут бои, Поют шальные соловьи. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят!.. Но что война для соловья — У соловья ведь жизнь своя. Не спит солдат, припомнив дом И сад зеленый над прудом, Где соловьи всю ночь поют, А в доме том солдата ждут. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят!.. Ведь завтра снова будет бой. Уж так назначено судьбой, Чтоб нам уйти, не долюбив, От наших жен, от наших нив, Но с каждым шагом в том бою Нам ближе дом в родном краю. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят!.. Немного пусть поспят…1942
Сергей Хмельницкий «Над водой балтийской стелется дым…»
Посвящается А. Л.
Над водой балтийской стелется дым, Стреляет в туман Кронштадт. Стальными утесами из воды Разбитый встает «Марат». И дыханьем своих громадных труб, Огнем своих батарей — «Я жив!» — этот серый железный труп Стране говорит своей. Военной ночи обширная мгла Окутала город, и Русь Одна только в памяти так светла, Что темным себе кажусь. Война, опалившая отчий край, Ты ее не темни лица! Ты стужи мне долю ее отдай, И голода, и свинца! Кронштадт закутался в ночь, как в дым Над морем огни не горят. Сереющим островом из воды Бессмертный встает «Марат».1942
Ленинград
Леонид Шершер Ветер от винта
Леонид Шершер (род. в 1916 г.) с августа 1941 г. — сотрудник авиационной газеты «За правое дело». Участвовал в боевых вылетах в качестве стрелка-радиста. Погиб 30 августа 1942 г. в полете.
Как давно нам уже довелось фронтовые петлицы Неумелой рукой к гимнастерке своей пришивать. Золотые, привыкшие к синему птицы По защитному небу легко научились летать. Хоть клянусь не забыть — может, все позабуду на свете, Когда час вспоминать мне о прожитых днях подойдет, Не смогу лишь забыть я крутой и взволнованный ветер От винта самолета, готового в дальний полет. Не сумею забыть этот ветер тревожной дороги, Как летит он, взрываясь над самой моей головой, Как в испуге ложится трава молодая под ноги И деревья со злостью качают зеленой листвой. Фронтовая судьба! Что есть чище и выше на свете… Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдает Бескорыстный, прямой, удивительной ясности ветер От винта самолета, готового в дальний полет. Тот, кто раз ощущал его сердцем своим и душою, Тот бескрылым не сможет ходить никогда по земле, Тот весь век называет своею счастливой звездою Пятикрылые звезды на синем, как небо, крыле. И куда б ни пошел ты — он всюду проникнет и встретит, Он могучей рукою тебя до конца поведет, Беспощадный, упрямый в своем наступлении ветер От винта самолета, готового в дальний полет. Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза, Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог, Если б знал, что сумею забыть до последнего часа Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог. А когда я умру и меня повезут на лафете, Как при жизни, мне волосы грубой рукой шевельнет Ненавидящий слезы и смерть презирающий ветер От винта самолета, идущего в дальний полет.1942
Вадим Шефнер Зеркало
Как бы ударом страшного тарана Здесь половина дома снесена, И в облаках морозного тумана Обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят О прежней жизни, мирной и простой, Но двери всех обрушившихся комнат, Раскрытые, висят над пустотой. И пусть я все забуду остальное — Мне не забыть, как, на ветру дрожа, Висит над бездной зеркало стенное На высоте шестого этажа. Оно каким-то чудом не разбилось. Убиты люди, стены сметены,— Оно висит, судьбы слепая милость, Над пропастью печали и войны. Свидетель довоенного уюта, На сыростью изъеденной стене. Тепло дыханья и улыбку чью-то Оно хранит в стеклянной глубине. Куда ж она, неведомая, делась, Иль по дорогам странствует каким Та девушка, что в глубь его гляделась И косы заплетала перед ним?.. Быть может, это зеркало видало Ее последний миг, когда ее Хаос обломков камня и металла, Обрушась вниз, швырнул в небытие. Теперь в него и день и ночь глядится Лицо ожесточенное войны. В нем орудийных выстрелов зарницы И зарева тревожные видны. Его теперь ночная душит сырость, Слепят пожары дымом и огнем. Но все пройдет. И что бы ни случилось — Враг никогда не отразится в нем!1942
Ленинград
Марк Шехтер Звезда над землянкой
И вдруг почудилось, что где-то На ту же ты глядишь звезду И ждешь до самого рассвета, Что завтра я домой приду. А мне — солдату — захотелось С той дальней заглянуть звезды В жилье, где нам недолго пелось, В далекой юности сады…1942
Степан Щипачев Поединок
Из камня высекут — и на века Останется с гранатою рука. Танк все сминает на своем пути, Но встал боец — и танку не пройти. Рванулось пламя красное под ним, Танк зарычал, оделся в черный дым. А в серой каске русский паренек Стер пот со лба: «Горячий был денек».1942
Александр Яшин Обстрел
Снаряд упал на берегу Невы, Швырнув осколки и волну взрывную В чугунную резьбу, На мостовую… С подъезда ошарашенные львы По улице метнулись врассыпную. Другой снаряд ударил в особняк — Атланты грохнулись у тротуара; Над грудой пламя вздыбилось, как флаг, Труба печная подняла кулак, Грозя врагам неотвратимой карой. Еще один — в сугробы, на бульвар, И снег, как магний, вспыхнул за оградой. Откуда-то свалился самовар. Над темной башней занялся пожар. Опять пожар! И снова вой снаряда. Куда влетит очередной, крутясь?.. Враги из дальнобойных бьют орудий. Смятенья в нашем городе не будет: Шарахаются бронзовые люди, Живой проходит, не оборотясь.1942
Балтика
1943
Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю — и нет справедливости Справедливее пули моей! Михаил СветловВсеволод Азаров «В этой комнате все не мое…»
В этой комнате все не мое: Стол треногий, чужая кровать. Только стопочкой книги, белье, Долго ль с вами еще кочевать? А на книгах — твой давний портрет, Юга, юности нежной черты. Улыбаешься мне столько лет Девятнадцатилетняя ты. Ты со мной под обстрелом была, Приходила в голодную тьму, Вдохновляла, жалела, вела, Чтобы легче шагать одному. Тридцать лет тебе, тридцать и мне, В черном волосе белая нить Не от старости, мы на войне, Мы еще только начали жить!1943
Ленинград
Захар Городисский «Если мне смерть повстречается близко…»
Захар Городисский (род в 1923 г.), тяжело раненный, скончался в полевом госпитале в 1943 г. Публикуемое стихотворение, последнее из написанного молодым, поэтом, появилось в его блокноте за три дня до смерти.
Если мне смерть повстречается близко И уложит с собою спать, Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский В боях не привык отступать, Что он, нахлебавшись смертельного ветра, Упал не назад, а вперед, Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра Вошли в завоеванный счет.9 августа 1943
Николай Грибачев Иду!
Взметая пыль и жаром обдавая, Опять с утра ворчит передовая, Проламывает блиндажи и доты, Где чернозем с железом пополам. Два года здесь я, офицер пехоты, И как я жив — не понимаю сам. Мой путь лежал над прорезью прицела, В моей шинели смерть навылет пела. И думаю я на исходе дня: Чья нежность душу навсегда согрела И чья любовь хранит в бою меня? Не женщины. Я не поладил с ними, Вздохнув тайком, завидую другим. С упрямством и причудами моими Недолго был я женщиной любим. И та одна, что в горький час разлуки На шею нежно положила руки, Остыла, видно, пишет в месяц раз По дюжине скупых и скучных фраз. Не поняла она, что в годы бед, Когда весь мир качает канонада, И тяжело, и рядом друга нет, — Сильней любить, сильнее верить надо, Что там, где, стоны, смерть и ярость сея, Осколки осыпаются дождем, Мы нашу нежность бережем сильнее, Чем пулю в окруженье бережем, Что, как молитву, шепчем это имя Губами воспаленными своими В часы, когда окоп накроет мгла. Не поняла она… Не поняла! Забыла все, ушла с другим, быть может, И росы в травах размывают след. Зачем ее мне письмами тревожить И звать назад, когда в том смысла нет? Зачем кричать в немыслимые дали? Мой голос до нее дойдет едва ли, И лишь с предутренней передовой Ему ответит пулеметный вой. Я здесь один с невысказанной болью — И я молчу. А над моей любовью Растет бугор окопного холма. Не получать письмá мне перед боем И после боя не писать письмá, Не ощутить во сне прикосновенья Ее заботливых и теплых рук. Любовь моя, теперь ты — только звук, Почти лишенный смысла и значенья… Еще на сердце каждого из нас Есть облик женщины. И в трудный час Он нам напоминает дом и детство, Веселых братьев за столом соседство И ласку добрых и усталых глаз. То — мать. Всесильно слово матерей, В туман высот, в глубины всех морей Оно за нами следует по свету. Но мать осталась там… И может, нету На свете старой матери моей. Все в гости нас она к себе ждала, Все в дом родной, в село к себе звала, Настойки в старом погребе хранила. Война фронтами нас разъединила, Судьба нам попрощаться не дала. Но есть еще одна святая сила. Она меня любовью осенила, Благословение дала свое — Не женщина, не смертная — Россия, Великое отечество мое. Куда б ни шел — она мне путь укажет, Где б ни был я — она всегда со мной, На поле боя раны перевяжет И жажду утолит в палящий зной; Она ко мне в часы моей печали, Метет ли снег, ложится ли роса, Все песни, что над юностью звучали, И всех друзей доносит голоса. И если за какой-то переправой Уже мне не подняться, не вздохнуть, Она своею выстраданной славой Среди других и мой отметит путь. К ее любви, широкой, доброй, вечной, Всей жизнью мы своей обращены, И не найти мне на полях войны Ни теплоты щедрей и человечней, Ни преданнее друга и жены. И я, покамест смерть не погасила В моих глазах последнюю звезду, — Я твой солдат, твоих приказов жду. Веди меня, Советская Россия, На труд, на смерть, на подвиг — я иду!1943
Фронт
Юлия Друнина
«Я только раз видала рукопашный…»
Я только раз видала рукопашный. Раз — наяву. И тысячи — во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.1943
Фронт
«Контур леса выступает резче…»
Контур леса выступает резче. Вечереет. Начало свежеть. Запевает девушка-разведчик, Чтобы не темнело в блиндаже. Милый! Может, песня виновата В том, что я сегодня не усну? Словно в песне, мне приказ — на запад, А тебе — «в другую сторону». За траншеей — вечер деревенский. Звезды и ракеты над рекой… Я грущу сегодня очень женской, Очень несолдатскою тоской.1943
Вера Инбер Ленин
Он не украшен свежими цветами, Ни флагов, ни знамен вокруг него, — Укрытый деревянными щитами, Стоит сегодня памятник его. Он мог бы даже показаться мрачным, Но и сквозь деревянные щиты, Как будто стало дерево прозрачным, Мы видим дорогие нам черты. И ленинских бессмертных выступлений Знакомый жест руки, такой живой, Что хочется сказать: «Товарищ Ленин, Мы здесь, мы отстояли город твой». Лавиною огня и русской стали Враг будет и отброшен и разбит. Мы твой великий город отстояли, — Мы сами встали перед ним, как щит. И близится желанное событье, Когда тебя опять со всех сторон Взамен глухого, темного укрытья Овеет полыхание знамен. Ты будешь вновь приветствиями встречен, Как возвратившийся издалека. И вновь, товарищ Ленин, с краткой речью Ты обратишься к нам с броневика. Все захотят на площади собраться, И все увидят жест руки живой, И все услышат: «Слава ленинградцам За то, что отстояли город свой!»Январь 1943
Ленинград
Полина Каганова Трамвай № 28
Широкою стеной окопов Изрыт врагом передний край, А рядом, будто в землю вкопан, Стоит израненный трамвай. Без света, без колес, без окон, Покрытый ржавой пеленой, Вокруг него идет жестокий, Свирепый, неумолчный бой. Гремит гроза войны над Стрельной, Ракет взвиваются огни, Лишь ветер песней колыбельной Качает узкие ремни, Лишь солнца золотая каска Мелькает в скатке облаков, Как слезы, он роняет краску С крутых обугленных боков. В своем немом оцепененье Неслышно третий год стоит, И легких рук прикосновенье В себе, как память, он хранит. Те руки ласково сжимали Стальную руку рычага, Они безжизненно упали Под грозным натиском врага, И кровь вплелась венком багровым В колосья спелые волос, — Но продолжался бег суровый Осиротевших вдруг колес. И он в предутреннем тумане Пополз, вставая на дыбы, И грузно врезался тараном В полусгоревшие столбы, А ветер рвался зло и колко, Пургой и холодом дыша, И разлеталась на осколки Его железная душа. Так третий год среди окопов, Там, где врага передний край, Стоит, как будто в землю вкопан, Войной израненный трамвай. Но час придет, на рельсах снова Сверкнет оправа колеса — Об этом говорят сурово Орудий наших голоса.1943
Ленинград
Дмитрий Ковалев На ничьей земле
Над фиордами на сотни верст — Ветром оголенная скала. В холоде высот — Щепотка звезд. Ночь сияньем их заволокла. Страшное название «ничья» У земли меж двух передовых. Слышно замерзание ручья В стылой глубине, В камнях седых. Даже слышно, как молчат снега, Как скользит по ним небесный свет, И не слышно, словно нет врага. Неожиданности — словно нет… Гибель затаилась, не слышна. Кто погибнет — чувствует: близка. И невыносима тишина, И необходима для броска.1943
Борис Котов Последнее письмо
Борис Котов (род. в 1909 г.) весной 1942 г. ушел в армию и стал минометчиком в стрелковой части. Погиб смертью храбрых 29 сентября 1943 г. в бою на днепровском плацдарме. Борису Александровичу Котову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В полночь холодно, в полдень жарко, Ветер хочет всю пыль смести. Остается рабочий Харьков Вехой, пройденной на пути. Войны слева и войны справа, В центре — смертная карусель. И задумчивая Полтава Перед нами лежит, как цель. Плач старухи и крик девчурки На развалинах изб стоит. Я завидую ныне Шурке[5], Что в Донбассе ведет бои.22 августа, 1943
Михаил Луконин Фронтовые стихи
Если б книгу выдумывал я, Все б описал по-иному: Цвет крови на траве, Цвет крови на земле, на снегу, — Вид убитого парня на черном снегу, у разбитого дома. Что такое — ползти, наступать и стрелять по врагу. Если бы я назвал эту книгу «Фронтовыми стихами» И она превратилась бы в тонну угластых томов, То она пригодилась бы фронту: Глухими ночами Ею печь в блиндаже разжигал бы сержант Иванов. Вот он печь растопил, мой сержант Иванов, и не спится — Руки греет над ней, удивляется: ночи глухи! В белый парус снегов загляделась большая бойница, Месяц ходит вокруг. Это есть фронтовые стихи! Вот сержант Иванов письма пишет на противогазе: Как живет, где живет, что дела и харчи неплохи, Что пора бы домой, — ждешь меня? Обращаясь с наказом: Ты себя береги!.. Это есть фронтовые стихи! Вот сержант Иванов в атаку выводит пехоту. Сам в цепи. И бегут, выдвигая штыки. Пот стирает с лица Иванов (он устал от тяжелой работы), Улыбнулся друзьям. Это есть фронтовые стихи! Вот Иваново-город. Снег идет. Темновато. В клубе «Красная Талка» — собранье. Ткачихи тихи. Иванова, ткачиха, читает письмо от сержанта, Все встают и поют. Это вот — фронтовые стихи! Фронтовые стихи — это чувство победы, такое, Что идут и идут неустанно на подвиг и труд, Все — туда, где земля стала полем последнего боя. Иногда умирают там. Главное — это живут!1943
Михаил Львов «Чтоб стать мужчиной — мало им родиться…»
Чтоб стать мужчиной — мало им родиться, Чтоб стать железом — мало быть рудой: Ты должен переплавиться. Разбиться. И, как руда, пожертвовать собой. Готовность к смерти — тоже ведь оружье. И ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, И потому живут в веках они.1941–1943
Григорий Люшнин Гайка
Бейте, бейте шомполами, — Все равно не закричу! На решетке, сжав зубами, Гайку ржавую верчу, На свободе быть хочу! Вот она, друзья, смотрите! До нее подать рукой, И я знаю, как мне выйти В мир из камеры сырой, Хоть и смотрит часовой. Смотрит, грубо окликая, С вышки пули сыплет вниз. Есть ли сила в нем такая Задержать меня — не знаю. Я ведь гайку перегрыз.1943
Концлагерь
Ней-Бранденбург
Марк Максимов Баллада о часах
Мы немца в полночь навестить хотели. Разведчик сверил время. И — в седло! Следы подков запрыгали в метели, И подхватило их, и — понесло… Но без него вернулся конь сначала, а после — мы дошли до сосняка, где из сугроба желтая торчала с ногтями почернелыми рука. Стояли сосны, словно часовые. И слушали мы, губы закусив, как весело — по-прежнему живые — шли на руке у мертвого часы. И взводный снял их. Рукавом шершавым сердито льдинки стер с небритых щек и пальцем — влево от часов и вправо — разгладил на ладони ремешок. — Так, значит, в полночь, хлопцы! Время сверьте!.. И мы впервые поняли в тот час, как просто начинается бессмертье, когда шагает время через нас!1943
Немецкий тыл
Михаил Матусовский Баллада о танке капитана Половчини
Тяжелый танк вступает в бой… Он обгоняет пламя, Мостя дорогу за собой Фашистскими телами. Как мертвецов на берега Выносит в час прибоя, Их смерть бросает на снега В застывших позах боя. Вот этот лег, упав вперед, — Пришла к нему расплата: Землей набит открытый рот, Земля в руке зажата… …Но танк уже исчез в дыму. Где след его найдете? Враги подобрались к нему На трудном повороте. Мотор заглох как неживой, И, пользуясь моментом, Его накрыли с головой Пылающим брезентом. Но чтоб не думали враги, Что сдастся он без боя, Водитель сдвинул рычаги Слабеющей рукою. Танкистов мучила жара, И немцам страшно стало, Когда пошла на них гора Горящего металла. Он взял рубеж рывком одним, Он шел неудержимо. Летели по ветру за ним Седые космы дыма… Отброшен враг, огонь погас, И бой притих в долине. Из уст в уста идет рассказ О танке Половчини. Он возникает тут и там Как мститель в самой гуще, И настигает капитан Идущих и бегущих. Клубится в поле снежный прах На узком перекрестке. Трещат у танка на зубах Машины и повозки. Он через рвы летит вперед — В глазах мелькают пятна. И землю ту, что он берет, Он не отдаст обратно. Ты различишь его в огне По свету славы вечной, По насеченной на броне Звезде пятиконечной.1943
Северо-Западный фронт
Алексей Недогонов «Говорят, что степень зрелости…»
Говорят, что степень зрелости: примерять, прикидывать, чтоб остаться в цельной целости, чтобы виды видывать. Я всегда в глаза завидовал тем, кто мог прикидывать, но потом в душе прикидывал: стоит ли завидовать? Если случаем положено, то яснее ясности — жизнь солдат не отгорожена от беды-опасности. Сокрушаться, братцы, нечего: смерть в бою сговорчива, — люди метой не помечены, пуля неразборчива. Пуля-дура скосит каждого — петого, отпетого… Говорят — ни капли страшного, если все неведомо. Если свистнет во мгновение, вспомнишь ли заранее матушки благословение, женки заклинание?.. Для солдата степень зрелости: это — жить душой без хворости, на крутой звериной смелости, на любой проклятой скорости. На движении рискованном, на ночном совином зрении, на бессмертном, бронированном танковом ожесточении…1943
Борис Пастернак Смерть сапера
Мы время по часам заметили И кверху поползли по склону. Вот и обрыв. Мы без свидетелей У края вражьей обороны. Вот тáм она, и там, и тýт она — Везде, везде до самой кручи. Как паутиною, опутана Вся проволокою колючей. Он наших мыслей не подслушивал И не заглядывал нам в душу. Он из конюшни вниз обрушивал Свой бешеный огонь по Зуше. Прожекторы, как ножки циркуля, Лучом вонзались в коновязи. Прямые попаданья фыркали Фонтанами земли и грязи. Но чем обстрел дымил багровее, Тем равнодушнее к осколкам, В спокойствии и хладнокровии Работали мы тихомолком. Со мною были люди смелые. Я знал, что в проволочной чаще Проходы нужные проделаю Для битвы, завтра предстоящей. Вдруг одного сапера ранило. Он отползал от вражьих линий, Привстал, и дух от боли заняло, И он упал в густой полыни. Он приходил в себя урывками, Осматривался на пригорке И щупал место под нашивками На почерневшей гимнастерке. И думал: глупость, оцарапали, И он отвалит от Казани К жене и детям вверх, к Сарапулю, — И вновь и вновь терял сознанье. Все в жизни может быть издержано, Изведаны все положенья, Следы любви самоотверженной Не подлежат уничтоженью. Хоть землю грыз от боли раненый, Но стонами не выдал братьев, Врожденной стойкости крестьянина И в обмороке не утратив. Его живым успели вынести. Час продышал он через силу. Хотя за речкой почва глинистей, Там вырыли ему могилу. Когда, убитые потерею, К нему сошлись мы на прощанье, Заговорила артиллерия В две тысячи своих гортаней. В часах задвигались колесики. Проснулись рычаги и шкивы. К проделанной покойным прóсеке Шагнула армия прорыва. Сраженье хлынуло в пробоину И выкатилось на равнину, Как входит море в край застроенный, С разбега проломив плотину. Пехота шла вперед маршрутами, Как их располагал умерший. Поздней немногими минутами Противник дрогнул у Завершья. Он оставлял снарядов штáбели, Котлы дымящегося супа, Все, что обозные награбили, Палатки, ящики и трупы. Потом дорогою завещанной Прошло с победами все войско. Края расширившейся трещины У Криворожья и Пропойска. Мы оттого теперь у Гомеля, Что на поляне в полнолунье Своей души не экономили В пластунском деле накануне. Жить и сгорать у всех в обычае, Но жизнь тогда лишь обессмертишь, Когда ей к свету и величию Своею жертвой путь прочертишь.Декабрь 1943
Виссарион Саянов «Что мы пережили, расскажет историк…»
Что мы пережили, расскажет историк, Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек. Да чтó там! Сравнения ввек не найти, Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти! Сидели в траншеях, у скатов горбатых Бойцы в маскировочных белых халатах. Гудели просторы военных дорог, Дружили со мною сапер и стрелок. Ведь я — их товарищ, я — их современник И зимнею ночью, и в вечер весенний Хожу по дорогам, спаленным войной, С наганом и книжкой моей записной, С полоской газеты, и с пропуском верным, И с песенным словом в пути беспримерном. Я голос услышал, я вышел до света, А ночь батарейным огнем разогрета, Синявино, Путролово, Березáнье, Ведь это не просто селений названья, Не просто отметки на старой трехверстке — То опыт походов, суровый и жесткий, То школа народа, — и счастье мое, Что вместе с бойцами прошел я ее.1943
Волховский фронт
Михаил Светлов Итальянец
Черный крест на груди итальянца, — Ни резьбы, ни узора, ни глянца, Небогатым семейством хранимый И единственным сыном носимый… Молодой уроженец Неаполя! Что оставил в России ты нá поле? Почему ты не мог быть счастливым Над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, Так мечтал о вулкане далеком! Как я грезил на волжском приволье Хоть разок прокатиться в гондоле! Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето, Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля! Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, Где собой и друзьями гордился, Где былины о наших народах Никогда не звучат в переводах. Разве среднего Дона излучина Иностранным ученым изучена? Нашу землю — Россию, Расею — Разве ты распахал и засеял? Нет! Тебя привезли в эшелоне Для захвата далеких колоний, Чтобы крест из ларца из фамильного Вырастал до размеров могильного… Я не дам свою родину вывезти За простор чужеземных морей! Я стреляю — и нет справедливости Справедливее пули моей! Никогда ты здесь нé жил и нé был!.. Но разбросано в снежных полях Итальянское синее небо, Застекленное в мертвых глазах…1943
Юрий Севрук Журавли
Юрий Севрук (род в 1912 г.) — литературный критик, перед войной — сотрудник журнала «Знамя». В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Погиб 16 сентября 1944 г. под Выру (Эстония), выполняя задание редакции фронтовой газеты; материалы о нем хранятся в школьном музее г. Выру.
Высоко над ямами и рвами Раненой, истерзанной земли, Вешний воздух бороздя крылами, Через фронт летели журавли. Словно стая наших самолетов Проплыла равниной голубой, Немцы из зенитных пулеметов Прострочили небо над собой. Не несет весна удачи фрицам, Дни идут, а наш напор жесток. Вот и позавидовали птицам, Их прямой дороге на восток. Прямо к солнцу поднимаясь круто, Вражьему огню наперерез, Пронеслись, не изменив маршрута, Вольные кочевники небес. Улыбаясь, мы на птиц взглянули. Не для них наш припасен свинец: Немцу предназначенную пулю В журавля не выпустит боец. Пусть себе кочуют на свободе И приветным криком говорят: «С доброй вестью к вам весна приходит, С доброй вестью журавли летят!» От врага опять ушла добыча. Скрылись в затуманенной дали, Громко, торжествующе курлыча, Трубачи победы — журавли.19 апреля 1943
Сергей Смирнов Лето сорок третьего
И у нас на фронте тоже лето, Дым, стрельба да марево вдали. Вся земля в защитный цвет одета. На цветах качаются шмели. А в лесу, где притаились пушки, Где росинки бисером висят, Обитают зычные кукушки И кукуют раз по пятьдесят…1943
Сергей Спасский Из цикла «Зимние ямбы»
Забудет город про свои лишенья, Оправятся разбитые дома. Вот этот мост был некогда мишенью, Над площадью господствовала тьма. И яростные прыгали зенитки, Размахивая вспышками огней, Здесь жизнь людей казалась тоньше нитки, Порвется, только прикоснешься к ней. Здесь сад был в ледяной броне. По краю Его я брел, неся домой еду. А тут я вдруг подумал: «Умираю». А умереть нельзя. И я дойду. Но майской ночью в бестревожном свете Над медленно скользящею водой Другие люди, может, наши дети, Пройдут своей походкой молодой. Они не вспомнят нас, и будут правы, Поглощены волнением своим. Что ж, на земле мы жили не для славы. Мы гибли, чтоб легко дышалось им.1943
Георгий Суворов «Пришел и рухнул, словно камень…»
Георгий Суворов (род. в 1919 г.) участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда, погиб в дни наступления при переправе через реку Нарву 13 февраля 1944 г.; полевая сумка лейтенанта Суворова хранится в музее боевой славы в г. Нарве.
Пришел и рухнул, словно камень, Без сновидений и без слов, Пока багряными лучами Не вспыхнули зубцы лесов, Покамест новая тревога Не прогремела надо мной, Дорога, дымная дорога — Из боя в бой, из боя в бой…1943
Алексей Сурков Жизнь и мечта
Умолкнет гром, пройдут года, Мы постареем вдвое, втрое, И будет сложена тогда Легенда-сказка о герое. Как шел он, не жалея сил, Против жестокого теченья И в смертный час произносил Высокопарные реченья, Как предавался он мечте В ночи, перед кровавой сшибкой… Мы будем слушать сказки те С веселой старческой улыбкой. Ведь мы к героям тех годин В землянки запросто входили, И ели с ними хлеб один, И из одной баклажки пили. Без нимба светлого на лбу, Глотая пыль, топча порошу, Они несли свою судьбу, Как кирпичей тяжелых ношу. Таскали сумки на горбах, Со смертью в прятки не играли И с грубым словом на губах, Когда случалось, умирали. Их явь и их ночные сны Цвели цитатами едва ли. А вот судьбу своей страны Они в обиду не давали. Пусть их прикрасят — не беда. Воображенье любит мощи. А человечья жизнь всегда Была грязней, святей и проще.1943
Харьков
Иосиф Уткин
Иосиф Уткин Иосиф Уткин (род. в 1903 г.) в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Погиб во тремя авиационной катастрофы в 1941 г., возвращаясь в Москву с фронта.
Ты пишешь письмо мне
На улице полночь. Свеча догорает. Высокие звезды видны. Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, В пылающий адрес войны. Как долго ты пишешь его, дорогая, Окончишь и примешься вновь. Зато я уверен: к переднему краю Прорвется такая любовь. …Давно мы из дома. Огни наших комнат За дымом войны не видны. Но тот, кого любят, Но тот, кого помнят, Как дома — и в дыме войны! Теплее на фронте от ласковых писем. Читая, за каждой строкой Любимую видишь И родину слышишь, Как голос за тонкой стеной… Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю. И время такое придет: Останутся грусть и разлука за дверью, А в дом только радость войдет. И как-нибудь вечером, вместе с тобою, К плечу прижимаясь плечом, Мы сядем и письма, как летопись боя, Как хронику чувств, перечтем…1943
Пейзаж
Полей предвечерняя небыль, Похода размеренный шаг; Пыля, пробирается в небо Войны бесконечный большак. Белеет старинная церковь Над тихой и мирной рекой. На куполе медленно меркнет Степного заката покой. Но с мирной природою в споре, Как грозного времени тень, Чернеет народное горе Спаленных войной деревень. Чернеет и справа и слева… И слышно, как там, впереди, Огонь орудийного гнева Горит у России в груди!1943
Николай Ушаков На переднем крае обороны
Ни куста, ни стога, ни вороны — черный камень, серая зола… На переднем крае обороны танк советский бомба обожгла. Он железной печкою пылает, он продут огнем, и потому лейтенант советский посылает радио майору своему. По переднему несется краю, слышат фронт и вся родная Русь: — Я горю, горю, но не сгораю! Я горю, горю, но не сдаюсь!1943
Георгий Ушков «У нас уже с деревьев на ветру…»
Георгий Ушков (род. в 1918 г.) погиб на фронте в 1944 г.
У нас уже с деревьев на ветру Ковром шушинским пала позолота, И голубой порошей поутру Затягивает желтые болота. Я гость здесь в этой хмурой стороне, Но, солнечный товарищ мой далекий, Мне с каждым днем становятся родней И эти непроезжие дороги, И трупы сломанных войной берез, И боль еще дымящихся развалин, И дети в них, печальные до слез, И деревень старинные названья. Товарищ мой, рассвет еще далек, Кусочек неба звездами украшен, В немецкой фляжке тлеет фитилек, И жадно спят бойцы, устав на марше. Еще немало дней нам глину мять, Шинелей не снимать в походе длинном, — Чтоб в стороне чужой чужая мать Меня, прижав к груди, назвала сыном.2 октября 1943
Западный фронт
Сергей Хмельницкий «К последнему, Уленька, я подошел рубежу…»
К последнему, Уленька, я подошел рубежу. Но стонет железо: «Найду его, спать уложу!» Нашло. Среди поля я лег. Обо мне не печалясь, Некошеных трав стебельки надо мною качались. Глядели очами незрячими травы в росе, Как длинный покойник лежит на ничьей полосе. И ты не дождешься. Но был я душой дивизьона, И я возвращусь. Я приду к тебе с Волги и с Дона, С Невы, отовсюду, где рать уцелела моя, И каждый, стуча, тебе скажет: «Открой, это я!» И ты, что была мне невестой, сестрой и женою, Открой свою душу для всех, кто сражался со мною.1943
Ленинград
(Из неоконченного романа «Завещанный путь»)
Владимир Чугунов Кукушка
Лейтенант Владимир Чугунов (род. в 1911 г.) погиб на Курской дуге, поднимая бойцов в атаку. На деревянном обелиске друзья написали: «Здесь похоронен Владимир Чугунов — воин — поэт — гражданин, павший пятого июля 1943 г.».
Над головою пуля просвистела; Шальная иль прицельная она? Но, как струна натянутая, пела Пронизанная ею тишина. Меня сегодня пуля миновала, Сердцебиенье успокоив мне, И тот же час в лесу закуковала Веселая кукушка на сосне. Хорошая народная примета: Нам жить столетья, пополам деля Всю ярость бурь и солнечного света, Все, чем богата русская земля.15 апреля 1943
Павел Шубин Полмига
Нет, Не до седин, Не до славы Я век свой хотел бы продлить, Мне б только до той вон канавы Полмига, полшага прожить; Прижаться к земле И в лазури Июльского ясного дня Увидеть оскал амбразуры И острые вспышки огня. Мне б только Вот эту гранату, Злорадно поставив на взвод, Всадить ее, Врезать, как надо, В четырежды проклятый дзот, Чтоб стало в нем пусто и тихо, Чтоб пылью осел он в траву! …Прожить бы мне эти полмига, А там я сто лет проживу!3 августа 1943
Юго-восточнее Мги
Александр Яшин «Что нам тысячи километров!..»
Что нам тысячи километров! Имя вслух мое назови — И домчится, как песня, с ветром До окопов голос любви. Я сквозь грохот тебя услышу, Сновиденье за явь приму. Хлынь дождем на шумную крышу, Ночью ставни открой в дому. Пуля свалит в степи багровой — Хоть на миг сдержи суховей, Помяни меня добрым словом, Стынуть буду — теплом повей. Появись, отведи туманы, Опустись ко мне на траву, Подыши на свежие раны — Я почувствую, оживу.1943
1944
Еще война. Но мы упрямо верим, Что будет день, — мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь раскроет двери, С рассветом новым встанет тишина. … … … … … … … … … … … … В воспоминаньях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней, — Свой добрый век мы прожили как люди — И для людей. Георгий СуворовВладимир Агатов Темная ночь
Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас губами! Темная ночь разделяет, любимая, нас, И тревожная, черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила… Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной ни случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи… Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, И поэтому знаю: со мной ничего не случится.1944
Иван Бауков Горит Варшава
Девятый день горит Варшава, Девятый день бойцы не спят, И галки красные пожара В ночи летят, летят, летят. И Висла, бледная от горя, Волной игривой не шумит, И древний Ян, нахмурив брови, На запад день и ночь глядит. В костеле догорают свечи, Рука застыла на груди. Усердно ксендз молитву шепчет, Взывает к господу: «Приди…» Но бог молчит, пылает запад, Лютует немец по ночам… И древний Ян снимает шляпу И земно кланяется нам. Полячки, ладные собою, На перекрестке двух дорог Взирают на бойцов с мольбою И шепчут: «Помоги вам бог». И дарят нам в тумане синем Цветы и ласку влажных глаз, — Для них солдаты из России Дороже братьев в этот час. А впереди горит Варшава, Вот так же, как горел Смоленск, И галки красные пожара Стремятся в почерневший лес. Проходят беженцы босые, Вокруг гремит орудий гром. Все так же, как вчера в России, Под Сталинградом, под Орлом.1944
Божа Воля
Александр Безыменский Я брал Париж!
Я брал Париж! Я. Кровный сын России. Я — Красной Армии солдат. Поля войны — свидетели прямые — Перед веками это подтвердят. Я брал Париж. И в этом нету чуда! Его твердыни были мне сданы! Я брал Париж издалека. Отсюда. На всех фронтах родной моей страны. Нигде б никто не вынес то, что было! Мечом священным яростно рубя, Весь, весь напор безумной вражьей силы Я принимал три года на себя. Спасли весь мир знамена русской славы! На запад пяля мертвые белки, Успели сгнить от Волги до Варшавы Фашистских армий лучшие полки. Ряды врагов редели на Ла-Манше. От стен Парижа снятые войска Пришли сюда сменить убитых раньше, Чтоб пасть самим от русского штыка. Тех, кто ушел, никем не заменили, А тех, кто пал, ничем не воскресишь! Так, не пройдя по Франции ни мили, Я проложил дорогу на Париж. Я отворял парижские заставы В боях за Днепр, за Яссы, Измаил. Я в Монпарнас вторгался у Митавы. Я в Пантеон из Жешува входил. Я шел вперед сквозь битвы грохот адов, И мой удар во фронт фашистских орд, Мой грозный шаг и гул моих снарядов Преображали Пляс-де-ля-Конкорд! И тем я горд, что в годы грозовые Мы золотую Францию спасли, Что брал Париж любой солдат России, Как честный рыцарь счастья всей земли. Во все века грядущей светлой жизни, Когда об этих днях заговоришь, Могу сказать я миру и отчизне: — Я брал Париж!1944
Яков Белинский Сербский язык
Твердил я сербского склады, Учил я сербский стих. Как сербские слова тверды, Как мало гласных в них. Но как в бою они звучат, Тогда лишь ты поймешь, Когда в штыки идет отряд, По-сербскому — «на нож». Я понял трудный их язык, Народа дух открыв, Язык, разящий точно штык: Срб. Смрт. Крв.1944
Борис Лихарев Камень
Он выщерблен ветром, Облизан метелью, Он голый и синий, как лед, Все камень да камень, Он был нам постелью Средь этих полярных широт. Все камень да камень, От Западной Лицы До моря лишь камни видны. Ни дома, ни дыма, Ни зверя, ни птицы: Куда ни взгляни — валуны. Из них мы себе Воздвигали жилище. А с полюса хлынет зима — И вьюга заплачет, Застонет, засвищет, И стужа нагрянет и тьма. Но градом по камню Ударили пули, От грома качнулась гора, Мы с камня поднялись, По камню шагнули, Когда нам настала пора. Об этом словами Не скажешь сегодня, Об этом лишь буря гремит. И те, кто остались В той преисподней, Не в землю легли, А в гранит. Его мы запомним В краю невесёлом: Блестит он в полярной ночи, — Все камень да камень, Холодный и голый… — Мы тверже, чем камень, Молчи!1944
Карельский фронт
Всеволод Лобода Начало
Всеволод Лобода (род. в 1919 г.) погиб 18 октября 1944 г. в Латвии, в районе г. Добеле.
Лес раскололся тяжело, Седой и хмурый. Под каждым деревом жерло Дышало бурей… Стволам и людям горячо, Но мы в азарте. Кричим наводчикам: «Еще, Еще ударьте!..» Дрожит оглохшая земля. Какая сила Ручьи, и рощи, и поля Перемесила! И вот к победе прямиком За ротой рота То по-пластунски, то бегóм Пошла пехота.13 сентября 1944 г.
Михаил Луконин Приду к тебе
Ты думаешь: Принесу с собой Усталое тело свое. Сумею ли быть тогда с тобой Целый день вдвоем? Захочу рассказать о смертном дожде, Как горела трава, А ты — и ты жила в беде, Тебе не нужны слова. Про то, как чудом выжил, начну, Как смерть меня обожгла. А ты — ты в ночь роковую одну Волгу переплыла. Спеть попрошу, а ты сама Забыла, как поют. Потом меня сведет с ума Непривычный уют: Будешь к завтраку накрывать, А я усядусь в углу, Начнешь, как прежде, стелить кровать, А я усну на полу. Потом покоя тебя лишу, Вырою щель у ворот, Ночью, вздрогнув, тебя спрошу: — Стой! Кто идет?! Нет, не думай, что так приду. В этой большой войне Мы научились ломать беду, Работать и жить вдвойне. Не так вернемся мы! Если так, То лучше не приходить. Придем — работать, курить табак, В комнате начадить. Не за благодарностью я бегу — Благодарить лечу. Все, что хотел, я сказал врагу, Теперь работать хочу. Не за утешеньем — утешать Переступлю порог. То, что я сделал, к тебе спеша, Не одолженье, а долг. Друзей увидеть, в гостях побывать, И трудно и жадно жить. Работать — в кузницу, спать — в кровать. Стихи про любовь сложить. В этом зареве ветровом Выбор был небольшой. Но лучше прийти с пустым рукавом, Чем с пустой душой.1944
Михаил Львов Высота
М. Фомичеву
Комбату приказали в этот день Взять высоту и к сопкам пристреляться. Он может умереть на высоте, Но раньше должен на нее подняться. И высота была взята, И знают уцелевшие солдаты — У каждого есть в жизни высота, Которую он должен взять когда-то. А если по дороге мы умрем, Своею смертью разрывая доты, То пусть нас похоронят на высотах, Которые мы все-таки берем.1944
Александр Межиров Ладожский лед
Страшный путь! На тридцатой, последней версте Ничего не сулит хорошего… Под моими ногами устало хрустеть Ледяное ломкое крошево. Страшный путь! Ты в блокаду меня ведешь, Только небо с тобой, над тобой высóко. И нет на тебе никаких одёж: Гол как сокол. Страшный путь! Ты на пятой своей версте Потерял для меня конец, И ветер устал над тобой свистеть. И устал грохотать свинец… Почему не проходит над Ладогой мост?! Нам подошвы невмочь ото льда отрывать. Сумасшедшие мысли буравят мозг: Почему на льду не растет трава?! Самый страшный путь из моих путей! На двадцатой версте как я мог идти! Шли навстречу из города сотни детей… Сотни детей! Замерзали в пути… Одинокие дети на взорванном льду — Эту теплую смерть распознать не могли они сами, — И смотрели на падающую звезду Непонимающими глазами. Мне в атаках не надобно слово «вперед», Под каким бы нам ни бывать огнем — У меня в зрачках черный ладожский лед, Ленинградские дети лежат на нем.1944
Александр Ойслендер Высадка десанта
Шел головным торпедный катер, — И берег, пушки наклоня, Вдруг оживал, как дымный кратер От извержения огня. Но, зачерпнув воды с разлета, Всю ночь, быть может, до утра, Сквозь эти чертовы ворота Врывались в бухту катерá. И страшно было небосводу Смотреть на то, как моряки, Бросаясь в огненную воду, Держали шаткие мостки, Чтобы советская пехота Сухою на берег сошла И, выкорчевывая доты, Дорогу верную нашла. Как прежде, мины шелестели, В глухом ущелье ветер выл — И раненые не хотели Эвакуироваться в тыл. И даже мертвые, казалось, Уже не сдали б ни за что Ту пядь, что с кровью их смешалась На отвоеванном плато!1944
Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной…»
Его зарыли в шар земной, А был он лишь солдат, Всего, друзья, солдат простой, Без званий и наград. Ему как мавзолей Земля — На миллион веков, И Млечные Пути пылят Вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, Метелицы метут, Грома тяжелые гремят, Ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой… Руками всех друзей Положен парень в шар земной, Как будто в мавзолей…Июнь 1944
Николай Панченко Из дневника солдата
Я в коммунизм вхожу не как в гостиную: открыл, вошел, представился, — не так! Ты, будущий, взволнованность прости мою: я шел к тебе сквозь крошево атак, сквозь хлябь болот, путей разбитых месиво, сквозь свет ночей, сквозь дни в сплошном бреду. И если мне порой бывает весело, то только оттого, что я — иду.1944
Александр Прокофьев Яблоня на минном поле
Она в цвету. Она вросла в суглинок И ветками касается земли. Пред ней противотанковые мины Над самыми корнями залегли. Над нею ветер вьет тяжелым прахом И катятся седые облака. Она в цвету, а может быть, от страха Так побелела? Не понять пока. И не узнать до осени, пожалуй, И я жалею вдруг, что мне видна Там, за колючей проволокой ржавой, На минном поле яблоня одна. Но верю я: от края и до края Над всей раздольной русской стороной Распустятся цветы и заиграют Иными днями и весной иной. Настанет день такой огромной доли, Такого счастья, что не видно дна! И яблоня на диком минном поле Не будет этим днем обойдена!1944
Марк Соболь Слушай, ветер!
Слушай, ветер! Ты мчишься отсюда в Россию, ты к родимой земле прикоснешься облетом. Передай там, что мы уже скоро осилим вон того, чьи из зарева бьют минометы. Ты скажи там, что лист уж становится хрустким и четвертая осень нам в души стучится… Ничего! Мы грустим и деремся по-русски и живем по московским часам за границей. Всю страну обеги, закоулки облазай, барабань по стеклу, на прохожих кидайся и шепни мимоходом одной сероглазой, а о чем — ты уж как-нибудь сам догадайся.1944
Николай Старшинов «Ракет зеленые огни…»
Ракет зеленые огни По бледным лицам полоснули. Пониже голову пригни И, как шальной, не лезь под пули. Приказ: «Вперед!» Команда: «Встать!» Опять товарища бужу я. А кто-то звал родную мать, А кто-то вспоминал — чужую. Когда, нарушив забытье, Орудия заголосили, Никто не крикнул: «За Россию!..» А шли и гибли За нее.1944
Василий Субботин «Бои, бои… Тяжелый шаг пехоты…»
Бои, бои… Тяжелый шаг пехоты На большаках, где шли вчера враги. На бровку опершись, на переходе Натягивает парень сапоги. Простые, загрубевшие от жару, Но крепкие — носить не износить. Еще и тем хорошие, пожалуй, Что по Берлину в них ему ходить.1944
Георгий Суворов «Еще утрами черный дым клубится…»
Еще утрами черный дым клубится Над развороченным твоим жильем. И падает обугленная птица, Настигнутая бешеным огнем. Еще ночами белыми нам снятся, Как вестники потерянной любви, Живые горы голубых акаций И в них восторженные соловьи. Еще война. Но мы упрямо верим, Что будет день, — мы выпьем боль до дна, Широкий мир нам вновь раскроет двери, С рассветом новым встанет тишина. Последний враг. Последний меткий выстрел. И первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро, Как быстро наше время протекло. В воспоминаньях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней, — Свой добрый век мы прожили как люди — И для людей.1944
Под Нарвой
Яков Хелемский «Спасибо той земле, что столько раз…»
Спасибо той земле, что столько раз Спасала нас от пули и гранаты И, вскопана саперною лопатой, Как щит, надежно заслоняла нас. Еще спасибо камню, чьи бока Покрыты мхом. Он лег у косогора, Чтоб в перебежке выручить стрелка И стать на миг укрытьем и упором. Дубам ветвистым низко бьем челом, — Мы с болью их рубили для наката. Деревья умирали, как солдаты, Чтоб люди уцелели под огнем. Мы помним и тебя, радушный клен, — В твоей тени мы спали на стоянке, — И листьям вырезным твоим поклон, Маскировавшим тягачи и танки. Спасибо раннему цветку. Он вдруг У бруствера оттаявшего вырос. И ожил бурый разбомбленный луг, Когда на свет подснежники явились. Спасибо ливням, что смывали пот, И родникам, что утоляли жажду, Всему, что, несмотря на бой, цветет, Любому стебельку и ветке каждой. И травам, просто радовавшим глаз, И солнцу, что окопы нагревало, Спасибо той земле, где всё за нас, Где каждая былинка воевала.1944
Торопец
Анатолий Чепуров Родная земля
Незыблемый обычай есть в народе: Когда в края заветные опять Придет казах, прославленный в походе, Обязан землю он поцеловать. И он, казах, как по закону надо, Товарищ наш по боевой судьбе, Прильнул к земле в предместьях Ленинграда: «Земля моя, я вновь пришел к тебе!»1944
1945
Пусть живые запомнят и пусть поколения знают Эту взятую с боем, суровую правду солдат… Семен ГудзенкоСергей Аракчеев Болото
Мы в том болоте сутки спали стоя. Нас донимали мухи и жара. Оно было зеленое, густое. В нем от застоя дохла мошкара. Там не хотели рваться даже мины И шли ко дну, пуская пузыри. …И если б не было за ним Берлина, Мы б ни за что туда не забрели.1945
Семен Ботвинник «Разбитые дзоты у станции Мга…»
Разбитые дзоты у станции Мга. Кирпич, и железо, и в пепле снега, И тишь обгоревшего сада, И след от воздушных боев в синеве, И первая кровь на колючей траве, И первый обстрел Ленинграда… Лежит мой товарищ на ладожском льду. Клубится у Гатчины бой. И это — цена тишине, и труду, И каждой минуте с тобой.1945
Нина Бялосинская 30 апреля 1945
[6]
Еще не все дома прозрели, И тьма со светом вперебой. И сколько б мы ни преуспели, последний бой — как первый бой. В нем есть и ярость овладенья, атаки жадные мгновенья, и потных переходов соль, и кровь, и вечной славы боль, и роковые полуметры очередного рубежа… Дымятся западные ветры, в оконных отсветах кружа.1945
Константин Ваншенкин Будапешт взят!
Земли, камней, железа груды, Бессильно сникли провода, И у руин притихшей Буды Ворчит дунайская вода. Мосты упали на колени И воду из Дуная пьют. Всю ночь идут соединенья, И каблуки всю ночь куют. И вдоль осколками избитых Колонн монаршего дворца, Ночною свежестью умыты, Войска проходят без конца. Я эту ночь не позабуду. Вошли мне в память навсегда Вся тишь ошеломленной Буды, Дворец и темная вода.1945
Евгений Винокуров «Я эти песни написал не сразу…»
Я эти песни написал не сразу. Я с ними по осенней мерзлоте, С неначатыми, по-пластунски лазал Сквозь черные поля на животе. Мне эти темы подсказали ноги, Уставшие в походах от дорог. Я с тяжким потом добытые строки, Как и себя, от смерти не берег. Их ритм простой мне был напет метелью, Задувшею костер, и в полночь ту Я песни грел у сердца, под шинелью, Одной огромной верой в теплоту. Они бывали в деле и меж делом Всегда со мной, как кровь моя, как плоть. Я эти песни выдумал всем телом, Решившим все невзгоды побороть.1945
Леонид Вышеславский Вступаем в немецкое село
Плющом от света отгорожены, стоят дома старинной моды: они из карт как будто сложены — из красных карт одной колоды. Я на село смотрю и думаю: здесь, может, тот фашист родился, с которым я в бою под Уманью за смерть ребенка расплатился… Ко мне рука за хлебом тянется, и женщина с голодным взглядом не устает шептать и кланяться… Я не могу ее — прикладом! Пускай борьба до бесконечности мне злом испытывает душу — нигде закона человечности в борьбе за правду не нарушу. Детей не брошу ради мщения в дыру колодезя сырую… Не потому ль в конце сражения я здесь победу торжествую?!1945
Судеты
Семен Гудзенко Мое поколение
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали… Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремёсел, нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, — только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется? Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен? Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, — у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду, — она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. Пусть живые запомнят и пусть поколения знают эту взятую с боем, суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, — это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. …Нас не нужно жалеть: ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. А когда мы вернемся, — а мы возвратимся с победой, все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, — пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду, чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям, матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя. Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем — все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.1945
Александр Жаров Заветный камень
Холодные волны вздымает лавиной Широкое Черное море. Последний матрос Севастополь покинул, Уходит он, с волнами споря… И грозный соленый бушующий вал О шлюпку волну за волной разбивал… В туманной дали Не видно земли. Ушли далеко корабли. Друзья-моряки подобрали героя. Кипела вода штормовая… Он камень сжимал посиневшей рукою И тихо сказал, умирая: «Когда покидал я родимый утес, С собою кусочек гранита унес — За тем, чтоб вдали От крымской земли О ней мы забыть не могли. Кто камень возьмет, тот пускай поклянется, Что с честью нести его будет. Он первым в любимую бухту вернется И клятвы своей не забудет. Тот камень заветный и ночью и днем Матросское сердце сжигает огнем… Пусть свято хранит Мой камень-гранит, — Он русскою кровью омыт». Сквозь бури и штормы прошел этот камень, И стал он на место достойно… Знакомая чайка взмахнула крылами, И сердце забилось спокойно. Взошел на утес черноморский матрос, Кто родине новую славу принес… И в мирной дали Идут корабли Под солнцем родимой земли.1943–1945
Михаил Исаковский Враги сожгли родную хату…
Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. Стоит солдат — и словно комья Застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, Героя — мужа своего. Готовь для гостя угощенье, Накрой в избе широкий стол, — Свой день, свой праздник возвращенья К тебе я праздновать пришел…» Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, И только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой: Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, Но не сойтись вовеки нам…» И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам. Он пил — солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил…» Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт.1945
Владимир Карпеко 2 мая 1945 года в Берлине
Еще невнятна тишина, Еще в патронниках патроны, И по привычке старшина Бежит, пригнувшись, к батальону. Еще косится автомат На окон черные провалы, Еще «цивильные» дрожат И не выходят из подвалов. И, тишиною потрясен, Солдат, открывший миру двери, Не верит в день, в который он Четыре долгих года верил.1945
Петр Комаров Сунгарийские болота
Ты вниз поглядел из окна самолета — И ты не увидел привычной земли: Глухие разводья, протоки, болота, Озера и топи лежали вдали. Там чахлые травы шептались и дрогли, И плакали чибисы, злясь на судьбу. И серая цапля, как иероглиф, Стояла, — должно быть, с лягушкой в зобу. Бездонные топи. Озера, болота — Зеленая, желтая, рыжая мгла. Здесь даже лететь никому неохота. А как же пехота все это прошла?..1945
Дальневосточный фронт
Григорий Корин «Еще кого здесь выжечь хочет…»
Еще кого здесь выжечь хочет Пороховая эта мгла? Последний житель, Черный кочет, — Все, Что осталось от села. Огнем и кровью все полúто — И штык, и скатка, и душа, И только небо не разбито На переходе рубежа.1945
Виктор Лузгин «Далекий сорок первый год…»
Виктор Лузгин погиб на фронте в 1945 году.
Далекий сорок первый год. Жара печет до исступленья. Мы от границы на восход Топтали версты отступленья. Из деревень, в дыму, в пыли, Шли матери, раскинув платы. Чем мы утешить их могли, Мы, отступавшие солдаты? Поля, пожары, пыль дорог, Короткий сон под гулким небом, И в горле комом, как упрек, Кусок черствеющего хлеба.1945
Самуил Маршак Берлинская эпиграмма
«Год восемнадцатый не повторится ныне!» — Кричат со стен слова фашистских лидеров. А сверху надпись мелом: «Я в Берлине» И подпись выразительная: «Сидоров».1945
Сергей Наровчатов Солдаты свободы
Полощут небывалые ветра Наш гордый флаг над старым магистратом. И город взят. И отдыхать пора, Раз замолчать приказано гранатам. А жителей как вымела метла, В безлюдном затеряешься просторе… Как вдруг наперерез из-за угла Метнулось чье-то платьишко простое. Под ситцевым изодранным платком Иззябнувшие вздрагивают плечи… По мартовскому снегу босиком Ко мне бежала девушка навстречу. И прежде чем я понял что-нибудь, Меня заполонили гнев и жалость, Когда, с разбегу бросившись на грудь, Она ко мне, бессчастная, прижалась. Какая боль на дне бессонных глаз, Какую сердце вынесло невзгоду… Так вот кого от гибели я спас! Так вот кому я возвратил свободу! Далекие и грустные края, Свободы незатоптанные тропы… — Как звать тебя, печальница моя? — Европа!1945
Алексей Недогонов Висонтлааташра, капитан!
Есть такая песенка в Унгарии, пели в дни войны ее одну (с грустью провожают очи карие капитана-венгра на войну). Кружится пластинка патефонная — веры и заклятья талисман, напевает женщина влюбленная: — Висонтлааташра[7], капитан! Дни и ночи та пластинка кружится — хриплое эстрадное былье, — скорбная хозяйка дома Жужица каждый вечер слушает ее. Кончится круженье патефонное — бой стенных, полночный зимний час, — вновь заводит женщина бессонная все одну и ту ж, в который раз! …От карпатского селения Улáури — через Будапешт на Сомбатель — над землею этой в белом трауре кружится гигантская метель. Сумасшедшая пластинка кружится, кажется, что к Дону сквозь туман в этот час выходит в черном Жужица: — Висонтлааташра, капитан! Мы над скорбью женщины не охали, не вздыхали лживым холодком, спусковыми у виска не грохали, в двери не стучали кулаком. Мы ей отвечали состраданием, мы щадили ту слезу в глазах, что зовется вдовьим заклинанием на кровавых всех материках.1945
Сергей Орлов «Вот человек — он искалечен…»
Вот человек — он искалечен, В рубцах лицо. Но ты гляди И взгляд испуганно при встрече С его лица не отводи. Он шел к победе, задыхаясь, Не думал о себе в пути, Чтобы она была такая: Взглянуть — и глаз не отвести!1945
Павел Шубин Солдат
Зеленой ракетой Мы начали ту Атаку На дьявольскую высоту. Над сумрачной Лицей Огонь закипел, И ты распрямиться Не смог, не успел. Но взглядом неробким Следил, неживой, Как бился на сопке Отряд штурмовой. Как трижды катились С вершины кривой, Как трижды сходились Опять в штыковой: Удар и прыжок — На вершок, на аршины, И рваный флажок Заалел над вершиной. В гранитной могиле, Сухой и крутой, Тебя мы зарыли Под той высотой. На той высоте До небес взнесена Во всей красоте Вековая сосна. Ей жить — охранять Твой неначатый бой, Иголки ронять, Горевать над тобой. А мне не избыть, Не забыть до конца Твою неубитую Ярость бойца. В окопе холодном, Безмолвный уже, Ты все на исходном Лежишь рубеже. И, сжатый в пружину, Мгновенья, Года Готов — на вершину, В атаку, туда. Где в пламя рассвета, Легка и грустна, Зеленой ракетой Взлетает сосна.1945
Александр Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»
Я знаю, никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны И что они — кто старше, кто моложе — Остались там. И не о том же речь, Что я их мог и не сумел сберечь. Речь не о том. Но все же, все же, все же…1966
Примечания
1
В соответствии с характером данного издания, здесь приводятся имена лишь русских советских поэтов. Но победа ковалась усилиями всех народов Советского Союза, и фронтовая поэзия — многонациональна. В осажденном Сталинграде звучал поэтический голос редактора фронтовой газеты Миколы Бажана; Платон Воронько сражался в соединении Ковпака; Аркадий Кулешов и Максим Танк партизанили в Белоруссии… Символом стойкости всего советского народа стали имя и творчество татарского поэта Мусы Джалиля, и в казематах гестапо не сложившего своего поэтического оружия…
(обратно)2
«Автобиографии советских писателей», т. II. М., Гослитиздат, 1960, с. 43.
(обратно)3
Н. Тихонов. Слово о литературе. Из речи на отчетно-выборном собрании ленинградских писателей 20 декабря 1944 г. — «Ленинград», 1944, № 13–14, с. 4.
(обратно)4
Игорь Шаферан. Песня идет от сердца. — «Советская культура», 1979, 21 декабря, с. 5.
(обратно)5
Шура — брат поэта.
(обратно)6
30 апреля 1945 г. в Москве было отменено затемнение.
(обратно)7
До свидания (венг.).
(обратно)
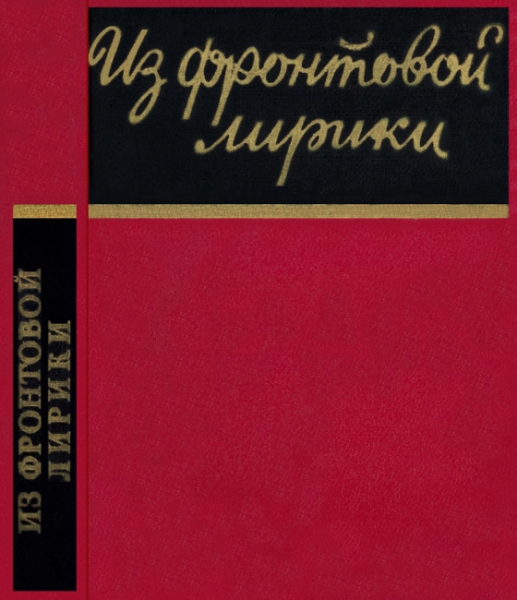
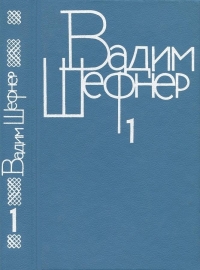




Комментарии к книге «Из фронтовой лирики. Стихи русских советских поэтов», Антология
Всего 0 комментариев