Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов
Евген Плужник © Перевод Ю. Кузнецов
«Я знаю…»
Я знаю — Мечи на орала пойдут. И будут поля родить — Но не эти. И одним ключом отопрут Все души на свете. Да будет так, Я клянусь! Пшеницей восстанет кровь; И узнают люди на вкус Любовь. Верю.«Я — как и все. И штаны из рядна…»
Я — как и все. И штаны из рядна. И сердце мое наган. Видел я жизнь до последнего дня Сотнями ран. Вот! И ладонью зажми свой рот И говорить не смей. После огромный посев взойдет Молчанием верных дней. Полно! Не надо газетных фраз! Скажется боль сама! Вырастет молча новый Тарас В поле, где кровь и тьма.«Ночью его увели в пески…»
Ночью его увели в пески. Фонарь замигал в конце. Острые волоски На небритом лице. Офицер в стороне безразлично курил, И дымок папиросы плыл. Чесаный лен небес уловил Нудное краткое: пли! Кончено. Дальняя цель человека, Я смерти такой не боюсь. А кровь взойдет, как всемирная Мекка, Для будущих синих блуз.«Садилось солнце. Качались травы…»
Садилось солнце. Качались травы. Пересчитали пули — как раз на всех! А кто виновный, а кто из них правый — Из-под единых стрех. Не будет боли, как пуля жахнет. Не минет пуля — торчат цветки! Передний, видно, ходил так, шаркал — Скривил башмаки. Скатилось солнце. Свежело помалу. Пора б и росе. А кто-то где-то во тьме генералу: — Все.«А он молодой-молодой…»
А он молодой-молодой… Школьник почти; витает Небритый пух над губой. Поди, и любви не знает. Все смотрят глазами крыс… Какой-то сквозь зубы — к стенке! …А где-то солома крыш. …А где-то мать и Шевченко… Ладонь на чело легла; Свет видит сквозь пальцы страшный… Минута текла, не текла… Наган дал осечку дважды. А в третий… Пал солнечный смех На башмаки-прорехи. И правда, и радость, и грех, И боль не навеки!«Он приставил соседа к стенке…»
Он приставил соседа к стенке, Наган вынимает… Из-за тына таращатся детские зенки: Беспроигрышно играет! Потом ели яишню с салом, Зверски тискали Мотрины груди… О былое! Твоим вассалам Тесно в мире грядущем будет!«Еще в плен не брали тогда…»
Еще в плен не брали тогда… До столба он едва дошел… Вся земля от крови руда — Кровавый рассол… А он был молодой такой! Горячо девчат целовал! Долго ворон ему степной Свет из глаз выпивал! А теперь там полынь и синь. На столбах провода… Отработал мужицкий сын — Навсегда!«Бледный-бледный. А боль в груди…»
Бледный-бледный. А боль в груди. За горою село пылало. Грянул в спину приклад: иди! Вас немало! Сухо щелкнул старый наган (Нота первая гаммы новой…). Предвечерний вставал туман Над дубровой. Кто-то вдруг засвистал матчиш. На тачанки! ищи, где знаешь! Поле, поле! Ты что молчишь? Не рыдаешь?«Ни словечка ему не промолвил дед…»
Ни словечка ему не промолвил дед, Молча вывел коня за ворота. Потихоньку лилась, как осенний свет, На поля позолота. А когда рухнул первый в октябрьский снег, Возвратился молвою: Лег за дальний грядущий век Спать в бурьян головою. За водой… За скотиной… А день за днем… Двор покрылся опять травою… Сердце, сердце! С твоим огнем — Да в бурьян головою!«Наверно, в груди болело…»
Наверно, в груди болело; Все облизывал губы. Затих. На углу распростертое тело. Не спросят уже — за каких! Это запросто. Пуля злая Заслонила и даль, и край. Сердце жизнью натер, измаял,— Почивай! Поглядите, кому приспело Поглядеть за пределы дат,— На брусчатке, как ветошь, тело, А над телом — плакат.«Спросила: — Почто побледнел ты, сынок?..»
Спросила: — Почто побледнел ты, сынок? — Стоял Перед матерью молча. — На север, На юг, На закат, На восток Над трупами выкрики волчьи! Беспомощно веки на очи падут,— Сухие к рукам моим губы… А вижу — В крови нескончаемый путь… И трупы! И трупы… — Матуся! А кто мне глаза подменил? — Глаза свои прячет… И сразу к окну, к запустению нив — И плачет… Далекая новь! Окровавленный миг Какою пшеницей засеешь? …Ой, мама! Почто это сердце щемит, Его даже ты не согреешь!«Там, где полегли они за волю…»
Там, где полегли они за волю, Бураки теперь для сахзавода. И довольно слез. Довольно боли. Дням другим — красивая погода. Кончено. Заметано. Ни слова. Спите, коль усталость одолела! …Тяпка землю раздвигает снова, А земля с устатку посерела.«Разминулся со мною сон…»
Разминулся со мною сон. Время шлюх, галифе и героев… Кто лег в сквере под сей газон Перегноем? Верно, думал: настанет час… Выше, белые гречи! Что ж! Шинелька его как раз И на другие плечи. Только новый хлястик пришей И мечтай себе в мире сущем… Эй! В грядущем!«Папирос кому! Папиросы!..»
Папирос кому! Папиросы! Шлеп да ляп! по луже. Коробок в руках. Ну а кто не вовсе босый — Те на рысаках! На углу, вот тут, впервые Пролилась за волю кровь… Запасайте, дорогие, Хлеба и дров! Бились, словно львы, матросы! С ними мой отец! А нынче — без руки… Папирос кому! Папиросы! Спички-сирники…«Вновь на страницы тень ложится…»
Вновь на страницы тень ложится, Воруя буквы у очей… Как незаметно вечер длится, Склонясь над головой моей! Я обопрусь о дверь в молчанье, А там, где город, — степь сквозит… Печальное воспоминанье В червленых венах кровь теснит. Промерзлый путь… Летят тачанки… И вот душа малым-мала! А на снегу из чьей-то ранки Кровь узорочье заплела. Молчите, грезы и страницы! Я сущей болью догорел! …Вновь за окном дома-гробницы И мертвый отблеск фонарей…«Сдается, недород не за горой…»
Сдается, недород не за горой: Земля без снега, а морозец ломит. Бледнеет слой На окоеме. Вечеря тянется — скучна она! И слов, и пищи — понемножку! А иногда, сдается, не одна Рука ко рту несет пустую ложку… Старик молчит. Не хватит, что ли, слова? А мысли… мысли все давно вразброд! Зимою пала пегая корова, Теперь мякину город отберет!«Туман стеною. Загудит в лицо…»
Туман стеною. Загудит в лицо Злой ветер и коням растреплет гривы, И засквозит вдруг рыжее кольцо Там, где нырнуло солнце в сумрак сивый. Вновь моросит. Кожух дождем набряк, В сон низко клонит отворот кожуха. Но кони в гору не идут никак — Тяжелая дорога так разбухла! Слезаю с воза и одним плечом Толкаю сзади — ну же, вороные! Не разберешь, что по лицу течет, Горячий пот иль капли дождевые… Что за безлюдье! Слышу голоса… Нет, это стонет под ногами глина… А если впрямь она такая вся — Влюбленная в электростолб краина?«Я вновь на хуторе. Шумят, как шелк, гаи…»
Я вновь на хуторе. Шумят, как шелк, гаи, Все усыпляя во дворе и в хате… И кажется — додуманы твои Все думки, и играть стихами хватит! Ну разве что одну вписать в альбом Без лишних слов и даты, ибо Стиху и хутору — обоим Пришла погибель.«Мужик, близ леса скашивая жито…»
Мужик, близ леса скашивая жито, Об желтый череп косу зазубрил… Чья и за что была тут жизнь убита, Кто, за кого тут голову сложил, Ему едино… Тут, на месте боя, Родится жито тучное, а то, Что землю сдобрил человек собою,— Ничто… Косарь поник над вещью дорогою, Своей косой, что череп пощербил, И, череп тот отбросивши ногою, — Поразбросало вас, — проговорил.«Нежна сухая линия плеча…»
Нежна сухая линия плеча, Твоих локтей — по-детски острых, А уж не раз тайком я замечал: Глаз интерес, и страх, и слезы Взрываются вдруг вызовом, и смех Слетает с уст… О девушка, ты — женщина!«Ах, флейты голос над рекою…»
Ах, флейты голос над рекою — И синий день, и даль, и ты! Легко со светлою такою, Как голос флейты над рекою, Плыть наугад на зов мечты. Пускай же лодку за водою В раздолье дня, что синеват. Неистовство — быть молодою, Покой — плыть быстрою водою, Безумие — жить наугад!«Она спустилась к морю. Кто она…»
Она спустилась к морю. Кто она, Ей все равно теперь, как этой пене. …Да и не все ли мы — единство сна В пустой и мимолетной перемене? Ленивый жест — и под ноги ложится Прозрачный венчик — брошенный платок, И на стебле высоких стройных ног Цветок тяжелый жарко золотится — И вся она нетронуто нага! Спадает вал… Немеют берега. И снова плеск. И снова все смолкает… То розовыми пальцами нога Пучину бирюзовую смиряет. И открывает лоно ей свое Величье вод, что всем ветрам открыто,— Как бы назад приходит Афродита В тот белый шум, что породил ее.«Над городом гуси вчера пролетали…»
Над городом гуси вчера пролетали, Над каменным местом в ночи… Сжать сердце себе повелел от печали: Молчи, ты безумно, молчи! Довольно скорбей и мечтаний без цели… Все это глядит со страниц. Ты слышишь, — вчера тополя облетели: — Тсс… О девочка тихая, боль и печали, Вечерняя греза моя! Над городом гуси вчера пролетали… А я?«Когда-то я девочку встретил мале́ньку…»
Когда-то я девочку встретил мале́ньку Там, где земля Днепром расколота,— Из воды выбирала в жменьку Синее золото. И были тогда небеса без края. Помоги мне, дядя, немножко!.. …А у самой нет глаз — сверкают Две волошки[1]. Девочка! Лучшая из химер! И зачем тебе это золото? …Уж мне не смеяться теперь По-старому, глупо-молодо.«Ночь… а челн — как сребристый птах!..»
Ночь… а челн — как сребристый птах! (Что слова, когда сердце клокочет!) …Не спеши, не лети, развевая прах, Ненадежный ты мой челночек. А над нами, под нами горят мечты… А внизу и вверху глуби́ны… О, какой же прекрасный ты, Мир единый!«Прекрасен мир в ночи…»
Прекрасен мир в ночи, Бесформенный. Безликий. Смерти ложе. …Молчи, молчи! И кто и что сказать тут может? Иль пустота потусторонних сфер И бесконечность мирозданья-клетки Не вся исчерпана теперь Учебником для семилетки?! Воистину прекрасен мир в ночи!«Бушует море. Каждый новый вал…»
Бушует море. Каждый новый вал Вздымает бездна, грохоча и воя… Весь хаос вод беснующийся шквал Исторг из глубины покоя! И странно знать, что где-то в глубине Ничто морские толщи не волнует, И лишь дельфин в застывшем табуне Детеныша и учит, и балует! О хаос, узнаю тебя!«Опасайся неба ночного!..»
Опасайся неба ночного! Для его немой пустоты Мало значит твой взор. И много — Коль ей душу откроешь ты. Зачарует. Проспит. Стушует. Как? Откуда?.. Навек… Твой дух Потому и мятется всуе, И колеблется… Бойся, друг!«Напишешь, рвешь… и пишешь снова!..»
Напишешь, рвешь… и пишешь снова! Не так, не то… увы, увы… Пока прогнивших слов полову Не выметет из головы. И дрогнут губы… Дни унылы, И скукой истина полна: Хоть все слова собрать, мой милый, Души не вычерпать до дна! Пусть нервы жгут огнем, пусть скован Ты вдохновенья холодком — Умей зевнуть с лицом спокойным Над неоконченным стихом.«Линяют краски… Голоса в тени…»
Линяют краски… Голоса в тени… И души тише… Но души не трогай. И эту тишину в себе храни, Как редкий дар, великий и убогий. Так и живи: ленись или трудись, Тащись иль в ногу ты иди с судьбою, Но только оставаться берегись Наедине с собою!«Чем меньше слов, тем высказаться легше…»
Чем меньше слов, тем высказаться легше. Сгребай, поэт, их намели метели. В безумном колесе вращайся, векша… Ах, тщетный бег! Ах, тщетный труд без цели! Что можешь высказать? Ума чужого Про наше сердце домысел готовый? Печаль размаха мирового В масштабе хутора глухого? Твори! Твори!«Дикий сон мне каждой ночью снится…»
Дикий сон мне каждой ночью снится: Я — скрипач в пивнушке «Mon Ami», Выдаю гостям такого Гриця[2], Как никто на свете, черт возьми… А они, выкрикивая хлипко, Пьяно плачут, всех и вся бранят… Завывай, потягиваясь, скрипка, Разливай густой горячий смрад!.. Но все тише и печальней звуки, Все развязней жесты и слова… Головы́ не слушаются руки, Ниже, ниже никнет голова… И тогда мгновенным пьяным взрывом Истина взрывается навзрыд,— На руках, что держат кружки с пивом, Чья-то кровь парует и кипит! Ширится пивнушка и двоится… И в кровавый дым погружены Синие погибельные лица, Плач и визги — дики и пьяны! Круг убийц и трупов все жесточе. Я, скрипач пивнушки «Mon Ami», Вою так в лицо ослепшей ночи, Как никто на свете, черт возьми.«Я отныне за себя спокоен…»
Я отныне за себя спокоен, Новый быт я целиком приемлю: У моих знакомых, как и прежде, По субботам — ровно в десять — пулька! Соломон Борисович Фурункул, Что главбух какого-то центртреста, Журналист Макуха-Подорожний, Я и, член трех-четырех комиссий, Сам хозяин; общество что надо. Вежливость, внимание, корректность. Come il faut, — сказать бы по-французски… А товарищ Соломон Фурункул Даже курит редкие сигарки! Жесты плавны, голоса ленивы… — Пас… Куплю-с… А мы его валетом… И никто не улыбнется даже, Оставаясь при восьми без взятки,— Высший тон сего не допускает! А когда, уставши от ремизов, Мы зеленый стол на время бросим, Нас хозяйка угощает чаем В комнате уютной и просторной, Где ведутся чинно разговоры Про спецставки, про высокий полис, Про упадок общий и частичный, Про Париж, немного про валюту, Но, конечно, больше про культуру — Близкие, болезненные темы! Но все это мягко и спокойно, Как и должно, где хрусталь и бронза, Свежий кекс и ямочки на щечках У хозяйки Мавры Николавны.«Разит мышами, прахом, что-то мглится…»
Разит мышами, прахом, что-то мглится В ободранных стенах… А дни бегут — И рушится дворец. Пора учиться, Как снова строить! Из окна на пруд Роскошный вид… Представь: какие стены Тут, может, из бетона возведут, Какие это будут перемены; Тогда сова покинет свой закут — Пыль чердака… Все станет чисто, бело… Картины дорогие на стенах. Драпри… И все, что так осточертело. Мышатина и прах…ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ… ИЛЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ…
Есть генералы? Будет война. Веселей, веселей, солдаты! Родина — выше всего она! Так иди за нее умирать ты! А весна идет… А земля — в цвету… Соловей… соловей… щелк! Ой, покинуть дивчину и эту, и ту, Да и многих еще! Тридцать лет прошло без войны как-никак… …Время лечь по-геройски мертвым! Генералы кумекают. Так и так. Тридцать третий… иль тридцать четвертый? Ах, живи, доживай! Не тужи, родной! Уцелеть — нет мечты коварней! Тебя подвиг ждет на земле чужой — Где под Рейном, а где на Марне! Лейтенант молодой… офицерик наш! Пулемет — перетак-так-так… …Ой, расти, расти, потом трупом шмяк, Джимми-Джон-Вилли-Фриц-Жан-Жак! Может, вырвет и ногу… иль сердце… Зато Дадут орден тебе после боя! …Неизвестный солдат! Имя свято твое! — Господь с тобою! …А весна вот-вот! А земля — как мак! …Время пасть по-геройски мертвым? Генералы все понимают. Итак, Тридцать третий иль тридцать четвертый?«Суди меня судом своим суровым…»
Суди меня судом своим суровым, Сочасник… Непредвзятые потомки Простят мне колебанья и ошибки, Грусть позднюю и радость раньше срока,— К ним искренность моя да обратится.ГАЛИЛЕЙ
От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви. НекрасовМарусе Юрковий посвящаю
Стал тяжелым знакомый, привычный путь, Но земля не устала, носит… И дожди идут. На душе муть. Осень. Башмаки прохудились. Бреду. А вокруг Рестораны, кафе, витрины… И так почему-то спокойно вдруг,— Умереть или жить — все едино. Эта осень! Всегда она только так: Сдавит сердце, сожжет в огарок — И дни — Словно серый тифозный барак, А за окнами пятна галок. Эй, спокойные, мудрые! Всякие! Вы! Те, чьи челюсти словно клещи! Вот я, тихонький, тихонький. Тише травы. Так легче. Ни к чему такая вот галиматья Тому, у кого не расшатаны нервы! Ну, а я, обедающий раз в три дня, Не могу иначе, наверно. Обыватель я, что ли? Вся боль моя — Без ватина пальто: озноб — нет спасу… Или врезались в память мою те края, Где закон — умирать не по разу? Что могу я сказать о себе еще? (Пусть играют в искренность дети!) Разве что под серым вечерним дождем Выть и выть на углу где-то? Выть, как волк на луну, как голодный волк, Грозный пращур собаки! Не замолк, Не замолк, Не замолк Голос воспоминаний всяких! Сквозь былое, и книги, и сны наяву, Сквозь грядущие дни и ночи — Ау-у! — слышу вой волчий. Выть, как черный дикарь неизвестно где — Равнодушной природе в уши… Ах, дикарь этот в сердце моем, на дне — И я чувствую дикий ужас! Выть, как выли в былом и мои деды,— Пеньем вой этот называли, Когда песен чужих следы Красным пивом сплошь заливали. Эй! Но тихонький, тихонький я… Потихоньку мне выть на свете — В уши скучных, глухих киевлян Под осенний, холодный ветер… И такой я несчастный весь… И мне так одиноко ныне… И Тычина, и Рыльский, и еще Олесь… Никого, пустыня… Ну кому расскажу я о боли своей? Все готовы внимать, а на деле Все мечтают — восемь воскресных дней Заиметь на одной неделе! Да и толку от слов! Лучше б мир онемел: Миллиард девяносто четыре речи! Главное — заработал и съел, Да чтобы здоровье покрепче! Ну, на черта, всунув себя в пальто, С непокрытою головою В гущу старых шлюх и новых авто, На углу бессмысленно вою: — Да исполнится, время, воля твоя На земле и в сердцах людей! Кто я? Что я? Букашка я На руке равнодушной твоей… Ой, упали да выпали красные росы На притихшее вдруг жнивье… Ой, народ мой! Темный и грозный! Да святится имя твое! Пусть цветут, обновившись, поля Пышным цветом, новою славою! Эй ты, мука святая моя, Время кровавое! Убиенным сынам твоим всем И тем, Что убиты будут не в битве, Чтоб воскреснуть в бессмертном мифе, Всем им, Мученикам святым, — Осанна! …Вдруг какой-то усмешкою странной Тишина искривит мой рот,— Ах, и в сердце горячая рана — Надоевший всем анекдот! И увижу — в безднах, лежащих долу, Дикий танец, а в небе — терновый венец! И никто никому не должен, И давно уже каждый из нас — мертвец! Танцы… бедность… меха да перстни… Кошельки… Кошельки… Кошельки… Как вон там, на углу, уместны Нищие старики! Прутся в церковь, на смерть, в рестораны… Жрут, собою торгуют, плюют В неомытые, жуткие раны,— Живут! Эй ты, улица! Потного мяса Без конца и без краю река! Надо всем — строка из Тараса Да обмытый дождями плакат! Ну кому это надо сегодня? Лишь дурак — до сих пор поэт! Вчера — частушки народные в моде, А сегодня — отрывки из оперетт! Эк! Ночные мои приключенья, Несуразные до удивленья! О время! Время мое! От стыда Хоть ты красней иногда! Ах! В каких таких словах, В строках, скажи, каких На дыбе дум своих От боли закричу? Молчу. И, как и все, лечу С землей сквозь ночи, дни… О сердце, отдохни! — Закон. Ты не одно — мильон! И не мильон — миры Пылают к цели, все равны, Огнем! А чтобы в окоём Навек не въелась ночь, Попросим-ка пойдем — Не смогут ли помочь… Homo sapiens я… Всхлип… всхлип… Дайте, подайте нам хлеба! Кормильцы, радетели! Пусть царствуют ваши родители Вечно, во веки веков, А я денно и нощно готов За них… всхлип… всхлип… Дайте, подайте нам хлеба! Помогите! Мимо не проходите! Ослепший от боли, незрячий, Радость последнюю трачу. Слышите: плачу — Всхлип… Всхлип… Дайте, подайте на хлеб! На краюшку… Матушки, меня пожалейте, Батюшки, меня научите, Как мне на свете жити, Ежели темный свет… О нет! Не копейки ваши нужны! Дайте хоть кроху искренности! О, если б сердцем вырасти До бесконечной, как боль, тишины! Но, друг другу чужие навеки, Молча мимо проходят они… И промозглый вечер уже догнил, И не спят лишь аптеки… Да еще одинокого сердца стук… И ложится мокрый туман На безлюдный майдан Вокруг… Звук Каждого Шага на площади Мертвый такой, Словно века прошлые Сбоку, рядом со мной — Улиц черная бездна… Одиночество снова в душе воскресло, Приласкало, сулит покой… Что ж, пора и домой — Забудется! Почему-то каждая улица Незнакома в ночи, нова, А из сердца идут без устали Неожиданные слова: — Эй вы, села! Забытые нивы! А на лоне ваших часов Расцвел хотя бы один счастливый, Вашей болью прекрасный болиголов? Что я знаю? Ну что я знаю? Ничего, уже ничего… Ах, одиноко я умираю, Никого… Ах, теперь я желаю Одного — Тишины! Хны… Интеллигентщина эта! Вечно хнычет, комплекс вины… И во что ни рядится, как ни одета, А слова всё те же, скучны! Один знакомый кооператор (Шляпа, костюм, дорогое пальто) Говорил мне: — Вам двадцать девятый, А что вы такое? Ничто! Да поймите, сегодня выходит в люди И хозяином жизни становится тот, Кто кооперацию любит Или имеет авто! О! А над городом вьются туманы… По орбите плывет Земля… Как тихо шумят без листвы каштаны И тополя… Где-то в поле под черным тулупом Согрелось зерно, проросло… А ночь так спокойно и мудро Надо мной склонила чело… О ночь моя! Слышишь, как стонет неистово Желанная тишина? — Потому что вечной истины искры Не дороже горстки пшена! О ночь моя! Кто виноват, говори мне, Что ближе, чем вечность, — кулеш, Что бывает мечтой — двугривенный? Не понимаю, хоть режь! Чего ж ты молчишь? Чего не рычишь Над нами Громами Так, Чтоб смешались все гаммы, Чтоб всё вверх ногами, Всё! И пускай тогда день несет Стоны, вопли! Пускай рыдают И хотя бы так вспоминают, Что сердце есть у калек, сирот… Видишь — гниет До сих пор (Никому не в укор) На углу инвалид безногий? Это здесь-то, где все дороги В даль прекрасную нас ведут? Так зачем же плоти огрызок тут Христарадничает, тянет руки? Разве что не хватает за брюки — Забавный какой! По заплеванной мостовой Елозит, несет свой крест… Видно, что недармовой Хлеб Ест! О! То-то же и оно! Ах, сюжетец какой для кино! Какие потешные трюки Может дать, например, безрукий, Что с глазами, полными муки, Воет в рожи накрашенных баб: — Папиросы Гостабфаб! Эх! А еще живописней картина: Слепой, в лохмотьях детина, Воет, выгнув дугою спину, «У камина». А минута лихую годину За руку тащит в грядущий день… И нигде Не спастись от страданья… И нигде До последнего издыханья… Нигде! И лицо мое, побледнев, Не узнает уже никогда улыбки, Озаряющей лица людей Над страницами мудрой книжки… Мудрость книжная! Жалкий удел. Ну зачем все поэмы и речи? Главное — заработал и съел, Да чтобы здоровье покрепче! И тогда уже, ночь, гляди — Не спасут заседанья, указы, Если вместо сердца в груди — Обрывок такой вот фразы! И не верю, не верю — нет!— Что добро сотворит недобрый! Гаснет в окнах последний свет… Горизонт темный… Город спит. И на страже его стоит Опечаленное мгновенье. И сердце теряет терпенье… И болит, И болит, И болит… Боль ночная! Ты дней моих радость! Время — в завтра тебя несет. Может, там опылится та завязь, Чьи плоды оправдают всё! Боль моя! Ты прекрасна! Дороже злата! Жертва ради грядущих дней! Там — Пред вратами в светлое завтра — Угасни У ног обновленных людей! А я тебе все отдам,— Славься, славься вовеки! Верю — слезинка одна калеки Весит больше, чем речи, балансы, строки всех од и драм! Там — Вам, Нам, Тебе, Мне, Этим И тем — Эй — Всем, Всем, Всем,— Так будет: Станут чистыми, добрыми люди, Станет жизнь эта вечной весной — И машины прекрасные всюду, И в мозолях руки — ни одной… И вот сядут они на лугах весенних, И расступится время враз. …И в крови, на Голгофе, в мученьях Узрят нас. И от моря до моря — голос: — Как вы жили вчера, в той мгле, Где тучнел счастья нашего колос На рыжей от крови земле! И вот выйдут хмурые, скажут: — Мы Не хотели, чтоб правду нашу Выносили на свет из тьмы! Знали толк в красотках, в ликере,— Виноваты мы, что ли, в том, Что не выпало мыкать горе, Что не жили грядущим днем? Ну, бузили порой… Но горько На похмелье бывало и нам… Кто-то крикнет внезапно громко: — А гони их ко всем чертям! И вот выйдут гордые, словно львы! И не я… и не вы… И скажут: — Мы те, кто был верен Цели высокой и время Все торопил: быстрей! Мы приближали светлые дали. Бездны за нами — нет в мире темней. К звездной вершине счастья людей Шли мы по трупам братьев — эгей!— Шли мы по крови к цели своей, Каждый мечтал под ноги ей Бросить цветы в финале! Мы за нее умирали! Мы для нее убивали! Всё мы ей отдали, Нам на роду Было написано верить в звезду Равенства, братства, свободы… Благословен, кто в мечту Вел за собой народы! Хором недра и небеса: — Достоин благословенья Каждый, кто кровью себя вписал В великую книгу бессмертья! Дальше — масса людской породы: Сбившись в кучу, безмозгло, тупо — Трупы, Которых и так встречаю После вечернего чая На тротуаре часто… Баста! Долго будет тянуться миг… Ветер словно бескрылый… — Идите! — раздастся крик,— Ибо не ведали вы, что творили! А после них… Тогда… Бледные, мы туда Выйдем — для их суда… Я и те, Кто со мною… Те, кто при жизни еще Стал травою! И такие мы неприметные все… И такие какие-то… бледные… А вокруг-то во всей красе Времена заповедные! Что сказать в оправдание? Слаб человек? И сказать нам по сути нечего… Ах, что братьям, счастливым навек, До боли нашей до вечной? И тогда говорить буду я (Ой ты, доля моя!) — Скажу серьезно: — Не глядите на нас так грозно! Мы тихие, тихие… Как шепот травы… Как тот перегной, на котором вы Выросли поздно. Не герои, не жертвы тех страшных вьюг… Люди серые, маленькие собою, Мы из тех, в ком сердца горячий стук Грудь истощил болью. Было больно, так больно нам Там… в днях… Ах! Не надо! Под небом сияющей правды, На просторах полей святых — Отпущаеши ныне рабов своих, Время! Ибо видели муку твою — И верили в радость! Ибо видим радость твою — Замученные… И нам скажут тогда: отдохните! …………………………… Ах, ночь гробовая! На глазах почернела, внимая Бесконечной моей болтовне. Растворились в твоей глубине — Окна. Ты прости мне, что так охотно Распускаю свой длинный язык: Третий год уж как безработный, Вот язык чесать и привык. И признаться — интеллигент… Ну, и всякие там слова… А к тому же в данный момент Не в порядке моя голова. Малокровие, что ли… Заморыш… Много ли хлеба — полфунта? Поговорку такую помнишь: «Transit gloria mundi…» Впрочем, все это вздор, небылицы! Просто больно сердцу, так больно! Спите, люди, — кому еще спится, Сны смотрите спокойно! Не замедлят мгновенья свой бег, А минуты, часы — тем более… Дела нет им, что человек Не находит места себе от боли. Ну чего я? Что за потреба? Есть вот угол, постель и примус… Даже латка осеннего неба К дымоходной трубе прилепилась! Нет, я очень, очень спокойный! Ах, бессмертная эта гармония — Революция, голод, и войны, И усталого сердца людского агония! Эй ты, сердце! Уж как ни тесно,— Бейся в клетке своей, тук-тук… Между всеми поделены честно Крохи счастья и бездны мук! И плыву в неизвестность с планетой своею По орбите, что чертит она! А над нею, под нею, за нею — тишина, тишина, тишина… А этаж мой — шестой, но только Не гляжу я на жизнь свысока. Помаленьку живу, потихоньку, Так, слегка… Выхожу раз в неделю из дома И бреду мимо тусклых огней По дороге, что многим знакома — Всех желудок ведет по ней, Отмечаюсь на бирже труда и сразу Возвращаюсь, в свой угол иду, Где на твердом, бессонном матрасе Передумано столько дум, Что, когда подойду среди ночи Я к окну и взгляну из окна, Видят полные боли очи Тишину до последнего дна! Город спит. И на кровли ржавые Воет ветер, войдя в азарт… И, как в каждой культурной державе, Кое-где фонари горят… Часовые, зевая украдкой, Сон людской стерегут и добро: Там, в столовых, порций остатки, А в витринах — калоши, вино… А за стенами — с храпом и свистом Спят в поту и в грязи они — Кто под светлое завтра неистово Удобряет, навозит дни. И плывут они вместе с планетой своею По орбите, что чертит она… А над нею, под нею, за нею — тишина, тишина, тишина… А повыше, в туманном пространстве, То ли в рай, то ли в тартарары В златотканом своем убранстве Проплывают другие миры… Кто я? Что я? Пылинка разве… Что все муки, вся боль моя, От которой на жестком матрасе Дохожу, погибаю я! О грядущие! Кто из вас знает, Через что нам пришлось пройти? Не для вас ли мой век посыпает Свой терновый венец — конфетти? …Изорвет тьму ночную в клочья — Смех не смех, гроза не гроза,— Песня дикая, песня волчья: Просыпается где-то базар. Снова чьи-то кровавые лапы, Тени творческой вечно руки, На шелка сеют и на заплаты медяки, медяки, медяки… На посады… На храм… В рестораны… Жрут… Потеют… Сквозь зубы плюют В неомытые, жуткие раны… Живут! Голод… холод… меха да перстни… Кошельки… Кошельки… Кошельки… Как вон там, на углу, уместны Нищие старики! За ночь дум передумано много. Утро серое зябнет в окне, И молюсь я — не черту! не богу!— А глазам исстрадавшихся дней! О печальные, но прекрасные… Сквозь усталость, муку и кровь Да увидите вы всевластную И святую, как вечность, любовь! Ну, а мне ожидать уже нечего… Помаленьку живу, слегка… Может, строго потом, но доверчиво Улыбнутся и мне века… А вверху, вдалеке, надо мною — Недоступный для зренья людей, Скрыт надежно веков тишиною — Галилей. Эй! Герои! Калеки! Поэты! Торговцы! Чиновники! А живите себе, как вам верится! Потому, что — вы слышите?— Все-таки вертится! 1926 г.Микола Зеров © Перевод Т. Гнедич
ЧАТЫР-ДАГ
1
Бежит шоссе. В тумане разогретом Окаменели волны дальних гор, Шумит Салгира вечный разговор И спит селенье с дряхлым минаретом. Черешни бело-розоватым цветом Укрыли старый постоялый двор, А в небе, синий заградив простор, Встал Чатыр-Даг двугорбым силуэтом. И пали ниц пред ним гряды холмов… Над пышной чащей грабов и дубов Вознесся он громадой молчаливой. Обходят поступью неторопливой Богам высот воздвигнутый алтарь. 5/IX. 1926ПАРФЕНИТ
М. О. Драй-Хмаре
Трубадури, як Максим Рильский…
Где вырубают мрамор и гранит, За темною грядою Аю-Дага, Стоял над склоном горного оврага Храм Артемиды — первый Парфенит. Века бегут — но миф не позабыт. Бессмертны чудеса Архипелага: Горит Пилада верность и отвага, Покорно Ифигения грустит. И много лет в морском веселом блеске Поэтам будут сниться весел всплески И низкие ахейские челны, А критики, на них взирая хмуро, Их будут называть за эти сны Презрительною кличкой — «трубадуры»… 22/XII. 1927В ВЕРХОВЬЯХ КАЧИ
Л. А. Куриловой
Бурлите радостно, ключи беспечной Качи, Звените струнами литого серебра — Крутая, серая замшелая гора, Вокруг — сады, дома, да известняк горячий. Минули Бабуган. Уже вдали маяча Наметилась Яйла, сурова и остра, Росистой красотой блестят поля с утра, И дивно-тихий лес молчит, как пруд стоячий. Бушует зелени роскошной целина, Веселых отзвуков рождается волна, Как великан-удав, шоссе блестит от зноя, И в щедрой пышности цветов, оттенков, нот Сияет ясный взор спокойной глубиною И голос молодой чарует и зовет. 1927ЛОТОФАГИ
Одиссея, IX, 82–104
Из Трои, из кровавого тумана, Из черных дней неистовой войны, Царь Одиссей привел свои челны На сонный берег тихого лимана. Там жили мы, залечивая раны, И лотофаги — той страны сыны — Кормили нас, участия полны, Чудесной пищей сладковато-пряной. И ели мы, и забывали дом, Друзей и близких, и в краю чужом Уже мечтали о привольной жизни, Но мудрый царь не дал остаться нам И силою нас возвратил отчизне Всем людям в назиданье и векам! 2/V. 1926КИЕВ. ТРАДИЦИЯ
Никто твоих не отнимает прав: Ты первый занял светлые высоты, К тебе рвались воинственные готы, Свой Данпарштадт в лесах обосновав. Зазубрил меч свой польский Болеслав О золотые крепкие ворота, Плел басни про тебя посол Ляссота, И Лавассер хвалил твой быт и нрав. И в наши дни стремишься в вышину ты: Здесь табор свой разбили «Аспанфуты» — Тут наш Тычина голосисто-юный: Он возрождает мифы, как поэт, Неся свой яркий «Плуг» во все коммуны. 1923КИЕВ. ВЕСЕННИМ ВЕЧЕРОМ
Пускай, не опасаясь Немезиды, Бездарная безвкусица глупцов Тебе немало нанесла рубцов И шрамов — ты живешь, забыв обиды! Недаром дружно восхваляют гиды Твою красу на сотни голосов: В сиянье вод и в зелени лесов Ты раскрываешь солнечные виды. И улицы твои уводят взор В душистый, свежий полевой простор, Где ходит ветер, молодостью пьяный, И в синей тишине твоих ночей Торжественно шумящие каштаны Возносят к небу множество свечей! 1927В МАЕ
Эмаль Днепра. Слепящая вода, Суглинков желтоватое сиянье, И в розоватом утреннем тумане Луга — как гладь огромного пруда. Я не вдыхал так жадно никогда Красу весенних светлых одеяний, Смарагды трав, пушистость вербы ранней, Блеск отмелей, пески и невода. Пульсирует растений сок зеленый И раздвигает камни. Листья клена У фонарей блестят из темноты, А над каймой оград и парапетом Округлых яблонь пышные кусты Цветут живым раскидистым букетом. 12/XII. 1930МИТРОПОЛИТ ЗАБОРОВСКИЙ (Романтика)
Нет! Не спесивый сытый гетманат, Не толстопузый самодур богатый — Поставил диво этих пышных врат Смиренный инок с сердцем мецената. Мечтал он, услаждая ум и взгляд, Украсить камень в жемчуга и злато — И вырос крыш излом замысловатый Над чернотой полесских бедных хат. Любя наук пресветлое сиянье, Дарил он щедро юношам познанья — Смиренный просветитель прихожан, Он забывал — мудрец сентиментальный — Свой хищный век и свой высокий сан За книгами и мирной готовальней. III. 1930МИТРОПОЛИТ ЗАБОРОВСКИЙ (Корректив)
Не верь прикрасам трафаретной хрии: Не так-то прост был этот меценат — Князь церкви, синодальный дипломат, Искуснейший кудесник и вития! Он знал, как украшает панагия, И в зеркало, у самых Царских врат, Оглядывал свой пастырский наряд, Радея об эффектах литургии. Да, помогал он бедным школярам, Да, он построил благолепный храм — Медаль блестит, но что на обороте? Девиз наживы именем Христа, В уюте келий — угожденье плоти И сел примонастырских нищета. 12/XII. 1930В. П. ГОРЛЕНКО
II
Жил некий человек в краю зеленом — В прекраснейшем из всех краев земных, Писал и мыслил он о днях былых И прах столетий видел обновленным. Солист неоспоримый, прирожденный, Он незаметен был и скромно-тих В нестройном хоре сверстников своих, Как метеор, в пылинки превращенный. Природа столько древностей хранит: Рисунки листьев помнит антрацит, А мел — ракушек древних отпечаток… Ужели наша память так слаба? И век людей редчайших страшно краток, И этим шутят Время и Судьба… 17/VII. 1931ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Пантелеев, Из восп. прошл. II, 165
Полярный мрак. Косматые зарницы Над пустотой заснеженных равнин. Немеет сердце… Сколько лет один В заледенелых дебрях он томится… Он помнит круг собратьев яснолицый, Высок и смел их молодой почин. Он бьет в набат — борец и гражданин, Зовущий всех ярму не покориться! Суд. Ссылка. Тьма ледовой маеты. Сияньем странным небо раскололось, А тишина мертва, и дни пусты… Вдруг — бубенцы… далеко скрипнул полоз. Но сквозь метель он слышит тот же голос: — Ну что? Сдаешься? Каешься ли ты?.. 23/XII. 1933СОЗВЕЗДЬЕ ДЕВЫ
Когда в ночи, в душистом светлом мае, Растут хлеба и буйствуют цветы, Как в дни Сатурна, смотрит с высоты Она — пресветло-мудрая, святая, И, мнится, ночь вздыхает, вспоминая О тех веках великой простоты, Когда молчали копья и щиты И диких мерзких войн дремала стая. Но вот блеснула кровь. Звенит труба. Волы согнулись под ярмом раба, И, грешных, нас покинула Астрея. Лишь по весне в далеких небесах Ее венец сияет, не тускнея, И колос мира у нее в руках. 1923СКОРПИОН
Я помню лето. Светлое село. Волыни щедрой ласковое лоно. Лягушки заливались у затона, С полей медовый запах донесло. А в плесе неба, синем, как стекло, Уже зарделись кле́шни Скорпиона, И Антарес уже горел бессонно Над далями, откуда что-то шло. Я уезжал и взором астролога Я вопрошал, какая мне дорога В грядущие неведомые дни? И вдруг погасло диво Скорпиона, А друг-Стрелец вознес над далью сонной Свой светлый лук и добрые огни. 7/VI. 1922БЛИЗНЕЦЫ (Апрель)
Люблю я тихих сумерек свеченье Апрельское. Чернеющий узор Садов вишневых. Темных нив простор И в лужах — зорь весенних отраженье. Несутся стаи где-то в отдаленье — Их контура не различает взор, Густеет сумрак, и небес шатер Уже мерцает в звездном украшеньи. Взирает Млечный Путь на спящий мир, Блестит Ковша небесного пунктир, И Близнецы на западе сияют, И видит влажный полог темноты, Как на деревьях почки набухают И чутко всходят первые цветы. 12/III. 1933ВОДОЛЕЙ (Воспоминание)
Ночное поле. Август. Фаэтон Кряхтит, хромая, будто путник старый, Над горизонтом — яркие Стожары И наклоненный влево Орион. Колодца скрип. Воды и ведер звон. Над желобом — коней почтовых пара. Овраг. Туман, белесый, как отара, И холодок, прогнавший первый сон. А я, малыш, читаю в изумленье Небесной карты пестрое свеченье И в звездоносных россыпях тону. И снова дрема в мягких добрых лапах Качает мир, и неба глубину, И трав росистых сладковатый запах. 30/VIII. 1931РАЗДУМЬЕ
Таков закон — простой закон распада: Небрежная прическа, впалый рот, И равнодушье рук, и первый лед Усталого безрадостного взгляда. Как неуклонно время листопада Приходит в нашу жизнь из года в год… Земля под снегом медленно уснет, И в иней опушатся ветви сада… О, первые седины тихих дней, Предвестье спада жизненных страстей, Осенних листьев осторожный шелест! Что ж, привыкай, раздумьями томим, Распознавать туманных далей прелесть И улыбаться радостям чужим!.. 25/XII. 1931СОН СВЯТОСЛАВА
Я видел сон — жемчужин тяжкий град Мне, старому, на сердце насыпали, Мне длинный черный саван надевали И подавали пить дурманный яд. И, напрягая помутневший взгляд, Я еле различал сквозь тьму печали, Что княжий двор стал грудою развалин, Что каркал ворон и свивался гад… Какое горе мне на разум пало, Какая в сердце пенилась Каяла, Какой тоской душа отягчена… Ночь лунная блестит росой студеной, Антенна гнется, как трава-струна, Все ближе горя цокот предрешенный… 20/IV. 1931КНЯЗЬ ИГОРЬ
Князь Игорь, очи к небу обратив, Увидел солнце в пелене туманной, А Русь далеко за чертой багряной, И горе черный накликает Див. Но Игорь-князь бесстрашен и строптив: «Эй, Русичи! Потешьтесь славой бранной! Покажем вражьей нечести поганой Дорогу в море от родимых нив!» Не любо ль Дону зачерпнуть шеломом! О, смелый княже! Смерти черный омут Тебе не страшен — песня зазвенит, Спасая от забвенья и полона… Он встал на стременах, а конь храпит, Ловя ноздрями свежий ветер с Дона. 12/IX. 1921SUPERSTITIO[3]
Весна. Садов цветущих ароматы, Друзей беседы и душистый чай — Отдайся им и в сердце не пускай Щемящих суеверий Поликрата! Когда душа спокойствием объята, Не думай, что не вечен мир и рай, И чем прекрасней счастья светлый май, Тем злее ночь и тем страшней расплата. Я утешаю сердце, но, увы — Под пеплом горьких дум слова мертвы, Бессонны страхи смутного значенья, И странен за окном мой темный сад, Дрожат огни в туманном отдаленье, И каждый миг тревогою объят… 19/IV. 1931ПОД НОВЫЙ ГОД
Я шел домой, предвидя день безделья, И думал про всегдашний нудный труд. Как нитка бус, светился Голливуд В бокалах новогоднего веселья. Шуршал и шаркал, как на новоселье, Навстречу незнакомцу праздный люд, Мороз прибрал за несколько минут Густую грязь вчерашнего похмелья. День взаимоприязни воссиял… Что ж! Совершай привычный ритуал, Встречай очередного пилигрима! О юность! Ты надеждами красна! Гляди ж бездумно и неукротимо В стаканы розоватого вина! 1/1.1932ЗЕМЛЯНИКА
По кронам сосен величаво-строгий Проходит шум. В небесной синеве Темнеют облака. В густой траве Зелено-буйной путаются ноги… Вот тут упасть бы прямо у дороги, Упасть и отдохнуть минуты две — От ярых псов, от шума в голове, От низких душ, коварства и тревоги… И, окунувшись в тихий сумрак сна, Услышать, что поет еще струна, Мелодий, рифмы, ритмов переклики… И вдруг увидеть, что в траве густой Душистые кораллы земляники Блестят простой, веселой красотой. 9/VII.1934ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
Как просто все в наивных тайнах этих: Огниво — морякам, больным — хинин, Пиратам — взрывы настоящих мин И пули ружей, лучших в целом свете… Под сводами пещеры на рассвете На пятерых из тьмы глядит один — Чего он ищет в пене злых пучин? Кто он? Жилец земной? Иль бред столетий? От грома содрогается земля, Встает над морем остов корабля — Легко художник разрешил проблему — Услышан зов! Теперь спокоен Топ, И примирен с людьми бессмертный Немо — Индийский принц, любезный мизантроп! 6/VI. 1930ДОМБИ И СЫН
Говорит капитан Каттл: — В груди моей не иссякает вера — Еще нам Вальтер счастье принесет! Пускай тогда, покинув мрачный свод, Нас позабавит старая мадера! О, Дядя Соль, не верь пустым химерам! Из погреба мадера не придет! Погиб наш Вальтер, я — давно не тот, И затерялся ты в тумане сером… А может быть, парнишка наш спасен? С красавицею в брак вступает он, Смягчился черствый нрав миллионера… Вино на палубу! Сердца в галоп! Да разве ж это — старая мадера? Нет, Дядя Соль, — кондитерский сироп! 29/II.1932ЖИЗНЬ НА МИССИСИПИ
Безусые отважные ребята, Глубокая и быстрая река… У лоцманов фантазия ярка И чудесами выдумок богата… Какую здесь войну вела когда-то Плантаторов тяжелая рука, Как мучили злодеи бедняка И как потом настигла их расплата… Веселый юмор жанровых картин, Пейзажи расцветающих долин И тут же песни и псалмы о тленье… А золотые зори широки Над мутью беспокойного теченья Могучей и таинственной реки. 28/II.1932ГУЛЛИВЕР
— Да! — Гулливер промолвил. — Есть минуты В моей судьбе, каких не знали вы; Имел я горя выше головы Не в Бробдингнеге, не в садах Лапуты, А у ничтожных карликов: так люты Их мстительные души, так мертвы, Для жалости опасны! Не столь опасны львы, Как мелочные, злые Лилипуты… На гвоздик каждый волос навертеть, Сплести интриги мерзостную сеть Способна эта маленькая сила! Давно бы впал я в смертную тоску, Давно бы солнце для меня остыло, Когда б не щедрость дружбы Блефуску. 28/VII. 1934К ТИТАНИИ
Блажен, кто поздней осени не зрит, Кто шутки ради книги открывает, Кто Песню Песен радостно читает, Над Книгой Руфи весело острит! Беда тому, кто, сон и аппетит Утратив, лямку жизни не бросает, Его предательств ямы окружают И мошкара сомнений тормошит. Смеется светлой юности стихия! Что ей сулите вы, виски седые? Пустую мудрость? Холод и туман? Пусть будет жизнь прекрасней и короче, Пусть не успеет распознать обман Титания июньской светлой ночи!ДВЕРЬ В СТЕНЕ
Как наяву тот сон увидел я: Умолкло бормотанье парохода, Камыш и вербы, светлая погода И полноводной речки чешуя. О, Родина прекрасная моя! Я знал тебя в счастливейшие годы, Но и меня осилили невзгоды, И позабыл твой светлый образ я… Но вот пришел вечерний час свиданья — Не стало ни тревог, ни ожиданья, Открылась дверь заветная в стене, Все тихо. Спят усталые колеса, И цапли в золотистой тишине Перелетают с отмелей на плесы. 3/X.1934ЭЛЕГИЯ
Чернеет лед на линии трамвая, Синеет в темных улицах весна, И юность — ясноока и стройна — Встает, былую радость навевая. Так это ты! Но чья же воля злая Тебя убила? Где звенит она, Твоей живой веселости струна? Зачем тебя томит печаль больная? А помнишь все, что было и прошло? Небесный свод, прозрачный, как стекло, В котором стая шумно пролетала… Как быстро таял снег! Как лед звенел! Теперь того, что прежде звалось «Мало», Ты выдержать бы даже не сумел! 26/II.1934В ДОНБАССЕ
Двенадцать дней, двенадцать синих чаш Сияли глубью тихою над нами, Мы пили их спокойными глотками, Мы знали — этот месяц будет наш. Мы знали — близко море и Сиваш, Нас ветер бил могучими крылами, День исчезал за алыми вратами, Большая степь манила, как мираж. А вечером в небесной бездне черной Горели нам созвездий крупных зерна, Огонь заката на краю земли Тускнел и становился все янтарней, И сквозь туман и сумрак нам вдали Вставали две зари над сталеварней, 4/V.193328 АВГУСТА 1914 г
Чуть приоткрыв завесу облаков, На поле и стерню луна смотрела, В туманной дымке шелковисто-белой Сияли тускло главы куполов, Степь, словно океан без берегов, Под небом расстилалась без предела, И где-то в ней звенело и гудело Мятежным эхом прожитых веков. Я думал: степь! Что за твоей чертою? Грозишь ли ты пустынной темнотою В осеннем безысходном забытьи? Иль снова мне сверкнет весна живая И заблистают звонкие ручьи, На желтом дне оврага пробегая. 1/III. 1934СТЕПНЫЕ ДОРОГИ
Тропинок желтоватые извивы, Широкие, спокойные поля, Где ровными рядами тополя Построились, красуясь горделиво. Дороги расползаются лениво, Под чьими-то копытами пыля.— Привет тебе, счастливая земля! Полтава! Ты румяна и красива! Мне облик твой, как память юных лет, Как Гоголя невытоптанный след И кобзарей задумчивое пенье, В моих ушах, как стародавний зов, Еще плывет в прекрасном отдаленье Тяжелый скрип медлительных возов. 1/III. 1934ГИЛЬГАМЕШ
Утнапиштим, далекий предок мой, Потерянный в огромном океане, Я — Гильгамеш, палач на поле брани, Я — царь Урука, пламенный герой. Имел я друга — счастье и покой, Он даровал крылам моих дерзаний, Но умер он, мой добрый Эабани, И горьких дум меня смущает рой. Дай мне совет, мой древний предок милый, Как продлевать наш век людской унылый? Как подойти к загадкам бытия? Но ветхий дед с улыбкой тихой ласки Про Древо Жизни мне лепечет сказки, Которые младенцем слышал я. 7/V.1922ХИРОН
Как вал морской, взвилась вершина Эты, Долина светлым бархатом цветет. Кентавр творит: кентавр свирель берет, И звук свирели выдает поэта. Мелодия как ласковая Лета, Чьи воды пьет Орфей и Лин поет, Всех горестей людских унылый гнет Переплавляя в сладкий мед Гимета. Давно забыл он свой родной табун, Давно привык к звучанью лирных струн Под Фебовой душистой сенью лавра: Любовью к песне пересилил он Звериные наклонности кентавра, Друг смертных и богов — кентавр Хирон! 25/II. 1922САЛОМЕЯ
П. Филиповичу
Там левантийский месяц сеет чары, Волнуя в сердце теплой крови ток, Там яростно цветет любви цветок, Там все в крови — и шлемы, и тиары… Там с высей горных, предвещая кару, Гремит речей неистовый поток — Иоканаан! Как взор его жесток! В его словах — пустыня и пожары! А Саломея — девочка, дитя,— Отравою и лезвием шутя, Хохочет, смерть и мщенье накликая… Беги от них! Беги туда, поэт, Где у прибрежных скал, чиста, как свет, Стройна, как луч, — мечтает Навзикая! 18/VI. 1922НАВЗИКАЯ
Ты — солнца луч, царевна Навзикая, Цветок феаков на песке морском! Тебе убогий странник не знаком, А море блещет — без конца и края. Ты властным жестом собираешь стаю Прислужниц, — в послушании немом Они стоят, а над твоим челом Лучистый ореол блестит, играя. От стрельчатых бровей и белых шей Уж сам не свой безмолвный Одиссей, Готов забыть пучину мук и горя. Чиста, как животворная роса, Целебным плеском Эллинского моря Ему смеется светлая Краса. 15/IX. 1922АЛЕКСАНДРИЯ
Когда мне говорят: Александрия…
М. Кузмин Завечерела водная стихия, Пассатный ветер в парусах ревет, И темный наш корабль, кренясь, идет В знакомый порт, к огням Александрии. Он раздвигает сумерки густые, Он, как живой, желанной встречи ждет: Здесь милых Муз веселый хор поет! О сердце мира! Наша Пиэрия! Мы знали и степей сарматских зов, И Фидиевых мраморных богов, Печаль Сафо и клич сирен призывный,— Но нас ничто не волновало так, Как Фарос твой, твой Гептастадий дивный, Из мрака черного вознесшийся маяк! 12/III.1922ВЕРГИЛИЙ
Мужик из Мантуи, задумчивый, кудрявый, Он с отроческих лет стихи слагать умел, Пастуший посох, плуг и медный шлем воспел, И был вознагражден неслыханною славой. Он сквозь огонь и дым усобицы кровавой Увидел пышный век, когда от черных дел Почил покорный мир, приемля свой удел Под царственным ярмом божественной державы. Но все прошло. И Рим, и цезарей дела Рука истории в гробы поволокла, Где спят иллюзии, порфиры и короны, А он доселе жив. И звон его поэм Нам отзывается рыданьями Дидоны, Бряцаньем панцирей и всплесками трирем. 12/III.1933САД В ГОГОЛЕВЕ
Столетние над молодым бурьяном Облокотились вербы на плетень, Под сенью слив — соломенный курень, Чудесен мир в дыханье трав медвяном. Здесь нарастает буйным ураганом Веселый праздник сел и деревень, Здесь сельских муз еще витает тень С прославленной свирелью и тимпаном. Здесь посылают дружеский привет Прохожим Сон-трава и Огнецвет, Красивое прекрасно без прикрасы: В разгуле светлой радостной игры Тропинка с Лысой сказочной горы Ведет к вершинам самого Парнаса. 14/XII. 1921ЧИТАЯ ПОЭТА
«Есть добрые сердца, есть светлые умы, Они сияют нам, как утра блеск багряный, В хаосе шумных дел, среди житейской тьмы, Их голоса звучат торжественной осанной. Уносит вечность всех под мрачный свод гробов, Но непорочных душ и мысли, и стремленья Выбрасывает вал сурового забвенья На берег бытия, как зерна жемчугов…» Романтика мечты живет в сердцах поэтов: Чтоб столько накропать элегий и сонетов И свято веровать в предизбранность свою! И точно: что таким хор знатоков убогий? Холодный суд ума не победит в бою Романсов сладостных и пышных антологий! 27/II.1932САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Я знаю — имя нам «библиофаги»: Как шкаф, набита наша голова, Как резчики, шлифуем мы слова, Нещадно много изводя бумаги. Никто не скажет нам: «Жрецы и маги! Вы создаете чудо мастерства!» Душа у нас сурова и черства И чужда юной жажде и отваге. Что в тонком слове? Нас чарует звук Актерской реплики, поддельных мук, Горючих слез искусной истерии. А критик нам диктует: «Шапки прочь! Вот пред тобой прославленный вития: Горит, как светоч, озаряя ночь!» 29/XII. 1929КЛАССИКИ
Вы уж давно ступили за порог Земной судьбы — творцы и полубоги, Рапсодии, элегии, эклоги Звучат из тьмы аидовых дорог. Туман печали нам на сердце лег, Усилья наши жалки и убоги: Ужель назад вам больше нет дороги? Ужели рок так безнадежно строг? Где ваших слов могучее звучанье? Напрасны все мечты и заклинанья — Невозвратим навек умолкший глас! Одна отрада есть душе поэта, Одно для мира возрождает вас — Прекрасная законченность сонета. 15/XII.1921СВЯТОСЛАВ НА ПОРОГАХ
Варуфорос… Геландрий темнокрылый, Шумя, кипит июльский Вулнипраг, Угрюмый князь — неистовый варяг — Ведет на север лодки-моноксилы… Он родился для битв, он полон силы, У Доростола он поставит стяг, Его влечет в дорогу только враг, И Киев, и родня ему не милы! Но чу! тревожный окрик засверкал! И хищники бегут по склонам скал, Гремят мечи, изнемогает Слава… И, празднуя удавшийся набег, Из черепа хмельного Святослава Вино хлебает трезвый печенег. 7/VI.1930«Тот сон счастливый длился десять лет…»
Посвящается умершему сыну
Тот сон счастливый длился десять лет: Как это сердце билось полнокровно, Как солнце безмятежно и любовно Давало небу — синь, а миру — свет. И каждый год был радостью согрет, Все обещала жизнь беспрекословно, И открывался путь легко и ровно, Как будто в нем препон для счастья нет. Но мир недолго мнился мне прекрасным: В осенний теплый день, под солнцем ясным Увидел я себя сухим стеблем, Стою безмолвный, не имея силы: Тяжелый холмик на сердце моем — Немилосердно ранняя могила! 20/IX. 1934ТЕПЛЫЙ АЛЕКСЕЙ
А може, ще добро побачу, А може, горе переплачу? Приметам о весне и Теплом Алексее Еще не верит снег. Не слышно талых вод, Под елками хрустит прозрачный тонкий лед, И спит большая даль, задумчиво темнея. Нет! В мире нет чудес — ни манны, ни елея, Пустыне горьких дум никто не подает. Одна печаль томит, одна тоска грызет, И сердце с каждым днем становится слабее. Нет света и тепла земли обетованной Тому, кто изнурен морозной мглой туманной! О Теплый Алексей! Когда ж растает лед? Подснежник радости проглянет, не робея, Травой глубокий шрам утраты зарастет, И поле дней моих проснется, зеленея?..Михайло Драй-Хмара © Перевод Б. Романов
«Проли́л свой гнев и стих…»
Проли́л свой гнев и стих. Гремят потоки, яры, и радуги стожары сжигают стих. А он уже в лугах! С отцом не посчитался и босиком умчался, пропал в бегах! Огни со всех сторон… Детина лишь нагнется — в руках звезда займется,— что это, сон? Ах, сон тот — вещий звон: метелица кружится, а он той песне снится — как бы вдогон. 1920МАТЬ
1
Чело в венке бумажном стынет, крест вощаной зажат в руках, и брови черные не вскинет, хоть и улыбка на устах. Тоскуют васильки и мята. Витает ладан в синих снах, и горько-горько, виновато птенцы щебечут в головах. 19212
Погост убогий и ворота,— ну как увидеть, как обнять? Попали ноженьки в болота: весна — и журавли летят. Не разлучила мать и сына смерть, что пощады не дает,— он встал над ней соцветьем крина, любовь утрат не признает. 1921«Зажжется ночь и будет с вами…»
Зажжется ночь и будет с вами, холодно-росные поля, чтоб слушать, как кипит страстями и все еще гудит земля… Во тьме все замерло, стихая! Прохлада сердце леденит, и с неба падают, сверкая, скупые слезы Персеид. 1921«Под живой голубизною…»
Под живой голубизною осушает март поля, и певуча подо мною покрасневшая земля. Гроз кровавое дыханье, топит дождь людей, зверят,— но из глубей мирозданья встанет новый Арарат. И звенят стожарно дуги: мир убогим хатам! мир! Пусть никто не тащит, други, вас в невольничий ясырь! Ветер пьет ненастья кубки… Встал ковчег посреди гор, и, как Ной, я жду голубки, чтобы выйти на простор! 1922«Еще все губы камня…»
Еще все губы камня крыш высоких, припав, бузу татарскую сосут, еще безматок в улее гигантском не ворохнулся: грузно спит,— уже за городом припухлым, хмурым веком моргает кто-то и нервно пальцами по водостокам бьет. Бульвары. Прибитый снег застыл — как застарелый мрамор, а рядом чернота припала: провалились раны… И слезы (не мои — дубов безмолвных) лицо и руки окропляют мне. Незрячие, чего ж вы в плаче? Пусть грязною дерюгою покроется дорога, пусть войлок виснет вместо синевы,— но верьте, скоро, скоро сюда веселье прилетит и будет музыка играть, когда и в хате обветшалой, и в самом нищенском квартале, и в каждом месте, в каждом сердце взойдут светящиеся розы… Розвальнями молчаливо кожух проехал. 1923«Зной августовский ослабел…»
Зной августовский ослабел. И, гарусной напрявши пряжи, ткач золотом вечерним мажет полей узорчатых предел. Есть зелень все еще в глазури, как и в осенних косах верб, но тень легла в густой лазури на тонко вычерченный серп. Померкло горное горно. Ночь — это траурная рама. Кто память мучает упрямо? День отгорел. Давно. 1923«Наделы, как платок басманный…»
Наделы, как платок басманный, с низины ровной и пустой доносит запах конопляный, полынной горечи настой. Журавль колодца одинокий грустит над нивами давно. Полощет солнышко в протоке золототканое рядно. И день, как вол, идти не хочет. И коршуна застыл полет. Когда ж мотор здесь загрохочет, век электрический сверкнет? 1923«Я полюбил тебя на пятой…»
Я полюбил тебя на пятой весне голодной: всю — до дна. Благословив и путь проклятый, залитый пурпуром вина. Орлицею на бой летела, добросердечна, а не зла. Я видел кровь на крыльях смелых и рану посреди чела… И взгорбилась Голгофа снова: усмешка стражей, гул, огни, и ворог вылезший сурово кричал: распни ее, распни! И мы с тобою, горечь муки испив из полного ведра, соединяли молча руки, как кровный брат и как сестра. 1924НА ПОБЕРЕЖЬЕ
Жаворонков высокий клирос, все кругом заросло ивняками. А бабочка, как заблудилась, и трепещет крылами. Славно идти на луга, озера, веря — благословит этот миг неприметно для взора тех, в ком сердце болит. Пустота впереди, и сзади никто меня не догонял. Ивы. Пески. Левады. Дорогу я потерял. 1924В СЕЛО
Гул проводов, и вязнут ноги, как будто стерты все пути, и против ветра, без дороги по снегу тяжело идти. Вокруг пустыня снеговая, мерцает стылая краса, и, вечной крышей нависая, над ней — пустые небеса. Где крыши прячутся, горбаты? Везде курганы намело, и ни одной не видно хаты — наверно, сгинуло село. За революцию страдало, терпело войны, голод, мор, и что для нас спасеньем стало, ему — лишь гибель и разор. А за курганом за высоким встал Ленин с выпуклым челом: — Вот тут, вот тут оно, под боком, порошей замело кругом… И снова вязкая дорога, и в очи снежная пыльца… Пока надежды есть немного, о сердце, бейся до конца! Слезами жги снегов заслоны, пройди с огнем сугробы мглы иль, разорвавшись запаленно, рассыпься горсткою золы! Гул проводов, и вязнут ноги, как будто стерты все пути, колючий ветер, нет дороги, а надобно идти! 1925«Эту ли долю стану хулить…»
Эту ли долю стану хулить: быть только эхом, эхо будить. Всхожего поля поэтом я был — на богатеев гнев не остыл. Песня — сестра мне, степь — побратим,— вольная воля всем нам троим. Дважды родную предал сестру. После увидел: без песни умру… Вновь на чужбине встретившись с ней, в отсвете слабом первых огней, не разлучаться вечный зарок дали себе мы у дальних дорог. Брат мой, сестрица, в дивном краю скоро сроднит нас ветер в семью. С ветром нас больше, ветер нам друг,— кто разорвет породнившийся круг? Песня со мною, ветер и степь — нежность и воля, сила и крепь. Быть только эхом, эхо будить — эту ли долю стану хулить. 1925«Я мир воспринимаю оком…»
Я мир воспринимаю оком, влюбленный в линию и цвет, лучистым лемехом глубоко в моей душе прорезан след. Люблю я речи полновесной, как мед пьянящий, запах слов, лежавших в глубине безвестной забытых сумрачных веков. Беда с эпитетом случайным, когда приходит невпопад, лишь ямб с анапестом чеканным устав незыблемо хранят. Я златокосу осень славлю, с рубином горечи, влюблен, его в своей душе оправлю, чтоб из нее не выпал он. Светлы для слуха и для взора, певучи струи бытия, и верится, что скоро-скоро вот так же запою и я. 1925ПАМЯТИ С. ЕСЕНИНА
Над ним лишь черный стяг свисает, на стенах крови след не смыт, а в сердце он еще сияет, как золотой метеорит. Я помню вечер тот туманный над Петербургом голубым, морозный блеск и ветер пьяный, Исаакий, высей сизый дым. Огнями расцвела эстрада, и вышел он, как ясный день, душа была смущенно рада услышать щедрых песен звень. Голубоглазый и кудрявый, как ясень, стройный, молодой, еще не знавший горькой славы, на сцену вышедший впервой. В простой рубахе и кафтане, вчера лишь только из села, а очи тихи, как у лани, и нежность очи обожгла. И разливался голос в зале, звеневший вешнею водой, и в жесте, в слове был печали вишневый радостный настой. Все, показалось, оживает: березы над прудом грустят, покосы, тропка полевая, мычанье теплое телят. Жизнь не была еще пропита среди гуляк, гулящих, в ней лишь вызревало только жито перед грозою новых дней. Мгновенья памятные встали — духмяный ветер, захватив, провеял в этом светлом зале дыханьем золотистых нив. Уже и десять лет минуло, уже отцвел весенний сад… Мы их шагов не слышим гула — но как вернуться нам назад? Над ним лишь черный стяг свисает, на стенах крови след не смыт, а в сердце он еще сияет, как золотой метеорит. 1926МЕТЕЛЬ
Метель над городом взлетает, кружит, как ведьма, зла, а город уши зажимает — ух, как фурчит метла! Завяз трамвай. Все в окнах бело, ослепли фонари… Кино нам это надоело. Кончай шутить, замри! Нет, кутерьму затеяв, черти не прекратят вовек. Мильоном ведер в круговерти они швыряют снег. — Идем, идем! Чего ж мы встали! — Куда там ехать? — Стой. И хохот ведьмы услыхали, и снеговея вой. 1926ПОЭТУ
Павлу Тычине
Люблю твою песню-обнову, могучий язык-государь, радуюсь каждому слову, входящему в твой словарь. В садах голубых искусства она зацвела, как мак: в ней не смиренья чувства, а страсти и гнева знак. И обнять в ней любого рады — поляк или турок будь. Украины, грядущей Эллады, ты готовишь всемирный путь. 1926ПЕРЕД ГРОЗОЮ
Первый проехал фургон — загромыхали колеса на поднебесном мосту… Грохнуло — и онемело. Спрятаться солнце успело за облаков темноту. Вспыхнуло зеркало плеса — огненно-сине, как лен. С неба летят вновь и вновь, блещут хвостами гадюки — мертвая смолкла земля. Ветер расправил крыла — листва тополей обмерла. И потемнели поля. Воздеты над жертвою руки — скоро прольется кровь! 1926«Взошедший рано…»
Взошедший рано, расцвел багрянец и в пляс пошел. Через майданы плывут туманы, как белый шелк. А в поле хоры перепелов, блестит роса. Кругом просторы, как в синем море звенит коса. Вдруг блеск огнистый метнуло солнце, исчезла тень. Встает цветистый, встает лучистый рабочий день. 1926«Голубизной вечернею одета…»
Голубизной вечернею одета даль окоёма и вишневый сад, в сети ажурной вижу искры света, созвездий первых золотистый ряд. Село затихло: ночь страдного лета, сморившийся косарь улечься рад. Серебряную нитку до рассвета прядет одноголосый хор цикад. Я к тишине прислушаюсь, немея, едва дыша, ее спугнуть не смея,— но тишину вдруг отгоняет шум: гудит земля набатно на просторе, растут деревья, колосятся зори, бьют родники высоким светом дум. 1927ЛЕБЕДИ
Посвящаю своим товарищам
На тихом озере, где млеют верболозы, плывут, плескаясь, в зной и в листопад, подрезанными крыльями шумят, и шеи гнутся их, как трепетные лозы. Когда ж придут, стеклом звеня, морозы, в сон белоснежный плесы погрузят,— пловцы сломают хрупкий лед преград, и не страшны им зимние угрозы. О пятеро певцов, сквозь вьюжный вой доносится напев ваш громовой, отчаянье ломая ледяное. Дерзайте: из неволи, сквозь туман созвездье Лиры выведет ночное в кипучей жизни светлый океан. 1928«Померкшей позолоты прах…»
Померкшей позолоты прах на древних храмах Ярослава, и солнце — стертый грош в руках, и как позор — былая слава. Побед восторги позабыты, кровь печенегов не течет, останки жалкие открыты: церквей руины и ворот. Над пепелищами веков стою и думаю: все было… И громко череда гудков вдруг день грядущий возвестила. 1929«По клетке, за железными дверями…»
По клетке, за железными дверями, униженный, но величавее, чем бард, уставясь в пустоту тоскливыми очами, неслышно мечется могучий леопард. Пружинит гордый шаг, играет огоньками шерсть пламенистая. И смех вокруг, и гвалт, но узник в джунглях, движется кругами, где гнутся лотосы и расцветает нард. Так и твоя, поэт, невероятна доля — метаться, рваться в путах суеты, о рае грезя, словно Пико Мирандола. И к синим берегам на золотой гондоле твоя мечтательная грусть плывет… а ты… а ты грохочешь кандалами Атта Троля. 1929ЛЮБЕ КОЛЕССЕ
Сирени и розам дивлюсь, мне радость доносит антенна, прозрачнее тела медуз, воздушней мазурки Шопена. И свет я вдыхаю, и звук, лучи надо мною играют, я вижу: на кладбище мук опять семена прорастают. О пращуры давних веков, влюбленные в музыку дети, я душу открою без слов сокровищам лучшим на свете. Сирени и розам дивлюсь, мне радость доносит антенна, прозрачнее тела медуз, воздушней мазурки Шопена. 1929ПОГАСНЕТ ЦВЕТ АПРЕЛЯ
Погаснет цвет апреля, и отшумит весна, и будет лето зелено и глубь ясна. В ту глубь заглянет осень и загрустит сама, и под гуденье сосен придет зима. И нет тем дням покою: весной сойдет снежок, откроется с тропою след чьих-то ног. И вновь цветут черешни и зеленеет луг… День нынешний, вчерашний — извечный круг. И я в том круге с вами душою молодой: спадаю, поднимаюсь с днепровскою водой. 1930ПОДОЛ
Созвездье Треугольника слетело на шири вод, на сумрак мостовой, на темноту низины луговой,— и взгорье удивленно онемело. На плесах парусов перо бледнело; звук в лунном свете падал сам не свой; в монистах огневых над синевой моста громада, как мечта, светлела. И подивился Володимир-князь, увидев с кручи световую вязь: «Как чудны озаренные просторы! Мне эта высота нужна едва ль, померк мой крест, и потемнели горы…» — И двинулся в неведомую даль. 1930ЧУДО
Все — удушавший воздух, камень хмурый — исчезло, словно мой кошмарный сон… Ветвистых кленов юный батальон высоко расстилает шевелюры. Дубы бегут с горы, как буйны туры… Пообочь сосны — целый храм колонн (а на небе полоской — синий лен, и чуть мерцают золотом бордюры). Вдруг смоляной шатер небес пробит: какой размах! И Днепр, как змей, блестит, на горизонте Междугорье встало… Под ним долина в дымке, как ладонь… А над мостом созвездье засверкало — и занялся Подол. Огонь, огонь, огонь… 1930ЧЕРНИГОВ
Чернигове, за смелого Мстислава на Севере вступал ты в шумный спор, тягаясь славой с градом Ярослава,— во мгле веков заглох тот разговор. Когда ж Разор надвинулся кроваво и бурный Киев дал врагу отпор, ты, господине — тягостный позор! — в монастырях попрятался лукаво. А ныне ты над тихою Десною сияешь златом княжьих куполов, садов укрывшись зеленью резною. Теперь уже не устремишься к бою, с литвином к смертной брани не готов: Могила Черная довлеет над тобою? 1930НА ХОРТИЦЕ
Тут сечь была, вели гульбу майданы, казацкие дымились курени, тут спорили с серьмягами жупаны, и пели песни гордые они. А ныне все укрыли баклажаны, картошка, огурцы, где ни взгляни, деды лишь да могильные курганы припоминают канувшие дни. Смотри на север: там стальные своды легко коснулись голубых небес и рассекла стена живые воды. А на горе вздымаются заводы. То новый дух степей, то Днепрогэс, то грозный властелин природы. 1930ГОРОД ГРЯДУЩЕГО
Круги, прямоугольники, квадраты; среди бетона, стали и стекла радиомузыка и автоматы, а надо всем — победный знак числа. Везде сады. Убранства их богаты, и переливчато роса в траве легла, с небес лазурных заревом заката свисает золотисто мушмула. Тут все — одна семья, где не слыхали угрюмых слов: застенок, плаха, кат, где радости труда, а не печали, предательства кинжал не обнажали, где каждый равен — среди братьев брат, а силу власти — разуму отдали. 1930«Вставай на путь суровый и негладкий…»
Вставай на путь суровый и негладкий, не спотыкайся, не гляди назад. Уже ноябрь холодный, хмурый, хваткий с берез, с дубов сорвал скупой наряд. Стальною дымкой затянуло дали, и сквозь нее столбы дымов встают. И не желтеют мальвы там в печали, а труд и песня в пламени цветут. Круши скалу традиций вековую, прах несвободной жизни отряхни. Кто выпил чашу пенную, хмельную, тому уж нет пути в былые дни. 1930«Спустившись в глуби, в сумраке печальном…»
Спустившись в глуби, в сумраке печальном шахтер привычно, как подземный гном, в породе горной движется с кайлом, руду ли, уголь рубит в штреке дальном. Не сном химерным, вымыслом астральным,— а в домн огне, в Гольфстриме золотом руда легко расплавится, потом железом станет в гимне триумфальном. Поэт, не бойся жизни глубины, бросайся в будней шум из тишины, и ты добудешь драгоценный камень. Грани, шлифуй свой радужный опал, вложи всю душу — пусть играет пламень для всех людей — вот высший идеал. 1930VICTORIA REGIA
Три ночи ты, в своей поре прекрасной, цветешь, расправив на воде листы, округлые, большие, как щиты, и посреди цветок крестообразный. Белеешь, словно снег в горах алмазный, ну а потом в зените красоты вдруг розовеешь, как фламинго, ты и, наконец, зарей пылаешь ясной. Вот — дивный путь моих метаморфоз среди метелиц, ураганов, гроз, играющая радугой триада. Мой первый цвет — лилейный звон равнин, второй — раскрылся светлой розой сада, а третий — страсти пламенный рубин. 1930НА МОГИЛЕ РУДАНСКОГО
Майфетову и Зерову
Как на Голгофу, мы брели к могиле по пустошам седым чужой земли, заброшенную кое-как нашли среди оврагов, можжевеля, пыли. И видим горестно, что травы обступили плиту разбитую, и листья замели, но надпись полустертую прочли и силу слов обычных ощутили. Покинутый, осиротелый прах! На брошенном погосте в лопухах нашел жилище наш бездомный гений. Прообраз дней его — Лаокоон, а смерть его в борьбе, среди гонений не украшает лавром пантеон. 1930КАМЕНЕЦ
Над широтой земною в сини гордой химерой каменною выше скал он, как рондель причудливый, витал, узором странным оттоманской чорди. Округи сторож, словно конь на корде или журавль, минарет торчал среди домов, он словно бы мечтал в овитом синей дымкою фиорде. Пропорций совершенство! И чисты застывших форм суровые черты. Поэма, созданная из гранита. Но в очи башен стройных загляни: там тьма средневековая сокрыта, кровь, ужасы, пожарищей огни. 1930СИМФОНИЯ
Расцвела эстрада медными громами, окатив каштаны, оглушила даль и плеснула звонко в заревое пламя — скрипками искрится голубой хрусталь… Жалят и целуют флейт палящих осы, бархатных гобоев ластятся шмели… Сердце молодое пьет густые росы, жить, творить мечтая для своей земли… Все безумней скрипки, яростней фанфары оглашают плесы темного Днепра,— но Днепра не видно… Чьи-то это чары. Или струнных звуков странная игра. Море, тускло море — только мол из мела (и летучей мышью в облаках луна), корабли на рейде встали онемело, и заря на реях далеко видна. 1934ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Я думал, ей всего достало в теле: и образов из солнца и стекла, и звона слов, неслыханных доселе, и музыки сердечного тепла. Взлетев дрофой на ветер молодецкий, она аж задохнулась. На лету, как пулею пронзенная стрелецкой, и пала на калиновом мосту. Тогда опять пустил я душу голой, в полет душа бесстрастная ушла, неслась, в снегу воркуя, словно голубь, пока ее пурга не замела. Я отогрел замерзшую и в тело оправил, словно ювелир алмаз, чтобы она, как радуга, горела, чтоб золотистый блеск ее не гас. И в сонное течение артерий я влил не кровь — палящий зной Гавай, и, как творец счастливой Галатеи, воскликнул вдохновенно: «Оживай!» И заглянул ей в очи, в них искрится иное небо, свет иных высот, в них новых зорь забрезжили криницы — и новая душа твоя цветет. 1935ЗИМНЯЯ СКАЗКА (Утренний Киев из моего окна)
Иней бел, чернеют нарты, знаки стужи мастеров… Это тундры стылой недра? Кто в блестящий ярко натрий заковал горбы холмов? Спят киты, из туш-утесов пена гейзеров, упал пар на светлый пух торосов,— только смоляную косу расплетает Арсенал. Гейзер сизый, гейзер синий — то ж яранг моржовых дым, что, взлетая, тает в стыни, в неподвижности пустыни он подвижен сам-один… Он встает в ветвях склоненных, парусов клубя дымы, в самоцветах рам оконных, светом радужным зажженных кристаллографом зимы. Вдруг взвился он, меднолицый, ускоряя тяжкий ход — и уж вот в моей светлице полки осмотреть стремится, в каждый глянуть переплет. Значит, вата — только маска, а полярный этот вид — зимний сон, мороза сказка. — Леденит из снега каска… — Только что ж лицо горит? Значит, там огонь пылает, подо льдом не засыпал пульс артерий, ритм играет, полным ходом выступает на Печорской Арсенал. 1935ТОМАС МОР
Он полил кровью сказку золотую про дивный остров счастья и труда — как казнь его, неправую и злую, ее не позабудут никогда. Четвертовать, втащив его на плаху, и сердце вырвать! — был король жесток. Но, сжалившись, палач горбатый с маху лишь голову упрямую отсек. Бессмертной сказки слава осенила своим крылом кровавый эшафот, не потускнев, скрывалась и всходила, светясь зарею синею с высот. Утопию искали кондотьеры, пираты, снаряжая корабли, конквистадоры и бандиты прерий, отважные безумцы всей земли. Лишь только там отверженные носят златые нити, перстни — все равны — из Индии, и с Кубы, и с Самоса манят их в путь сокровищами сны. Утопию искали гуманисты, к ней донкихоты шли со всех сторон и музыканты, зодчие, артисты, творцы газелей нежных и канцон… И все впивались в книгу колдовскую, ее чудес на свете не открыв, и плакали мечтатели, тоскуя, а Гитлотей был так красноречив. Прошли века, как выстрелы, гремучи, как дым седой, ползучий, не слышны,— внезапно в море, солнцем из-за тучи, заветный остров встал из глубины. Искатели стремятся отовсюду, глазам не верят собственным, и вот: одни смеются, радуются чуду, ну а других отчаянье берет… 1935Павло Филипович © Перевод А. Струк
«Промчалась ночь, тревожна и бесславна…»
Промчалась ночь, тревожна и бесславна. Враги степями рыщут, всё губя. Когда ж на вал ты выйдешь, Ярославна, Нежна душой, тоскуя и любя? Безумный ветер мечет стрелы с силой, И солнце жжет и землю не щадит. А я не вижу, где же руки милой, Кто жизнь мою от горя защитит? И лишь Кончак внушает дочке властно: Пусть пленник верит: мы — его друзья… Коварство, страсть, измену не напрасно В чужих напевах ощущаю я. 1922«На разбой камням многотонным…»
На разбой камням многотонным, На жестокую сечу ветрам, На расправу зверям, которым Не нужны ни цветок, ни храм, Отдаю смятенную душу И холодных мыслей поток, Жду, надеюсь, — а вдруг обнаружу, Что идет наконец Пророк? Над землею солнце пылает, Заливает небес лазурь, Рядом сердце, что умирает, Отрешась от любовных бурь. И в бескрайней стране покуда Не возник, из праха восстав, Лазарь. Только ночей остуда Проплывает над морем трав.«Единой воле этот мир подвластен…»
Единой воле этот мир подвластен, Единый путь предсказан нам уже, А смерть придет, — кто счастлив, кто несчастен,— Завет единый сохраним в душе. Спасая красоту, спасутся люди, Жизнь зашумит над гарью пепелищ, Великая мечта недаром будит Всемирным звоном всех, кто слаб и нищ. Века летят, но в необъятном море Не гаснет солнце, и земля жива, И ждут своей гармонии в просторе Зверь, человек, цветок и синева.«Когда летят, как стаи, плотно…»
Как страшно!.. Человеческое сердце совсем очерствело. П. Тычина Когда летят, как стаи, плотно Скупые, серенькие дни, Когда сама земля бесплодна И в небе не горят огни,— Когда лишь старцы и калеки Вокруг, и пустота сердец,— Забудь и ты, забудь навеки Мои страданья наконец И то, что все мои надежды, Любовь, и страсть, и похвала, Прошли. Теперь себя утешь ты, Что нежной не со мной была. Вся боль моя в былом растает. Я изменился, ты не та. Над нами вечность пролетает — Пустынен путь, и жизнь пуста. И я, разрывом тем томимый, Смогу ль забыть твои черты? Я слышу только голос милый И вижу мир, пока в нем ты.«Привел июнь волшебную теплынь…»
Привел июнь волшебную теплынь В притихший сад, в поля — им нету края, Цветок, синея, не звенит; динь-динь, Когда пчела коснется, пролетая. Лишь нежный кубок наклоняет к ней И тянется за бабочкой бесшумной. И каждой мошке предлагают: пей! Цветы, чей спектр — в гармонии разумной. Учись тому, когда придет твой день — Отдать народу мед любви прозрачной, Пусть краски песен радуют людей, Пусть их повсюду ждет прием удачный. И незаметно передай векам Любовь, добро, — нуждаемся в них все мы. Смерть неизбежна, ты исчезнешь сам, Но сотни раз взрастут твои посевы. 1922«Кому не грезилось, что незнакомка-Муза…»
Кому не грезилось, что незнакомка-Муза Прекрасной девушкой, приветливой и стройной, Во времена далекие являлась Поэтам радости, любви и красоты И даже нежною свирелью удивляла, Наигрывая песни им свои. И всем сдавалось, что беспечную усладу Счастливцы с нею обретали в роще, А может быть, над родником прозрачным, Где солнце искрится, и где смеется месяц, И где без ветра шепчется камыш. Не верьте грезам и усопшим не внимайте! Ветрами, страстностью и жаждою степей, Тоской удушливой и буйными дождями — Несется бурно жизнь над всеми нами, Нуждаясь в том, чтоб строй в ней был и лад. Вдруг просыпается мелодия мажора На дне тревожной и тоскующей души, И сам дивишься своему творенью,— А если кто-то предположит — веришь, Что был обласкан незнакомкой-Музой. 1922«Круг тревожный желтых пятен…»
Круг тревожный желтых пятен, Слов бездушных череда… Может, солнца свет закатен? Ну, а если нет, тогда Мне б вернуть не краски мая И не розы, не огонь (Это радость, но шальная, Как песок, что жжет ладонь), А хрустальный день на воле, Молодого сердца зов, Труд и песню в чистом поле, А на горке — скрип возов, Птиц, собравшихся к отлету, Гладь озер, где гаснет звук, Легких мыслей позолоту И беспечный час разлук. 1923«Горбится, горько рыдая…»
Горбится, горько рыдая, День, подытожив судьбу,— Бондаревна молодая, Мертвая, стынет в гробу. Туч собирается свора, Стонет толпа: — О злодей, Власть твоя кончится скоро, Собственник темных людей! Черное шепчется жито, Ветер стучится в окно; Меду-вина не испито, Будет, ой будет вино!.. 1924«И вот напоследок я слышу…»
И вот напоследок я слышу Бездушное слово: прощай! Миную Госбанка афишу, Во мне утихает печаль. Напрасна попытка — смириться, Хоть я к примиренью готов. Ведь поймано слово, как птица, В воздушную сеть проводов. Ему улететь не придется, Глухую тоску унося, Ведь солнце повсюду смеется, Эпоха веселая вся. 1924«День светлый притомился и притих…»
День светлый притомился и притих, Дав глубину лазурному покою, Нисходит солнце тихо за рекою К раздолью грустных вечеров моих. Надолго остановится у них И пламенеет позднею красою, Как будто бы приводит за собою Ряд миражей кроваво-золотых. Окончен день. Но лучезарно-нежный На синь небес и на простор надснежный Разлился свет, и долго нету тьмы; Лишь месяц серебристый тенью вышит, Узоры темно-синие он пишет На пышных одеяниях зимы.МОНОМАХ
Он с башни-вежи Глядел на бор. Там след медвежий И волчий взор. И бродят туры — Цари лесов, И дуб там хмурый, И клекот сов. Глядел — и крепче Копье сжимал, А сокол-кречет Ему внимал. Воловья выя, Громо́вый крик;. Не Византия,— К степям привык. В победу веря, Кольчугой скрыт, Рогами зверя Не будет сбит. О Мономаше! Не уверяй, Что счастье наше — Покорность, рай. В прах обратится Чернец-монах, Копье ж и птица — В твоих руках! Гремит отвагой На все века Тот крик варяга,— Гроза врага! 1923«Месяц сияньем скуп…»
Месяц сияньем скуп После багряной зари. Город — каменный куб, Сонная грусть — фонари. Делу служить охоч, И не заметил я, Как уходила ночь Тихо в немые поля. Делу служить охоч,— Книги, бумага, стол. Все неудачи — прочь! Мыслям даю простор. Будто и нет стены, Будто исчез потолок, Вижу: идут чабаны, Путь их тернист, далек. Слышу твой первый крик, Пращур мой, крик земли, Ты ведь с пещер привык Слушать людей, что злы. Темным сказал: «мое — Женщина, конь, стрела»… Сын за тобой встает, Солнце узрев и орла. Первая мысль летит В необозримый мир, Первая песнь звенит, Славя солнце-кумир. Всюду парит орел, Солнце светит для всех. Мир человек обрел, Радость рождает смех. Может, не сын — лишь внук, Может, не внук, а все — Станут детьми наук, Гимны споют красе. Света и тьмы игра, Ум в небеса устремлен, Жаждет любви, добра,— Сбудься, мечтателя сон!.. 1924«Лезвием слов…»
Лезвием слов Клады наметь. Голос наш нов — Гневу греметь. Черным полям — Острый лемех. Слышит земля Песню-разбег. В синий эфир Мчись, самолет! Наш ныне мир Дерзких высот! Строим в труде Радость и смех,— Ищем везде Счастье для всех! 1924СПАРТАК
Гордый Рим… Победы легиона… «Энеиды» бронзовой строка… В наши дни, когда красны знамена, Кто вспомянет прошлые века? Консулы и преторы — до них ли? Лесбия, Катулла не ласкай! Игрища бесстыдные утихли, Колизей, из мглы не возникай. Новый век… И ныне в каждой школе Юноши, любители погонь, Полистают книгу Джованьоли И прочтут про гнев и про огонь. Он выходит, гладиатор смелый, На арену двадцати веков С тем, кто жизни делатель умелый. Нет преград для них и нет оков. Новые взрастают легионы С жаждою вселенских перемен. Революций красные знамена Реют, поднимая люд с колен. 1924«Весь день — над бульварами дождик висящий…»
Весь день — над бульварами дождик висящий, Затихнет и снова польет невпопад. К чему нам элегий мотив моросящий, Потрепанный, словно кашне напрокат? Ты, выйдя на улицу, грохни уда́ло, По камню ударь молотком молодым Для тех, кто в квартирах мечтает устало, И солнце тебе усмехнется сквозь дым. Умолкни, слезливая эта капелла,— Пусть ветром разносится гордая весть: Над городом новый встает Кампанелла И к солнцу взлетят самолеты — не счесть! 1924«Пусть семена лежат в ладонях сонно…»
Пусть семена лежат в ладонях сонно, Но всходы ясно прозреваешь ты, В них — синий день, в них — корни жаждут солнца, В них — женский смех, в них книжные листы. Я не люблю стенаний одиноких — Зачем давать созвездиям отчет? Ведь мысли не достигнут сфер высоких И мир неведомый их не прочтет. А ты, земля, тепла и так нарядна, Гудят об этом людям провода. Расстелет ночь свои сырые рядна, Покажется, что это — навсегда. Мечта, надежда, стон и сожаленье,— Утонут в предрассветной серой мгле, Но зоркое, иное поколенье Уже растет на молодой земле. 1925ЯМБЫ
Застряла где-то снежная зима С морозными ветрами. Даже странно, Что в городе давно уж листопад — Ведь так прозрачны, так теплы, бодрящи Приходят дни с манящего востока, Как будто вскоре им не угасать. Покоем веет от дерев безлистых, Их силуэты черные так броски На фоне синевы небес пустынных. Сегодня праздник. Где же отдыхать, Вдыхая свежий воздух полной грудью, Как не в садах, что выведут к Днепру, Над берегом высоким и крутым. Заметишь издалёка: столько люду, Как мух, там, где трава пожухла, И на лужайках. И над самым краем Стоят, к ограде парковой склонясь. А по дорожкам новый люд подходит — Поодиночке, парами и группой, Юнцы и пожилые, дети, няньки, Красивые или просты обличьем, И всех переполняет их отрада, У всех желанья ясные, простые. Приятный час покоя без печали, Короткий отдых от дневных трудов, Не он ли им кладет свою печать На лица незнакомые, чужие; Не он ли заставляет заглядеться, Когда до верхней добредёшь аллеи, На даль, залитую голубизною, На темь воды и бледные пески, На пароход, медлительно плывущий, И на леса густые, там, левее, Где пригородным селам так уютно. А наглядишься — словно бы напьешься Воды из родника природы вечной, И станешь кротким, добрым и печальным. Покажется: все так же беззаботны И счастьем маленьким своим довольны, Погодой, Киевом и выходным. Гляди: прошли задумчиво-почтенно Супруги-долгожители, ведя Подстриженную смирную собачку. А вот под желтым зонтиком красотка (Зачем он? — Ведь ни зноя, ни дождя…) Накрашенная. Серыми глазами Она толпу лениво изучает. Вот юноши, под деревом разлегшись, Вдыхают дым дешевых папирос. Как много тех, кто жаждет отдохнуть От ссоры, горя, мыслей и работы,— Ведь солнце мечет золотые стрелы И согревает смех приветствий, шуток, Как будто над садами не гремел Гром пушек революции, как будто Среди аллей широких — не могилы Ее героев, мстителей, борцов, А торгашей, помещиков — всех «бывших», Что в мир иной тщеславно отошли Под похоронный звон и скупость слез Родни, чьи души жадность пропитала. Она, наследство растащив, забудет, Да заживет богаче и вольней. …Из сада вышел я и вниз свернул На улицу, ведущую к Музею. И вижу: дом, размером невеликий, И мраморная на стене доска Гласит: «Здесь собирались декабристы». Меня коснулся снова свежий ветер, Я ощутил дыхание борьбы, Извечное сраженье поколений Запало в сердце. Но уже кругом Шумел весь город и неслись трамваи, К себе влекли витрины и афиши, Подростки предлагали покупать Газеты, пачки папирос. На лицах — Печать иной заботы. Ведь на них Наметила начальные морщины И светом неподдельным засияла Другая жизнь… Ноябрь, 1926НОЧЬ
Пришла и золото свое Рассыпала над сонным миром. Достанет сказок у нее Всем-всем — и милым, и немилым. Всех зачарует: речки гладь, Цветок, ребенка, — всю картину, И за долиною долину Начнет туманом выстилать. Не спит лишь старая земля,— Она в любую ночь, как в эту, Старается свои поля Небесному подставить свету.«Я ждал, что пройдет тоска…»
Я ждал, что пройдет тоска, Ты крылья души расправишь И нежно твоя рука Коснется вновь белых клавиш. Но был твой мотив тосклив, И комната словно темнела, Мелодии скорбной разлив Остановить ты не смела. И стала печальней лишь В жилище, где тени стыли, Казалось, что ты стоишь Одна в молчаливой пустыне. Всё меньше — света в глаза, И — неба синь пропадает, И гибнет твоя краса, Навеки, навеки тает…СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Если у вас ледяное Сердце, — оттает оно! Вспомните время иное, Детство, — в нем сказок полно. Так подшутить над парнишкой Лишь королева могла: Сделала сердце ледышкой, Холодом душу прожгла. Вьюга нагрянет лихая, Так, что не сыщешь следа, Будет разыскивать Кая Бедная девочка та — Милая Герда, отважно, Верная дружбе душа, Выйдет, хоть будет ей страшно, В путь одиноко спеша. Все одолеет преграды, С Каем вернется, и вновь Сад расцветет и левада, Вспыхнет, как солнце, любовь… Сказка, где время иное Радостью, счастьем полно. Сердце у вас ледяное? Пусть же растает оно!«В пожарах ты не пропадешь…»
И я на страже возле них Поставлю слово… Шевченко В пожарах ты не пропадешь, Где грохот пушек безнадежен,— В грядущий день твой путь проложен, Былую радость в нем найдешь. Там нищих нет. И меньше горя. Земля творит добро, как встарь, И солнце — золотой кобзарь — Шлет яркий свет на дол и горы. И травы ждут отар, и ждет Днепр — птичек-лодочек веселых, Минута — в городах и селах Жизнь загудит и расцветет. Ты, слово древнее, — на страже, Полузабытое, но все ж Ты пышным деревом взрастешь, Ведь так напевно время наше.«Не солнце — шинкарка пьяно…»
Не солнце — шинкарка пьяно Вином залила окоём, Клубились тучи багряно Под нежным небесным стеклом. Земля-сирота осенне Дрожала листом сухим. На дне золотого тленья Туманом стелился дым. А я (ведь наследник Феба!) Подумал: всегда новы Вечернее зарево неба, Покорность чахлой травы. Мерцали звездные соты, Означив небесный шлях, И знал я: другие всходы Взойдут на черных полях.«Снова вечером…»
Снова вечером Месяц-гостюшко Не взошел,— Поле чистое Уж не пахано Так давно. Ясно солнышко Утром ласковым Долго спит,— Ведь совсем не рад Свету белому Нищий мир. Мелкий дождичек, Только ты один Льешь во мгле,— Ой, взойдут цветы, Ой, растет печаль На земле.«Облака заклинаю, ветер…»
Облака заклинаю, ветер, Заклинаю, земля, тебя! К самым сильным чарам на свете Обращаюсь, солнце любя. Пронеслись огневые пчелы Меж зеленых полей людских. Заклинаю вас, тихие долы, Вы к себе не пускайте их! Ну, а темные тучи града, Смелый ветер, хоть ты развей,— Пусть цветы и поля и сада Будут в бедной стране моей! Ясный свет мой в степи без края И хрусталь росистой травы, Вас люблю и вас заклинаю, Быть желаю таким, как вы!..«Старой цыганкою ночь…»
Старой цыганкою ночь Сонным степям ворожила, Им просыпаться невмочь, Ведь прибавлялася сила. Вольный покой ковыля, Спящие звезды и воды. Вечно живая земля, Нынче встречала кого ты? Ветер пропал, и уже Рожь не шептала сердито, Что на усобной меже Двое нездешних убиты. О, мать-земля, разве ты — Только сырая землица? Спит еще твой богатырь, Голос трубы ему снится. Ночь не уснула уже, Где же найти нынче силы Видеть опять на меже Свежие эти могилы.«Я — лишь работник мастерской. Согрев…»
Я — лишь работник мастерской. Согрев Свои слова, я всем их раздаю. Я строю души, вызываю гнев И, в каждый дом входя, любовь пою. Я вдохновенье чувствую, когда У древних мастеров ищу свое, Но молодость беспечна и горда И лишь в грядущем помыслы ее. Из старой бронзы я оружье слов Кую на том огне, что ей сродни. Под неумолчный перепев ветров Труд бесконечен и победны дни!ГРОЗА
На свод небесный черного быка Загнали змеи молний, — нет им сладу. Лежит он и ревет издалека Пасущемуся на поляне стаду. То вспыхнут змеи, то наступит тьма, А бык ревет от боли и тревоги. Не дышит ветер, а земли — нема, Ждет буйных слез и светлой ждет подмоги.«Смотри: зигзаги молний бьют в отроги…»
Смотри: зигзаги молний бьют в отроги Зловещих туч, и слушай, как они Приносят ветер с голосом тревоги,— Безумен ветер, и кровавы дни. Не первый год, как отвернулись боги, Остались люди с мертвыми — одни, Живут и плачут: дайте же подмоги, Чтоб лечь спокойно в гроб под плач родни. И я скорблю. Меня гнетут раздоры. В днях нынешних ищу теперь опоры И прошлым, нет, не обольщаюсь я, Не расстаюсь я со своей мечтою: Встал человек над черной пахотою, Как небо, гордый, сильный, как земля.Майк Йогансен © Перевод Ю. Ярмыш
«Клубились, плыли тучи-горы…»
Клубились, плыли тучи-горы, Сверкала яростная мгла. О небо ласточки-планеры Тупили острые крыла. Багровый отблеск филлофоры С морским прибоем вознесли В голубоокие просторы Серебряные корабли.«Мне ли славить отвагу белых…»
Мне ли славить отвагу белых, Удаль пьяную наглых бандитов?! Просто выпало трудное дело — Грызть зубами проход в граните. Сколько дней и ночей в дороге? Сколько ранено? Сколько убито? Подкосились у пеших ноги, Кони до́ крови сбили копыта. Доползали до Перекопа По-пластунски по смертному полю, Врукопашную брали окопы, Вырывая ногтями волю. Панихиду по ним не отслужат Ни в земном, ни в небесном храме,— Но в работе и в час досужий Будут вечно герои с нами. В сердце нашем бойцы Перекопа, Что, сражаясь за лучшую долю, Врукопашную брали окопы, Добывая свободушку-волю.«У судьбы фигляром подвизаясь…»
У судьбы фигляром подвизаясь, Встал на рельс… Упрочусь? Упаду? Прянул ухом лес — зеленый заяц, Пялится на то, как я иду. Где-то за рекой промчался конник, Вечеру загадку загадав. Кисти уронил устало донник, Схоронясь в таежных дебрях трав. Сколько раз встречались дни с ночами, Обнимаясь в сонной тишине, Совами кричали и сычами, Ветками дерев грозили мне!.. В ловкости с фигляром состязаясь, Добреду ль до цели? Упаду? Притаился лес — зеленый заяц, Пялится на то, как я иду.РОНДО (Моряки — лирики моря)
Плывут кораблики морями Вдаль — в неизбежный океан. Ютится сон в морозной раме, Восходит солнце из лиан. Среди порока, где обман, Я вижу вас в старинной драме, Луч света гонит прочь туман… Плывут кораблики морями. Флагшток увенчан, под ногами Вновь пробуждается титан, Лишь миг — и зазвенит пеан: Плывут кораблики морями Вдаль — в неизбежный океан. 1927Микола Хвылевый © Перевод В. Чубур
«Ваш праздник это, шахты!..»
Ваш праздник это, шахты! Я нищий, мне легко: Принес вам слово-злато Ярчайшего Франко. Лови, завод кузнечный, Седого неба смак — И ковш куется млечный, И молния-маяк. Родился я на сене, С травою вместе рос, И стал мой смех весенний Острей серпов и кос. Потом, когда заводы Позвали что есть сил, Я в поле, в огороды Забвенья нож вонзил. С коровой попрощался, Коню, волам — поклон, И во весь дух помчался Туда, где сталь и звон. И расправлял я крылья, И закалял себя, И для меня открыла Иной простор судьба. И вкус иной свободы Почувствовать я смог, И вам теперь, заводы, Несу огней венок. Ваш праздник это, шахты! Я нищий, мне легко: Принес вам слово-злато Ярчайшего Франко.«Сердце, полное красных огней…»
Сердце, полное красных огней, По дорогам и тропам нести И в железных объятиях дней Твердость духа и мышц обрести. Шлаков золотом землю поджечь, И губами ловить в небе мед, И постичь родниковую речь, И стремиться отважно вперед. Верить только в победный конец, Не устать от утопий и грез… Жизнь, о жизнь, ты и молний кузнец, Ты и кузня — земля вечных гроз! Тьму бороть изо всех своих сил, Восходящему солнцу помочь. Снег и сталь, я ваш любящий сын, Ваша мощь.«И на сталь взглянул я — утонули очи…»
И на сталь взглянул я — утонули очи. И пророчу: сгинет, сгинет ночь навек. Докричит кукушка — и замолкнет в чаще, И шмыгнет в овчарню по-кошачьи шум. Солнечных узоров тайный смысл постигни! …Жажду беспредельно, жажду сверх всего, Потому и звездам, недоступным взгляду, Бросил я метельно вызов золотой. Грезил в кочегарке — жар вбирал глазами, Тосковал лосенком осенью в лесу, Где луна скрывалась в лепестках рассвета, Где алмазы сеял, высевал восход. Солнечных узоров тайный смысл постигни! …Жажду беспредельно, жажду сверх всего, Потому и звездам, недоступным взгляду, Бросил я метельно вызов золотой.«Не жалей ты, мать, сына родного…»
Не жалей ты, мать, сына родного, Что покинул степей колыбель! …Неуклюжую сельскую мову Заплетаю в тугую кудель. Загляни мне в глаза без опаски — Журавлиное светится там. Вихревой, верен я твоей сказке И напутственным чистым словам. И забрезжит, и мрак содрогнется, Мрак, давно надоевший степям, И взойду, как веселое солнце, Взгляд лучистый заводу отдам. Всех твоей наделил я надеждой. Мать моя, ни о чем не жалей! Погляди на рассвет мой, пришедший После грома и звездных дождей.МЫ
Мы шагали мимо шахты… Мы — любимая и я. Солнце пело на свирели, пело липко на свирели — леденцовой… За руку я взял ее, и нырнули наши очи в легкий ветер. Ах, как ветер засмеялся — и сиренево, и хрупко, когда рядом с сердцем кто-то разбудил стеклянный звон. И свернули мы на тропку… …или в солнце мы вошли? — Расскажи мне, сокол ясный, о рассвете? — …Над криницей луч рассветный, на коленях бор сосновый. Зарево металось в небе: в память бил прозрачный шлак, леопардил каждый мускул. …Был я, как железо, крепок, а она — стройней березы, белоногой, молодой… Мы шагали мимо шахты… Мы — любимая и я.ТЕНИ
Кровь залила лицо когда-то… …на ярмарке давно. Ну почему ты не очистила, ночь, брови? Ну почему? Морось в голубых глазницах, слякоть. Сказками я захотел пожить, а небо нанялось, наверно, плакать… И нищенкой — сухарь в котомке — с морщинами заботы на челе судьба свернула на тернистый путь. А там, а там уже идут, идут, идут. Куда? Когда-то так же вот приплыли и отплыли. Плескалися моря… ныряльщик ты, мой челн!.. Закат багровым был, и паводок бесился. …Тени, падают тени. Свист нагайки Тьера. Ну-ка, хлопцы, по коням! Кони! Кони! Кони! Ужас.ОТРЫВКИ
I
В ночь мы вонзим штык. Время кровавых гроз. Мова, родной язык,— С нами на звездный воз! Ветер — в оглобли туч, Месяца рог — дуга. Буря, срывайся с круч! Гром, посильней ударь! Быстро небесный ковер Блузою станет весь. Буйно-железный гром, Грянув, отдаст честь. Шляпу бы нам! И вдруг Вспыхнет Волосожар[4], Из разноцветных дуг Сделаем пояса шар. Мглу раскроит штык, И зазвенит заря… Мова, родной язык, Мчится туда, за моря.II
На Марс! На Марс! В тулупе тучи, Что сшит фабричною трубой, Под молота удар могучий Мы ввысь летим — стрелой. Уже земля, как все планеты, Не ведает, где — низ, где — верх. А мы… мы млечный блеск кометы, Мы голуби астральных сфер. А там, там жизнь, отнюдь не бездна,— Тысячи стран систем других… Туда стремимся, в занебесье, В мир солнц зеленых, голубых. Сатурн, пылая, ждет прилета Межзвездных птиц. Жди, космос, жди! Нас целый мир, нам нету счета, Мы — громы вешние, дожди. И сердце рвется, рвется в космос, В извечный хаос вихревой… Туда, в заоблачные грозы Толпа летит, летит — стрелой.У КОКСОВОЙ ПЕЧИ
В печке моей колдовской, В лютой неистовой вьюге Жара безумного рой Мечется, мечется… Други! В эту минуту, поверьте, Я между жизнью и смертью. Только мечты, как зарницы, В небо стрелою… Сердце устало уже колотиться… Бьется И за горою В травах железных пасется… Лопату беру я И в пасть… углем! Кормлю я, Шучу я С веселым огнем. Как дождик, в жару залетевший на миг, Лепечет в печи уголь черный, шумит… Дымится… Дымится… Но видит мой взор Не дым, а в камнях драгоценных ковер — Сверкают рубины, Как гроздья калины, И небу подобна лежит бирюза, Правей — диаманты, Смарагды, сапфиры, Левей — аметисты, Агаты, роса… ……………………………… И словно сам — Я весь в каменьях, И словно целый мир В усыпанной созвездьями короне На солнцетроне Горит, дрожит!..ЧТО НАМ МРАК
Там, где ветер Лепетал О весне сугробам улиц, Златоветви Колыхнулись — Новый день шагал! На качели сядем вместе И разбойничать айда! Мрак, печаль? Я звонок, весел — Молотка стальной удар. Меркнут тени. Блекнут блики. Вечер весь в крови, в огне. Что он мне? К нему привык я, Да и он привык ко мне. На бескрайнем небосводе Мглу берут на копья звезды. Как вчера, так и сегодня Вечер хмурится от злости. Рядом с сердцем — ах, как бьется! — Горлица воркует ночью. Сердце вдруг с цепи сорвется И голубку защекочет. И сквозь мрак степей тоскливых Зоревой начнет полет… Мы — весну несем на крыльях. Наши дни — огонь и лёд.НА ПОГОСТЕ
Могилы. Краснотал. Кресты. И братский тут покой. Тихо! Прислушайтесь! По шатким ступеням всё выше и выше — Как время, извечный бунтарь — во мрак, помертвевший под купольной крышей, бить в колокол лезет звонарь. …Вдруг — треск пулеметов, и залпы орудий, и визг в синеву: — Нет неба, нет не-ба, а есть борь-ба!ПЕЧАЛЬ
В зеленых композициях сегодня рос, а после долго с корпусами, с домами городскими говорил. И руки бледные, как месяц,— его, его далекий сноп!— ко мне сам гений простирал: то Леонтовича зеленый, печальный, как осенний, дождь. Тоска, забота, грусть, унынье — поклон мой вам! Люблю я в поле, на кургане, стоять по вечерам, прислушиваться и молиться тому, что там, в низине, тлеет, когда в селе, таком далеком, перекликаются дворняги. Так в композициях зеленых растет мой дух — гармония сознанья. …В зеленых композициях сегодня рос.«На улице праздник…»
На улице праздник — и за окнами девчата с заводскими хлопцами за руки взялись. — Ой, куда ж мы, парубки, да идем сегодня? — На завод! На завод! — Ой, хотелось, милые, во поля широкие, побродить в цветах! — Нам туда не хочется. Что нам там? Не терпится — мы идем ковать… Так ответив, парубки повели за рученьки молодых девчат. И затихла улица, и запело в кузнице песню ремесло. А на браме, черной браме золотыми куполами небо проросло.ПАВЛУ ТЫЧИНЕ
Мы любим сталь, чугун и медь, Бетон и гибкость жести: У них учился гром греметь, А струны — петь о жизни. Несем рассветы на плечах. Нужны отчизне звезды? Штыками, саблями в боях Их снимем с неба просто. К лицу ли и тебе, и мне Слагать цветочкам гимны? На революции коне Мы за нее погибнем. И конь ревет, копытом бьет, Всегда подобный бесу. И панцирь радости кует Новый кузнец железу.СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ ЗИМА
Поселок на горе, а там — завод сизый. На сердце лепестка тепло и тихо: мак. Уже отщебетал хор птичий гимны, мессы — стучится в дверь зима. Ни лодок на реке, ни лебединых крыльев, не за горами снег, и листопад горит, и солнца первый луч плугов уже не будит — ослаб и долго спит. Спокойной ночи всем! Мы, гуси, отлетаем. И я не устаю за солнцем вслед лететь. И в жизни так всегда: не замечаем солнца, пока не устает оно светить и петь. А желтый ветерок резвится, как лосенок. Дуб голый на уме. Гудок. И вот, пыля, товарищи идут, идут, как франкмасоны, и так же, как они, задумчивы поля. Запала тишина. Сгорают молча листья. Понурый пес бежит через глухой овраг… В какой гармонии дождусь я нынче гостя? Стучится в дверь зима…ГОЛОД
Уже обглодали кони деревья, Чахнет от засухи и осот. Скованы страхом дороги, деревни, Ужас гнезда вьет. А солнце лучи каленые точит, Острит, как ножи, острит, И каждый, сумевший дожить до ночи, Отчаяньем только сыт. Возы надрываются, ищут хлеба, Плетется следом тоскливый скрип, А на горизонте срывается с неба Грома предсмертный хрип. И бледноволосые дни отцветают, И травы забыли прохладу рос… За хлевом голодные псы доедают Сухой прошлогодний навоз.«За зеленым лесом…»
За зеленым лесом грянул выстрел-гром. Тучи — стаи. Дым столбом. И в лугах туманы, и в полях. Отуманьте еще небо — бах-ба-бах! Расстреляли поле, кровь на цветах. Корчится бандура — в чьих руках? Море крови, море! Безупречный смех так раскрасил землю — куда весне! Покатился выстрел, и другой за ним… мрак убегает по стволам… дым…«Столбы… Столбы…»
Столбы… Столбы… Кабель переплетается над землею, Переплетается. Зов. Шлях. Шаг. Мы вышли на поиски счастья Голубиного. Даже месяц бледнолицый Искрит… Четче путь отмеряйте шагами, Глазами! Мышцы закалите, Легкие — в мехи! Задетый молнией золотой, Дуб трещит вековой… Столб! И кровавыми солдатскими штыками Растерзаны дебри.«То дыма молоко душа на зиму цедит…»
т. Сосюре
То дыма молоко душа на зиму цедит, Из хлева мы идем в шатер железных дней, Один маячит путь, глаза привыкли к цели И не пойдут бродить по золотой стерне. Сирень звенела мне о цветниках-заводах, Жужжащий шмель обжег мне взгляд, когда проник Я в пение твое, где — как в медовых сотах — Слились в одно и луг, и солнце, и родник. Как хорошо любить! Захлебываться счастьем, Сияньем рыжих кос будить в ночи пруды И с новым днем идти — с тем петушком горластым. Который держит путь в небесные сады.«И набрал дождь минорный силу…»
И набрал дождь минорный силу, И слетает с осины лист, Только сердце мое не застыло, Не замолкло, ведь я — коммунист. И шагаю с попутным ветром, У меня на ладони — заря, Завтра я разбужу этим светом Беспросветных, таежных зырян. Прячу в жалких лохмотьях — гения… Не Магомет, не Будда он, не Конфуций. И не примете вы его так, без прений: Он из чрева моей революции. А погода — «мементо мори», Тротуары в объятиях вьюг, Только скоро — слышите? — скоро Потеплеют глаза и у шлюх. Зря свою не подставлю голову — Я железный, я все могу, Лучше где-то застыну голый На снегу…ГОЛУБОЙ МЕД
Мед голубой течет в уста, приколота к пространству вдохновеньем душа — коллекционный мотылек. Антенны… ах! занятно… ах! Луна и там над городом блуждала, и корабли к песчаным берегам так тяжело, так трепетно тянулись, а в мачтах вил гнездо обломок бури. И не искали для себя тогда созвучий гармоничных, не наполняли музыкою воздух аэропланы. И только на ночь глядя коршун кружил вверху, а рядом суетились нежные ласточки и точками врастали в нагую высь. Антенны… ах! занятно… ах! Душа — коллекционный мотылек — летит все дальше, в глубь вселенной. Одно воспоминанье пролетела, затем — другое, а на третьем — вдруг распяла сама себя… Чело прострелено не жалом радуги-пчелки, а печалью. …Но, навзничь пав, она лежит один лишь миг, а после вновь бежит, бежит, бежит отведать меда, голубого меда.«Встал день, взвалил на плечи небо…»
Встал день, взвалил на плечи небо, Вздохнул так солнечно — и вдруг Пролился краской, алой краской На пасмурный пейзаж вокруг. А может, кровью? Может, кровью? Но неразлучна жизнь с любовью. Цветут, здоровьем пышут все. И по рубиновой росе Шагает человек…ПОЭМА МОЕЙ СЕСТРЫ
Весенние кварталы. Угол. Моя сестра — гулящая. Темнеет. — Я всем доступна! Для вас потаскуха я. Отблески крови в фонарях красных — это юная кровь — моя. Мое лоно ждет вас, все оно в цветах. Груди вспыхнут звездно, в голову — туман… …мечтал и звал… …мечтал и звал… Вскипает страсть. И крысы, крысы, суетятся крысы. И, словно жала, обжигают тропки подкрашенных бровей. На купола церквей нисходит тень. Во взглядах умирает день. Квадраты. Конусы. Бетона горы. Звенит. Гудит. Город. …………………… Сквозь земную кору в глубину, где страдает одышкою магма, поводырь моих дум зашагал. В недрах быстро смеркалось …темя тьмы …невтерпеж И на кружеве вздохов кончалась, умирала стыдливая дрожь. Два крота, два подземных вампира, кровь сосали, сопя, друг из друга. То был бой, бой за самку. Слепую. Наконец-то один победил и, пожрав проигравшего схватку, лез в гнездо, лез к горячему телу — и насел… Я на полюс летел! Я на полюс летел, где из вод океанских на льдину два тюленя карабкались — случка —I
…Чернобровая самка, самица… Я! бросила радость в нашу бурю и на интернациональные позиции сердцем перешла, бровей не хмурю. Мой отец чахоткою страдал, в груди носил он огненную осень. Думала о первенце весны, дремала на звездном утесе. Пришла она, метелица-вьюга, заметалась по кварталам темным, и я, уличная потаскуха, отдалась революционному темпу. …Теперь — фонари погашены. Светает рано… Солнце — всех лозунгов краше… Земля родная! Сколько тех бездорожных дорог… Товарищ, выберем шлях, где над головою клубится гром и флаги трепещут в очах. Далеко, брести далеко, штык террора грозится: — Подстерегу! — Но к вратам коммунистической Мекки с тобою, ветер, побегу! С тобою, ветер, побегу в диадеме красного страдания. Эй ты, буржуй! Я дочка пролетарского восстания.II
В сумерках — казармы. А у ворот красноармеец — часовой. — Мое сердце с вами, я уже не шлюха, родной! Но боюсь, боюсь идти наудачу. На моей тротуарной душе снег. А в груди — лебеди прячут песни свои о весне. И мечтами лечу на край света по дистанции цели дерзкой …прячется стыдливо вчерашнее за крыши детства. Подошла. Опустила ресницы …глаза мировой революции — ты? Я! И переступила порог. И повеял в лицо ветерок. И — пропал, не сорвав платок.III
Заводы, моя отрада, мечтают о весне, но под зимним небом — штыки. — В отряды! В полки! — Все! А я беременна. Зарею. Смех под ребром уже пощекотал — гнездился это там, на горизонте, наш женский молодой рассвет. И пошла я, пошла впереди всех, прочь отгоняя мещанское счастье, что так долго, до ужаса долго жизнь мою раздирало на части. …………………………… Ой ты, бурный мой мир! Свободна! Сброшу тяжесть двойную. Вмиг. …Бьются о стены волны, а я на серебряном гребне. …Бьются о стены волны — слухи, сплетни… Слушайте! Я — Мадонна. Спас — в низу живота. Только в мечтах в дом мой он фантастичный влетал. Слушайте — я — Мадонна, плод, словно дар, носила, явится сын мой — ждите! — сын, кучерявый Мессия.Прокламация 1-я
Труженицы всех просторов! — вам — эта прокламация. Возьмите мой бунт для своих обид. Вам правды огрызки снятся, я слышу, как звездное веко гудит. Довольно продавать тело у церковного и вашей семьи престола! Глядите: весна забурлила на подступах к чистой любви. Я, бывшая шлюха, к вам обращаюсь, к вам, проститутки без формальной проституции, — женскими порывами своими причащаюсь к освобождающей нас революции. Взываю к вам, докричаться жажду: порвите самочьи цепи постылые — и станете свободны дважды — неукротимые! И увидите ясные ночи, где места нет похоти грубой… Плюньте вчерашнему в очи под грохотанье орудий. …Я, бывшая шлюха, к вам обращаюсь, к вам, проститутки без формальной проституции, — женскими порывами своими причащаюсь к освобождающей нас революции. ………………… …………………IV
………………………… Копытами призыв мой, чистый, страстный, отбили буйволы, атака — псу под хвост. Но не погиб он, он летит в пространстве, а впереди — мерцанье новых звезд. Те буйволы — чувств низких порожденье, стоят на всех дорогах их стада. Душа запуталась в веках, душа в сомненье: куда лететь, куда? И снова я — одна.V
Мимо вечной муки сердца пролетел свирельный плач, и накрыла тихо жертву оксамитом черным ночь. Это лозы так играют, вдохновись мерцаньем звезд… Я туда хочу, где в небе факел радуги парит. А у тына голубого — что за течки визг и рев? Плоть хрустальная бунтует, отеррорьте ж и любовь! Мимо вечной муки сердца пролетел свирельный плач. Это лозы так играют… Оксамитом черным ночь…VI
Эй, херувимы и серафимы, ангелы всех мастей! На бархатные ковры тумана — скорей! Время работает не на вас. Долой с глаз! Колдует вьюга, колдует. Не революция — зима. …стою, негодуя… …тьма. Колдует вьюга, колдует. Он, смех снеговой… …стоит, негодуя, товарищ мой. Колдует вьюга, колдует, Заметает свет… …стоит, негодуя, и ворог степь. Эй, херувимы и серафимы, проклятье вам… …так интродукция в туман.VII
Плоть моя! В гаремы атмосфер из заводских ворот тебя несу я в чаше. Ты запоешь на пароходе светлом: — Я не одна! Я не одна! О ветер! О раввин, мой ветер! Пересеку весну кошачью, вновь отточу и смех, и плач свой… О сын мой, сын моей мечты! Я — Магдалина! Кто же — ты? Удар смычком — хочу быть с ветром… …В свободный дух и плоть поверьте! Горит, пылает в небе кокс, и стал призыв мой всепланетным. Я верю в свет Волосожара — и прочь бредут понуро волки. Я верю в свет электроламп — и вот жених меня зовет. Я вижу — растворились тучи в прозрачном небе.VIII
Прокламация 2-я
Товарищи коммунисты! Станьте со мною рядом и снова в трубы: — Меч! — Идет мой враг смертельный — будни. Только от вас я жду совета, я жду защиты. Ах, заря моя так стонет-стонет: песчаная пустыня без воды, дух не сумел наполнить светом тело, и тело вновь сосут кроты. Я, ваша матерь и сестра, лежу в объятьях похоти нечистой. Позор земле! А ну-ка, в крик: — Восстаньте все! Наш дух не знал еще разора, погибнуть не дадим весне. Эй, революция для духа! Так говорит вам бывшая шлюха.IX
Нет еще никого. Одиноко. И над бездною мечется взгляд, и сорит лепестками до срока ожидания женского сад. Чернобровая самка, самица. …Пусть вам флюгером служит плоть. — Не хочу я вдруг окотиться! — Не хочу в людях видеть скот! Кто из вас знает вкус террора? Кто из чаши громовой пил? Я гляжу быстролетным взором не на сотни — мильоны миль. Для скитальца — штормящие воды, смерчи, молнии, тяжкий удел. Для воскресшего — только полеты еще дальше, туда, за предел. Почему же, на миг задержавшись, не сказать, что есть плоть, а что — дух? И сестра я, и мать, совесть ваша. Я со скорбью своею бреду. Но нет! — промелькнут синеглазые сны, только красный фонарь не проснется… И под мороси шепот осенний не забрызгают юбку мою тротуары. Не пойду я шлюхою шляться на мосты и проспекты. В революционной отчизне пришел конец моей продажной жизни! И гляжу я на вас, на вас, проститутки без формальной проституции, и на душе становится так зябко, как в полночь ледяную на углу. И тогда шаг стремлю в заводские ворота, потому что подснежники нашей весны запахнут в рассветном дыму трудового пота. …Слышите железа лязг? Это куют нам двойную волю, тяжесть двойную снимают с нас. …И наконец заголубеет органно: — Радуйся, плоть моя! Радуйся, друг! …Спешит слиться с плотью свободный дух!Олекса Влызько © Перевод А. Руденко
ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
Холодный шторм в холодной злобе, обвалами — холодный гуд… Все море в бешеном ознобе. Летит девятый изумруд… Ударит в берег, разгорится… Он — пьяный гений трех секунд — над скалами поднимет бунт и вдруг угаснет, разлетится в ничто, в ничто… Таков и ты, поэт сердечной маеты!ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ Монолог
Огня! — Сверхчеловеческой любови! Пусть в молодой груди вскипает кровь! Беру тебя, беру, мой мир терновый, В объятья солнечные! Огневой Могучей птицей облетаю ныне Всю землю… И над людом простираю Бескрайние крыла. — Придите все Под их покров: коль не найдете рая, Найдете пекло молодых объятий — Всемирных, сильных… В них испепелятся Жестокость, злоба… А инстинкт звериный, Который скалится и жаждет крови, В объятьях этих — тоже сгинет сразу, Навеки сгинет — больше не воскреснет… Как не воскреснет тот, кто упадет В бездонный кратер, ненасытный кратер Вулкана — запылавшего, как сердце!.. Огня! — Сверхчеловеческого буйства! Любови пламенной! — Без слов, убитых Губами евнухов… Губами тех, Кто вместо сердца под шелками прячет Вонючую отравленную яму С могильными червями… Так скрывали Ублюдки рахитичные — потомки Дегенератов с «голубою кровью», С гербами пышными, «красою рода»,— Уродство язв под золотом плащей!.. Огня! — Сверхчеловеческой любови! Живое — сильным, мертвечину — сгнившим… Любови буйной, солнечной (огня!), Такой любови я желаю ныне, Чтоб — сразу все живое охватила… Чтоб только солнцем, только солнцем жить! И добывать горячим потом счастье Для сыновей и внуков… Для потомков Далеких!.. Эй, огня, огня, — любови! Пусть в молодой груди вскипает кровь! Беру тебя, беру, о мир терновый, В объятья светлые! — В любовь мою тебя кидаю, как в огонь пречистый: Сияй! И очи всем несчастным исцели… И ослепи того, кто выбрал темень — Кто в яме прячется!.. Любови и огня!!!БАЛЛАДА О «ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ»
Тяжко идет броненосец в рейс. Все дальше земля — старый кабак… На мостике капитан. На губах тринадцать чертей… У глаз его — цейс. В раздумье морщится хмурый лоб… На траверзе солнце и синий чад. Жерла орудий, как жабы, глядят — каждое в небо вздымает зоб. Жмурки безбрежья… Клокочет даль. По палубе — дождика теплый крап… Звенят якоря. На бакборте трап тихо и холодно скрежещет о сталь… Во мгле — океан умолк и обмяк… Внезапно — приказ: — Повернуть! — Вест! — На траверзе мачта воздела крест, на мачте виснет кровавый флаг… Остер, как кортик, курса пунктир… И рвет смешок на губах лейтенант. На том корабле, на остатках вант, развешаны трупы… — Как холодно!.. — Бррр!.. Все ближе корабль… Все страшнее… И смрад уже броненосцу наперерез несет налетевший легонький бриз… — Повернуть!.. — Назад!.. Ушли далеко… А по спинам — мороз… Как только на палубу сумрак упал, на баке товарищу рассказал о «Летучем голландце» рябой матрос… На волны дышал ветра шалого мех… Схватившись за черный, холодный борт, стоял капитан, вдруг — рванулся, как черт, и в спазмах сквозь зубы выцедил смех: — «Летучий голландец»?! — Ха-ха-ха! — Ведь то — коммунаров расстрелянный бриг!..— Но тут пошатнулся… И хохот — вмиг назад затолкал в свои потроха… В раздумье морщится хмурый лоб… На траверзе злато и синий чад. Орудия жабами в небо глядят — вздымает каждое скользкий зоб. Жмурки безбрежья… Клокочет даль. По палубе — дождика легкий крап… Звенят якоря. На бакборте трап холодно, жутко скрежещет о сталь.БАЛЛАДА СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ УЛЫБКИ
Меж сердцем и разумом снова разлад: я грустный итог подвожу… Над пульсом, над ритмом английских баллад в потемках вечерних дрожу. Хмельной мотылек залетает в окно, и в жилах моих — не кровь, а вино. Я милой, чьи губы — как маковый цвет, в стихах сочиняю привет: О, что мне поделать? Ты знаешь сама, что ночь сантиментов — нема! И чувство мое — заколдованный круг… А к лирике звездной — я глух! Только к тебе я любовью томим! Нет в мире подобных фей! Можно было б коробки сластей украшать портретом твоим! Губы твои, Очи твои — гнетущая красота! Они — не мои, они — ничьи… они — миражи… мечта! И все безнадежнее, все слышней секунд безжалостный бой… Что ж, мучай меня! И в кровь мою влей полыни терпкий настой! Попробую стать безразличным — и умолкнут губы мои… Но так безрассудна и молода крови моей маета! Вот завтра всю горечь с души я сотру, и ветер ее унесет… Не стану стихи продолжать поутру, а просто забуду все… Но милой, чьи губы — как маковый цвет, уже сочинил я привет… Хмельной мотылек тихо канул в окно — в саду затерялся давно… …Вот только у разума с сердцем — разлад: печальный итог подвожу. Над пульсом, над ритмом английских баллад в тревоге неровно дышу.Михайль Семенко © Перевод В. Михановский
МОМЕНТ
Несколько нестройных впечатлений Проводил на вокзал сестру Было нежное утро Мы продрогли на ветру Ждали поезда часа два лениво работала голова. Сыро и скользко на Ромодане Побежал купить билеты Заодно газету Небо замутилось было оно так близко И словно в тумане Гайдамаки на платформе с винтовками жупаносвитки в невиданной униформе. Во встречном поезде встретил давнего знакомого его путь лежит через Азию в горы мною недавно покинутые места мне хочется сесть в вагон в противоположную сторону умчаться хоть дорога крута к чужим далеким родным милым берегам. Но мы руки пожали и я в Кибинце. XII.1917. КибинцыМИСТИЧЕСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
Я жду когда ветер сделает свое дело Когда рекламно охватит город профанация Когда вспыхнут огни и погаснет небо И замигает в глазах праздничная иллюминация. Я жду минуты когда дороги сойдутся Пересекутся параллели и сольются спирали Все пути направленья давно уже рвутся Все дороги сходятся к мистической магистрали. 2. VI. 1918. КиевМОЛОДЫЕ АВИАТОРЫ
Я приветствую вас, молодые авиаторы, И тепло пожимаю руки. Сдвинулся искусственный экватор, У моего порога вырос бамбук. Я освещаю сердца бензинного блеском Шум пропеллера и кожаное кепи. Все огражденное рушьте с треском — Интернациональте степи! 1918. Кибинцы — КиевОЖИДАНИЕ
Прошло 5 веселых трамваев. Вас нету. Ах, как зимно на углу ожидать в мае, Когда пустота немая в сердце поэта. Вышла панна — совсем не похожа на Вас, Ландышами благоухая. И долго-долго следил мой взгляд, Как каблучки блестят, И мечты качали меня, играя. 1918ПОЭМА ГРЯДУЩЕГО
Неведомые грохоты и громы Изобретений новых и патентов Блестящей меди солнечные пятна Строенья гордые железных архитектов — Душа моя полна соревнованья Вся сила разума горит в порывах И кровь моя вся пенится в стремленьях — Луч ощутить искусственного солнца. Мой взгляд опередить готов экспресс Он между склонов каменных проходит Которые в себе пока что прячут богатства будущей реализации Пересекают горные долины усовершенствованные каналы вдоль тучных стад ухоженной скотины до волн прозрачно-голубых а там гранит кончается суровый и там начало той голубизны что гордо именуют океаном он атомным движеньем побежден микроскопическим необоримым и кабелем преодолен бескрайним который пробирается по дну. Мой взгляд электроток опережает моя бессонность зверя побеждает таящегося до сих пор во мне мое нечаянное вдохновенье аморфность изгоняет из меня моя же гениальность завалы обстоятельств разрушает. Себя я ощущаю без границ себя я ощущаю надкультурным надрасовым я чувствую себя с бессильем атавизмов я сражаюсь которые все больше угасают и становлюсь грядущим я и сильным и шумы постепенно переходят в неведомую музыку бетона и человек что сделан из железа встает уже слепящим силуэтом и вот он во весь рост стоит на фоне материи что им побеждена. Недаром электрическая воля из глаз его распахнутых струится в ней скрыты необычные приметы пред нею горы рушиться готовы простор и время слиты в ирреальность и мирозданья строгие законы способна эта воля изменить вот так великий синтез создается эгоцентризм и объективность слиты и апогеи восхода и захода свиваются в неслыханный клубок в своем интуитивном единенье сошлись я вижу в неизбежной точке природа порожденная — с природой которая другую порождает.ПОЭМА ОТВАГИ
Ночно. Пятнит фонарная рама. Постель белеет — ведь я не сплю. Стихла, промчавшись по улице, драма. У-лю-лю. В засыпающую мысль Искры гирляндных слов. Я хочу, чтобы мне приснилась Гренландия В брильянтах бескошмарных снов. Друзья мои, закройте энциклопедии и фолианты! Друзья мои, в экстазе вперед — другого нет! Пусть каскадно голубятся веранды И опурпурит вселенная бред. Кто вскрикнул: — боюсь —? Скажи матери, что надежд ты не оправдал всех! Потому что в душе ее мрачный груз. И — презираемый — ты услышишь мой смех. Неведомыми нитями Прошиты дали мировые. Энергия — электрическими ручейками — Заполонила весь свет — И исчезнут слабые, исчезнут смешные, Исчезнут больные В распаде неиспользованных лет. Я электричество включил, Друзья мои, ночью — для вас это! Я ко сну и болоту себя не приучил — Я не могу спать, не могу до рассвета. Кто там зажег во мгле неясной Факел блестящий над маревом стен, Обнимающих пустоту, Чтоб осветить дорогу мечте напрасной, Чтоб осветить руин красоту? Сбегайтесь, сбегайтесь, титаны-великаны, Силуэтами тайными со всех сторон! Это я зажег электричества океаны! Это я разбудил звон! Бояться вестников не надо, Не оглядывайтесь, не возвращайтесь назад! В мусорниках, запоэтизированных цветами, И там, где кладбищ ограда, Змеится мистический гад. Я люблю, я люблю бульварные взгляды, Я не подам несмелым руки. Кого голодом одолженным Косит смерть без пощады? Кто отчаянно просит: — кинь —? Перейди, перейди разъяренную улицу, Прямо в глаза сумасшедшему глянь. Пусть вниманье твое и мозг напрягутся, А ты рассмейся и стань! И когда станет неприветно и холодно — Зайди в городской сад. Друзья мои, не бойтесь вестников! Друзья мои, не возвращайтесь назад! И кого крик неожиданный оглушил — Тот оскорбил существованьем И эпохи величье, и нас. Друзья мои, я встал и электричество включил, Друзья мои, ночью — это для вас! 1918ОСЕННИЕ СКРИПКИ
Ночь вздыхала последними каплями Пришептывая съежился сад Тоска исходила затененными пятнами И был таким заброшенным фонтанный каскад. Программа завершается скрипичным соло Листки трепещут на пюпитрах нот И был слишком болезненным тоскующий голос И был таким ненужный завершающий гавот. Умирали все отблески Умирали все надежды вздыхая тяжко И был таким чужим и далеким кафе-ресторан И казалось — не прикрылит и сердце не обогреет Пташка И казались такими неприступными Тающие силуэты панн. Толпа втягивается в электрические ворота Предстают такими мизерными передэстрадные скамьи Была такой прозаичной и будничной забота И так жаль было праздника И в сердце плакали ручьи. Седовласый дед вспоминал о далекой молодости Окрыленность Механически офутляривая предназначенную виолончель На музыкантах печатью лежала Усталость и отрешенность И так нереально грустил за киоском Боттичелли. И казалось с самым дорогим на свете Связующие рвутся нити Там где скрипок осенних Затерялись звуки печально Оглядываясь на трамвай Думаешь о гогеновском Таити И шагая по тротуару Приглядываешься к трепету точек дальних. Вспоминаешь что завтра идти на лекцию Английского языка Берлица Зима минует кровь за океаны Всей молодостью властной позовет А то что было навсегда исчезло И не вернется больше безусловно И ты уже без жадности особой Взираешь на зеркальные витрины Кондитерских закрытых и кафе. Проходят мимо людные кварталы Безудержны огни и грохотанье И от мечтаний на плечах свисает Уставшая сверх меры голова И вспоминаешь слышанные прежде Ты всплески что нежны были как голос Какой-то позабытой русодевы И вспоминаешь теплые — но чьи же? — Недавно отзвучавшие слова. 1918МАЛЬЧИК
Молод я, но многое познал, Мир и жизнь постиг довольно рано. И душа еще желает ласки, Я еще ребенок — и когда же Взрослым умудрился стать? Я желаю друга, как когда-то, Когда был еще идеалистом, И к тому — достаточно наивным. Пусть меня хоть кто-нибудь поймет! Мальчик я еще — о встрече с панной Я мечтаю, до сих пор желанной. Ко всему еще — я непрактичный, И пугает женщина меня. Что еще сказать? Непостоянен. Жизнь моя — как будто белый круг. Погодите — завтра Арлекином Стану я, И зазвенят на шее Маленькие чудо-бубенцы. Жизнь меня, похоже, обогнала, Только я романтиком остался, Мне трагедия — любая малость, А мечтанье — вражеский огонь, И любая искренность — ошибка, И стремленье означает рабство. Так и попадаю я в неволю — Создавая для себя свободу, Раб свободный — так меня зовут, Смелости моей не удивляйтесь,— Замешательство ее сменяет. И бездарность сменит гениальность. И, порой бывает, слезы друга — Вот доброжелательность моя. Я своих дорог совсем не знаю, Я творю, Во мне творится мир, Он не существует без меня. Ночь пройдет, Тогда я — снова ваш. В общем, я такой обыкновенный, Опаленный жертвенным огнем, Всю свою свободу подаривший Собственным созданиям своим. Сколько будет тех ночей — не знаю, Сколько дней — не ведаю я тоже. Никому я не принадлежу, И ничто мне не принадлежит. Мальчик я еще, И не дивитесь Силе необузданной моей. Три седых, глядите, волоска Тоже в шевелюре у меня. 1919ПРИЗЫВ ВЕКОВ
Зовет меня очерченность стальная, Влекут бетонные мосты, Перила из цепей И каменные баррикады. И примет в пасть свою беззлобный гнев, Что ко всему на свете безразличен, И примется судьба моя бессильно Тот круг, что спаян, размыкать. И трубы черные разрисовали небо Каким-то адским содержаньем, И лесом, издали манящим, Подчеркивают дальний окоём. Ритмические птицы, Сталь ослепительную рассыпая Над городом, хотят разбить на части Эфир, что метафизики лишен. Зовут, зовут меня — железный грохот И неумолчный шум огромных толп, Идущих под бетонною защитой. Зовут меня поэмы, В которых память не волнует душу, Где интересы с замыслами вместе Пересеклись крест-накрест. 1919ПРИЗЫВ
Не будьте, не будьте такими озабоченными — По Крещатику ночью не бродит хмарь. Не делайте, не делайте лица сосредоточенными, Выбросьте карманный словарь. В черную ночь — электричество беззаботное засветите, Представьте, что вокруг вас — храм. Разрушенность стенную полюбите, полюбите — Больше нету, нету драм. Освободитесь осторожно от хмурости банной, Задерите голову ввысь, Где размах аэропланных препон. Не признавайте мудрости И от тоски непрестанной Заведите граммофон. Я не люблю видеть вас сосредоточенными, Вас связывает карманный словарь. Почувствуйте душу душой неозабоченной, По Крещатику ночью не бродит хмарь. 1919ПРИГЛАШЕНИЕ
Я покажу вам множество миров — Оригинальных и капризных. И множество дорог — как бы даров — Кто хочет дух мой вызвать? А мы приходим к финишу без сил. Стихии победили мы с тобой. Я двери отомкнул и отворил — Кто хочет ночью погулять со мной? 1919ПОЭТ
Я жду, когда волна обрушится адом И душу мою подхватит бурун. Я не люблю, когда милая рядом, А под моими ногами — грунт. Мое сердце жаждет несуществующих цветов. Мое сердце расцветает в поисках, боль затая. Не один я на свете — присягнуть готов! — В красках рассветов буря моя. Я любуюсь бессюжетностью бури, Сила — мой динамичный сюжет. Мой мир — в тонкой миниатюре, Я — безобразцовости поэт.СТИХ («фффф»)
фффф дуло кашляло шшшш шипело шумно за машиною грязеснег — в тумане сани — сани колыхали хрустенья смягчали сипеньем злились фигурно ветки нежные кокетки сверкающими взглядами кхе кхе кхе !Вы. 1919Я ПРИДУ
Воды мне на голову, да поскорей! Налейте живей без обмана. Ища с вами общий язык, ей-же-ей, Запутался я, как ни странно. С горы я высокой окрест погляжу, Мечту отыщу — не покину! Про крики неслышные я расскажу — Так дуй же ты, ветер, мне в спину. Так станьте же издали, дух затая, Приду, сам приду я с приветом. И не повстречаюсь на кладбище я, Приду я к вам будущим летом. И мне поцелуев припомнится пыл, И смех, и слепящая даль. С тобой отношенья я возобновил… Мне первую дали медаль!!! 1919. КиевНОЧЬ
Ночь прислушивается к пустым улицам И к тротуарам немым Когда на тумбе сидит красноармеец И целится в месяц — Когда город замрет после 2-х часов ночи Изредка по мостовой простучит Затихнет холодным электричеством облит Подшучивая над звездным небом — Тихо в стенах комнаты Капает из водопровода Работа закончена — Спать — Не хочется — Словно недоделал чего-то — Утро. Газеты чай и обед И суета на вечерних улицах Оседает и шумит в ушах Пока не закапает из водопровода. 23. III.1920. КиевРАНА
Ранила меня Прямо в сердце — Я не прощу. Я найду тебя — Я найду. Я запрячу боль — Я запрячу в себе. Я закушу печаль — Я закушу. Ранила меня прямо в сердце — Ты. 24. II.1921. МоскваЛАСКАЛА МЕНЯ
Ласкала меня, Шептала: Хорошо. Шептала в ухо: Мой. Гладила и шептала: Скажи. А после говорила: Ты — чужой. Прощались — Целовала, целовала. Я сержусь: Ты знала, Что я не забуду тебя. 24. II.1921. МоскваЛЮБОВЬ
Осень — зима — весна — лето И она — все другая — она Все дальше — за нею — лететь И весна — зимою — весна. Неделю назад — вчера И сегодня — любви боль И сегодня — предчувствие больное Завтрашней недели люболь. 25. II.1921. МоскваОТДОХНИ
В жилы влит огненный яд давно Не забыть запаха борьбы Не миновать того что суждено Не повернуть колеса судьбы Ты не свободен ты не сам Клочок земли далекой не спасет шалишь Все прошлое относится к небесам А ты земле принадлежишь Не думай что ты великий Это комично а поясненья — что дадут они На́ тебе в гроб гвоздику Отдохни. 10. III. 1921. РигаПОИСК
В глаза бьет пыль Ветром весенним Тротуарами и ариями веснит сердце ищет существующей и ее запах в цветах в витрине стоя с ней рядом и спрашивает сердце влюбленно где она? и говорит что она тут и ласково в ухо бормочет а ночью жгучим шепотом шепчет и веснит сердце кричит загнанное в угол. 19. IV. 1921 МоскваМЕРИДИАН
I
О шар земной шар земной Прекрасен ты и велик как последний поэт на тебе — я. О шар земной шар земной прекрасен ты и могуч и хоть к несчастью и поэт я но не буду рифмой думать я не буду слюнявить твои континенты и моря О шар земной шар земной может вместо морей стальной гамак покроет тебя исчезнет навек современный корабль а вместо материков будет сплошное железо — о что ж! не погибели знак! все ж наша отчизна шар земной и тебе в самом деле поет последнюю песню последний на тебе поэт — то есть я — лирик океанов и континентов — о шар земной шар земной мой!II
Экватор и меридианы полярные круги и тропики все эти воображаемые линии и радианты — слушайте поэты-эзопики и вы академики-комедианты! В те поры когда вы будете воображаемыми и абстрагированными — меридианные знаки градусы по железному полу земли проведут инженеры истинные. Вместо границ меж державами шар земной поделен будет параллелями и меридианами! Кто ж виноват или я — или шар земной — что сын родителей нерожденных рисует грядущего панорамы сидя здесь с вами — и крутится и дергается и плюет и плачет и смешит людей бродит и вопрошает — где я? однако хорошо знает он не злой и усмехается: так где же? в Киеве. 15. Х. 1922. Киев1 №
Женщина которая отдается не часто и таит в себе сдержанности красу — словно тебе самому — говорит — что свою любовь я тебе — я тебе несу — и почему только мне — не знаю я — и удивляюсь — и не понимаю — и не верю — и ее жизнь — и свою с пятнами — печально и молча меряю — и зачем мне — еще одна и зачем болезненная — мне — рана и хочется чтоб это была последняя и хочется чтоб она была последняя…КРЫМ (Одиночество)
Луна восходит над кипарисами ночью — водит ветер полосы по морю — а днем от Ай-Петри из открытых пригоршней разноцветные веселые изменчивые пятна — и до самого берега где Ирочка ходит по склонам зеленым в свитере. В виноградниках в букетах зелени брошены белые дворцы — чужие — скучные — а ночью глубокой когда ничего не видишь — сны пустые. Пустопорожня лирика под солнцем нудна под луною над бутафорским ландшафтом-морем Крыма — и ходишь один и ловишь зовы в жилах и молишь беззвучно и скулишь: Гори — Камень — Лес — Берег — если бы черт принес хоть какого в дверях Ялового![5] 19256 №
Тебе — дитя мое — что завтра на аборт пойдешь — Тебе — которому лишь только месяц — Тебе — что месяц лишь как зародился, а живешь столетий миллионы в животе вот этой женщины, что я люблю — Тебе уж месяц, завтра ты — ничто и выбросят кусочек твой в ведро с помоями — тогда ты поплывешь канализационною трубою далече, в море Черное, где ты и зародилось от меня. Тебе — Тебе — Тебе это. Неведомо, никто и не узнает — ни мать твоя, ни я — отец твой — ты было б мальчик или девочка — любило б маму ты свою и говорило б: мама! Отца б любило своего и говорило б: папа! Сосало из грудей бы молочко И щурило на солнышко глазенки. Но миновали б годы — И ты пошло бы в детский садик — И выросло бы, И соревновалось бы, И зачинало б… Так будь же вечным ты, Что завтра же очутишься в ведре, Чтобы беспомощно там плавать: Твою я маму завтра прогоню, Она из моего исчезнет сердца, Как ты из тела матери исчез. Будь вечным ты, бессильное, но все же — Разумное, жило ты ровно столько, Как было и отмерено тебе. Будь вечным ты, поскольку ведь известно — И я в свой час положенный умру, И мать твоя умрет, И не одно ты Назавтра в белом поплывешь ведре. 1926МОЙ РЕЙД В ВЕЧНОСТЬ — II
Слушайте шепот хвои на хребтах, Слушайте, как шумят вековые ветви-плети. Нельзя заслонять нынешней жизнью Жизнь Тысячелетий. Будьте благодарны вечности, что живет в вас, оживляйте каждую вещь. Когда найдете в земле полусгнивший человека таз — вы с человеком с глазу на глаз. Не будьте мертвыми археологами, прошлое не раскладывайте номенклатурою механистической! Посмотрите: в гробнице лежит мумия фараона, и возле нее — его зубочистка. Миллионные когорты лежат косяками таких же футуристов, какими мы были. И они возводили «вечные» стены и с оградами ворота и в борьбе головы сложили. А вы желаете сделать из человека какую-то платоновскую идею, когда каждый человек — полон вечности, поверьте. Миллионы нынешних и грядущих людей — миллионы людей смерти. Так не умирает жизнь. Так мы идем в вечность. Атланто-гэс, Нило-гэс — сменяет наш Днепро-гэс. Вот почему, когда я умру — положите со мною вместе мой чемодан и мою зубочистку наперевес. 1. VIII. 1928. ЗлодеевкаГео Шкурупий © Перевод А. Лашкевич
МОРЕ — 1
Пусть в море ночь… Пусть шторм ревет… Пусть тьма мешается с водою! Горами волны пусть несет, Как черный призрак, Скрытый мглою. Корабль в безвестность унесет, Вчерашний день наскучил впору,— Граница скал впотьмах встает Да гривы вспененного моря… Как нерв, распахнутая муть Под сводом бьет неутомимо; Неведом мне глубинный путь И где родная Украина…МОРЕ — 2
Вспенятся гривами скакунов Волны морские, и сто моряков Выйдут из них, оседлают коней — Вдаль полетят, где не видно путей. Ветер над морем сорвется на крик, Пеной глаза им ослепит на миг, Всадники черные выстроят ряд — Словно на море проходит парад. Бездны услышат призыв, а над ней Страшный и жалобный скрип кораблей, Мачта трещит и качается там, Парус разодран уже пополам. Волны сойдутся, Гром грянет над ним — Всадником больше станет одним, Голос ужасный во тьме прокричит, Страшное эхо луна повторит, Ветер в простор этот крик унесет, Где море бушует, море ревет.МОРЕ — 3
Тьму ночи разорвало утро, Ударил луч, Сверкнул он позолотой тускло В разрывах туч. Там горизонт — доплыть не пробуй, Волне не верь, Ведь море — миллионогорбый Усталый зверь. Туда, туда, где солнце встанет, Где свет и жар, И пропадет в сыром тумане Ночной кошмар. И утро, как стрелок отважный, Своей стрелой Сожжет предательский, бумажный Покой ночной. Пронзит зеленую пучину И ил под ней, Покажет всем шальную силу Своих лучей. Где море с берегом играет В свою игру, Туда, где солнышко играет, И я иду…МОРЕ — 4
Шумит в тумане порт родной, Стреляет глазками красавица, Борт от жары блестит смолой, Смолистый запах поднимается, А в сердце — образ дорогой Былых мечтаний не стирается. Над головою — Южный Крест, Вода здесь бархатом слепит И ветер дует — зюйд-зюйд-вест, Шкипер спит. Стройны все мачты у судов, Но их стройнее стан Марии… Как пальма с дальних берегов, Как будто грезы золотые, И сон отважных моряков Волнует девушка Мария… Над головою — Южный Крест, Вода здесь бархатом слепит И ветер дует — зюйд-зюйд-вест, Шкипер спит.МОРЕ — 5
Нас снова край земли зовет, Где зреют сочные бананы, Где дни и ночи напролет Грохочут и поют тамтамы. Сверкает лучезарный день, И море словно луг зеленый, И в томной неге млеет лень Под печью солнца раскаленной. Журчит вода под кораблем, Напополам он режет глыбы, Дельфинов рай… И мы плывем… То тут, то там порхают рыбы. И вдруг — далекий где-то гром, Теченье мощным водопадом Встречает нас, и дым столбом, Курчавый дым, и пальмы рядом. Прилива шум и рифов рык, И мы ему с тревогой внемлем И слышим с мачты бодрый крик: «Земля, земля! Я вижу землю!»ГОЛОД
Накормите меня, согрейте! Поднимите с моих очей Веки, выцветшие от смерти, Той, что смотрит в глаза людей. Я полуночный волк матерый, Хлеб сухой, выбиваясь из сил, Раскаленной топтал подковой И ночами над мертвыми выл. Завернувшись в лохмотья, незримо, Словно римский патриций, точь-в-точь, Я в груди своей прятал зиму И носил в своем сердце ночь. Я о солнце хочу потереться, О горячее солнце спиной, Чтобы холод проник в его сердце, Чтобы лето стало зимой. В одеяло рваное, в холод, Словно римский патриций, один, Завернусь — я, всемирный голод, Умирающих властелин.ПОКУШЕНИЕ НА РЕВОЛЮЦИЮ
Гадом черным 18-й год Окружил Республику белыми: Белочехи, Колчак и деникинский сброд — Вот кого в шею гнали и били мы. И вдруг стоны радио в степь, Выкрик телефонного известия… Взволнован каждый Совдеп Жестокой, печальною вестью. Выстрел в народную грудь — На Ленина покушение, Пуля врага — это страшная суть — Рана и потрясение. В мир и космос — радиоволн поток: Крепче ряды, острее взоры! На белый террор, чей удар жесток, Ответим красным террором. И каждый гудок кричит теперь, Как всемирный рабочий рот — Навеки позорно названье «эсер»! И проклято прозвище Ройд! И сквозь гуденье и грохот труда — В стране рекою искристый дождь — Повсюду слышится — Ленину — да! Да здравствует мировой вождь!С НАМИ ЛЕНИН
Только на мгновенье Флаги приспускали, Только на мгновенье, В сердце — на века, А потом опять железными руками Пусть зажмет фашизм рабочая рука. Пусть гудки паровозов в депо, В гаражах автомобилей сирены Только раз прогудят Разъяренным ртом: — Умер Ленин! Пусть звучит революции лира, Грохотом пушек скорбя, Миллионы пролетариев мира Понесут вождя. — Он живой!.. Дело Ленина в сердце носите, Мы сорвем фашистский фрак, Мы последний шуруп завинтим (На могиле с надписью «враг»!), Мы — РКП, комсомол, Спартак! Мастерская, завод! Работай! Покажи свою силу миру, С капиталом своди свои счеты, В рупор ленинский агитируй! Армия! Шагом марш! Ленин жив, Ленин с нами навеки, Это имя — как символ наш И победных свершений вехи!СЕМАФОРЫ
На всю Украину Красная роза… Не видеть потомкам страны руину, А в лесу — угроза. Железные рельсы Всю землю обвили, как спрут, Люди от немочи черной И неизвестной Бьются о камни, Но все же куда-то идут… А у спекулянта — хлеба пуд. Расползлись гадюками Железные пути, Нельзя проехать сутками, Нельзя по ним пройти. Вагоны под откосами Молятся колесами Фанатично богу. Семафоры руки протянули До неба, От отчаянья… Гнева ждут и победы. Не бьют барабаны, Труба не кричит, Кровь рекой… И дыба… Плещется бандит В ней, как рыба. Пузырем — огня рубаха, Улюлюкает страх окрест, И даже безбожник от страха На шею повесил крест. И только мы светло и бодро, Срывая мяту И розы песен, По железным идем дорогам, Только нам семафоры светят В мир, который чист И светел.ОКТЯБРЬСКИЙ РОМАН
1
Нам «голубые кисти» угрожали, Грозили уничтожить «Арсенал», Но желто-синий прапор[6] разорвали Рабочий гнев и их штыков металл. Стекло витрин легло на тротуары, Как слезы женщины над гибелью сынов, От потных улиц поднимался старый Дух темной местью споенных голов. Вот гайдамак с повадкой злого волка У хаты старой осадил коня, Глядь: девушка,— Кудряшки, как из шелка. — Дивчина, эй! Попотчуй-ка меня!2
Аэропланом в небо вонзила Революция штык винтовки… Кому не интересно, как любила Синеглазая дочь торговки.3
Коня у калитки он привязал, Борода на лице цветет камышом: — Я, дивчина, не зря сюда скакал, Я, дивчина, не зря к тебе пришел. Дарю на платок с большевика сапоги, За один поцелуй красотки, Я же знаю, я слышал, что ты — Дочь известной базарной торговки. Я там, на углу, — к тебе спешил — Кому доля, а кому дольца, Вот этой самой рукой порешил Хваленого комсомольца…4
Покачнулась, как в бурю тополь, она, Побледнела — белее смерти, — Погубил любимого, сатана! Уши!.. Глаза!.. Не верьте!.. Желтою стружкой лежат на кустах Листья в осеннем инее, Смотрит с улыбкой она, а в глазах Прыгают тени синие.5
— Пан гайдамак, заходите в хату,— Сладкой вишней улыбка манила,— Дайте моим устам усладу, Как давала вам сабля силу. Хищником бандит с коня слезал, От радости ног не чуя, Он к ней подошел и уже ощущал В мечтах вкус ее поцелуя. А девушка быстро шагнула в дом, Винтовку взяла с запалом, И пуля тяжелая крупным свинцом Врасплох гайдамака застала.6
Желтою стружкой лежат на кустах Листья в осеннем инее, Смотрит с улыбкой она, а в глазах Прыгают тени синие. Смерть схватила бандита куцая… Кто посмеет сказать, что зря. Разве в сердце ее революция Не горит огнем Октября?!СЕРДЕЧНАЯ РАНА
1
Красноармеец сказал жене: — Не плачь и жди меня с фронта!..— И туча пружиной стальной в окне Повисла над горизонтом. Слова — как тихий порез ножа: — Слышишь, вернусь я скоро! — И сердце замрет в груди, дрожа, Как поезд у семафора. Хватит женский рот целовать, В горе праздновать труса, Довольно слова расточать и считать На тоненькой шее бусы. Уж осень стучится в двери, как враг, И даль нас зовет степная, И вот на фронт, печатая шаг, С рокотом полк выступает. Стеною туман. Ни шагу назад! И тени мелькают снова. И пулемет строчит наугад, Ища человека живого. Словно еж ощетинился взвод Щетиною цвета стального: Стой, стреляю! Эй, кто идет?! Друг! — крылатое слово. Взвод, презирая страх, Клин земли удобрял телами, Дредноут Республики шел на парах И звал рабочих гудками.2
Гром глумливый тумб, В бок бьет бык, В ромб лбом главбум — Рабочей Республики язык. А взвод все вперед На Лувр, на Рим, на Рур, А взвод на штык берет Мировую в рулетку игру. А когда, устав надеяться, Закатилось солнышко летнее, Упавший красноармеец Целовал лоно цементное.Валерьян Полищук © Перевод Г. Фролов
«Пусть идет дождь, спешит…»
Пусть идет дождь, спешит, Каждой каплей звенит, По листам шелестит — Разбегается, Этот дождь мне — как брат, Я ему так же рад: Мое сердце дрожит — Вырывается. Я с природой вокруг Обнимаюсь, как друг, Мы с дождем встречу празднуем Славную, Дали видятся мне В легкой дымке сейчас, Словно в вечера пору Туманную. Крепче с ним обнимусь, Над бедой рассмеюсь, Рву черешню — Красна, словно девица, А навстречу летят С веток капли, блестят, Будто камни они Ожерельица. Когда ветер рванет, Небо дождь обоймет, Полон мир стоголосого Лепета,— Вот земная краса: Это нас небеса Всю природу любить учат Трепетно.ОТЦУ
«Мы погибнем, чтоб славу, и волю, и честь Для тебя добыть, край родной…» Сколько силы и правды в словах, Сколько чистой любви святой. Мы погибнем за братьев своих… Мы за равенство в битву пойдем, Полыхнут пусть раздоры на миг — Счастье вечное всем мы несем. Эта жертва не будет грехом. За любовь нам простится запал. Мы хотим, чтобы правда сияла кругом, Чтоб зажегся в сердцах идеал. За тебя мы сразимся, страна, Хватит сердцу томиться и ныть. Выпьем чашу страданий до дна, Нет, рабами нам больше не жить! 1918В РЕВОЛЮЦИЮ
Блажен, кто может гореть, Ибо от него останется пепел, А не гниль.МАТЬ
Не пришел с германской старший, Спит в чужом краю. Средний сын в борьбе за волю Смерть нашел свою. В плен попался самый младший,— Палачом убит, Где-то он во рву безвестном Средь других лежит. Без детей… Одна на свете, Сердце полно мук. Но дрожи, проклятый недруг, Подрастает внук! 2. Х. 1920НИКОГДА
Хотите отобрать у нас вы волю, Навесить груз оков? Распять хотите снова Восставших рабов? Нет, не дождетесь вовеки, Вовеки! Кто хоть раз увидал средь дыма Свободы зарю, Будет до смерти идти неутомимо К ее алтарю. Для нас борьба лишь — двигатель прогресса… Под орудийный гром грядущий день встает! Пусть колесом судьбы, закованным в железо, Расплющит старый мир, что на корню гниет.ПАСЕКА
В саду. Теплынь. На груше тихо шелестят, Как будто металлические, листья, Бока зеленые их глянцево блестят на солнце. Осанисто, степенно места свои заняли ульи. Теплом их солнце приминает сверху, Как апельсины мальчик, Чтоб слаще пахли медом. От рам душистых ввысь Взлетают пчелки друг за дружкой: Бзум, бзум — Бьет каждая, взмывая из летка, В одну из тысяч нам незримых струн, Натянутых от неба до земли, как на цимбалах,— Не проскользнешь никак, чтоб не задеть их. От этого весь воздух аж гудит: И солнце, и земля, и лен зеленый, Что вдаль уходит в нежно-голубом муслиновом убранстве. И так с рассвета Целый день Гудит.ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
Еще тепло, но что-то исчезает. Уж запахи не те, не так пьяняща тень. И новой музыке осенней слух внимает — И нет желаний, все сковала лень. Нет, зелень не сошла, но кое-где лучами Задетые листы горят как бы в огне,— И рад я оттого, что все стоит в печали И осени покой врачует душу мне. Шиповник на себя не может надивиться, Как бы кораллы, ягоды горят, Задумалась ветла, на выданье девица, А лета бабьего деньки летят, летят…«Поэт — открытая душа…»
Поэт — открытая душа И громогласные уста Всего народа.НЕБЕЗРАЗЛИЧНО МНЕ
Достаточно мне посмотреть на тебя, типографский рабочий бледный, На женщину с глазами серны, зеленое деревцо, На тебя, существо живое — будь ты конь или муравей,— И образ любой зарубку делает в моем мозгу, Что-то во мне меняет на всю остальную жизнь. Как на непроявленной пленке, Вы незримо таитесь во мне. С этой минуты никто из вас уже не чужой для меня, С этой минуты каждый из вас и все вы вместе — мои, Частица меня, моей души,— Навеки богатство мое. Когда ты будешь в горе — я почувствую тут же его, Любую перемену в твоем лице Замечу сразу — и сердцем на нее отзовусь, Если облик твой чем-то поразил меня, встреченный человек, Значит, видел я глазами предков моих тебя в столетьях иных другим. Или, вернее, ты снился другим мне три ночи назад. Бухгалтер с лицом аскета, ты небезразличен мне, Ведь совсем иным я помню тебя. Когда с дерева сорвана ветка, что зеленым опахалом качалась весной, Мне больно за нее, как за руку солдата, оторванную осколком в бою, Ведь они для меня родные, не такими я их когда-то знал. Ты седеешь, женщина, седеешь — седина эта в моей душе. Я не могу быть равнодушен, ибо все вы — это тоже я С той минуты встречи, когда частица души моей зазвенела от вечных волн, Волн, ударивших в глаза мои, или в уши, или по нервам моим. Ведь вы и на свет родились, и существовать стали лишь тогда, когда увидел вас я, А до этого вас и не было — ничего я не знал о вас.МИЛАЯ
Пусть выкаблучивают модные поэты, Воспеть изящнее стремясь твое дыханье, Пусть с бриллиантами равняют очи, Грудь с мрамором, Ресницы твои с шелком, А я с простым, я с детским лепетаньем Споткнусь, тебя увидя, и замолкну, И на колени упаду, и тихо Скажу тебе одно простое слово — Вмещающее всю мою любовь: «Милая…»ГИМН ЖЕНЩИНАМ
О, как я люблю тебя, женщина! Ты полна беспредельного величия, Как океан, которого я никогда не видал, Только представлял. Ты глубока, как и он, Скрывающий дно под толщью студеных волн. Все вы — яростный ливень чувств: Человечество захлебнется этим нектаром, Как ребенок вином. Я знаю, ой как я знаю,— Так же, как то, что травы дышат,— Что ты можешь остановить войны, Едва лишь ладони твои коснутся Жестких, как рашпиль, солдатских щек; Я верю, когда бы у вражьих станов Раскрылись ваши сердца лепестками роз, Когда бы обвил их плющ ваших рук,— Вовеки б не тронулись воины с места: Так и дремали бы, как колокольчики в травах над яром, Так и мечтали бы в очарованном сне. Всех вас я вижу сейчас: Марусь серооких, Горпин крутобедрых с кувшинами икр, Что растят человечество, словно ивняк, Нежных Люси, Что ревущего зверя Дантона Кладут, как жучка, на ладонь И уносят, куда захотят. Как опьяняют, Ох, как опьяняют Там где-то чувств переливы, Или то крови порывы, Или мускулов вязких бугры, Или лимфы вишневый клей,— Что же именно — нет, я не знаю. Знаю только — довольно того, Чтобы маленькая Теруань Взгляд метнула вдруг из-под ресниц На врагов — И земля покачнется От грома!Я
Нет, я не Уитмен. Новый я, еще безвестный. Что бунтом полоснул меж волнами знамен. Я духом воспылал и воплотился в вас, Чтобы народа дух, как ветр, пророчески взметясь, До солнца всех донес, когда наступит день. Нет, я не Уитмен, Новый я, еще без имени: Во мне и сила вся, и боль натруженных плечей. В ряду переднем с теми я иду, Кто поступью стихийной среди грома Идет мильоны лет — не ведом никому. Нет, я не Уитмен, Хоть, как он, веселый, Лишь солнечный привет страсть утолит мою. Везде улыбкою меня встречают села: Холмы могил в степи и древний лес Волыни, Луга Карпатских гор, напившиеся сини, И хутора слобод, и Днепр с его волною, И влажный плеск дубрав казачьих надо мною,— Украйны трудовой живет во мне душа, И ей моя любовь — как песня камыша.ОСЕНЬ ЗА ГОРОДОМ
Город в пятнах зеленых — Желто-черная рама. Тысячи труб взметенных Дали теснят дымами. Порасползлись хатенки, Поразлеглись домишки. Полдень осенне-звонкий Духом заводов дышит. Кратеры здесь бушевали, Море сушу теснило,— Время все это оралом Перепахав — изменило. Где бронтозавры ходили — Пела дикарская сила, Забытые ныне могилы Чугунка разворошила. Уже самолету на смену Атом-мотор ожидаем… Вечные перемены Ветром гудят над краем. 19. VII.1923, ХарьковПАЦАНОК
Шляется по улицам День изо дня — Нет у него дома, Никто не ждет, Пугнет собаку, Плюнет на коня, Свищет да в опорках Куда-то Бредет. Пузо сквозь дыры Голое блестит,— Голод в пузе Котенком пищит. На базар заскочит — Отбросы горой, Наберет объедков, Запьет водой. Бегал пацанок, Мерз — да как! — Летом веселее Каждый шаг: Там манифестации Сделал «смотр», Там залез на станцию, Что-то спер. Но приходит осень, Зиму зовет, На листву опавшую Снег идет, Голод да стужа Сводят с ума, Мачехою стала На улице тьма. «Песню про Алешу» Холод затер,— Сбились хлопцы в кучу, Палят костер, Им бы распроститься С улицею, Да идти не хочется В милицию. «Что там еще будет,— Ведь жили до сих пор! — На ночь заберемся В асфальтовый котел!» Выгнали раз, Выгнали два, На завод пробрался — Дурная голова. Сон в мастерской Стал поджидать — Может, теплом Начнет пригревать… — Товарищи, гляньте,— Ишь пацанок! — Залез, шпанюга, Под самый Станок. Зачем забрался? — Да жулик он! — Прут на парнишку Со всех сторон. В труде задубелые Руки у всех, Но ехидный Раздается смех. — Тащи ужаку, Давай его к нам! Вывесть за ворота Да по шеям! — Вывели скопом; Толпа шумит; Плачет парнишка — Бледен вид. Уже кулаком ему Кто-то грозит. Вдруг видят: военный Рядом стоит. — Эй, товарищи, Что за скандал? — Пацана поймали, Кажись, воровал. — Да ты не бреши,— Сказал другой.— Ночью он влез В окно мастерской. Учим бродягу, Знал чтоб наперед… — Отпустите парня — Пускай идет! — Это военный Им говорит, На зеленом шлеме Звезда горит.— Был таким и я,— Он продолжал: — А теперь — гляди,— Красный генерал! — Живет себе парнишка,— День изо дня Шатается по улицам — Кто его ждет! — Пугнет собаку, Плюнет на коня, Свищет, но в лохмотьях Сила поет. 15. XII.1923, ХарьковСПЛАВ
Только вместе жизнь мою Вы можете сделать полной: Ты, реальность Украины, Что живешь и чувствуешь людским кипеньем, Ты, что мои нервы свиваешь, как пряха, Чтоб соединиться в одном сплетенье Со всеми народами на земле; Друг друга мы зовем, торопим На ниву зрелых культур; Ты детей-крикунов На твердую хочешь наставить дорогу И моими устами взываешь к ним. А другая дорога в зазвездный дым На свет уводит коммун, Что с голубых высот Заглядывает в сердце мое, как в колодец; А оттуда, из глуби его, Радужным отраженьем Отблеск другого сиянья Лунно рокочет В срубе просторных дней. Вместе сливаетесь вы, Два чувства неугасимых, Вы будто бы в сплаве едином: И вас невозможно разъять. Каждое тянет к себе — Но неподвижен канат. И только смерть одна Беспамятной немотою Вас сможет разъединить, Разорвав мое сердце на части: В родную землю уйдет одна половина, В воздух всей планеты — другая… ………………………… 1924, ХарьковЛЮБОВНЫЙ МОСТ
Я зажал сердце, зажал уста, И охватило молчанье: так тошно, тошно. Нет уже трепета, боль стала пуста, Ибо нет у сердца огненного моста. Ах, молчанье мое, ты взвейся песней? Хоть любовь от сердца далеко теперь — Над воспоминаньем — дымкою тумана — Шелковую ниточку перебросит пусть. Пусть разбудит новой болью Силы в моем теле. Дни мои взрастают, Дни мои созрели. Крылья голубиные Прилетят откуда? Кто склюет беспечно Спелых ягод чудо? Кто между сердцами Мост из чувств построит? Тихо. Сердце плачет, Боль свою не скроет, И молчанье охватило: еще так тошно, тошно. V.1924. ХарьковПАРУС
И парус белый в дали моря, Косой, с изогнутым концом — Как бы плавник огромной рыбы — Летит, откинувшись назад, По-над ритмичными валами. А то как бы раскрытое крыло Неведомого демона сверкает, Что с лета в волны занырнул И тонет в море в судорогах смертных, И лишь крыла последней дрожью Еще трепещут над прибоем. Так мотылек, упавший в лужу, Еще пытается взметнуться тельцем в воздух, И трепыхается, и силы напрягает, И бьет о воду гаснущим крылом.ЦВЕТ МОРЯ
Сегодня море, словно поле льна в цвету, Под ветром тихим, ветром кротким Звенело нежной синевою В далекий грустный небосвод.ВОСТОЧНОЕ УТРО
Легким дыханьем Заклубилось зарево. Утро прозрачными крыльями света В небе, что скрывалось в мутно-сером дыме, В замутненной синеве, Пыль рассыпало золотую. Оно, смело выйдя из-за гор, На струны-паутины спрятанного солнца Тумана клочья торопливо нижет. Уже и солнце к выходу готово, Сейчас покинет звездные покои, Вот голос долетел его Протяжной песней труб горящих… Как сонная татарка молодая, Садится на постели моря Заря-смуглянка И пучками рыжеватых тучек Себе капризно протирает глазки. А ноготки овальные ее, Как у Байрам, накрашенные ловко, Что ранние черешни — Алым соком блещут. Упругой силой ввысь Взметнуло солнце — Светило яркое Сорочку распахнуло Горячею рукою, И вот уж волн искристый блеск От ног его бежит прибоем, И багряницы жаркой вязь Спадает с тела молодого…МЕДУЗА АКТИНИЯ
Как бы людское семя, жидкий студень Дрожит, оторванный от зыбкости стихии, Что голубым муслиновым покровом Качается ритмично на упругих волнах. Вода морская ласково объемлет Созданье дней начальных мира — Из хрусталя редчайшего медузу. А та вбирает в зябкий свой дымок С небес высоких отблески опала, Дробит в себе луч солнца алый, Переливаясь хрусталем. В воде плывет она, как блюдце, Качая снизу щупальца лениво Своих безвольных, вялых чувств. То чашей выгнется уныло, То в гриб прозрачный превратится — И так, меняясь каждый миг, Она, как дума, проплывает. А вот сейчас в девичью грудь Она себя преображает. И сеть тончайшая фиалковых прожилок В медузном студне управляет жизнью, Распределяя крови токи Меж клеточек простейших. Пускает слюни, как ребенок, Она сейчас в моих руках. Иль в теле трепетном ее К сознанию возник порыв? Иль в этот миг всемирный разум Ее дыханьем опалил? Иль что воспринимает эта особь, Скрывающая вечно тайну? В хрустальном первородстве драгоценном Ломается и множится искристый проблеск дней, Как бы мужская сила в миг любовный. Дробится тысячами искр в венце креста Ее алмазной и студеной крови Могучий солнечный каскад. Небрежный палец мой Поранил ткань ее сырую… Рана без боли и боли тоскливость? Примиренье со смертью или незнанье о ней? Или это только я, Прижатый скальным гнетом, Мгновения распада ожидаю Сознанья моего, Прикован силою природы К извечному терпенью своему — безумью, Я — человек, Вершина сонмов всех Живых и прорастающих творений: Медуз, слонов и тощих мха побегов, Всех атомов, еще не осознавших Могущества летящих электронов? Что ж я в терпенье смертном так тоскую? В коре двух полушарий Моих — родне медузам,— В моей коре изрытой, Как бы прибрежный камень, То осознание себя — высокое безумство — Сквозь мириады горьких дней и меж Пробилось наконец-то, силы полно, То осознание себя единым светом, Какого темная природа ожидала, Сегодня пролилось лучами в человека, Чтоб дальше он страдал, Идя сквозь смерть свою.БУНТ МАТЕРИИ
Клетка животворная материи упругой, Что усложнила неясное свое желанье, Из дали отошла теперь в такую даль, Что может наблюдать сама оттуда Тот сгусток, из которого возникла, Себе свою же сущность уясняя, Свой луч кидая в седину времен, Куда ведут незримые ступени До клеточек простейшей из медуз — В сырой тот, в вязкий, в первозданный студень. Клетка человеческого мозга — Вершина эта, где маяк горящий Лучей слепящих полосы бросает И видит, что они пронзают Острейшими иголками огня. Дрожите, мои клеточки, покуда Химических процессов яркость В соединеньях не погасла. Осмысленность природную вбирайте, Познанья жаждой трепещите На весь на мир сладчайший. Он сделал представителями вас здесь Сил мощных механических своих. Но так раскол материи теперь огромен, Что все сильней мои бунтуют клетки, Им все трудней с насилием смиряться, Что сверху насаждает Бесчувственная власть стихий, И боль меня терзает там, Где гибельный распад Захлестывает страхом наблюденья. Оглохшая природа, я опоры Ищу себе в слепых твоих законах, Как в математике, неизменимых И равнодушных, как скалы паденье. Во мне извечный гений Люцифера Поднялся против них, Творящих — не жалея, По планам по чужим подъемлется строенье, Свои холодные лишь планы Берет в расчеты космос первозданный, Создав меня, спросил он: что хочу я? Хочу бессмертья! Вечно созерцая, Вбирать всю красоту цветов и красок, Движения живых существ, И вольный бег, и ропот бурунов, И молнии пугливые объятья, Что потрясают очи И сердце выжигают, И милой половодья тьму густую В любовью застилаемых глазах — Вот что хочу, хочу я до безумства! Хочу я вечной, бесконечной жизни!«Благословенный серый мой рассвет…»
Благословенный серый мой рассвет, И день, и час, И ты, к работе тяга в человеке, Я вас таких Не разлюблю вовеки, Покуда жизни пламень В сердце не погас. То нежны, то бурливы — вы со мною, Шумите, пеньтесь ярою грозою, Пусть знаменьем встает, Своими факелами черными пятная окоём, Строй рассыпной Труб в небе голубом. Ах, как роскошно, жизнь, твое кипенье! Ах, как восторг уносит в облака! Да пусть — раздавлены! — лежат цветы мученья, Немая пусть развеется тоска! Ведь что ни говори, а все же, Оставив закуты, всем бедам вопреки, К законам разума одной и той же Идут дорогой дети, старики. Да что там рассуждать, короче: И в созидательном азарте городов, И в селах, что очнулись ныне — Под электрические вспышки Встает народ по Украине И вся земля труда Рассветным гулом полнится рабочим.ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ
У солнца осенью печальная душа — Напилось леса желтого настоя И мудро в синеве покоя Плывет и примечает, Что сумрак вслед ему идет, Что не растут игривою ватагой, Меняясь дерзко, сыновья его. У солнца осенью печальное житье.МИГ ТВОРЧЕСТВА
Распахнуто живу, как душная полынь, Когда на травы зной течет потоком. Привольно мне, Мечтаю в ясный день, Как будто аист, что парит высоко. Как песня та, что льется издалёка В прозрачно-синюю степную даль. Тогда приходит Миг творчества ко мне опять. Бросаю я ему, чтоб только откупиться, Богатство образов в беспечном беспорядке, Метафор пригоршни, звенящих, как стекло, И ритмы шаткие. Они танцуют, сходятся борцами, Горят цветастыми павлиньими хвостами, Вонзаются мне в память Гвоздями косными Червей мясных и сытых. Толкаются упругими молекулами газа, Налетают с гомоном все разом, Рябят и думать не дают… Тогда меня подводит мой азарт, Фантазии я шлюзы открываю — И тотчас же они все убегают, Как лживые друзья в минуты горьких бед. Навстречу ж им полетом хищным Мчит новых образов толпа: Контрастны, разны: аксамитно-нежны, Легки, как эльфы, тяжелы, как льдины,— Они кружат, мелькают надо мной, И тут я их, как птицу влет, сбиваю Нацеленным карандашом. Примеры образов: Гроза грохочет за крутым хребтом, Как бы молотит горы цепом, Пот утирая сотканным из молний Платочком. Или так: Моторный катер Сбивает лестницу из волн, Чтобы залезть по ней на небо. Вот образы еще: Оскоминой шипит во рту. ………………………… Янтарь струящихся лучей С боков всплывает волн. ………………………… Морозный снег на вкус, Как сахарная пудра. …………………………… Черный лед рояля Смеется конскими зубами. …………………………… Коралловый червяк Мерцает в сочности медовой сливы. ……………………………… Пропеллер венчиком звенит. ……………………………… Переливается по гребням острых волн Густое масло солнечного света. Все больше, больше образов — всплывают, Своим убором радужным играя, Летят, свиваясь в смерч, Как бы касаток стая Над осенним морем… Я лучшие из них Мгновенно выбираю, Их логикой ума Арканю; подстригаю Им патлы; цель даю — И вот они уж в очередь свою, Мои крылатые друзья, в упряжку впряжены, Богатство мне везут — Идею величаву, Стихи я издаю — И деньги мне, и слава. Бывает, и не так стихи родятся: Стремительная мысль закрутит вдруг сюжет, И надобно скелет в плоть спрятать звуковую… Но как-нибудь потом Об этом напишу я. 1. IX. 1929ТАНКИ ПРО ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ В ДОЖДЬ
А. Белецкому
I
Тихий дождь звенит В черемуховых листьях — Зелень как вода. В ней прозрачным запах стал Гроздьев белых и густых.II
Поит дождь каплями Белые гроздья цветов — Запах загустел. Так любовное чувство Льется с гроздьев души.III
Брызги солнца под дождем Затаились средь цветов Черемух густых. И струятся, и пьянят Ранней запахи весны. 21. XII.1929Иван Кулик © Перевод А. Руденко
ПЕСНЯ
О тебе еще песня не сложена, И сложу ее, видно, не я, Украина желанно-тревожная, Трудовая Украйна моя! Нет, не создано, мати любимая, Песни Песней еще о тебе… Украина непобедимая! Свет небесный в сыновней судьбе! И не рощами тополиными, Не прудами средь вешних полей,— Ты страданиями былинными Отзываешься в крови моей… Твое жито не все обмолочено: Сколько всходов погибло от бурь! Сколько тропок вело заболоченных — До махно, до зеленых, петлюр… Нет, ни голод, ни козни злодейские, Ни порывы кровавых ветров Не убили мечты твои дерзкие, Не сточили червленых щитов! Тяжелея от горького семени, Сколько трутней вскормила ты встарь! Но в халупах — в жестоком безвременье — Ты из хвороста плавила сталь! Исходила и кровью, и потом ты, Чтобы вызрел грядущего плод… Так живи трудовыми заботами, Продолжай свой степной обмолот! Не за то, что цветами разубрана, Я тебе поклониться готов, А за то, что — избита, изрублена — Ты не стала толпою рабов! След багровый оставлен калеками На брусчатке твоих площадей… Но поднимут плотины над реками Руки бодрых твоих сыновей! Пусть обрезы нацелены хищные Кулаками… Ты будешь тверда — Коллективами над пепелищами Возведутся твои города! Пусть штыками щетинится острыми Заграница, грозя тебе… Что ж — Ты с другими советскими сестрами Нерушимый союз создаешь. Это «быдло», ходившее в рубищах, Что глотало свой гнев со слезой, С небывалых полей твоих будущих Соберет урожай золотой! Людям, гнившим в сырых подземелиях, Что свой пот выносили на торг, Возвращать начинаешь веселием За века накопившийся долг! Так идешь ты путями народными — Обнадежена и смела, Ровно дышишь огромными домнами, В твоем пульсе — удары кайла… Песни юные, чистоголосые Полетят над тобою в зенит, И железными струнами-тросами О тебе новый день прозвенит! Закаленные шахтами рудными, Засверкают слова новых саг, Как умела рабочими буднями Отмерять ты в грядущее шаг! 1927СОН
Израненный, с пробитой грудью, Без сил лежал я на земле В зловещей тишине, в безлюдье В густеющей тяжелой мгле. Руины голые, пустыня… Давно ли здесь мое село Родное — утопало в сини И все, как рай, вокруг цвело… Но пламя вдруг забушевало, И одолели нас враги. Один я… Скорбь меня объяла, И сердце сжалось от тоски. Но даже и во мгле кромешной Я должен верить в свой народ! Утратить не могу надежду, Что наша сила верх возьмет. Нет, это — только я изранен; Нет, лишь меня сразить смогли! Вот видите — опять багряно Цветы под небом расцвели: То флаги красные трепещут И рвутся птицами из рук! Вот, слышите — грома скрежещут: То — яростного боя звук! Все ближе, ближе легионы… И все слышнее звон мечей… Их сотни, тысячи, мильоны — Воителей-богатырей! И ярким пламенем пылает Доспехов боевых металл. Вот, вот — они одолевают… — Эй, недруг, твой конец настал!.. И разве в мире есть препоны, Чтоб их остановить могли? …Звучат серебряные звоны И отзываются вдали. Все вдохновенные виденья Готовы сбыться… Эй, волна, Умерь свой рокот и кипенье — Дорога за тобой видна! И хор — сладкоголосой песней Меня уводит в светлый рай… Иду, иду на зов чудесный — Душа моя, не умирай!* * *
Очнулся я… рукой бессильной Сжимая грудь: меж пальцев кровь Горячая текла обильно… И — приступ жгучей боли вновь. Надежды нет. И жить осталось, Наверное, недолго мне… И все ж с мечтою не расстанусь, Она — в сердечной глубине… Пусть отлетит душа от тела, Без сожаленья смерть приму… Но только б умереть хотел я В тот дивный час (его зову!), Когда недавний сон заветный, Сон лучезарный, многоцветный Смогу увидеть наяву! 1918ПИСЬМО ВТОРОЕ
Рано вчера я лег, Лиля, Но долго уснуть не мог; Падал реденький снег, Лиля,— Скоро он будет глубок: Ступила зима на порог, Лиля,— На свой законный порог. Зяби вспаханы плохо, Лиля; Рассердится Наркомснаб: Район в заготовках не слаб, Лиля, А пятиться будет, как краб… Если б со мною была ты, Лиля, Ныне со мной была б!.. Письма мои расплывчаты, Лиля, Смысл запутан, как сеть… Словно хорист подвыпивший, Лиля, Хочет сразу все песни спеть… К письмам талант потерял я, Лиля, А нужно его иметь. Может, напрасно пишу я, Лиля,— Себя понапрасну злю… Мысль от «Софиивки» к зяби, Лиля, Нелепую крутит петлю… Но я тебя — правда — люблю, Лиля. Очень тебя люблю. Поскольку зяби плохие, Лиля, И наступила зима — Трещат от мороза деревья, Лиля, И на башне турецкой чалма, К тому же нет тебя рядом, Лиля,— Можно сойти с ума! Каменец-Подольский 1930НАБАТ
Надвигается вновь лихолетье. Устремляются взгляды в небесную даль, Ожидая, не явятся ль туч грозовые лохмотья… Но блистает Жестокая синь — будто сталь. Снятся ливни… Но где они бродят? Не дождешься ни капли с неба: Отчего накопилось в природе Столько гнева — упрямого гнева?! Крестный ход не спасет от заботы (Люд, не веря, молитвы творит), Мучит мысль: уродится хоть что-то Или пропадом все погорит?..* * *
Вновь над Волгою слышатся вздохи и стоны, Снова чаша слезами полна. Не унять беспощадного звона — Это скорби трепещет струна… Эх, забыли мы панщины-барщины, Зори вольные — путь указали! …Полегло на Саратовщине, вымерло на Самарщине, Прахом пошло на Казани… Захватило и земли — всегда урожайные. Засуха бродит в Уфе! На Урале! Беженцев манят дороги бескрайние: От земли бессердечной — подале!.. А куда убежишь? Неужто за Вологду? Лучше ли будет — кто знает? …И витает призрак прожорливый голода. И подстегивает, и подгоняет. На Украину бежать поскорей — Там дождаться лучшего года! И станицами журавлей Растянулись в дорогах подводы…* * *
Нелегко и на Украине: Нивы хлебные уничтожены; Ложатся на́ землю грозные тени — Солнце в полдень печет безбожно! Посчастливилось Правобережию только: — Слушайте, бедные, неимущие! В дни, когда всем неимущим горько, С ними разделим хлеб наш насущный! Бейте в набат — всею силою боли и страсти! Откликнитесь, люди, честность хранящие, Не дайте погибнуть Власти — Вашей кровью скрепленной Власти Трудящихся! Вспомните, как в пожарищах-войнах Защищали вас братские рати. Так неужто — смотреть вам спокойно, Как полягут от голода братья?! Мы одними бедами у́чены — Вместе биться за Красные Зори! Так неужто — друзьям измученным Вы не подали б руку в горе?! Знайте, если самим будет худо вам,— Братьев с севера вновь позовете… Так неужто — от голода лютого Вы сегодня их не спасете?!* * *
А если сольемся в могучую силу, Все люди труда — от края до края,— Какая б засуха ни грозила, Не испугаемся неурожая… Природой капризною овладеем: Даже замерзшие земли распашем, Все зло — грозотворческой бурей развеем, А бог воспротивится — богу прикажем! Одолеем его нашей волей, чтоб двинуться К свету выстраданных дорог… И оазисы на перелогах раскинутся, И — растерянный, свергнутый — покорится нам бог! Зори зарниц засияют — просторные, Землю распашем плугами упорными. (Дождик, насыть ее струйками-соками, Чтоб набухала мечтами высокими!) Зерна в нее упадут — звездным роем… Работу утроим, беду похороним! — Звездочки-зерна, вы темень сырую Разворошите… И, торжествуя, Землю ростками-лучами прорвите, Колосом спелым озолотите! Позабудется горький и черный Этот год голодный — навек. И в братстве людей обессмертится гордый Хозяин Жизни единственный — Человек. Харьков, 1921Василь Бобинский © Перевод Н. Кобзев
ТЮРЕМНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Незнакомке из 13-й камеры
Баю-баю… Тук-тук-туки… Спи, соседка по стене. Растопыря крылья-руки, реет ворот в тишине. Почивать пора и мне… Спи, соседка. Ночь-забота стелет ризу темноты. Одолела всех дремота, спят деревья и цветы. Тук-тук-тук… Усни и ты. Спи спокойно. В коридоре караульный мерит шаг. Прикорнуло лихо-горе, успокоившись впотьмах в душах нищих и бродяг. Тук-тук-туки… Сквозь решетку из-за тучки невзначай глянул месяц на сиротку. Не пугайся. Баю-бай… Спи, подружка, засыпай. Тук-тук-туки… Радость с грустью, счастье с муками сплелось. Сердце боль во сне отпустит, чтобы крепче нам поврозь, баю-бай, с тобой спалось. Тук-тук-туки… Темень ночи обнимает целый свет. Но уже родиться хочет воля — дивный огнецвет, чтоб избавить нас от бед. Где-то скрипнет дверь негромко, и опять застенок нем… Спи, соседка-незнакомка. Скоро добрым насовсем станет этот мир ко ВСЕМ! 1922КАПЛЯ КРАСНАЯ
Капля красная на васильковом… Кто-то, как лепесток, трепетал И в прозрачную бездну взлетал, Становясь то синицей, то словом. Кто-то, как лепесток, трепетал Переливами граней кристаллов. Расцветал в амарантах кораллов Полный утренней неги хорал. Переливами граней кристаллов Кто-то сны золотые дарил, По туманам неслышно ходил В ожерелье рассветных опалов. Кто-то сны золотые дарил, Наклонясь над небесным альковом, По орбитам порхал мотыльковым Меж мерцающих звездных светил. Наклонясь над небесным альковом, Греза в тихих рыданьях зашлась. Амарантом из сказки зажглась Капля красная на васильковом… 1924ГРЯДУЩИЙ МЕТЕОР
1
На берегах моих повисли косо кручи, кристаллы вверх растут на фоне бирюзы. Ударами ветров и стрелами грозы их искрошил мой гнев, их искромсали тучи. Вдоль берегов моих зеленые холмы узорят окоём округлыми стежками. По берегам моим слепящими песками сокровища дарит рассвет из полутьмы. У берегов моих в густых лесах кукушки ведут обманный счет предбудущих годов. В туманной пелене со звезд сошедших снов там водят хоровод двуногие зверушки. На берега мои кладут гранитом гать, по гребням волн моих они ведут расшивы; их души, как моя, загадочны и лживы, но то, что знаю я, им не дано узнать. У них слетает с уст: «О царственное море!» — а взгляды бороздят немыслимую даль, любуясь, как с небес лучит кресты хрусталь и входят в глубь мою беззвучно метеоры.СТРЕЛА
1
Пущенные в цель волшебным луком, улетели в горние пределы хитрым Локи[7] кованные стрелы, ночь будя певучим тонким звуком. Богатырь забылся в полудреме: где, в каком краю его отрада? А огонь целует стены града, отблесками пляшет на шеломе. О, сестра победная валькирий! Почему, сойдя с прямой дороги, заплутала ты в небесной шири? На земле я лишь певец убогий,— мне ли одолеть Линдвурма-змея, звонкострунной арфою владея?..2
Куда нести мне, на какой алтарь летунью с позлащенным острием? Хоть мир велик, — увы, советы в нем ни у кого не может брать кобзарь. Мир бесконечен! Мал и тесен храм для оперенных сладкозвучных стрел. Я сотворю в груди своей придел — сокровища надежно спрячу там. Плыву я, не скрывая ликованья, средь золотых необозримых нив, несу в душе заветные преданья и горсти каждодневных дивных див. Кладу на струны ласковую длань я,— они звенят, как тысячи тетив.3
На огни я иду, на огни, я кочую от крова до крова. Но хиреет крылатое слово, и влачатся безрадостно дни. На угрюмых вершинах, взгляни, где теснятся утесы сурово, змей воздвигнул дворцы себе снова — глушат песни людские они. Вмиг из сердца я вырву стрелу… Станет арфа натянутым луком, отправляющим счастье в полет. Солнце в небе проглянет сквозь мглу, возвещая скончание мукам, и Линдвурм побежденный падет! 1925РАСПЯТЫЙ СКРИПАЧ
I
Какой глубокой тьмою здесь все вокруг объято!.. Здесь свет сошелся клином, ночь петлею чревата. Темно здесь, как в могиле, и, как в могиле, глухо. Здесь диким криком шепот калечит, ранит ухо. Где затаились тати, что дверь сюда закрыли? Куда они пропали? И это люди были… За кем ушли убийцы, блестя в ночи штыками? То были люди, люди с багровыми сердцами!.. Эй, где вы, люди? Люди! Никто, никто не слышит. Здесь вечно смерть ночует, а жизнь на ладан дышит. Здесь мгла угрюмо прячет в своем холодном лоне мои над скорбным миром распятые ладони…II
А память, будто сказка, влечет к истоку воды… Куда, куда девались мои младые годы? Как будто сказка, память,— взгляд утомленный, мамин. Она меня лелеет заботными руками. Заботными руками ко мне нисходит ласка. О днях ушедших память, как солнечная сказка. Вдруг станет почему-то себя до боли жалко… Припомнится под ивой рассветная рыбалка. Из детства прилетают и лепестки, и замять, и домовой, и леший — все это только память… Кто мне промолвит нежно, когда уж дело к ночи: «Намаялся, родимый? Пора в постель, сыночек!..» А я ее покинул, чтоб тешить душу в стоне, протягивая в вечность распятые ладони.III
Мечты-воспоминанья, медовые, блажные… Куда, куда исчезли лета мои златые? Воспоминанья манят вишневыми устами в тот миг, когда безумство явило власть над нами… Звон ручейка смешался с бренчаньем конской сбруи. Цветы в лугах с улыбкой считали поцелуи. Влекли, дразнили груди, как грозди винограда, и усмехались звезды девичьему «не надо…». Светился мир приветный, зарянка ль утро ткала? Или венок мне люба из васильков сплетала? А я умчал в безвестье — костром походным греться, оставив след глубокий в ее печальном сердце. Она его укрыла в монашеском хитоне, а я вонзаю в вечность распятые ладони.IV
Немым укором память мне взор являет синий. В затрепетавшем сердце кровь от позора стынет. Решетки и засовы, и лунный луч-соломка, А за стеною рядом вздыхает незнакомка. Шаги и лязг железа, горячий шепот: «Боже! Товарища Марию они забрали тоже…» А через ночь — грозою тишь разорвали крики, и стоны, и взыванья, и плач истошный, дикий. Тот крик летел тюрьмою, лавиною катился: на деревянных нарах там человек родился!.. Да, на тюремных нарах, во тьме, в кровавой луже, проглянул цвет весенний, назло морозной стуже. О нет, не слезы счастья, не колыбельной звуки — летели по застенкам условной речи стуки… Вот почему застыли в земли холодном лоне мои из мрака в вечность простертые ладони!.. 1925ЧЕРНАЯ СИМФОНИЯ
Упало красным трупом солнце — Князь тьмы пронзил его мечом. И хлынули потоки крови на небосклон, на чернозем. Хохочет Некто, страшный, дикий, и тешится, что смерть принес, и черные вороньи стаи сгоняет с горестных берез. Сквозь лес, сквозь черное кладбище влачится в рубище старик с душой, исполненною тишью, такой, как крик, как крик, как крик… Ведь где-то ж есть конец скитаньям, отдохновенье от чужбин!.. А ты, несчастный и убогий, везде один, везде один. Ведь где-то есть тепло и ласка, рук лебединых страстный взмах… Во мраке дьявола посланцем тревожно бьет крылами птах. Сквозь ночь, по голому погосту шагает с посохом старик. Его душа полна безмолвьем, таким, как крик, как крик, как крик. Ведь где-то есть исход мытарствам, приют измученным сердцам… Что ищешь ты? Куда стремишься? Дороги нет к блаженству там. О, не дойдешь, не дозовешься! Где ступишь — глум, где станешь — яд. Твоя душа полна молчаньем, а вкруг тебя — кромешный ад. В глухую темь не докричишься, дрожь бесприютства не уймешь! Лишь привиденья потревожишь, посланца дьявола спугнешь. Споткнешься, упадешь, не встанешь, вовек тебя не вспомнит свет. Куда бредешь? Чего взыскуешь? К успокоенью тропки нет. На землю рухнешь и застынешь, луною хладной осиян. Чтоб очи выклевать, по снегу приковыляет черный вран. Лежать ты будешь, жалкий, тихий, с обезображенным лицом… Упало красным трупом солнце — Князь тьмы пронзил его мечом…НОЧЬ
На вереницу хаток над рекою ложится тень, как матери рука, все предается неге и покою. С левад несется дробный звук звонка коров, что поворачивают к дому, и нежный голос дудки пастушка. Степной зефир свевает с плеч истому и бронзовые лица холодит, в скирдах ерошит старую солому. В тиши журавль колодезный скрипит. Пыль улеглась. В прорехе звездной шубы зарница всеми красками горит. То здесь, то там пускают в небо трубы змеистых серпантинов сизый дым… Готовятся к ночлегу трудолюбы. Меж сумраком и тьмой неуловим летучий миг. Стучат в клетях засовы, под окнами бормочут мальвы: «Спим!..» Лишь за селом, в густой листве дубровы, влюбленным соловей тревожит грудь. Янтарные глаза таращат совы. Таинственно мерцает Млечный Путь, сребристым молоком залив просторы,— господствует над всем краса и жуть. Темнеют крепостной стеною горы, а с гор тропинка скачет, как ручей, плетя замысловатые узоры. Она бежит, чем дальше, тем быстрей, сквозь черный бор и трепетные нивы, как будто кто-то гонится за ней. Торопится, нема, нетерпелива, лишь иногда через нее промчит, как призрак ночи, заяц боязливый. Лишь изредка неясыть прокричит, встряхнет крылами и утихнет снова. Ночь приложила перст к устам и спит. Сияет в небе месяца подкова. Не слышен над недвижною водой ни шорох трав, ни шелест камышовый. Излучина реки покрыта мглой туманною, что вся дрожит, струится, как в танце стан русалки молодой. Сама себе во сне долина снится… 1926БОЛЬ
Сидели в синем сумраке соседи, вкушая по крупинке шуток соль… И вдруг в житейской дружеской беседе негромко прозвучало слово «боль». Как зеркало воды пушинка рушит, уроненная птицей в озерцо,— встревожило покой, смутило души то брошенное походя словцо. Унесся кто-то в прошлое: он — мальчик, стоит перед кустом цветущих роз, до крови у него ужален пальчик, глаза полны невыплаканных слез… А кто-то в золотой осенней вьюге рыдал, с листвою падал на погост, вбирал в себя симфонии и фуги, грудь обхватив руками вперехлест. Срывались миги — жемчуг с ожерелья… Весна шептала: «Радуйся, мечтай!.. Отступит грусть, придет черед веселья, всем завладеет яблоневый май». И шепот плыл так нежно, так шелково, касаясь гулко бьющихся сердец… И лишь один, услышав это слово, стал бледен, как мертвец. 1926«ГЕЙЗЕРЫ НА ТРОТУАРАХ» (Из цикла)
I
За витринами желтого солнца осколки, тротуары — палат поднебесных паркет. Туго талии дам перетянуты шелком, изгибается коброй корсетный хребет. В тротуарах намеками смутные блики, в колыханье ритмичном сплетения тел. Напомаженных губ бессловесные крики вперемежку с пучками амуровых стрел. Взмахи длинных ресниц, смех ледово-стеклянный. Все несется куда-то на мутной волне… Жесты страстные, жадные взгляды: «Желанный, Скоро ночь. Кровь играет. Иди же ко мне!» Вдруг средь этого шика и этого лоска, кутерьмы, парфюмерного запаха роз,— перепачканный маслом, углем и известкой, появился в спецовке Рабочий-колосс. Он, неся за плечами зари побежалость и в карманную глубь опустив кулаки, шел, и мигом толпа перед ним расступалась, точно смерч оголял дно житейской реки. Молкнул похоти глас и бренчанье брелока, утихал на пути его лепет, галдеж. И хоть взором блуждал он отсюда далеко, по толпе прокатилась гусиная дрожь. Мимо чистеньких, сытых,— в мазуте и саже, шел Рабочий, жуя заработанный хлеб; был для них он, как пуля в церковном витраже, будто в полночь увиденный собственный склеп. 1928Дмитро Загул © Перевод Н. Кобзев
«Ты полночной порою приходишь…»
Ты полночной порою приходишь, В час, когда уже крепко я сплю, Глаз лучистых с меня ты не сводишь, Утешаешь: не плачь… я люблю!.. Я словам твоим внемлю душою И сквозь сон улыбаюсь тебе, Взгляд твой нежный горит надо мною, Простираются руки в мольбе. Горячо ты меня обнимаешь, И в объятьях я таю во сне, Поцелуями сердце пронзаешь, Лаской грудь разрываешь ты мне. И в слезах я глаза открываю, Исчезает отрада-любовь. Ночь вокруг без конца и без края — Нет как нет моей радости вновь…«Когда на ладонь я склоняю чело…»
Когда на ладонь я склоняю чело, Является в грезах родное село: И поле вдали, и за рощей мосточек, И старая хатка, и темный садочек, Где детство беспечно по тропке брело. Вон там на лугу мое счастье цвело,— Ольха над прозрачным ручьем наклонилась, Отара, пыля, с полонины спустилась, Сторожко журавль расправляет крыло… Лишь там мне в ненастье тепло и светло!УТРЕННЕЕ СОЛНЦЕ
Солнце рассвета — сердце мое,— Зеркальная глубь тепла. С прозрачным утром оно встает… И смотрите, уходит мгла! Близка вам, понятна моя душа,— В ней плески и ваших волн… Радость, песком золотым шурша, Качает унынья челн. Я души убогие обогащу, Краскам восхода рад, Торбы нищие позлащу… Возьмите мой мир, мой клад! В пропасть низринь холодную тень, Мертвую тишь порушь! Буду играть я и ночь и день На арфах ваших душ. Я не встревожу спокойных дум Печалью души своей. Милы мне те, кто хмур и угрюм, И те, что весны звончей. Разве не солнце — сердце мое? Не кристальная глубь душа? Воздушные замки она снует, Счастье в груди верша. 1919ПОСТ 440 Баллада
I
Бежит по железным тропам Поезд в огне и в дыму, Пронзая взглядом циклопа Слепую тьму. Бездумно он повторяет: — И-ду-уу!..— Летя по степи, теряет Искр снопы на ходу. В каждой теплушке теснятся Двести — триста штыков — Едут они сражаться За дело большевиков. Каждый в каждом вагоне — Ратник, а не холоп! Будут помнить бароны Красный Перекоп!II
Пост — четыреста сорок, Будка на самом мосту. Еще часовому не скоро Сменяться на этом посту. «Два года — ни строчки из дома… Как там? Душа болит… Он для родных и знакомых Давно уж, наверно, убит…» Вспомнился текст из газеты, Что утром читали ему: «Погоны и эполеты Зашевелились в Крыму». Мчатся туда эшелоны, Пустив колеса в галоп — Будут помнить бароны Красный Перекоп! Ночью и зябко, и волгло, И к сердцу подходит страх… Минуты тянутся долго, Когда стоишь на часах…III
Вдруг шорох… Два силуэта… Третий — прыжком под мост… «Стой! Ни с места!» — фальцетом Командует грозно пост. Вскинув ружье, незваных Гостей он идет встречать. «Там часовой…» — «Наганом Заставь его замолчать!..» Крики: «Назад! Стреляю! Долой с моста!» — «Что он, страха не знает, Красная сволота?!» Выстрел. Ни шагу по шпалам Сделать не смог бандит. Упал на рельсы устало — Мертвым лежит. Второй свинцом часовому В грудь попал и в плечо: «Не быть и ему живому! Пусть кровью, гад, истечет!..»IV
Будто легли на роздых Под ветра степного свист: Бок о бок, глазами к звездам — Контра и коммунист. А в поезде рыцарей воли Ждет неминучая смерть — Вот-вот от взрывчатки в поле Вздрогнет земная твердь… «О боже, что за причина? Кто-то лежит на пути!..» Успел машинист. Машина Стала у моста почти. Даже искринки света Перед составом нет. «Эй, караульный, где ты?» Ночи безмолвье в ответ. Вышли. С буфером рядом Убитый беляк лежит. И вмиг командир отряда По склону под мост бежит. «Мина! — кричит он в яри.— Покамест никто не лезь!.. Иначе конец… Фонарик! Еще чье-то тело здесь…» То был часовой. Сажени Всего одолеть он не смог — К заряду полз на коленях И мертвым свалился с ног…V
Гудок! По железным тропам Бежит паровоз в дыму, Пронзая взглядом циклопа Слепую тьму… Каждый в каждом вагоне — Ратник, а не холоп… Будут помнить бароны Красный Перекоп! На кумачовой ткани Поезд бойца везет, Что в мостовой охране Отбыл последний черед. 1924ВЕЧЕРНЕЕ
Миг на закате солнца. Монотонно шумит очерет, Уставшие травы сонно Никнут и клонятся, Спит степь. Зеленою ленью, Расплавленным оловом Полноводная Рось плывет. И хочется теплым словом Растрогать народ. Куда ты стремишься, Вечерняя дума моя? Грустишь почему-то — о чем? Не воротить минувшего дня И не догнать нипочем! Воспой пробужденные силы, Будь как широкая степь, В которой казаков Иль скифов могилы, А над ними — небесный склеп. Молчи о том, что минуло, Как вечно могилы молчат… В долине село Еще не уснуло,— А чутко слушает песни девчат. Пусть месяц — мечтатель банальный — Вспомнит на сте́рнях Татаро-монгол… Ты слышишь, как возле читальни Смеется над ним комсомол? Быстро очнется вечер, Не станет истории, дум… Начнутся веселые, Звонкие речи, Словно юной дубравы шум. Ох, знаю я, знаю, О чем ты страдаешь, Запоздалая песня моя! Прошлого голосом не наверстаешь, Все, что Комсомол, — то не я. Томительно долго Деянья вершатся… А времени ток не унять… Эх, если б мне было двадцать Или хотя б двадцать пять! Нет, не по мне сожаленья О давних и славных днях! Придет озаренье, Цветенье, горенье,— Довольно вздыхать впотьмах! Только бы сбросить мне эту Тяжесть вечерних туч, Горечь навета, Шум очерета И последний холодный луч. Силы еще довольно, И запал в душе еще есть! Не печальный я очерет, Сердце тоске не известь, Живой я еще поэт! 1925В СЕЛЕ
I
Стога на росстанях маячат В родимой, милой стороне,— Я взгляд, от слез блестящий, прячу, Здесь неуютно, зябко мне. Здесь грудь томительно сжимает Меж тучек небо в вышине, А в сердце словно что-то тает, Как воск на пламенном огне.II
Уныло, будто на погосте,— Пустынны, скошены поля!.. Так что ж сюда стремится в гости Душа печальная моя? Давно уже не в тон эпохе И эта даль, и эта высь. Шум городов, и крик, и грохот В мою мелодию влились. Мне чужд тенистый сад у дома И чужды вздохи камыша. Я полюбил глубокий омут, Где тонет камешком душа. На мачты, стрельчатые крыши Всхожу я, как на эшафот. А ваша ночь покоем дышит, Уснуть безмолвье не дает. Какой-то шорох, плеск неясный Приносит в сердце темнота… Лишь только зарево погаснет, Я — бесприютный сирота.III
Какая тишь стоит вокруг!.. Не шелохнутся степи, долы; На изумрудный росный луг Слетелись бабочки и пчелы. Пылает солнечный костер, Сияет небо голубое. Бесцельно мой блуждает взор, И мысль теряется от зноя… Презрев крестьянские дела — Который год уж горожанин,— Давно отвык я от села, Его покой мне дик и странен. Здесь ни трамвай и ни авто Движеньем воздух не колышет, В часы урочные никто Гудка призывного не слышит. Лишь прошуршит рогатый жук, Расправив надвое воскрылья,— Его глухой и низкий звук Напомнит шум автомобиля. Когда ж померкнет свет зари, Гляжу я, выйдя из избушки, Как зажигают фонари Неисчислимые гнилушки. Чем от хандры спастись? Бог весть… Рвануться в бездну млечных далей? Иль из Вергилия прочесть Десяток римских пасторалей? Тоска и темь… С ума сойти! Влачится время, как улита. В читальню можно бы пойти,— Да жаль, сейчас она закрыта… 1926МАРИЙКА
I
Смутной вечерней порою, Когда горизонт во мгле, Устало глаза закрою, И станет тоскливо мне. Вспомнится зимний вечер И фастовский вокзал, Вздрогнут от холода плечи, А в душу вольется печаль. Вновь предо мной предстанет Тот девятнадцатый год — В шинелях, старье и рвани Голодный и нищий народ. Вспомнится станция Фастов И светлый Марийкин лик — Служила она при красных В газете «Большевик». Наше с нею знакомство Было недолгим тогда. Смеялась Марийка звонко, Веселой была всегда. В сумрачный час на закате Сердцу всего грустней… Кстати или не кстати, Позвольте поведать о ней…II
В Фастове на вокзале Марийка из «Большевика» Сидела на лавке в зале И ожидала звонка. Она не была большевичкой, Девчонка, дочь батрака, Невзрачна и невеличка, Корректор из «Большевика». В Киев она возвращалась, На Волыни оставив дом. С ног валила усталость — От Житомира шла пешком. С плеча у нее свисала Торба, как у калик,— Коврига хлеба и сало Завернуты в «Большевик». У фастовского вокзала Деникинский эшелон: И на перроне, и в залах Тьма золотых погон. Марийка вынула сало Из торбы и хлеба кусок, Поспешно завтракать стала, Пока не ударил звонок. В Фастове на вокзале Раздался истошный крик — Сверкнул офицер глазами: «Вы видите? Большевик!»III
В Фастове на семафоре Качнулся маленький труп — Ветров собачья свора Терзает старый тулуп. Пусть на Волынь телеграмму Вьюги быстрей отобьют, Чтоб знала Марийкина мама О том, что случилось тут. Пусть грянет набат колокольный, Воспрянет земля от дремы, Ринутся красные кони На оборотней зимы. В Фастове на вокзале Раздался третий звонок,— Пар зашипел, застучали Колеса, как тысяча ног. Только Марийка-корректор Осталась одна на ветру. Кровь на замерзших рельсах, А на семафоре труп. …………………………… Проездом в Белую Церковь Я фастовский вижу вокзал,— Вспомню Марийку мертвой, И грудь мне сжимает печаль…МОЯ РОДНАЯ УКРАИНА
Моя родная Украина, Зеленый рай земной! Я припадал щекой к раинам, Шептал: — Я твой! Я твой! Тобой дыша во сне и вьяве (Вот все мои грехи), Твоей забытой давней славе Я посвящал стихи. Когда гудели буревалы В отчаянной борьбе, В моей душе росли хоралы, Как память о тебе. Там, где алели вражьи маки, Ты с братьями была,— И ярче горних звезд во мраке Любовь твоя цвела. Ты знала тех, что где-то в поле Шли за отчизну в бой. А я свои лелеял боли, Я сын неверный твой. Но от предателей лукавых Стоял я в стороне, Монет иудиных кровавых Вовек не нужно мне. Мой луг прекрасный, Украина! Ты снова расцветешь. Прими в святые Палестины Изгоев бедных тож. Прими моих несчастных братьев, Что бродят тут и там, Прости, открой свои объятья Обманутым сынам. Пусть и у них душа взлетает, Теснит от счастья грудь. Тот, кто не ищет, не плутает,— Ты их вину забудь. А я — последний между ними — От милых мест вдали Дарю напевы Украине, Те, что в туге взросли.ГЛЯЖУ В ПРОСТОР
Гляжу в простор бурливых вод, где чайка гребни с волн срывает, и мысль — отчаянный пилот — в лазурь за нею вслед взмывает… О, сколько радостных высот в душе свершенья ожидает! Слышны сквозь птичьи голоса издалека удары грома. Перед грозой молчат леса, а в сердце буйство ветролома… Взлетает песня в небеса, как самолет с аэродрома! Шумит в груди страстей прибой, за облака отвага кличет. Как голубой велит обычай,— бросайся со стихией в бой!.. Тому, кто любит непокой, удача белой чайкой кычет. Оставь замшелый свой уют! Дерзанья сердца не измерить. Не затворяй в безвестье двери, сомненье и боязнь — под спуд! Пускай изгибами артерий металлы жарких чувств текут. А если вдруг зеленый сплин Молохом жадным пасть разинет,— мечта заветная: «дин-дин!» — сполошной зов над миром вскинет. Смерть от тоски — исход один всем, кто погряз в болотной тине. Мотором, сердце, задрожи и обрети на счастье право… Влекут крутые виражи, манит венком лавровым слава. Стих брызжет, как вулкана лава, из-под густого пепла лжи. Пускай кружится голова, наводят страх литавры грома,— зовет безумцев синева среди небесного пролома. Летите, звонкие слова, планёрами с аэродрома! Творя в зените свой полет, пусть небосвод крылом черкает мечта — отчаянный пилот… О, сколько солнечных высот в душе свершенья ожидает! Гляжу в простор бескрайних вод и вновь, и вновь иду на взлет туда, где гроз орган играет…Микола Филянский © Перевод В. Гордеев
«За мигом миг, за годом год…»
За мигом миг, за годом год, Уходит в тлен за родом род. И всходит солнце каждый раз, За ним идет вечерний час. И веют ветры от полночи, И рвут, и бьются, и рокочут, И волны мчат за рядом ряд И возвращаются назад. Не пересветят звезды, зори, Не перельются воды в море, Не перестанет сердце ждать, Ни млеть, ни слушать, ни рыдать. И то, что сердцем нашим хлынет, — Все было уж и снова сгинет, И тлен возьмет последний след Того, кто брезжит в лоне лет.«Под солнцем всем — конец один…»
Под солнцем всем — конец один, Всему земному — тлен могил. Кто разгадает смерти час, С земли — кто ждет, кто встретит нас? Тем, кто познал мученья, труд — Свершится ли небесный суд? Ответа нет с высот немых… Так чары пей из чар земных, В земной судьбе — земная воля, Услада их — земная доля.«Так чары пей из чар земных…»
Так чары пей из чар земных… Пусть скорби сердцу не диктуют, Пускай же кубки не пустуют, Когда их звон — в руках твоих. И к солнцу — в блеске одеянья, До ночи ясной не снимай, Нектар и мирру разливай Залей никчемность бытованья, Шути и днем, и ночью, утром, И юношей, и старцем мудрым, Одолевая тяжкий час,— И нет иной свободы в нас. Там, за чертою поминания,— Ни слез, ни песен, ни желания; От власти тьмы не уберечь И труд ума, и сердца меч.НОКТЮРН
И млеешь весь, и слушаешь, И мчишься, и плывешь, Как цвет росу прохладную — Остуды сердца ждешь. Уста твои стоустые И тлеют, и зовут, От сердца слов не требуя, В немой усладе льнут. В мечтаньях весь, и слушаешь, И ловишь счастья сны, Как хворый в ночь бессонную Оставшейся весны.ХВАЛА
Хвала тебе, хвала — за волны, что рокочут, Что льются ласкою пожизненной красы, Хвала за ясный день, за тихий гомон ночи, За роскошь утренней или ночной росы. С рассветом слышу глас — и ложе покидаю, И в тучах золотых я отсвет твой ловлю, Любуюсь и молюсь, сон ночи разгадаю, И сердцем радуюсь, и вновь тебя хвалю. Хвала тебе, хвала — за волны, что рокочут, Что льются ласкою пожизненной красы, Хвала за ясный день, за тихий гомон ночи, За роскошь утренней или ночной росы. И даль небес твоих я славлю, восхваляю, И мудрость мудрую и тайную твою, И лоно грез земных, где сердцем прозреваю, Горжусь и радуюсь, рыдаю, продаю. Хвала тебе, хвала — за волны, что рокочут, Что льются ласкою пожизненной красы, Хвала за ясный день, за тихий гомон ночи, За роскошь утренней или ночной росы. В край теплый с севера мчит ветер птичью стаю, Я вижу тучу их, я оклик их ловлю, И — сын земли — к ним сердцем я взлетаю, Исчезнут вольные — я вновь тебя хвалю. Просторы нив моих, разлив безбрежный поля, Я на чужбине вспомню — слезы лью; Кому моя печаль, кому слеза неволи, Душою ясною кого в тот час хвалю? Хвала тебе, хвала — за волны, что рокочут, Что льются ласкою пожизненной красы, Хвала за ясный день, за тихий гомон ночи, За роскошь утренней или ночной росы. И вновь, и вновь, и вновь — с рассвета до рассвета Я чую сердца труд, слезу твоих очей, Уста мои горят, пылают зноем лета, И вновь течет хвала во тьме немых ночей. За песню вольную — хвала тебе, хвала, За думу гордую высокого чела, За ласку чар немых, тоску ночей минувших, За грустный перебор навеки струн заснувших. Там далеко, за гладью океана, С высот твоих немых я слышу глас органа, Тогда, всевышнему, звучит тебе осанна… Хвала тебе, хвала — за волны, что рокочут, Что льются ласкою пожизненной красы, Хвала за ясный день, за тихий гомон ночи, За роскошь утренней или ночной росы.«Курганов ряд, давно немых…»
Курганов ряд, давно немых, Спит в тихом свете звезд ночных, Земных сует беспечный шум Уж не прервет их вечных дум. Им слышно — чайка в ранний час Над ними стонет всякий раз, Где вольный вольному взамен Дарует сон руин и тлен. Им слышно — как волна играет, Как луч вечерний замирает, Как слава в сумрачном раю И оклик свой, и тень свою На ранней зорьке окликает. Им слышно… Нам же лоно лет Давало ясный свой завет; Тех, чьи останки уж истлели, Понять при жизни не сумели, Сердца им не смогли отдать, Их дум теперь не разгадать… Нам чайки крик, что душу ранит, Для сердца памятью не станет, Не изумит нас в час росы И оклик канувшей красы, Течет напрасно после нас Минувших лет минувший час. Без дум, без скорби и без муки Мы сонным варварам науки Передаем курганов ряд, И нам — их не вернут назад… Но скоро ведь придет тот час, И наш потомок спросит нас: Кто не сберег останки лет, Где дней, давно минувших, след? И на простор немой молчком наш стыд покажет, И даль далекая им ничего не скажет… Зов нашей старины и свет рассвета давний Не пробудили в нас раздумий и желаний, До нас не донеслась таинственная речь, Во тьме руин немых остался сердца меч. И царство Скифии нам слово не сказало, Останками руин сердца не занесло, Крапивой, беленой былое поросло, Туманами ночей свой век запеленало. И песни мы родной не сберегли в свой час, На хилый сердца стон свели ее до нас, Никчемным окликом она средь нас идет И эхо вечеров с собою не ведет. В театр перенесли мы шутки и надежды, Любовь и образцы прадедовской одежды, И рады нынче мы, что нам дают базары: Горилку, мед, гопак, рушник и шаровары. А тем, кто прахом стал в сиянье давних лет, Крестов не возвели… И проросли бурьяны. И только лишь заря приветствует курганы, И только лишь звезда услышит их завет. А внук, наш дальний внук, чей ясно-гордый ум Промчится песнею над лоном сонных дум, Полями отчими пройдет он в ясный час, Былого оклика услышит скорбный глас. Догадку тяжкую положит он на мары[8] — Сынов Отечества бескровную отару.НЕ ЖАЛЬ
Не жаль курганов мне, что по степям синеют, И день и ночь одни, печальные, стоят. Не жаль мне и полей, что рожью зеленеют, Со звездами ночей тихонько говорят. Не жаль мне и руин развеянных, размытых, Без слез подброшенных насмешливым сынам, Крапивой, ковылем и беленой сокрытых На тяжкую беду орлам. Их скорбно-гордый сон зарница осеняет, И полночь каждая их склоны обсыпает Алмазною, вечернею росою, Обманно им шепча минувшею красою. Мне только жаль тех слез, что зря здесь пролились, Чтоб песней стать неумирающей красы, Жаль роскоши венков, что в скорбный час плелись, Сплетаясь, вяли враз без солнца, без росы…ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
Последний вечер. Солнце — ниже, Пожухлость листьев золотит. Мой челн скользит вперед, все к плесу ближе, Кувшинкой сонной шелестит. Кладу весло, роняю руки, Гляжу на нивы вдоль излуки, Гляжу и мысль не подгоняю, Куда грести и плыть — не знаю. Там — ночь сияньем заманила И сном весенним одарила, Там — с полночи и до рассвета, Как чары, пил дыханье лета, А там, где бор над кручей вечен, Я слышу тишь последней встречи… Плывет за листьями вослед Мой тихий рай весенних лет… Я оклик сердцем посылаю И челн назад свой направляю.НЕ СОН, НЕ СОН
Не сон, не сон, постой… Вечерняя заря, Вечерняя заря с туманом и росою… Под рокот сонных крон вновь ожидала я. Под тихий плеск воды вставал ивняк лозою — Не сон, не сон… В тот час, в вечерний ясный час Над берегом немым ждала я столько раз… Как бережно туман качался над водою, Как ласков ветерок с осокою-травою, Как ветви сонных ив все ниже наклонялись, И в сумраке они так бережно скрывались… Не сон, не сон… В тот час, в тот тихий, ясный час Над берегом немым я пела столько раз… Над берегом немым закатом даль пылала, Над берегом немым, тоскуя, я стояла, Все слушала, ждала… И тихий плеск весла Мне эхом тишина сквозь ивы донесла… О нет, не сон, не сон… Я в тихий, ясный час Над берегом немым рыдала столько раз…ЗОВИТЕ ИХ!
Зовите их — они же заблудились! Сухим терновником заполонился лес… Тут шлях лежал — теперь зарос он весь. Пока еще туманы не спустились, Зовите их, они здесь заблудились! Зовите песнею, она одна — крылата! Она всех раньше долетит, Заглянет в светлый лес, во тьму, где место свято, Промчится над душой и в сердце прозвенит. И хоть они давно, давно с пути уж сбились, Хоть небо тучами над ними пролегло… Но солнце не зашло! Пока вечерние туманы не спустились, Зовите их! Они ведь заблудились…КИЕВ
Тут — Византия, там — Растрелли, Там дым от жертвы и перун, И крест, и ладан, и канун, Пиры палат, застенки келий, И сон руин, и будней шум, Прозрачность далей, мрак в пещере, И прах жилья, и смех, и глум, И время тайной той вечери, И вечно — скованный язык Тамгою всех своих владык… То весь во мгле — рассветной, вязкой, То вспыхнешь в золоте венков, Останки сохраняешь сказкой, Обнимешь сагами веков,— Несется всюду смысла голос, Реликвий — полон каждый шаг, И в них серебряный твой пояс, И в слитках золотых твой шлях. Ты все познал. Красою полный, Ты не боишься перемен; И сколь прошло людских колен — Ты перемог, как сфинкс безмолвный, Добро, и зло, и смерть, и тлен. Так жди гостей. Два моря, горы Их понашлют со всех сторон В твои пути, в твои просторы, В жизнь новую и в твой закон.ГОЛУБИ В ЗВОННИЦЕ
Звоны, звоны, Перезвоны, Стал ваш глас холодным. Вам досталось Стать под старость Зовом похоронным. День лучится, В грудь стучится Новых лет примета. Эти ж звоны, Словно стоны, Будто с того света. Над могилой Молчаливой Пролетят и канут. И с годами Здесь цветами Звоны те не станут. Где-то — варят. Там — ударят В бубны и в литавры. Уж не с вами Теми днями Лоб украсят лавры. Мыши-сони Спят в часовне. Ржа. И сумрак вечен. Гулкой стаей Прилетают Голуби под вечер.В ЛАВРЕ
Сюда спешил я одиноко. Не знаю, что меня вело: Покой ли, глас веков иль рока, Иль пышный холод черт барокко, Иль шляхом сонным сердце шло. Там бился грач у амбразуры, С ведром в колодец падал луч, И вросший в землю камень бурый Скрывал — и хмуро, и понуро, Истлевших плевел тайный ключ. Там черные метались тени, И заскорузлые слова, В мозолистых буграх колени, И тайной стиснутые стены, И в светлом нимбе голова… И вновь я тут. Все тот же ряд Веками сглаженных оград, Ансамбль рисунков, пряча камень, В торжественной мерцает гамме, Свет льется сквозь ворота, арки — Пятнистый, золотистый, яркий, Здесь и узоров весь каскад. Свернула тропка лишь вон там: Она в другой спешила храм, Хоть в нем не слышен гул моления, Нет ни лампады, ни смирения.НАД МОГИЛОЮ
Слышишь? Мы здесь собрались… Чтоб поведать тебе нынче снова,— Праздник великий грядет. Завтра — Пасха, день ясного света. Степь будет завтра в фату, как невеста для свадьбы, одета. Это ведь значит, вчера вновь «На страже поставлено Слово». Ветер в полях зеленя теребит, как весны гобелены, Чтоб на крыльях поднять в бесконечную высь кантилены. Шляха Великого луч вновь пронижет созревшие груди, Мрак темницы вскричит, вознесется в зенит, мир разбудит. Тайну извечной весны передаст нам ширь отчего поля. Славу Славута катить будет буйно от моря до моря. Лавой, лавою — глянь!.. Собрались вместе в место мы это: Праздник великий грядет. Завтра — Пасха, день ясного света.АСКАНИЯ-НОВА
Все было — скиты, клобуки… И кимерийцы, роксоланы, Булгары, готы и аланы, И гунны, и берендюки, Киверцы, угры и маджары, Куманы, бастии, авары[9], Налеты турков и хазар, И злые полчища татар… А сколько пронеслось их мимо, Что шли сюда неутомимо. И канули в пучине лет — Их лики, голоса, их след… Край не лежал немым и диким, Один не стыл, печалью полн. Как океан, он был великим Простором с колыханьем волн. В его путях, в его равнине, В груди, могучей и доныне, Еще неистовство клокочет И буйством дней прорваться хочет, Чтоб над степями не затих Неугомонный оклик их.НОЧЬ
Мираж? Иль сон?.. Копытный стук. И ржанье. Тень мелькнула вдруг, И гул шального бега прочь Умчал во тьму, прорезав ночь… Еще мгновение — и всюду Простор полночный отдан люду. Земля гудит, земля дрожит, И люд летит себе, спешит, И путь во все края лежит, И степь полна немых отар, Как облаков осенних вал, Они растут, как из земли, И — вдруг в немую тьму ушли… Минута, две, а может, пять — И я в степи один опять.«Лишь я, да степь, да ночь кругом…»
Лишь я, да степь, да ночь кругом. Смотрю — тихонечко, тайком Вон двое напрямик идут. Куда, откуда, где их ждут? Дошли и встали у кургана, Поговорили как-то странно, И вдруг вдвоем исчезли с глаз, Как в яму провалились враз… Возникли вновь, на степь взглянули И снова в глубь земли нырнули. Час минул — вновь они уж тут: Предметы странные в руках, Оружье, цепи на плечах, Бокалы, амфоры несут… И, оглядев простор ночной, Позвали раз, потом другой, И — появились кони враз На этот оклик, этот глас… Затопало, загрохотало И — вновь, как прежде, тихо стало.«Горит звезда — зари сестра…»
Горит звезда — зари сестра. А я иду… Давно б пора Мне отдохнуть хотя бы малость, Но где-то тело потерялось. Как будто гений давних лет Меня зазвал с собою вслед И, крылья дав на час единый, Мне подарил полет орлиный. И вижу я: передо мною Стоит лазурною стеною, Как бы прозрачный призрак света, Майдан в сиянии рассвета. Шлях серебрится. Чинно тут Стоит какой-то дивный люд. На поясах — сагайдаки[10]. На копьях — из цветов венки. И разом темная их сила Пошла плясать вокруг могилы. Неясны песни той гурьбы, Молитвы, тризны иль гульбы, И гам, и звон, и шум вокруг, И целый лес простертых рук Туда, где, каменным, великим, Бог обращен к востоку ликом. И сердце веки приподняло, И на чело рассвет лег ало: Весь пьедестал его в венках, А люд — у божества в ногах. Все разом поднялись толпой И канули в дали степной.«В тот миг, как даль начнет светлеть…»
В тот миг, как даль начнет светлеть, Кто может запретить мне петь И этим песням к вам лететь! Порвать кто сможет хоть одну Мою из серебра струну, Что поутру всегда звенит И вся желанием дрожит,— Той песней, что спешит создать, Стострунный ясный день обнять… Восток зарделся. В бездну канул Ночной экран степных обманов.«Где я? В какой я стороне?..»
Где я? В какой я стороне? Иль грежу вновь, иль снова мне Степь преподносит дар обманный — Весь этот мир, как сон нежданный Пустынь ли, прерий, Дагестана, Тот сон явился из кургана, С холодных льдов, с волн океана, С немых снегов и из предгорья, С долин зеленых и с нагорья. О вы, кто канул в дали ясные, И времени вы не подвластные, Кому вам в сердце дух мой кинет: «В степи, в степи, на Украине…»ПОЛДЕНЬ
Не стало небо золотое С утра стелить коврами хмарь, Убор полуденного зноя Вновь гонит прочь живую тварь. И Он явился наяву, Пронзая кличем синеву: «Покличу всех, всех созову, Степям я подарю обновы И дам приют здесь тварям новым. Серебряный родник дам я, В нем отразится даль небес, И примут чудный злак поля, И степь увидит мир чудес». А степь в свой час плодов лишилась, Сухой ковыль и тот зачах, Земля в уродстве обнажилась, И в наготу вселился страх. И Он пришел, и в кличе воля: «Тут будет плод, как был всегда. Я наготу укрою поля,— Здесь будет зелень и вода. Походкою — тяжелой, странной, Я проложу межу в пыли И залечу земные раны, Нагнется колос до земли». И приняла степь знаний силу: Где пролетал ширококрыл Среди майданов и могил, Срывая росы с трав, ветвей, Летун костлявый — суховей, Там серебром взметнулись воды, В них отразилась даль небес, В полях — невиданные всходы, И в степь явился мир чудес. Походкою — тяжелой, странной, Вел трактор борозды в пыли, Земные залечились раны, Склонился колос до земли. И твердь земная расступилась, Явив всем тайну, свет надежд. И все, что грезилось и снилось, Оделось в радужность одежд.КЛЯТВА ПРОРОКА ЕЗДРИ
Пророк Ездри — библейский персонаж, автор одной из книг Старого завета.
Вечерних жертв курился дым, Рыдали жители селений, И перед господом своим Пророк Ездри встал на колени: «О боже правый! Грех наш лих, Он с прошлых лет простерт над нами. Наш край — в ярме владык чужих! Их меч над нами, знаки их Владеют нашими устами. У них в руках — наш труд, наш сон, Их мысль, их воля — нам закон. В изменах, боже, край наш весь, Стыд наших душ достиг небес. О наш творец! В сей миг рыданья За весь народ и вместе с ним Несу все слезы, воздыханья Пред алтарем твоим святым. Клянусь, что мы свой тяжкий грех Замолим, боже, пред тобою! Кровь смоем проклятую тех, Кто весь наш край обвил тоскою. И тех, что нас казнить могли, Сметем с родимой мы земли. И будет вновь наш край равнин, Как раньше, славен и един. Обратного не будет хода Для душ их проклятого рода». Народ с пророком клялся весь, Услышал их господь с небес.ШЛЯХ
…Я знаю шлях. Чудесными местами Идет сам по себе, меж прочими — иной. Увитый тернием, уставленный крестами, Не каждого из нас зовет он за собой. Там полночью горят — созвездья неземные, Луч солнечный над ним — совсем не как у нас, Там радости свои, просторы зоревые, Над горизонтом свет там никогда не гас. Для путника дорог обратных не найдется, И оклики земли иначе там звенят, И неземным огнем уста его горят, И тлен его венков терновых не коснется.ПАСХА
«Распяли и тебя, как сына».
Т. Шевченко Она не раз в край чуждый убегала, Своими проклята не раз была, И над скалой Тарпейскою[11] стояла, И на уста Марии кровь со лба текла. Песнь третьих петухов еще не раздалась — Стоял над нею глум, и скорбь над ней неслась. И стерегли ее, следя, под пересуды, И слуги палачей, и факелы Иуды. Распятою была… И вот теперь на воле; Она под ними вновь в священном ореоле, А там, где горн стоял и цепь оков ковалась, Теперь над морем волн — «Осанна» раздавалась. Идите же на пир. Питье на стол поставьте! И ворохом цветов, веночками восславьте… Пусть в этот ясный день не будет виноватым — Пришедший в третий час, в шестом часу, в девятом.НАВОДНЕНИЕ
Разлилось, Разбушевалось, Растеклось, Расколыхалось… Буря рвет лазури ризу, Бьет и сверху, сбоку, снизу, Катит, крутит и кидает, Горизонты раскаляет. Рвется сердце, рвутся груди, Гром небесный мертвых будит, С неба клекот стай орлиных Падал, чтоб пропасть в пучинах. Глянул вниз: под скальной крышей Тень людей, но смех не слышен — Бледные и с хмурым взглядом В страхе льнут друг к другу рядом. Кто — с корытом, кто-то — с тазом, Ввысь глядят в испуге разом… И одна другой вдруг скажет: — Этот ливень — горем ляжет. Воды, что на нивы хлынут, Вырвут всходы, зерна вырвут, В огородах будет пусто, Пропадет совсем капуста. Все заилит на баштане, И плетей на нем не станет. По жердинке — страсть такая — Весь свинарник растаскает.ДАЛЕКОМУ
Не шли мне скорбь, далекий друже! И так душа моя больна Кручиною, и ей все хуже, В огне предсмертия она. Пылает заревом весна. Огонь откуда — мир недужен, Толпа бесстрастием полна! Во тьме Голгофы матерь тужит — Не видит той толпы она… Не шли мне скорбь, мой брате-друже, С тобой у нас печаль одна: Рыдают тяжко наши музы, Хохочет в пекле сатана…НА СВАДЬБЕ
А я вчера на свадьбе был, И кобзу взять не позабыл,— Везде вдвоем… И вот одну Я стал настраивать струну. Гляжу — кобзарь. Встал у порога. И кобзу прислонил рядком. То на гостей посмотрит строго, То на невесту с женихом. «Чего ж стоишь? Что не играешь? Забыл гопак или не знаешь? Иль нам некстати пир хмельной? Давай-ка, брат, — пойдем со мной! Пойдем, певец! Зову, как брата. Тут рядом есть другая хата, Где хороводит детвора,— Гробов вчерашних там гора: Нам над гробами петь пора!..»УТРОМ
Я до рассвета рано встану, На лоно ясным взором гляну, К дубраве не спеша пойду, К цветам вечерним припаду. И припаду, и коль сумею — Их сон вечерний одолею, Росу с холодного листа Возьму на жадные уста. Заря над лесом расплеснется И эхом сонным отзовется, И будет неземной убор Тлеть и пылать, лаская взор. И упадут в цветы равнины И бриллианты, и рубины, Чтоб блеском драгоценным хлынуть И в поцелуях солнца сгинуть… И будет жаль мне в этот миг, Что каплей к ветке не приник, Что бор с туманом не покину, Что в поцелуях я не сгину.«Думою последнею в свой субботний час…»
Думою последнею в свой субботний час, Дни мои весенние, прилечу до вас. Там вон за дубравами, где синеет даль, Там — венки лавровые, сверху них — печаль. В даль свою безмолвную, в вечный путь сквозь тьму, В синеву небесную — тайну я возьму. Там все ночи светлые, что в одну слились, И пути не вспаханы, и безбрежна высь. Там и сны, что смолоду я хранил счастливым, Там венок и золото, что дарили нивы. Колос там, что сорван был в час молчанья он, И венок мой, собранный под вечерний звон. Все, над чем молился я, — все я заберу, С чем на свет родился я — с тем я и умру.В МУЗЕЕ КУЛЬТОВ
Чту украинских я святых. Люблю страдалиц преподобных, Воспитанных, почтенных, «сдобных», Румянец щек, взгляд глаз живых, Зовущий связку дум земных. Они роскошно так одеты, Как будто бы их ждут банкеты — Не там, вверху, в глуби небес, Не в крае божеских чудес, А тут, внизу, без страхов ложных, В садах магнатов осторожных Иль гетманов ясновельможных, Под фейерверк со всех сторон, Где песни, гам и лютней звон. От разноцветья, солнца пьяный — Нам ближе полдень златотканый, Прозрачней синевы разлив, Теплее шелковистость нив, Свободнее поток лучей, И нет скульптур уже понурых, Не убегают их фигуры От солнца ласковых очей. Хотя и чужд для нас свет сей И сердце знать его не хочет — Он все ж родней, чем свет полночи… Доныне в думах стынет ряд: Чугунных сглаженных оград, И толща стен, тяжелый фон Залитых золотом колонн, Вериги, рубище, хитон, Приглушен блеск очей без воли, Кровавый пот, гримаса боли, И ужас пытки, покаяние, Чтоб жизни миг — как подаяние… Рисунки и года сплелись, Навеки в сердце сбереглись, Но я до ихнего экстаза Не смог прильнуть еще ни разу. А тут — я с ними весь живу, Лишь вырву мертвую канву, Подарком времени приму Узорчатость их наяву. Ввысь мчит Христос, как на крылах. Ни на челе, ни на устах Нет и следа недавних мук. И тела жар, и крови стук, Наперекор земным законам, Несут его к нагорним лонам. Варвара[12]. Платье шелком шито. И нитью жемчуга обвито. Вчерашний день ее как сон. Век не погасит сановито Ее очей глухой огонь. Желаний радостных полна, Несет им дань свою она. И быть смиренною не хочет, Доселе… урывает ночи. Художник в творчестве был смел — Свою Варвару он воспел, Со счастьем краткий миг роднит, Его палитру золотит. Я вспомнил путь, рожденный встарь… Ввысь вознесен резной алтарь. И вновь тавро минувших лет Над каждым шагом льет свой свет. Сейчас я вижу: ликов сила, И среди них — «пророк Данило». Запалом щеки не спалило, Чело тень тучи не сокрыла. Кунтуш[13] пылает в позолоте, И нимб червонный на отлете. И словно славы пышный дым, Сияет фон резной над ним. Пред ним — вельможной стати панна, Так то ж — «Святая Юлианна»[14]. Глядит из рамы сквозь года, Как гетманша, так молода. Она как розы лепесток, Напудрены ее ланиты, Цветами груди все обвиты И брови сведены в шнурок. Уста — как камень родонит. На буклях — след щипцов лежит… Лишь две минуты их коснулся: Кто шел на пир, кто уж вернулся — От будней каждый отвернулся… Чту украинских я святых, Печаль раздумий не для них… Хоть дни их канули во мгле — Меж ними весело и мне.Владимир Свидзинский © Перевод Л. Озеров
«Ой упало солнце в яблоневый сад…»
Ой упало солнце в яблоневый сад, В яблоневый сад моей возлюбленной, И вечерний свет свой мягко расточает. Отчего же не могу я за солнцем устремиться, К возлюбленной моей наведаться, Упиться белым цветом яблонь? На востоке рано звездное пламя Зардеется золотом веток, Вспыхнет огнистой листвою, И повеет на меня ароматом, Чистым запахом цвета яблонь Из далекого сада моей возлюбленной.ВЕЧЕРНИЕ ТРИОЛЕТЫ
1
Вернулись стаи голубей, Встал мирный вечер возле хаты. Уйди от будничных скорбей: Вернулись стаи голубей, Стал сизый вечер голубей, Листва не ведает утраты… Вернулись стаи голубей, Встал мирный вечер возле хаты.2
Черешневые ветви вдруг Прошило полосою света: Дню гибнуть вовсе недосуг; Черешневые ветви вдруг Вплывают в лунный полукруг. К планете близится планета. Черешневые ветви вдруг Прошило полосою света.«День холодный, хмурь и сон…»
День холодный, хмурь и сон. Не шумит шумливый клен. Взгляд весны, а в нем печаль. Лес во тьме, немая даль. Сумрак юного чела Тень летящего орла. Чем сильнее ты дохнешь, Тем нежнее обовьешь. На тропинках потайных Буду я у ног твоих. Мак зашепчет: день люблю. Я откликнусь: мир люблю. О, повей же, ветровей, Молодым огнем овей. Милый взор, в такие дни Оживи, воспламени.«Ночь голубая…»
Ночь голубая В сонном тепле. Ночь засыпает В липовой мгле. Темной аллеей, Смутный, иду. Дух тополиный Веет в саду. Месяц подернут Дымом седым. Зверь в человеке Сгинет, как дым. Землю украсят Иные сады. Новых существ Мы увидим следы. Будет им внятен Шелест реки. С тюрем они Посрывают замки. Дух тополиный В теплой дали Им перескажет Повесть земли. Темной аллеей, Смутный, иду. Дух тополиный Веет в саду.«Утро снимает…»
Утро снимает Тонкие ткани тумана. Пахнет черешней, Белой черешней. К самому дому Вьется садами дорога. Как же глаза твои Юно светились! Иду садами, А память полна тобою. Пахнет черешней, Белой черешней.«Настанет печальный мой день…»
Настанет печальный мой день — Отлечу, отключусь от костра бытия, Что взметнулся так рьяно, Так чудесно раскрыл Свой порывистый, чистый огонь. Для меня ты погаснешь, Мир пристрастный, прекрасный, Ненаглядный мой мир. Бурнопламенный и пьянящий. Не буду я листиком с древа, Травинкой, лишенною слова, А буду как сонный гранит Над ропотом вод беспокойных, Замкнусь я в молчании тяжком. Сольюсь с несказанною мыслью В великом, во всем… Буду как сонный гранит.«Одна Марийкою звалась, другая Стефкой…»
Одна Марийкою звалась, другая Стефкой, Как островок горошка голубого На житном поле, так цвели они, Девичьи дни свои перемежая Печальной песней Украины. И вот я вновь в родном селе. Село мое, что сделалось с тобою? Померкло ты, завяло, помрачнело. Лежишь в яру, осенняя листва Тебя, как гроб забытый, засыпает. Марийки нет. Нет темной сини глаз, И нежности девичьего чела, Простой косынкой оттененной, и жестов быстрых, сильных и упругих, — Погасло все и скрылось под землею. А Стефку видел я. Бледна, увяла. Она держала у груди младенца И говорила: «Гляну на него — А он такой румяный, как калина. Иль это так Господь ему дает? Ведь послезавтра будет ровно месяц, Как в доме нашем нет ни корки хлеба». Заплакала, склонилась над младенцем.«Дол вечерний скрылся в дымке робкой…»
Дол вечерний скрылся в дымке робкой. Иней занавешивал сады. От источника тенистой тропкой Ты спускалась с кружкою воды. Потянулся я к тебе, подружке. Видел взгляд твой сумрачно-немой. Сломанным лучом светился в кружке Невидимкой месяц молодой.«Голубыми глазами…»
Голубыми глазами В небеса устремилось дитя. Голубыми путями Жизнь отходит, над миром летя. Нет того необъятного сада, Что клонился-шумел до меня, И порубаны вербы, — досада, Сестры берега давнего дня. Нет того необъятного сада, И в развалинах дом мой родной, И заря не играет багряно Над отцветшею старой стрехой. И в заречных просторах забыто, Как звалась родная семья, Знать, и камень разбит одинокий Там, где матерь рыдала моя. Голубыми глазами В небеса устремилось дитя. Голубыми путями Жизнь отходит, над миром летя.СОЛНЦЕ
Идут верхи дерев За отсветом к восходу. Шумят верхи дерев На лето, на погоду. Гляжу, как юный лев На стежку перед хатой Ложится, раздобрев, Так сановито-сыто, И лапою мохнатой Он упирается о плиты. Цветут верхи кустов И смотрят за ограду, Идут ряды кустов Уверенно по саду. Я двери распахнул И вижу — от порога Из темени дорога На светлую примету Выходит, дело к лету, И веет запахами стога. 1929УГОЛЬЩИК
Он в угле весь, распродан уголь весь, Поужинал, купив вина и хлеба, И прикорнул он на возке дощатом, Конь терпеливый посмотрел безмолвно И ну бурьян пощипывать пожухлый. Поедет в полночь. Далека дорога. Низина, темень, камыши, туманы, И ребра белые горбов песчаных, И в отдаленье конопляный дух, И ночь, и одиночество безбрежны. К рассвету переедет через греблю, Потом он въедет в узкий переулок, Застоянную всколыхнув теплынь — И конь заржет, и загремит задвижка, Послышится с порога: «Это ты?» 1928«Когда ты была со мною, лада моя…»
Когда ты была со мною, лада моя, Был тогда истинный лад, Как солнечный сад, А теперь раскололся мир, лада моя. Встала меж нами разрыв-трава, Разрыв-трава высоко растет, Разорвала ночи и дни. Сперва они были что крылья ласточки: Верх черный, низ белый, а крыло одно. Теперь они что расколотый камень — Колят и ранят, лада моя. Трудно нести мне времени бремя, Тоска разрывает мысли мои, Как буря, швыряется снегом. Одна снежинка падет на лед, И ветер гонит ее в далекость, Другая ложится на берегу В кованый след копытный, Разбивается третья о сук. Трудно нести мне времени бремя. Я знаю: все умирает. Цветок в поле. Дерево в лесу. Ребенок в городе. Все умирает, лада моя. Не в одни двери вводит нас вечер, Не в одном окне мы приветствуем утро, И забыл сотворить я сказку. Пристально я смотрю, А вижу только видимое, Только возможное, ой, лада моя.«Мы уж близко подходили к дому…»
Мы уж близко подходили к дому, Как промолвил ты, на редкость тихо: «Рядом с нами кладбище, скажи-ка,— Не зайдем?» Окутан полудремой, Согласился я. Прошли в ворота. Древние деревья с неохотой Поклонились. Рута полевая Пахла, над землею проплывая. Мы свернули, сели недалеко. Ты курил, молчал, вздыхая трудно. Было тихо, сонно, беспробудно, Лишь кузнечик остро где-то цокал. Ты сказал: «А правда, здесь так славно? Я с вокзала по дороге к дому, Чтобы дух перевести, исправно Захожу сюда… Не быть ли грому?» Навалилась туч тяжелых груда, Гром упал в их темные разрывы. Встал я… Так недалеко отсюда Ты лежишь теперь под тенью ивы. 1934«Я помню дождь, и ветра зов…»
Я помню дождь, и ветра зов, И растревоженность кустов, И серебристый дальний гром, И сизый дым на луговом Просторе под косым дождем. Орешник в молодом леске Я осторожно разомкнул, В тень свежую его шагнул И на притоптанном песке Приметил норы диких пчел, И трепет крыл, и пятна смол. В воспоминании моем Тот день — оторванный листок. В пространстве лета голубом Склонился детства колосок, Росою сонной окроплен, И потонул в дали времен, Как серебристый дальний гром. 1929«Как тихо тут; земля и солнце!..»
Как тихо тут; земля и солнце! Уже орешник неприметно Светильники свои развесил, И зеленеет мурава. Как мирно тут: тебе на локоть Лягушка плоская вскочила. В воде озерной лягушата Лесною заняты игрой. Прислушайся; там, за горою, Там, за вершинами дерев, Лазурь роняет капли света В разливы пристальной весны. Побудем тут. Здесь все дороги, Что землю, занятой любовью, Приводят к нам, ее питомцам. Побудем тут наедине. 1929«Сизый голубь вечерний…»
Сизый голубь вечерний, Ой же ты, сизый голубь мой! Слети в гнездо свое, В гнездо свое темное, Слети же ты издалека Из моего ясеневого края. Сизый голубь вечерний! Звезды ли не опечалены, Тихие воды не вспенены? Цветет ли солнце, тюльпан-солнце, Раздвигая дуги-ветки На полянах и на опушках? Сизый голубь вечерний! Брызни на меня сон-травой: Вблизи тюльпан-солнца робость, Злобу-тоску избыть, Вблизи тюльпан-солнца, сиз-вечер, На земле моей шум-ясеневой. 1932ОГОНЬ
Уложил на стены крыла опаленные И, как на листке мотылек, Замер. Пишу в тишине, а он Наставил ушко свое, слушает, Как друг, как сподвижник, он любит мой труд. Со мною дышит, думает со мною И — только разволнуюсь — содрогается. Давно минула полночь. Тьма кромешная Скребет дверной косяк когтями жадными. Изнемогаю. Друг не знает устали. Я приближаюсь. Добрый и доверчивый, Он смерти не подвластен. Я дышу еще. Земля качнулась. Мгла внезапно грянула. Упала, словно каменная глыбина. Погиб он или быстро крылья выпростал Из-под навалов — и исчез в безвестности? 1932«Такая красивая хата…»
Такая красивая хата. Две яблони рядом с нею. На правой — цвет-первоцвет, На левой плоды краснеют. Над хатою — стрелкою дым, От хаты к стрелке — дорожка. Утро залито голубым, Солнце льется в окошко. Внезапно ребячий крик: «Ой жук огромный, какие крылья» Дым — в печь, стежка — в кусты, Яблони под стрехою скрылись. Распласталась быстрая тень, Загудело, как гром из бездны. Страх! А яблони — в смех: «Да он же не настоящий — железный!» 1931«Выбегает в море челн…»
Выбегает в море челн С выгнутою грудью. Шапка на челне, как сито, А под тою шапкой — люди. Немного — один китаец. В руках удочка из тростника. Веют пальмы, снуют бакланы, На горах голубые снега. Почему-то невесел китаец. От удочки мысли его отвлекали. Выплыл дельфин из моря: — Китаец, не надо печали. — Ну как же, не надо печали! Полосат мой кораблик — мое достоянье, Сам я молод, и ус мой тонок, И красно на мне одеянье. А посмотреть — я невольник, Хоть с такою статью завидною Нарисованный на фаянсе Чьей-то рукою зловредною. 14. III. 1931«Ты в сонных покоях мещанки…»
Ты в сонных покоях мещанки За низким трухлявым окном Дни свои губишь нещадно, Склоняясь над низким столом. Стертый образ, цветы из воска, Тарелка прозрачная на стене, Из лоскутьев линялый коврик — Всегда в темноте, в тишине. А во дворе, за садами Белый дымок, а на нем, Как шмель над черемухой влажной, Тяжело развалился гром. И тянется — тянется к полю — На запах земель, яровых, Над медуницей качается, Не мнет, не шатает их. В бузиновой гуще ночует, Чуть свет — на холмы бредет. Весь день свободно кочует Среди голубых широт. У мещанки бронзовый ангел Трубит, как перед Судом, Чья жизнь выцветает, как вышивка Цветочная за стеклом.ОКТЯБРЬ
О воин осени, октябрь наш вихревой, Как радостна твоя о нас забота! Ведь это ты провел нас сквозь ворота Новейшей жизни и мечты живой. И буря пролетарского восстанья С твоими бурями в одном строю. И вот оно — твое завоеванье — Страна Советов здесь, в родном краю. От мертвых листьев отделив живые, Себя нашел в свободе этот век. И только власть труда признав впервые, Впервые стал собою человек. Цветущей осени октябрь наш золотой, Как радостна твоя о нас забота! Ведь это ты провел нас сквозь ворота Новейшей жизни и мечты живой. 1939«Забыв о прошлом, Тясьмин тихо спит…»
Забыв о прошлом, Тясьмин тихо спит Меж берегов, пристанищем удачи. Высокий цвет над островом маячит, Как сонный лев, гора полулежит. Вблизи от ветряков и от могил Неведомая предкам мчит машина; Конь прядает ушами, и картинно Ступает древний вол, лишенный сил. Как пашня разливается, звеня! Подсолнух тянется навстречу лету; Как девушка, в кругу большого дня Артачится веселый ветер лета. Дни неприметно встали в ряд один, В века соединясь во всем величье. В цвету благоухает пограничье И новизну лелеет Чигирин. 1937«И день далекий, и земля далёко…»
И день далекий, и земля далёко. Я помню всё. И тесный двор и сад. Стреха-растрепа. Аист одиноко Задумался. В саду покой и лад. Как ласков мир в вечернем озаренье! Как ласково дыхание земли. Двух тополей протянутые тени, Слегка согнувшись, на скамью легли. И вот выходит молодая мать, И на кусты глядит, донельзя рада, И в пенье славит изобилье сада, Ту песнь Дунаю сладостно внимать. И нет Дунаю ни конца, ни края, Я слушаю, не ведая забот, Со мною рядом невидимка-крот Творит округлый холм не поспешая. Далек тот вечер, никогда не встанет Он вновь сиять от всех своих щедрот. Ни малой порослью не позовет, Ни из глубин в глаза мои не глянет. К чему ж навеки — маревом, напевом — Он стал воспоминанием моим. О память! Ты стоишь роскошным древом Над неприметным холмиком немым. 1938«Старательно подметены дворы…»
Старательно подметены дворы, Чернеют грядки смачно, нету пыли, Везде приметы молодой поры: Так быстро девушки восстановили На каждой хате бурями зимы Размытые рисунки. Вмиг из тьмы Ковры выносят. Медленно иду И замечаю, что в любом саду Набухли почки вишни, а кизил Стоит уже в гуденье и цвету — Наместник солнца меж дерев. Как мил Букет фиалок, что несет девчонка. В овраге глина чавкает так звонко, Зияют норы, шелест, тишина, Ракши[15] щекочущая речь слышна. А вот и двор желанный. Как три брата, Три тополя у клуни. Нет возврата Зиме, стропила глянули на свет, Где тлеющей соломы больше нет. Зимы и след простыл. По крутосклону Взбегает сад, бежит ручей со звоном, И два козленка, озирая сад, На погребе внимательно стоят. Я шлю тебе привет, мой милый край, Мое счастливое начало дня, Прими меня, будь другом для меня И возраст мой сутулый приласкай. 1938«Урожай был шумный, обильный…»
Урожай был шумный, обильный, Медоносен был и высок. Я нашел на стерне бессильной За день только один колосок. Припоздав к огневому началу, Я увидел на копнах свет. На меже средь цветов усталых Отпечатан колесный след. На мою не выпало долю Быть возницей. Сияла синь. Как в лесу сухостой, так в поле Опустелом — чернобыль-полынь. 1. XII. 1928, Мерефа«Запах меда и горький дым…»
Запах меда и горький дым Над садом вечерним. Паровозы взвизгами режут безмолвье. Пианино печаль свою Кладет пластами на травы, на ветви. В стороне от золота сижу на скамейке, Вспоминаю тебя, как дерево о полдне. Мне хочется острием луча Написать возле себя на песке: «Люблю безумно». 1932ДУША ПОЭТА
Ищет чуда в звуках и свете, В старом бору, на крутосклоне, Хочет сдружить небо и землю, Словно две нежных ладони. Иногда мечтает погладить землю, Как гладит мать головку ребенка. Мох на болотах сердцем приемлет, Придорожную травку, воздетую тонко. Порою не верит в отзывчивость лета, Вздрагивает от холодного слова, Ищет землю, укрытую где-то В зарницах вечера голубого. И в конце, как гусеница по осени, Забирается в листья глубокой чащи И мечтает о вешней просини И о радостях непреходящих. 1934«Из невольничьего покоя…»
Из невольничьего покоя Смутно возникнуть мне. Только наедине Можно остаться собою. Кто чужую душу в меня Вселяет в разгаре дня? Не те говорю я людям слова, Что рождены в глубине существа? Легко рукою ветку пошевелить. Погладить былинку малую. Почему же так трудно На людях себя сохранить? Как месяц светится, когда Слегка отворяет двери Своего жилья! В сонме зарниц Он ходит блеклый и бледный. И каждое малое слово — Мое и чужое — Коварно калечит звучанье Скрытой моей жизни. Камень, Упав в озеро, со дна Не цвет, не водоросль посылает, А только лишь ил и муть. О, души одинокой святость! Слова позванивают, как камыши Над озаренным затоном, И солнце мира стозвонно Сияет в зеркале души. 1933–1935«Не бушевали вихри в лугах…»
Не бушевали вихри в лугах, Дни мостили логова ветхие. Увязали сосны в глубоких снегах, Как клешни, растопырив ветки. Я жил в одиноком дому, Без желания, как без тела, Разлука меня одолеть не сумела, Любимая книга светила сквозь тьму. Ночами жилье мое наперевес Кто-то нес сквозь заснеженный лес, И за тонким морозным окном, К которому я прислонялся лбом, Световыми дождями и тут и там, Рассыпая искры среди темноты, Жарко, без пламени тлели кусты, Фонтаны огня — отрада глазам — Сверкали, вдали озаряя поля… Ужели это была земля? Моя простая земля? 1935«Серый дождик утром брел…»
Серый дождик утром брел Под завесою тумана. Неприметно раным-рано. Перешел за частокол. К бочке протянул он длани И забегал по двору. И в серебряные ткани Вишен приодел кору. Входит день в осеннем хрусте. Я под дождиком стою. Тоненькая струйка грусти В душу тянется мою. 1936ИЗ ПОЭМЫ «СУД»
О милая осень! Как смутно идти По следу глухому твоей маеты! Вдали меж стволами уже не светло, И прячут калину уже за стекло. И над сияньем отеческих вод В пучину куда-то летит небосвод. И радуга, нежный цветной полукруг, Упрятана громом за рощу, за луг, И с ветки родимой упавший листок На глину могилы таинственно лег, И в рог затрубили ветра, и набег Готовит на севере сумрачный снег. IV–V. 1937, Харьков — Чигирин«Багряный, желтый и зеленый блеск…»
Багряный, желтый и зеленый блеск Лежит столбами на сыром асфальте, Чудовище тумана разлеглось На крышах острых. Там, в высоких окнах, Прозрачные мерцают занавески, Сияет электричество, растенья Таинственно листву свою вздымают, Тугие стебли извивая ловко. Под потолками с пышною лепниной Сияют люстры, словно виноград Чудесных мест, дарующих нам радость, И золотых, и красных абажуров Маячат корабли, как на приколе. Порою чья-то тень мелькнет в окне, И кажется — то девушка прошла, И стан ее подобен колоску. Бесчисленные люди здесь живут, И судьбы их сплетаются порою, Как тени листьев при порывах ветра, А в том узоре — жизнь моя видна. И ваша жизнь, мои деревья. Тихо Стоите вы вдоль улицы. В тумане Холодные по листьям льются капли, По веткам льются, падают на камень. И на мое плечо. Осенней ночью Мечтаете о вихре громовом, О нежной ткани почки изначальной, А я… а я, блуждая одиноко — По улицам, спелёнатым туманом, В свое былое память погружаю. И вспомню я то молодость свою, То башни Замка на земле родимой, То песню, что мое томила сердце, То друга, что безвременно погиб. XII. 1937«Кто подскажет мне, в какие бездны…»
Кто подскажет мне, в какие бездны Время нас ввергает? Где щедроты Той весны, что мне открыла двери Прямо в юность? Где любовь моя, где тайна сердца, Ласковый родник печальных мыслей, Что лились в садов безмолвных ночи, В запах яблонь? Уходил я в степь, взбегал на холмик: «О сойди, сойди, огонь небесный, Освети мне милую долину, Отчую хату!» Вот восток пылает неоглядным светом, Соловьи гремят, набегает вечер, И в заречный сад моей любимой Входит солнце! О, если бы луч солнца, или птица, Иль дальний гром меня оповестили, Что ко мне воротились мои юность С любовью. Но скорее вскинется дуб до неба, Скорее снег станет другом лета, Чем придет кто-либо отвести невзгоды От моего порога. XII. 1938«Как на юге грозило грозою!..»
Как на юге грозило грозою! Как куковали кукушки Перед тучею вихревою, Перекликаясь через воды, Через леса, через годы! А дождь отшумел и пропал! Ой пропал, словно в пропасть упал, Помчал далеко, к нашим пределам, Как сокол, мелькнул — и не глянул! Ужели там его лучше встречают? Ужели там ему открывают Узорные окна, золотые арки, Подносят венки, дорогие подарки — Вздымают руки, приветно славят, Высокие кресла на травах ставят? …Одна капелька залетела, Да в тот же миг догорела… 1937–1939«В родной моей стороне…»
В родной моей стороне Родного жилья не имею. Нет сада — чтоб делать то, Что делать отрадно мне. Собрал бы в большую семью Деревья, цветы и каменья, И племя, что названо — песни, Любило бы землю мою. Я слушал бы лепет ручья, Я мог бы создать водоемы В долине и рыб разводить — Была бы рыбачья семья. Закончив дневные труды, Я шел отдохнуть бы на берег, Меня привечали бы вербы — Разумные сестры воды. В чужом обитаю дому В бедняцком квартале селенья, Я вижу пустырь из окна И даль в непроглядном дыму. Два дерева здесь во дворе, Два друга, как два заключенных, Под ними не видно травы, Не виден им свет на заре! Лишь ветер широким крылом Над ними ударит порою, Оставив то шорох в ветвях, То смуту в сердце моем. 1939«Часы шумливые скончались…»
Часы шумливые скончались, Сломалась трепетная ось, Колесики остановились Под золотым возком времен. Стоят они и не стрекочут, Как будто бы тот воз чумацкий, Покинутый в степи безбрежной. Застыли огневые кони, Уже не будут обегать Свой круг извечный, как бывало, И, вожжи выронив из рук, Погонщик-солнце задремало. 16. I. 1940«Метался снег, как белый дух…»
Метался снег, как белый дух, И вдруг сложил лебяжьи крылья, И занемог, и лег, как пух… Ужель поник он от бессилья? Казалось, на часочек, жалок, Лицом приник к лицу земли. Казалось, ветерок вдали Его взовьет, как полушалок. Ан нет! Свалился на бурьян, Лежит накидкой кружевною, И побеленный им курган Его же мнится головою. Ну что ж? Его пятнайте тело, Его красу топчите зло, Полозьями кромсайте смело Его холодное чело. Наступит час, и этот снег Потоком звонким обернется, И мы его услышим смех, Когда с самим Днепром сольется. 13. VII. 1940«Умрут и небо, и земля…»
Умрут и небо, и земля, Умолкнут голоса природы, Минуя дальние поля, Не будут колыхаться воды. Все, что растет, ликует, пахнет, Безмолвье холодом пожрет, И злоба без людей зачахнет, И без добычи смерть помрет. Но так хотел бы я представить, Покуда путь не пройден мной, Что вечно будешь жизнью править Ты, ветер удали степной! Твое не стихнет дерзновенье И в мороке, среди руин, Ты эхом давнего движенья Все сможешь повторить один — Слова поэтов прозорливых, Слова печальников земных, Моленья песен их тоскливых, И жалобы, и ругань их. 17. Х. 1940«Что странного, что улица пуста…»
Что странного, что улица пуста, Что вечерами молодежь без песен? Окно покрыто наледью, уста Ручьев умолкли, видно, неспроста,— Поля так холодны, и мир так тесен. И вечером на небесах в смятенье Моей звезды задут был огонек. Видать, и там был ураган осенний И повалил мой светлый теремок.«Отныне ни словом, ни пеньем…»
Отныне ни словом, ни пеньем, ни взглядом привлечь не смогу я Юного сердца. Дочь есть у меня, моя нежная поросль, Полюбит меня и вечернего. Буду ей милым, Даже когда я умолкну под глыбой смертельною ночи.«Холодный ветровей дудит в дуду…»
Холодный ветровей дудит в дуду и стаи вихрей выгоняет в поле. Снегирь гудит, снегирь гудит в саду — Все о зиме, о тягостной неволе.Никанор Онацкий © Перевод Ю. Денисов
ЗА РЕШЕТКОЙ
За моими стенами широко раскинулся огромный город, то здесь, то там виднеются камень, бетон и железо, торчат высокие черные трубы с растрепанными седыми чубами. А там… далеко, далеко — за крышами и дымарями — видно поле широкое, без конца и края, а над ним, как серое покрывало, нависло небо. Ревут гудки, выкрикивают паровозы, гудят автомобили, воздух разрывают самолеты, но людей мне не видно. Знаю: как муравьи, они густо запрудили улицы, вокзалы, вагоны, ударно работают на фабриках и заводах, но мне их не видно. Не видно. Серый бетон и каменные громады скрыли их в своих глубоких чревах. Крыши закрыли улицы, проулки, площади. Большой город безлюден, мертв, как пустыня. Нет, как огромное кладбище, с большими, каменными надгробиями. 1934 г (камера — № 62)«Мои мысли, как вольные птицы…»
Мои мысли, как вольные птицы, выпархивают за решетку, поднимаются выше туч, здороваются с солнцем и звездами. В одно мгновенье они пролетают бескрайние просторы, неведомые миры. Миг — и влетают в город, погружаются в людскую гущу, ходят по улицам, площадям, заходят в дома, свободно проникают в закрытые темницы с верными надзирателями, стоящими с оружием возле замков. Ничто не может их остановить, нет препон моим мыслям, ибо они свободны, а с ними — и я. Человеческий гений, наука, техника еще не нашли способ удержать мысль человека, зато придумали много способов ее убить. Дикий камень, дубина, примитивный лук, острый нож, яд, тяжелый меч, огнепальний пистоль, усовершенствованное ружье, громоподобная граната, скоростной пулемет, огнеметы, бомбометы, отравляющий газ и… наконец, последние достижения культуры — электрический стул. Но напрасно все это… Мысли и после смерти живут! Живут и действуют! Так что бессмертны они! Слава, слава бессмертным мыслям человека. 13. III.1936 г. (камера —№ 62)Гнат Михайличенко © Перевод Ю. Ярмыш
ОГОНЬ МОИХ ОЧЕЙ (Новелла в белых стихах)
Огонь моих очей… Огонь очей моих… И давит окровавленную грудь. Ручейки крови, Кусочки сердца Тебе, Моя Верховина, моя дымчатоокая Мечта. Тебе, моя песня, Тебе моя мысль и мой вздох…«Над седым шпилем…»
Над седым шпилем Моей печали Кружатся белые чайки. Кигичут. Истерзанное сердце, Окровавленное сердце, Разбитое, Голосит. А когда-то оно — солнечно-светлое — ей, Когда-то было Цветами укрыто…«Ароматом любви овеянный…»
Ароматом любви овеянный, Задрожал В могучих стремлениях поднятый Мой дух. Воспоминаньем счастья, Воспоминаньем радости, Моя неоплаканная, Моя позабытая — Мечта иссохшего сердца…«И осыпались цветы…»
…И осыпались цветы. И листья увяли. И ветер шумит, Недосягаемо далекая, завороженно-милая, Твои очи печальны, И чело наклонилось. И порывы погашены. Ты меня уж не вспомнишь… Огонь твоих очей, Огонь очей твоих Угас для меня.«Красными маками поле усеяно…»
Красными маками поле усеяно… И синевой васильков. На спорышной меже (тиховейно опушка поет) Мы повстречались — Свидались. Стежка бежала далеко, смеясь, И чечетка в кустах притаилась. Мы были вдвоем — Всем на зависть За звонко-прозрачную нашу любовь.«Муть ручьев дождевых…»
Муть ручьев дождевых, Влажный ветер вверху… На широком, Весною залитом Перекрестке далеких путей Мы расстались — Прощались. Травы в блестках росы (капли дождя в солнце влюбились). И довольное небо стонало от счастья. И воздух насыщен был Соком земли. Завидуя им, Мы были так рады — Есть любовь и в природе, Что раскроется вдруг Последним своим поцелуем. Разлетится увядшим откликом Твой крик. И не станет тебя. О неразгаданная, Мечта позабытая. Померкни… Огонь очей моих, Огонь моих очей.«Красными маками поле укрыто…»
Красными маками поле укрыто. И синевой васильков. На спорышной меже Тиховейно опушка поет (мы повстречались — свидались). Узкая стежка Бежала далеко, смеялась, И чечетка, таясь, наблюдала. И зависть вокруг — Всем завистно было За звонко-прозрачную нашу любовь. Муть ручьев дождевых, Влажный ветер вверху. На широком, Весною залитом Перекрестке далеких путей Мы расстались… Прощались… Травы в росах играли, Капли дождя в солнце влюбились. И довольное небо Стонало от счастья. И воздух насыщен был соком земли. Завидуя им, Мы были так рады — Есть любовь и в природе, Дни, как страницы книги любимой, Время тихо листало. Свет уступал темноте, Холод шел вместо тепла, Печаль приходила за грустью, Равнодушье Сменялось любовью. Но мы — Мы не встретимся. Время, Как неудачный художник, Стирало все думы-печали. Ненасытный точильщик Мое сердце ледышкой наполнил. Я вскрикнул от боли. Ты слишком жестокой была. Не оставила мне Даже памяти, Чтоб вспоминать, Все оружие отобрала, Как хотела, меня покарала, Ты достигла всего. О, цветы моих раздумий, Воспоминанья цветов — как души́, Не могу я утешиться вами, Не смею. Не блеснет уж Огонь моих очей. Не прилетит радость улыбкой — Воспоминанием уст. Не вздохнут мои руки в красе. Ты забыла о них. И желанно-горячими Ты никогда Не припомнила их. Словно не было рук. Близ тебя вьется юности цвет. Как и прежде, Улыбается роскошь В юном сердце твоем. И призывно пылает Цвет розовых щек. Перси нежные пахнут. И красиво ты в сказку летишь. Огонь моих очей. Огонь очей моих.Григорий Чупринка © Перевод Б. Романов
ЧАЙКА
Возглас боли — По-над полем Чайка мечется, стеня, Как над дальней Былью давней Плач рабыни На чужбине. Так вот плачет, Слез не прячет Мать, детишек хороня, Что в неволе Да в недоле Сгибли в горе, в мраке дня. Плавным лётом Над болотом Чайка носится и вьется,— То, отчаясь, Зарыдает, То в рыданье засмеется.ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
С последней улыбкой, дали согревшей, Светлое лето забыто. Дождик осенний, дождь надоевший Сеется словно сквозь сито. Зори не выглянут, солнце пропало, Спряталось, волю забывши. Сыплется, сыплется дождик устало, Капает, капает с крыши. Сыплется дождик, все хляби открылись, Пали седые туманы. Деревья продрогшие грустно склонились, Мокнут дубравы, поляны. Тянется кверху туман серебристый, Тучками дымными вьется. Дождик осенний, назойливый, мглистый Падает, сыплется, льется.ТУЧКИ
Льются, Вьются Тучки лета, Тучки радостного цвета, Расплываются их связки, Словно на палитре краски, Блеском жарким оторочены, Льются, Вьются, Расстаются, Позолочены. Тонут, Тают Думы черные, Как картинки иллюзорные, Расплываются и тлеют, В блеске солнечном бледнеют Вместе с тученьками летними. Тонут, Тают, Исчезают Незаметными…НЕУЖТО?
По степям широким Украины, В самых отдаленных уголках, Горбим мы натруженные спины, Всю работу держим мы в руках. Но от той работы недостало Нам и хлеба для своих детей,— Стужею бесправия сковало Устремленных к радости людей; Устремленных, движущихся к свету Благородных, пламенных идей, Что из гнета выведут планету К братству и свободе всех людей; Поведут под знаменем науки И в борьбе научат всех, любя, Почитать трудящиеся руки, Браться за работу для себя. Трудимся без меры и без счета И в степях бескрайних, и в морях, Век укоротила нам работа В батраках, в шахтерах, в грабарях. Мы для жизни все создали людям, Подневольный труд верша во мгле, Так себе неужто не добудем, Что другим добыли на земле?..НА МОГИЛЕ ТОВАРИЩА
Сердечный товарищ, укрыт темнотою, Ты мне из могилы ответь: Что делать теперь с твоей верой святою, С которою встретил ты смерть? Ответь мне из вечности, что без сомнений Должны за нее умирать. Или, отчаявшись, можно в измене И новых богов выбирать? Ибо уже мы без воли, без силы Блуждаем с остатками веры борцов, Как трупы живые, у края могилы Совета прося себе у мертвецов. Ни веры не нужно тому, ни святыни, Кто, словно лунатик, блуждает во мгле; Так что же, лететь к распахнувшейся сини И трупом никчемным исчезнуть в земле?!ДОРО́ГОЙ ЖИЗНИ
…Я только знаю, что напрасно Одной дорогой мы пошли. И гаснет — сердцу стало ясно — Свет золотых надежд вдали. Байрон Я согревал твои желанья Живым огнем надежд своих, Твои простые ожиданья Среди событий буревых. Не знал усталости когда-то И я в семье людской, в те дни Мне были и дворцы, и хаты Все одинаково сродни. Когда-то я, взвалив на плечи, И свой, и братьев груз тащил, И пыл вражды нечеловечьей Еще души не отравил. Теперь я сам упорным взором Ищу союзников себе, Ты ж на меня глядишь с укором, Что обессилел я в борьбе. Но только знай, я снова встану,— Нет, не с толпою — встану сам, И в даль бушующую гляну, И брошу вызов небесам! Когда ж ветра твои желанья Развеют в тягостном пути, Прости за все мечты, страданья, За жизни мрак… За все прости.МАРШ
Нас без меры и без счета, Краем всем, за шагом шаг, В бой идем, восстав от гнета, Каждый встал под алый стяг. Стяги алые над нами Развеваются, горят, Лучезарными словами Вдохновенно говорят. Их девиз — навеки воля, Смерть тиранам, палачам, Пусть блеснет светлее доля Тьмой измученным очам. Лучезарными словами Вдохновенно говорят Стяги алые над нами, Развеваются, горят. Лишь один, как тучей черной, Стяг высокий застит свет, Мести сумрачной покорный За мученья долгих лет. За иссеченные спины, За всевластье страшной мглы, За раздолья Украины, За Сибирь, за кандалы!..УРАГАН
В тучах, в мареве, в дыму Черный вихрь подниму, Гикну в поле… В чистом поле, На раздолье Понесусь над ширью спящей Степью, чащей, Без разбора, Выше, выше ринусь скоро Буревеем, буреломом, С гулом, с громом Сокрушу, Махом Прахом Окружу!.. Громче, громче забушую, Залютую, Загремлю, Дикой мглою Над землею Прошумлю! Воды тихие взволную, Волны буйные взнесу, Дымом небо размалюю, Горевую, Чуть живую Умирания красу!.. Смертью адскою грозящим Дымом-пламенем горящим Вдруг взметну, Скоро, скоро Без разбора — Среди степи, среди бора, В поле, в море На просторе, Все устои, сваи в споре Всколыхну!..CREDO
Гнев и слезы душат лиру, Не продастся лира, нет!.. — Не твори себе кумира,— Мой излюбленный завет. Звук люблю, летящий к небу, Вдохновенную красу. Богатеям на потребу Я души не понесу. Я люблю свои страданья И страданья тех людей, Что несут без колебанья Стяг страдальческих идей. Братом света, братом солнца Хоть на миг хочу я быть. В небе звонами червонца Жара солнца не купить. Все мое, сколь хватит взору, Свет сияющих высот, И лазурному простору Гимны дух живой поет. И звенит, и плачет лира. Я иду за Рубикон. — Не твори себе кумира,— Мой излюбленный закон.«Не любовниц чернооких…»
Не любовниц чернооких, Зажигательниц сердец, Я певец степей широких, Края вольного певец. Тот, кто волю променяет На богатство и почет, Пусть царевну обнимает, Все же счастье не найдет. Тот, кто край родной забудет, Про того заметят вслед: — Нищим старцем всюду будет, В нем живого сердца нет. Тот, чей край могучий, дружный, А не гибнущий в борьбе — Пусть пребудет равнодушный И живет сам по себе. Кто ж молчит, а край в неволе Горе горькое гнетет — Тот трава дурная в поле Иль паршивый в стаде скот.ЛЕДОЛОМ
С гулом, с громом, Вдаль несомом, С ледоломом Старый Днепр забурлил, Кору зимнюю пробил! Льдину льдиной Бьет стремниной, И ледовой мешаниной Кружит, крошит!.. Днепр ревет, — Так он борется, живет. Воды гонит… Тонет, тонет Царство сонное — весна! У кого же мы в полоне, У какого злого сна?К Т. Г. ШЕВЧЕНКО (В день 100-летней годовщины)
Вышней милостию стало Не таким уж черным зло, И меж тернами немало Белых лилий расцвело. Чисто поле ты засеял Среди горестей лихих, Ветер буйный не развеял Этих зерен дорогих, Еще мчатся ураганы, Еще в поле свищет гнев, Чуть виднеясь сквозь туманы, Лучший день встает, зардев. Знай, Кобзарь, что в поле этом От межи и до межи, На раздолие воспетом, Не найти детей чужих. Пусть бушуют ураганы, Пусть над полем свищет гнев, Щедрой жатвой без обмана Одарит нас твой посев!Василь Чумак © Перевод Ю. Гусинский
МАЙ
В путь. Молчать. Зачем дорога? На опушке. В балке тесной. Слушать, как бормочет пьяно захмелевший лес привет. Захмелеть — и не словами, а улыбкой или жестом говорить про зелень эту, без границы и без края… А расцвет?! Песня тонет, тонет в шелесте и листьях… Убеждать кого-то пылко, безнадежно и цветисто и кого-то убедить. То есть: птицею подняться, звонкой птицею летая — закружить, заворожить: неужели с тесной хатой вы довольны только знаться? Можно краше и свободней жить! А потом: все тише — тише… И замолкнуть снова: нет! Только шелест. Только листья. И расцвет.«Жажду я — утро на поле встречая…»
Жажду я — утро на поле встречая — жемчуг молитвы крестовым снова венком повить. Жажду я — с первым лучом рассвета — в бокалы с ветром шума и ропота волнами влить. Жажду смешать — под лучами заката — жемчуг и ветер, чтоб полем росистым долго бродить. И пить. И пить.«Столько счастья, что боюсь я. Заласкает, как русалка…»
Столько счастья, что боюсь я. Заласкает, как русалка. Шелковистыми лучами спеленает, обовьет. В плен возьмет. И зацелует пылко, жарко, жадно. Жалко: страсть мою — хмельную брагу — всю до капли изопьет. Только миг. Осколок мига — вспышка молнии мятежной. А исчезнет — и как будто недоступным станет мне. Пусть вернется! Пусть истратит. Пусть целует пылко, нежно. …Луч серебряный холодный усмехается в окне.«Люблю. Лелею. Обовью…»
Люблю. Лелею. Обовью ее — прозрачную медово, свою весну, и молча снова в венцы ромашек перелью весну свою; и звонко будем пить, ловить отраву жадно — лепестками, и опьянеем, и в крови умрем осенними листками — за миг любви.«Кто так тихо пришел — незнакомый…»
Кто так тихо пришел — незнакомый, весь покрытый дымкой истомы,— коль округа молчала ночами? Зашептали просторы приветы, и шептала — всю ночь до рассвета очарована ветром ветка. А как только брызнуло солнце — сколько видели стекла оконца за пожара минуты смуты? Кто так тихо пришел — незнакомый, весь покрытый дымкой истомы,— коль округа молчала ночами?АСТРЫ
Вот и завяли красные астры — цветы на тризне былых надежд. В небесном зале костры погасли. — Мы жаждем жизни! — Но путь к ней где ж?.. — Мы жаждем жизни!.. — Мы жаждем смеха!.. — Мы жаждем бури и жарких гроз!..— Цветы на тризне… Им на утеху стонали глухо ветви берез.КРАСНЫЙ ЗАПЕВ
I
По зеленой площади снегом кружат лошади, всадники небесные громко говорят: — Гей, не спите, грешники: панские приспешники никогда не спят! Гордою и дружною бурею безудержной встань, народ мой яростный, мужественный мой: шляхами суровыми с гимном, песней новыми мы выходим в бой. Бликами-пожарами небо вспыхнет старое, огненною молнией горизонт зажжем: хватит унижаться нам, хватит пригибаться нам под чужим ярмом!II
Мы тени… Темны и ловки. Мы — воля железной руки. Мы носим в груди своей ненависть немо,— и ночью осенней, в объятиях тьмы, гимны тебе сложили мы, красный террор гнева! Мы — страх. Мы — карающий гнев. Мы молимся культу огней, и кто нас отважней под черным небом?.. Мы — тени. Мы — сталь. И в объятиях тьмы гимны тебе сложили мы, красный террор гнева!«Я порву те венки, что сплетались в года лихолетья…»
Гнату Михайличенко
Я порву те венки, что сплетались в года лихолетья, размету, растопчу их до пепла, чтоб унес его ветер. Вместо них я рассыплю повсюду волны солнечных песен, что как птицы быстры, что взлетают легко в поднебесье; оточу серебром; закалю их могучею сталью; дам им крылья ветров, крылья молнией жаркой расправлю и пущу. Пусть летят же, подобно цветным метеорам, не к роскошным дворцам, не к бескрайним небесным просторам, а в беленую хату, где в углу дышит горе заклятьем. Мои песни просты и рабочему сердцу понятны. Засияют они, словно зори на небе глубоком,— и не будет крестьянин уже никогда одиноким.РЕВОЛЮЦИЯ
I
Утром — первый луч весенний, утром — свежий, молодой — из подвалов темных, древних вознеси нас над бедой. Вот: уже встают народы подневольные — кругом, словно молодые всходы в поле старом и седом.II
Он целью выразил мечту: к ней напрямик идет усердно, и каждый стук святого сердца несет — весну в цвету. Шагай, страдалец всеблагой: твои пути лежат широко, твои слова летят далеко, в них — цели всей твоей огонь!III
Нет отдыха: не пробил час! Пускай последний луч погас — мы сами запалим огни, из ночи сотворяя дни! Кремень — о сталь: и свет добыт! Мы непокорны, как гранит. Идем, идем, несем огни, из вспышек сотворяя дни!IV
Довольно! Встрепенись в цепях, свобода, стягом соколиным! Нас удержать пытался страх, но мы летим, летим к равнинам, и нами выкованный гимн под звонким небом серебрится. Туда — к просторам дорогим — с низин. Туда. Мы — крылья! Птицы!V
На митинг — в толпе — на площадь венки несут — венки и гирлянды, полощутся революционные пряди. На площадь — на митинг — ликуя! И завтра — верьте — глядя в небо — мир отпразднует бурю такую, какой еще не было.НА ПОСЛЕДНЕЙ ГРАНИЦЕ
А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры — унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры. В. Брюсов Это пламенный день? И на юных полях революции только тень, только тень. Это пламенный день? Но, достигнув границы на последней заставе, каждый принарядится и жрецом света станет. Из пещер и со дна принесут дифирамб революции: дополна, дополна — из пещер и со дна. И, достигнув границы на последней заставе, каждый принарядится и жрецом веры станет.«Две души: одна взыскует бури…»
Две души: одна взыскует бури, струн горячих на бандуре, звону, шуму, сверканья, поэзии, братской марсельезы. А другая… Та ищет другое — степь широкую в покое, туманов синих, облаков нежных в небе безбрежном. Как плющи, переплелись дороги — две души — в одной тревоге, и чего я жду: не то покоя, не то жажду боя?Василь Блакитный © Перевод В. Звягинцева
«Всю жизнь горю… Я в ней пою…»
Всю жизнь горю… Я в ней пою И смех, и терпкость слез горючих. Как солнце росы пьет — я пью Мгновенья радостей летучих. 1912«Я не открою дум своих…»
Я не открою дум своих Завистливым и хитрым людям, Лесам, цветам открою их, Ветрам и тучам — правым судьям. Лишь им — друзьям — несу не споря То сердце, что людьми разбито, Глаза, что выплаканы в горе, И слово желчи ядовитой. 1912«Песнь одиноких своевольных дней…»
Песнь одиноких своевольных дней, Огонь потайный, жгучий, животворный Гублю в стране мечты моей, И гаснет он в просторах горных. О, сколько их — моих огней! Но иногда так жаль, что ты — стрела — Не можешь на лету остановиться, Слезами сладкими залиться. Хоть погрустить и ты б могла! 1912К УЛИЦАМ ГОРОДА
Скорбь моя к улицам города Припала — к мощеным, исхоженным, Сердце сжалось, будто от холода… Ну, с чего ж оно? С того ль, что соцветьями красными, Мечтами моими бессонными Путь кричит, звенит властными Перезвонами?! 1919«На земле для любви не найдется…»
На земле для любви не найдется Сладких слов, что нашли бы дорогу Ту, где сердце вдруг с сердцем сольется Тихо.* * *
Ночь. Замолкла последняя птица. Ходит ветер в саду, бормоча: — Сладко хмурою ночью забыться И коснуться плечом плеча… 1919НЕНУЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Если крик мой бежит под звон ассонанса, Если тяжки шаги моих стихов — Знайте: не высь Парнаса Разнежит меня теплицею снов. Я меж вас — молодых и потасканных, В душном кругу изломанных фраз — Самый молодой и самый прекрасный И самый бесстрашный из всех вас. 1921НЕОКОНЧЕННЫЙ РИСУНОК
На окнах ледяным покровом Узоры звездные белеют. Пожара отсветом багровым Неконченный рисунок рдеет. 1921В НОВОМ БЛОКНОТЕ
В каждом новом блокноте — иной мотив. (Птицы-страницы — снега белей.) Глухо стучится дождь — сиротлив — В стены бессонных тупых ночей. Первые люди, праотцы, предки Встарь высекали огонь из камней,— И докатились к нам волны огней, В жилах бушуют, горят. Крылья орлиные (дважды старо) Нас поднимают взмахами дум В небо нирваны, в звезд серебро. (Слышишь пропеллера шум?) Кровью, что в жилах все горячей, Прочно скреплен радужный мост Меж дикарями и бурей твоей. Крылья, огни звезд… Трюизм на трюизм. Новый блокнот, и, как вечность, в нем прост Отблеск первичных огней. 1921ПИСЬМО
Я пришел с тобою попрощаться… — Что ж, прощай. Забудь напевы ветра И задумчивые голоса В зарослях, в тени, в прохладной глуби Милого тебе когда-то парка. Позабудь и спутника смешного — Так упрямо он шагает рядом, Словно тень твоя (иль тень его сама ты?), По одним путям; на перекрестках Так упрямо ловит взглядом взгляды, Жадно, словно книгу тайн, читает. А прервавши — вновь идет отдельно, Влившись ожиданьями, мечтами В бурное движенье коллектива. Только знаю: не забудешь ты,— Будешь, будешь жить прошедшим милым! Не скрывайся: знаю, понимаю, Как гнетет покорность и печаль немая. Знаю, знаю, вижу — замечаю Тягу к свету, к радостному маю, Жизнь-то, погляди, бушует, кличет И не только в тишь томов тяжелых, В светлые просторы — мир науки, Но и в гущу, на завод, в районы, К людям — то родным, то ненавистным. Что ж, иди, мужай, расти и действуй. Будет все, как нужно, должно. Будет хорошо, отлично будет… Жизнь-то как клокочет, бьет, искрится — В ней я буду — спутник твой незваный — Жить не менее тысячелетья. И тебя зову с собою. Ну, прощай… А может, снова: здравствуй?.. 1922ТЫ ПРОСТИ
Ты прости меня, дитя, прости обидчика. Я с тобою и неровный и встревоженный Оттого, что жить борьбою мне положено, Оттого, что я иду тропой нехоженой И так нервно, и так нежно твое личико. 1923ЗА ОКНАМИ ДВОРЦОВ
Когда текут людские волны С призывами: «Война — войне», Под окнами дворцов безмолвных — Что там, в дворцовой глубине? Молчите, сытые бандиты, Довольно вам желтеть от желчи. Проходят те, что не убиты, Те, что не зашагают молча Под музыку и барабаны, Под вой попов и под команду На бойню братьев, смерть и раны, Чтоб радовать тупую банду. Проходят мимо. И в палатах Зеркальных стекол дребезжанье. Клич — выбить окна обещанье. Страх сводит челюсти богатых… Прошли. Фельдмаршалы, банкиры Вновь о войне мечтают дружно,— Им ренегат, предатель мира, Сказал: — Они ведь безоружны… — Ах, так! Отлично. На войну! — Притопнул генерал ногою И… смолкнул. Вспомнил он одну Страну, стоящую стеною, Ту, где «они» готовы к бою… Когда текут людские волны С призывами: «Война — войне», Под окнами дворцов безмолвных — Что там, в дворцовой глубине? 1924Павло Тычина © Перевод А. Дейч
ШЬЕТ ДЕВУШКА…
Шьет девушка и так рыдает — то ли шитье? И красным, черным вышивает мое житье. Колокола шлют переливы, и плачет звон. Идут. То мальвой, то крапивой путь окаймлен. Туманы кверху, кверху хлынут, а тучи с гор. Не буду я, тоской покинут, любить простор. Я розу вечером целую — грусть без причин… Зачем, зачем жить не могу я без дум, один? 1914«Поет дорожка…»
Поет дорожка на огород. Арбуз под зонтиком о солнце думает. За частоколом — зеленый гимн. Оставайтесь, люди, со своими божками. Подсолнухи горят… — струне подобны — И мотыльков дуэты… — а на лапках мед — Ромашка? — здравствуй! И она тихо: здравствуй! И звучит земля, как орган. 1917«Укройте меня, укройте…»
Укройте меня, укройте: я — ночь, стара, недужная. Велит уснуть мой черный путь. Положите тут мяты, и пусть тополя шелестят. Укройте меня, укройте: я — ночь, стара, недужная. 1917«На высоких скалах…»
На высоких скалах, где орлы да тучи, над могучим морем, в радостной лазури — эй, там расцветали грозы! Расцветали грозы! Из долин до неба протянулись руки: о, пошлите, грозы, ливни из лазури!— Вдруг вниз пали капли крови! Пали капли крови… На полях, на травах, серебро-зеленых, в хлебе золотистом, стройно-колосистом — эй, там, там шумели шумы! Там шумели шумы… Кто-то вдохновенно преклонил колена: дай, земля, нам шума — шума и безумий. Ночь. Плач. Смерть шумит косою! Смерть шумит косою… 1917«Вдоль по степи голубой…»
Вдоль по степи голубой вороной ветер! Вот прильнул — назад отпрянул — вороной ветер… Вышла в поле жать я хлеб. Гром гремит, туча! Ой, не все с войны вернулись — вороной ветер… Глянет солнце, как дитя, а в селе голод! Ходят матери, как тени — вороной ветер… На чужбине, где-то там, без креста, ворон… Будьте прокляты с войною! — вороной ветер… 1918МАТЬ СКОРБЯЩАЯ
Памяти моей матери
I
По нивам проходила не пашнями — межами. Печаль пронзала сердце колючими ножами. Взглянула — всюду тихо. Лишь чей-то труп средь хлеба… Колосья ей спросонья: возрадуйся, о Дева! Колосья ей спросонья: побудь, побудь Ты с нами! Склонилась Матерь Божья, заплакала слезами. Не лунно и не звездно, и словно не светало. Как страшно! Наше сердце до бездны обнищало.II
По нивам проходила — побеги молодые… Ученики навстречу: возрадуйся, Мария! Возрадуйся, Мария: мы ищем Иисуса. Ты укажи ближайший нам путь до Эммауса. Она подъемлет руки, бескровные лилеи: не в Иудею путь ваш, не в землю Галилеи. Туда, на Украину, и там вам в каждой хате, быть может, и покажут хоть тень Его — распятье.III
По нивам проходила. Могилы все далече,— а ветер ей навстречу — воскрес Сын Человечий! Христос воскрес? — Ужели? Не ведаю, не знаю. Вовек не будет рая для нив кровавых края. Христос воскрес, Мария! Цветами зверобоя из крови мы гурьбою взошли на поле боя. Вдали молчали села. Земля в могилах млела. И лишь былинка пела: хоть Ты б нас пожалела!IV
По ниве проходила… — И как погибнуть краю? — Где он родился снова, Где он любил без краю? Взглянула — всюду тихо, Лишь злаки трепетали: — За что Тебя убили, За что Тебя распяли? Не выдержала скорби, не выдержала муки,— упала на тропинку, крестом распявши руки!.. Колосья все над Нею «Ой, радуйся» — шептали. А ангелы на небе — не слышали, не знали. 1918ХОДИТ ФАУСТ…
Ходит Фауст по Европе, Сплетник, лгун и вертопрах,— И молитвенник в руках,— Размышляет грамотей, А навстречу Прометей. — Прометей, здорово, друг мой! А, бунтуешь? Ну бунтуй! Я за бунты не хвалю: что ты думаешь, восстаньем осчастливить бедный люд? Я вот тайны неба знаю, Я философов читаю, Я умело подсчитаю факты смерти и нужды — ну, а ты? Что стоишь ты? Я ношу в душе вериги, не чуждаюсь и религий, не бунтую — только книги все пишу, пишу, пишу — ну, а ты, что стоишь ты? Новый мир творишь охотно? Почему ж ты безработный? — Потому что ты не Фауст! Ты — мечтатель, фантазер! Вот схвачу я свой топор! А, бунтуешь? знаю, знаю. Я не Фауст? — Так и есть. До свиданья; ну, прощай…— Ходит Фауст по Европе, и молитвенник в руках. 1923ПЛУГ
Евгению Тычине
Ветер. Не ветер — буря! Валит, ломает, с землей вырывает… За черными за тучами (горючими, гремучими!), за черными за тучами миллион миллионов мускулистых рук… Катит. И в землю вонзает (город, шлях впереди или луг) — в землю плуг. А на земле люди, звери и сады, а на земле храмы и боги: о, пройди, пройди и строго рассуди! Слабые — в лесах плутали, в темноте пещер голосили. — Что за страх, что за сила? — шептали. Никто из них песен, улыбок не знал (огненного коня ветер гнал, огненного коня — как в ночи гроза), и только их раскрытые мертвые глаза отражали всю красу нового дня! Глаза. 1919И БЕЛЫЙ, И БЛОК…
И Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев: Россия, Россия, Россия моя! …Стоит сто-растерзанный Киев, и двести-распятый я. Там солнце повсюду! И слышно: Мессия! Туманы, долины, тропа меж болот… Родишь, Украина, и ты Моисея,— придет он, придет! Он скоро появится — слышу я, знаю. Сквозь бурю, сквозь гром, содрогающий высь, я клетками, нервами всеми взываю: поэт, отзовись! И встал чернозем, и глядит неотступно, кровавый лицо исказил его смех. Поэт, свою землю любить не преступно, коль это — для всех! 1919РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГИМН
Вместе, дружней за работу! Степи ли наши скупы! Солнце цепами молотит, с неба бросает снопы!.. Силу, надежду, отвагу, веру, энергию — гей! — с грозно-ликующим стягом гордо несем для людей! Всё осилим, всё сумеем, тьму проклятую развеем! Раб вчерашний станет братом — лозунг пролетариата! А девиз у нас таков: Мир избавим от оков! Хватит нужды и страданья, молотом выкуем плуг! Каждый — и сталь, и старанье, каждый — товарищ и друг! В травах — свинец да железо: вспашем, друзья, целину! Строим — живем, а не грезим: сделаем вечной весну! Так вперед же — к свету, к свету! Рвите старые заветы! Раб вчерашний станет братом — лозунг пролетариата! А девиз у нас такой: мир избавим от оков! Силится спрут капитала шипом своим испугать: всюду нас кривда встречала — выйдем же правду встречать! Будим, и будим, и будим — трубы, гудки, поезда… Были мы, есть мы, и будем, так же, как солнце, — всегда! Мы шагаем, мы дерзаем, буржуазный мир взрываем. Раб вчерашний станет братом — лозунг пролетариата! А девиз у нас такой — мир избавим от оков! Видно и небо, и долы, море и пламя зари!.. Гей, богатырская доля, счастье мирам подари! Слышим и брань мы, и «браво» из-за фиордов и дюн! Вольную строим державу из миллионов коммун! Так давайте ж песней встретим всех друзей на белом свете! Раб вчерашний станет братом — лозунг пролетариата! А девиз у нас такой: мир избавим от оков! 1919ШУМИ, ЭПОХА НАША Фуга
По кладбищу иду. Лето еще за полным столом, и день — с незастегнутым воротом, но что-то в природе всхлипывает. Качайтесь, террасы деревьев,— сегодня такая боль!.. Ветер, ветер, ветер — дубы терзает, клены, угрюмо в тучах солнце, опять осенний ветер. Лето еще за полным столом, а в листьях струится желчь. Желтеет. Спать… То здесь, то там — по всему кладбищу — прекрасный сон! Какой в нем смысл? Какая цель? А может, мертвым лишь одно и грезится: кровь и борьба? Хоть раз бы в жизни речь услышать, которой верит мертвый мир. Но нет, потусторонье не очнется. Лишь отзвук иногда… как будто… неясный донесется… Ветер вскрикнет, охнет и клен согнет упруго, угрюмо в тучах солнце,— опять осенний ветер. Дугами холмы легли. Округлы могилы, как поросята. А над ними — кресты. В рубашках изодранных, блузах рабочих бегут недоспавшие, и падают, и запутываются в листве, как будто в гудках заводских. А вслед им — черные памятники зеркально струят презрительный смех: «Заведитесь еще и здесь!» — Да, да, и здесь! Мы из ярма, из тюрьмы! Ветер свободы с нами. Прислушиваюсь: голос, что звучит, растет вокруг,— в себе ношу я. Живое — распадается на клетки, а клетки — в землю, в зелень, шум. И тот протест, и тот огонь, что был в них,— живет опять он: зелень, шум… Эпоха наша ветровая! — шуми в вершинах, верховей! Плыви из вечности, седая мелодия моя. Куда ни пойду — полукруг. Куда ни ступлю — овал. Хребты облаков округлились. Лист колесом по дороге — и весь голубой парус круглую душу мою на веслах несет в бесконечность — мелодия моя. Что ж ты, сердце? Откуда печаль? Или недостойны мы света, недостойны нести в себе даже частичку его? Так ведь, милое? Мысли река и радиотоки — безумья рука — космос раздверят. Не станет замка́. Не так ли, сердце? Так, так — исчезнут несчастье, бесчестье и зло, вражда среди наций, границы планет раздвинутся, и снова мы круг повторим в своем возрастанье извечном — растем к бесконечности. И все навсегда будет ясно: зелень… шум… — «Шум…», — а может, неясно? — и кровь, и былого разгром…— Но голос глухой из могилы доносит ко мне ветерком: — Неясно, а правда, неясно? — Другой уже рядом встает: — Меня подняло твое сердце, чуткое сердце твое. Окликнем же кладбище, брат мой! Вглядись в эту черную масть. Ударим! Восход отзовется, и запад нам руку подаст. А там на подмогу и деды, наполнится гомоном дол… Ой, как бы мы пожили снова, вот если бы ты нас повел. И снова, снова привиденья… С пригорка вниз бегу, лечу! Встает навстречу солнце сонное, а ветер стружки стружит, стружит… А ветер стружки и подстружки — в глаза и в душу, в грудь и в рот… Куда ты гонишь, сумасшедший? Стой! Черт! Прислушиваюсь: голос, что звучит, растет вокруг,— в себе ношу я. Живое — распадается на клетки, а клетки — в землю, в зелень, шум. И тот протест, и тот огонь, что был в них,— живет опять он: зелень, шум… Эпоха наша ветровая! — шуми в вершинах, верховей! Плыви из вечности, седая мелодия моя. Оплавились тучи. Холмы округлились. И что отражается в чем — не пойму, не пойму. Только все непрестанно шумит, говорит, недозрелую зелень качает — недоношенную, и золото, и кровь, кровь… А в шуме том, как арфы перебор в оркестре — осоки трепетанье. А в шуме том, в его просвете,— березки фартушек. И вдруг — пичуга… И все колышется, шумит и говорит. 1921ТРИ СЫНА
Приехали к матери да три ее сына, все трое пригожи, да ни в чем не схожи. Как первый — за бедных, второй — за богатых, а третий, налитый силушкой, сидит — просто бандит. — Ой, мама! — молвил первый, кареглазый, — мир не узнаешь сразу! Народ на бой с нуждою встал, но не одни мы знаем горе — страдают люди и за морем, везде проклятый капитал. — Ой, маманя! — встал второй, с челкой вороной,— что нам убиваться над чужой бедой! У каждого в жизни — свой интерес: есть у нас уголь, и хлеб, и лес, и пускай в лесу на суку повиснет любой чужой, ненавистный, — Ой, мать! — третий, низкобровый, стал хохотать,— повыгоняй ты своих сыночков из хаты, пусть не смешат меня и не сердят. Кулак да сила — вот она и воля, вот оно и счастье, так я понимаю. А бедный или богатый — знать не желаю! Блеснул кинжал у первого, сабля — у второго, у третьего — клинок… «Ой, сын, сыночек мой, сынок!..» Лежит бандит — готовый. А два брата смертно бьются — никак их не разнять. 1923«Весна встает, весна встает…»
Весна встает, весна встает и отовсюду окликает: дитя мое! Листвой зеленой ласковой, голубыми глазками: что ж не вспыхнешь в пенье дивном, что ж не с коллективом? Весна, весна мне объяснилась листочками зелеными. 1923 (?)О, НЕНАВИСТЬ МОЯ…
Палящей ненависти сила, неутолимая любовь, как тяжко вас носить на сердце, о, как мне тяжко вновь. Опять, опять на гребне жизни всплывает пена, как в тазу… А как же мне с душою чистой? Кому я душу понесу? Коварство, тупость, фарисейство полезли вновь со всех сторон. Лишь истинное не сдается, не предает своих знамен. Лишь стойкое — достойно цели, как всюду и во все века. О люди, люди, время души освобождать из-под замка! О люди, души из бумаги, когда же вас я разожгу? Когда сердец опустошенность преодолеть огнем смогу? Я не кричал бы так, не плакал, не будоражил белый свет, но с нами главного титана нет больше, нет… 1924ПЛЯЖ
Максиму Рыльскому
Сбежала с горы и нагая легла, не знает, не знает, не знает, зачем пред солнцем колени она развела, его принимая как мужа. Такой волноход и слепящая рябь,— похоже, похоже, похоже вот-вот! — тень — и пропала, и только следы: рыба дугою-стрелой из воды… Да было ли это: банда, пожар… Над ней надругались — и бросили в жар… Рабы мы, какие еще мы рабы! Море, о море, ты полюби! О, как она вырвалась, бросилась в лес,— бежала, бежала, бежала — о страх! — навстречу оскалы чудовищ и блеск пожара, и небо в кровавых следах. Был мертвым, и диким, и проклятым час, когда она в полночь упала в траву… Теперь уж не знаю ни наций, ни рас, свободу людей своим богом зову. Я стану бороться, идти буду я в иные — без рабского ига края… Рабы мы, какие еще мы рабы! Море, о море, ты полюби. А море волнуется, рушит и строит: в нем столько проклятого сносится вновь. Любовь моя чистая, непогрешимая, непостижимейшая любовь! 1926ЗА ТУЧАМИ ОБВАЛЫ
Паду, паду, паду на голубую глубь. Синь, просинь в сияющем саду. Возьми меня, природа, и назови своим. Синь, просинь в сияющем саду. Как ты меня будила, как ты меня вела! В моей душе не ты ли три вихря подняла! Три смерча — и три гимна, три песни бытию: мой труд, мое горенье, любовь и смерть мою. С одним — себя творю я, с другим — к мечте иду, любовью облучаюсь в сиреневом саду. Паду, паду, паду на голубую глубь. За тучами обвалы грохочут, как в аду. 1926«Я ль виновен, что Анжела…»
Я ль виновен, что Анжела то щипнет меня, то ерзнет, вдруг склонится: Ли — испугает: Ка — Анжелика, Анжелика, разве ж можно несерьезно? Можно ли так, а? Стан упругий твой, Анжела, и округлости, и спелый локон, локоть твой… Что это со мной? Анжелика, Анжелика, допустимое ли дело? Ты всему виной! Я ж хожу себе, Анжела, никогошки — никого я! — только ты как га — баба ты яга. Анжелика, Анжелика, сорванец ты, что с тобою, можно ли так, а? Ну пускай бы ты, Анжела, шла по делу — ведь болела. На меня была ты зла. (Ну, дразни же: Ла!) Анжелика, Анжелика, что ж пришла вчера без дела — крепко обняла? 18. XI. 1929ВЕТЕР С УКРАИНЫ
Я никого так не люблю, как ветра наважденье! Чертов ветер! Проклятый ветер! Он замахнется раз — рев! свист! круженье! И прошлогодний в роще лист — как чертово творенье… Или: упрется в пашню — в черный пух, поддаст — вагоны содрогнутся: ух, как летят они по рельсам, аж тополя дугою гнутся!.. Чертов ветер! Проклятый ветер! Взирает Запад сквозь стекольца: чей это ход — людской, звериный? — хохочет ветер с Украины, ветер с Украины! Чертов ветер! Проклятый ветер! Он головой косматой из Днепра: не ждите, господа, добра: напрасная игра! Ах! Я никого так не люблю, как ветра наважденье! Его пути, его сомненья и землю, землю свою. 1929Максим Рыльский © Перевод А. Дейч
«Есть женское имя, как нежно оно…»
Есть женское имя, как нежно оно, Печаль в нем, любовь и надежды какие, Весенним дыханьем напоено: Мария. Как запах фиалки весенней порой, Как девичья песня сквозь сны снеговые, Звездою сияет над темной землей Мария. И пусть я святое в себе погашу, И пусть не увижу, сражаясь, зари я,— Последнее слово, что я напишу: Мария. 1917«Люби природу не как символ…»
Люби природу не как символ, С тобою схожий,— Не для себя люби природу, А для нее же. Она для нас не только тема Стиха, картины — В ней необъятные высоты, В ней и глубины. Порыв ее души могучей Всего сильнее. Что, человек, твои порывы В сравненье с нею? Она как мать. Так будь же сыном, А не эстетом. Тогда ты станешь не бумажным — Живым поэтом. 1918«Я молодой и чистый…»
Я молодой и чистый, Как вечность, молодой. Над рожью колосистой Лечу в мечтах домой. Мне верба веткой машет, Как пальмовым крылом. И перепелка плачет На взгорке за селом. В селе поют гармошки, Дымы в лугах стоят, И запахи картошки Ровесниц веселят. Дивчина, словно парус, Мне машет рукавом… Да только нет мне пары В селе и за селом! Она за морем синим, За бором вековым, Она сродни пустыням И бурям грозовым. 28 июля 1922 г.«О будь, поэт, себе судьею…»
О будь, поэт, себе судьею, и в час, когда тоска в груди, Замри над собственной судьбою — И не прости, и осуди. и сонм свидетелей жестоких Взойдет со дна твоей души, Тогда скажи ей: в свет широкий Иди сквозь боли и пороки, И, согрешивши, не греши. 1922«Нет, не казарма день грядущий…»
Нет, не казарма день грядущий И не бетонный коридор! Не зря сияет нам из гущи Золотоглазый метеор. Земли коснется окрыленно, И мир наш будет голубым От стен кремлевских золоченых До плит, где спит железный Рим. 1923ЧЁЛН
Памяти крупнейшего эпического поэта нового времени — Адама Мицкевича
Рыбак в раздумье бродит по дубравам, Где черный дрозд поет высоким травам, Где зрелых ягод пламенеет цвет, Где пронесла медведица свой след, Осинкам юным выказав свой норов, Где ключ прозрачный бьет под косогором, И скачет, и дробится на песке, И солнца луч танцует на листке, А лист дрожит, купаясь в чистой сини. Там гордые вокруг стоят вершины В убранстве елей, буков и осин И рядом сосны — выше тех вершин — Склоняются для дружеской беседы. Шатры дубов, что на века воспеты, По-рыцарски приветливо зовут, Иль диких пчел покинутый приют Кривым ножом в дупле рыбак кромсает И, словно гром, волков он прогоняет Прочь от беспечно дремлющих отар, Иль травы ищет для волшебных чар, Чтоб приготовить редкие настои. Ни лука, ни ружья не взяв с собою, Свой путь он вместе с солнышком торит, И лишь топор на поясе висит. Смахнув беспечно с шерстких елей смолки, Топча ногой опавшие иголки, Средь мхов не серны дикой ищет след,— Ему до серны нынче дела нет. Рыбак в раздумье бродит меж дерев, В его душе рождается напев. Но не зовет он песнею девчат, Собой напоминающих дриад, Со смехом переливчато-лукавым С лукошками снующих по дубравам. Не ставит он капканов на куниц, Не сторожит он златокрылых птиц, Раскинув среди зарослей терновых Предательскую сеть из нитей новых. Высокие деревья обминая, То головой в раздумье он качает, То отойдет в сторонку, бормоча, То, словно заклинание шепча, Он вдруг замрет, припав к стволу плечом, Или о ствол ударит обухом — Так, что аж эхо по округе всей Сто раз пройдет, пугая глухарей. И снова бродит меж дерев рыбак, Покуда там, где темный буерак Вздымает к небу кроны вековые, В стволах скрывая кольца годовые, Не застучит всему наперекор Веселый и разгневанный топор, Подобно звуку боевой мортиры… Немало здесь работы для секиры: Рубить сучки, выглаживать, ровнять, Обтесывать и снова выпрямлять! И долотом, как предок востроглазый, Он ствол долбит, а тот ему не сразу, Не просто поддается, — здесь нужна Особая сноровка для челна. И вот с вершин, пропахших дикой хвоей, Плывет каюк просторною водою, Где из глубин лениво сонный сом Пловцу вослед чуть шевелит хвостом. Так, всматриваясь в даль, что просветлела, Плывет поэт, и опытный, и зрелый, Рекою жизни, ощутив сполна, Как быстротечна, в сущности, она! А та, как грудь хмельная, раскрывает Свои листки — и пышно расцветает, Чтоб к осени ее готов был плод. Дни, и года, и жизнь — все прочь течет. Он смену эту уловить стремится. Не овсюги, а золото пшеницы Спешит собрать — клад ясных дум своих. А кто-то думает: поэт затих, Поэт засох, как в зной родник кристальный. Тем временем он, вольный и печальный, Взмывая ввысь на крыльях голубых, Во днях труда, блаженных и хмельных, Творит в уединении своем, Как бог, и рай, и ад, и огнь, и гром, Живет средь мудрецов и дураков. И все, что принесло воображенье, Он превратил в прекрасное творенье. Так дни идут. Так сталь, хоть и крепка, Стирается о ствол наверняка. Так то, что не под силу чарам рая, Поэт огнем души своей сжигает, Которую бездушным не постичь. Так он молитву превращает в клич! И тяжко весла загребают воду И челн опять выносят на свободу. 1924КОСОВИЦА
1
Гей, как выйдет солнце из-за леса, Как на плесе загогочут гуси И в лугах рассветных перепелка С чистых трав холодных рос напьется,— Косари умоются водою До восхода, ключевой, студеной, Из криницы голубой и доброй, Отобьют свои литые косы Так, что звон их эхом отзовется. Меж ярами ветер и горами, Травы плачут, никнут под косою. Зверобой желтеет на покосе, И под солнцем росы побелели. Словно цапли дружною цепочкой Из конца в конец шагают луга,— То косцы проходят чередою, Смуглым войском молча выступают. Пот их лица щедро окропляет, Как слезами, очи заливает. Клеверище по́д ноги ложится И склоняет алые головки. Гей, земля, ты матерь хлебороба, Голубыми реками повита, Вся в убранстве ты стоишь зеленом Под высоким небом необъятным, Убранная яркими цветами, Ты неси, перенеси на крыльях Косарей от края и до края! Гей ты, ветер, парубок певучий, Парубок певучий и веселый, Подсуши на совесть клеверище И обвей богатые покосы! Гей ты, солнце, мудрый господине, Ты, небесный золотой целитель, Припекай, да в меру клеверище, Наливай духмяными медами, Прикрывай могучими руками От дождей, от лютой непогоды! Гей вы, тучи, молнии и громы, Вы ордой незваной не нагряньте И косцов в лугах не потревожьте, Пусть они свое окончат дело,— Подождите где-нибудь за морем!.. Закатилось солнце за дубраву, И на плесе гуси задремали. Косари домой идут с работы — Ждет их ужин с тихою беседой.2
То не рыба в море разгулялась, То не птицы в небе закружили,— Разбрелися с граблями девчата По сухим и пахнущим покосам. Гей вы, годы молодые, воды, Что струитесь рощами, полями, Разливайтесь реками, морями, Разноситесь песнями над нами И над павшим долу клеверищем! Сколько звезд на небе в час полнощный, Столько здесь копен стоит высоких — На лугу раздольном и душистом. Но яснее ясных звезд высоких И стройнее всех дивчин на свете По лугу красавица проходит, Говорит сестре своей любимой: «О сестра, зеленая купава, Ты кукушка в роще, на калине! Вновь печаль мне сердце обвивает, Вновь тоска переполняет душу». А сестра ей: «Милая моя ты, Не печаль то — молодость играет, Не тоска твою терзает душу, А глаза косца, что, как агаты, Глубоко в сердечко заглянули». Пролетела галка через балку, С выпаса стада плетутся шляхом. Над рекою разлилась, как речка, Парубка задумчивая песня. Ты кого встречаешь, поджидаешь? Отчего ты, хлопец, так невесел? Посмотри, стоит повсюду в копнах Ровных и высоких клеверище. И домой торопятся сестрицы, Две сестрицы, быстрокрылые птицы. 1925ЛОВЦЫ
И это люди?! Ветер и леса В их взоре отражаются жестоком, Перекликаются в них голоса, Загубленные алчностью до срока. Пригнувшись к холкам рыжих и гнедых, Тавро удач и неудач несущих, В замётах возникают снеговых Кентаврами, пугая дол и кущи. И конский пот, как дьявольский настой, Хмельные ноздри жжет им и щекочет. Нагое сердце в ярости слепой Темней и злей шальной крещенской ночи. Взведя привычно стылые курки, Они спокойно жертву выжидают. Железом мышц прокуренной руки Железный ствол уверенно сжимают. Когда весной доверчивый кулик В большой воде без устали резвится, За ним следит их отрешенный лик, Чтоб наповал сразить смешную птицу. Когда ж повеет осень холодком И дух предзимья проникает в поры, Ловцы, прищелкнув весело кнутом, На зверя спустят лающие своры. И, дружно оглашая лес и дол, Ловцы удачи снова будут рады. И, все любя, холодный вскинут ствол, Паля без содроганья и пощады. 1925«Несут янтарно-светлые меды…»
Несут янтарно-светлые меды Привычно в соты труженицы пчелы. Взгляни на них и тоже выходи На улицы, на площади и в поле. Неси и ты свой разум, кровь и плоть С другими вместе в этот день прекрасный, Чтоб старый мир бесстрашно расколоть на да и нет, на белый и на красный. 1925«Легла зима. Засыпало дороги…»
Легла зима. Засыпало дороги. Дрожат от стужи хаты. В закрома Засыпан хлеб, и скудный, и убогий. Мороз трещит, за окнами — зима. О, бедный тот, кто сквозь метелей сети Идет один, без цели и мечты. Лишь сообща с другими можно эти Преодолеть заносы и дойти. Когда снега безбрежны, словно море, И вьюги вьются над селом моим, Я выхожу на белое подворье И становлюсь, как прежде, молодым. Не оттого ль, что снова с узелками, С упрямством воли, мысли и руки, Как я когда-то, теми же путями Из хат родных уходят пареньки. Уже искали истин Пифагоры И для жрецов горел огонь наук, Теперь вселенских сказочных просторов Коснется плугом землепашца внук. Он даст земле, Микула современный, Красу и мощь — и расцветет земля. И станет поле — полем несравненным, И чудо-злаки нам взрастят поля. Идут, идут… А мать вослед с порога Безмолвно машет стареньким платком, И снег летит, и так бела дорога, Как белый свет, что встал за их селом. 1925«На мосту, над темною водою…»
На мосту, над темною водою, Где ты шла, незримо таял снег. Тихо вербы веяли весною, Ветром чей-то доносило смех. Словно лучик, в облаке горевший, Светлый взгляд был дивной чистоты. На снегу сыром и посеревшем Оставались детские следы. И белела призрачно косынка, Растворяясь медленно во мгле. И казалось, таяла снежинка, И светлее было на земле. 1925«Над землею вешней…»
Над землею вешней Вновь ветряк парил. Белую черешню Ветер разбудил. Книгу не оставил — Разметал листы. Сердце! Ты не камень? Не железо ты? 1926«Эпоху, где б душою отойти…»
Эпоху, где б душою отойти, Из нас, наверно, каждый выбрать вправе. Для выбора немало есть тут, право, Народов, царств, — все можешь здесь найти. Легенд библейских, эллинов черты И готики органные октавы,— Все это на бумаге мы оставим Или рискнем на холст перенести. Но не любить или любить черед То, что вокруг иль в нас самих растет, Что мы творим иль кем-то мы творимы,— Лишь тот, кто слеп и холоден, как лед, И в ком чернила, а не кровь течет, Вопросами тревожится такими. 1927«Суровых слов, холодных и сухих…»
Суровых слов, холодных и сухих, Перебираю связки, словно четки, Выбрасывая с легкостью из них Все сладкое, как вафлю из обертки. Не надо слез. Не нужен здесь и смех, А лишь удар, прицельный и короткий, Что обожжет, как плеть, манкуртов всех И, как стрела, пронзит характер кроткий. Сорву со стен я коврик расписной, Дешевые цветы и позолоту, Чтоб день взошел, как песня, молодой, Как углеруб выходит на работу, Чтоб жест руки размеренно-скупой Пласты литые сокрушал собой. 1927ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
П. Тычине
Розовобоким яблоком округлым Скатился день над зеркалом реки. И ночь неспешным росчерком руки Выводит всюду тени черным углем. И сладкою стрелою поздний цвет Украдкою морозец ранний ранит. Звенит земля, — то оставляет след Зима; приход ее нас не обманет. Все будет так, как вызрело в словах: Искристый снег, на ветках легкий иней И звуки одинокие в полях. И по снегам, сквозь замяти, отныне Неверный чёлн, как некогда в морях, Помчит отважных, преданных святыне. 1929«Ласточки летают — им летается…»
Ласточки летают — им летается. И Ганнусе любится — пора… И волной зеленою вздымается По весне Батыева гора. Клены гнутся нежными коленями, В черной туче голуби плывут… День-другой — и с птицами весенними Нас иные дали позовут. Пусть Земля кружится и вращается, Пусть забудет, как она стара!.. Ласточки летают — им летается. И Ганнусе плачется — пора… 1929В ПОЛДЕНЬ
Мохнатый шмель с цветов чертополоха Снимает мед. Как сочно и упруго Гудит и зависает над землею В полдневный час его виолончель! Передохни! На заступ обопрись, И слушай, и смотри — не удивляйся,— Ведь это сам ты зеленью разлился Вокруг, ботвой простлался по земле. И сам гудишь роями пчел мохнатых, На ясеневых ветках примостившись. Во ржи летаешь, тонкою пыльцою Живые осеняя колоски. С людьми и для людей сооружаешь Ты города и над бездонной синью Ажурные возводишь вновь мосты. Уснули воды и челны на водах. Висят рои, как гроздья золотые. И даже солнце, точно плод созревший, Алеет неподвижно. Только ты Спокойным чарам полдня не поддался. И, как сестра, склонилась над тобою Твоя забота вечная — творить! 1929СМЕРТЬ ГОГОЛЯ
Хрипела нищая Расея В лихих Николкиных руках. А друг больной отца Матвея Впадал в потусторонний страх. И заострялся нос, и снова У глаз чернел бессонниц след. А Плюшкины и Хлестаковы Вновь оскверняли этот свет. И, радуясь, что сам не видит Уже безумства своего, Он молча принимал планиду, Единственную для него. И где от пушкинского гроба Простлалась скорбная тропа, Качала головою строго Тень сумасшедшего попа. И путь один ему известный Вставал в нездешней стороне: Спалить детей с собою вместе На фантастическом огне. И души мертвые склоняли К тому свой лик, кто умирал, Глаза, как другу, закрывали, Чтоб их бессмертный не узнал. И над усопшею душою Ушедшего в небытие Они зловещею толпою Нависли, словно воронье. 1934ЖЕНЕ
Час вечерний чар всевластных, Как ты землю незаметно, Как ты сердце наполняешь! Как ты мглою обвиваешь Все, что так цвело приветно В многоцветье дней прекрасных. Голубыми стали липы, Голос птиц растаял в кронах. И шагов ничьих не слышно. Косяками тени вышли, Словно в призрачных затонах — Фантастические рыбы. Расскажу подруге милой, Нежность в сердце сохраняя, Сказку речью непростою, Как сроднились мы с тобою, Как, тихонько припадая, Ты своей чаруешь силой. 1928–1935ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1
Август и сентябрь скрестили Несмертельные рапиры: Желтый луч — одна рапира, А другая — серый дождь. Над медовою землею И над убранною нивой, Над бахчами, что пестреют Кавунами тут и там, И над птичьим щебетаньем Поединок этот длится,— Сталь о сталь звенит негромко, И блестит, и гаснет сталь. Очи синие встречают Обращенный взгляд к ним серых, Только нету ни на йоту Зла ни в тех и ни в других! Сколько сил в движенье каждом — Как струна, играет мускул На руках, в труде завзятых, Смех слетает с юных уст. А земля медово пахнет. А поля живут мечтою. В огородах дозревают Тыквы-луны, а вокруг Под прощальный гомон птичий Крыл широких ровный взмах.2
Как слово милой, в памяти живет Зеленый отблеск ивы тонкостволой, Зигзаг холма зеленого в окне И сквозь окно вагона — пастушонки С ногами в цыпках, с тощей сумой Через плечо; они вослед махали Лукаво нам и весело. Смешной Лохматый пёсик — спутник их забавный На поезд лаял с милым озорством. А ветер тенью синей пролетал Через луга с дивчиной одинокой, Застывшей в царстве трав и облаков, Через леса в закатной позолоте Лучей, едва коснувшихся дерев. Все это длинно на письме выходит, И в памяти моей не меньше след, А в жизни миг какой-то продолжалось. Все пастушки́ и даже пёсик их, Устав, опять привычно возвратились К делам своим. И лишь один вослед Махал рукой и пристально смотрел На поезд, выгибающийся луком, Несущийся блестящей колеей. Что думал мальчик — неизвестно нам. А я припомнил мальчиков иных, Тех, мимо коих весь их рабский век — От битого кнутами детства до Жестокой нищей старости, гудя, Летели, точно годы, поезда, Им дыма оставляя злые космы Да смутные, как судьбы их, мечты О чьей-то жизни, шумной и красивой. И думалось, что этот, может быть, С разбитыми ногами пастушок Когда-то поведет в иную даль Гремящие на стыках поезда, Дороги будет новые вести Сквозь эти перелески и поля И молнией, и ветром, и огнем Зеленые просторы рассечет.3
Едва светало. Спали пассажиры, И сонный умывался пароход И фыркал, точно конь. Сырой и сирый В скупых лучах малинился восход. Я вышел на террасу. В метре справа Скамьи блестели будто под дождем. И я присел. Вдоль берега отава Струилась сладким утренним дымком. Какой-то дед, потягиваясь, вышел, Присел со мною рядом в тишине И закурил. Махорка духом вишни Кольнула давним детством сердце мне. Негромко перебросились словами, Как давние соседи, земляки, Старик достал дрожащими руками Какие-то потертые листки. А, понимаю! Там, где стелет лето Поля в цвету и росные сады, Такой невинный мотылек-двухлеток Несет немало дачникам беды. Да, да! На крыльях нежных и прозрачных Разбойник этот часто налетал. И способ старичок нашел удачный, Чтоб уничтожить этих объедал. О, помнит он, как некий отрицатель Над ним глумился, повышая тон: Чудесно! От станка изобретатель. Кулибин! Местечковый Эдисон! Ну а теперь — дела совсем другие! Как бы поставил точку он в конце. И так глаза светились молодые На старом и морщинистом лице. А день вставал. И чайки в синь вонзались, И над рекой катился гул турбин. И дружно пассажиры просыпались. И поднималась рыба из глубин. И профиль комсомолки рисовался На фоне полыхающих небес. И мачтами стальными поднимался, Как чу́дное виденье, Днепрогэс.4
Август и сентябрь друг другу Снова руки пожимают. И одна рука — как солнце, А другая — юный месяц. Просветлели сыто кряквы Над расплесканным болотом. Средь густого чернотала, Где залег туман густой, Гомонят перед ночлегом, Приземлившись темной тучкой, Беспокойные скворцы. А земля медово пахнет. А над северными льдами, Над студеным океаном, В дальней птичьей стороне Путь нелегкий пролагают В звездный мир аэронавты, И полярники на льдине Продолжают дерзкий дрейф. А земля медово пахнет. А в степях глухих и знойных, Где склоняется без ветра Кривоствольный саксаул, Добывают люди воду И пустыню орошают. Наши братья, сестры наши Сеют стойкое зерно. Я стою, ружье сжимая, Дожидаюсь перелета И лугов вдыхаю влагу Полной грудью. А душа Наполняется заветным, Как побег дубка весною, Чтобы так же щедро в песне Новой вылиться потом. Все — тебе, страна родная, Все — тебе, мой край любимый, Где на землях обновленных Жаркий труд вершит дела! Все свое несу с любовью, Будь то Юг или же Север, Отдаю плоды работы, Блеск очей и сердца кровь! 1936ГОЛОС СИНИЦЫ
Сквозь серый, мутный шум дождей, Сквозь гомон тусклых площадей, Сквозь окна хмурые и кущи, Сквозь мрак, по городу идущий,— Синицы тонкий голосок Не сник, не умер, не умолк, Коснувшись древних стен и башен. Суровый дым, ты мне не страшен! Земля от злых дождей щедрей. Бьет жизнь сквозь глыбы площадей. Из темных окон стылой ночи Мне юные сияют очи… 1936«Дымкой стелется весна…»
Дымкой стелется весна, Ветер ветки долу клонит. Капли солнца на ладони Сыплет звонкая волна. Пахнет хлебом и землей Прилетевший ветер вешний. Речка, небо, лес прибрежный — Все укрылось синевой. Ты дорогу перешла,— Синь из ведер расплескалась. Не одна весна промчалась. Не последняя пришла. Март, 1938 г. ИрпеньМикола Бажан © Перевод Б. Рахманин
ПРОТИВОГАЗ
Ночь из черных встала дюн. Лиц темнел в ночи чугун. Впился в мозг гвоздь дум: «Когда ж пойдем в последний штурм?» В мозг вонзился дум гвоздь, да над окопом стяг в рост, красный стяг, что дал Коммол, его не предаст пятый полк. Седьмой день полк тут живет, назад нет ходу, нет и вперед. — Неделю уже стоим вот так. — Выдержим ли натиск атак? В блиндаже спросил политком: — Как нам быть с пятым полком? — Корчился мукой стиснутый рот: — Выдержим ли натиск химических рот? — Рукой политкома остановив, напрягся внезапно старый начдив, командирам сказал и сказал бойцам: — Не шлют респираторов нам. Тыщу имеем противогазов мы, а как с остальными быть людьми? — Захолонуло сердце, как льда ком. Политком затих. Побледнел политком. Начроты, сутулясь, понуро встал, тихо сказал, ломая уста: — Красноармеец страну не предаст, За Власть Советов он жизнь отдаст. Тысяча есть? Пусть же тысяча тут держит фронт, как держат редут. Кому ж респираторов не дадут — в атаку, плечом к плечу, пойдут! Скажу откровенно за роту мою: коль гибнуть, то гибнуть удобней в бою. Утренний в небе задвигался свет, выпростал день свой костлявый хребет. Солнце не в небе, оно — на полях, солнцем пунцовый расправился стяг. Сотни очей — как сотни ран. Сотни сердец — как один барабан. Не было слез, скулы свело. Только начдив склонил чело. Плещется кровью стяг за холмом, первым покинул окоп политком. И там, где овраги изъели степь, две тыщи свою развернули цепь. Харкнул газом навстречу баллон, дрогнул, попятился чуть батальон, мысль в оба виска впилась: «Нет, не спасет нас противогаз». Прятался полк, он оврагам рад, стиснули пальцы грани гранат. На двести шагов — один заряд, кровью рассветные тучи горят. Завесой плывет ядовитый иприт, в овраги вползает, над полем стоит, сизым снятым молоком над пятым завис полком. Двух-трех шагов добежать не смогли, проклятье вражьему зелью! Синими лицами в пашню легли, ногти впиваются в землю. Окоп остывает, нутро открыв, вырвал из сердца слова начдив: — Красноармеец страну не предаст, за Власть Советов он жизнь отдаст. Пусть тысячи лягут бойцов на полях — не пошатнется красный стяг, красный стяг, что вручил Коммол!..— Не предал стяг свой пятый полк… 1924ПЕСНЯ БОЙЦА
Бойцы уезжали, и кони их ржали, (легко стременами стальными звеня), а в поле дым горчащий, дымок над полем ржавый, и с конских губ слюна — как нитка ковыля. Отряд бойцов через дубраву вышел, и кони путь, стуча подковами, нашли, и в черной тишине бойцам лишь было слышно бряцанье сабель, вложенных в ножны. Папахи надвигали аж на очи, глотали пыль и поля сладкий дух, и порохом несло от крепких рук рабочих, и кровью просмердел засаленный кожух. Вот один наклонился. Я знаю: мечтаешь про детей, про жену и про дом. Полюби ж, полюби, товарищ, семь бронзовых пуль в револьвере своем. Не спи, боец, под гром орудий, хоть муж ты чей-то и отец. Чего же стоить будет такой боец? Вы мстители, и ваши рати несут отмщенья приговор за изуродованных братьев, за опозоренных сестер. Берегите и гордо владейте суровым именем своим, именем красногвардейца и знаменем боевым! Коль услышишь выстрел вражий — горизонт родной храня, не теряй секунды даже, а с винтовкой — на коня! По долам, по склонам, боец, пролетай, считай патроны, а ран не считай! Простор этот серый — умрешь, не отдашь. Сожми свое сердце, раскрой патронташ. Пусть ветер в очи, умри — не стой! И днем, и ночью из боя в бой. Команд не ждите! Кто стал — пристрели! Саблей кроите ветры земли. И мы бы страх смерти смогли превозмочь за уголь, за черного хлеба ломоть, за черные руки в мозолях мы дважды погибнуть не прочь. 1925СТРОЕНИЯ
I СОБОР
В холмах, вдали от суетного мира, звучит колонна, как гобоя звук, звучит собор гранитным Dies irae, как оратория голодных тел и рук. Готический огонь, немые песнопенья, стал пеплом веры сей старинный храм, и вознеслись юродски к небесам крутые башенки — перстов прикосновенья. Руками обними холодный камень века и вознеси, в конце концов, ты сердце собственное кверху на пиках каменных зубцов, чтобы в бойницы, как в глаза, оно взглянуло и, как звон сухой, забилось. И тень от башни упадет, грозя, чтоб век мгновенье это не забылось. И станет кандалами слово, на сердце тяжкий положив узор. Железом, пламенем, елеем, кровью кован сказ чернокнижный про собор, как верой исстрадавшейся людской, в зубовном скрежете и в скрежете гранита, предсмертной песней и отчаянной тоской, чтоб возвышаться сановито, возник собор во славу феодала, оплотом веры, смыслом для людей,— и на литые блюда площадей бесстрастный звон упал устало, как медный шаг, как благовеста шаг. Так в дряхлых католических руках бренчат осколки ароматного сандала. На звон не шли — ползли самозабвенно уроды и рабы, князья и короли; и сладкой раной, стигмою на венах алел собор средь нищенской земли. Ползли на паперть, милости просили тела без рук и руки, что без тел, и глаз слепца горячечно блестел, и, разрывая рты, немые голосили. И тощею стрелой взмывал над всем простором, как сноп голодных рук на скудной целине, торжественный корабль собора в бредовом фанатичном сне. Шли хмурой вереницей годы злые, но был всегда пронзительно багров огонь готических костров и отблеск их на косах Жакерии, затем, что — доброхот и ненавистник, проклятьям и мольбам народным в унисон звучал собор и цвел готический трилистник, он был цветок, и крест, и псалм он был, и сон.2 ВОРОТА
В игре безбожной, в жажде нестерпимой, тряся браслеты, свитые дугой, морщиной бицепс властно выгнулся тугой, границы бездны обхватив необозримой. И, словно кубок тронув тучи, аркаду он вознес ворот, земной и многогрешный вход, как будто перстень на руке могучей. И творческий свой дар, неперезрелый, сочный, зельем на камень положил вразброс, как груди дев, сжигающе порочных в причудливых извивах грез. Так щедро кинул гроздь плодов, как некогда кидал на ложе куртизанку, познавшую томленье и любовь, и сытый сон, и жажду спозаранку. В листве цветок, горящий, словно око подругой распаленного самца, из тех веков, когда в сердца свой пыл вливал похотливый барокко, огонь времен минувших лабиринта, в один соединивший сад цветенье украинских врат и древние аканты из Коринфа. Но тот акант — не лавр на лбу земного бога, и щедрых тех ворот никто не придержал, чтоб пленных пропустить поверженных держав, сквозь эти ворота еще не шла дорога. То были ворота жестокости, неволи, они вели в минувшее, назад, в том веке по степи златые колокольни хвастливо воздвигал тщеславный гетманат. В том веке из церквей венец на степь во имя благолепья надменно возложил Мазепа, поэт, и гетман, и купец; в том веке, столь давно минувшем, все проиграв, постиг пути назад Мазепы белый конь, Пегас сей без конюшни, бесхвостый Буцефал пришельцев-гетманят. Гоните прочь его, коня времен чужих, ломайте копья проржавевшие Мазепы! Все глуше звоны, звоны из-под склепа, ведь сердце наше больше, чем у них!3 ДОМ
Как радуга, родившаяся в кузне, над домом плечи выгнул виадук, но толпами еще по кругу ходит звук, в столбы гремящие выстраиваясь грузно. Столбы гремящие. Конструкций и систем подъемы, спуски… Сталь скрипит в домкрате. Кипит среди встающих стен горячий по-бунтарски кратер. Вгрызается наш труд в степной ковер из трав, как смерч, что вниз поставлен головою. Трясет равниною и двигает горою, страницами слои земли перелистав. Все движется, хоть путь здесь крут, тут буйствует один лишь труд. Упруги мышцы, шаг упруг; и эхо грохает вокруг. Шумы и голоса звучат, прокатываясь в танце, и, отвечая им, рычат басы электростанций, где из моторов щедро, впрок к столбам электролиний бежит, закручиваясь, ток токарной стружкой синей. Наполнив светом стекла ламп, он вьет свою спираль от просек вдаль и вдаль от дамб, спеша из дали вдаль, где хаос ям песчаных желт, где слабый след межи, где на прямой, упрямый болт навинчиваем этажи. Мощь скованных электрогроз… Гнев проволочной силы… И лопнет вдруг крученый трос, как лопаются жилы. Прядет из снега провода взбесившаяся вьюга; величественного труда кружится центрифуга. Все злей вращение ее, ничто ей не помеха, и мчится вдаль по колее, как вагонетка, эхо. Вскопали степь, буравят вглубь и там, в массивах рваных, закладывают дула труб и жерла котлованов. Клыками черными зубил терзают слитки рудных жил, фундамент встал стеной бетонной, озоном пахнет металлическая пыль, и тяжко катятся аккорды сил, тел мускулистых и строительных стропил — клавиатуры этой многотонной. Железо бьют, гнут золотую медь людские руки, строящие зданья. Вовсю греметь, над старою землей греметь, как маршу нашему на все столетья впредь, высокой музыке труда и созиданья. Стенает степь, страна в гремящем пенье, в предельном напряжении — все в пене турбины станций, созданных навек, и новый день уже берет разбег, уже к нему проложена дорога, ведь каждый день — как штурм боевой, как бурный марш энергии живой, и клич фанфар, и натиск, и тревога. 1928СМЕРТЬ ГАМЛЕТА
Я знаю вас, Гамлет, вы рыцарь снобизма, я знаю двуличный, усталый ваш грим, все черточки вашего псевдотрагизма, весь будничный ваш и нехитрый режим: живете в мансарде, гуляете в дворике, а ночью — над письменным горбясь столом, на черепе бежевом бедного Йорика рисуете вензели сонным пером; И, зная, что люди вокруг не проснутся, что спит Эльсинорская чудо-земля, вы пьете, чтоб с предками соприкоснуться, капли датского короля. И больше — ни капельки в вас королевского, куда там до роскоши, в долг живучи, и призрак является вдруг Достоевского к вам, к Гамлету в гости, пугая в ночи,— пугать и грозить, звать куда-то далеко, твердить пресловутое: быть иль не быть? Но проще себя укусить вам за локоть, чем той, Достоевского, тропкой ступить… Застыв нерешительно, грезишь, мечтаешь, с проблемами всеми один на один, и слышишь откуда-то голос — товарищ! И шепот откуда-то вдруг — господин! И Гамлет, очнувшись, пытается браво обоим откликнуться — так он привык. Мол, вы посмотрите: имею право, я, видите ли, двулик. Не верьте! Ничто тут нисколько не связано, лжив Гамлета вечный вопрос, припрятан трусливо за позой, за фразою его раздвоенья психоз. Двулик он? А может, со ста он личинами? Блудливы блуждания сломанных душ. Романтика эта смердит мертвечиною, туман романтический темен, как тушь. Все ясно: назваться божественным Янусом отступник лишь может, от строя отстав, и манна небесная, манна гуманности химический свой изменила состав. Названье другое ей дали учители, дар неба сегодня звучит намного торжественней герцогских титулов: дихлордиетилсульфид. Обедня земная — надземная манна безумно пропитана хлоркой насквозь. О небо! О Цезарь! Мессия! Осанна! И с черным фашистским крестом бомбовоз. Романтика новую выбрала хватку, в мундир нарядилась и весело ржет… Неужто же, как в нафталине крылатку, двуликого кто-то еще бережет? Кто эту крылатку напялил капризно, стыдливо не пряча при этом лица? Европой идет Достоевского призрак, царапая пальцем двойные сердца. И жившие там под скорлупкою тонкой вылазят на свет после родовых мук, царевич, и гетмана лютый потомок, и прусского юнкера дохленький внук, стуча на плацу каблуком о каблук. Теперь поищите Алеш Карамазовых в святых легионах, в солдатском строю, которые масками противогазными фильтруют старательно душу свою. Ища себе в жизни пустынной пристанища, дыша респиратору в зад, не стал ли и Мышкин, князек христианнейший,— жестокий германский зольдат?! Так что же там было, под маскою святенькой? Пропали в святой суете? И — вот оно! — выросли хвостики свастики на старом смиренном кресте. И, браво взбивая холеные усики, готова прийти на постой черная гвардия злых иисусиков, рать сигуранцы святой. А Гамлет все мнется. Он чтит церемонии, ему их ломать не с руки. Принц Дании! Слышите? Принц Солдафонии берет вас к себе в денщики! Вы в башне не спрячетесь, слышите, Гамлет? Вы, загнанный в угол,— не ступите вспять. Не принято это в теперешней драме — заламывать руки и грустно стенать. Не верят сегодня в расхожие басни о башне из белой слоновой кости. Там снайперы черные прячутся, в башне, в кого они целятся — тех не спасти. Агенты охранки, чистюли-поэтики — солдатами вражьего стали полка. Штудируют бойко на курсах эстетики погромы петлюровцев и Колчака. Схватите же яростно, словно убийцу, за горло предательский шепот молитв. Одной суждено лишь гуманности сбыться — гуманности ленинской классовых битв. Меж новым и старым мосты не проложены, расколот надвое век, да сгинет он, Гамлет — принц страха божьего, чтоб в боях был рожден человек! На поле сраженья решительно выйдя, надо твердо там на ноги встать, и класс научит, как любить и ненавидеть, научит класс, как взрослым стать. В шеренгах этих плечи станут круче, любой, огнем крещенный, рудокоп там вас в глаза врага смотреть научит и выстрелить врагу научит в лоб. 1932ТАНЕЦ
Коль есть гармонь — так пусть гармонь, пускай она хоть раз, как добрый молодой огонь, нас поднимает в пляс. Мороз тверез, — что льду игра? А пламя — ну-ка, тронь! Взлетай и рей — твоя пора, о молодой огонь! Мороз тверез, он, словно сон, сковал реку и лес, и слышен тихий тонкий звон берез, ветров, небес. Но женский плавный хоровод кружит меж белых рек, но кажется красавец год торжественным, как век. Но вскользь садится на ладонь кристаллик снеговой — и вновь вселяется в гармонь огонь наш молодой. О мой огонь, я рад, я горд, что краше нет огня. Ты никогда, как в этот год, не обжигал меня. Столетний дед ведет дитя в сад голубой зимы. Впервые, радостно шутя, бьем лед на звезды мы. Чтоб лед на искры расколоть, чтоб быть огню из льда… Прекрасная людская плоть, будь счастлива всегда. Будь счастлива, людей семья — и ты, и он, и я. Твоя вокруг тебя земля, и радость — лишь твоя! Встает тысячерукий люд со светлой головой. Твой труд, твой лёт, твой лад, твой суд, и праздник — тоже твой! 1934САДОВНИК
Крик бирюзовых птиц, шакалов детский плач, в арыке плеск воды, знакомый здесь от века, чернеет башнею тяжелой карагач, тень влажную стеля на ложе человека. Упали липкие шелковицы плоды, О, дождь медвяный — сладостная прибыль! Вот тут бы, утомившись, у воды, на край ковра присесть, сказав «спасибо». Тут гостя нового встречает щедрый люд, «салям» произнесет узбек с улыбкой. Растают ягоды на теплой меди блюд, и освежит лицо вода струею гибкой. Поднимется степенный аксакал, коснется сердца он рукой, встречая, и чуть горчащего, зеленого вам чая напиться даст из расписных пиал. Тут и кетменщики, тут есть и хлопкоробы, стройны и жилисты — пришли еще в поту… Как тот садовник, тот мудрец высоколобый — все влюблены они в земную красоту. Ведет беседу дед неторопливо, расспрашивает, что там впереди… Поклон передает днепровским нивам и завершает речь строфой из Саади: «Один наш волосок, как шелковинка, брат, но, с многими сплетясь, прочней он, чем канат». Волнуется старик… Язык медвяный предков, стихами пожелавший вдруг предстать, так сочно шелестел, как те плоды на ветках, когда плодам пришла пора спадать. И вслушивались мы, как в сердца тишь и гладь слова созревшие влетели искрометно. Вот так он говорил — от сердца, от души — и бронзою звенел размер речитатива. Вошла в колхозный сад спокойно, неспесиво к нам титаническая речь Фирдоуси. Стихи поэтов тех, звучавшие, как вызов, таков был их стальной, непогрешимый лад; стих Саади, газель влюбленного Гафиза — они гостями вдруг пришли в колхозный сад. И, как тепло, как вздох, как бег крови по жилам, в одно соединяясь, как семья, в садовнике простом они бессмертно жили, садами грузными шумя. И с помощью его, который стар, но вечен, отвергнув навсегда и споры, и бои, понятны стали всем все сто земных наречий, стих Пушкина тут был, Гафиза рубаи, и мой Шевченко в этот братский вечер святые вирши прочитал свои. 1938Леонид Первомайский © Перевод Н. Шумаков
«Обнажаются нехотя ветви…»
Обнажаются нехотя ветви, Тихий сад под дождем шелестит. Это молодость наша, как ветер, На конях буйногривых летит. Не поймать мне коней этих гордых, Не вернуть быстроногих назад. Как весна, отцвели наши годы, Только в памяти ярко горят… Не грущу о весне журавлиной. Я для сердца усладу найду. Расцветает под осень калина Над Днепром в моем тихом саду. Я любуюсь калиновым цветом На холмах половецких крутых, Там, где песни смолкают, как ветер, Что вдали за рекою затих. 1937«За что любить, за что жалеть тебя?..»
За что любить, за что жалеть тебя? Пути по жизни вкривь идут и вкось, В осенний хмурый день с потоками дождя Сливается поток твоих тяжелых кос. В печальный день осокой вековой Вода тяжелая коснулась век твоих И ветер, что за мокрою горой, Взметнулся, а потом навек затих. Вдоль по дороге в поле, в лес иду, Однако жизнь свою не обойду… Я синеглазку знал совсем другую, Шальную, гордую, совсем земную. Она идет счастливою походкой, В душе не зная ни добра, ни зла, Такая молодая и неробкая, Какою никогда ты не была. 1937РЕКВИЕМ
Валерию Чкалову
Спрошу я у тучи — тяжелой слезою Просеется звезд дальний свет. Того, кто, как равный, сражался с грозою, Навеки уж нет! Спрошу у горы, что стоит над провалом, Укутана тучей, седа. Кто равным и близким был тучам и скалам, Ушел навсегда. Спрошу я у ветра, что, волны посеяв, Штормами их в море несет. Был шторма сильнее и ветра быстрее, Его с нами нет! Навеки! Навеки! Грозою и горем Земля безутешно шумит. И слышит — как вновь над разбуженным морем Когорта летит. Когорта крылатых, бессмертных и сильных, Шуми, как при шторме, шуми. Мы также бесстрашны! Отчизна, на крыльях И нас подними! 1938«Родная Рось, души живая влага…»
Родная Рось, души живая влага, Стою у берегов твоих крутых. К тебе пришла судьбы моей дорога, И сердца шум в груди моей затих. Чаруют взор мой медленные воды, И все вокруг туманом залилось. Покой и тишь в вечернем небосводе — Он как река, он тоже речка Рось. Глядеть весь век и век не наглядеться И тиши не наслушаться вовек. И с этой ширью воедино слиться, С теченьем самых чистых синих рек. Чтоб в час вечерний скромною красою Склоненных над холмами тихих верб, Осыпанных серебряной росою, Наполнить нестихающий напев. Чтоб вновь идти спокойным и счастливым, Найти доселе неизвестный край, И вновь сказать и берегам, и нивам Святое «здравствуй», горькое «прощай». Прощай, прощай, моя живая влага! Волшебный мир, не исчезай, живи! Трава увядшая и пыльная дорога, Прощайте навсегда и вы… Уж август наступил, темнее ночи. На склоне лет, в рассветный ясный час, Когда роса вдруг окропит мне очи, Я улыбнусь, припоминая вас. 1938«Часто мне снится…»
Часто мне снится Взгляд милый твой, Небо в колодце, Травы весной. Поле искрилось И колосилось. Все, что приснилось, Переменилось. Ветер гуляет, Шлет непогоду, Рвет и бросает Листья на воду. Только в колодце Все та же вода. Милая вновь Не вернется сюда. 1939Василь Мысык © Перевод Ю. Денисов
РЕКА УМИРАЕТ
Вы видели, как речка умирает В полынном, дремлющем степном краю, Как засуха до ила выпивает Ее теченья слабую струю, Как ряд халуп, на берегу уснувших, Убого сиротеют, а ветра, Как голос запустенья, крик лягушек В весенние разносят вечера. Там, где когда-то голубого цвета Был плес, в котором, радостно-ясна, Отсвечивала красками рассвета Задумчивая неба глубина, Где били роднички и тихой звенью, Спокойным всплеском наполняли тишь, Где пену, плывшую вниз по теченью, Плавучий перехватывал камыш, Теперь вокруг все мертво, мертво там… 1926ПОЛЫНЬ
К тебе, полынь, рукой тянусь. Я знаю: ты горька на вкус. Но почему? Что сталось? Иль сладких не пила дождей С приходом вешних, теплых дней И в росах не купалась? Иль с незапамятных веков Далеких предков пот и кровь Ты впитывало, зелье, И бережешь доселе? Растешь на круче, на песке, В овраге, возле хаты… Несут коровы в молоке Твой привкус горьковатый. Ты забираешься в жита — Те, что взрастили степи, Чтоб чувствовалась горечь та В насущном нашем хлебе. 1926ВОЗКА ХЛЕБА
Что ж, Трофим, запрягай коровенок, пора за работу! Тучи, кажись, стали реже чуть-чуть. Ох, как надоела Вся эта морось и слякоть! Уже и стерня потонула В буйной отаве. Пчелы жужжат над глухою крапивой. Копны давно потемнели, слежались, зерно прорастает — Тут и навильник поднять со снопом над землей не легко. Долго после повозку тащить коровенкам в слободку, В ту, что вдали в зеленых садах утопает. Недавно В Граковке мимо церквушки «фордзоны» проехали с шумом. Сколько их — пять? А кому их водить? У кого с малых лет Сын — тракторист? Ну, вестимо, не твой же, не твой, не Трофима!.. Едут. Колеса и люшни скрипят. Тяжко ступать коровенкам. Морось опять началась. «Хоть ты плачь!» Все так же проходят Дни полевых работ, как и во времена Гесиода. 1926ЛЕТО
1
Тревожная пора! Набух армяк, Отяжелел, — шумливый и колючий Дождь льет и льет. Не сходят с неба тучи. Засохший грунт податливо размяк. Не скошен хлеб. Расхлябанный большак Весь в колеях. Не просыхают кручи. Осело сено в копнах на лугах. А там, вдали, гроза еще ревучей, Несет на села грозный свой заряд. Вот где встряхнет у старых осокорей Раскидистые ветви! Закипят Потоки шумные на косогоре. Польется «молоко» с беленых хат, И ягоды посыплются, как зори.2
И будут рдеть, лишь дунет ветровей, Подобны ярким дорогим каменьям, В росистой поросли, что с нетерпеньем Ввысь тянется, к сплетению ветвей, Больших и старых. Сад глухой, ей-ей, Как будто захмелел иль с умиленьем Внимает танцу с приглушенным пеньем Листочков молодых — своих детей. Какая свежесть! Словно в думе той: «Возцобні комиші, довольні води!» Чу! Ясно слышно после непогоды Там, где-то на тропиночке степной, Над просыхающей от ливня нивой, Вечерней песни взмыл мотив счастливый. 1926В ДОРОГЕ
…Далёко-далёко вокруг Бежит, бежит, подернут синей дымкой, луг, А ближе к полотну — чертополох, ромашки, Полынь сухая, полоса цветущей кашки, Мелькнул подсолнух, кем-то срезанный, на нем Меж листьев пасынки оранжевым огнем Горят, красуются. А вон синюк, что летом Заярье заливал голубоватым цветом, Подсох и полинял, и редкая пчела Сюда уж залетит из дальнего села. Там, где кончается стерня, покрыта пылью, Отцвел купавник, лишь торчат одни будылья. Рыжеет донник вдоль бахчи. А вон курень Из камыша и разных веток, целый день И ночь, поставленный на взгорке одиноко, Вовсю глядит, прищурив старческое око, И дыма ниточка висит над ним… Летит локомотив сквозь эти все картины, Чумазый машинист торчит в окне кабины, На рельсы смотрит, а порою бросит взгляд На груды угля, руд, а вот уже летят, Проносятся луга, щетинистые нивы, Мелькают хутора, вкруг них — черешни, сливы, Течет петлистая тропа туда, где вширь Долина разлеглась. Какой глубокий мир! Вон стайка пастушков мелькнула у проселка — Затеяли игру, а по отаве колкой Вольготно разбрелось десятка два телят, И светом, и теплом от белых веет хат. Еще местами, продлевая жизни сроки, Букашки греются на слабом солнцепеке — Сонливо, неподвижно, без былых забот. Вдруг солнца луч серебряно блеснет На тонкой паутинке. А на ней листочек Колеблется без ветра — жизнь продлить ли хочет Иль жаль ему осенних этих дней?.. 1926В СВЯТЫХ ГОРАХ
1
Вновь дождь, гроза. Гонимые ветрами, Столбы дождя проносятся дворами, О стены бьются, словно тени тех, Кто под грозой в земле уснул навек, Как будто привидения с подгорья Пришли проведать старое подворье. Собор — во тьме, зарос бурьяном двор, И вслед дождю ушли, рыдая, с гор.2
Были эти врата святыми, Благовестье плыло над ними, И встречал прихожан и калик Николая святого лик. А теперь он глядит сердито, Грудь осколком насквозь пробита. В птичьей наследи борода, Висит криво, как той Байда[16]. К непогоде кричат вороны. Со святых когда-то ворот Чудотворца слышатся стоны. Вышел сторож и не поймет: Может, с кем-то что приключилось. «М-м… Это ты?! А мне-то помстилось, Будто кто-то меня зовет!..» Дед в сторожке глаз не сомкнет, Снова чудится: издалече До него доносятся речи, Голос слышится у ворот.3
Старый ключник, сколько ты видел Разных людей! Сколько мимо тебя За все годы прошло богомольцев — Темных-темных, как туман, как ночь! Камень тяжелый стерт на порогах, И до дыр процелованы все иконы, И пощерблены колокола, что звали На молебен — утренний, дневной, вечерний! О чем ты думаешь, что ты шепчешь, Когда приходится видеть огни В высоких стрельчатых окнах собора Или в шумном комсомольском клубе? Утро. Выходит сторож. От дрожи Плечами поводит — парок изо рта. «Что ж, не спи, Николай. Быть может, Ты уже не того… Ведь проходят года — И зарастают святые врата». 1929ВЕСНА 1930-го
Весною повеяло на земле. Слякоть. В умах брожение. Слов не слыхали таких в селе: «Засев кампания», «обобществление». В тумане густом не видна дорога, И зыбятся лужи почти у порога, И встает стихиею с хуторов Лошадиное ржание, стоны коров. Над степью — ветры, грай воронья, Обсели галки скирды прошлогодние. Все крепче, настойчивей день ото дня Унылые слышатся в роще мелодии. Воют в верхушках монгольским гулом, И хутор в яру прилепился аулом, Словно бы слушает, к ниве припав, Скачущий топот далеких лав. Словно бы вслушивается, как река Ручьями полнится мутно-бурливыми, И не таят ли грозу облака, Зловеще синеющие над обрывами; Как трава шевелит в земле корешками, Как столбы телефонные над большаками Протяжно-тревожно гудят с утра, Разнося беспокойство на хутора. Все чаще сходятся в круг деды, Над новостью маракуют каждою, И смолят махру, и цебарки воды Выпивают с жестокой жаждою, И спорят в хате, как порох, пылки, Озабоченно скребут затылки, Толкуют, как знают, и вкось и вкривь, Слово неслыханное — коллектив. А ветер гудит день и ночь напролет, Моросью хлещет, ночами ненастными Слышно, как в вязких загонах скот Ревет, мычит над пустыми яслами. Измучила грязь, бескормица — то-то Рогами поднять норовит ворота. Ревут из хлева, ревут со двора, Как будто бы всех торопят: пора! Паруса голубые тумана с утра Ввысь поднимают хутора и слободы. Ожили кузницы. Местные мастера На шины натягивают свежие ободы, Бороны чинят. И слышно повсюду, Как новости вызнать не терпится люду: «Ты из какой же артели?» «Из такой-то!» «А!» Весна, весна… 1930ЛУКА
От куч назема ручейки берут начало. Вверху фурчит вертушка. Над водою талой — Гусей негромкий крик, концы усталых крыл Вот-вот черкнут о крышу хаты. Мутный ил Вода ворочает в яру, а ветер влажный Уносит в степь коровий мык и рев протяжный Из хлева приоткрытого — на запах первых трав. Тепло сереет сад. Лука, у двери став И опершись на палицу, с обувки комья глины Счищает медленно. Нет-нет и бросит длинный Взгляд через огород — туда, аж вон туда, Где с дальних косогоров схлынула вода, Где пашня солнца ждет, весеннего пригрева. Жена зерно триеровала для посева, И вот вернулась и в хлевок для кур зашла, Где солнышки яиц из каждого угла, Из каждого гнезда сияют — просто диво! — И душу радуют хозяйке хлопотливой. «Уж скоро сеять, а у нас нехваток — страх. В сельмаг их отнесу, куплю тебе рубах Зефирных, чтоб в степи не мок от поту. Ну, пообедаем — и снова за работу!» Уж в хате звякает посуда, а Лука Стоит, задумался. Еще б хоть два денька Таких погожих — и весь год не знать бы горя. Вовнутрь не хочется и уходить с подворья, Вот так стоял бы тут и слушал дотемна, Как ветровей поет: весна, весна, весна… 1939ХУДОЖНИК
Внизу — песок и щебень, там и сям Потеки извести на стенах, а вверху, Под самым куполом, на подмостях лесов, Стоит художник. «Сотворенье мира» Доканчивает, образ Саваофа Со столяра выписывает кистью. А между тем внизу со свитой гетман Остановился. Приложив ладони Ко рту, кричит наверх: «Эй, богомаз, Как продвигаются дела?» И тот на миг Склоняется и смотрит вниз, как будто На дно колодца. И — опять за кисть. Тут гетман, полы подобрав, по шаткой, Скрипучей лестнице полез наверх, Кряхтя и щуря глазки от сиянья Небесного… «Мне кажется, творец… Уж слишком, так сказать, простонародный…» Тогда художник гетману учтиво Ответствовал: «На то он и творец, А не бездельник!..» Вновь макает кисть, Кладет мазок, за ним другой. А гетман, Ответу удивившись, шаг за шагом Спускается с шатучего помоста В потемки, вниз, где свита ожидает Низкопоклонная, спускается неспешно И думает без гнева, отстраненно, Что все в руках его, полки и сотни, И жизнь, и смерть — и только почему-то Он и безвластный тут, и как бы лишний… 1939ЧЕРЕПОЧЕК
В песке валяясь посреди двора, Едва заметный глазу черепочек Подал свой голос. Этот голосочек Могла подслушать только детвора. Из дырочки, не больше, чем от шила, Лилася песенка. Среди людей Немногим было знать, какая в ней Таилась удивительная сила. Спросили в школе: что за черепок? В учебниках о нем — ни сном ни духом. И даже музыкант с тончайшим слухом, Увы, ни звука услыхать не смог. Взял Ларион — он голубей как раз Прогуливал предзвездною порою,— Приставил к уху — брызнул свет из глаз, Как будто песенка, что в мир лилась, Его сильней роднила с высотою. Так было, видимо, во все века: Для тех, кто в окруженье ежедневном Мог слышать глас пустого черепка, Весь мир звучит органом сладкопевным. 1939«Снят урожай и убран весь в амбары…»
Снят урожай и убран весь в амбары И погреба. Лишь ворохи стеблей Чернеют там и сям. Все холодней День ото дня. Из сумрачного яра Уж прелью тянет. Птиц не слышен свист — Отпелись, отлетались на просторе, И клены, словно мачты в бурном море, Качаются, с ветвей роняя лист. Чернеет поле, влажное, нагое, А в роще обнаженной у реки Такой унылый, долгий гул, такое Полноголосье ветра и тоски. И вечером, желанною порой, Не встретишь тут затишье и покой От ветра. Всё — от дуба до березки — Сопротивляется, кряхтит по-стариковски, Поклоны бьет неведомо кому. Грай воронья, что копоть от пожара, Вверху кружится хаотично, шало — Спешит сквозь заревую полутьму В густые заросли. Садятся друг за дружкой На ветви, чтоб средь ясеней, ракит Дождаться дня, пока земля-старушка Еще виток вокруг оси свершит. 1939Павло Усенко © Перевод В. Яковенко
ЗАСУХА
Там выпали дожди… А тут — пески холмами; Над гиблыми хлебами — Иссохшими губами: — Где выпали дожди? Мечтали в сенокос: — Не повторись Поволжье[17]. Ничто уж не поможет, Коль не прольется дождик, Мечтали в сенокос. — Коммуну, агронома — На эти бы поля! — И слушает земля. Народ шумит, моля: — Коммуну, агронома! А солнце мечет стрелы. И люди говорят: — Эх, яровые, — зря! Горят поля, горят, А солнце мечет стрелы. Не минут нас века И дни не обойдут,— И радугой встают, В коммуну верный путь Проложат нам века. — Где выпали дожди? — Лежат пески холмами… Под знойными ветрами Хлеба взывают сами: — О где же вы, дожди?ПИСЬМО
Секретарь-девчоночка, Как тебя любили мы! Где ты, комсомолочка, За снегами синими? Школа. Две акации… Как тебе работалось! Речи. Агитация — За весну и молодость. Шла к станку с подругами… А теперь, не верится,— Там, где за яругами Вихри да метелица. Лампочка не светится, Веет с поля холодом, Ты одна там, сверстница,— Лекторша из города. Без тебя здесь трудно нам, Ветвь от корня знатного,— От завода трубного, От це́ха прокатного. Секретарь-девчоночка, Как тебя любили мы! Где ты, комсомолочка, За снегами синими?СОЛНЦЕСТАН
Где туман, где туман, где туман, Где метелица вьюжит снега… Где резвился Махно-атаман, На земле, повидавшей врага, Поднимается ввысь великан — Солнцестан. Солнце, встань! Над землей, где поля и луга, Поднимайся в небесный экран, Всколыхни берега, Солнцестан! Как жар-птица из детского сна, Воскрылил синий свет автогенный, Подняла трудовая страна Образ светлой борьбы — Образ Ленина. А ветра, понизовья ветра Лишь касаются глыбы бетонной. Поднимаются волны, пора, Закипают днепровские волны. Где туман, где туман, где туман, Где метелица, вьюга, снега,— Озаряются горы, луга, Облака — кромка синих небес. И лучится эпохи великой экран — Солнцестан — Днепрогэс! 1930«На незабудь мне подари левкои…»
— На незабудь мне подари левкои,— Идя в поход, любовь свою просил,— А встретит злая пуля меня в поле — Тебя, тебя лишь вспомнить хватит сил. Тебя, тебя в тиши звенящей вспомню, Сквозь бури, мрак, я знаю, ты придешь; Повеет нежностью, и станет вдруг легко мне: Мостов прохладой на меня дохнешь. И в сумраке кровавом после боя Мне надо только руку протянуть… На сердце расцветут твои левкои, Те, что когда-то мне дала на незабудь. 1935ВОЗЛЕ НЕНАЙДЕННЫХ МОГИЛ
И думается так — они живут во мне, Все те, кто был в бою сражен огнем. Могилы их — долины, степи в дальней стороне,— Все, будто знаменем, покрыты вешним днем. Куда б ни шел — я их забыть не в силе, Я вижу — край зеленый мой, цветущий мой поет Всем, всем, кто головы свои в бою сложили. И ни могил, и ни имен, а лишь трава цветет, Шумит… И в этот миг, как монумент незримо вырастает,— Растет во мне тот шум, немолчный шум, Как песня памяти о тех, кто, умирая, завещает Любовь к Отчизне, с откровеньем дум, К родному краю, обновленному руками, Спасенному в бою от черных сил… И думаю я так — пусть славятся веками Священные холмы ненайденных могил. 1936Михайло Доленго © Перевод Ю. Ярмыш
ПРОЛОГ К ПОЭМЕ
…шестого года январь. Реконструктивный период, но из подполья высунули рыльце остатки торгово-промышленного капитализма. Гражданских воен напряженную лирику сменил эпический жанр. Развернул над страною крылья покой. Развернул пролетарий страницы (той рукой, что листала историю) учебника, и глагольными рифмами загремела клеть на шахте ожившей. Приехал в Юзовку Жан-импресарио певички цыганских романсов под Панину. И не кровь разлилась по степи, погорячее жидкость — чугун. И появились первые новобытовые романы. У ворот рельсопрокатного цеха инженеры толпились, и он разводил руками, как веслами лодка на буйноголовых волнах. Было вообще весело, но вместе с тем и скучновато. Будущие хвылевисты воодушевленно ругали нэп. А революция продвигалась дальше от конных атак — к новым опасностям, к новым победам целым и целительным фронтом. Под землю пошел лушпак, мелкий уголь, обвивая залежи солнца крепкою тьмою. Из темноты добывали силу, тратя собственные силы. Ведь не было еще соответствующей механизации. Девушка из нашей экскурсии очень обрадовалась, увидев здесь среди них паренька, с которым встречалась однажды в Харькове, когда тот приезжал делегатом.ТЕМА
Выдвинутая нами впервые в 1931 г. проблема выведения многолетних пшениц вызвала ряд недоумений и скепсис у большинства специалистов сельского хозяйства, продолжающих частично оставаться и доныне…
Н. В. Цицин («Проблема озимых и многолетних пшениц») Одна из дерзостных научных тем Звучит и романтично, и конкретно: Пшеницы нежность в браке с пыреем Дадут детишек сытых, многолетних. И в случае счастливого конца Сего романа, жать пшеницу будем Не сеявши. Достойнее венца Мечта не знала: урожай пребудет! Конечно же, какой это роман, Когда влюбленных обойдут ненастья. К примеру: невнимательность, зима, Бюрократизм иль засуха… Согласье Придет к влюбленным после первых проб, Но, не тревожа мелочами «Правду», Изобретателя широкий лоб Не будет выражать одну досаду Морщинами… Да, опыт — горек там, Природа — ключ от тайн не сразу вручит. Но путь по компасу и по звездам — По красным, не остановить на кручах. Пусть тема продвигается, как фронт: С бумаг туда, где опытов делянки, С них — на поля, где грунт и горизонт, Дерзанье наше и практичность янки.АВГУСТ
Все эти дни — как изо льда рисунки — Мелькают чередой в голубоватой мгле. Полуденный зефир на паутинке-струнке Восторженно звенит зеленый гимн земле. Мозаика листвы. Правее и левее — В дожди и холода проложенный маршрут. Бог Времени вокруг мгновенья сеет, сеет, И годы за спиной горбом растут, растут.ОКТЯБРЬ
В серебряной реке златое солнце тает Печальным отблеском стихающих страстей, Девчата под ветлой подсолнухи щелкают. То шепот или крик: согрей меня, согрей? Лимонной красотой поникшим желтым астрам Уже не одолеть студеной смерти жуть,— Укроет снеговей блестящим алебастром Дорогу в сад крестов, осенний поздний путь…РАДУГА
Все семь надежд ты На нашу бросила ненастность. Из тьмы восстала к небу ясность Мостом в заветные мечты. Дивясь стоцветью бытия Под знойным солнцем светлой муки, Я простираю к счастью руки — В недостижимые края.«Есть графика идей, под слоем краски ум…»
Есть графика идей, под слоем краски ум, Где схема костяка укрыта в складках тела. Пей музыку проблем устами новых дум, Чтоб сердце разума свирелями звенело, Мечтая о скульптуре красоты, О новых построеньях высоты И пластике живого дела.ПОМНИШЬ
Очи толпы — с тобою, когда ты ловишь ее настроение, взгляды. …………………… Очи с людской теплотою, крестьянской: — Нету панов-гадов, власть рабочим и вам. ………………………… В глазах у бандитской стаи страх, устрашенье. Хватай их! В атаманскую рожу просто выстрел. …………………………… Рабочие очи, когда твои среди них — на равных, только знают больше, в трудах побывали в иных краях да на уровнях главных. ……………………………… Вражьи глаза — убедись. И напрягай мускулов флаги, покой твой над миром завис. Еще шаг и…БАЛЛАДНЫЙ НАМЕК
Степь. А из камня баба, У нее на челе орел. …На Полтавщине баба — женщина, А речка — Орель. Деревей волосатый, дикий,— Печенег желтый — как кость. Фальцфейновской полтавки вскрики. Выстрел, взгляд панский — нож! — неж — ность…Андрий Чужий © Перевод Ю. Денисов
ЗВЕЗДЫ
А может, и коровы смотрят на созвездья?! А может, и они о чем-то втайне грезят?! В кринице возле старой хаты отчей три звезды живут и днем и ночью. Мы летом спим в саду своем уютном, и звезды «баю-бай» поют нам. Всласть воду пьем мы из криницы, где звезды умывают лица. Смеетесь? — А паук все звезды высосал! 1922ТУЧКИ
Синеву упрашивали тучки: «Мы любим Землю, мама, пусти нас на свидание с нею! Мы вернемся полнокровными боярышнями, беременные весельем златопьяным. Раскати нас по всей Земле радостными слезами, мы пощекочем нивы, и они улыбнутся надеждами… Мы любим Землю, мама, пусти нас на свидание с нею!» 1923, КиевДЕРЕВУ ГОВОРЮ: «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО!»
Дорогие братья и сестры: березы, дубы, грабы, вербы, клены, лиственницы, осины, сосны, тополя, ели, абрикосы, вишни, сливы, яблони — скажите, будьте добры, за какую провинность вас приковали к Земле и четверть вашего тела лишили солнечной ласки? «Станьте там, где стоят наши тени, и слушайте ушами Чюрлёниса: мы выполняем свою работу на своем месте, такова высшая воля, такова наша доля. Наяву мы мечтаем о странствиях, а в снах — мы путешествуем, как и вы, на крыльях мечтаний». Я знал и знаю многих людей, которые дружат с деревьями, растениями, травами, любят разговаривать с ними, изучают их язык и умеют их слушать, понимать их радости и боли. Кое-кто даже научился записывать их думы-песни, добрались до их душ, учатся общаться с ними,— а как это правильно делать? Ясное дело, не все думают одинаково. Я — дружу с растительным царством с двух лет. Я люблю растения, и у меня есть своя практика: как дарить своим друзьям-растениям эту свою любовь. Хочу здесь сказать об этом. Может, моя практика и вам пригодится в дальнейшей вашей практике любви. Прежде всего надо ласкать, голубить дерева, чтоб передать свое очеловеченное, облагороженное, осторожное тепло, полученное непосредственно от души — через руки. У тех, кто любит, они безусловно теплы. Гладить дерево по лицу, как мама гладит дитя по головке, обязательно с северной стороны (на эту сторону никогда не заглядывает солнце, и она всегда, даже в зной, холоднее южной стороны) руками-душой. Гладить до тех пор, пока не отдадите все свое тепло, предназначенное для отдачи, до тех пор, пока лицо вашего собеседника не повеселеет — не улыбнется своею душою вашей душе. Лишь когда ощутите своею душою эту улыбку, ваши души по-настоящему начнут общаться — разговаривать. Вы обязательно ощутите его своеобразную улыбку-благодарность — эту внутреннюю улыбку не выразить словами, не обозначить музыкальными знаками, эту улыбку надо уметь услышать внутренним — третьим — ухом. Тот, кто любит, тот, кто сам научился говорить с этим Великим Немым, имеет такое ухо.ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
тем, кто идет на свидание к друзьям-деревьям, к друзьям-растениям: подходите с северной стороны, чтоб не заслонять Солнце. Ласкать, чтоб передать свое тепло ладонями веселых рук, гладить дерево по северной части лица. Одеваться, идя на эти свидания, обязательно в солнечно-теплые цвета, ибо эти цвета ваших одежд тоже таят солнечное тепло, и его будут жадно глотать голодные на тепло северные части лица ваших друзей. Само собой понятно, что на такие свидания надо идти с душой, наполненной до краев солнышками-дыньками, новыми песнями-стихами, посвященными растительному царству. 1939Александр Олесь © Перевод В. Яковенко
«Каждый атом, атом сердца…»
Каждый атом, атом сердца Превращу я в слово, в звук… И во мне родится повесть, Повесть радостей и мук! Сердца каждое движенье Отольется в четкий ритм,— Нежной воскрылит любовью И страданьем возгорит. И вспорхнут, как искры, песни — Капли крови — в том огне… Унесут весь мир с собою — Только боль оставят мне.«Сон ли это? Воля?! Воля?!.»
Сон ли это? Воля?! Воля?! Друже! Брат мой! Говори! Что? Народ? Солдаты? Доля! Бой… и флаг, как свет зари!.. Что? Из тюрем выпускают!? Вместе с нами города!.. Дальше! Песню запевают, Песнь свободного труда. «Марсельезу»! Мать святая! Что же тихо на селе?! К колокольне! рассветает! Люди! Воля на земле! 1917ЛЕБЕДИ
Лебедей спустилась на болото стая. Ночи тьма стояла, плыл густой туман… Все вокруг уснуло, только белый лебедь Мучился, страдая от кровавых ран. И в последней песне, песне лебединой, Вспомнил про озера и размах степной, О высоком солнце, о ветрах и тучах, И простор далекий вторил песне той. Звал он всех проснуться, и расправить крылья, И умчаться в небо, поднабравшись сил. Но спала на кочках беспробудно стая, И напрасно лебедь звал ее, просил. И когда он понял, что его не слышат, Что к земле надолго сон всех приковал, Закричал от муки, рухнувши на камни, Грудь себе поранил, крылья поломал. Ночи тьма стояла пред его глазами, О, за что так люто белый свет карал… Стая не проснулась, тихо плакал лебедь, Истекая кровью, тихо умирал. А когда с рассветом покатились волны Золотого грома, словно трубный звон, Ослепив просторы, выглянуло солнце, Горизонт раздвинув, опрокинув сон, Встрепенулась стая, шумно загалдела: «Тут вода гнилая, тут сырая мгла!.. А над нами солнце, вольные просторы!» — Больше оставаться стая не могла. Закипела, словно легкой пеной волны, Зашумела ветром… взмыла и — прощай!.. И легко летела в небе белой тучкой, Уплывая в дальний лебединый край. …………………………………………… Истекая кровью, славный белый лебедь Думал о крылатом племени своем… Силы покидали… Ну а в чистом небе Кто-нибудь из стаи вспомнил ли о нем? 2. IV.1917«Верните то, что не имею…»
Верните то, что не имею,— Хоть кроху отческой земли, Той, что сберечь мы не смогли: Прильну губами, онемею — И большего желать не смею… Иль кружку влаги родниковой,— Той, из криницы, — хоть одну!.. Губами жаркими прильну — Пригублю… или хоть взгляну, Душой коснусь ее, — медовой. 12. IX 1921«Вчера — свадьба и веселье…»
Вчера — свадьба и веселье, А сегодня на похмелье Мы справляем перезву[18]. Что там завтра — знать не знаю, А сегодня погуляю, Поживу. Тот на спину взял Горпину, Тот напялил прах-ряднину, Тот кожух… Эх, от свадьбы и до свадьбы Дотянуть да погулять бы Во весь дух. Эх, Омелько бьет с притопом, А Данило — вскачь, галопом — Хорошо! Стонут бубны, закаблуки, А Никита встал на руки И пошел! Клим в тарелку бьет пустую, Грыць цыганам мать родную Продает. Тащит тот отца на муки, Палачу смурному в руки Отдает. А дитя ко всем взывает; «Хата вся в огне пылает, Год и два!» А музыка! чики, чики, Топ да топ — черевики, Перезва! И Европа в удивленье? Это что за привиденье? Где взялись? Отливать такие штуки! То ль взбесились вы от скуки И спились?! 1921ИЗ ЦИКЛА «ПЕРЕЗВА»
Ты век свой прожил в «Петрограде», Когда вернулся вдруг домой, Мы были очень, очень рады, Ведь ты министром стал, родной. Ты верный, честный по натуре, Я откровенно говорю! Служил ты праведно царю, Был верным гетману, Петлюре И будешь верен, в том числе,— Всем, всем владыкам на земле.«Цветы всегда меня чаруют…»
Цветы всегда меня чаруют, Вдыхать их аромат люблю, И трепетную жажду красок В себе вовек не утолю. Да, это так… и все ж навечно Я не останусь в их саду: В последний миг я выйду в поле И у травинки упаду. 1923«Я пил бы из нее и пил…»
Я пил бы из нее и пил,— Как ни горька земная чаша,— Любить, страдать — вот счастье наше,— И знать, что сердцем не остыл. В той колыбельке под окном Хотел бы вот сейчас лежать я, Чтоб песни маминой объятье Меня ласкало перед сном. Лилась бы нежно эта песнь И капали на сына слезы… Соловушка извелся весь. Сирени запах. И — березы… И звуки арфы, как во сне, Напомнят сладкой болью жгучей: Вся жизнь моя — как лес дремучий, Как лес терновый по весне. 1925«Врачуют боль ночные сны…»
Врачуют боль ночные сны, Душой во сне лишь отдыхаю,— Ни звезд, ни солнца, ни весны Без тихой родины — не знаю,— Тут песен не поют леса, Шептаться ручеек не хочет, Днем не смеются голоса И сердце не чаруют ночи. Тут, как в могиле, жизни нет! Саднят мольбы душевной раны Да мучит раскаянья свет,— Что край покинул свой коханый. 28. V.1925МОЕЙ МАТЕРИ
Приснилось мне, что я домой вернулся… Иду, гляжу: мой край, моя земля,— Как в солнечное детство окунулся: Родные реки, села и поля. Вот-вот и к хате приведет дорога, Где мама ждет меня или не ждет, Я вскрикну: «Мамочка!», споткнувшись, на пороге, И старая на грудь мне упадет. Мы горьких слез не укротим свободы, Сквозь эту боль услышу я слова: «Я так ждала тебя все эти годы, Что от тоски не высохла едва…» Иду зеленою межою, Рожь золотит мои места, И вьется радость над душою — И нету на плече креста… Проснулся… Где ты, миг свиданья? О где же ты, родимый кров… Иду дорогою изгнанья. И видится по следу — кровь. 2. V.1926«Чем не мать и для нас, и для всех — У-эн-эр?..»
Чем не мать и для нас, и для всех — У-эн-эр? Монархист ли ты, левый эсер. Друг или враг ты — а мерка одна… Вроде дойной коровы всем служит она.«Кто с горькой судьбой на борьбу не встает…»
Кто с горькой судьбой на борьбу не встает, Кто знамя, оружье безвольно сдает, Кто свет предпочтет нескончаемой ночи И крылья орлиные вскинуть не хочет, Кто, утром родившись, состарится днем, Кто голову склонит, встречаясь с врагом,— Пусть лучше б не видел земного рассвета И дня не чернил, не позорил бы света. ……………………………………………… ………………………………………………«Я таким остался, как когда-то был…»
Я таким остался, как когда-то был, Детских дней поныне сердцем не забыл… Не забыл я солнца и рыбалки ранней, Снов, желаний детских, вольных обещаний. Жизни той крестьянской, гнев и слезы в ней Берегу я в сердце до последних дней. Стал уже согбенным в жизненной тщете. И дрожит последний лист в моей мечте. Но поныне в сердце тот огонь пылает, И рука то кобзу, а то меч сжимает, И когда я плачу, вторят мне леса, Сразу в них смолкают птичьи голоса.«Кто берег любовь к Отчизне…»
Кто берег любовь к Отчизне, Знал, какого роду,— Будет имя его вечным В памяти народа. Кто звенел ручьем в долине И не выпит морем, Буйным цветом того вспомнят Утренние зори. Кто увидел в час несчастья Солнце сквозь туманы, Станет тот отцом в народе И пророком станет. Кто берег любовь к Отчизне, Знал, какого роду,— Только тот отдал всю душу, все, что мог, народу.«Море, хотя бы приснилось ты мне…»
Море, хотя бы приснилось ты мне,— Сердце невольником дышит… Если бы даже в коротком сне Смог я твой голос услышать. Как я люблю твои песни, твой шум! Как я тебя понимаю! О, сколько ты навевало мне дум, Верой в себя окрыляя! Жемчуга слезы на берег несло И серебром осыпало, Степью дышало, лугами цвело, Струнами кобзы играло. Море, о море! Верни же ты мне То, что так тщетно любил я. Вместе с жемчужинами на дне, Знаю, лежат мои крылья.«Но если б знал, что разлучусь с тобою…»
Но если б знал, что разлучусь с тобою, Земля моя, святая мать, Что я, отравленный тоскою, Век буду по миру блуждать, О если б знал, какие муки Мне принесет чужбина та, Что будут скованными руки И не раскованы уста,— Хотя б простился я с тобою, К твоей родной груди припав, Послушав шепот милых трав, Ушел… Нет! не с позорною судьбою В чужой встречаться стороне… На крест?! О безразлично мне!«Снегу навалено, снегу!..»
Снегу навалено, снегу!.. В белых снегах утонули Горы, леса и долины… Словно гостей дорогих ожидая, Щедрый хозяин Свой полушубок из шерсти белейшей С радостью сам расстелил на дороге, Свой полушубок, совсем еще новый. Словно тут гуси паслись на рассвете Стаей гогочущей — Пухом нащипанным землю устлали. Словно развеян дыханием ветра Снег лепестковый Вишневого сада. Словно богачка, горда своевольем, Поразбросала повсюду льняные полотна: — Эй, мол, смотрите, Завидуйте, люди! Есть у кого ли сундук побогаче?! Кто тут посмеет открыто похвастать: «Это добро мое — Тонкая пряжа! Это добро мое — Можно ли выстирать лучше!» Я не боялась В зимнее утро Выйти на речку — Стирать там до ночи. Я не пугалась мороза шального. Пусть обнимает он стан мой девичий, Пусть увивается, словно парнишка. Руки сжимает И в щеку целует. Господи! Только спаси от напасти! Что, если впрямь От его поцелуев Мак на щеках разрумянится ярко?! Только краса моя пусть не увянет! ……………………………… Снегу навалено, снегу!АСТРЫ
Последние астры в ночи расцвели… Умылись росою остывшей земли И вот ожидают рассветной поры: Сверкнут семицветьем сады и дворы… И грезили астры в своем полусне О травах шелковых, о солнечном дне,— Им сказка явилась, добра и ясна,— Цветы в ней не вянут и вечна весна… Так астры мечтали осенней порой… И ждали, наивные, встречи с весной… Но утро ответило хлестким дождем, И ветер в саду завывал молодом… И астры увидели, рядом — тюрьма… Увидели астры — то нежить сама. Склонились и умерли. И — в тот же миг Забрезжило солнце над трупами их!..«С печалью радость обнялась…»
С печалью радость обнялась… В слезах, как в жемчугах, мой смех. С чудесным утром ночь слилась, И мне их не разъять вовек. В объятьях с радостью печаль. О, тяжба есть у них своя: Кто сдержан, а кто рвется вдаль. И кто сильней — не знаю я…ЧАРЫ НОЧИ
Смеются, плачут соловьи — Любви волшебной птицы. «Целуй, целуй уста мои,— Ведь жизнь не повторится! Не думай только — что потом, Забвенье ли, измена,— Весна, весна приходит в дом, И кровь стучится в венах. Замри и слушай — не дыши, Забудь тоску и горе. И звуки собственной души Сольются с шумом моря. Лови летящей жизни миг, Внемли и упивайся… Мечты, любовь — в блаженстве их Бесследно растворяйся. Гляди, сама земля дрожит В объятьях сладких ночи, Ручей к ручью, звеня, спешит, Сверчок цветку стрекочет. От этой звучной тишины, От этой чудной трели — Сады вишневые пьяны и вербы захмелели. Как искорка — любовь двоих — Земная скоротечность. Гори сей жизни вечный миг, А смерть — иная вечность. Стоишь, не шелохнешься ты, Тебе — все эти звуки, и грусти нежные цветы, И радость сладкой муки. Ты вновь и вновь идти готов На этот пир природы. Пусть радость песен и цветов Пьют молодые годы. Ведь все пройдет и не вернуть: Отнимут время, люди, Костры в душе не всколыхнуть, В груди огня не будет. Захочешь ты вернуть себе, Как Фауст, дни былые… Но знай: в дарованной судьбе И боги все скупые…» ………………………… ………………………… Смеются, плачут соловьи — Любви волшебной птицы. «Целуй, целуй уста мои,— Ведь жизнь не повторится!»«Не сажайте в горах и в сыпучих песках…»
Не сажайте в горах и в сыпучих песках Нежной вербы с цветущего луга. Обовьет ее жажда, иссушит тоска По зеленому дальнему другу. И сосне не прижиться в зеленых лугах, Вдалеке от песчаной вершины. Затоскует она на речных берегах И засохнет от горькой кручины.«Как птичья стая в синеве…»
Как птичья стая в синеве, Легки и бестелесны, Летели в солнечную даль, Звенели мои песни. И призывали с высоты Скреплять союз любовью… Но время-выстрел окропил Их крылья жгучей кровью.«Ой, весна, не буйствуй — мой народ в кайданах…»
Ой, весна, не буйствуй — мой народ в кайданах, Взгляд его задумчив, Словно луч сквозь тучи, Жизнь его туманна. И на сердце рана. Ой, весна, не буйствуй цветом васильковым. Ведь народ проснется, Кровь его прольется, И, порвав оковы, Мир увидит новым. Ой, весна, не буйствуй — тучи мчат недаром. Горестью чернеют, Гневом пламенеют… Не уйти от кары… Смерть вам, янычары!НАД КОЛЫБЕЛЬЮ (Песня матери)
Спи, мой малютка, спи, мой сынок… Я расскажу тебе сказочку впрок! Глазки открыты, испуганный вид?! Спи, моя пташка, то ветер шумит. Стонет и воет за дверью давно, Бойко стучится в наше окно… Рыщет, разбойник, в голой степи!.. Спи, моя ласточка сладкая, спи! Вот уж и ветер стих на дворе, Видно, заснул он в белом шатре… Холодно нынче в лесах и лугах,— Все утонуло в пушистых снегах. Бегают зайчики, мерзнут, дрожат, Кто от мороза спасет малышат? Вот они видят — кустик стоит,— Полно! Давно уж лисичка там спит. Кинулись снова на грядки они,— Ой, там ночуют волки одни. Лучше уж в поле — бегом, за лесок… Может, найдете соломы стожок,— Вройтесь вы, зайки, поглубже в снопки, Чтоб не нашли вас волчьи клыки… Спи же, малютка, за дверью — темно… Белые зайчики спят уж давно.«Из панских прихвостней-рабов…»
Из панских прихвостней-рабов Людьми в Отечестве мы стали, И громко имена назвали, Презрев шипение врагов. И знамя верности в ночи Из собственных рубах стачали,— Омывши кровью их вначале При свете тающей свечи. Чтоб к лучшей доле нам прийти, Мечта дорогу указала, Собой пожертвовать призвала — И нет уже назад пути…Богдан Лепкий © Перевод В. Ленцов
ОДИНОКИЙ ПЛУГ
В пустынных нивах — одинокий плуг. Невспаханной земля лежит вокруг. Лемех ржавеет, меркнет чересло И диким зельем густо обросло. А где владелец? Где ж рата́й? Ушел, быть может, защищать свой край. Волов побили. Лошадей найди… Остался плуг на поле сам-один. Он ждет, покуда тут он не сгниет, Или гранаты взрывом разнесет. Жрет ржавчина лемех и чересло, Что диким зельем густо заросло.ВОРОН ЧЕРНЫЙ
Ворон черный! Ты — не птица рая. Вьешься!.. «Кровь! кровь! кровь!..» Тише, я уж знаю. Ветер, что ж ты так разбойно воешь!.. «Шу! шу! ш-шур!..» Пст! говорить мне больно. Речка, что ж твой плёс румяный?.. А! Постиг: Вытекаешь ты из раны.«Где есть твой дом, твой тихий дом?..»
«Где есть твой дом, твой тихий дом? Скажи мне, милый брат…» «Ударил злобно ясный гром, Свалил мой дом и сжег мой дом, Мне негде зимовать». «Скажи мне, где твоя жена, Где дети, домочадцы?» «Могила вон. И не одна. И дети, други и жена — Мне с ними родичаться».«Калина-малина, что листья роняешь…»
Калина-малина, что листья роняешь И мечешь на волны? Девушка-рыбка, зачем прогоняешь Меня от себя ты на волю? Зеленые листья плывут за водою, Покинув кусты навсегда. Образ твой в сердце унес я с собою, Моя ты беда!«Одинокий сижу над рекою…»
Одинокий сижу над рекою, Лишь с тоской да печалью-журбою. Вечереет, за далями гаснет, Как небесный костер, солнце ясное. От лесов ветер холодом веет, Гнет деревья, цветы же лелеет. Над селеньем, в межгорье, в долине Виснут тучки легко серо-синие. В небо дым из каминов струится — Ясность меркнет, весь мир словно снится. И таинственно речка играет, Что-то борется в ней и вздыхает. Гей! река! Однородны в нас шумы: В тебе волны ревут, во мне — думы. Тебя берег вгоняет в оковы, А меня — горькой жизни законы. В нас обоих — и бездны, и броды, И мы равно не знаем свободы. Лишь проходим сквозь дебри, чрез горы В неизвестное нам с тобой море…«Коль жить — так жить! Тоска мелка…»
Коль жить — так жить! Тоска мелка. Пустые прочь тревоги! Сквозь темный бор, до ясных зорь Я прорублю дороги! Гремит топор, но валит бор, Трещат гнилья завалы. То там, то тут на шлях падут Коряги, что мешали… Пробьюсь я чрез враждебный лес, Вступлю в поля с поклоном. Грозы слышней грядущих дней Торжественные звоны! Всего милей грядущих дней Запев моему слуху. Смешон при нем невзгоды гром, Звучит напрасно, глухо… Ты, буря, вой. Топор со мной, Не знаю я тревоги. Сквозь горя бор, к счастью во двор Я прорублю дороги!РИСУНОК
Глухое, злое отупенье Укрыло землю. Травы мрут, Поля беспечно снега ждут, А тучи виснут, как каменья. Порою ветер, стервенея, Туман в долине разорит, Село откроет повиднее, Что пьяным сном дремотно спит. Огни погасли. Затворились На засов двери. Злые псы В солому по уши зарылись. Лишь бродит блуд, пугая сны. Да голод тропкой вдоль заборов Шагает — ежегодный гость. В руках его мужичья кость, Он жертвы ищет грозным взором.«Умолкни, сердце, замолчи!..»
Умолкни, сердце, замолчи! Ведь ты любило, Блаженства, боли ты вкусило, Терзалось грезами в ночи — Умолкни, сердце, замолчи! Весне конец. Пшеница спеет, На нивах рожь уже желтеет, Уж серп готовит мудрый жнец Весне конец. Пора и нам Снимать уж с поля Чем одарила божья воля, Коль не гуртом, то сам-на-сам — Пора и нам!«Не выльешь слез…»
Не выльешь слез, Не выльешь слез До капли никогда! А жизнь, как тот скрипучий воз, Влачится сквозь года. А перед ним Туман и дым, Ухабиста дорога… Идет, грядет путем своим Твоя душа-небога.«Чайка белая, кружишься…»
Чайка белая, кружишься Над водой ты низко-низко, Отчего так безутешно Бьешься ты и стонешь? Птица белая, взгляни-ка, Ты мала и беззащитна, Против моря как ничтожен, Против рева волн твой крик. О, подумай, мое сердце, Что ты — супротив вселенной, С мировою скорбью рядом Что есть твоя боль?«Промчится ночь, и сгинет тьма…»
Промчится ночь, и сгинет тьма, И черный сон растает. Настанет день! Весна сама В твое окно заглянет. Пускай минет недоли час, Цветами прорастут лучи. О песня! — не оставь ты нас, Звучи, звучи, звучи! В лихие дни, в трудах, в борьбе Людской мутится ум. Пускай же отдыха себе Хоть миг найдет средь дум. Пускай оков отринет звон, Удары, злую ругань. Под свою чистую хоругвь Лишь будет слышать зов! Промчится ночь, и сгинет тьма, И черный сон растает. Настанет день! Весна сама В твое окно заглянет. Пускай минет недоли час, Цветами прорастут лучи. О песня! — не оставь ты нас, Звучи, звучи, звучи!«Что скажу я в ответ…»
Что скажу я в ответ: Как на свете живу? Шура-буря ревет, Веслецом я гребу. Ты ответа не жди; Есть какие мечты? Сеет осень дожди, А я сею цветы. Не спросите, к чему Думы сердце томят? На чужбине помру — Помяните меня.«Колыхал мою коляску…»
Колыхал мою коляску Ветер родины-Подолья, Сонных век касался ласково Запах трав степных и воли. Колыхал мою коляску Звук предутренней трембиты, От какого зори гаснут И цветы росою плачут. Колыхал мою коляску Глас плывущих в дали звонов, Буйный ритм на свадьбе пляски И в скорби ход похоронов. Колыхал мою коляску Крик и плач простого люда — Так мне в сердце всколыхался, Что до смерти не забуду.МОЛОДЫЕ ПЕСНИ
Песни молодые, Молодецкий жар Принесу тебе я, Как сердечный дар. Я тебе несу, Матушка моя, Крик души своей. Часть своего «я». Батька песням тем — Грусть унылых дум. Безутешный день, Безотрадный глум. Матерью — тоска, А кумою — злость, Братом — грустный сказ, Что познать пришлось. Он грызет и ест Радость и любовь — Не настигнет здесь, Так в краю любом. Вот какой-то гость Заявился вновь — Кости твоей кость, Крови твоей кровь!«Над полем веет ветер зимний…»
Над полем веет ветер зимний И листья гонит. Село в тумане еле зримо, На колокольне звонят. Из дали тихо, легко звуки Плывут мирами, Как все терзания и муки — К счастью меж нами…«Гей, прекрасны наши горы!..»
Гей, прекрасны наши горы! Гей, чудесна сторона! Отживает в сердце горе, Обновляется душа! И как те орлы, крылаты Мысли, что стремятся ввысь, Мчатся вечно выше, выше, Разрастаются вдали, Где всяк раз до неба ближе И все дальше от земли!«Стоит скала седая…»
Стоит скала седая, Как мир, она стара, Все волны отражает, Сегодня, как вчера… Над ней лазурь сияет Иль мчат отары хмар, И месяц проплывает, Как ночи чарив-чар, Сова вдруг отзовется, Как грешника душа, То с неба оторвется И полетит звезда. Кожан пронзит стрелою Простор, встревожа слух, Ночной укрытый мглою, Исчезнет, словно дух. Сопилка в полонинах Заплачет без обид. А Черемош в теснинах Шумит, шумит, шумит…«Ох, как годы летят…»
Ох, как годы летят… Я увидел тебя На аллее — вел под руку кто-то. Я смотрел и смотрел, Долго очи трудил, Было трудно узнать отчего-то. Та же стать — как стройна! И коса все пышна. Так искристы глаза говорливые! Лишь уста, мол, не те, Уж не жаждут утех, Молчаливы, грустны, несчастливые. Ныне были уста, Словно пташка не та, Не зазывны уже, не игривы, Как упорно молчат, Будто кару терпят, Что в былом были так неправдивы. Ныне вид твой угрюм, Навевал столько дум Все про то, чему нет власти сбыться… Беспощадный укор Твой метнул в меня взор, Прокричал: «Как же смог ты забыть все?!» Не забыл я тебя, Хоть молил забытья, Но забыть тебя не было силы, Лишь неласковый час Цветы С сердца обтряс: Их судьба по дорогам своим уносила…ВАСИЛЮ СТЕФАНИКУ
Ты, хлопец, плуг сжимай, Твори зерну задел. Пусть жито, как Дунай, Покроет твой надел! Пусть жито, как Дунай, Пшеница в колосках Прольются на весь край, Как хлебная река. Ты не гляди на то, Что нивоньки твоей Льняное полотно И шире, и длинней. Хоть как ты моря грудь Веслом ни борозди, Каким ни мудрым будь, Не рассечешь воды! Едва на миг один В воде оставишь след, Волна красой седин Мелькнет — и следа нет. Он вглубь уйдет, дружок. Земля необозримо — На запад, на восток — Цела и неделима. Земля в любых краях, Как море, как вода: Ты дал ей кровь и пот — Твоя будет всегда!«Не вспоминай мне то мгновенье…»
Не вспоминай мне то мгновенье — Вернуть его нет сил и права! В бессилье множатся мученья, В несчастье счастья зов — отрава, В темнице солнца луч — меч ясный, Страшнее узнику расправа, Как волю вспомнит он, несчастный.«Черемош, мой милый брат…»
Черемош, мой милый брат, На твои пучины Я пускаю, словно плот, Тяжкий сплав — кручину. Гей, тяжка, тяжка она — Легче не проси! — Где бездонна глубина, Где подводная скала, Там ее неси!«Кадильниц дым едва струится…»
Кадильниц дым едва струится, Уходит в облачные своды. В монастыре уж хор приутомился, Умолк. Какая-то черница Под образом, как тень ночная, бродит. Совсем одна посреди стен святыни, Не молится. В иконе топит взор. А на иконе — царство светлой сини, И матерь божья наклонилась к сыну, Вдали видна гряда покрытых снегом гор. А на иконе — небо, солнце светит, И мотыльки мелькают над цветами, В поспевшей ржи кузнечик прыгнуть в солнце метит, И матерь божья, как все матери на свете, К дитю святому прикасается устами. Оно ж такое маленькое — а смеется! И ручки тянет к маме шаловливо… Посреди белых стен стоит черница, В икону вглядывается — ей что-то снится — Где? И когда то было?«Соловью мила калина…»
Соловью мила калина. Птах, не пой! Не моя ты, о дивчина! Я не твой. Ой, дивчина, черна доля. Птица, пой! Чрез широко дико поле Брел покой. Брел покой тупой, безмолвный Сам с собой, Голосов был разных полный, А немой. Он берет меня с собою Под полу И ведет меня по полю В ночь и тьму. И ведет в глуху долину Без конца… Я не твой, а ты, дивчина, Не моя. ……………………… Соловью мила калина. Пой, птах, пой! Видно, сгину я, дивчина, С той мечтой.«Пришло, что должно было быть!..»
Пришло, что должно было быть! Еще на свадьбе хмель шумит В твоем доме, А ты была б уж рада знать, Где станешь ты меня встречать Лишь как знакомая. Видишь ту лазурь над нами? Там миры есть за мирами, Солнца, месяцы и зори. Там мы встретимся навеки, Как встречаются все реки В синем море.«Море синее, скажи мне…»
Море синее, скажи мне, Где берешь очарованье, Что смотреть на тебя, море, Можно вечно день и ночь? «Хочешь знать, — сказало море,— Посмотри на мои волны, Как они все мчатся, мчатся, Мол, минуты, дни, лета. Ты вглядись перед собою, Где лазурь целует плёсы — Так целуются от века Лишь действительность с мечтой. А опустишь взор ты книзу, Сквозь плавучих волн опалы, То подумай: сколько в мире Есть и будет вечных тайн! Я дарю тебе понятье Бесконечности и бездны — Вот с чего в меня ты вечно, Словно в зеркало, глядишь».«Загляделся я на море…»
Загляделся я на море И на небо голубое, И на те, что так далёки, Словно тучи, берега, Загляделся — и не знаю, То ли волны бьют о берег, То ли в небе мчатся тучи. Иль плывут мои мечты?«Над волнами и над морем…»
Над волнами и над морем Понесу свое я горе, Может, утоплю, может, загублю, Может, долю приголублю, Кто знает? Ой, минуют даром ле́та, Зря я обошел полсвета, Не утратил там я горя, Доли не нашел за морем — Ее нет!«Видишь, брат мой…»
Видишь, брат мой, Верный друг, Отлетают серым клином Журавли на юг. Слышно: кру! кру! кру! На чужбине помру, Пока море перелечу, Крылья изотру… Мельтешит в очах, Бесконечен шлях, Тает, тает в синем небе След по журавлям.«Где ж вы, мои родные нивы…»
Где ж вы, мои родные нивы. Иль недостоин вас узнать? «Не видишь? Нас изрыли взрывы Снарядов и гранат». Где ж ты, гай мой? Что с тобою? Березняк где и дубрава? «Разметала нас зимою Небывалая расправа». Крыша где та, что упрямо К ней я шел неудержимо И стремился, словно к маме? «Где? Спроси с огня и дыма». Где ж родителей могилы? «За церквушкой, у крыльца…» Замолчите! Нет уж силы, Чтоб дослушать до конца.ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН
Вечерний звон, вечерний звон витает за горою. Проклятье злу, добру поклон и вечный мир с собою. Вот день минул, как и не бы́л, уж ночка, час покоя. Что потерял, что позабыл, не заберешь с собою. Терзанья хаос и обид, пляс смеха и рыданья, Все в каждом срезе повторит бег жизни в мирозданье. Твое житье, твое бытье лишь звук в едином хоре, И ты и я развеемся в бездонном вечном море. И дивный пляс, и грозный пляс, зла музыка играет. Столь краток сказ: расцвел — угас, и вечность ожидает. Плетем венок, плетем венок из бытия мгновений, Чтоб танец жизни не умолк в грядущих поколеньях. Еще шажок, еще момент, а там — воспоминанья. Житья момент — один фрагмент в цепи существованья. ……………………… Вечерний звон, вечерний звон витает за горою. Проклятье злу, добру поклон и вечный мир с собою.ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ЖИЗНИ
* * *
Ты крепко верь, а вера чудо деет, Без веры всюду тлен и суета. Ввысь — дух, хотя и сердце в боли млеет — лишь твоя вера была бы свята́!* * *
О, чтоб проклятие насилью вечным было! Средь мира, на войне и всюду, Оно нас камнем придавило — Когда же камень этот сбросим, люди?* * *
Настанет день, отвалятся все плиты, И воины, вооруженные брехней, Упадут ниц. Воспрянет правда, вся избитая, Смертельным саваном укрытая, Поднимется — и мир пойдет за ней.* * *
Мой друг, люби житье, Людей люби, природу, А кривду брось в небытие, Как камень в воду.* * *
Не сожалей! Склони на грудь Свое чело, любовью ясное. Хоть день достойны правды будем, Мы, как святые, выйдем к людям С тем светом, что во тьме не гаснет.* * *
Кто-то зовет меня в день и в ночь, Из тихой хаты гонит прочь. Не знаю кто, куда пути, А должен идти, должен идти!* * *
Меж нами море крови, Меж нами реки слез — Где ж тот челнок любови, Чтоб нас он перевез?Петро Карманский © Перевод Г. Некрасов
«Подруга дорогая — ностальгия…»
Подруга дорогая — ностальгия — По бездорожью моего скитанья, Ты для меня любовь и литургия — Шагаешь рядом по путям изгнанья. Прядешь нить совести от тех проталин — В которых бьется скорбь родных развалин. Рисуешь мной покинутые нивы — Они пьянят сильней настоя меда, Они с далеких лет в сознанье живы. Разлука — лед, но ты — моя свобода! И ты растопишь в холоде чужбины Разлуки лед, словно в песках пустыни. Ты — яркая звезда во мраке ночи. На океанских волнах и в Канаде. Средь разрушений римских твои очи Сияли радугой и были мне отрадой, В них видел я засеянное поле Моих — и Черногорья, и Подолья.«Повсюду немота… А в дыме от кадила…»
Повсюду немота… А в дыме от кадила Сидит всесильный царь — родитель наших бед. Из-под короны взгляд — на подать и обет. Не замечает кровь, что нашу дань обмыла. Из-под короны взгляд: на купола, хоромы — Пылает солнце в них. У нас же мрак всегда. Он смотрит и на нас, бросая иногда Из-под прикрытых век то молнии, то громы. Уже не первый век сидит он, крест целуя, Возводит на костях своих людей дворцы. Что наша боль ему — богатств полны ларцы. А мы кричим ему: хвала и аллилуйя!РОДНОМУ КРАЮ
Родной мой, отчий край далекий, Ты богом и людьми забыт. Лежишь, как ратник одинокий, Израненный… но не убит. Кругом разгуливает горе, За упокой души трубя. А ветер панихидой вторит По нам, покинувшим тебя. Сорвало нас, как листья с сучьев, И бьет судьба в других краях. Трудна скитальцев доля сучья — Жить нищим на чужих хлебах. Я жду конца… Нет! Нет! Жду — боя! Еще я жив и силы есть. И я клянусь перед тобою: Отца не запятнаю честь. Приду к святым твоим могилам И молча упаду в траву. Напьюсь твоим простором милым И оживу!«Кругом, как в зимней келье сердца»
Кругом, как в зимней келье сердца, Безлюдьем дышит пустота. Ни слова молвить, ни согреться — Стою часовней без креста. Где храм звенел — развалин груды. Повсюду заросли и вонь. Иконы растащили люди, В лампадах не горит огонь. И боль в глазах от этой дали. Ищу, с кем душу отвести. Все серо. Небо в душной хмари. Вой ветра — скорбный стон в груди.«Как мне дойти до края поля…»
Как мне дойти до края поля, Вдохнуть зеленой красоты И, позабыв недугов боли, Взглянуть на темные кресты. Услышать реквием трембиты — Хранительницу доли гор, И над могилами забытых Луною высветить простор. Пить терпкий плач влюбленным ухом, Прижать к груди зарю сильней И крепнуть мужеством и духом Земли родимой, как Антей. Чтоб превозмочь невзгоды смело, Тревоги, грозы пережить, Чтоб из глаз Каина сумел я Слез покаяния добыть. Прийти, обнять родного брата, Освободить себя от пут, Собрать все муки, все проклятья И отнести на Божий суд.«Поразметали бури, громы…»
Поразметали бури, громы Нас по дорогам разных стран. Тоскливо окнами хоромы Глядят, как буйствует бурьян. Гей! Гей! Никто не знает, сколько боли В сердцах усталых проросло. Да, потрепало наши доли, А счастье в сны лишь занесло. Гей! Гей! К забору не падем под небом, Глотая пьяную печаль. Кидают богачи нам с хлебом Насмешки, брань… О, как их жаль! Гей! Гей! Года мы носим за плечами В мешках и продолжаем жить. Нет, мы не сделались рабами — И вольными не смеем быть. Гей! Гей!«Уши опустивши, смиренно хвост поджав…»
Уши опустивши, смиренно хвост поджав, Ко всем мы ластимся при встречах на дороге, Юлим мы перед теми, кто: тю, тю! — сказав,— Даже тогда, когда нас обругают строго. Храним и день и ночь хозяйское добро, Облаиваем всех, кто подойдет поближе. Лелеем рабское пятно, как гусь перо. Нас крутит жизнь в кольцо, сгибает ниже, ниже. Мы, как собаки, рады кости панских ласк. Скулим порой, что жизни путь у нас не близкий. Но снимут с кола плеть — и в теле дрожи пляс, Покорны вновь, как псы, и кланяемся низко. Бывает, снятся нам весенние поля, Но с поводка нас почему-то не спускают. Мы и не против, нет… Мы лишь глядим, моля: За что же люди нас медведями считают?CODA[19]
Кричите вы, что в песенном моем надрыве Нет жизни, есть лишь плесенная гниль гробов. Что на своей постылой, чуждой людям лире Я воспеваю только стон и плач рабов. Но я — сын времени. Боль моего народа, Скорбь гневная его и дум усталых гуд Звучат в моей душе сильнее год от года, И песнь моя — их справедливый суд. И я клянусь, покуда сердце бьется, буду Не только в ожиданьях розовых мечтать — Нет, нет! — я честным словом праведным повсюду В бой за святое дело не устану звать. И не учите вы, что петь мне подобает И с кем я должен продолжать свой трудный путь. Кругом кромешный мрак. Но сердце точно знает. С кем надлежит мне быть… Гнев — разрывает грудь!«Вы видели тот край, где царствует неволя?..»
Kennst du das Land?..[20]
Вы видели тот край, где царствует неволя? Окутала народ обманом слепота. Под крышей хилых изб ютится злая доля И бьется крик людской: куда идти, куда? Вы знаете ли этот забытый миром край? Вы видели тот край, где смех и голос скорби, Безумствуя, в слезах танцует на гробах, Где свет — являет грех, народ бесчестьем горбит, Где отчуждение, страх застыли на губах? Вы знаете ли этот забытый богом край? Вы видели тот край, где в облаках годами Украдкой ходит солнце на тоненьких лучах, Где зависти толпа пророков бьет камнями И, буйствуя, богов ниспровергает в прах? Вы знаете ли этот покрытый смрадом край? Вы видели тот край, где ненависть в почете, Где все живут в грязи, друг к другу охладев, Где блеска красоты вы просто не найдете, Где к милосердью клич встречает дикий гнев? Вы знаете ли этот пропащий, бедный край? Вы видели тот край, где водопадом тризна Шумит, простой народ дурит страшней вина, Где возмущенья взрыв — лишь белой пены риза? Вы знаете, где эта треклятая страна? О, это же моя забитая Отчизна!ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ПРАЗДНИК
Зал в свете канделябр. Все в пестроте цветов. Тараса на руках сквозь зал несут из ложи. Под ним сиянье лиц и море голосов. Лихое декольте и строгий фрак… О, Боже! Пришли Шопен и Григ. Здороваются с ним. Сей праздник здесь собрал любимчиков салонов. Стоит он между них, счастливым и немым, Но мысленно он там — средь публики балконов. Приветствует его оркестр и народ. Тарас — в кругу великих украинских сынов! Глядит на все шутя, кривит улыбкой рот: «О, как же очутился я средь таких панов?» А вдруг бы правда ты пришел сюда, поэт! Ты всех любимей нам — но это лишь сладкий сон, К тебе не подбежит задиристый эстет И не поправит фрака, не скажет в нос: «Pardon». Их поразил бы всех твой старенький кожух, Вид грубоватых рук, мужицкие манеры. Они враз закричали б: ты — вредней холеры! И вновь загнали б в гроб… Им надобен — твой дух!ГРАЧИ
Du spielst vortrefflich spielst hoch, Grossmiitig, ohne Sorg, Dein Spiel hat einen Fehler doch: Der Einsatz geht auf Borg. Grillparzer[21] За столом зеленым с пьяной страстью Шумит никчёмный нервный разговор. Вы, беззаботно веря в свое счастье, Снимая с душ забот ненужный вздор, Играете над тихою рекой. А люди стонут скорбью вековой. В дрожащих пальцах тайный веер страсти — Горят глаза, в сердцах бунтует кровь, Принять готовые и карт напасти, И боль судьбы — сулящую любовь. Пас!.. Взятка!.. И — споткнулись, и — ушиблись. Ничего не сделаешь — ошиблись. И так — идет азартная забава, Надеждой глупой полнится игра. Здесь равнодушие живет без права, Здесь завтра будет так же, как вчера. Хотя земля уходит из-под ног — Вновь карты, ставки… Помоги вам бог. Смотрю на них: как загребущи руки, Зуд алчности на бледноте лица. В глазах дрожит невысказанность муки Под маскою застывшего свинца. Не знаю, плакать, что ли, мне сейчас Иль жечь коленым словом этот класс.«Если б слышал я смех, что кинжала острей…»
Если б слышал я смех, что кинжала острей, Что сердца режет холодом стали — Я смеялся бы так, как сто тысяч чертей, Чтобы вы о покое не знали. А потом я скрутил бы увесистый кнут И, чтоб кровью вы враз прослезились, Отстегал бы вас всех, отстегал бы вас тут, Чтобы вы и любви научились. Если б видел я плач, что сердца леденит. Как аккорды могучей сонаты, Я ревел бы, как море, что скалы дробит. Безутешней, чем малый дитяти. И всю грусть, что за жизнь накопилась во мне, Я собрал бы, как строчки канцоны, И орал бы пророком, чтоб вас и во сне Била дрожь надмогильного звона. Если б знал я лицо, что поможет забыть Все душевные боли и муки, Поспешил бы я крест забытья положить, Протянуть для согласия руки. И простил бы вас всех, безрассудных слепцов, Кто о голоде в церкви лишь судит; И в бездонность души гнев запрятать готов Со словами: «Опомнитесь, люди!»К РАЗГРОМУ ПОЛЬСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА (Июль, 1920 г.)
Свиреп могучего Аттилы гнев. Но рядом смерть — с лицом его раба. Он понял это и окаменел: Вот и его предрешена судьба. Затих… В глазах — земля горит огнем; В душе постылой — дрожь, смертельный страх. Окончен карнавал. Обман кругом. Лежат сокровища французские — всё прах. Вдали — руины, слез кровавый дождь, Проклятья, ненависть и дикий стон — Все это на земле оставил вождь. На доброе был неспособен он. Такой от дедов получил завет: Грабеж, насилие… Конец мечтам. Тысячу лет пугали гунны свет. Подвел черту всему Аттила сам… Закончен эпилог Ягайлового сна: Последний землекрад от нас ушел… Судьба его коварна и грязна. И пал еще один кровавых дел престол.«Читаю книгу сердца твоего…»
Читаю книгу сердца твоего. Но что ты думаешь, я не узнал. И не увидел в книге я того, О чем с тревогой эти дни мечтал. Ты предо мною грустная стоишь — Оранжерейным тоненьким цветком, Глаза туманит горестная тишь О будущем иль, может, о былом. В железной клетке держишь крик души, Как в дым вулкана, прячешь тайны мук. Не скрытничай, прошу тебя, скажи, Про все скажи, ведь я твой верный друг. Пойми, молчанье не заглушит боль, Не зарубцуют ран росинки слез. Не вечны наши дни с тобой… Позволь Узнать, кто столько бед тебе принес?«Перед тобой — улыбки расцветают…»
Перед тобой — улыбки расцветают. В тебе такая молодость огня, Что у меня, как жалюзи спадают Стальные с сердца, радостью звеня. Ты для других — сокровище лихое Своею солнцесильной красотой. А мне твое сиянье неземное — Как для цветка рассвет с живой росой. Прошу, если я стану вдруг немилым, Ты не спеши жестоким словом бить. Позволь уж — хоть и буду я постылым — Мне рядом тенью бессловесной быть. Я мысли тайные, конечно, скрою, Ища в глазах твоих веселый жар, Чтоб, отразив его, тебя зажечь собою — И малая искра родит пожар!«Спасибо я принес любимой…»
Спасибо я принес любимой: За то, что нет страданьям меры, За то, что я живу без веры, Что одинок, как пес паршивый. Будь счастлива, благодарю! Тебя ни в чем я не корю. И все же хоть один лишь день Прими моих терзаний тень И проживи его, как я. И вдруг тогда, отбросив лень, Ты вспомнишь, может, про меня — И будь веселой, как весна! Гуляй и смейся так, как я С тобою лишь в мечтах гуляю И без надежды страх скрываю…«Когда тебя встречаю я в трамвае…»
Когда тебя встречаю я в трамвае Средь безразличных и чужих людей, Глаза невольно сразу прикрываю И бессловесно выхожу скорей. Спешу забыть, когда мы были рядом. Те дни пьянили крепче, чем вино. Я тщусь запрятать их смятенным взглядом В завалы сердца, в темноту, на дно. Пусть там лежат ненужными вещами. Их блеск померк, уже не тот, что был. Ищи веселья с новыми друзьями, Меня ж забудь, как я тебя забыл…Степан Чарнецкий © Перевод Г. Некрасов
ГУЦУЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
Над зыбкой моею склонялись не няньки, а ели, Им Прут помогал. Под музыку ветра, кружась, танцевали метели, Шум хворь отгонял. При стаде овец я рос под присмотром мужчин На полонине. Я с детства влюблен в остроконечные шапки вершин В солнечной сини…ГОВЕРЛА
Вновь ты передо мной! Слепит меня твой снег. И, мнится, я иду в долину, как в весну. Жар солнечных лучей и ветра тихий смех — О чем же ты грустишь там, в ледяном плену? Взгляни: как веселит нас зеленью Хомяк, Как Поп-Иван короной бледною блеснул, Как шумный Прут в волнах полощет лета флаг — О чем же ты грустишь там, в ледяном плену? Гора, моя гора! Мне ль не понять тебя. В объятьях вечных льдов лежит твоя судьба, Душа ж твоя огнем горит в рассветный час. И летом, и зимой ты прячешь щедрость дум, Не веет над тобой ветров горячий шум. О, как же это все роднит, Говерла, нас.ГРУСТНЫЕ ИДЕМ
С родинкой терпения явились мы на свет. С лицом, что отразило увядших листьев цвет. Жизнь нашу озаряло звезд гаснущим огнем — Грустные идем. В осенней серой хмари прошли наши года. Безлунной ночи ветер нас нянчил иногда. В тисках судьбы жестокой мы жили и живем — Грустные идем… Над нами не играли оркестры бурных дней, Не грело солнце лета, гром был травы немей. Безропотно мы жили, забывшись полусном,— И с грустью отойдем…НАД ГОРНОЙ РЕКОЙ
Над горною рекою Я с думами стою. Душа течет тоскою В бегущую струю. Как облака повисли На камни брызги звезд. Искрятся в шуме мысли, Словно кометы хвост. Вода поет и стонет О чем-то о своем. И в волны глухо тонет Избитых далей гром. С застывших круч в долины Спешит — не удержать. Ее бурлящей сини И стужам не сковать. Когда льет непогода Дождей крутой навал — Как грозы с небосвода, Вниз рвется лесосплав. Каменья, словно души, Сорвавшись эхом с гор, Спадают с плеч Давбуша В вечнозеленый бор. Стою над пенной рябью. Ты — счастье, дикий рок. Больное сердце рабье Уносит твой поток. Оно средь бревен в дрожи Летит в слепящий блеск. Да, мне всего дороже Твой неумолчный плеск.«Я иду… Над ночной почерневшей стерней…»
Я иду… Над ночной почерневшей стерней Ветер свищет разбойною пулей. Я, как блудный скиталец, бреду стороной, Жажду сини взлохмаченной бурей. Я плыву… Мне бы остров свободы найти, Обрести бы желанную сушу. И с собою любовь бы туда привести, Отогреть бы застывшую душу. Я лечу… Я лечу сквозь бураны огня. Вечен путь мой средь сумрака смрада. Бессловесной печалью рокочет волна — Но мне жалости этой не надо.«Село в тоске…»
Село в тоске… Понурые деревья, Окаменев, качаясь, спят. А тучи рваные висят Над избами как древние поверья. Однообразны дней осенних лица. В душе — гнездится пустота. Спадает бисер слез с куста, Где пес бездомный по ночам ютился. Он убежал за теплым ветром в поле По жухлой, слипшейся траве. Мечтаю с болью в голове: Где ж мне найти хоть миг счастливой воли? Надежно бродит холод по подворью, А солнца не было и нет. Я у дождя ищу ответ — Он бьет и бьет по лужам с нудной дрожью. Вчера о прошлом лете месяц плакал. Сегодня целый день дождит. Стерня прибитая блестит, Да ветер воет бешеной собакой.«Твой голос — рыданье без слов…»
Твой голос — рыданье без слов, Молитвы крутая боль, Мелодия белых цветов, Дыхание утренних зорь… Твой голос — жестокий укор — И сердце болит сильней… Твой голос — надгробный аккорд Разбитой жизни моей…В ТЕМНУЮ ВОЛНУ
Вы представляете, как гаснут волны, Закутанные в тихий плач полей? В долину мирно сходит сумрак томный, На смену свету розовых лучей, Спешащему на запад, где за лесом Закат горит в густой тени ветвей… Давно уснуло солнце за навесом Сползавших туч по склонам синих гор — И ночь вошла великим геркулесом… Но кое-где ласкали звезды взор, И падал свет спокойствия на души — Манил к себе невидимый простор… В тиши слепой не уловили уши Шагов идущего с любовью сна. Лишь посвист ветерка покой нарушил… Волнение, что ж — осень не весна. Дыхание зимы — острей, чем гвозди. Короны гор укрыла белизна. Слова беспамятства блестят, как звезды, Молитвами — без звуков и без слов, А с неба падают уж снега грозди. А там гуляла журавлей любовь, Которые тогда над нами плыли. Но прошлое не возвратится вновь… А впрочем, в моем сердце не остыли Бушующие волны прежних дней. Они пока еще слышны и милы, Как песня улетевших журавлей…СПЕШУ В МЕЧТАХ К ТЕБЕ Я
Спешу в мечтах к тебе я под тихий плач березы, Страдаю одиноко во тьме беззвездной ночи, Никто не замечает невидимые слезы — Я тайны доверяю лишь стуже зимней ночи. Часами в снах лелею твои глаза и губы. О! как мила их сладость в тиши глубокой ночи! О! как, моя родная, твои касанья любы! Про это знает только лишь стужа черной ночи.«Я вижу, как сейчас, веселый шумный зал…»
Я вижу, как сейчас, веселый шумный зал И слышу голоса и нежный шелест шелка. Под ярким светом ламп с тобой я танцевал, И мы, кружась, тогда болтали без умолка. Та музыка звучит во мне и по сей час… Все помню, все храню и лишь одно жалею: Что дрожь руки твоей, огонь счастливых глаз Не смел прервать словами: «Будь, о будь моею!»«Я знаю, в жизни нам не по пути с тобою…»
Я знаю, в жизни нам не по пути с тобою, И не делить нам больше счастье звездной ночи. А впрочем, только я свое признанье скрою, Что за тобою следом ходят мои очи… Как тайных бубенцов серебряные звуки, Мне не поймать твой робкий стан рукою, Не высветить тебе мои святые муки. Я знаю, в жизни нам не по пути с тобою.ЛУННАЯ СОНАТА
Когда в полутьме смерть крылья расправит И дом мой заполнят длинные тени, Ты приходи, взгляд твой горе расплавит И сердце взволнует благом весенним. Розы украсят божественным чудом Волосы — солнцу подобной дугою. В милых глазах, за розовым гудом, Песня дрожит серебристой росою. Ты осторожно и молча присядешь, Скромно уронишь в меня свои очи. Белым цветком на груди запылаешь — Пока не погаснут лунные ночи. Вновь позовешь в сладкий сон озаренья Солнцу навстречу, под золото неба… Откуда же эта грусть у прозренья, Грусть, будто шорох, что ветер доносит Синью вечерней от сонного моря… И снова на струны — покрыты ржою — Кладу потихоньку белые руки. И слышу песню… Люблю я тебя. Живу лишь тобою. В тебе говорит печаль вековая, В тебе говорит свет зорь над горою, Багровым закатом, как кровью, пылая. Люблю я тебя, как шепот природы, Как дали степей, покрытых снегами, Люблю я тебя, как час непогоды, Люблю я тебя!.. ……………………… И все ж, когда смерть крылья расправит И дом мой заполнят мрачные тени, Ты приходи, взгляд твой горе расплавит И сердце взволнует благом весенним. Ты осторожно и молча присядешь, С печальной усмешкой посмотришь в очи. Белым цветком на груди запылаешь — Пока не погаснут лунные ночи…ПОЛУСВЕТ
Свободы тень — мечта моей печали, Крик сердца — тихо в комнату вошла И, где лежала безнадежность дали, Все алыми цветами убрала. Понурая — свет с солнечной игрою, Что тонет в мгле осенней серебром — Ушла… И панихидною тоскою Лихая доля стонет о былом.В КАЗАРМЕ
Бродит по темной казарме вечер, Неслышно ступает, трется о стены. От фонаря, что качает ветер, Бегают длинные нервные тени. А в уголке — солдаты у печки. Ведут беседу — предвестницу грома, Гневный огонь их ярче свечки, О письмах, что не приходят из дома, О близких своих (томятся в неволе), О том, как ночами мучают раны, О тех, недавно зарытых в поле, Про милый Чертков, Бугач, Бережани.ГДЕ ШЛИ БОИ
Далеко, но не в сказке, Где травы зло растут, В дикой прибрежной ряске Дремлет забытый пруд. Запахом сгнившей тины Пахнет его вода. Месяц в дремотной сини Плавает иногда. Когда же в день весенний Гаснут зори в волнах, Встают убитых тени, Кресты держа в руках.ПОДСЛУШАННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Пришла, села за стол Боль моя, хмуря бровь. Сказала, как же, мол, Ты оставил свой кров. Ответил: был пожар, Дотла сгорел мой дом. Жестоких смерчей жар Сжигал тучи огнем. От этой беды там Осталось восемь хат. Страшно! Я видел сам, Как погиб родной брат. Сказала боль: Постой! Ткешь наивный ответ. Кто бросил край родной, Тому и веры нет!ИВАНУ
Иван без рода, Иван без племени, Скажи, как прожил век, где был и что видал? В снегах студеных и в жаркой зелени — Как раб работал ты, а славу кто забрал? На сербских зорях потерял ты силы, А на волынской глине нажил себе горб. В родном Подолье брошены в могилы Все твои родичи — твоя любовь и скорбь. Стоят устало, седы от времени, Твои свидетели: березы, тополя. Иван без рода, Иван без племени, Как раб работал ты, а слава где твоя? Отец в петле погиб — не вынес доли. А ты, скажи, за что страдал: für Kaiser… Land?[22] Вам дали всем одни могилы в поле И надпись красочною: «Name unbekannt»[23]«ОЙ, НЕ ХОДИ, ГРИЦ…»
На сцене умер Гриц… Ходил по залу страх. Казалось, и моя душа упала ниц. И щеки, и глаза — в сочувственных слезах. Немая тишина… Лежал на сцене Гриц. Я в свете фонарей увидел муки рук, На бледноте лица дрожала тень ресниц. Он не был мне знаком: он мне ни сват, ни друг. Я на игру смотрел, как умирал наш Гриц. Его мне стало жаль. Да и себя мне жаль: Когда я упаду у пропасти своей, Не будет ни хлопков, ни безутешных слез. Вдруг увидал тебя — ты поправляла шаль, Твой смелый взгляд блеснул под чернотой бровей… О, боже! Пусть ее хоть прослезит мороз!«ТРАВИАТА»
Сон безголосый, онемелый, Вошел в поношенной рубахе И тенью серой в тихом страхе Метался в запахе камелий. Свет падал на девичьи щеки, Болезненным румянцем тая. Мечты дрожали, повторяя, Печальный бой часов жестоких. С кроватью рядом в белом платье Присела смерть в игривой позе, На гребне весело играя. Все о любви и все о счастье — О том венке, что на морозе Из душ людских сплетен для рая.НОКТЮРН G-MOLL
Эх, закутаться б в дым из крестьянской трубы, Одурманиться запахом руты, шалфея… Сад вишневый, ольхи серебро у избы — Мне бы слушать их шепот, хмелея. Думы шли бы, как сумерки с буйных полей,— Чтоб, прильнув к ним, стать звуками сытым. Эх, воспрянуть бы памятью радостных дней, Тех, что сердцем еще не забыты.ПРЕЛЮДИЯ DES-DUR
Я вижу в снах село весною: Сады в цвету, черемух белый пух, Кудряшки верб над тихою водою И, смежив веки, в волнах спящий луг. Уже пастух пригнал в деревню стадо. Закатный луч сгорел средь облаков. Родной покой — звенящая отрада — И синий дым над крышами домов. Все мнится — ты бежишь ко мне тропинкой По зеленям пшеницы, ячменя И ветерком певучим тянешь руки. В душе воспоминания. Тростинкой Качнулась боль — и обожгли меня Старинной дудки плачущие звуки.Михайло Рудницкий © Перевод Г. Некрасов
ОСЕННЕЕ
В долину бойкой пряжей дождь течет С куделей уходящих туч. Но вот закатный солнца луч К вечерне звоном пригласил приход. Свежее стал на взгорке темный бор, И воздух, как стекло, лучист, И шум ветвей, и птичий свист — Сливалось все в единый дружный хор. Окутал сон умытые поля, Погас багряный свет небес, И ветер отдыхать залез В стога, покой с вечерней мглой деля. В заботах спорых небо, супя бровь, Смотрело на осенний дол. Народ с надеждою с молебна шел, Топча устало падших листьев кровь.ЗИМНИЙ СОНЕТ
Вы любите зиму, я — знойный день. О холодах стихи писать я не могу. Меня не радуют: лежащий дол в снегу, и неба решето, и туч плывущих тень. Когда вокруг, сверкая как эмаль, слепит жестокой стужей белизна меня, я лишь сомкну глаза и вижу зеленя, простор и стежку, убегающую вдаль. И греет сердце мысль: не вечны холода, что солнце щедрое продлит мои года. И молодость, и жизнь прославлю я не раз. А может, глупо ждать весны погожих дней? Я, видно, позабыл — не вечна жизнь у нас. Об этом же кричат сединки все сильней.НА ПЛЯЖЕ
Забывшись в полусне, слегка прикрыл глаза — и сразу всполох искр — горячий сладкий свет. Лишь бьются две волны, бунтуя и грозя,— рождает солнце в них слепящий, яркий цвет. Смотрю на их игру и слышу голос твой. Мне вязкая печаль сжимает грудь свинцом, и думы — лодки след за быстрою кормой, и небо, и вода — лежат с одним лицом. Меж нами горизонт — летящая стрела. И небо, и вода — завидую я им! Меня целует солнце. Щедрость обожгла… А мне б у ног твоих лежать песком морским. Иль птицею взлететь в простор голубизны, тебя, кружа, согреть своей души теплом, рассыпаться песком, стать огоньком блесны — но лишь бы ты могла вновь вспомнить о былом.ЖДУТ ПЕРЕД ДОМОМ
Ждут перед домом кони. И вот последний раз Сбегаю по стежке в сад. Прощальный луч угас На небосклоне. Спешу, спешу сейчас, Дедуля, к вам! Как я безмерно рад, Как рад, Что иду сам! И вот последний раз Позволила судьба На наши тропинки Взглянуть. Листвой мельтешели осинки — То солнце, то сумрака муть — Когда утро, зарей горя, Помогало искать тебя По тихому следу — Зря. Иду уже. Скоро уеду! Нынче последний раз Прощаю сладким мечтам — Тебя здесь недостает… Даль зовет сейчас. Ты была повсюду — Теперь тебя нет там… И больше уже не будет. Нет и утрат… Конь землю копытом рвет. Укутанный в полумрак сад Усмехается в лунном пруду. Я иду, иду, иду!ТЕБЕ ЛИШЬ ОДНОЙ
Тебе лишь одной свое сердце открою, где спрятаны мысли мои и терзанья. Должна ты понять, что живу я тобою, и холод гранита — не скроет молчанья. Твой взгляд лишь — я верю — узрит мои думы, что прячу в словах я, как в листьях крапивы, они для сторонних — смешны и угрюмы, одеждой бродяги прикрыты игриво. Твои лишь слова разметают обиду — чужие уста бы зажечь твоим счастьем. Но немы они, безразличные с виду, проходят без робкой надежды участья. Тебе не обман я открою, а чудо, в которое верю — все в жизни бывает: когда разбираю я тайн своих груду, то кровь, холодея, вином опьяняет.ДЕРЗКОЕ ЖЕЛАНИЕ
Я дерзкое желание вымечтал себе: чтобы, как мысль, свободным и справедливым быть, и с небом, и с толпою в достойном мире жить и жар простого слова не растерять в борьбе. И вдруг, желая, встретил негаданно тебя — с живым, как время, взглядом — и я про все забыл: свободу, счастье, правду — в одно объединил. И стала жизнь, как вечность… Да, ты — моя судьба!ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Прощальный день. Обида жжет сильней. Не плачь над нами, сумрачное небо. Всю жизнь я в счастье верил слепо и вот терзаюсь праздной грустью дней. Но позднее прозрение придет, веслом взбурунит вольных мыслей волны, и день раскаянья, тревоги полный, подстреленным оленем упадет.ВЕСЕННИЙ ШУМ
Весенний шум дыханьем нежным света вдруг, одурманив счастьем, разбудил меня, и взгляд возлюбленной, лаская и пьяня, согрел лучами будущего лета. Ее лицо не стерло пробужденье. И, возвратившись в явь из розового сна, душа хмельными мыслями полна, в разливе их мне не найти спасенья.«Не беда, если Ваша душа ледяная…»
Не беда, если Ваша душа ледяная. Не беда, что себе, как и Вам, я не верю. В лютый день декабря ждал я светлого мая, Не факир, а буран веселился за дверью. Я, как Вы, не приемлю жестоких трагедий. Я хочу быть Вам нежным и добрым знакомым. Почему Вы грустны, неприступная леди? Если надо, судите, но добрым законом. Знайте: сердце — не бабочка, жизнь — не поляна, Что дубы-великаны ломаются бурей. Вы глядите из дальних Америк так странно, Будто мне целовать дает ногу Меркурий. Вы признаний в стихах не поймете — обидно. Годы, годы… Но чувства они не заглушат. Все ж шагать по земле будем вместе, как видно, И удары шагов бой сердец не нарушат. Но отныне не стану тревожить Вас словом. Только Вы не сердитесь, что я всегда рядом. Если ж я провинюсь, то не будьте суровы, Одарите меня снисходительным взглядом. И еще мне простите, что Вас обожаю. Чуб судьба теребит. Ветер времени тает. Мимо Вас пролечу я, подобно трамваю, А точней, словно лебедь, отбившись от стаи.«Вновь не пошел к тебе. А столько длинных дней…»
Вновь не пошел к тебе. А столько длинных дней листки календаря срывал, как с крыльев перья. Я рвал, но улететь к огню твоих очей не мог. Не мог, и вот совсем один теперь я. А мне бы хоть побыть незримым средь гостей, смотреть бы на тебя — я б ревностью не мучил. А нежный голос твой — мечта любви моей! — Он — музыка сквозь смех, он — солнышко сквозь тучи! Но я пойти не мог. Я наблюдал с высот завихренной души, смятением объятой. Что мог я всем сказать — лишь старый анекдот. Поэтому один пил чай с душистой мятой.РОНДО
Одна лишь ты хранишь мои мечты, далекие, согретые весною. Порыв свободы я в груди не скрою, но как поднять застывших сил пласты, поджечь угасший пепел лет искрою моей давно уснувшей теплоты. И кто ж меня разбудит тишиною, улыбкой ярче, чем цветы,— одна лишь ты! Все мысли спутаны лихой судьбою и в чаше горестей, как в омуте воды. Но пролетят невзгоды стороною, меня минует злая тень беды. Кто ж сердца жар готов делить со мною — одна лишь ты!«Когда же имя твое станет милым словом…»
Когда же имя твое станет милым словом, цветком целебным для моей больной души — ты не щади меня, пожалуйста, скажи, я мало женщин знал, к тебе же с чувством новым я смело поспешу. Когда же имя мое вдруг и ты полюбишь и станет дорого оно твоей душе, как песнь моя, давно звучащая уже, к тебе — ведь ты моею ненаглядной будешь! — я смело поспешу!«Может, завтра, может, послезавтра молодость уйдет…»
Может, завтра, может, послезавтра молодость уйдет. Явится другой. И, расторопной вольностью горяч, без стесненья (так в кино бывает) за руку возьмет, уведет, играя сердцем, — для него оно, как мяч. Но сегодня только ты лишь можешь, только ты одна, душу растрепать, как деревья треплет нежный ветер. Выдуй злые ревность и тревогу из лихого сна… Одного хочу: чтобы век наш был любовью светел!ЖДУ ПИСЬМА
Жду письма. Нет! Лишь слова: «Здорово… Встретимся…» Дни без тебя — угар и тьма. А ночи? Все снятся твои очи — пью любви нектар — Твои уста. В душе — пустота, Подумать дай: встречу ль тебя. Лихая судьба. Прощай, Счастье мое и тюрьма… И снова жду — ни письма, ни слова — Тебя!ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Скажу вам, не тая: вы — пленница химеры, царевна дум соседских и собственный каприз, то в небесах парите, то падаете вниз. Вы разная всегда — нет у меня к вам веры. Скажу вам, не тая: прическа цвета серы, румянец пухлых щечек и модной юбки плис, смех громче всех похвал и зубок белый рис — мне подсказали мысль, что вы пусты без меры. О сила впечатлений от этих горьких встреч. Не верю им, не верю, пытаюсь сбросить с плеч. В глазах моих не гаснет смешинок ваших свет. Когда иду от вас — то дерзкой, то желанной,— я знаю, для меня вы остаетесь тайной, и я несу с собой ненайденный ответ.Василь Пачовский © Перевод А. Струк
«Хоть говоришь ты: Не люблю…»
Хоть говоришь ты: «Не люблю Вас и любить не буду!» Но я люблю, и за твою Любовь я душу погублю — Ведь ты со мной повсюду. Меня прожгли твои слова И тела совершенство, О, как кружилась голова, Лишь улыбнулась ты едва,— И я познал блаженство. А возвратясь со встречи той С тобою, моя зорька, Терзаюсь я своей мечтой, В ней ты блистаешь красотой, И сладко мне, и горько…«Ты косы распустишь — пусть хлынут…»
Ты косы распустишь — пусть хлынут По белым горячим плечам, Тебя мои руки поднимут, Прильну я к устам и очам. Уста, что малиновы, шею И белую девичью грудь — Жемчужной слезою согрею Под шепот: «Люби, не забудь!» И помни, что мы хоть мгновенье, Но счастливы были вдвоем, Что есть поцелуя смятенье, Что раем мы пропасть зовем.«Я не голубь сизокрылый…»
Я не голубь сизокрылый, Ты не белая голубка, Мы голу́бились-любились, Я — как любчик, ты — как любка! А твоя сестра меньша́я — То не сокол по-над лесом, А ведь так нас напугала, Как застала под навесом.«Фиалку в лесу повстречаю…»
Фиалку в лесу повстречаю,— Как взгляд из-под милых ресниц; Печальные песни слагаю,— Они превращаются в птиц. Летят эти птицы на вишни, А те на погосте цветут, Обсядут могилку, и пышно Цветы из их пенья растут. Фиалки в ограде унылой — То очи ее. Не виня, То очи нетленные милой Глядят из земли на меня.«Почему же ту дивчину…»
Почему же ту дивчину Все встречаю я над морем? Вслед ей молча взгляды кину Я, своим убитый горем! Все в ней пышно, в той красотке, Смотрят люди восхищенно — Что за грация походки! Сердце бьется учащенно! Сердце, сердце, жизнь сурова, Прошлой боли тебе мало? Или хочешь, чтобы снова Твою верность — зло топтало?..«В безумье, печали, измене…»
В безумье, печали, измене Сгорела любовь, как в огне, И брак наш ее не заменит, Семейная жизнь не по мне. Мы вдоволь шампанское пили, А борщ нам до смерти не пить, Мы в прошлом венки позабыли,— И в брак ради шутки вступить? Еще тебя кто-то полюбит И примет твой борщ за вино, Когда же день свадьбы наступит, И я похвалю твой венок. Из скуки, раздоров, обедов Свой дар жениху поднеси, Печаль и безумье изведав, Я песню сложу для красы.«Душа моя ангелом белым…»
Душа моя ангелом белым Летит еженощно, летит Над полем, к печальным пределам, Где лада над озером спит, А месяц так светит… Под звездами в поле ей спится, Под шепот шумящих берез Спит лада, и ангел кружится Над нею, рыдая без слез, А месяц так светит… Тот ангел — душа моя — ночью, Дрожа, совершает полет… А лада откроет лишь очи И, вдруг рассмеявшись, уснет… А месяц так светит…«Тихо, тихо в воздухе хрустальном…»
Тихо, тихо в воздухе хрустальном, Плещет море, ластится к ногам. Я к тебе склоняюсь, словно к тайнам, Мой коралл, приплывший к берегам. Тихо, тихо в замке Мирамаре; Море беспокойно, будто кровь, Солнца пурпур ал, как на пожаре, Нас вспоила страстная любовь. Тихо, тихо гладит твоя ручка Мои кудри перед нежным сном, Но волна призывная накатит — И душа уж грезит темным дном…ПЕЧАЛЬ
Гаснет солнце, плачет птица, На причал туман садится, Тянет шлейфы с берегов.. Шлю привет родному краю, Издалёка посылаю Песню тихую без слов. Звоны бьют, заря восходит, Лунный свет от волн исходит, Но влечет меня домой,— И брожу я невеселый… Люд родной, родные села, Шлю я вам привет ночной!«Слышно в доме: — Он приехал!..»
Слышно в доме: — Он приехал! Он! — и стали все галдеть. Моя милая хотела Платье новое надеть. Да вот время упустила: Дверь уже открыл панок, С золотой цепочкой брюшко Важно внес он на порог. А за ним — ботинок желтый Появился, а потом — Весь панок, мордастый, толстый, В дверь протиснулся с трудом. Головою лысой, рыжей Всем поклоны отдавал И моей — моей! — любимой Ручку чмокал, целовал!..«Гей, кукушка, что молчишь ты?..»
Гей, кукушка, что молчишь ты? Накукуй мне счастье трижды, Пусть будет со мною! Но кукушка не рискует, Затаилась, не кукует, Как было весною. Не кукует голосочком, Ведь ячменным колосочком Подавилася! По садочку Дзюня ходит Да за ручку врана водит, Так судилося!«И вот уже к обряду…»
И вот уже к обряду Собрали мою ладу, Вести чтоб под венец. Уже у молодого, Вернее, пожилого,— Всем хлопотам конец. Невесту поп пытает — В брак вольно ли вступает? Жених — как на костре… А та на мать взглянула, Тихонько — «Да» — шепнула. Черт чихнул во дворе.«На крыльях песен всех моих…»
На крыльях песен всех моих Я лишь тебя из всех других Возьму, любовь моя! И понесу в далекий край, Ведь я с тобой познал твой рай, А свой утратил я! Гляди в подоблачную даль, Там, Дзюня, и моя печаль В напеве журавлей. Я за собой их поведу, Мой голос грустный на лету Покажется слышней. О, где пристанище мое? Познаю там ли забытьё — В далекой стороне? А если нет — услышишь плач Ты в ветре, и сама поплачь Ты, Дзюня, обо мне!.. Ведь кто в далекой стороне Поплачет, Дзюня, обо мне?.. А ты в тот скорбный день, Как грянет похоронный звон, Услышишь, словно бы сквозь сон, Моих напевов тень.«Прекрасные очи пытают…»
Прекрасные очи пытают Меня, и слеза в них чиста: Неужто все грезы растают? Горят, как рубины, уста. «Ты будешь моею?» — спросил я, Надежду на счастье храня, И очи ее оросили Жемчужной слезою меня. «Как ты пожелаешь», — шептала, С дрожащей душой, как во сне, Рубинами уст целовала, И слезы лились в тишине.«Свадебный кончался ужин…»
Свадебный кончался ужин, С пожилым законным мужем Восседала молодая. А две дамочки, болтая, По секрету шепчут всем: «По расчету в брак вступила, А ведь вон того любила, Но ведь нищ — все это знают». Взгляды на меня бросают, Я же — ножку гуся ем!.. Банда шпарит идеально, Все танцуют капитально, Враз поклоны отдаются, Ленты вьются, фраки гнутся, Очень элегантен строй! С молодой танцуем лихо, А она мне шепчет тихо… Что? Не будь так любопытен, Весть крылата, мир так скрытен, Хоть и грешен сам порой!..«Ой, как придет время складывать мне руки…»
Ой, как придет время складывать мне руки Перед лицом смерти и вечной разлуки, Слов не трать, не надо — Не скажи, любимая, ни сло́ва при встрече, Ведь на сердце лягут камнем твои речи, Оно им не радо. Я же тебя помнить, ой, не перестану, Помнить твои розы и на сердце рану, Как мне с ней смириться? Ну, а если скажешь горестное слово, Бросишь в сердце камень и кровь брызнет снова, Будет долго литься. Куда б ни упали слова — жгут нещадно, Упадут на камень — выжгут на них пятна, Выжгут на них пятна, А если на розу, что нам так отрадна, Почернеет роза, сгинет безвозвратно, Сгинет безвозвратно…«Изменой сражу ли беспечно…»
Изменой сражу ли беспечно, Женитьбой отвечу ли я — Краса твоя свянет навечно, А песня не сгинет моя. Испили с тобою мы сладость, Полынь в нашем сердце уже, И брак наш не стал бы нам в радость, Сто песен погибли б в душе. Ведь я же — из тех некрещеных, Которому ставят в вину, Что десять невест обреченных Сменяет на песню одну.«Роскошен пир любовный, гей!..»
Роскошен пир любовный, гей! Сольемся в страстном зное, И пусть горит твоих очей Пожарище шальное, Шальное, гей, шальное! Пылай в объятьях, шелк волос Развей на белом теле, Стони, ласкай, целуй взасос, Чтобы уста сгорели, В твоем сгорели теле! Кто роскошь ту испил до дна, Тому уж нет пощады. Горим, сгораем, ведь она Придет — пора расплаты, Расплаты, гей, расплаты!«Красавица дивная, кто ты?..»
Красавица дивная, кто ты? Смугла́, словно звездная ночь, Лазурь твоих взглядов и взлеты Ресниц — выносить я невмочь. Твой бюст, словно лилия, молод, И гибок твой стан, как змея. То в жар меня бросит, то в холод, Гляжу, будто вкопанный я. Кто б ни́ была ты, за тобою Пройду всю столицу насквозь — Ведешь ты меня за собою, Чаруя, и не́ быть нам врозь. И друг против друга мы стали, Меня твой румянец настиг, И ноздри твои трепетали,— Так свежую кровь чует тигр.«Смеются луг и речка, и полон смеха лес…»
Смеются луг и речка, и полон смеха лес, Ведь ты в моих объятьях хохочешь, нежный бес, Открыть мне позволяешь свою девичью грудь, На лоне лебедином мне не даешь уснуть, А русалка крадется в кустах… Мне смех твой позволяет распутать все шелка, Как ты прекрасна, боже! — дрожит моя рука, Над снежно-белой грудью уста мои в огне, И волосы, как бархат, ласкают плечи мне, А русалка застыла в кустах… На лоне пух лебяжий целую я сквозь смех, Горишь огнем пурпурным, хоть белая, как снег, И вот мы, обнимаясь, в купель реки вошли, Волна играет с нами, и смех звенит вдали… И русалка смеется в кустах…«Тихо, тихо, милая, оставим…»
Тихо, тихо, милая, оставим Круг, в котором нам с тобою душно, Бросишь дом свой, дни любви считая, И за мной отправишься послушно, И унынье не смутит мой ум… Тихо, тихо в дальний лес и в горы Вместе мы пойдем тропой одною, Устремимся в звездные просторы, Разольемся по земле росою, Понесемся во вселенский шум! Тихо, тихо доплывем до края, В сонном хрустале уснем навечно, И наступит рай для нас, родная, Где ни скорби, ни тоски сердечной, Ни желаний, ни мечты, ни дум…«Вился голос скрипки, тонкий, виртуозный…»
Вился голос скрипки, тонкий, виртуозный, Руку жал я милой, вечер был морозный, Кони ржали, грызли удила. Вышла неодетой, чтоб со мной проститься, Говорю ей нежно: «Можешь простудиться, Ты бы в дом, сердечко мое, шла!» Зловещ и глух возник шум тополей… «Ой, не вернусь, милый, не́ к кому вернуться, Хочу простудиться, лечь и не проснуться!..» А глазами говорила мне: «Рассказали люди, что другую любишь!» Бросил я надменно: «Лишь себя погубишь, Слухам доверяя по весне!» Зловещ и глух стоял шум тополей… И рванули кони — вспоминай почаще! Замелькали поле, и холмы, и чащи, И пронзила мое сердце дрожь. Милая вернулась в дом, судьбе не рада, Плакал голос скрипки: где же ты, отрада? Сердце, как же ты еще живешь?.. Зловещ и глух летел шум тополей…«Поругались две подруги…»
Поругались две подруги, Слушать ссору мне невмочь, Так бела — любовь дневная, Так черна — подруга-ночь. Ангел — днем, а ночью — демон Мирятся во мне одном: Ангела люблю я ночью, Демона люблю я днем. Днем на грудях демоничных Пью я сладкий виноград, Звездной ночью, размышляя, С ангелом иду я в сад. Но вчера увидел демон, Как я с ним пошел гулять,— И меж ними с новой силой Ссора вспыхнула опять. Не ругайтесь, две богини, Лучше помните о том, Что в душе, как на планете, Наступает ночь за днем.ВЕСНА
Живу, смеюсь печалям вслед, И вера в то со мною, Что песни, как вишневый цвет, Вам раздарю весною. Как разноцветна ты, весна, Везде, куда ни гляну! И звонким эхом даль полна, Донец звон струй шлет к Сяну! Как запах луга свеж и прян, Как стелется без края Пшеница, словно океан, От Сейма до Дуная! И мир от солнечных щедрот Изменчив повсеместно! Цветы повсюду вьются вброд, Кочуют пчелы тесно. Вон сом серебряный Днепром Проплыл, сверкая, мимо, Блеснул, — и тут же канул в нем, А вынырнет у Крыма! От гор Карпат до Святогор Бежит волна ретиво, Огни Донецка тешат взор — Всем фабрикам светило! Мой дух взмывает, как орел, Над Киевом, влюбленный В Отчизну, что народ обрел, И в край возъединенный!«Ту, что забыта мною…»
Ту, что забыта мною,— Казалось, что забыта,— Жемчужину мечты Я встретил и ликую, Ликую и тоскую, О, Дзюня, это ты! Была ты так коварна, Коварна, элитарна, Поверить ли глазам? Кто хочет, пусть поверит, Пусть верит, пусть измерит Ту перемену сам! Ведь ты глядишь не гордо, Не гордо, а охотно Мне ручку подаешь, Смеешься так любезно, Любезно и прелестно Приязнью в плен берешь. Да, ты меня узнала, Узнала, но не знала, Как я катился в ад, Теперь, когда поднялся, Поднялся, не поддался,— Мне посылаешь взгляд?! А было — ни привета, Ни слова, ни ответа, Ты ж гордою слыла, Теперь — заулыбалась, Разговорить пыталась И ручку подала. Что ж, я твоей игрою Обманут был, не скрою, Беда была лиха, Себя сдержу насильно, Насильно и бессильно Смеюсь я: ха-ха-ха!.. Но, засмеясь, заплачу И плачем не оплачу Мечту ушедших дней, Единую доныне; И вспомню при кончине О Дзюне, лишь о ней!Богдан-Игорь Антонич © Перевод Н. Котенко
ПЕСНЯ О ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ
В сани на рассвете запрячь четверку чалых — и вскачь, и вскачь! На ременной привязи резвые кони заржали,— только эхо вернулось от скал, от скал. Стегануть буйный ветер плеткой меткой — и вдаль, и вдаль! Закалим глаза далью безмерной, а сердце сменим на сталь, на сталь. По сходам серебристым — копыта золотые, как гром, как гром. Ветер неуемный жадную грудь насытит,— под крышей синего неба наш дом, наш дом. Снегов тишину мертвую вспороть восклицаньем ратным, и — нет забот! Навстречу солнцу раскроем объятья — радушно, радостно… В галоп, в галоп! В сани на рассвете запрячь четверку чалых — и вскачь, и вскачь! Напрямик одолеем преграды к счастью, и финиш — бесспорно — наш! Распускают кони седые гривы, пар из уст, как дым. С буйным ветром пышногривым! Слава вечно юным, вечно молодым!.. 1931ПРЕЛЮДИЯ
Такое в жизни выпадет мгновенье, что не решишь, откуда, почему оно грядет в ночную кутерьму и в полдень, осиянный вдохновенно. А видишь даль такую — сам не веришь!.. Отдышишься, кромсаешь в клочья тьму и слышишь счастье давнее, — ему забыл ты цену в суете и скверне. Холмы и топи пресекли дороги, взволнована морских поверхность грив — таков соревнованья путь пологий. И пусть чело кнут неудач изрыл,— ступенькою к победе недалекой становится для сильных каждый срыв. 1931СТАРОЕ ВИНО
В холодной тьме подземного чертога по стенам тишина — что зерна града. И пьяный, мятный запах винограда, и строй бутылок в паутине моха. Как в землю рало, в те ряды без вздоха вбивает время плесень — где пощада? Бутылки взбухнут в подземелье склада и вдруг взорвутся, как стручки гороха. Вино в песок уйдет, пунцовость роз всочится в зелень мохового прута. И мы, бывает, восхотим всерьез своей реальности разрушить стены, хотя бы даже, сбросив эти пута, влились бы в нам неведомые вены. 1931ОМЁТЫ
И шепот над равниною разнесся: как будто на весы, на горизонт укладывал в упитанный омёт косец набухшие мукой колосья. И зашумели вдруг: «Еще сорвемся». Так каждый колосок предполагал, а ветер лихо драл вихры лугам и гордые стога таскал за косы. Ведь лучше им, чем преть по чердакам или под жерновами погибать,— чтоб ветер их разнес по большакам, чтоб улететь на кружевах метелиц, О, кто не знал желанья убежать от серых будней ненасытных мельниц. 1931СОРЕВНОВАНИЕ АТЛЕТОВ
Судья с лицом распухшим — точно бонза, его свистка пронзительный сигнал, вокруг — страстей разбуженных накал, овации и мышц литая бронза. Победы кубок праздно серебрится,— беру его, оглохший и немой, а на земле лежит противник мой, поверженный в двойном нельзоне рыцарь. Я — бог, я — статуе античной равен, я царственно арену оставляю, хоть реет славы гром над полем брани. Бокал несу в притон свой, как в полон, я пить хочу, я жаждой понукаем, к бокалу приникаю — в нем полынь. 1931МУРАВЕЙНИК
Причудливы, как сказка, города — из рыжей глины и трухи померкшей. И нити улиц сплетены, как нервы, и рига, и тесовы ворота. Предела нет заботам и трудам, однообразны годы, как консервы. Где будет финиш, кто был зодчий первый?.. Лепи листок к листку — и так всегда!.. В подвале, беспросветном, как тюрьма, сосет кровь мошек алчущий вампир. Рядами над рядами здесь дома хвалой труду наполнили эфир. Подумай: шаг нечаянный впотьмах — и сапогом расплющен целый мир… 1931ОСЕНЬ
Дозревает день длиннющий ярым яблоком, льются листья лип, вьется воза скрип, возле леса волю лета славят зяблики. Плавится к закату солнца неба палуба, как отара в отаве, сизый сумрак истаял, в яслях яра ясный ястер травит ястреба. Пьяно пиано на пианино трав ветер сыграл. Скачут дни, как малые дети, плачет по полночи петел и ости, осокори, рой ос — сбылось: зри осень и о осень ень нь. 1931ПЕРВЫЙ СНЕГ
Осень прокатилась вдоль по полю — возом золотым. Над стернями измороси космы — колосится дым. Солнце с плеткою лучистой — огненный погонщик. Напрямик по небу тучи, точно в поле кони. На кудели кроны рыжей виснет паутина. О вершину опираясь, даль седая стынет. Ветер желтый лист с дорог сметает помелом, ветви голые грохочут в чаще бронзовый псалом. Белые цветы упали — близких снежных бурь предвестьем; в первый раз тогда поцеловала землю вечность. 1931ОКТОСТИХ
Веки день размыкает и отворяет сонное солнца око. Руки на ветер кладем благоуханный и дышим глубоко. Наши опустим ладони в зимне-чисто-хрустальную воду. Залетит с полей ветерок легкий, свеет дымку с тихого броду. Птичьими стайками обрывки облака трепещут крылами над лесом. Прядем сердцами из солнечной пряжи простую ровную песню. Отдадим без боли давний плач и грусть воде, лесам и полю и понесем над собою зонт неба по родному раздолью. 1931НИЩИЙ ПОД ЦЕРКОВЬЮ
Мохнатый, косматый, патластый, курлапый, да нескладный, да колченогий, клешнеподобные убрал под себя ноги, бельмом отдыхая на солнечных латках. Чумаз, космогруд, мух облеплен назойливым сонмом Прогнившие щеки, трухлявые зубы. Как мир наш устроен разумно! — равны мы под солнцем. 1932К МУЗЕ
1
Зачем явилась ты нежданно, стучась в мое окно? Зачем так сердце бьется странно и дума — заодно? Зачем явилась ты нежданно и засияла радугой в окне? Зачем так сердце неустанно ты будишь в беспросветном дне?2
Тысяча вопросов падает на наши уста, тысяча путей накрест ложится нам под ноги, тысяча денниц свои дарует нам дороги, тысяча огней пылает, — дальше темень пуста. и не ведаем, как повстречаем дни, что грядут, моряки-слепцы на корабельной мачте мира. Муза, изгнанная из действительности мига, как отыщешь средь путей мильена утренний путь?3
Я не сумею, я не в силах, я не в силах для музы отделывать куплеты, как алмазы, средь скверны, и заразы, и безобразий. Я только знаю: в этой пьесе некрасивой вот-вот, быть может, даже ныне увижу вдруг тебя в народа дивном чине.4
Зачем явилась ты нежданно, стучась в мое окно? Зачем так сердце бьется странно и дума — заодно? Зачем явилась ты нежданно, стучась в мое окно? Зачем так сердце бьется странно? А может, что-то зрит оно… 1932СТИХОТВОРЕНИЕ О СТИХАХ
В ладони урони чело, в ладони урони чело. В вазах строф цветут букеты слов изначальных. В глаза луны смотреть ты будешь сквозь стекло печали. Туман обнимет ночи зной, туман, что сеется золой. Вот месяц сел уже, расплывшись в воде кругами весь. И в листья голубые слов оденется раздумий ветвь, глаза прикроешь тишиною, как руками, — и в душе услышишь песнь, стихи услышишь. Не те, что источают альбомные духи,— услышишь лишь черенками мыслей привитые в сердцах людских стихи. 1933АВТОПОРТРЕТ
«Я все еще дитя, ношу в кармане солнце». …………………………………………… «Я — влюбленный в эту жизнь язычник». Из первой книги «Приветствие жизни» Весна и ветер средь высоких верхушек, сизых и червонных. О, вечно юная обычность пьянит бездонностью мгновенья! Я, жизнь свою продавший солнцу за сто безумия червонцев,— всегда восторженный язычник, поэт весеннего похмелья. 1933ТРИ ПЕРСТНЯ
Зегзицей скрипка на стене, кувшин червонный, ларь цветистый. В той скрипке — творческих огней сиянье в росах серебристых. В ларе цветистом — корень песни, хмельное зелье, воск и зерна да камни ясные трех перстней на самом дне легли узором. В кувшине том — напиток мятный и капли явора — глазурью. Струна моя, звони набатно любви и вешнему безумству. Витает крыша в вышине, кружит кувшин, ларь напевает. И солнце — птицею в огне, и утро на заборных сваях… 1934ЭЛЕГИЯ О ПЕВУЧИХ ДВЕРЯХ
Певуньи-двери, белый явор и старый, расписной порог. Так и несу из детской яви начало всех моих дорог, так память детства сохранила уже поблекшие холсты и так бедны охват и сила той песни, что играешь ты, что простодушием волнует, но без нечаянной слезы пейзажи прошлого рисует. И хочется вернуть азы — мальчишек радости и бури. Быстрей струится в жилах кровь, и счастье светится из хмури, и пальцы дружатся с пером. На ки́черах[24] седые травы, червонный камушек в руке. И ночь, как смоль, и день чернявый, как цыган в поле налегке. Ликуя, пылкие потоки, как парни на призыв девчат, летят к долинам недалеким, что в космах измороси спят, и курится цветочный запах, как дым из трубок в небеса. Трепещут ели в ветра лапах, почти беззвучно голосят, стекают в землю капли шума смолою из горячих пней. Повитый в зелень и раздумья, бредет олень на звон ключей. До срока солнце спит в колодце на мохом выложенном дне, затем оно кустом пробьется, чтоб возвестить о новом дне. Поет дубрава сном кудлатым, прадавним шумом понесло. На склоне пестрою заплатой к горе приметано село. Корчма — что куст, родящий звезды, мигает свечами в ночи. Сивухою пропитан воздух, скрежещут ржавые ключи. Смычок азартный рвут цыганы, раскатистый несется бас. Музы́ки гром, и голос пьяный, и струн хмельных распутный глас. Все десять пальцев нежат флейту, в экстазе дерево горит. Из бубна, как из жбана, хлещут вселенский гром, последний крик. Пылает скрипка, тихнет, вянет, и сердце бубна бьется пьяно. И об опришках[25] в сотый раз рассказывает в песне бас: святая пуля, злак незнамый, литая сбруя, злая борть, лихая ночь и смерть в бальзамах, что их влюбленным варит черт. А месяц, что певец-мечтатель, взирает на земное дно. И в гопаке взвивает платья дивчина, как веретено. Еще запомнил: над прудом искристой сетью утро тает. Еще запомнил: белый дом, из бревен сшитый и мечтаний. Еще запомнил: в солнце мост рудой хребет лениво тянет, как будто исполинский кот, во сне глаза сомкнувший злые. И дом, и мост, должно, стоят, но для меня давно уплыли и только памятью горят. Над мостом ворон алчно каркал, по речке солнце плыло в лес. Под этот мост на ловлю раков ходил и я в свои пять лет. Рвал о шиповник одежонку, губами кровь свою ловил. На звезды пялился мальчонка, да вот своей не находил. Седые небо здесь и очи у озабоченных людей. Дожди бубнят и стекла мочат, любого бедствия лютей. Под этим небом разостлалась земля смереки[26] и овса. Как мхом, окутана печалью страна задумчивая вся. Лишений знаком вырастает бурьян никчемный — лебеда. Под небом вечным и бескрайним у лемка[27] — вечная нужда. В таинственных пещерах Лада парням гадает молодым. В церквах Христов курится ладан и тянется молитвы дым. На небе только к синим зорям доходит тот призывный глас людей бесхитростных, бескрылых, всю жизнь целующих покорно алтарь, не воздымая глаз, устами, черными от пыли, людей, что из утробы пекла молитвы шлют Христу и Духу, чтобы послали в дом копейку на хлеб, на соль и на сивуху. Земля пустует, веет ветер, на ниве мох одеждой теплой, а люди, как и в целом свете, родятся, терпят, умирают, Проходят моры и потопы, повсюду множа пустыри, грохочут войны и стихают, меняются поводыри, года плывут, как буйны воды, и об опришках дождь осенний воспоминания выводит, Какое время протекло! Лишь лемковское неизменно векует нищее село. Туда стрелою слово шлю, туда на крыльях песни мчатся. В таком селе судьбу свою я начал, жизни величальник. В народе, чистом изначально, влачащем смирно доли пай, боготворящем неба тайны под знаком вещего серпа. И может, здесь бы и остался, подобно всем, смирился сам, к земле немотственно прижался, молясь ликующим овсам,— но Тот, кто серне легкость дал, пчеле — медовые цветы, безжалостные когти — рыси, мне слово песни даровал и зубы, чтоб в кольце беды я с ней по-рыцарски сразился. Безбрежен мир. Безбрежней сердца. И ветер никнет в той дали. Не уместить в стихе усердном ни звезд, ни неба, ни земли. В миры большие путь не мерен. Я с детства вверился ему. И впрямь, границ не знает время, но это ведомо кому? Тревоги, радости, измены, любовь, ошибки, ночи темень, девчонки серые глаза. Безверья мрак, и пыл любовный, удачи хмель, коварства залп, восторг свершенья исступленный, и непотребно сытый стол, и милость творчества святая — все жизнь дала, не утая. Ее здесь величаю я, взывая: пусть я нищ и гол,— пьяни меня! Концом пугая, пусть голову осыплет ржа, пусть снежная падет пороша,— вот дума, горе сокруша, восходит, как хрусталь, ясна. О юность, ты в миру одна прельстительна и непорочна. Теней напевы, белый явор и звонкий тесаный порог. Так и глядят из детской яви истоки всех моих дорог. 1934ЭЛЕГИЯ О ПЕРСТНЕ ПЕСНИ
Имею дом, при доме сад, и яблони — как песнопенья, и свежим молоком — роса, рассудка мед — моим влеченьям. Как шляпа, крыша в завитках, и дом расписан, как шкатулка. И вор орудует в садах, как в тьме привычной переулка. Стеною оградить высокой из сна и камня — на века!.. Растет в саду веселом солнце цветком похмельным табака. В сад выхожу, и в юном сердце, на миг не знающем затишья, зеленое всплывает скерцо невесело поющей вишни. В сад выхожу в часы заката, и вечер, как струна, дрожит, Жизнь удивительнее сказки В одной минуте пережить! В сад выхожу, слова срываю, деревьев вдохновенных дань. О юность, красоте без края взгляни в глаза и руку дай! Сгорает вечер невеселый, мелодия увянет днесь. в кувшин бросай за словом слово, свою молитвенную песнь! Огнищем солнце догорело, глаза пожаром опекло. В пылающем венке несмело склоняю светлое чело. Отвечерело. Откурилось. Уж ночь кадильницей дымит. Как обруч, солнце укатилось, луна на пастбище спешит. Лиловая клубится муть, вот звезды — вышивкою ночи. Ты, парень, осторожней будь, весна росою выест очи. В ночь ландыша течет дыханье и полнится медами кровь. Хоть шаг твой выверен веками, В смятенье сердце бьется вновь. Хозяин сада — юный лирик в звучанье ночи не спешу. В руке уверенной и сильной ковш зрелых месяцев держу. Шумят деревья безмятежно. О чем шумят? — Любовь и сон. Так вечер колыбельной нежной захватит сердце в свой полон. Цветов ночных чудесны тени, деревьев души в них живут. Они бы к месяцу взлетели, да ветры в путь их не берут. О грусти радость и безмерность, слова — что стрелы в небеса! То месяц, музыкант незрелый, готовит к выступленью сад. Мечта мятежна и сурова! Пути в безвестности пылят. Нет, не воротит небо слова, и не отдаст его земля. Деревья слушай! Их признанья в тетради ночи запиши! Как клен лелеет крону-знамя, следи полет своей души! В тетради той златые буквы, судьбы страницы шелестят. Ее вы не возьмете в руки, ее лишь сердцем можно взять. Как звезды спящие в глуби, объятые волшебным сном, пробудятся слова любви в душе, обретшей крылья, и ответит дружной песней дно. Ответят дружной песней клены, ответит дружной песней ночь, и шаг затихнет у костров. Воображеньем вдохновленный, наметишь контур ровных строф. Хмельное сердце в этот миг пусть с высоты увидит мир, пусть над вселенной правят пир, пусть вознесутся в высоту мечты, смятенны и крылаты! О слово в жизненном чаду, тебе ли прозябать в палатах? Я слышу, как приходишь, черный напев, гнетущий и дурманный, как ищет содержанья форма, та, что вместит мой ужас ранний, и эту радость день по дню, и всю бессилья глубину, и слово в сердце я воткну — кровь брызнет, словно крик напасти. Умру в отчаянье и счастье. Пометил двери знак фатальный — то перстень песни изначальной. 1934НАВСТРЕЧУ
Растет малец кустом малины. Подковы за селом звенят. Вот ласточки на свитках длинных фиксируют начало дня. В союзе солнца и телеги навстречу выеду весне. Приглушено парящим снегом звучание апрельских дней. 1934НА ШЛЯХУ
Рассвет, исхлестанный ветрами, взлетит над стылою водой и заблажит в прибрежных травах, цыганистый и молодой. Река флиртует с дном певучим, по ней волною ходит дрожь, и день хоронит месяц в кручи, как скопидом истертый грош. Лещина под косою плачет, звенит, как медь, широкий шлях. Идет босой и бесшабашный парнишка с солнцем на плечах. 1934КЛЕНЫ
Поникли сиротливо клены, штудируя весны букварь, опять молюсь земле зеленой, и сам зеленый, как трава. Поросший мохом лис ученый создал поэтику для них. Поют трава, и день, и клены, стрела луча лепечет стих. 1934КОЧЕТ
Заря мелькнула, как стрела, и песня искрою угасла, и только с мокрого ствола роса по капельке стекла, как речь, легко и ясно. Уже земли изогнут контур в такой законченный овал, и ночь уж начала кончаться, кострищем медленно исчахла. Вот утро синим возом едет, сноп солнца дарит людям степь. Шумит крылами красный кочет — певучей меди серп. 1934СЕЛО
Коровы молятся на солнце, что всходит маком пурпуровым. Тоньшает стройный тополь, словно задумал птицей стать огромной. Из воза месяц выпрягают. Широкое, льняное небо. Простор проветренный — без края, в лиловой дымке — леса гребень. Кужель, и люлька, и малина. Листва в потоках с гор неблизких. День изливается в долину, как молоко парное в миску. 1934СУРОВЫЕ СТИХИ
Не уйти, и не тщись, от жестокости дня, не уйти ни в стихи, ни в мечтанья. Что ни песня, фальшивая вскрикнет струна под суровых рассветов сверканье. Из объятий застывших не вырвешься ты,— дню в глаза посмотри без боязни, хоть напротив прибой расшибает мосты, нас безжалостным вызовом дразнит. Не укрыться, не тщись, в одиночества тень, за ладони от мира не прячься,— острый отблеск и отзвук волны долетел сквозь туман, хоть и впрямь непрозрачный. Не укрыться, не тщись, под шатром красоты в пьяном чаде строфы непритворной. Ветер дней, ты слова разметай, как цветы, разнеси по стомильным просторам. О поэт, и не тщись, ты уже не уйдешь, знать, смириться пора с наихудшим: может, даже себе ты обдуманно лжешь в этих строках, хмельных и певучих? 1934ГОРЬКАЯ НОЧЬ
Спят люди в городе угрюмом, под одеялом нянчат сны. Твоим мечтам, как в тесном трюме, в просторах каменной весны. Галдеж простуженный смолкает, и крылья распростер покой, и полночь маком угощает, но тишь не дружится с тобой. И вот юнец чернявый никнет в ладони тяжестью чела. Нет, сущность мира не постигнешь, стихом не вырвешь корни зла. 1934ПЕСНЯ О НЕИСТРЕБИМОСТИ МАТЕРИИ
Забравшись в чащобу, обвитый туго ветром, накрытый небом и окутанный стихами, лежу, как мудрый лис, под папороти цветом, и дохожу, и стыну, обращаюсь в камень. Растений реки паводком текут зеленым, часов, комет и листьев непрерывный лепет. Зальет меня потоп, расплющит белым солнцем, и тело станет углем, песня будет пепел. Прокатятся лавиной тяжкие столетья, где жили мы, восстанут без названий пальмы, и уголь наших тел заблещет черным цветом, и в сердце мне вонзятся зубья острой стали. 1934ДНО ПЕЙЗАЖА
Коровы, дыни, белый ангел на лопуха зеленой плахте. Кто сыплет соль на сердца раны и возмущает темный страх твой? Что, неоправданный, нелепый, кротом незрячим корни роет, играя, как кларнет подземный, в кипенье форм и красок рое. И как родился без причины, без повода уйдет нежданно. Природы лоно зреет синим, и солнца круг, и круг земли, в котором коровы, розы, дыни, ангел… 1935ОТЧИЗНА
Желтый ирис засиял на мокром луге, словно в годы детства в кучерявой мгле. Легкой ласточкой летит стрела из лука — это стре́лы лет. Осы пестрые в пунцовых роз фиалах, звезды мокрые дымятся в сизый вечер. До сих пор свет юности твоей пылает, хоть еще десяток лет берешь на плечи. Слушай: сына своего зовет Отчизна безыскусным, самобытным, вечным словом. Воды отразили подоснову жизни: карие глаза и мелодичность мовы. 1935ОТРЫВОК
Боюсь гасить мерцанье лампы: во тьме сильнее страха дрожь, и ночь, разбитая на ямбы, вонзилась в сердце, словно нож. Тут не до сна! Горланит кочет, часы звонят, и месяц виснет. Мой сон, мой голос неспокойный в моей трагической Отчизне. 1935ХАТЫ
Растут под ветром буйным хаты грибами красными исконно; дозорным — пик горы косматой… Село, хоть нынче ты спокойно? По давним войнам и по сварам в лесах багровых воют лисы. Еще свежи следы пожарищ,— а над селом комета виснет. В реке девчата солнце моют, и вербы выстроились рядом. Весной здесь пашут, ткут зимою, и власть бунтовщиков карает. 12 апреля 1935 г.ЭПИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Под знаменем латуннолистых буков, где солнце покатилось огневой тарелкой, шмелями хлопцы смуглые в излуках гудут, и пыль столбом рудым встает над речкой. На бурунах травы, в зеленом дыме качаются коров массивные колоды, заря с зарей встречаются над ними, под ними гомонят живительные воды. Цветов сонливых токи синим дымом струятся в зрелость ядер, жажду роста будят, зерно взбухает, оказавшись в тучной влаге, мужчины пожирают жадным глазом ладных дивчат широкобедрых, смуглых, пышногрудых. Горбатый ангел леса спешно ложе ладит. Пергаментом свернулись неба зодиаки, они к нам крестами нисходят ночью, и грезы наших вер горят стожарным маком. И звезд угасших искры озаряют очи, зовет петух горластый синий месяц — то пиршество красы, рождения победность! Так возникают вера и державный строй. Зверье и боги. Общество содружеств. Бесстрастный вечер взял кормило в руки, и синий стяг уже на вечном светит месте. Я в сотый славлю раз безудержную жизнь! 27 октября 1935 г.БАЛЛАДА О ГОЛУБОЙ СМЕРТИ
В кольце фантомов каменных — дворов кошели, как крылья мрака, вьются узкие ступени, на горле ночи арка, как тугой ошейник, зловонье плесени, унылость, отупенье. Искромсанный, забрызганный клочок бумаги, поспешные слова: «Виновных не ищите, никто не виноват…» В лаптях, неслышным шагом бредет по крыше месяц, прогибая шифер. Из вскрытых проводов — пар голубым букетом, кровь синею струей — из медной жилы вспухшей. Звучит печали соло на призрачном кларнете, во сне притихший шкаф вдруг вскинулся в испуге. Пылает голубой ручей, как вдохновенье, два сердца усыпляет безумия шепот из дна сознанья. Газ голубым цветеньем — в лоскутья тишины! Ночь — в исступленный омут! В кровать, ладью довольства и хандры влюбленных, мышь лунная вползает, куцо и цинично. Двух тел, в последний раз навек переплетенных, слепые корчи боли и услады нищей. Над ними наклоненный синий ангел газа венчает голубым огнем, как веткой мирта, бросая, как лилеи, души их в экстазе,— так и сгорят, как две последних капли спирта. 24 декабря 1935 г.СЛОВО О ЧЕРНОМ ПОЛКЕ
О слово бьется слово — бронзы отзвук вещий. — Осанна, не хула разгромленным полкам, прореженным рядам, развеянным когортам! Хвала всем тем, кто пламенно целует сестру на поле сечи, а тем, которым страх тростиной спины гнет, покажем нашу гордость! Разгрома эхо бьет по нервам из глубокой бездны вероломства — громов, искромсанных в куски, в ловушку угодивших, стон прощальный. Смотрю в потемки, где излуки скал и водопадов нити ловко, как стрелы, тучи кривоклювых птиц швыряют вдруг во вражьи дали. Светает. В обороне полк. Анабазис под небом африканским. Лес вбитых в небо копий колет месяц, кровь течет струею ржавой, и вождь эбеновый с серьгой зари, языческой раскаты пляски швырнув за тучи, словно вызов, проклянет лихого бога жалкость. Ни капли жалости — штыки в тела вонзаются, как в землю лемех, на тучном поле черных тел штыки посеют зерна строгости и лада, чтоб до седьмого каждый знал колена, память чтобы вечно тлела, чтоб внуку сын и внук потомку сказочным богатством завещали послушанье власти. И густо стелются друг возле друга, словно джунгли под пилою, и в черепах расплющенных мозги колышутся янтарным маслом. Кто сеет кровь, пожнет враждебность. Так примите же крещенье злое! Зеленоглазая княжна, о муза мстителей, в грязи валяйся! Драконы, пьющие бензин, сродни орлам, а также носорогам, драконы, что плюют слюной змеи — огнем и оловом зернистым, являются, как будто из пещер луны уйдя, и им под ноги метла кометы, пыль вздымая тучами, метет людей, как листья. На кучах черных рук и черных ног лимоном слизь и кровь — кармином, смертельной пеной крик из уст, растерзанных ружейным поцелуем. Тюльпаны недр подземных — расцветают цветом пурпуровым мины, салютами из бездн земли на этом смерти празднестве ликуя. Орудья распускают вееры дымов, как крылья перед взлетом, срываются и мнут колесами завалы тел и хлам металла, на черных челюстях пузырится слюна, глаза залиты потом, пыль с блях, и слизь со ртов, и крови грязь язык зари скребет устало. Хрипят надсадно глотки, и удушьем мерзким пальцы криво корчит, как листья, сплющены ладони — смятые желаньем жизни мальвы, в последний вспыхнув раз, проклятья небу посылают богоборцы. Любые ценности за жизни миг! Лишь ночь врачует гениально. Лопата солнца режет желтый теплый грунт, копая впрок могилы, лопата солнца, ветров стройных крест, обряд шакалов похоронный. О, тело черное — янтарный шелк песка — ни страсти и ни силы, где миг назад пылала жажда жить! Земных отзывчивость ладоней! Пусть богоматерь черная с иконы до конца ведет в сраженье, где уж драконы не страшны, где тишина и нерушимы воды! Бьет слово в слово — бронзы звук зловещий. Так кончай со скорбным пеньем, когда разбитый черный полк в державу звезд на вечный мир отходит. Февраль, 1936Владимир Сосюра
РАССТРЕЛЯННОЕ БЕССМЕРТИЕ Поэма © Перевод В. Крикуненко
Безумство бури всепланетной давно отбушевало… Но ты мне явился вновь, отпетый, в поэму просишься, Махно! Ты просишь (взор твой, словно жало…) поэму новую начать, ведь первая, увы, пропала,— и ГПУ на ней печать. О, сколько гроз взметнул в поэте, герой мой горестный и злой, когда увидел на портрете тебя я в кожанке тугой!.. Где ты сейчас и как — не знаю… Горит в огне душа моя… Дни юности припоминаю — как шел в штыки я на тебя. Как полумертвою толпою, плененные под Лозовой, брели махновцы под конвоем, и замыкал я тот конвой. Сугробы… Кровь на них что маки… У церкви… Тени воронья… В упор стреляли гайдамаки, и среди них — не с ними — я. Как их стреляли, как вонзали штыки в безвольные тела!.. Я видел все… Во мрак печали погружена душа была. Жестокий суд — судьба поэта… Махно, я вовсе ей не рад. Я бил тебя. Я был при этом — в боях за Елисаветград! Мела поземка… И деревья рвались за конницей на шлях… Политкурсант с лицом Ромео, стою в дозоре на часах. Блуждала смерть в степных пространствах, в ее глаза я заглянул… И у Петлюры, и у красных любил я девушку одну. Не отсняли, не забыты глаза с тревожной синевой… Весь мир стонал в гигантской битве, кромсал сердца свинцовый рой… А мы, с винтовочкой курсанты, как будто нас — полки, полки, шли с красным знаменем на банды, на черный флаг твой шли в штыки! И штык входил в живот, как в вату, как ножик в масло, в крик «оа!..». Я знал, что ты кулак проклятый, остервенелый буржуа! Твоей, снега чернящей, кровью забрызгал я степной простор… И все ж люблю тебя любовью, непонятою до сих пор. Кропоткин… Тенью Ревашоля покрыт кровавый тарарам… Как лев, сражался ты за волю, за землю-волю, да не нам, а мироедам тем, мордатым от меда, сала, колбасы… Да ниспадет на них проклятьем молитва, что они несли всевышнему, слезами сирот свой хлеб нечистый окропив, умащивая души жиром под сей молитвенный мотив. О, как любили-распинали и бога, и народ не раз в делах своих… Мы их металлом крестили, помнишь ли, Донбасс! Ну, и тебя, защитник сытых! Текла твоя гадючья кровь… Эх, гнал тебя народный мститель, казак червоный Примаков! Вот кто герой. Не ты, подонок. И кровь детей, и вдовий плач тебе зачтутся… Для потомков ты — не герой, а лишь палач! Ты — прах и тлен!.. Тех дней буруны прошли, как сон, как тень могил… А я, наивный, юный-юный, в тебе Кропоткина любил, хоть был с тобою в схватке лютой — душил, а к сердцу прижимал. Ошибся страшно, тяжко, круто, когда поэму написал… Писал… Дрожали сердце, руки… А ты детей рубил сплеча, антисоветская гадюка с рябою мордой палача! Бьют кавалерии подковы… Куда же всадники летят? Не о Махно, о Примакове начну поэму я писать. Летит Виталий… Ветер. Солнце… С грозовым высверком клинок. Бегут, бегут, бегут махновцы, да так, что чуб у батьки взмок… Примаков: «Вперед, герои!.. Край родимый очистим от махновских банд! Клинок стальной непобедимый отрежет им пути назад!» Днестровской глади синь искрится надеждой сладкой, как вино… В Румынию! — скорей к границе отважно драпает Махно! Но клич «Даешь!» ударил в спины. Волной накатывает страх. Бегут махновцы с Украины… «Даешь, даешь!» — гремит лавиной, и откликается в веках… Махно в смятенье. Стынет сердце. Взблеснул холодной сталью Днестр. Везде клинки, куда ни денься. «Я жить хочу. Помедли, смерть!..» — Шептали губы… Нет! То жало… Он пресмыкается, шипит. Не уползти уж. «Все пропало…» И пенится гадючье жало: «Я жить хочу! Я жажду жить!..» Ты будешь жить, — шептали травы в копытном звоне. — Поживешь. Ты, сын степей, их окровавив, к чужой переползешь державе, и там на свалке ты сгниешь. Все ближе, ближе гул атаки. Беги! Рванули кони в страхе… А сзади падают бойцы в цилиндрах, шубах, при часах… Ползут к кордону беглецы в чужих ворованных штанах… Уже не войско — мертвецы! А сзади — бах! И снова — бах!.. Махновцы с кручи в Днестр сигают, в волнах их кони потопают, вода кровава, дно черно… Не тонет лишь один Махно. Он мокрой мышью вылезает на грязный берег. Слышит: «Стой!» — звучит команда. Ей послушен Махно. Не только саблю — душу возьми, румынский часовой! Прощай, Махно! И сгинь изгоем в тумане чуждых берегов. А ты? Куда пропал, герой мой, казак червоный Примаков? Когда-то в Харькове живого я у Азарх его встречал, читал «Махно»… В тех строках много я о любви к нему сказал. А он, внимая благосклонно, смотрел в открытое окно и слушал строго… Как влюбленно Азарх смотрела на него! Лицо Михайла Ялового и ныне вижу я… Те дни, те наши думы и дороги, товарищей… Но где они — их нет, как Миши Ялового. Он молча слушал про Махно, задумчив был и чуть печален. О Миша, Миша! Как давно мы не встречались, не встречались. Как не порвал я сердца струны. Не я — их враг когтистый рвал! А ты в пути к родной Коммуне от пули нашенской упал… Все испытал — лед каземата, и смертный стон, и черный ствол… То с карабином руку брата враг ближний на тебя навел… Проклятье палачам проклятым! Упал орел. Сломались крылья, златые очи ты закрыл. За что мой стих тебя корил, в чем обвинял?.. Тем, что убили тебя, я верил… Ты ж — любил меня… Мы все тебя любили. О, как же я обманут был! Я проклинаю веру в ката. Прости меня, о бедный брат мой! Прими поклон мой, скорбный, низкий, далекий Миша Яловой! Ты в строй вернулся большевистский, да вот вернулся неживой. Как было все? Никто не знает. Но шаг твой слышу, зрю твой след. Но вижу, как во тьме сжимает рука багряный партбилет, из тьмы привет нам посылает. Да, Примаков тебя любил, как друг, как ветер украинский, что мертвый чуб твой шевелил… Ушли во мглу (и нет могил) и ты, и Юрий Коцюбинский, что для Советов только жил… В окно стучится ветер мокрый, и проступает чей-то лик. Василь Блакитный долго смотрит и Хвылевый — из тяжкой мглы… О чем поведал взгляд из ночи?.. Вы прожили свой век не зря. У Василя — что небо очи, Миколы — каряя заря в час, когда шторм в гранит грохочет, бросая брызги янтаря… Ни бога не страшась, ни черта, борьбе отдали сердца пыл. Василь погиб из-за аорты, Микола сам себя убил. Убил себя, но в песне жил, был друг он мне и друг Эллану, зачем же пенье прекратил, как Микитенко говорил,— «поставив точку оловянную». А Микитенко кто убил?.. Змея все той же масти черной, что в стан героев заползла и нас, кто от сохи и горна, украдкой жалила и жгла железом пыток, истязая безумной ложью и огнем и в революцию стреляя бессмертным именем ее!.. Душа Миколы Кулиша крылами бьет в окно, полсвета объяв, — из ночи беспросветной несет в поэму звездный жар. Он гений был… И вот не стало орла духовных тех высот, куда послал его народ и партия куда послала. В небытие ушел, как дым… И Курбас Лесь ушел за ним. Остановились их сердца от голода иль от свинца… Навек я к вам душой приник — и Кириленко, и Кулик, что с нами шли вы в край счастливый, и Пидмогильный, и Вражлывый, ушедшие в незримый бой, Кривенко, Плужник, Лисовой — в тишайшей сече гибли вы… Зови же памятьих, зови! За рядом ряд — яви их близко. В глаза глядят Влызько, Фалькивский. Из глубины, из тишины встречают Мысыка они… Не слышно за окном сирен… Глухая ночь вся в черных латах… Ко мне бесшумно входит в хату печальный Миша Йогансен… Он тоже пал от пули ката глазами к солнцу или ниц, а с ним упал Косынка Гриц. «Прощайте, мама и Отчизна, я к вам вернусь…» — Гриц простонал. Но выстрел кратко отрыдал… Навек обняли руки сына святую землю Украины… О них пою сегодня песню, и обо всех ушедших в ночь. Боль памяти не превозмочь… Их кровь — наполнила бы бездну!.. Досвитный, Эпик… — шепчут губы, я в песне воскрешаю вас и трагедийный страшный час. А вот идет Гордей Коцюба, что львиной мощью наделен. Вот у стола садится он… Так все ли в сборе? Нет пока Панаса Любченко. А Скрипник? Все ждут… — Придут (вот-вот дверь скрипнет) два большевистских казака, и нет Затонского пока… Тлен смертный души не настиг — и пусть тела их сталью рвали, физически убили их, но гордый дух не расстреляли! Приди же в песню, как и в сны, товарищ верная Левкович!.. Зашли Затонский, Скрипник с ним и Любченко Панас Петрович. А вот со взором, полным мук, идет Валерий Полищук… «Ну что? Теперь мы вместе, братья? Круг тесен — всех могу обнять я!» — гремит как будто из-за туч… …………………………… Сидят задумчивы и строги. Что молвят нам? Из лихолетья смятенью чуждый слышу глас: «Мы пали в битве за всех вас, за Украину и за Русь…» Пою, и плачу, и молюсь за убиенное бессмертье, как плачут дети по отцам… Не выбирали вы судьбу. Но выбирали вы борьбу назло презренным палачам. И в той борьбе — бессмертье вам! Не расстрелять его никак, вовек с ним смерти не ужиться, не так ли, друг мой верный Гжицкий? И светят сердцу, что маяк, Ирчан, Бобинский и Коряк… Вам никуда от нас не деться,— вы в нас, вы с нами, живы вы, одно на всех большое сердце (послушай только) бьется тихо. И Добровольский, и Ковинька — их тоже поглотила мгла, но мы продолжим их дела во славу нашей Украины. Павло Григорьевич Тычина мне улыбается согласно, и Рыльский подтверждает ясно, и Панч, и Ле, и Головко в печали светлой. Как троянда[28], заря поэзии цветет, и прозы золотой восход. Улыбка Василевской Ванды, и куцый смех Корнейчука, и смех Олейника, и Вишни — хотя и нет средь нас, но в вышних навек он солнцем воссиял. В полярных льдах не угасал все десять лет во мгле разлуки… По-братски мы сплетаем руки на месте мертвых, как венок. И шаг упруг, и путь далек. И ваши муки и печаль мы унесем в златую даль, где солнце правды человечьей встает над горизонтом вечным… ………………………… В его лучах озарены лик матери, простор страны, пшеничный колос и машины. Под ним колышется трава, горит оно в глазах счастливых… И все же нам ли забывать о тех, кто в самый мрачный час в безлюдье шли на смерть за нас, шли с вдохновенными очами, чтобы навек остаться с нами. Одни в цветах, в крови — другие, сошлись с убитыми живые… И каждый день, и каждый час идем вперед, они — меж нас. …………………………… Да, непослушным стало слово — хотел писать я про Махно, а написал о Примакове… Его представил я весной, рожденной в высверках грозовых. И так хотел весну воспеть я… Но всматривался в Примакова — а зрел расстрелянных бессмертье. Так я постиг, что в наши дни пришли бессмертными они. Идут расстрелянные, с ними я вижу Лебедя Максима, спокойного и в час тревоги, святого друга-побратима, мы шли с ним по одной дороге и вместе горюшка хлебнули… Меня с ним разлучила пуля… И все ж в Коммуну, что грядет, со мною рядом он придет по жизни, что ветрами дышит… Я сердцем шаг его услышу. Надежна поступь, прыть казачья… Его (товарищи, я плачу…) любил за запорожский нрав. Максим! Я помню, как ты рвал цветы в лугах… И Днепр, и волны… И клуб Блакитного, и ты шагаешь споро и спокойно по жизни, полной суеты… Обрушил враг твои мосты. Стрельбицкий, ректор института в далеком Харькове, давно… Дни превращал мои в минуты, распахивая мне окно в мир звездный правды и науки. Меня ты светлою рукой вознес туда, где туч река разбита чистыми лучами, и солнце встало над ночами и воссияло надо мной… Была то партии рука. С отцовской добротой и лаской она меня издалека ввела в храм знаний, словно в сказку… Тебя замучили каты,— огнем и пагубным металлом крушили к жизни все мосты, чтоб с нами ты не смог идти, но душу — нет, не расстреляли. Идешь с живыми вместе ты к прекрасной цели, в день погожий, на моего отца похожий. Я помню, слез ты не скрывал, когда тебе читал я строки стихов своих… Уже сиял над парком месяц, как ведерко, а из него струилось вниз с небес — по крыше — на карниз — в листву и травы молоко… «Молюсь… Сомненья далеко…» — читал я Лермонтова юным… О, как завидовал я струнам души поэта, что могли мне петь среди житейской мглы! А с неба сыпалась пороша, и серебро, и бирюза… Но зависть к гению хорошей была и чистой, как слеза. Твоею музой вдохновлен был Украины лирик нежный, читал тебя весною он, и в дождь осенний, в вечер снежный… Познать живую душу — счастье. Люби ее, как море трав… Вот так Стрельбицкому я часто младое сердце открывал. И вновь… Озерский… Пилипенко… Страдали вы от тех же рук, что и Федькович, и Шевченко, Иван Франко… На ниве мук один влачили тяжкий плуг. Один терзал вас враг проклятый, залетный гость в родимой хате, на золотой земле моей… Но мы не сгинули, ей-ей! Хотя и кружит черный ворон, по белу свету бродит ворог и хочет ночь вернуть опять и дух бессмертный расстрелять… ………………………… А сад шумит, а сад кипит! И жизнь возносит наяву знамена наши в синеву… О нет! Бессмертье — не убить. Мы, братья, вечно будем жить, как Украины нашей мова. И не страшусь я Воробьева, хотя из сердца точит кровь нам коллективный Воробьев под марша бравурного звуки… Но все ж его отсохнут руки… Идет вселенский большевик… Народ идей, мой бог бессмертный!.. И солнце правды не померкнет над славою его сынов. Болят их раны всенародно. Нам не забыть вовек те годы, ведь имя памяти — любовь. Народ надежды всепланетной, цветут вокруг твои сады. В труде, в напряге пятилеток едины — партия и ты. Мы улетаем в край небесный. Шинель снимаем, плуг берем. Давайте, люди, будем честны: Земля — один наш общий дом. Я верю: таинства природы мы сможем радостно познать. Настанет день — Земли полетом мы, люди, будем управлять. Какие впереди дороги! И люди, люди — словно боги. Больных не станет на земле, а старость взлетом в жизни будет… Забудем о коварстве, зле, Земля эдемом станет, люди! О нет, не сказка это! Верь: всечеловеческая сила откроет прямо в вечность дверь. И правда, правда — ее крылья, и нет предела ей ни в чем… Да будет так. Светил светлее земная озарится твердь добром… И правда одолеет не только кривду, но и смерть! Чумак, истерзанный штыками в аду деникинской тюрьмы, он смотрит на меня из тьмы чернее черной тьмы очами. Он агрономом быть мечтал, засеять землю… Сам упал, в крутую пашню Украины себя посеял. Верным сыном Отчизне был он. И поет его «Запев» родной народ. Плодами щедрыми украшен Отчизны звездоносный сад… Но там, где ночи отблеск страшный звездой кровавою окрашен, предстал Михайличенко Гнат. И штыковую вижу рану, и кровь от белого штыка… Я вас любить не перестану, тебя, Залывчий, витязь наш, что смерть — и ту на абордаж в житейском море, в поле брани ты брал — и был воспет Элланом, Элланом, что любил Усенко. И взгляд Бориса Коваленко, и милый образ Десняка запомним, братья, на века. ……………………… О, сердца трудная работа! Вперед, поэзия моя! Про гениального Чарота со скорбью вспоминаю я. Кровав закат, мотив мой грустный… Погиб Сосюра белорусский… Ту пулю (с ней он пал в бою) я принял в сердце, в жизнь мою… «О Беларусь, моя шыпшына, зальоны лист, червоны цвет!..» Так пел давно мой друг поэт, родной и верный друг Дубовка… Но и его скрутили ловко те, кто свой род ведет от волка… В лицо поэту пистолет… И не успел допеть поэт. Теперь в Москве он с бородой, как у Тагора… Мой герой, отдавший жизнь за Белорусь! Ведь так, товарищ наш Петрусь, литкомиссар, дружище Бровка? Цени, люби, храни Дубовку! День наливается, что овощ рассветным солнцем… Степь как дым. По ней идет Александрович… Его я помню молодым, и смуглолицым, и азартным. А нынче сед и в сердце грусть. Звал и зову тебя я братом, многострадальный белорус! Душой остался ты крылатым, хотя мук страшных носишь груз. Пусть в жизни их уже не стало — люблю я Коласа, Купалу, как Богдановича люблю, стихам его не надивлюсь я, он — Лермонтов на Белоруси. Люблю Гурло и Гартны Цишку… По ним душа моя не тихо рыдает… Всех я вас люблю, о друга милые, куда вы ушли, труды свои оставив!.. А сколько вас, мои сябры, повырубали, как боры, скольким обламывали кроны злодеи-палачи в законе… Я вновь на берегу Днепра Алеся вспомнил Дудара, его припухшие чуть губы… Как шумно жизнь он воспевал! И вот — подрубленный — упал… Кат и на нем поставил «точку»… И скрапывала кровь с листочков… В затылке маленькая ранка… Приветствую Максима Танка и всех, что встали в вечный ряд: за друга — друг, за брата — брат, чтоб отстоять народ и песни… О туча хмурая, исчезни, отпряньте, смертные туманы, что скрыли горя океаны!.. …………………………… Из общей чаши мы счастье вместе зачерпнем и за погибших допоем, мои сябры Прокофьев Саша и светлый Симонов! Челом склоняюсь, братья, перед вами, народа славного сынами! Ты, как Рылеев, Саша мой, взял под защиту благородно сынов Украйны, тех, что бой давно ведут за честь народа, храня язык его родной от выродков немого сброда, готовых наши языки укоротить. Да коротки злодея руки… Он Дантеса десницей черною водил. Он метил Лермонтову в сердце — рукой Мартынова убил. Тараса мучил он… Их гений сияет нам издалека. И та же подлая рука по Маяковскому стреляла, она Есенину дала исподтишка петлю-веревку и ею радостно и ловко поэту сердце оплела… ………………………… Чернее тьмы возник змеиный лик душегуба Украины… Шлет ядовитые огни взгляд Кагановича из мглы, взгляд палестино-атаманский… О, как он дышит в наши дни и ходит среди нас без маски, соратник Берии! Вскипай же, ненависть-геенна к убийце Фефера, Гофштейна и брата Маркиша… О ты, в крови гадюкой ползший к трону, чтобы к всемирному Сиону по нашим трупам доползти!.. Ведь это ты, террором красным прикрывшись, убивал несчастных детей и «сговоры» творил. Ты цвет духовный погубил — интеллигенцию народа, что в тьме ночей искала брода… ………………………… Нет, в день грядущий не пытайся змеиный выводок тащить. Убийцам и душепродавцам в чертоге светлых дней не жить. Вам, что в потенции буржуи, не заграбастать отчий дом. Мы ваши корни раскорчуем и ликвидируем трудом. Чтоб стать достойными той цели, к которой вместе мы пойдем, чтоб стали вы людьми, не тленом, мы на работу вас зовем. Мы в руки вам дадим лопату. Труд не карает и не мстит. В стране рабочих — место свято, и паразитам здесь не жить. В свободной песне — воля к жизни! Горит в сердцах огонь любви к родимой матери-Отчизне. Люби ее! Всегда люби! …………………………… За клич «Любите Украину» в надежде лютой, что я сгину, три года правили меня, ошибки тяжкие вменяя в вину… И каяться, увы, мне пришлось, хотя был неповинен! Невероятно! Горько! Странно… Чуть было сердцем не угас. Но мой народ меня морально поддерживал в тот страшный час. Тех «проработчиков» прощаю — меня клевали попугаи! …………………… В годы те, когда казался ночью день, когда меня так страшно били со всеукраинским размахом,— завидовал болотной птахе, порхающей в своих заботах. И среди дня, и среди ночи она могла пропеть, что хочет, раскатисто в своем болоте — не то что бедный ваш Сосюра, ведь в царстве птичек нет «цензуры». И вдаль, где счастье нас приветит, чиновник не ведет поэта, а, сердцем слушая народ, поэт чиновника ведет. Вот почему, снеся удары, не славы ради, а любви — я палачам не бил в литавры, народу песни пел свои. …………………………… Как жаль мне Бабеля! Я с ним гулял в Одессе по бульварам в году двадцатом, молодым. Ему «Махно» в двадцать четвертом (я был тогда еще не «тертым»!..) читал… Он, помню, отшатнулся, чело нахмурил, и сидит, и тихо шепчет: «Будет бить…» К нему я сердцем потянулся: О нет, мой Бабель, нет, не я! Не я, не я, не я, не я! Не буду бить, не бил я сроду сынов еврейского народа, ведь я Украйны верный сын! И долго ли мне петь о том, что в сердце вечными огнями, что все плывет перед глазами и кажется мне страшным сном? А память воскрешает драмы, где Моти Гармана лицо залито кровью и слезами… Его вовек нам не забыть. Звучат стоусто его песни. Он в черный день погиб, но жить ему в словесности еврейской и словом Родине служить. ………………………… Не депутат я, не начальник, не академик я, друзья… И лира — все мое богатство. Ее не променяю, братцы, ни на один мундир на свете, ведь я не шляхтич, не эстет и не казенный я поэт. Иду с народом, песня — знамя. Я славен песней — не чинами! Раздайся, колокольный звон… Вам! Вам! Вам! Бим! Бим, бам! бим, бов! Пою и память, и любовь! ……………………… Забыть обиды? Укротить гнев сердца, что во мне кипит? Я не смогу. Так пой, поэт, о тех, кого уж с нами нет… Иван Каляник. Гул времен в его поэзии прекрасной, и солнышко в улыбке ясной — что маков цвет, она со мной — покуда солнце не угаснет. Пришли за ним, вещуя смерть, с женой забрали среди ночи… И вытекли от пули очи, и в бездну устремилась твердь… Бузько и Леничка Чернов! Звучат мне песен ваших строки. Днепровский, что ушел до срока… Их под покровом тайных гроз обоих сжег туберкулез. Но в декабре или в июле их все равно сожрали б пули, как и Бузько. Красавец был, с густыми черными бровями. В бою жестоком, когда плыл холодный месяц за туманом, он Заболотного пленил и сам такой же пулей был сражен, что била в атамана… Вот палачово воздаянье! ……………………………… Мне подарил родной Донбасс в конце военной смертной ночи как даль морскую — милой очи… В судьбе суровой, что алмаз, сияла драгоценно мне ты, Мария!.. Помнишь, я штиблеты разбил, в галошах выступал? В тот вечер я тебя узнал… Он озарил и взял на крылья тот вечер синий, о Мария! Когда-то в детстве я стоял в притворе храма, слушал хоры. В воображенье рисовал небесный рай, восход Авроры и видеть ангелов мечтал… Я так хотел святым быть, чистым! Но ангел меч вознес лучистый, меня от рая отогнал, мечте подрубывая крылья… Не ты ли ангел тот, Мария! В тот поздний час я дома не был, когда тебя палач позвал к двери открытой… Меркло небо, и в тучах взгляд твой угасал. Доныне черный ветер веет. От мук твоих душа немеет! Тайга и непосильный труд, похлебка, псы, штыки конвоя… Расправа, дикий самосуд — за то, что ты была со мною… …………………………… О, скорбных списков имена! Всех не вместить мне в сей папирус… Но на скрижалях сердца ширясь, вы открываете для нас народа имя. …………………………… Что имена! Они инертны. Когда мы все, мы все бессмертны! Не только люди, но трава, цветы, деревья и светила. Все умирает, а жива любви преемственность и сила. Вам слава, Киев и Москва, и каждому, кто жить достоин… Добра и правды светлый воин с возвышенным — до звезд — челом, идет он шагом миллионным и шлет бессмертным легионам привет свой песней и трудом. ……………………………… О, ветер терпкий украинский, что в сердце и сейчас печет. Я помню день, когда Дубинский — все в шрамах — показал плечо, в отметинах кровавой битвы… Он был червоным казаком. Полынной горечи-обиды мне к горлу подкатился ком, когда с героем я простился. Дождь по окну слезой струился, тускнело солнце в облаках…— и он был в страшных лагерях… ……………………………… Так пой же, сердце, не молчи! Любовью мир переполняя, напомни, песня, о печали, о тех, кого так долго ждали… Услышит пусть меня родная мать-Украина. И навек потомки пусть запоминают героев незабвенных тех… Когда ж остынет сердца пыл и, весь в слезах по всем, умру я, У крайне сердце подарю я, так, как Шопен свое дарил, великой Польше завещая любовь, что без конца и края. Так пой же, сердце, не молчи! К другому сердцу достучись!Микола Жулинский ИЗ ФАЛАНГИ ВЫБЫВАЛИ ЛУЧШИЕ
Дереворуби, ми столітні хащі прорубаем і морок рвем ущент. Нехай з фаланги вибува найкращий — Іі ще дужче зміцнює цемент! Михайло Драй-ХмараПоэт и ученый Михайло Драй-Хмара выбыл из фаланги творцов украинского духовного возрождения XX столетия не первым и не последний.
«В этом году, в декабре, исполняется пятьдесят лет, как нет моего отца в живых, — говорит Оксана Ашер — дочь Михайла Драй-Хмары. — И сто лет со дня его рождения. Вот его последнее письмо с Колымы, где навеки затерялась могила отца. Как и тысячи-тысячи других безвинно погубленных жизней».
Письмо к дочери. Написанное 9 ноября 1938 года карандашом на тоненькой бумаге. После этого письма были еще четыре и одна телеграмма, но их сберечь жене поэта Нине Петровне не удалось. Пропали они где-то в городе Белебее, находящемся в Башкирии, где Нина Петровна с дочерью отбывала ссылку. Пытаясь спасти, поскольку местные власти требовали письма им вернуть, жена Михайла Драй-Хмары передала их на сохранение соседке, а последние, в которых Михайло Драй-Хмара описывал нестерпимые свои страдания, она уничтожила.
«Боялась, что найдут, прочитают такое — а я помню и по сей день эти строчки, вижу их на тоненькой бумаге: „Я не могу тебе писать… Я падаю на работе, и тогда меня подвешивают… Ноги опухли…“ — и меня арестуют. Поэтому и сожгла, — рассказывает девяностотрехлетняя жена Михайла Драй-Хмары. — К моему огромному счастью, дневник Михайлика, его рукописи, правда, не все, ибо часть его переводов из французской поэзии, которые были написаны на папиросной бумаге, искурил муж соседки, сохранились до сегодняшнего дня».
Да, все другие, предыдущие, 1936, 1937 и 1938 годов, письма и телеграммы Нина Петровна сберегла. Вместе с дочерью спасала она драгоценные весточки из далеких краев. Ведь она знала им цену и помнила завещание дорогого человека с трагической судьбой. «Напиши мне, что с моими книгами, а особенно с рукописями, — обращается отец к дочери. — Береги их, дорогая, как зеницу ока, ибо многие из них не были в печати. И если пропадут, то пропадут бесследно и навсегда. Особенно береги тетрадь с переводом „Божественной комедии“ Данта, перевод „Демона“ Лермонтова (перепечатан на машинке), переводы из французских поэтов (тоже перепечатаны на машинке), общую тетрадь с моими стихами, „Сонячні Марші“ (перепечатаны на машинке) и вообще все, написанное моей рукой».
Не знал Михайло Драй-Хмара, что во время его ареста 4 сентября 1935 года перевод «Божественной комедии» был конфискован. Но жене удалось припрятать дневник и толстую тетрадь со стихами из второго сборника «Солнечные Марши». И вот они перед нами — на журнальном столике в доме Оксаны Ашер в одном из районов Нью-Йорка, в Бруклине.
«Тяжело нам с мамой расставаться с этим далеким отцовым голосом, который не смолкает на бумаге, а немо кричит о горе нашем, однако мы знаем: отец хотел бы, чтоб он вернулся, этот голос, на Украину», — говорит дочь писателя, которая так много сделала для сохранения творческого наследия отца. Защитила диссертацию в Сорбонне о творчестве Михайла Драй-Хмары и неоклассиков (к слову, это первая в истории этого знаменитого университета диссертация по украинике), издала стихи и литературоведческие работы, отрывки из дневника и переписку, кроме того, на английском языке издала его письма с Колымы. Работала самозабвенно, а помогала ей неутомимая Нина Петровна, ее мать.
Нине Петровне идет девяносто четвертый год. Но она помнит атмосферу конца 20-х — начала 30-х годов, когда заносился над головами еще свободно мыслящих и обнадеженных революцией людей таинственный, безжалостный меч сталинских репрессий. Они читали в апрельских газетах 1930 года, как государственный обвинитель Павло Михайлик, которого вскоре не минула судьба им обвиняемых, на заседании Верховного Суда Украины требовал «единственного способа социальной защиты — расстрела» для руководителей «контрреволюционной организации „СВУ“» — «Спілка Визволення України» («Союз Освобождения Украины»), Смилостивились — руководителя и организатора СОУ академика Сергея Ефремова, известного литературоведа, вице-президента Всеукраинской Академии Наук (ВУАН) осудили на десять лет, с лишением прав на пять лет, другим тоже дали по десять — восемь — пять и три года, а с некоторыми вообще «гуманно» обошлись: осудили условно и сразу же тут, в зале суда, освободили из-под стражи.
А было их, подсудимых, известных литераторов, ученых, педагогов — сорок пять человек, и все они еще на предварительном следствии признали себя виновными в том, что, как сказано в обвинительном приговоре, «осуществляли под прикрытием своей ученой и неученой работы контрреволюционную деятельность, направленную против интересов трудящихся Украины» («Известия», 22 апреля 1930 г.).
Среди подсудимых — известная в то время писательница и литературный критик Людмила Старицкая-Черняховская и прозаик Михайло Ивченко, свидетелями, экспертами идейного и профессионального уровня подсудимых литераторов, общественными обвинителями вынуждены были выступать поэт, переводчик и литературовед, профессор Киевского университета Микола Зеров и писатель, член ВАПЛИТЕ (Вільна Академія Пролетарської Літератури) Олекса Слисаренко.
Дочь выдающегося писателя Михайла Старицкого, подруга Леси Украинки, Старицкая-Черняховская была осуждена на пять лет заключения, однако вскоре была освобождена. Приняли во внимание возраст — было ей тогда 62 года — и состояние здоровья. Но погибла она при невыясненных обстоятельствах, как и известный ученый, востоковед, академик Агатангел Крымский, во время эвакуации из Киева в начале войны с фашизмом. Михайло Ивченко был осужден условно, однако не имел разрешения ни печататься, ни жить на Украине. Где-то на Кавказе, в городе Орджоникидзе, и потерялся его след.
Но разве могла быть иной его дальнейшая судьба? Ведь признался в преступлении, а то, что не осудили, — лишь, мол, свидетельство объективности и гуманности пролетарского суда. Не беда, что в своих репортажах «Из зала суда» журналист Д. Заславский так образно изобразил шаржированный портрет писателя-контрреволюционера, что уже «печать врага народа» никогда не отмыть: «Теперь писатель Ивченко перед критикой пролетарского суда. Дебелый, хорошо упитанный мужчина с черной бородкой на круглом лице, заискивает и сладеньким голосом кается. Да, это не случайно он разводил русофобию и откровенные кулаческие узоры в своих произведениях. Он писал по литературным директивам специальной пятерки „СВУ“, членом которой сам был» («Правда», 22 марта 1930 г.).
А как свидетели, эксперты? Невозможно рассказать о судьбе каждого, да и кто сможет воссоздать все то отчаяние насильно вырванных из жизни, из творчества, из семейного круга талантливых и молодых, которое охватило их в Лукьяновской тюрьме, Ярославской тюрьме, на Соловках, на Колыме…
«Я так истосковался по вас! Кажется, целая вечность прошла с тех пор, как я видел вас в полутемном тамбуре Лукьяновской тюрьмы. Милые, милые, вы и не знали тогда, что скоро не увидите меня… Спазмы в горле… Не могу писать…» — это из письма Михайла Драй-Хмары к жене и дочери из Нериги 27 марта 1937 года.
«Я тогда в последний раз видела отца, — рассказывает Оксана Михайловна и показывает мне лист бумаги со стихотворением „Пролесок“, написанный аккуратным детским почерком. Подпись под стихотворением „Оксана Драй-Хмара“. — Я тогда написала для папы этот наивный, детский стишок, потому что он хотел, чтобы я упражнялась в создании поэтических образов. Мне так хотелось его порадовать! Принесла стишок вместе с букетом пролесков».
Чистая случайность, конечно, но этот стишок десятилетней Оксаны имеет символическое значение. Рассказывается в нем о появлении нежного пролеска, который всем говорил о весне, радовался и улыбался, но внезапно чьи-то руки больно потянули его вверх, и он не успел даже вскрикнуть… Кто знает, возможно, в тюремной камере поэтическая судьба нежного пролеска напомнила ему собственную судьбу.
Но Михайло Драй-Хмара — этот мужественный, несгибаемый человек — не сравнивал себя с этим нежным растением — созданием весны. Он представлял себя в образе дровосека, который прорубает столетние чащи духовной изоляции украинской культуры, и потому был доведен до отчаяния в середине декабря 1934 года расстрелом своих друзей и знакомых — писателей Григория Косынки, Дмитра Фалькивского, Костя Буревия, Олексы Влызько…
«Впервые моего мужа арестовали 3 февраля 1933 года, — рассказывает Нина Петровна Драй-Хмара. — Не одного, а с нашим родственником, ректором музыкального института, профессором истории музыки Миколою Гринченко. Обвиняли в принадлежности к какой-то контрреволюционной подпольной организации. Но они свою вину не признали. Продержали их три месяца и освободили. Но одновременно освободили моего мужа от всех должностей. А имел их он много. Работал в Украинском институте лингвистического просвещения профессором славянского отдела, возглавлял кафедру общего языкознания в Полтавском педагогическом институте, заведовал кафедрой украиноведения в сельскохозяйственном институте, вместе с академиком Агантангелом Крымским готовил к печати материалы Комиссии по исследованию истории украинского научного языка…
А кроме того, большая творческая — и собственная поэтическая, и переводческая, и литературоведческая — работа. Но нигде на работе профессора Михайла Драй-Хмару не восстановили, исключили из союза научных работников, изъяли его произведения из библиотек…
Если бы вы знали, как нам было тяжело. С нами не здоровались на улице, постоянной работы Михайлик нигде не мог найти — не брали, продавали вещи из дома. И так до второго ареста в 1935 году».
Что ж, волна арестов известных писателей неудержимо катилась по Украине. Первым из «букета пятерного несломленных певцов», которым посвятил свой сонет «Лебеди» Михайло Драй-Хмара, был арестован Максим Рыльский. Арест произошел в 1930 году, но после полуторагодичного заключения его выпустили и разрешили пережить всех своих побратимов из группы неоклассиков.
Другой неоклассик, поэт, переводчик и литературовед, профессор Павло Филипович, который тоже погибнет в ссылке, откликнется 16 сентября 1926 года юмористично-саркастической «Эпитафией неоклассику» на Постановление Политбюро ЦК КП(б)У от 10 апреля 1925 года, в котором неоклассики были определены как «попутчики». В тоненьком дневнике Михайла Драй-Хмары сохранились четыре странички, на которых еще не выцвели эти строчки поэтического удивления по поводу абсурдных обвинений неоклассиков во вреде пропаганды классических образцов Древней Греции и Рима.
Дарма, що він у піджаку старому, Пив скромний чай, приходячи додому, І жив працівником з юнацьких літ,— Он Муза аж здригнулась, як почула, Що ті переклади з Гомера і Катула Відродять капіталістичний світ.Однако вскоре это насмешливое удивление идеологически беспомощными претензиями будет гротескно деформировано в непризнание советской действительности и репрезентацию классовых интересов украинской буржуазии. Более того, июньский пленум ЦК КП (б) У в 1926 году укажет, что украинские литературные группы типа неоклассиков пытаются сориентировать экономику Украины на путь капиталистического развития, держать курс на связь с буржуазной Европой!
На стол выездной сессии военной коллегии Верховного Суда Союза ССР в 1936 году ляжет дело националистично-террористической группы профессора Миколы Зерова, в которую зачислили, кроме неоклассиков Миколы Зерова, Павла Филиповича и Михайла Драй-Хмары, также арестованного второй раз пожилого литературоведа, известного исследователя творчества Михайла Коцюбинского Анания Лебедя, молодого поэта Марка Вороного — сына крупного поэта Миколы Вороного, который выступал в литературе под псевдонимом Антиох, и неизвестного сотрудника исторического музея, который и дал первые показания о существовании «националистично-террористической группы».
Считалось, что повезло: не расстрел, что немилосердно фатально следовало за принадлежность к тайной контрреволюционной организации, а конкретнее — за подготовку террористических актов на представителей партии и правительства, за шпионаж, — а десять лет лагерей. Не повезло: ни один из них уже не вернулся на свободу. Хотя каждый, наверное, не терял надежды. Как Микола Зеров, который на Соловках продолжал переводить поэму Вергилия «Энеида», интересовался судьбой перевода «Бориса Годунова» Александра Пушкина…
Но и неоклассики были не первыми и не последними в этом жутком мартирологе украинской интеллигенции.
Был упрятан в лагеря без суда и следствия в начале мая 1933 года первый президент литературной организации ВАПЛИТЕ Михайло Яловой, который выступал в литературе под псевдонимом Юлиян Шпол, был 13 мая 1933 года собственноручный выстрел в висок организатора ВАПЛИТЕ, талантливого новеллиста и литературного критика, коммуниста Миколы Хвылевого.
«Эту тревожную атмосферу мы переживали очень неспокойно, — рассказывает Нина Петровна. — Хотя еще не было тогда арестов, творческая жизнь была разнообразной, богатой, интересной, но настороженность вселялась в душу. Михайлик особенно болезненно переживал то, что происходило тогда в Академии Наук, а шла тогда закулисная борьба за звания и должности — лезли в академики „номенклатурные единицы“, а тут еще удар по ваплитовцам. Услышал он об этом от своего друга — честного, скромного, более старшего по возрасту Михайла Могилянского. Как трагично сложилась его судьба! Сначала была расстреляна старшая дочь Лада, потом отправили в ссылку среднюю, за нею — сына Дмитра, а под конец и самого Михайла Михайловича. Вот, читайте запись в „Дневнике“ Михайла Драй-Хмары от 26 января 1928 года: „Заходил к Могилянскому. Услышал от него, что ВАПЛИТЕ или самоликвидировалась, или ее ликвидировали, Напрасно я подписался на ваплитовский журнал! Ну и времена, ну и времена! Чтоб никакой тебе оппозиции не было! Чтоб никто не смел не только печатать свободное слово, но даже думать свободно! Зачем же напрягать оголодавшие мозги, если есть готовая система размышлений и философствования? Открывай книжку Карла Маркса и читай, учись сколько влезет — дела хватит на всех!“
Хорошо, что во время обыска я этот „Дневник“ успела спрятать — был бы следственный материал для обвинения».
Нагромождались медленно, но неумолимо и последовательно, факты, которые свидетельствовали о неуклонной вульгарной идеологизации литературно-художественной жизни. Росло политическое недоверие к писателям старшего поколения, хотя еще вспоминались, правда, с идеологической предосторожностью имена и издавались произведения тех литераторов первых послереволюционных лет, которые преждевременно ушли из жизни.
Были расстреляны деникинской контрразведкой писатели-революционеры Василь Чумак и Гнат Михайличенко, погиб в Чернигове во время восстания против гетмана Павла Скоропадского, который призывал кайзеровские войска на Украину, молодой прозаик Андрей Заливчий, осужден к расстрелу в расцвете своего песенно-образного осмысления человека, природы и мира по приговору ЧК в 1921 году вроде как за принадлежность к подпольной контрреволюционной организации талантливый Григорий Чупринка.
Печатались в советской прессе и те литераторы, которые по тем или иным причинам оказались в эмиграции. Одни были втянуты в водоворот революционных событий 1917–1920 годов, другие остались на западно-украинских землях, отторгнутых от основного украинского материка. Среди них известный историк Михайло Грушевский, прозаик и драматург Владимир Виниченко, поэты Александр Олесь, Василь Бобинский, Микола Вороный, Галина Журба…
Призываются в ряды творцов «новой эры пролетарской поэзии» одаренные личности из числа рабочих, которым суждено было перевернуть новую страницу истории. И эта страница национальной культуры была высокохудожественной, жанрово разнообразной, мастерски «схваченной» с бурлящих волн Революции.
Художники отстаивают право на индивидуальное — в стиле, в форме самовыражения, а отсюда, как это полемически заострил в своих литературных памфлетах Микола Хвылевый, право украинской литературы и культуры на суверенность духовного взлета до уровня мировых культур. Его идея «азиатского ренессанса» — будущего неслыханного расцвета искусства порабощенных народов, возрождение национального искусства разбуженного революцией украинского народа, его призыв равняться на «психологическую Европу» («Европа — это опыт многих веков… Это — Европа грандиозной цивилизации, Европа — Гете, Дарвина, Байрона, Ньютона, Маркса и т. д. и т. п. Это та Европа, без которой не обойдутся первые фаланги азиатского ренессанса») не были какими-то спекулятивно выхваченными из многоцветного сплетения разных эстетических направлений и течений, которые так бурно клокотали в Европе в конце XIX — начале XX столетия, демагогическими транспарантами для засвидетельствования своей собственной художественной оригинальности. Это была продуманная, реалистически взвешенная на весах исторической судьбы национальной культуры акция духовного содержания, которая должна бы интенсифицировать движение украинской культуры в благоприятных условиях развития к европейской и мировой культурной семье, родить искусство «нового созерцания, нового мироощущения, новых сложных вибраций».
Были ли у Миколы Хвылевого, ваплитовцев и неоклассиков основания для такого решительного обобщения? Да, были! Уже революцией рожденными «Солнечными кларнетами» юный Павло Тычина создал музыкально-гармоническую, светоносную идею-образ возрождения и обновления человека и нации в их духовном единстве. Он явил окрыленному революционными оркестрами современнику новый поэтический образ мира как символ и синтез украинского поэтического образного мышления и европейского модернизма.
Серьезным аргументом в пользу страстного призыва Миколы Хвылевого и его единомышленников стряхнуть с себя псевдопышные одежды культурного эпигонства были переводы античных и европейских классиков, которые осуществляли неоклассики Максим Рыльский, Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара. Прежде всего их силами создавалась на Украине мировая культурная школа: осуществлялось издание украинской литературной классики, готовились статьи и фундаментальные литературоведческие исследования, читались лекции, проводились научные семинары…
А какие споры бушевали вокруг футуристических звуко-образных и смысловых новаций Михайла Семенко и Гео Шкурупия! Вскоре их не станет, и на много лет будет изъята из духовной жизни Украины мастерски аллитерационная, парадоксально визуальная, острообразная поэзия, которая так эффектно передавала урбанистическую сиюминутность задорных и по-юношески агрессивных поэтов-футуристов. Кому мешало это искреннее словесное эпатирование, магия преобразований и перевоплощений слов и звуков, своеобразные парады словесных открытий и эффектные стыковки звуковых рядов?
Одновременно не отмежёвывалась тогда от пролетарской литературы и экзальтированная, наполненная стихийной радостью бытия и мелодическим эмоциональным удивлением, восхищением красотой природы и главным ее двигателем — любовью, поэзия чрезвычайно популярного Александра Олеся, который завершил свой жизненный путь в эмиграции. Народную славу создали ему песни и поэтические плачи периода революции 1905–1907 годов и февральской революции 1917 года. Александр Олесь сумел в них большим экспрессивным напряжением «переплавить» в болезненно-впечатлительной своей душе народные переживания и надежды и мощно, с настоящей эмоциональной исповедальностью отлить это в поэтических образах, символических ассоциациях и музыкальных ритмах. Даже в трагические десятилетия не забывалось его творчество, хотя 27 лет — с 1930 по 1957 год — стихи А. Олеся не издавались в нашей стране.
Много лет не доходила до украинского советского читателя и поэзия галицких поэтов-модернистов, которые объединились в 1906 году в группу «Молодая муза». Самый талантливый из «молодомузовцев» Петро Карманский — автор меланхолически-пессимистического сборника стихов «Из папки самоубийцы» (1899), настроения которого, а главное — оценки его современниками, — сказались на дальнейшей оценке, а вернее, на литературной судьбе поэтов этой своеобразной, талантливой группы. Не были они похожими друг на друга, хотя их объединяла печальная ностальгия по утраченным духовным и общественным ценностям, недовольство реалиями каждодневной безыдеальной жизни, стремление возродить и возвеличить красоту как единственный способ спасения запятнанных компромиссами и борьбой за выживание человеческих душ.
Поэзия и красота и в этом угнетенном социальной несправедливостью мире созидают духовную силу народа, который расправит плечи с испокон вечной крестьянской неторопливостью и солидностью, — так мыслит и чувствует Богдан Лепкий. Интеллектуально утонченный Степан Чарнецкий, наоборот, изуверившийся, абсолютизирует обреченность, ибо считает, что святого нет ничего — ни в любви, ни в общественных идеалах. Музыкальный, мастерски аллитерированный стих Сидора Твердохлиба бесконфликтно «уживался» с народно-игривым, эротично образным миром элегантных ритмов поэзии Василя Пачовского, тогда как Петро Карманский культивировал и автоиронию, и экзотическую мечтательность, и неисчерпаемую грусть по униженным национальным идеалам, и сострадание впечатлительной души, охваченной беспомощностью при виде бед и тревог родного народа.
Эти первые шаги «тихого» поэтического бунта «молодомузовцев» — поэтов Богдана Лепкого, Василя Пачовского, Петра Карманского, Остапа Луцкого, Святослава Гординского, Сидора Твердохлиба, прозаика Михайла Ицкива тепло приветствовал Иван Франко: «Живое чувство действительности, презрение к шаблону, страстные поиски правды в обсервации — вот что характеризует этих молодых писателей и заставляет возлагать на них самые лучшие надежды».
В первые два десятилетия XX столетия поэзия «Молодой музы» была известной и популярной на Восточной Украине. Под ее влиянием взрос Григорий Чупринка, стих которого завораживал энергичной звукописью, мелодикой ритма, звонким переливом тонов. Поэт Олекса Коваленко, собравший в Киеве молодые художнические силы вокруг подготовки антологии «Украинская муза» и альманаха «Терновый венок», а главным образом, привлекший творческую молодежь к изданию организованного им в 1909 году журнала «Украинская хата», так писал в эссеистичном вступлении к первому сборнику Григория Чупринки «Огнецвет» (1910): «В украинской поэзии, после бесконечного монотонного перепева стихов Шевченко, начинается новая эра, с философично-этическим направлением, в свободной, артистической форме.
Настроили уже на новый лад свои кобзы Микола Вороный, А. Олесь, Петро Карманский, Василь Пачовский, Микола Филянский. А вот идет еще один поэт: Грицько Чупринка…»
Новые пути украинской модерной поэзии лежали как на Восток, так и на Запад. Григорий Чупринка зачитывался Константином Бальмонтом, Иннокентием Анненским, Александром Блоком, Шарлем Бодлером, поэзия «молодомузовцев» вырастала под творческим влиянием и в творческом диалоге с польскими модернистами — Каспровичом, Тэтмайером, Выспянским, другими современными европейскими — преимущественно французскими и итальянскими — поэтами.
Крупной заслугой украинских поэтов-модернистов было обогащение национальной поэтики новыми формами и приемами, новыми образно-смысловыми принципами благодаря приобщению к европейской культуре. Много значила сама общественная атмосфера предреволюционного времени, сама Революция, идеи, события и настроения которой органически выливались в эмоционально открытых исповедях и декларациях, разворачивались в символических образах, «произведенных» предреволюционным символизмом, но поэтически «опредмеченных» реалиями революционной действительности.
Именно на этой мощной волне революционного энтузиазма так ярко и впечатляюще расцвел талант Василия Чумака, Павла Тычины, Василя Эллана-Блакитного. Если для Василя Чумака — девятнадцатилетнего революционера, расстрелянного деникинцами, — революция оживает в образе-символе обновляющей землю и общество весны, в образе миллионнотворческих усилий легионов рабочих-трударей, готовых к героической жертвенности без посмертной славы, то для аскетического, сконцентрированного на смысловом утверждении идеи Василя Эллана больше значила конкретика революционного созидания реальной жизни. В первых его стихотворениях символ доминирует, образ тяготеет над мыслью, но позже стих Эллана становится суровее, наполняется прозаизмами, синтаксически дисциплинируется и стремится «работать» на ежедневную жажду вопросов революционной действительности.
Павло Тычина дольше других сохранил необходимость созидания величавой гармонии жизни в музыкально-ассоциативном единстве с хоральными речитативами природы, счастливую возможность включаться душой в каждый миг поэтического вдохновения, «спровоцированного» бесконечной сменой жизненных впечатлений. Однако суровая, жестокая реальность революционного течения событий, взбурленного и благотворными силами, и силами антигуманными, которые породили террор, голод, сиротство и беспризорность, безжалостную борьбу за власть, диктатуру и репрессии, приглушила этот великий талант.
С иным поэтическим ключом подошел к образному открытию человека и мира сдержанный и ясный Максим Рыльский. Стимулирует его творческую энергию прадавний и неутомимый дух человеческого самопознания, в котором соединилась поэтика украинского образного мышления с античной и европейской поэзией. Тонкий лирик и глубокий философ природы, он создал классические образцы переводов многих шедевров поэтического искусства мира. Он подвергался жестокой, несправедливой, до отчаяния оскорбительной критике, обвинялся в буржуазном национализме, в пропаганде буржуазной культуры, однако не сдался и достойно прожил большую жизнь.
Было это время — время революционных событий на Украине, время украинского возрождения — удивительное, радостное, тревожное. Творили революционные романтики, символисты, модернисты, футуристы… Что ни поэт, то новая форма, новая концепция художественного развития. Многое удивляет и заставляет задуматься лидера литературно-художественной группы «Гроно» («Гроздь») Валерьяна Полищука — этого энергичного и независимого, бунтарского «философа с головой мальчика», как он сам себя называл. Нет, он не отбрасывает ни приемов импрессионизма, ни футуризма, ибо считает, что для пролетарских масс надо создавать синтетическое искусство, которое гармонично объединяло бы все существующие течения. В поэзии должна найти отклик красота движения, динамичной скорости как антитеза инертности. В своем порыве к синтетическому искусству — искусству революционного динамизма Валерьян Полищук отстаивает идею искусства универсального, вне времени и пространства («…искусство не зависит от времени или нации, которая его создала»).
В 1925 году он организовал литературную группу «Авангард», поскольку хочет быть «животворным, правдивым и разнообразным», а главное — необходимым революции, социализму. Не пришлось. На тридцать седьмом году жизни — в 1934 году его арестовывают, а 9 октября 1937 года расстреливают. Не мог он остаться в живых, несмотря на то, что написал революционную «Книгу восстаний», сборник красноармейских стихов, много стихотворений, посвященных Ленину, ибо по жестокой логике истребления интеллигенции он — яркий, бунтующий, безоглядно полемический поэт — не мог органично жить в душной атмосфере командно-бюрократического контроля за каждой поэтической строчкой.
Пытался жить и творить в идейно-эстетическом ритме новой пролетарской литературы один из первых украинских символистов Яков Савченко. Искренно верил, что любое отклонение от нормированных эстетических принципов, на которые ориентировались представители «пролетарского стиля», прежде всего он сам, как творец его и пропагандист, угрожает чистоте марксистско-ленинской идеологии и методологии. Поэтому резко, как критик, выступал и против ваплитовцев, называя «азиатский ренессанс» Миколы Хвылевого «азиатским апокалипсисом», против неоклассиков, которые, как ему казалось, пытались реставрировать отжившее и идеологически вредное греко-римское искусство, во многом противореча самому себе — поэту оригинальному, аллегорическому, символично образному. Погиб на Соловках, пророчески предрекая свою судьбу и судьбу миллионов.
Один між трупами піду. Вгорі Червоний Ворон кряче На кров. На бурю. На біду.Приближение крови, бури и многочисленных бед предчувствовал не только Яков Савченко.
За революционно-романтичными, символичными образами-метафорами обреченных на уничтожение Майка Йогансена, Владимира Кобылянского, Ярошенко, Олексы Слисаренко и многих других поэтов прячутся удивление, растерянность, а то и отчаяние. Сурово и безжалостно анализируют реальность каждодневной жизни прозаики Валерьян Подмогильный, Андрей Головко, Иван Сенченко, Борис Антоненко-Давидович, Юрий Яновский, Петро Панч.
Но особенно выразительно отобразил эту анатомию новых настроений и общественных переживаний, перерождение коммуниста, недавнего революционера-коммунара, один из основоположников новой украинской прозы Микола Хвылевый. Творческое «я» Миколы Хвылевого, как и многих других художников, вынуждено раздваиваться под нажимом политиканских указаний, как писать, о чем писать и зачем писать. Теряется ощущение внутренней творческой свободы, сворачиваются литературные дискуссии, закрываются литературные организации. Его самоубийство 13 мая 1933 года должно было, как предвидел Микола Хвылевый, осознанно планируя этот акт, предостеречь партию, правительство страны, литературных оппонентов от дальнейшего угрожающего для развития литературы и искусства деформирования принципов творчества и функционирования культурных ценностей. Процесс раздвоения «я» Миколы Хвылевого неминуемо катастрофичен. Как человек, он хочет жить, но как художник, как творец и духовный проводник своей генерации, он должен уйти из жизни.
Вчитываемся в его предсмертную записку, полный текст которой прозвучал 13 декабря 1988 года в Киеве на литературном вечере, посвященном 95-летию со дня рождения Миколы Хвылевого:
«Арест Ялового — это расстрел целой Генерации… За что?
За то, что мы были наичестнейшими коммунистами? Ничего не понимаю.
За Генерацию Ялового отвечаю прежде всего я, Микола Хвылевый.
„Значит“, как говорит Семенко…
Ясно.
Сегодня прекрасный солнечный день.
Как я люблю жизнь — вы и не представляете. Сегодня 13. Помните, как я был влюблен в это число?
Страшно больно.
Да здравствует коммунизм.
Да здравствует социалистическое строительство.
Да здравствует коммунистическая партия.
Р. S. Все, в том числе и авторские права, передаю Любови УМАНЦЕВОЙ. Очень прошу товарищей помочь ей и моей матери.
13. 1933 г.
Микола Хвылевый».Раздвоение Миколы Хвылевого очевидно. Прежде всего он говорит от имени генерации, именно с нею он связывает свое «я», и уничтожение генерации, сигналом для которого стал арест первого президента ВАПЛИТЕ Михайла Ялового, было началом ликвидации Хвылевого-художника. И это трагично до абсурда, поскольку все они были, как пишет в день своего добровольного ухода из жизни Микола Хвылевый, «наичестнейшими коммунистами». Потому он и признается: «Ничего не понимаю…», что гибель, уничтожение их осуществляется от имени и во имя тех идей, которые они отстаивали, в которые свято верили и во имя которых они творили новую литературу и искусство.
Вторая часть записки — это уже исповедь Хвылевого-человека, Хвылевого-жизнелюба, которому «страшно больно» оставлять в этот «прекрасный солнечный день» жизнь. Но у него нет выбора. Хвылевый хочет своей смертью спасти литературную генерацию («За Генерацию Ялового отвечаю прежде всего я, Микола Хвылевый»), и этими тремя абсолютно искренними лозунгами: «Да здравствует коммунизм. Да здравствует социалистическое строительство. Да здравствует коммунистическая партия» — он обращается к партии, к правительству с заверениями, что в деятельности этой генерации не было и намека на оппозицию к генеральной линии социалистического строительства.
Не случайно, наоборот, сознательно было избрано 13 число для самоубийства. 13 декабря Микола Хвылевой родился, в 13 число он был влюблен. Он хотел и этим числом, которое в народе считается несчастливым, усилить символическую трагичность своего поступка. Не случайно он собрал у себя друзей — они должны были засвидетельствовать осознанность им этого последнего шага в жизни, сберечь это трагическое событие в своей памяти и в памяти поколений, прочесть его предсмертную записку и передать ее тем, кто начал арестом Ялового «расстрел целой Генерации».
Мужество Миколы Хвылевого поражает. Самоубийство талантливого писателя и организатора литературного процесса на Украине свидетельствовало, что процессы деиндивидуализации человека, обусловленные директивным контролированием его общественного поведения, способа мышления, ориентации, принимают угрожающую для социализма форму, Усиливается жонглирование цитатами из работ В. И. Ленина с целью «теоретического» обоснования концепции строительства социализма по сталинским казарменным принципам, медленно, но целенаправленно перерубаются взаимосвязи человека с историческим прошлым, разрушается так тяжело налаженный механизм социально-культурного наследия, который должен обеспечить полноту формирования духовного лица нации и ускорить самосознание украинской культуры как феномена национального. Идеологически вредным и политически ошибочным начал считаться тезис Миколы Хвылевого и ваплитовцев о необходимости полного отстранения украинской литературы от литературы русской с целью более четкой выразительности своего национально неповторимого лица, а потом — с целью поисков и собственных самобытных путей развития.
На Западе еще и сейчас продолжают наращивать идеологические пирамиды вокруг приписанного Хвылевому тезиса «Прочь от Москвы!», забывая или сознательно закрывая глаза на то, что М. Хвылевый любил русскую литературу и не призывал отстраниться от литературы русского народа, а только учесть, что она имеет большое, иногда просто магическое влияние на литературу украинскую, и уже этим самым она подсознательно ориентировала ее представителей на наследование, заимствование тем, мотивов, стиля и форм.
В «Третьем письме к литературной молодежи», имевшем подзаголовок «Про демагогическую водичку, или Настоящий адрес украинской воронщины, свободная конкуренция, ВУАН и т. д.», Микола Хвылевый говорит не обо всей русской литературе, а о той русской пролетарской литературе, которая исповедовала тезисы русского критика А. Воронского, апологета Пролеткульта: «Воронский вырос в атмосфере исключительно попутнического окружения. Русская пролетарская литература сошла пока что на обочину. Она не сумела отвоевать себе позиции, ибо страдала узостью, просвещенчеством. Самоварники и аршинники из пролеткульта доконали ее».
Так что именно от этой Москвы — Москвы литературной, на идейных знаменах которой пламенели лозунги пролеткультовского игнорирования национальных факторов, — призывал Микола Хвылевый отстраняться. И потому, что Украина страдала культивированием просвещенчества, шароварничества, бездумного копирования культурных ценностей других народов, прежде всего — и это было традицией — русского.
К слову, в письмах к Миколе Зерову Микола Хвылевый не раз подчеркивал свое пиететное отношение к русской культуре: «Благодаря отцу я рано перечитал русских классиков, хорошо познакомился с Диккенсом, Гюго, Флобером, Гофманом и т. д., — пишет он в 1924 году. — Но больше всего зачитывался Добролюбовым, Белинским, Писаревым — этой троицей, которая не сходила с отцовых уст». Не следует забывать, что русская художественная культура открывала особенно впечатлительный, чрезвычайно чуткий на изменения в общественном организме эстетический мир, отличалась морально-психологической глубиной и исповедальностью человеческой души, умением отобразить трагические конфликты времени и осознавать их в масштабах всечеловеческой значимости.
Такую русскую литературу — литературу Евгения Замятина, Артема Веселого, Лидии Сейфуллиной — Микола Хвылевый любил.
По сути, 1933 годом — годом страшного голода на Украине — и начинается целенаправленная акция неудержимого уничтожения творческой и научной интеллигенции. И эти ужасы, которые пережили и сами репрессированные, и их родные, близкие, знакомые, никогда не забывались.
«Я все хорошо помню, — рассказывает Нина Петровна. — Этого невозможно забыть. Сколько я пережила, как нас готовили к ссылке: угрожали, я теряю сознание, меня били ногами, чтоб я пришла в себя, наконец определили для нас Башкирию… Что я могла сделать? Поехала.
Все помню, и до сих пор страх не проходит. Аресты знакомых, родных, друзей, известных культурных украинских деятелей, а погодя — и партийных…»
Непоправимые утраты. Тяжело представить, сколько духовной энергии, которую освободила социалистическая революция, было ликвидировано. Невозможно предвидеть, какой высоты была бы эта волна духовного прилива, которая так многообещающе и раскованно расчистила веками заиленные ручейки национальной культуры и понесла к океану мировой культуры. По далеко не полным, не точным подсчетам, в нашей стране в двадцатые — пятидесятые годы пострадали более двух тысяч одних только литераторов, а около полутора тысяч из них погибло в тюрьмах, в лагерях. Было репрессировано более 90 процентов писателей, которые были приняты в Союз писателей в 1934 году.
Особенно тяжелые потери понесла украинская советская литература. Было репрессировано свыше 300 литераторов, из них 25 вернулись живыми из лагерей и включились в литературную жизнь. До сегодняшнего дня творческое наследие большинства репрессированных писателей не переиздано, то есть является недоступным для широкого круга читателей. Рукописные материалы абсолютного большинства репрессированных, их личные библиотеки, переписка или уничтожены, или неизвестно где еще сохраняются.
Больно и грустно, ибо действительно был прав Михайло Драй-Хмара, из фаланги славных творцов новой — социалистической — литературы выбывали лучшие.
Перевод В. Максимова
Коротко об авторах
ЕВГЕН ПЛУЖНИК
Плужник Евгений Павлович родился 26 декабря 1898 г. в с. Кантемировка Воронежской обл. в крестьянской семье. Закончил гимназию, учился в Киевском ветеринарном институте и Киевском музыкально-драматическом институте. Работал учителем на Полтавщине. Принадлежал к литературной организации «Ланка». В 1934 г. репрессирован. Умер в заключении в 1936 г.
МИКОЛА ЗЕРОВ
Зеров Николай Константинович родился 26 апреля 1890 г. в г. Зинькове на Полтавщине в семье учителя. Закончил Киевский университет. Входил в группу «неоклассиков». Репрессирован в 1934 г., умер в заключении 13 октября 1941 г.
МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА
Драй-Хмара Михаил Афанасьевич родился 10 октября 1889 г. в с. Малые Канивцы Чернобаевского района на Черкасщине. Учился в гимназии и университете. Принадлежал к группе «неоклассиков». Был репрессирован в 1935 г., умер в заключении 19 января 1939 г.
ПАВЛО ФИЛИПОВИЧ
Филипович Павел Петрович родился 2 сентября 1891 г. в с. Кайтановка Катеринопольского района на Черкасщине в крестьянской семье. Закончил историко-филологический факультет Киевского университета. Принадлежал к литературной группе «неоклассиков». Был осужден на 10 лет заключения. Умер в ноябре 1937 г.
МАЙК ЙОГАНСЕН
Йогансен Михаил Гервасиевич (псевдонимы В. Вецелиус, М, Крамар) родился 16 февраля 1895 г. в Харькове в семье учителя. Окончил гимназию, историко-филологический факультет Харьковского университета. Был членом литературных организаций «Гарт» и «ВАПЛИТЕ». Был репрессирован. Умер 27 октября 1937 г.
МИКОЛА ХВЫЛЕВЫЙ
Хвылевый Николай Григорьевич (настоящая фамилия Фитилев) родился 13 декабря 1893 г. в г. Тростянец Сумской области в семье рабочего. По его инициативе создана литературная организация «ВАПЛИТЕ», которой он руководил со времени ее образования (1925) до своего выхода из нее (1927). 13 мая 1933 г. покончил жизнь самоубийством.
ОЛЕКСА ВЛЫЗЬКО
Влызько Алексей Федорович родился 17 февраля 1908 г. в с. Коростень Новгородской области в семье мелкого служащего. Был членом литературных организаций «Молодняк», «Новая генерация». По обвинению в подготовке террористических актов против Советской власти был приговорен к расстрелу. Приговор исполнен 15 декабря 1934 г.
МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО
Семенко Михаил Васильевич родился 31 декабря 1892 г. в с. Кибинцы на Полтавщине. Учился в Петербургском психоневрологическом институте. Родоначальник украинского футуризма. Был репрессирован. Умер 24 октября 1937 г. в заключении.
ГЕО ШКУРУПИЙ
Шкурупий Юрий Данилович родился 20 апреля 1903 г. в г. Бендеры Молдавской ССР в семье железнодорожного машиниста. Учился в Киевском институте внешних отношений. Принадлежал к литературным организациям «Аспанфут», Комункульт, «Новая генерация». Был репрессирован. Умер в заключении 25 ноября 1937 г.
ВАЛЕРЬЯН ПОЛИЩУК
Полищук Валерьян Львович родился 1 октября 1897 г. в с. Бильче Млиновского района Ровенской области в крестьянской семье. Учился в Петроградском университете гражданских инженеров, в Каменецком университете. Был репрессирован. Жизнь поэта оборвалась в заключении 3 ноября 1937 г.
ВАСИЛЬ ЧУМАК
Чумак Василий Григорьевич родился 7 января 1901 г. в г. Ичне на Черниговщине в крестьянской семье. Закончил Городнянскую гимназию.
Расстрелян деникинской контрразведкой в Киеве 21 ноября 1919 г.
ВАСИЛЬ БЛАКИТНЫЙ
Блакитный (Эллан) Василий Михайлович родился 12 января 1894 г. в с. Козел на Черниговщине в семье священника. Учился в Киевском коммерческом институте.
Умер 2 декабря 1925 г.
ПАВЛО ТЫЧИНА
Тычина Павел Григорьевич родился 27 января 1891 г. в с. Писки Бобровицкого района Черниговской области в семье сельского дьяка. Учился в бурсе, затем в Черниговской духовной семинарии и в Киевском коммерческом институте.
За сборник стихотворений «Чувство семьи единой» удостоен Государственной премии СССР (1941). За трехтомник произведений — Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1962).
Умер 16 сентября 1967 г.
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ
Рыльский Максим Фаддеевич родился 19 марта 1895 г. в г. Киеве в семье украинского культурно-просветительского деятеля и этнографа Т. М. Рыльского.
За книги стихов «Розы и виноград», «Далекие небосклоны» удостоен Ленинской премии (1960); за сборники стихов «Светлое оружие», «Световая заря», «Слово о родной матери», «Путешествие в молодость» — Государственной премии СССР (1943); за перевод поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» Государственная премия СССР присуждена вторично (1950).
Умер 24 июля 1964 г.
МИКОЛА БАЖАН
Бажан Николай Платонович родился 9 октября 1904 г. в г. Каменец-Подольском в семье военнослужащего.
За книгу «Карбы» отмечен Ленинской премией в 1982 г. Лауреат двух Государственных премий СССР (за сборники «Клятва», «Сталинградская тетрадь» и поэму «Данило Галицкий» — в 1946 г., за цикл стихотворений «Английские впечатления» — в 1949 г.). Был академиком АН УССР.
Умер 23 ноября 1983 г.
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ
Первомайский Леонид Соломонович (Гуревич Илья Шлемович) родился 17 мая 1908 г. в г. Краснограде Харьковской области в семье ремесленника. Закончил гимназию.
За сборники стихов «День рождения» и «Земля» удостоен Государственной премии СССР (1946).
Умер 9 декабря 1973 г.
ИВАН КУЛИК
Кулик Иван Юлианович родился в г. Шполе на Черкасщине в учительской семье. По окончании четырехклассной школы учился в художественной школе в Одессе. В 1914 г. уехал в Америку, работал чернорабочим на фабриках и шахтах. После февральской революции 1917 г. вернулся на Украину. Репрессирован в 1937 г., умер 14 октября 1941 г. в заключении.
ВАСИЛЬ БОБИНСКИЙ
Бобинский Василий Петрович родился 11 марта 1898 г. в г. Кристинополе (ныне г. Червоноград) на Львовщине в семье железнодорожника. Учился в гимназиях Львова и Вены. С 1922 г. сотрудничал в революционной печати, за что в 1926 г. был брошен за решетку. В 1930 г. эмигрировал в СССР, жил и работал в Харькове. В 1934 г. был осужден. Умер в заключении 2 января 1938 г.
ДМИТРО ЗАГУЛ
Загул Дмитрий Юрьевич родился 28 августа 1890 г. в с. Милиево Вижницкого района Черновицкой области в крестьянской семье. Учился на философском факультете Черновицкого университета. Состоял членом литературного объединения «Западная Украина». Был репрессирован. Умер в 1938 г.
МИКОЛА ФИЛЯНСКИЙ
Филянский Николай Григорьевич родился 19 декабря 1873 г. в с. Попивка Миргородского района на Полтавщине в семье священника. Закончил физико-математический факультет Московского университета, учился в художественной студии В. Серова и архитектурной мастерской проф. Шехтеля. Был репрессирован. Умер в заключении 12 января 1938 г. (По другим данным — 14 февраля 1945 г.)
ВЛАДИМИР СВИДЗИНСКИЙ
Свидзинский Владимир Ефимович родился 8 октября 1885 г. в с. Маянив Тивривского района на Винничине в семье псаломщика. Учился в духовной бурсе и Каменец-Подольской духовной семинарии. Закончил Киевский коммерческий институт. Принадлежал к литературной организации «Плуг». Трагически погиб 18 октября 1941 г.
НИКАНОР ОНАЦКИЙ
Никанор Харитонович Онацкий родился 28 декабря 1874 г. в хуторе Хоменковом Липоводолинского района Сумской области в крестьянской семье. Учился в художественном училище при Петербургской академии искусств, в классе Ильи Репина. Известен как видный украинский художник и организатор музейного дела. Был репрессирован. Умер в заключении в 1940 г.
ГНАТ МИХАЙЛИЧЕНКО
Михайличенко Гнат Васильевич родился 27 сентября 1892 г. в с. Студенок на Сумщине в крестьянской семье. Учился в Харьковском земледельческом училище, в Московской сельскохозяйственной школе. Участвовал в революционном движении. Был приговорен к шести годам каторги и пожизненной ссылке в Сибирь. 21 ноября 1919 г. погиб от деникинской пули.
ГРИГОРИЙ ЧУПРИНКА
Чупринка Григорий Михайлович родился 27 ноября 1879 г. в с. Гоголеве на Черниговщине в крестьянской семье. Учился в гимназиях Киева и Лубен. В 1919 г. расстрелян, будучи обвинен в организации антисоветского восстания.
ВАСИЛЬ МЫСЫК
Мысык Василий Александрович родился 24 июля 1907 г. в с. Новопавловка Днепропетровской области в крестьянской семье. Закончил Харьковский техникум востоковедения.
Был репрессирован. Умер 3 марта 1983 г.
ПАВЛО УСЕНКО
Усенко Павел Матвеевич родился 23 января 1902 г. в с. Заочипске Царичанского района Днепропетровской области в крестьянской семье. Был организатором союза комсомольских писателей «Молодняк».
Умер 4 августа 1975 г.
МИХАЙЛО ДОЛЕНГО
Михайло Доленго (Клоков Михаил Васильевич) родился 10 августа 1896 г. в г. Лебедине Сумской области в семье народного учителя. Учился в Харьковском университете, работал в Институте ботаники АН УССР.
Умер 5 октября 1981 г.
АНДРИЙ ЧУЖИЙ
Андрий Чужий (Андрей Антонович Сторожук) родился в 1897 г. в г. Умани. Закончил двухклассное училище. Работал телеграфистом на железной дороге.
Был репрессирован. Умер 28 сентября 1989 г.
АЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ
Александр Олесь (Кандыба Александр Иванович) родился 5 декабря 1878 г. на хуторе Кандыбы Белопольского района Сумской области. В 1919 г. эмигрировал за границу. В книгах «На чужбине» (1920), «Кому поведаю печаль мою» (1931) выразил жгучие чувства ностальгии, тоски по родине. Умер 22 июля 1944 г.
БОГДАН ЛЕПКИЙ
Лепкий Богдан Сильвестрович родился в 1872 г. в с. Крогулька Тернопольской области. Принадлежал к литературной группе «Молода муза». Автор многих сборников рассказов, повестей, стихотворений, а также ряда историко-литературных трудов. Умер в 1941 г.
ПЕТРО КАРМАНСКИЙ
Карманский Петр Сильвестрович родился 29 мая 1878 г. в местечке Цешанув (теперь — ПНР) в мещанской семье. Учился во Львовском университете, затем в коллегиуме Ватикана в Риме. Умер 6 апреля 1956 г.
СТЕПАН ЧАРНЕЦКИЙ
Чарнецкий Степан Николаевич родился 21 января 1881 г. в с. Шаньковцы Чортковского района Тернопольской области. Закончил Львовский политехнический институт. Работал режиссером и художественным руководителем театра. Умер 2 октября 1944 г.
МИХАЙЛО РУДНИЦКИЙ
Рудницкий Михаил Иванович родился 7 января 1889 г. в г. Пидгайци Бережанского района Тернопольской области в семье нотариуса. Закончил Львовский университет. Умер 1 февраля 1975 г.
ВАСИЛЬ ПАЧОВСКИЙ
Пачовский Василий Николаевич родился 2 января 1878 г. в с. Жуличи на Львовщине. Учился во Львовском университете. Умер 5 апреля 1942 г.
БОГДАН-ИГОРЬ АНТОНИЧ
Богдан-Игорь Антонич родился в с. Новица на Лемковщине (теперь территория ПНР). Закончил Львовский университет. Умер 6 июля 1937 г.
ВЛАДИМИР СОСЮРА
Сосюра Владимир Николаевич родился 6 января 1898 г. на станции Дебальцево Донецкой области в семье рабочего. За сборник «Чтобы сады шумели» удостоен Государственной премии СССР (1948), за сборники стихотворений «Ласточки на солнце» и «Счастье семьи трудовой» — Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1963). Умер 8 января 1965 г.
Примечания
1
Волошки — васильки.
(обратно)2
Популярная народная мелодия.
(обратно)3
Предрассудок (лат.).
(обратно)4
Волосожар — созвездие Плеяд.
(обратно)5
Михайло Яловой (Юлиан Шпол) — украинский писатель, некоторое время принадлежал к аспанфутам.
(обратно)6
Прапор — флаг (укр.).
(обратно)7
Локи — один из богов в скандинавской мифологии.
(обратно)8
Мары — носилки для покойников.
(обратно)9
Названия племен и народов, которых одолели древние славяне.
(обратно)10
Сагайдаки — колчаны для стрел.
(обратно)11
Скала на Капитолийском холме, откуда сбрасывали приговоренных к смерти.
(обратно)12
Мученица христианской церкви.
(обратно)13
Старинная одежда.
(обратно)14
Мученица христианской церкви.
(обратно)15
Птица — другое название сизоворонка.
(обратно)16
В украинском народном творчестве Байдой прозвали одного из основоположников Запорожской Сечи гетмана Дмитра Вишневецкого. Он был пойман турками и подвешен в Стамбуле острым крюком под ребро.
(обратно)17
Речь идет о засухе и неурожае 1921 года в Поволжье и в других местностях нашей страны (Прим составителя).
(обратно)18
Перезва — свадебный обряд.
(обратно)19
Заключительная часть (ит.).
(обратно)20
Ты знаешь тот край?.. (нем.).
(обратно)21
Ты играешь достойно и гибко, Не выказывая забот. Но в игре твоей есть и ошибка: Ставку эту другой возьмет. Грильпарцер (нем.).(Перевод Г. Некрасова) (обратно)22
За кайзера — родину? (нем.).
(обратно)23
Имя неизвестно (нем.).
(обратно)24
Ки́чера — гора с безлесной вершиной (обл.).
(обратно)25
Опришок — повстанец в Галиции XVIII в.
(обратно)26
Смерека — ель (обл.).
(обратно)27
Лемки — этническая группа.
(обратно)28
Троянда — роза (укр.).
(обратно)
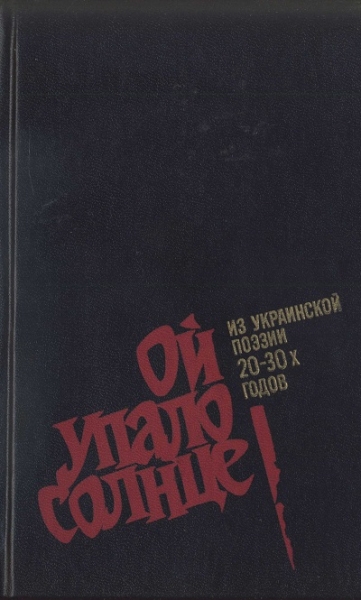

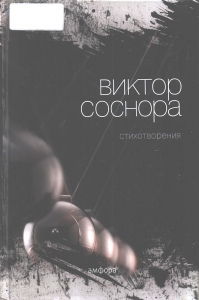
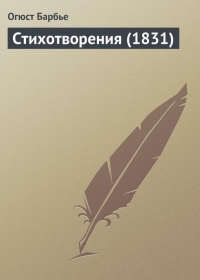


Комментарии к книге «Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов», Максим Фаддеевич Рыльский
Всего 0 комментариев