Из книги «Воспитание словом»
О сказках Пушкина
У каждого возраста — свой Пушкин. Для маленьких читателей — это сказки. Для десятилетних — «Руслан». В двенадцать — тринадцать лет нам открываются пушкинская проза, «Полтава», «Медный всадник». В юношеские годы — «Онегин» и лирика.
А потом — и стихи, и проза, и лирика, и поэмы, и драматические произведения, и эпиграммы, и статьи, и дневники, и письма… И это уже навсегда!
С Пушкиным мы не расстаемся до старости, до конца жизни. Только в зрелом возрасте мы постигаем удивительное сочетание простоты и сложности, прозрачности и глубины в пушкинских стихах и прозе.
Имя Пушкина, черты его лица входят в наше сознание в самом раннем детстве, а первые услышанные или прочитанные нами стихи его мы принимаем как подарок, всю ценность которого узнаешь только с годами.
Помню, более полувека тому назад замечательный русский композитор Анатолий Константинович Лядов, которого я встретил под Новый год у критика В.В. Стасова, спросил меня:
— Вы любите Пушкина?
Мне было в то время лет тринадцать-четырнадцать, и я ответил ему так, как ответило бы тогда большинство подростков, имеющих пристрастие к стихам:
— Я больше люблю Лермонтова!
Лядов наклонился ко мне и сказал убедительно и ласково:
— Милый, любите Пушкина!
Это отнюдь не значило: «Перестаньте любить Лермонтова».
Лермонтов рано овладевает нашим воображением и неизменно сохраняет в душе у нас свое особенное место. Но постичь величавую простоту пушкинского стиля не так-то просто. Разумеется, рано или поздно Пушкин открылся бы мне во свей своей глубине и блеске и без отеческого наставления А.К. Лядова. И все же я до сих пор благодарен ему за доброе напутствие и полагаю, что дети нашего времени будут не менее благодарны своим педагогам и родителям за столь же своевременный совет:
— Милые, любите Пушкина!
В каком возрасте становятся понятны детям пушкинские сказки?
Трудно определить с математической точностью границы читательских возрастов. Но пусть эти сказки будут в каждой нашей семье наготове, пусть ждут они того времени, когда ребенок начнет понимать их смысл или хотя бы любить их звучание.
Ведь не только страницы книги, но и самые простые явления жизни дети начинают понимать не сразу и не целиком.
Как известно, далеко не все современники поэта по достоинству оценили в нем сказочника. Были люди, которые жалели, что Пушкин спускается с высот своих поэм в область простонародной сказки.
А между тем в «Царе Салтане», в «Мертвой царевне» и в «Золотом петушке» Пушкин — тот же, что и в поэмах. Каждая строчка сказок хранит частицу души поэта, как и его лирические стихи. Слова в них так же скупы, чувства столь же щедры. Но, пожалуй, в сказках художественные средства, которыми пользуется поэт, еще лаконичнее и строже, чем в «Онегине», «Полтаве» и в лирических стихах.
Зимний пейзаж, являющийся иной раз у Пушкина сюжетом целого стихотворения («Мороз и солнце; день чудесный!..» или «Зима. Что делать нам в деревне?..»), дается в сказке всего двумя, тремя строчками:
…вьется вьюга, Снег валится на поля, Вся белешенька земля.Так же немногословно передает поэт в сказках чувства, душевные движения своих действующих лиц:
Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалеча наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелешенько вздохнула, Восхищенья не снесла И к обедне умерла.Одна пушкинская строчка: «Тяжелешенько вздохнула» — говорит больше, чем могли бы сказать целые страницы прозы или стихов.
Так печально и ласково звучит это слово «тяжелешенько», будто о смерти молодой царицы рассказывает не автор сказки, а кто-то родной, близкий, может быть ее старая мамка или нянька.
Да и в самом этом стихе, который, при всей своей легкости, выдерживает такое длинное, многосложное слово, и в следующей строчке — «Восхищенья не снесла» — как бы слышится последний вдох умирающей.
Только в подлинно народной песне встречается порою такое же скромное, сдержанное и глубокое выражение человеческих чувств и переживаний.
Слушая сказки Пушкина, мы с малых лет учимся ценить чистое, простое, чуждое преувеличения и напыщенности слово.
Просто и прочно строится в «Царе Салтане», в «Сказке о рыбаке и рыбке» и в «Золотом петушке» фраза. В ней нет никаких украшений, очень мало подробностей.
Вспомните описания моря в лирических стихах или в «Евгении Онегине»:
Я помню море пред грозою: Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам!И сравните эти строки с изображением моря в «Царе Салтане»:
Туча по небу идет, Бочка по морю плывет.Здесь очень мало слов — все наперечет. Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо и море, занимающие в стихах по целой строчке.
И как неслучайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней.
В этом пейзаже, нарисованном несколькими чертами, нет берегов, и море с одинокой бочкой кажется нам безбрежным и пустынным.
Правда, в том же «Салтане» есть и более подробное изображение морских волн, но и оно лаконично до предела:
В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар, горя, Тридцать три богатыря…Пушкин всегда был скуп на прилагательные. А в сказках особенно. Вы найдете у него целые строфы без единого прилагательного. Предложения составлены только из существительных и глаголов. Это придает особую действенность стиху:
Сын на ножки поднялся, В дно головкой уперся, Понатужился немножко: «Как бы здесь на двор окошко Нам проделать?» — молвил он, Вышиб дно и вышел вон.Сколько силы и энергии в этих шести строчках, в этой цепи глаголов: «поднялся», «уперся», «понатужился», «молвил», «вышиб» и «вышел»!
Радость действия, борьбы — вот что внушают читателю-ребенку эти шесть строк. И завершаются они победой: вышиб и вышел.
И в поэмах пушкинских вы найдете такую же цепь глаголов, придающую действию стремительность, — в изображении Полтавской битвы или в описании боевого коня:
…Дрожит. Глазами косо водит И мчится в прахе боевом, Гордясь могучим седоком.Сказки не были предназначены для детей. Но как соответствует их словесный строй требованиям читателя-ребенка, не останавливающегося на описаниях и подробностях и жадно воспринимающего в рассказе действие.
Как легко запоминается детьми это чудесное шестистишие из «Салтана» («Сын на ножки поднялся»), похожее на «считалку» в детской игре. Оно и кончается, как считалка, словами: «вышел вон».
И вся сказка запоминается без труда не только потому, что написана легким, энергическим стихом, но и потому, что состоит из отдельных, внутренне и внешне законченных частей.
В сущности, и те две строчки, в которых изображены небо, море и плывущая бочка, тоже представляют собою вполне законченную картину, так же как и строфы, в которых появляются из пены морской тридцать три богатыря или изображается ручная белка в хрустальном домике:
Ель растет перед дворцом, А под ней хрустальный дом; Белка там живет ручная, Да затейница какая! Белка песенки поет Да орешки всё грызет, А орешки не простые, Всё скорлупки золотые, Ядра — чистый изумруд; Слуги белку стерегут…Все эти законченные части сказки представляют собой как бы звенья одной цепи, отдельные звезды, из которых состоит созвездие — сказка.
Но, для того чтобы возникло такое созвездие, каждая его составная часть должна быть звездой, должна светится поэтическим блеском. В сказках Пушкина нет «мостов», то есть служебных строк, задача которых сводится к тому, чтобы пересказывать по обязанности сюжет, двигать действие. Ни в одной строчке поэту не изменяет вдохновение.
Пушкинский стих всегда работает и умеет передавать ритм движенья, борьбы, труда.
Вот как на глазах у читателей мастерит себе лук и стрелу юный князь Гвидон:
Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает лук, Со креста снурок шелковый Натянул на лук дубовый, Тонку тросточку сломил, Стрелкой легкой завострил И пошел на край долины У моря искать дичины.Эти простые и скромные строчки из сказки поражают своей законченностью, сжатостью, эпиграмматической остротой и точностью. Недаром они перекликаются с известной пушкинской эпиграммой:
О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь: Ее с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу!В сказках Пушкин реже пользуется поэтическими фигурами, чем в лирических стихах и поэмах. Он создает живой, зримый образ, почти не прибегая к изысканным сравнениям и метафорам. Один и тот же стихотворный размер передает у него и полет шмеля или комара, и пушечную пальбу, и раскаты грома…
Такие стихи требуют от читателя гораздо больше пристального, сосредоточенного внимания, чем многозвонные, бьющие на эффект произведения стихотворцев-декламаторов.
Воспитывать это чуткое внимание надо с малых лет.
Дети почувствуют прелесть пушкинских сказок и в том случае, если будут читать их сами. Но еще больше оценят они стихи, если услышат их в хорошем чтении. Не декламация нужна, а четкое, толковое, верное ритму чтение. И прежде всего нужно, чтобы взрослый человек, читающий детям сказки, сам чувствовал прелесть русского слова и пушкинского стиха.
Пусть обратит он внимание на то, какими простыми средствами достигает поэт предельной изобразительности, как много значат в его стихах не только каждое слово, но и каждый звук, каждая гласная и согласная.
Когда Гвидон превращается в комара, про него говорится в стихах так:
Полетел и запищал…Или:
А комар-то злится, злится…А когда он же превращается в шмеля, про него сказано:
Полетел и зажужжал…И дальше:
Он над ней жужжит, кружится…Я не думаю, что мы должны объяснять ребенку, какое значение имеют в этих стихах звуки «з» и «ж», характеризующие полет комара и шмеля. Пусть дети чувствуют звуковую окраску стихов, не занимаясь анализом. Но мы-то сами, прежде чем прочесть стихи детям, должны хорошо услышать все эти «з» и «ж», длинное, высокое «и» — в слове «злится» и низкое, гулкое «у» — в словах «кружится» и «жужжит».
Нельзя по-настоящему оценить сказки Пушкина, не заметив, как разнообразно звучит у него, в зависимости от содержания стихов, один и тот же стихотворный размер:
Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На поднятых парусах Мимо острова крутого, Мимо города большого; Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят.Сколько в этом размере бодрости, стремительности, свободы!
А вот тот же стих в других обстоятельствах.
Царь Дадон (из «Золотого петушка») не получает вестей с войны от своих сыновей и ведет войска в горы им на помощь. Вот что он видит в горах:
Перед ним его два сына, Без шеломов и без лат, Оба мертвые лежат, Меч вонзивши друг во друга. Бродят кони их средь луга, По притоптанной траве, По кровавой мураве…Стихотворный размер в этом отрывке тот же, что и в предыдущем, но как различен их ритм.
В первом отрывке торжествует жизнь, во втором — смерть.
Величайший мастер стиха, Пушкин умеет, не меняя стихотворного размера, придавать ему любой оттенок — грусти, радости, тревоги, смятения.
Ритм в его строчках — лучший толкователь содержания и верный ключ к характеристике действующих лиц сказки:
Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет.Плавно и просторно ложатся слова в этом изображении величавой птицы.
Но тот же стих звучит частым говорком при упоминании других персонажей «Сказки о царе Салтане»:
А ткачиха с поварихой, С сватьей бабой Бабарихой Не хотят царя пустить Чудный остров навестить.«Салтан», «Мертвая царевна» и «Золотой петушок» написаны легким и беглым четырехстопным хорем. Этим же размером пользовалось в своих сказках множество стихотворцев от Пушкина до наших дней. И не раз люди, гоняющиеся за кратковременной модой и не дорожащие традициями русской поэзии, ставили вопрос: не устарел ли этот размер, не слишком ли он прост и беден?
Пушкинские сказки при внимательном изучении показывают, как зависит качество стиха от его содержания.
Стих беден, когда ничем не наполнен, когда идет порожняком, когда представляет собою рубленую прозу.
И тот же размер таит неисчерпаемые возможности для передачи богатого содержания. Он не похож на привычный четырехстопный хорей, он неузнаваем, когда облекает новые чувства, мысли, новый материал.
Стихотворный ритм в сказках Пушкина служит могучим подспорьем точному и меткому слову. Свободный, причудливый, он живо отзывается и на юмор и на пафос каждой строфы и строчки.
Свободно и стремительно движется сказка, создавая на лету беглые, но навсегда запоминающиеся картины природы, образы людей, зверей, волшебных существ.
А межу тем за этой веселой свободой сказочного повествования, ничуть не отяжеляя его, кроется серьезная мысль, глубокая мораль.
Где, в каких словах сказки находит выражение ее основная идея? На этот вопрос подчас не так-то легко ответить, потому что мораль пронизывает всю сказку от начала до конца, а не плавает на поверхности.
Моральному выводу не нужно особо отведенных строк, ибо он занимает столько же места, сколько и вся сказка.
Только историю жадного попа и работника его Балды поэт кончает прямым нравоучением, да и оно умещается в одной строке — в заключительных словах Балды:
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.А в такой поучительной сказке, как «Сказка о рыбаке и рыбке», и совсем нет отдельного нравоучения. Его с успехом заменяет нарисованная в последних трех строчках картинка:
Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А перед нею разбитое корыто.Недаром это «разбитое корыто» вошло в поговорку.
«Царь Салтан» кончается не моралью, а веселым пиром, как и многие народные сказки. Но на протяжении всей этой сказочной поэмы свет так явственно противопоставляется тьме, добро — злу и справедливость — несправедливости, что читатель всей душой участвует в заключительном пире, празднуя победу молодого, отважного и великодушного Гвидона над кознями врагов, над темным, душным запечным миром поварихи, ткачихи и сватьи бабы Бабарихи.
Пушкинская сказка — прямая наследница сказки народной. В созданиях народной поэзии Пушкина привлекают не только фабула и причудливые узоры внешней формы, но прежде всего их реалистическая основа, их нравственное содержание.
Не приходится и говорить о том, какая глубокая социальная правда кроется в тяжбе работника Балды с хозяином — попом, в неравном споре мудреца-звездочета с вероломным царем Дадоном.
Гневной горечью звучат слова покинутой князем девушки, мельниковой дочери , из драматической сказки «Русалка»:
Им любо сердце княжеское тешить Бедами нашими…Вот это-то замечательное сочетание нравственной и социальной правды с безупречно отлитой формой и делает сказки Пушкина особенно драгоценными для нашего времени.
Прекрасным наследием пушкинской сказочной поэзии почти не пользовались крупные поэты всего прошлого века и начала нынешнего. После Пушкина и Ершова на протяжении многих десятилетий так мало было создано выдающихся стихотворных сказок.
Дело наших поэтов — принять это обязывающее наследие.
Работая над сказкой, поэты, разумеется, не будут ученически повторять Пушкина. Он неповторим. Да и у каждой эпохи, а у нашей особенно, — свои задачи, свой стиль. К тому же советские поэты располагают не только пушкинским наследием, но и поэтическим опытом своих прямых предшественников и современников.
И все же чистота, ясность, живая действенность пушкинского сказочного слова будут всегда для нас эталоном — золотой мерой поэтического совершенств.
О сказках Андерсена
Мы уважаем народы за их открытия, изобретения, за их творческое участие в мировой истории.
Но по-настоящему любить и понимать незнакомый нам народ мы начинаем только после того, как нас пленит и тронет его искусство.
Сольвейг Ибсена и Грига — вот что сближает нас с Норвегией, издалека показывает нам её скалы и фиорды, ее растрепанные морским ветром сосны, её людей, простых и суровых, как сама природа Норвегии.
Бетховен и Гёте, Шиллер и Гейне — это они показали нам подлинную душу Германии.
Одного Бёрнса хватило бы, чтобы навсегда сдружить нас с Шотландией…
А есть на свете страна, которую мы узнаем и начинаем любить с самого раннего возраста.
Это Дания. Маленькая северная страна, с трех сторон окруженная морем, пленяет нас с детства потому, что в ней жил и писал величайший сказочник мира Ганс Христиан Андерсен.
Он входит в наши дома прежде, чем мы научились читать, — входит легкой, почти неслышной поступью, как прославленный им волшебник, мастер снов и сказок, маленький Оле-Лук-ойе, — тот самый Оле Закрой-глазки, который появляется у постели детей по вечерам, без башмаков, в толстых чулках, с двумя зонтиками под мышкой.
Один зонтик у него весь расшит и разрисован цветными узорами и картинками. Оле раскрывает его над хорошими детьми. Другой зонтик — гладкий, простой, без картинок. Если его раскроют над вами, вы не увидите ночью ничего кроме темноты.
Андерсен добрее своего маленького Лук-ойе. Он никогда не оставляет вас в темноте.
Пестрый зонтик, который он раскрывает над вами, — это сказочное небо андерсеновского мира, расшитое чудесными, неожиданными узорами. Их можно рассматривать без конца.
Чего только тут нет! Эльфы и тролли народной сказки, крошечная девочка — дюймовочка, вышедшая на белый свет из тюльпана, печальная маленькая русалка, подплывающая под самые окна человеческого жилья, прозрачный дворец из тончайшего китайского фарфора и детские салазки, летящие в холодном вихре вслед за большими белыми санями снежной королевы…
И во всей этой безмерной, богатой, щедрой фантастике — какое чувство меры и правды!
Волшебное царство превращается у Андерсена в жилой, понятный, знакомый мир. Чудесное так смело и удивительно сменяется у него реальным, простым, ощутимым, что мы чувствуем себя, как дома, в пещере, где живут ветры, и в подводном саду морской царевны, и в лесном холме, полном таинственной жизни.
Но зато у себя дома, в самой обыкновенной комнате, мы встречаемся с чудесами, которые обступают нас со всех сторон.
Резной козлоногий человечек со старинного шкафа сватается к фарфоровой пастушке, и она вместе со своим другом, игрушечным трубочистом, прячется от козлоногого в печной трубе. Чайники, кастрюли и спички на кухне судачат, спорят о том, кто из них важнее, и рассказывают друг другу сказки. Старинные кожаные обои задумчиво шелестят:
Позолота сотрется, Свиная кожа остается…Чувство меры и правды — вот что отличает Андерсена от слащавых и рассудочных сказочников-эпигонов, утративших связь с мудрой и сердечной народной поэзией.
У Андерсена нет и следа ложной красивости.
Суровая старуха, мать четырех ветров, похожая на датскую домовитую крестьянку, для острастки сажает своих разбушевавшихся сыновей в мешки, самые обыкновенные, большие и прочные мешки.
Лесной царь чистит свою золотую корону толченым грифелем, а для этого необходимы грифели первых учеников.
Хлопья метели, кружащиеся у ног снежной королевы, превращаются, разрастаясь, не в серебряных лебедей, а просто-напросто в крупных белых кур.
Впрочем, есть в сказках Андерсена и лебеди. Но один из самых прекрасных лебедей появляется перед нами в образе «гадкого утенка», которому приходится переживать столько гонений и бедствий, выслушать столько брюзгливых поручений от благонравной курицы и самодовольного кота. И только в самом конце сказки он раскрывает широкие лебединые крылья и узнает, что он — лебедь.
Можно сказать с полной уверенностью, что в своих волшебных сказках Андерсен рассказал о реальном мире больше и правдивее, чем очень многие романисты, претендующие на звание бытописателей.
Трудно найти более точное изображение глупого и церемонного светского общества, чем в той же сказке о гадком утенке.
Правда, старая дама, от которой зависит прием новичка в избранный круг, именуется у Андерсена не баронессой и не госпожой советницей, а всего только уткой испанской породы с красным лоскутком на лапке, но от этого она отнюдь не становится менее типичной.
Норвежские тролли, приехавшие в Данию, чтобы посвататься к дочерям лесного царя, ведут себя как заправские бурши, наглые, грубые и разнузданные.
Находясь в гостях в чужой стране, они кладут ноги на стол и, разувшись для удобства, дают дамам подержать свои сапоги. В конце концов от женитьбы они отказываются, — им больше нравится оставаться кутилами-холостяками, пить «на брудершафт» и произносить заплетающимся языком заздравные речи.
Я уже не говорю о таких откровенно сатирических сказках, как, например, «Свинья-копилка». Эта глиняная, стоящая на самой верхушке шкафа, так сказать, «высокопоставленная» свинья, — набитая до отказа деньгами и потому презирающая все, что не продается и не покупается, — может служить настоящим символом.
Конец сказки также поучителен, как и ее начало. Глиняная свинья разбилась на тысячи осколков, и эти осколки вымели с прочим мусором.
Правда, на смену разбитой свинье явилась другая свинья-копилка, столь же «высокопоставленная», и ее отдаленные потомки, как об этом сообщают газеты, включили сказки Андерсена в число запрещенных книг[1]. Однако нет никакого сомнения в том, что если какая-нибудь очень злая свинья и может съесть несколько хороших книг, то в целом мире свинство не съест человечества, его культуры, его искусства.
Всему праздному, надменному, самодовольному миру, где царствует свинья-копилка, Андерсен противопоставляет другой мир — труда, вдохновения, мужества.
Маленькая Герда, разыскивающая Кая по всему свету, гадкий утенок и даже игрушечный оловянный солдатик на одной ноге — все это образцы стойкости, твердой воли и нежного сердца.
Любимые герои Андерсена — простые и чистые люди.
В одной из его коротеньких сказок «Ребячья болтовня» дети, собравшиеся на праздник, хвастаются богатством и знатностью своих родителей. Маленькая нарядная девочка, дочь камер-юнкера, высокомерно заявляет, что из человека, у которого фамилия кончается на «сен» (а так кончаются почти все простонародные датские фамилии), ничего путного не может выйти.
Эти разговоры случайно слышит мальчик, прислуживающий на кухне. Понурив голову, уходит он домой. Горько знать, что, как ты не старайся, проку из тебя не будет, потому что твоя фамилия кончается на «сен»: Торвальдсен!
У героев Андерсена фамилии, даже если они не названы, всегда кончаются на «сен», как у самого автора и его знаменитого соотечественника, скульптора Торвальдсена.
Андерсен вышел из глубины простого народа. В наследство он получил все богатство народной поэзии, глубокое знание жизни и безупречное чувство справедливости.
Вот почему все народы мира кладут своим детям в изголовье, как лучший подарок, сказки Андерсена.
У нас в стране он давно уже обрел вторую родину.
Лев Толстой, Добролюбов, Горький с благодарностью и нежностью называли его имя.
Поколение за поколением воспитывалось на его сказках, радуясь, негодуя и сочувствуя до слез его героям.
А с тех пор как у нас не стало бесписьменных народов, он проник в самую глубь нашей страны — в ее горы, леса и степи.
Пожалуй, сам Ганс Христиан Андерсен, величайший мастер изумлять людей полетом воображения, удивился бы, если бы узнал, по каким необъятным просторам земли странствуют его нестареющие сказки.
«Сказка, возбуждающая народное чувство»
У Льва Николаевича Толстого есть одно произведение, в высшей степени замечательное, хоть и не очень известное, на ту же тему, что и «Война и мир», — об Отечественной войне 1812 года.
Толстой рассказал как-то деревенским школьникам, своим ученикам, всю эпопею войны с Наполеоном.
По уговору со школьным учителем он рассказывал им русскую историю «с конца», то есть с новейших времен, а учитель — «с начала», с древнейших.
История «с конца» занимала слушателей гораздо больше, чем история «с начала», — может быть, именно потому, что рассказчиком был Лев Толстой.
Он начал свою историю с Французской революции, рассказал об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне.
«Как только дошло дело до нас, — пишет Лев Николаевич, — со всех сторон послышались звуки и слова живого участия.
— Что ж, он и нас завоюет?..
…Когда не покорился ему Александр… все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу, — все замерли от волнения.
Немец, мой товарищ, стоял в комнате.
— А, и вы на нас! — сказал ему Петька….
…Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали объяснений: зачем? И ругали Кутузова и Барклая.
— Плох твой Кутузов.
— Ты погоди, — говорил другой
…Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, — все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец наступило торжество — отступление.
— Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить, — сказал я.
— Окарячил его! — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы…
Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга…
— Так-то лучше! Вот те и ключи…
Потом я продолжал, как мы погнали француза…
…как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате.
— А, вы так-то? То на нас, а как сила не берет, так с нами?
И вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа… торжествовали, пировали…»
На этом кончает Толстой свою историю Отечественной войны для детей.
Расходились его слушатели разгоряченные, взволнованные, полные боевого пыла.
«…все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил».
В заключение Толстой приводит очень любопытный свой разговор с немцем, на которого ребята «ухали». Немец не одобрил рассказа Льва Николаевича.
«— Вы совершенно по-русски рассказывали», — сказал он. «— Вы бы послушали, как у нас совершенно иначе рассказывают эту историю».
Толстой ответил ему, что его рассказ — не история, а «сказка, возбуждающая народное чувство».
Я привел здесь этот отрывок из рассказа Льва Толстою потому, что вижу в нем магический ключ к настоящей детской литературе, ключ, необходимый каждому из литераторов, пишущих для детей.
Толстому удалось труднейшее дело — превратить в сказку повесть об Отечественной войне и в то же время сохранить правду истории. Для того чтобы это сделать, нужно было не только владеть материалом «Войны и мира», но и отлично понимать особенности читателя-ребенка.
Сердцу и сознанию этого читателя больше всего говорит сказка — и волшебная сказка, и сказка-быль.
И та и другая может рассказать обо всем на свете — о краях и народах, о морях и звездах, о том, что близко, и о том, что за тридевять земель, о временах нынешних и давно минувших.
Толстому удалась историческая сказка. И, как в настоящей, в народной сказке, тут сначала горести и беды, а конец счастливый.
«…Мы проводили Наполеона до Парижа… торжествовали, пировали».
Не хватает только: «И я там был, мед-пиво пил».
Большой охват событий в быстром, даже стремительном движении, с высокими подъемами и крутыми спусками, с живым, неподдельным чувством рассказчика, со смелыми обобщениями и выводами, — все это одинаково необходимо и хорошей сказке для младшего возраста, и романтической юношеской повести.
Стремительный темп вовсе не означает беглости и суетливости. Рассказчик может быть нетороплив и обстоятелен, но никакие подробности не должны заслонять у него основного четкого контура идеи и сюжета.
А главное, — особенно когда речь идет о читателе младшего возраста, — повествование должно быть в достаточной мере утоляющим, вполне исчерпывающим сюжет, так, чтобы у читателя даже и не возникал вопрос: а что же было дальше?
В своей исторической сказке о войне с Наполеоном Толстой довел дело до того, как русские проводили неприятеля восвояси и победно вступили в Париж.
Почему слушателей совершенно удовлетворил этот конец? Почему они не стали засыпать рассказчика вопросами: «Ну, а дальше, дальше что?»
Да потому, что Толстой дал им на уроке истории не лекцию, а вполне законченное художественное произведение, которое началось с тяжелых испытаний и кончилось торжеством. Волнующая игра, напряженная драма, которую разыграл он в своем повествовании, была внутренне и внешне завершена.
Именно так и бывает в народных сказках.
Разве придет в голову читателю или слушателю требовать продолжения сказки об Иване-царевиче и Василисе Премудрой после того, как они, преодолев все беды и опасности, справили свадьбу и стали жить-поживать, добра наживать?
И суть здесь не только в законченности внешней фабулы, но и в завершенности идеи.
Слушателю, который становится участником событий, очень важно, чтобы дело было доведено до полной победы добра над злом, правды над кривдой, жизни над смертью, прекрасной, смелой и щедрой молодости над злой, жадной, холодной старостью.
Всякий из нас, кто пережил дни победы, помнит, что есть такая минута торжества, радости, когда человек до того полон настоящим, что даже не может думать о будущем.
Это и есть счастливый эпилог сказки.
Чем моложе возраст читателя, тем больше ему нужна сказка с началом и концом.
Его не устраивает рассказ, отдельный эпизод, обрывок жизни. Ему нужна повесть. А по существу своему сказка — это и есть подлинная повесть. Сказка начинается со слов: «Жил-был на свете» или «Жили-были в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», а не так, как частенько начинаются рассказы: «Шел снег», или «Была ночь», или «Иван Иванович проснулся в прескверном расположении духа».
И даже когда читатель выходит из того возраста, который питается почти исключительно сказкой, когда он уже способен оценить и хороший рассказ, его больше всего пленяют те рассказы или повести, которые чем-то родственны сказке — отчетливостью идеи, необычностью событий, быстрой их сменой и обязательной победой доброго начала над злым.
От сказки в стихах ребенок естественно переходит к балладе и поэме, от сказки в прозе — к просторной эпопее, полной приключений, героических или смешных.
По существу говоря, вся та литература, которая пленяет нас в детском и юношеском возрасте, будь то сказка, короткая повесть или целая эпопея, тяготеет к поэзии независимо от того, стихи это или проза.
Лев Толстой блистательно показал, что даже урок истории, хроника подлинных событий, может стать поэтическим произведением — «сказкой, возбуждающей народное чувство».
Дети отвечают Горькому
ПИОНЕРАМ
Дорогие ребята!
На мой вопрос: какие книги читаете вы и какие хотели бы читать, я получил от вас более двух тысяч единоличных и коллективных писем. Это очень хорошо. Теперь «Детиздат» знает, что нужно ему делать, и, наверное, вы скоро получите интересные книги.
О ваших требованиях будет сделан доклад на съезде писателей, а сейчас для осведомления писателей и родителей о ваших желаниях друг мой, Маршак, печатает часть обработанного им материала, данного вами.
Будьте здоровы и бодры, живите дружно, работайте весело, учитесь крепко.
С большевистским приветом
М. Горький.
[1934]
Эти книги будут вами написаны и присланы нам.
(Из письма школьника)
1. Из села Ольхи, из города Камня
В «Правде» и во многих других газетах нашего Союза было напечатано обращение М. Горького к школьникам и пионерам.
Горький просил ребят написать ему, чего ждут они от нового издательства детской литературы, какие книги знают и любят.
И вот перед нами около двух тысяч писем со всех концов Союза. Из Москвы, из Магнитогорска, из города Камня, из деревни Омужни — ныне колхоз «Возрождение», из села Ольхи, из местечка Смолевичи, с пристани Ильинка в Чувашской АССР, со станции Сары Озек на Турксибе, из Брединских копей.
С первого взгляда можно угадать, чьи это письма.
В конверты вложены листки, вырванные из школьных тетрадей в клетку, в линейку или в две линейки. Чем меньше корреспондент, тем крупнее и чернее он пишет. Семилетние и восьмилетние вырывают из своих тетрадок, из самой середины, сразу два листка и пишут на них, как на одном длинном листе. Среднюю строчку приходится при этом пропускать, — она дырявая от проволочек, которыми скрепляют тетрадки. А старшие школьники, из седьмой или восьмой группы, любят писать на маленьких клетчатых листочках из записных книжек. Если письмо получается пространное, на него уходит добрая половина книжки. Но на серьезное дело не жалко!
Есть письма, наскоро нацарапанные карандашом. А другие написаны чернилами, да так аккуратно и кругло, что сразу видишь: переписано с черновика, и не один раз переписано.
Попадаются письма с самыми неожиданными приложениями. Тут и стихи, и рассказы, и рисунки, и чертежи, и даже фотографические карточки корреспондентов.
Два пионера из Тифлиса прислали полный список всех картин, которые они видели в кино за свою двенадцатилетнюю жизнь.
Московский школьник Юрий Световидов прислал на отзыв чертеж последнего своего изобретения. Это электрическая мышеловка, которая должна убивать крыс, как электрический стул убивает осужденных в Америке.
Ученик четвертой группы Пензенской школы Яков Каждан приложил к своему письму рассказ о том, как он ел лягушку (быль).
Старшие школьники вкладывают в письма целые каталоги книг с подробными критическими характеристиками.
А самые письма наполнены вопросами и настоятельными требованиями.
Ответить всем, кто пишет, не так-то просто.
Вся деятельность нового издательства — Детгиза — должна быть ответом на письма детей. Ведь для того и затеяна была эта всесоюзная переписка, чтобы перед началом большой работы над детской книгой узнать, кто ее читатель.
И цель достигнута.
Правда, из писем трудно сделать точные статистические выводы о том, каковы интересы и вкусы дошкольного и школьного возраста. Писем от дошкольников почти нет, а школьники далеко не всегда рассказывают, сколько им лет, в какой школе, в каком классе они учатся. По крайней мере, десятая доля всей груды писем подписана именем звена, лагеря, детской библиотеки или порядковым числом, обозначающим целый класс.
Но не ради статистики начато было все дело.
Статистикой — обследованием читательских интересов — у нас еще будут заниматься серьезно и много. А эта переписка больше всего похожа на простой откровенный разговор между литературой и ее читателем. Ребята не заполняют анкетные рубрики, а пишут свободно и весело о себе, о своей библиотеке, о своих товарищах, о том, чем они интересуются и кем собираются быть.
Ребят воодушевляет и самый адрес письма — Москва, Горькому — и возможность предъявить к собственному издательству требования, которые будут услышаны и осуществлены.
«Максим Горький! Я к тебе обращаюсь с таким вопросом. Как организовалась Красная Армия и как боролась Красная Армия во время гражданской войны? Я пионер Угловского отряда 3-го звена «Буденновец». Я писал письмо, а в сердце горела радость. Привет от пионеров Угловского отряда. Писал Капитонов Кирилл Яковлевич».
Когда у человека «в сердце горит радость», он умеет говорить о своих желаниях просто и прямо. Даже трудности орфографии не останавливают его.
Младшие ребята пишут еще проще и лаконичнее:
«Очень люблю книжки про зверей, очень интересуюсь про слона».
Или:
«Дорогой Максим Горький! Я люблю смешные книжки. Мне восемь лет. Лиля Чекрызова».
Или:
«Максим Горький! Мне хочется прочитать сказку про бычка, рассказ про городскую жизнь, стишок про оленя, сказку про волка. Ольга Петрова» (деревня Липняки, Рыбинского района).
Всякий, кто знает маленьких детей, скажет, что эти письма выражают подлинные интересы первого читательского возраста. В них нет и тени того снисходительного лицемерия, с которым дети отвечают взрослым на их назойливые вопросы. Такая откровенность позволяет нам на этот раз по-настоящему познакомиться со множеством читателей-детей, вникнуть в их интересы и вкусы, которые они так хорошо умеют прятать от нас, взрослых.
Кто же он такой, наш новый читатель, советский ребенок и подросток? Чем отличается он от тех читателей, какими были в его возрасте мы, и от своих сверстников, которые сейчас растут за границей?
2. Охотники за книгами
Самым старшим из корреспондентов Горького лет пятнадцать — шестнадцать, а самым младшим — семь, если не считать нескольких четырехлеток, за которых пишут матери.
Но больше всего писем от школьников двенадцати — четырнадцати лет. Это читатели жадные и требовательные.
В каждом письме они жалуются, что книг мало. Для того чтобы получить интересную книжку, они готовы часами сидеть в библиотеке, поджидая, не принесет ли кто-нибудь единственный экземпляр любимой повести.
«В библиотеке хорошую книгу захватить очень трудно. Раз только Д. Вознесенскому удалось ухватить книгу Марка Твена. В кооперативе хороших книг тоже нет. Скоро начнется учебный год. В свободный день или в свободное время нам опять нечего делать».
Так пишут три пионера из села Ляхи.
Что ни письмо, то просьба прислать книг — на 2 рубля, на 81 копейку, «аж на 20 рублей». Что ни письмо, то жалоба. Вместо рассказов и стихов приходится читать учебники. В школе деревни Кемка, Ленинградской области, вся школьная библиотека состоит из четырех книг. Первая книга — «Вопросы районирования», вторая книга — «Борьба с дифтеритом», третья книга — «Положение женщины в Советском Союзе», а четвертая — случайный, одинокий номер журнала «Мурзилка». Вот и все.
Я видел собственными глазами эту детскую библиотеку в Кемке. На самодельной полке у стены стояли там, перевязанные тесемочкой, четыре выцветшие брошюрки. Они давно намозолили ребятам глаза, как лозунг: «Кто куда, а я в сберкассу». Их никто даже и не считал за книги.
Да и какие ребята стали бы читать про скучное районирование с дифтеритом!
Зато уж если забредет в деревенскую школу интересная книга или свежая газета, ее читают «гуртом» — все вместе.
«Як грачи посядем, — пишут белорусские пионеры из Пасецкого сельсовета, — одного усадим читать, а все сидим и слушаем коллективно, как родные братья, одного батька дети».
На книги охотятся, ищут их у товарищей, записываются в очередь.
О книге говорят ласково, любовно:
«Хорошая книжечка». «Вот это так книжечка». «Достать бы хоть троечку таких книг!»
«Хорошо, кабы книжечки были потолще, чтобы читать их можно было долго, ну хоть бы три-четыре дня».
«Очень хочется какого-нибудь журнальчика, чтобы картины в нем были в красках».
Но уж если книга не понравилась, о ней говорят гневно и презрительно. Ей не могут простить, что она обманула лучшие ожидания.
— Нудьга!
Дети уверены, что каждая книжка обязательно должна принести им веселье, дело, новые знания.
«Я люблю читать всякие книги, кроме скучных», — пишет школьница пятой группы, нечаянно повторяя Вольтера.
«Живу в Бузиновке, — пишет мальчик. — Мой папа работает здесь начальником политотдела. Ему-то весело, а мне скучно и нечего читать».
Интересную книгу читают по два, по три раза.
«Эту книгу я читал с большим вниманием. Прочитав ее один раз, я захотел прочитать еще. Прочтя два раза, я остался доволен этой книгой» (Купцов А.П. из Ленинграда. Отзывы на книгу Пантелеева «Часы»).
Содержание книжки ребята помнят точно.
Во многих письмах они пересказывают Горькому целые повести: «Детство» и «В людях» самого же Горького, «Таинственный остров» Жюля Верна, «Дерсу Узала» Арсеньева, «Пакет» Пантелеева, «Рассказ о великом плане» Ильина, «Кара-Бугаз» Паустовского, «Джека Восьмеркина» Смирнова. «Джека» они просят даже продлить, то есть написать к нему продолжение.
Вряд ли весть об организации какого-нибудь нового издательства для взрослых вызвала бы такую бурю вопросов, ожиданий и надежд, какая поднялась среди школьников всего нашего Союза после письма М. Горького.
3. Читатель из «Калгаса»
Но вспомним наше собственное детство. Разве в двенадцать-тринадцать лет мы не были такими же яростными и жадными читателями? Разве мы не собирали любовно из года в год все романы Купера, все повести Жюля Верна?
Да, конечно, и мы любили книжки, и, пожалуй, не меньше любили, чем нынешние ребята.
Я отлично помню своих сверстников, читавших и сидя, и лежа, и в постели, и на «империале» — на верхушке конки. На память о нашем отроческом чтении мы с тринадцатилетнего возраста носим очки.
Но много ли нас было?
Все мы, посетители библиотек и собиратели библиотечек, были либо детьми интеллигентов, либо теми самоучками, которые добирались до книги с трудом и глотали ее урывками — за прилавком, у столярного верстака, перед швейной машиной. А все то, что было выше и ниже этого тонкого читательского слоя, никак не могло быть названо по-нынешнему «библиотечным активом».
В кадетских корпусах и в институтах благородных девиц к заядлым любителям чтения зачастую относились неодобрительно. Чтение портило карьеру и фигуру. Мальчикам из мясных и зеленных лавок было не до чтения и, во всяком случае, не до литературы. А деревня была попросту неграмотна.
Нужна была революция для того, чтобы читатель завелся у нас в каждой железнодорожной сторожке, в любом сезонном бараке — всюду, где только есть дети.
Новый читатель пишет о себе так:
«Пока летом школы нет, так мы коней коллективно гоняем в ночлег (в ночное). Скоро картошку копать. А сено у нас нынче все сухое, под дождем не было ни разу».
Это пишут те самые белорусские ребята из Пасецкого сельсовета, которые рассказывали о коллективном, «гуртовом» чтении книг и газет.
Ребята из «калгаса» и коней гонят в ночное коллективно, и картошку убирают вместе, и читают сообща.
В своих письмах они хлопочут о том, чтобы хорошие книги рассылались по всем школам, да не по одной, а по несколько штук сразу, «чтобы на всех хватило».
4. «О хищном и дерзком звере тигре»
Письма ребят, особенно деревенских, с первого взгляда напоминают письмо Ваньки Жукова: «На деревню дедушке».
Они начинаются обычно так:
«Письмо дорогому писателю Максиму Горькому. Пишут вам пионеры деревни Кукшино Мишинского сельсовета. Дорогой писатель Максим Горький, просят вас пионеры» и т. д.
Кончается письмо также классически: «Остаемся живы и здоровы. Желаем вам долгой жизни. Писал письмо пионер Семенков Иван Антонович».
Казалось бы, такое письмо должно быть наполнено поклонами: «еще кланяется тетенька Анна Захаровна, еще кланяется дяденька Данила Егорович, низкий поклон до земли» — или в лучшем случае домашними новостями.
А между тем в письмах говорится о самых серьезных вещах. Например:
«Как и из чего образовались металлы и нефть?» (Село Бачманово.)
Или:
«Как и каким путем стать художником литературного творчества?» (Село Ольхи.)
Или:
«В нашем магазине «Коммуна» нет интересных детских книг. Поэтому я купил интересную для меня книжку «Письма Ленина к Горькому», которую я читаю с охотой. Она для меня такой же учебник по писанию писем». (Село Калинкино, колхоз «Правда стойких».)
В любом письме читатель виден весь, целиком, потому что он вносит в несколько строчек всю свою живую заинтересованность. Он всего только называет тему, которая кажется ему заманчивой, а послушайте, как она поэтично и даже сказочно звучит:
«Я, Андреев Анатолий, хочу читать такие книги: о дальних путешествиях и экспедициях советских ученых, о разных зверях и животных жарких и холодных стран, о том, как охотники ходили на зверя и в нередкости что с ними случалось. О том еще, как голодный зверь нападал на свою добычу. О хищном и дерзком звере тигре».
Анатолий Андреев живет в деревне Суки-Горбовки, Балясинского сельсовета.
А в пригороде Сергиевске (Средне-Волжский край) живут два пионера, Юра и Толя.
Они пишут Горькому:
«Некоторых из нас интересует загадочная для нас история небесных светил, узнать о которых не всегда нам удается, так как книжек про звезды на нашем детском языке почти не встретишь, а дорогие мамаши и папаши на наши вопросы про сущность звезд стараются в большинстве случаев отмолчаться или же удовлетворить нас простым поддакиванием. Многих из нас также интересуют вопросы о вулканах, гейзерах и прочих подземных извержениях, что также хотелось бы узнать из детских книг. Также небезынтересно нам знать, как живут дети заграничных рабочих. По поручению от детей пионеротряда Юра и Толя».
Эти два письма следовало бы разослать всем литераторам, которые пишут и переводят детские книги о зверях, вулканах и звездах.
Разве похож «хищный и дерзкий зверь тигр» из письма деревенского мальчика на то выцветшее научно-популярное животное, которое до сих пор рыщет по страницам иллюстрированных журналов и повестей переводного стиля? Нет, не похож, ни в какой мере не похож. Ребята еще ждут своей книги. И я уверен, что рано или поздно умный и талантливый читатель из деревни Суки-Горбовки дождется умной и талантливой книги о «хищном и дерзком звере тигре», а пионеры из посада Сергиевска получат наконец понятную книгу, в которой будет раскрыта и разъяснена «загадочная история небесных светил».
5. Скажите главному комиссару
Читая письма ребят, неожиданно узнаешь факты из их биографии, их повседневный быт, их желания, нужды и заботы.
Старшие ребята говорят в письмах не только о себе. У них скопились уже какие-то мысли о воспитании, они помнят свое детство и пытаются вывести из него заключения, которые могут понадобиться младшим.
«Мне уже 16 лет, но я не забыл еще, что нас, мальчишек, интересовало в детстве, и особенно сознаю теперь, чтó полезно было бы тогда читать нам, что могло бы предохранить нас от ошибок и толкнуть на правильный путь в жизни. Сознаю, что, если бы такие книжки попадались в детстве, я теперь был бы много лучше, полезнее и веселее. Ведь цель жизни у нас должна быть в работе, которая приносит пользу. Случайно попавшаяся мне книга одного ученого о выборе профессии окончательно открыла мне на это глаза. Он пишет об институтах для определения способностей к разного рода профессиям. Я уверен, что со временем это будет для всех доступно. Но пока мы все этим не можем пользоваться, нам хотя бы книжек прислали из центра, в которых занятно и просто описывался бы труд разных профессий, разные обстановки и случаи жизни. Рассказы должны быть настолько живы, чтобы каждый из нас почувствовал, чтó для него больше подходит… Вы спрашиваете в своей статье к детям, что их интересует. Насколько я вспоминаю своих товарищей в детстве, то каждого интересовало что-либо другое в природе и в работе, но в общем всех интересовали книги про сильных, добрых и здоровых людей, у которых хватает сообразительности выпутываться из тяжелых положений».
Это только отрывки из письма псковского комсомольца Володи. Письмо занимает целых восемь страниц и рассказывает доверчиво и серьезно о том, как его автору не удалось заняться делом, о котором он с малых лет мечтал.
«Меня никогда не оставляло желание работать на море, но родители уверяли, что это глупости, и учили меня другому… Я прочел много ваших книг и статей, которые вы пишете в газетах, и потому пишу вам. Уверен, что вы сами много испытали в своей жизни и меня поймете больше других».
С такой свободой и смелостью говорит о себе и о своем быте не один комсомолец Володя.
«Скажите, пожалуйста, самому главному комиссару, чтобы нам дали учительницу по музыке, а то рояль в школе у нас есть, а учить некому».
Это пишет девочка лет восьми-девяти.
А в другом письме пионеры говорят:
«Мы бы хотели попросить книжку о детской подготовке к физкультуре, о значке «ГТО» и значке «Ворошилов», потому что мы даем прыжки в 140 сантиметров и стреляем из мелкокалиберной от 25 метров. Все пули попадают в яблочко, но нет у нас инструктора».
Это письмо, как и все другие, начинается с книг и незаметно, естественно переходит к тому, что в эту минуту занимает и беспокоит ребят больше всего.
Все авторы писем чувствуют свое право говорить громко о собственных делах и нуждах. Они уверены, что это задачи первоочередной государственной важности.
Для них писатель — не какое-то сверхъестественное существо, неизвестно где витающее, а живой человек, с которым можно поговорить и серьезно и весело.
«Дорогой советский и детский писатель Алексей Максимович. Я, пионер 28 школы ОНО, пишу тебе письмо — ответ. Мне 12 лет, и я очень люблю книги. А о вашем детстве я тоже знаю. Ну, у меня, Алексей Максимович, не такое, а лучше. Хочу я просить вас, чтобы вы написали про ребят Италии. Я знаю, вы там были, нам говорила библиотекарша. Меня интересует жизнь итальянских ребят. Только пиши и смешно, чтобы было чем заинтересоваться. Ну, хорошо бы и грустные рассказы почитать. Вот и все, больше не знаю, о чем просить».
А вот девочка пяти лет и трех месяцев пишет огромными буквами:
«Милый дорогой Горький что ты так детей уважаешь. Напечатайте книгу — леса, поля, луга и как хлеб убирают и разные песенки. Больше всего мне нравится сам Горький, потому что у него жизнь сама горькая, а потом становился все умнее и умнее.
Виринея Мельтиер»
6. Нас, пионеров, интересует все
Какие же темы предлагают ребята новому издательству для детей?
Одна из наиболее распространенных тем формулируется очень коротко: всё!
Всё — это слово, которое само по себе ничего не значит.
Обо всем понемногу знают обычно самые поверхностные люди, верхогляды.
Но в письмах ребят это слово приобретает особое значение.
Пионеры Ленинградского аэропорта пишут:
«Вы спрашиваете, что нас, пионеров, интересует больше всего. На этот вопрос нам очень трудно ответить, так как нас, пионеров, интересует все».
Эта общая фраза звучит в письме как лозунг. В другом месте она расшифрована:
«Мы хотим читать о прошлом, чтобы лучше понимать настоящее. Нам нужны классики. Мы хотим читать о революционном движении на Западе и у нас, о гражданской войне и Красной Армии, о разведке недр и социалистическом строительстве. Нас интересует научно-техническая книга. Мы хотим книгу о путешествиях, нам нужен журнал обо всяких пионерских делах».
Конечно, этим списком далеко не исчерпываются предметы, интересующие ребят. И поэтому ребята дополняют свой список словом «всё», чтобы новое издательство не подумало, что отделается от них десятком книжек!
Во многих других письмах это слово «всё» тоже склоняется в разных падежах:
«Мы просим, чтобы вы прислали нам книгу, по которой мы могли бы научиться всему политическому знанию» (станция Болотная, Запсибкрай).
«Мне нужна книга обо всех путешествиях на Северный полюс» (гор. Бузулук).
«Я хотел бы знать географию всего мира, какие где животные и растения» (дер. Татарские выселки, Моск. обл.).
«Мне хочется прочитать книгу обо всех животных и чтобы книга была с картинками всех животных и птиц» (Псков. Мальчик 7 лет).
«Нам хочется знать обо всем, а книг интересных очень мало. Вот какие книги нам нужны. О жизни и работе Ленина — большая, со многими рисунками. О жизни вождей Красной Армии, революционеров, изобретателей, путешественников, ученых, писателей (и старых и новых), о морском и воздушном флоте, рассказы обо всех странах, о природе. Вот мы лечимся в Крыму на берегу Черного моря, а книг детских о Крыме и море совсем нет. Нам хочется иметь книжку, как альбом, о том, что уже построено у нас в СССР. Мало рассказов из нашей детской жизни. Очень нам нужна энциклопедия, из которой мы могли бы узнать обо всем» (дети 2-го костного отделения Евпаторийской санатории РККА).
Это письмо начинается и кончается одними и теми же словами: «обо всем». Но евпаторийские ребята точнее, чем другие, определили свое требование. Они знают, что «книга обо всем» называется у взрослых очень длинно и торжественно: энциклопедия.
Речь идет, конечно, не о справочном энциклопедическом словаре, хотя и такой словарь — с иллюстрациями, с картами, с чертежами — полезен и нужен.
Но подлинная энциклопедия, которой ждут наши дети, — это система знаний, это связь и зависимость всех окружающих явлений.
Если ребят интересуют животные, то они уже с малых лет сравнивают и сопоставляют льва и тигра, слона и бегемота, кролика и зайца, — кто сильнее, кто хитрее, кто больше, кто меньше, кто кого ест? А потом, когда дети подрастают, у них уже возникают настоящие проблемы: как произошел животный мир, как он эволюционирует, какова судьба животных в будущем.
«Хотелось бы знать, если это ученые как-нибудь уже узнали, будут ли животные на земле с течением тысячелетий очень маленькими по сравнению со своими собратьями, которые живут теперь» (письмо школьницы 4-й группы).
Если нашего школьника интересуют путешествия — скажем, на полюсы, то ему хочется узнать не об одном каком-нибудь путешествии, а обо всех экспедициях, от первой до последней, обо всех зимовках, о том, как снаряжались старые экспедиции и как снаряжаются нынешние. Почему потерпел неудачу Андрэ, почему погиб Седов. Читатель должен уяснить себе причины побед и поражений, сравнить все маршруты, все способы передвижения.
Читатель хочет быть участником в деле завоевания Арктики, а не равнодушным зрителем борьбы за полюс.
Когда наши дети говорят, что они интересуются революционным движением, это значит, что они хотят знать судьбу революций разных времен, историю партии большевиков до и после Октябрьской революции, биографии всех революционеров, технику баррикадного боя и, наконец, случаи из жизни детей — участников борьбы за свободу в царской России и сейчас за рубежом.
Таковы наши дети: они энциклопедисты по самому характеру своего мышления. Это легко увидеть, читая письмо за письмом.
Интересы деревенских ребят, пожалуй, еще энциклопедичнее городских. Отчасти это объясняется их меньшей осведомленностью, — они не знают еще, как сложна система наших наук, как дифференцированно человеческое знание.
Городской ребенок угадывает это легче. Ведь он слышит с первых лет названия самых различных специальностей, научных институтов, хозяйственных учреждений. А для деревенского мир еще не разделен таким бесконечным количеством перегородок.
Но дело тут не в одной осведомленности. Желание охватить «всё» у наших ребят — городских и деревенских — чем-то напоминает ломоносовский энциклопедизм, ответственный и смелый.
Такой энциклопедизм бывает необходим в самые активные, созидательные времена, когда человек сознает, что ему предстоит построить все заново, своими руками.
А как построишь хотя бы один угол здания, когда не знаешь всего плана постройки, всех соотношений ее частей?
7. На кого и какая рыба клюет?
— Ну что ж, — скажут нам, — дети всегда были любопытны. Они всегда забрасывали взрослых тысячами вопросов.
Пять тысяч «где», Семь тысяч «как», Сто тысяч «почему».Всегда и во все времена детям хотелось знать, что ест за обедом крокодил, почему у страуса растут на хвосте перья, отчего у жирафа пятнистая шкура.
Но «сто тысяч «почему» наших ребят совсем не похожи на вопросы киплинговского слоненка и на старинные Любочкины «отчего и почему».
Правда, наши ребята никому не уступят в количестве и в неожиданности своих вопросов. Но спрашивают они не о том и не так, как спрашивали любопытный слоненок и любознательная Любочка.
«Меня интересует, в какое время, на кого и какая рыба клюет, происхождение земли и человека и еще обо всех небесных светилах».
Это пишет пионер из колхоза «Новый путь», Горьковского края.
«Хотелось бы прочесть про население Австралии, про острова Атлантического и Тихого океана, про путешествие на луну. Еще хотелось бы читать журналы, в которых говорится, как построить какую-нибудь машину-двигатель из простого материала», — пишет двенадцатилетний школьник из Одессы.
«У меня вопросы такие. Подробные сведения о полете в стратосферу? Оборудование приборов для полетов? Какие нужны приборы? Есть ли люди на Луне? Какие успехи социалистического строительства? Каких людей можно назвать учеными? Как в СССР изучается парашютизм? Что такое планета? Почему земля вертится? Какая наука называется астрономией? Почему летает дирижабль и как он устроен? Все эти вопросы мне хотелось узнать самому. Ну, все. С приветом. Хотелось бы вести переписку. Адрес мой: Уральская область, прииск Кокчарь, улица Октябрьская, дом 137. Пермяков Виктор, ученик 4-й группы».
Для того чтобы вопросов было ровно 100 000, я приведу еще несколько строк из одного письма. Оно прислано со станции Кусково, из Первовокзального переулка, и написал его пионер Вася Фендт.
«Мне хочется прочесть вообще все книжки, в которых написано про путешествия и где касается географии и про военные действия, но я еще интересуюсь двумя вещичками. Я с товарищем построили киноаппарат и напечатали 4 картины, но этого мало. Мы нигде не можем найти подходящей книжки для Октября в зарубежных странах. Еще одно. Мне хочется сделать броненосец, который мог бы от берега ехать с помощью винта, а дальше парусом. Я уже сделал из картона модель, но не знаю, как придумать, чтобы вертелся винт».
В каждом из этих писем сталкиваются темы чуть ли не мирового масштаба с вопросами прикладными, техническими, узкими. Происхождение Земли — и на кого какая рыба клюет! Путешествие на Луну — и самодельный двигатель из простого материала! Вся география — и винт для картонного броненосца!
В этом-то и особенность наших энциклопедистов из пятого класса школы. Научные и политические проблемы самого большого объема они соединяют с самыми практическими задачами. Будущий пилот межпланетных сообщений пока что собирает все брошюрки из серии «Сделай сам», строит самодельные электроприборы и при этом живейшим образом интересуется вопросом: есть ли в Италии пионеры, «как идет у нас строительство разных машин и орудий» и «какой закон даден пионеру, — за чем следить?» (Ардатов, два пионера).
У нас часто говорят о том, что все наши пионеры поголовно готовятся в инженеры — увлекаются техникой в ущерб остальному.
В письмах ребят, действительно, о технике говорится много. Изобретения старые и новые, радиоаппараты, электроприборы, модель дрезины, модель турбины, модель дирижабля, модель педального автомобиля, модель броненосца, — обо всем этом ребята пишут горячо, с интересом, с азартом.
Но среди наших читателей есть, несомненно, и будущие зоологи, и будущие экономисты, астрономы, геологи, историки, летчики, моряки.
«Я интересуюсь жизнью зверей, но без вмешательства человека, то есть чтобы о звере написали не с точки зрения какого-нибудь охотника, а о самой жизни животных. Как живет, например, лисица и для чего ей нужна ее хитрость?»
Это говорит Абрам Райхрут, одиннадцати лет, ученик одной из ленинградских школ.
«Я очень интересуюсь геологией. У меня есть коллекция с Кольского полуострова. Двадцать камней я уже определил, а другие никак не определить. Я все время изучаю землю снаружи и внутри. А натолкнулся я на это так: начал читать Жюля Верна и тут как-то заинтересовался землей» (Михайлов, 12 лет, Ленинградская 9-я школа).
«Былины и песни в библиотеке всегда сокращены, хорошо бы записывать их в Карелии и издавать» (Баранов, 14 лет, Ленинград).
Разнообразие интересов не мешает нашим читателям проявлять способности и склонности, которые со временем создадут из них настоящих специалистов.
Но можно надеяться, что это будут не узкие специалисты вроде жюльверновских Паганеля и Бенедикта, которые во всем мире замечают одних только шестиножек, да и то одного вида.
8. Где учился Ворошилов?
Дети всегда любили играть в войну и читать про войну. Не нужно объяснять, чем привлекает их военная тема.
Наших детей так же, как и всех других, интересуют рассказы о войне и о военных подвигах, хотя их ни в коем случае нельзя обвинить в милитаризме. У них нет излишнего, болезненного пристрастия к шпорам, портупеям и петлицам.
В отношении к военной теме ребята так же доскональны, разносторонни и требовательны, как и в других областях.
История войн, флот морской и воздушный, «как жили солдаты при Николае Первом и в империалистическую войну и как живут красноармейцы». «Подвиги сибирских партизан в гражданскую войну и как они боролись с захватчиками». «Где учился Ворошилов, как он попал на военную службу и как развивал свою меткость стрелять?»
Эти вопросы я взял из первых попавшихся мне в руки писем.
Одна из девочек просит написать про «революционные бои, но подробно, а не так: красные пришли, а белые ушли, и до свиданья!».
А школьник четвертого класса из города Ростова пишет:
«Только я не люблю, когда в книге побеждают белые, потому что это неверно!»
9. «Красин» вышел в море
Сосчитать, сколько раз встречается в письмах наших ребят слово «путешествие», невозможно. Пожалуй, не меньше, чем слово «приключение».
Начиная с шести-семи лет и кончая семнадцатью, ребята на разные голоса говорят о путешествиях.
«Напиши мне книгу про путешествия, про людей, в каких странах кто живет, про разных зверей и птиц» (7-летний мальчик из Сталинграда).
«Я не пропускаю ни одной газеты, и основное, что я читаю, это «Челюскин» в пути» и «Красин» вышел в море» (девочка 15 лет из Орехово-Зуева).
Трое ребят из разных мест предлагают длинные списки знаменитых путешественников. Беру самый короткий:
Васко да Гама,
Колумб,
Магеллан,
Лаперуз,
Беринг,
Ливингстон,
Стенли,
Миклухо-Маклай,
Пржевальский,
Нансен,
Седов.
Другие читатели хотят, чтобы героями книжек были не профессиональные путешественники, а советские туристы или пионеры, странствующие в Кавказских горах, или ученые, зимующие на Земле Франца-Иосифа, или краеведы, изучающие Якутию и Камчатку.
Встречается даже и такая просьба: «Напечатайте книгу про путешествия Максима Горького. Он много ездил и видел много стран и народов».
Очевидно, книга о путешествиях — для ребят не только повесть о приключениях на суше и на море, не только занимательная география. От нее ждут самых широких сведений о прошлом и настоящем стран и народов.
«Нам хочется прочитать толстую книгу о путешествии по какой-нибудь стране, где было бы ее описание с самого открытия до настоящего положения, или о каком-нибудь народе то же самое, или о том, как восстанавливали хозяйство после Октябрьской революции, или о Северном полюсе, как его открыли» (коллективное письмо от пионеров и школьников).
Любители путешествий и географии явственно делятся на две категории.
Одни любят географию вообще — прерии, пампасы, тундру, тайгу, ледники, гейзеры, рифы, лагуны, сталактиты, фьорды.
Других интересует только то, что расположено не выше и не ниже такого-то градуса северной широты, не правее и не левее такого-то градуса восточной долготы. Это настоящие географы.
Они хотят, чтобы для них печатали дневники экспедиций, карты, зарисовки, сделанные во время путешествий. Они справляются о плане наших работ на дальнем Севере, об арктической пятилетке.
Одна из самых важных задач нашего издательства — ответить на эти вопросы целой серией книг, и беллетристических и научных, занимательными атласами, может быть, даже новым журналом, который был бы посвящен экспедициям и путешествиям.
В письмах я заметил одну интересную черту. Наши «географы» и «натуралисты» не боятся даже суховатых и деловых книг вроде «Путешествия натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» Дарвина (упоминается несколько раз). Из старой детской библиотеки они до сих пор еще читают «Корабль натуралистов» Ворисгофер. А ведь эта книга набита сведениями, как сундук, но зато и тяжела, как сундук.
10. Новейший радиоприемник и древнейшая история
На читателей-географов похожи читатели-техники.
Они тоже умеют пользоваться всякой деловой книгой, даже инструкцией, если она им для чего-нибудь нужна.
Читая их письма, трудно уследить, где увлечение электрическим звонком переходит в интерес к основам электричества.
«Хорошо бы получить книги по устройству новейшего радиоприемника, электромотора и вообще по электротехнике».
«Напечатайте книги об участии пионеров в борьбе за рыбу и книги о речном хозяйстве и технике рыболовства».
«Есть ли книги о новых источниках энергии, о желтом, синем и голубом угле?»
«Я люблю читать книги, где описывается жизнь изобретателей, выходцев из простого народа, про жизнь и работу людей, которые занимались изучением полета птиц, как, например, про жизнь родоначальника авиации, инженера Лилиенталя» (Ярцево, Зап. обл.).
Нельзя ручаться, что каждый пионер, спрашивающий об электротехнике, сделается ученым, исследователем или изобретателем. Но можно надеяться, что наши будущие механики и монтеры, даже самые обыкновенные механики и монтеры, будут хорошо знакомы с общими принципами тех наук, которые лежат в основе их дела.
Также нельзя сказать, кем будут мальчики и девочки, которые роются среди старых взрослых книг, таблиц и атласов по ботанике, зоологии, этнографии, астрономии. Но одно можно утверждать с полной уверенностью. Их привлекают не только разрозненные занимательные факты, но и процессы, системы, эволюция людей, животных и растений, «побеждение природы человеком», — как говорится в одном из писем.
А самое важное то, что они уже и теперь обнаруживают умение и охоту рыться в материале, отбирать то, что им нужно.
Ведь вот книгу по истории в детской библиотеке найти не так-то легко, — а между тем ребята совершенно непонятным для нас образом, ощупью, добираются до каких-то сведений, относящихся к отдаленным эпохам, они спрашивают и о Пунических войнах, и о походах Тамерлана, и о кремневых топорах первобытных людей.
Ребята называют в письмах много исторических книг — начиная с романов Вальтера Скотта и кончая детской повестью Д'Орвильи «Приключения доисторического мальчика».
Школьник из деревни Щемилино пишет: «Мне хочется, чтобы старые книги перепечатывались, а новые чтобы были интереснее старых».
11. «Дайте не описания, а случай!»
Можно было бы говорить без конца о разнообразии интересов у поколения, рожденного после революции.
Каждый из нас помнит, как сталкивались в его душе, когда ему было двенадцать-пятнадцать лет, различные страсти и склонности: к почтовым маркам, гербариям, к рыболовному крючку, к звездам, к рубанку и голубятне…
Те же настоящие детские страсти и пристрастия бушуют в письмах наших корреспондентов. Они — дети, самые настоящие дети — пожалуй, даже более наивные и непосредственные, чем были в их возрасте мы. И потому их тоже, конечно, привлекают почтовые марки и голубятни. Но ко всему этому прибавились нынче вещи, о которых мы в свое время даже понятия не имели. Шире стал круг детских интересов и увлечений.
К звездам, атласам, гербариям и удочкам присоединились и планеры различных конструкций, и мелкокалиберная винтовка, и значок ГТО, и образцовый крольчатник, и разные системы буеров, и новые сорта плодовых деревьев из мичуринского питомника.
Если бы план нового издательства детской литературы строился на основании всех многочисленных запросов, обнаруженных в письмах, — этот план был бы похож на инвентарь вселенной. На все «сто тысяч «почему» пришлось бы ответить сотней тысяч книг!
Но, к счастью, можно обойтись и без такого книжного наводнения. Довольно и сотни книг, чтобы удовлетворить самых жадных, самых любознательных читателей.
В хорошей книжке, в каких-нибудь пяти-шести печатных листах, может уместиться все: и люди, и события, и политика, и философия, и даже техника.
И все это может быть так нераздельно, так спаяно художественным замыслом, что наш двенадцатилетний читатель, еще не вполне освоившийся с литературными терминами, назовет такую книгу «захватывающей беллетристикой».
Но для этого на книгу должен быть потрачен подлинный материал, настоящие чувства и мысли. Нельзя же из двух-трех газетных заметок, из нескольких страничек технического справочника и ходячего лозунга строить повесть.
Это ясно чувствуют наши читатели. Одними и теми же словами жалуются они на большинство школьных повестей, и на рассказы о войне, и на детские книжки о строительстве.
«Что же это такое? — пишут они. — Белые ушли, красные пришли, и до свиданья…»
Или:
«Урок начался, урок кончился, ребята ушли домой, и до свидания…»
Или:
«Мы хотим книжек о нашем строительстве, только не вроде описания, а в случаях» (Ялта, девочка 13 лет).
Социалистическое строительство — это тема, упоминаемая чуть ли не в каждом письме.
Митя Григорьев, пионер из Ухолова, Московской области, говорит:
«Мы читаем книги подчас плохие, а хороших книг мы не видим. Хороших книг я читал немного. Это «Дерсу Узала» Арсеньева, «Тансык» Кожевникова, «Республика Шкид» и «Чапаев». Мне бы хотелось сейчас больше книг о строительстве Челябстроя, Днепрогэса, Беломорского водного пути, Уралмашзавода и книги о пятилетке».
Читатели просят книжку о «путешествиях по большим тракторным заводам» — и они же пишут:
«Библиотекарша уверяет, что книжка интересная, а мы поглядим на картинки и только руками отмахиваемся. Знаем: трактор, не проведешь!»
Дети очень уважают настоящий трактор и презирают трактор на обложке детской книги.
О книге М. Ильина они пишут: «Мне нравится «Рассказ о великом плане», где очень ярко и ясно рассказано о будущем, которое будет и которое есть» (пионеры из лагеря им. Дзержинского).
Ребята просят написать и о второй пятилетке так, как написано о первой, но многие из них, по их же собственным словам, долго посматривали недоверчиво на индустриальную обложку первого издания, прежде чем решались взять эту книгу.
Политика для наших ребят не какое-то отвлеченное, туманное дело, которым занимаются взрослые.
Даже пятилетние ребята знают у нас о пятилетке.
Это — работа их отцов и матерей, это их очаг и детская площадка, это дом, который строится напротив их окон.
Наши школьники знают, «с кем они и против кого».
Недаром леди Астор, которая послушала в Петергофе пионерские песни и увидела в лагерном клубе плакаты с надписью: «Мы протестуем против казни 8 негров», — в раздражении разорвала на себе шарф и воскликнула:
— Я протестую против того, что детей отравляют политикой!
И вот у таких-то детей, готовых с жадностью читать не только повесть о гражданской войне и о подпольной работе коммунистов в фашистских странах, но даже ежедневные цифровые сводки добычи угля в Кузбассе, — у таких читателей наши схематические, назидательные книжонки ухитряются отбить всякий интерес к политической литературе.
Как и чем они этого достигают?
Полным забвением элементарных детских требований.
Ребята просят в письмах: дайте книгу, чтобы можно было читать три-четыре дня.
Им дают книгу на четверть часа.
Ребята пишут: дайте не описания, а случаи.
Им дают случай на все книги один: ударник Заруба или Зацепа не спит седьмые сутки, чинит врубовую машину.
Ребята требуют: «Дайте в книжке всю судьбу героя, какие у него были товарищи, как нашел он в жизни свою дорогу — и были ли у него опасности и подвиги?»
А ребятам дают вместо судьбы героя — три производственных совещания, вместо «дороги в жизнь» — премию за ударный труд или общественное порицание. Бывают в таких книжках и подвиги… Но подвигами занимается главным образом наша авантюрно-приключенческая книжка. О ней сейчас и поговорим.
12. Робинзоны и Пинкертоны
Вопросы, темы, предложения — вот чем полны письма. Но среди груды густо исписанной бумаги мне попалось несколько чистых страничек, на которых было написано всего только:
«Люблю читать про приключения».
Или:
«Больше всего мне нравятся книжки с приключениями».
Эти письма лаконичны, как телеграммы. По сравнению со всеми остальными они кажутся скудными и пустоватыми. Я бы не обратил на них особого внимания, если бы слово «приключения» не встречалось и в других детских письмах, даже в самых серьезных и богатых по содержанию. А слово это встречается на каждом шагу, почти во всех письмах: «Путешествия и приключения», «Приключения на войне», «Приключения советских моряков и летчиков», «Приключения и побеги революционеров», «Приключения первобытных людей», «Приключения беспризорных», «Приключения индейцев».
Любой библиотекарь, на ваш вопрос о том, чего хотят ребята, скажет вам не без тревоги:
— Чаще всего требуют приключений!
Это правда, — самый большой спрос у нас на приключения.
Романтика, героика, фантастика, экзотика в советской литературе для детей пока еще отсутствуют.
И вот ребята бросаются в лучшем случае на Купера, на Жюля Верна и Джека Лондона, а в худшем — на Пинкертона.
В письмах к Горькому они иногда упоминают Пинкертона, но с некоторой осторожностью (знают, что за Пинкертона их не похвалят). Зато «Капитан Сорви Голова» рекомендуется ими, как одна из самых захватывающих повестей на свете.
«Вот если бы все книжки были похожи на эту, их бы читали не отрываясь!»
Надо не пугаться слова «приключения», а попытаться вникнуть в то, что подразумевают под ним наши дети. Я уверен, что каждый из десяти читателей в это слово вкладывает различный смысл.
В письмах к Горькому «приключения» чаще всего упоминаются рядом с путешествиями и научной фантастикой.
Совершенно ясно, что приключения в таком случае означают события, факты, эпизоды, одним словом — фабулу.
Во многих письмах ребята так и говорят: «Вот если напечатают книжку о приключениях, где описывается ударный труд, то ею все ребята зачитаются».
Разумеется, они отнюдь не ждут, что им напишут роман об ударниках в духе графа Монте-Кристо. Они только хотят напомнить о том, как существенно необходимы в книге события и герои.
Очень часто ребята, которые просят приключений, называют тут же в письме свои любимые книги.
И оказывается, что приключениями они считают и «Робинзона», и «Гулливера», и «Человека, который смеется», и «Айвенго», — и, уж конечно, приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна.
Но бывают случаи, когда любитель приключений называет совсем другие книги: «Пещеру Лейхтвейса» или приключения каких-нибудь сыщиков — да еще, пожалуй, не Конан Дойля, а того безымянного и плодовитого автора, который написал заодно и Ника Картера, и Ната Пинкертона, и Боба Руланда.
Тут уж дело серьезнее. Откуда и как течет в руки к нашим школьникам эта промозглая бульварщина?
Оказывается, бывают такие случаи. Ребята собирают деньги, ходят по букинистам и подбирают себе коллекции любимых приключений. За это удовольствие они платят очень дорого. Какая-нибудь «Пещера Лейхтвейса», дрянная книжонка копеечной стоимости, — теперь библиографическая редкость, за нее приходится платить не копейками, а рублями.
В эту пеструю коллекцию иногда по недоразумению попадает и добропорядочный, переходящий от поколения к поколению Майн Рид, но зато здесь же пристраивается и Лидия Чарская, которая до сих пор еще вызывает в нашей школе ожесточенные дискуссии, разделяя надвое целый класс: 9 — за Чарскую, 13 — против.
«Мне нравятся книги писателя Чарской, потому что она описывает грустно и всегда про детей. И еще мне нравятся старинные книги старого писателя Боровлева».
Так пишет Горькому какая-то меланхолическая читательница, не пожелавшая открыть свое имя.
Письмо это отличается от других писем и грустным тоном, и редким однолюбием.
Только один автор владеет сердцем этой читательницы — Лидия Чарская (если не считать, конечно, старого-старинного писателя Боровлева). Другие ребята не столь исключительны в своих симпатиях. Они тоже упоминают иногда Чарскую, но любят ее, так сказать, «по совместительству», рядом с Буссенаром и Бляхиным. И любят не за грусть, а наоборот — за удаль, за горцев, за сверкающие шашки и вороных коней!
Эти читатели верны Чарской только до тех пор, пока им не посчастливилось набрести на другого удалого писателя, который выдумает героя похлестче «кавалерист-девицы» и похрабрее княжны Джавахи.
Таким героем оказался остроумовский «Макар Следопыт», он же Макарка Жук.
О нем написаны целых две повести. В предисловии ко второй, которая называется «Черный лебедь», автор — Л. Остроумов — посвятил своему рентабельному герою несколько глубоко прочувствованных строк.
«Знаешь ли ты, — пишет он, обращаясь к своему «Макару Следопыту», — что от тебя без ума все ребята в СССР? Знаешь ли ты, что книгу о твоих похождениях в гражданскую войну все они читают, как говорится, взасос, что ты стал так же знаменит, как Робинзон Крузо, и твое имя стоит рядом с ним в списке любимых книг нашей молодежи?.. Ты хочешь знать, за что тебя полюбили ребята?.. По-моему, за то, что ты им уж очень сродни: такой же озорник и разбойник, как все они. Это первое. А второе — за то, что ты ничего никогда не боялся и всегда умел выйти из затруднительного положения. А еще за то, что ты хороший парень и зря никогда никого не обижал… Ты тот новый человек, который рожден революцией и который еще удивит мир своими делами».
В этом предисловии много правды.
«Макар Следопыт» в самом деле очень популярен. Читателям действительно нужен герой, рожденный революцией и похожий на своих сверстников — советских школьников и пионеров. Им нужен герой, который ничего не боится, умеет выйти из затруднительных положений и зря никого не обижает.
Но вся беда в том, что Макар Следопыт благороден, как Рокамболь, первый герой парижских бульваров; находчив, как Пинкертон, и храбр, как горный разбойник Ага-Керим из повестей Лидии Чарской.
Чтобы не быть голословным, я процитирую несколько мест.
«— Товарищ командир, — обратился Макар к начальнику конных разведчиков. — Разрешите взять бронепоезд!
Тот вытаращил на него глаза.
— Хотел бы я знать, как это сделать! Что дурака валяешь!
— Никак нет, это совсем просто. Надо взорвать путь позади него, потом спереди, под самым паровозом, потом ударить в атаку».
Макар так и сделал: спереди взорвал, сзади взорвал и т. д.
С тех пор, говорит автор, за Макаром-Следопытом установилась кличка «Хват».
Вот вам и храбрость.
Теперь о находчивости.
Макар везет донесение в штаб Красной Армии. Он только что оправился от раны в ногу и поэтому не может ехать на коне, а едет на мотоцикле.
«Машина… перестала работать. Макар с отчаяньем посмотрел по сторонам. Ах, если бы возле него был вороной конь! Но с ним только мертвая машина да буря, — а ведь бурю не оседлаешь… А почему бы и нет? Блестящая мысль пришла ему в голову. Ветер-то ведь попутный. Он и домчит Следопыта куда надо».
«Мигом кинулся Макар в лесок и выломал там две длинные хворостины… Торопливо скинул шинель, гимнастерку и сорочку, снова надел шинель на голое тело, а сорочку и гимнастерку связал рукавами и привязал их концами к хворостинам. Потом притянул хворостины к раме мотоцикла, поставив их торчком над седлом так, что получился парус на славу. Порывистый ветер сразу надул этот парус… Стальной конь рванулся вперед и понесся на крыльях бури…»
«…Мужики и ребята выскакивали из домов и, дивясь, глядели, как мчится Макар на мотоцикле под парусом. А он ехал и посмеивался про себя:
«Дивитесь, ребята, дивитесь. Коли в голове не навоз, так сумеем оседлать не только бурю, а и самого чорта» (II том, стр. 160-162).
Вот она, находчивость Макарки Жука!
Для того чтобы определить качество этого произведения, довольно было бы взять из него наугад две-три фразы. Это типичный «рóман» из старорежимного журнала «Родина». Тут налицо все элементы «рóмана»: и загримированные незнакомцы, и тайны, и холодная рука смерти, и неожиданное спасение в последнюю минуту.
Для полноты картины в этой бульварной эпопее, изданной Гизом и книгоиздательством «Пролетарий», не хватает только любовной интриги. Впрочем, и любовная интрига есть, только немножко куцая.
Золотоволосая дочка помещика, Любочка Балдыбаева, освобождает красного разведчика Макарку из плена.
«…Легкий шелест за дверью (чулана — С. М.) заставил его напрячь слух. Потом чуть слышный шепот спросил:
— Макар, ты жив?
Что такое? Женский голос? Жаром обдало Жука!
— Любочка, ты?
— Я, тише. Где ты?»
…………
«Ну ладно! Знаешь, я весь день тогда думала… Ты молодец, Макарка, а с мужиками драться совсем глупо… И Юрий зря с вами воюет… Совсем это ни к чему… А тебя мне жалко… Мы ведь с тобою рыбу ловили… И вообще все это чепуха!»
«Эти слова она прошептала быстро-быстро, прижавшись всем телом к Макару, обдавая его лицо своим взволнованным, горячим дыханием.
Сердце его вдруг согрелось какой-то нежданной лаской.
Крепко стиснув ее слабенькую, непривычную к работе ручку, он шепнул:
— Ты хорошая, Любик. Я знаю, ты будешь за нас, мужиков.
— Буду, Макар. И теперь пришла освободить тебя. Беги, пока они не проснулись» (I том, стр. 117-118).
Вот вам и любовная интрига, да еще и вместе с «р-революционной идеологией».
После этого Любик бежит от родных вслед за Макаром-Следопытом и становится заядлым врагом белых.
Во второй повести Остроумова, «Черный лебедь», в ту же Любочку влюбляется польский контрразведчик Стах. И он тоже становится непримиримым врагом помещиков и капиталистов. Жалко, что эпопея обрывается на второй книге, а то бы хват Макар и прекрасная Любочка разагитировали весь мир…
О романах Остроумова не стоило бы говорить здесь так много. Но в письмах читателей они упоминаются десятки раз.
Значит ли это, что у наших читателей испорченный литературный вкус и слабое политическое чутье? Нет, не значит. Те же читатели предлагают в письмах серьезные темы, высказывают живые и очень типичные для советского школьника мысли.
Очевидно, Остроумов поймал их на «живца», закинул такую приманку, на которую молодой неопытный читатель непременно клюнет. Эта приманка — густая фабульность, героика, романтика.
Наша первая и неотложная задача — помочь ребятам понять, какой суррогат подсунули им вместо книги, которая должна была ответить на самые лучшие их побуждения, удовлетворить законные требования их возраста.
13. Почему у нас в головах засели такие книги?
Советская пинкертоновщина и рокамболевщина, пожалуй, даже опаснее старой. Ведь читатель и сам знает, чего стоит старая. Он несет ее под полой не только потому, что скрывает от учителя или от вожатого пеструю обложку с тиграми и скелетами. Нет, он явно стыдится своей покупки, он отлично понимает, что ему, советскому школьнику и пионеру, не пристало быть потребителем старорежимного товара с таким явным запашком.
Недаром же о старой сыщицкой литературе он говорит в письмах так:
«Увлекаюсь, но знаю, что дрянь».
«Читать-то читаю, но только для развлечения».
Да кроме того, у нас есть надежда, что и старый-старинный писатель Боровлев и Ник Картер когда-нибудь умрут самой обыкновенной, естественной смертью. Ведь в конце концов не на пергаменте же они напечатаны, а всего только на бумаге, да еще и довольно скверной. А вновь, я полагаю, никто их не переиздаст. Наши печатные станки не сдаются в аренду спекулянтам.
А вот бульварные романы последних лет, даже если их больше не переиздадут, будут еще долго жить и попытаются, чего доброго, оставить после себя потомство.
В своих письмах ребята говорят о них громко и безо всякого стеснения, чаще, чем о книгах Житкова, Сергея Григорьева и даже Диккенса. Некоторые ребята считают необходимым сделать при этом оговорку:
«Знаю, что не совсем правдоподобно, но зато очень интересно».
Или:
«Тут, конечно, много фантазии, но здорово увлекательно».
Во всяком случае, мещанская литература, предреволюционная и наша собственная бульварщина еще до сих пор не перестали угрожать и читателям, и детской литературе.
Как и кому бороться с этой бедой?
«Не знаю, чем объяснить, — пишет Горькому пионер из Витебска, — почему у нас в головах засели такие книги, как о подвигах Ната Пинкертона и других… Почему нас интересуют книги мордобойского характера. Виноваты ли писатели, составляющие эти книги, или мы лучше их воспринимаем? Неужели наши литераторы не могут создать такую детскую пролетарскую литературу, которая наголову разбила бы кровожадную пинкертоновщину?»
Пионер из Витебска прав. Мы не научились еще побеждать литературу «мордобойского характера» и «кровожадную пинкертоновщину».
В первую очередь бороться с этой «желтой опасностью» должны наши детские писатели. Ведь вот удалось же таким книгам, как «Дерсу Узала» Арсеньева, «РВС» и «Школа» Гайдара, «Республика Шкид» Белых и Пантелеева, «Морские истории» Житкова, «Кондуит» Кассиля, «Тансык» Кожевникова, «Пакет» Пантелеева, занять место среди любимых детских книг.
Пионеры из Саратова пишут о книге, которую меньше всего можно упрекнуть в беллетристической демагогии. Речь идет о «Кара-Бугазе» Паустовского.
«Кара-Бугаз» — одно из лучших произведений, написанных для детей старшего возраста. «Кара-Бугаз» ценен тем, что дает полную картину истории величайшего в мире источника глауберовой соли».
«Книга учит на примере лучших работников изыскательных партий, стойких и выдержанных большевиков, быть тоже стойкими и настойчивыми…»
А вот что пишут ребята из пионерского лагеря со станции Товарково:
«Нам очень нравятся книги о героических подвигах нашей доблестной Красной Армии… «Пакет» Пантелеева мы только сегодня дочитали. Книга такая интересная. Читка этой книги сопровождалась у нас на сборе то громким смехом, то слезами».
Но наши немногочисленные писатели для детей не могут, конечно, выдержать бой со всей той липкой массой бульварщины, явной и тайной, которая часто бывает привлекательна ребятам не только хитрым сочетанием героизма и скрытой эротики, но еще и особенным ореолом запретности.
На помощь писателям должно непременно прийти Государственное издательство детской литературы. Оно должно поскорее бросить в школьные библиотеки самые большие тиражи наших классиков, и не в серой обложке бесцветного школьного пособия, а в самом привлекательном виде — со многими рисунками и в хорошем переплете.
Круг чтения ребят должен быть расширен за счет классической и современной нашей литературы.
«Товарищ Горький, добейтесь того, чтобы классики были в вольной продаже», — пишут ребята.
«Мы очень любим читать современных писателей, не исключая тебя», — пишут другие.
В письмах особенно часто упоминаются: «Дубровский» и «Капитанская дочка» Пушкина, «Детство», «В людях» и «Мать» Горького, Гоголь, Толстой, Чехов, Некрасов, «Железный поток» Серафимовича, «Чапаев» Фурманова, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» Шолохова.
Необходимо открыть широкий доступ в детскую библиотеку и лучшей переводной литературе.
Пусть Вальтер Скотт, Купер, Стивенсон, Диккенс, Гюго помогут нам добить остатки той книжной армии, которая когда-то, до революции, двигалась сплошным фронтом, а теперь рассыпалась и пробирается по закоулкам бандитскими шайками.
Но если даже наши писатели и книгоиздательства и дадут в ближайшем будущем книгу, которая окажется в силах выдержать борьбу с подпольным детским чтением, полной победы еще не будет.
Нужен третий союзник — богатая, тесно связанная со своим читателем детская библиотека.
Без нее лучшая книга окажется бессильной, а худшая найдет прямую или окольную дорогу к нашему читателю.
Недаром на новостройках, где нет наследственных чердаков и чуланчиков, но зато есть новая, заботливо устроенная библиотека, о подпольном детском чтении даже и не слышно. «Мордобойская» литература туда не проникла.
Хибиногорский библиотекарь так прямо и говорит:
— Не завезли.
Это очень хорошо сказано. Паразитическую литературу именно завозят вместе с мещанской утварью и рухлядью, как тараканов.
Для того чтобы эта литература не проникла туда, где ее еще нет, и чтобы вывести ее оттуда, где она водится, мы должны построить у нас в стране множество детских библиотек, которые ребята будут уважать и не променяют ни на какую приманчивую коллекцию Пинкертонов и Антонов Кречетов.
В детской библиотеке должны работать люди, понимающие и книгу, и детские требования.
А требования наших ребят выражены в их письмах точно и просто:
«Больше всего люблю книги, которые наталкивают на тот или иной вопрос или возмущают тебя» (пионер из с. Ольхи).
Горький — писатель и человек
1
Герой одного из горьковских рассказов замечательно говорит о том, как надо поминать людей, которые не даром прожили свой век.
«Он протянул руки к могилам:
— Я должен знать, за что положили свою жизнь все эти люди, я живу их трудом и умом, на их костях, — вы согласны?»
И дальше:
«Мне не нужно имен, — мне нужны дела! Я хочу, должен знать жизнь и работу людей. Когда отошел человек… напишите для меня, для жизни подробно и ясно все его дела! Зачем он жил? Крупно напишите, понятно, — так?»
Одна из ответственных задач нашей литературы — написать «крупно и понятно» о Горьком — писателе и человеке.
2
Горький, имя которого для миллионов людей означало почти то же, что и самое слово «писатель», был меньше похож своим обликом и повадками на присяжного литератора, чем очень многие юноши, недавно переступившие порог редакции. Он был страстным читателем. Каждую новую книгу он открывал с тем горячим любопытством, с каким извлекал когда-то книги из черного сундука в каюте пароходного повара Смурого, — удивительные книги с удивительными названиями, вроде «Меморий артиллерийских» или «Омировых наставлений».
Когда шестидесятилетний Горький выходил к нам из своего кабинета в Москве или в Крыму, выходил всего на несколько минут для того, чтобы прочитать вслух глуховатым голосом, сильно ударяя на «о», какое-нибудь особенно замечательное место в рукописи или в книжке, он был тем же юношей, который полвека тому назад в казанской пекарне жадно переворачивал страницы белыми от муки пальцами.
Он читал, и голос у него дрожал от ласкового волнения.
«Способный литератор, серьезный писатель», — говорил он, и было ясно, что эти слова звучат для него по-прежнему, как в годы его юности, веско и свежо.
И это после сорока лет литературной деятельности!
Вот он сидит у себя за высоким и просторным письменным столом. На этом столе в боевом порядке разложены книги и рукописи, приготовлены отточенные карандаши и стопы бумаги.
Это — настоящее «рабочее место» писателя.
Но вот Горький встает из-за стола. Как он мало похож на кабинетного человека! Он открывает окно, и тут оказывается, что он может определить по голосу любую птицу и знает, какую погоду предвещают облака на горизонте. Он берет в руки какую-нибудь вещь — и она будто чувствует, что лежит на ладони у мастера, ценителя, знающего толк в вещах. До последних лет руки этого человека сохраняли память о простом физическом труде.
Горький и в пожилые свои годы не терял подвижности, гибкости. У него была та свобода движений, которая приобретается людьми, много на своем веку поработавшими и много побродившими по свету.
Помню, в Неаполитанском музее коренастые, с красными затылками туристы-американцы — должно быть, «бизнесмены» средней руки — с любопытством оглядывались на высокого, неторопливого человека, который ходил по залам уверенно, как у себя дома, не нуждаясь в указаниях услужливых гидов.
Он был очень заметен.
— Кто этот — с усами? — спрашивали туристы вполголоса.
— О, это Массимо Горки, — отвечали музейные гиды не без гордости, как будто говорили об одном из лучших своих экспонатов. — Он у нас часто бывает!
— Горки? О!..
И все глаза с невольным уважением провожали этого «нижегородского цехового», который ходил по музею от фрески к фреске, сохраняя спокойное достоинство, мало думая о тех, кто жадно следил за каждым его движением.
3
В Крыму, в Москве, в Горках — везде Алексей Максимович оставался одним и тем же. Где был он — там говорили о политике, о литературе, о науке как о самых близких и насущных предметах; туда стекались литераторы с рукописями, толстыми и тонкими. И так на протяжении десятков лет.
Однако я никогда не знал человека, который менялся бы с годами больше, чем Горький. Это касается и внешнего его облика, и литературной манеры.
Каждый раз его задача диктовала ему литературную форму, и он со всей смелостью брался то за публицистическую статью или памфлет, то за роман, драматические сцены, сказки, очерки, воспоминания, литературные портреты.
И во всем этом бесконечном многообразии горьковских сюжетов и жанров, начиная с фельетонов Иегудиила Хламиды и кончая эпопеей «Клим Самгин», можно уловить его главную тему. Все, что он писал, говорил и делал, было проникнуто требовательностью к людям и к жизни, уверенностью, что жизнь должна и может стать справедливой, чистой и умной. В этом оптимистическом отношении Горького к жизни не было никакой идиллии. Его оптимизм куплен очень дорогой ценой и потому дорого стоит.
О том, чего требовал Горький от жизни, за что в ней он боролся, что любил и что ненавидел, — он говорил много и прямо.
Но, может быть, нигде не удалось ему передать так глубоко и нежно самую сущность своего отношения к жизни, как это сделано им в небольшом рассказе «Рождение человека». За эту тему в литературе не раз брались большие и сильные мастера.
Вот и у Мопассана есть рассказ о рождении человека. Называется он «В вагоне». Я напомню его вкратце.
Три дамы-аристократки поручили молодому, скромному аббату привезти к ним из Парижа на летние каникулы их сыновей-школьников. Больше всего матери боялись возможных в дороге соблазнительных встреч, которые могли бы дурно повлиять на нравственность мальчиков. Но, увы, избежать рискованных впечатлений путешественникам не удалось. Их соседка по вагону начала громко стонать. «Она почти сползла с дивана и, упершись в него руками, с остановившимся взглядом, с перекошенным лицом, повторяла:
— О, боже мой, боже мой!
Аббат бросился к ней.
— Сударыня… Сударыня, что с вами?
Она с трудом проговорила:
— Кажется… Кажется… Я рожаю…»
Смущенный аббат приказал своим воспитанникам смотреть в окно, а сам, засучив рукава рясы, принялся исполнять обязанности акушера…
В рассказе Горького ребенок тоже рождается в пути.
В кустах, у моря, молодая баба-орловка «извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное нечеловеческое лицо с одичалыми, налитыми кровью глазами…».
Ее случайный спутник (автор рассказа) был единственным человеком, который мог оказать ей помощь. Он «сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером».
Рассказ Мопассана — это превосходный анекдот, не только забавный, но и социально-острый.
Рассказ Горького — целая поэма о рождении человека. Этот рассказ до того реалистичен, что читать его трудно и даже мучительно. Но, пожалуй, во всей мировой литературе — в стихах и в прозе — вы не найдете такой торжественной и умиленной радости, какая пронизывает эти восемь страничек.
«…Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел…» — пишет Горький.
Быть может, никогда нового человека на земле не встречали более нежно, приветливо и гордо, чем встретил маленького орловца случайный прохожий — парень с котомкой за плечами, будущий Максим Горький.
Живой Горький
— Надо, чтобы люди были счастливы. Причинить человеку боль, серьезную неприятность или даже настоящее горе — дело нехитрое, а вот дать ему счастье гораздо труднее.
Произнес эти слова не юноша, а пожилой, умудренный опытом, знакомый с противоречиями и трудностями жизни писатель — Горький. Сказал он это у моря, ночью, и слышало его всего несколько человек, его друзей.
Я записал врезавшуюся мне в память мысль Горького дословно. Жаль, что мне не удалось так же запечатлеть на лету многое из того, о чем говорил он со мной и при мне в редкие минуты своего досуга. Записывать его слова можно было только тайком. Заметив руках у своего слушателя записную книжку и карандаш, Горький хмурил брови и сразу же умолкал.
______
Пожалуй, не было такого предмета, который не интересовал бы Горького. О чем бы ни заходила речь — об уральских гранильщиках, о раскопках в Херсонесе или о каспийских рыбаках, — он мог изумить собеседника своей неожиданной и серьезной осведомленностью.
— Откуда вы все это знаете, Алексей Максимович? — спросил я у него однажды.
— Как же не знать! — ответил он полушутливо. — Столько на свете замечательного, и вдруг я, Алексей Максимов, ничего знать не буду. Нельзя же так!
В другой раз кто-то выразил восхищение его необыкновенной начитанностью.
Алексей Максимович усмехнулся:
— Знаете ли, ежели вы прочтете целиком — от первого до последнего тома — хоть одну порядочную библиотеку губернского города, вы уж непременно будете кое-что знать.
______
Впервые увидев у себя за столом новую учительницу, которая занималась с его внучками, он заметил, что она чувствует себя смущенной в его обществе.
Он заговорил с ней, узнал, чтó на свете больше всего ее интересует. А перед следующей своей встречей с учительницей заботливо подобрал и положил на стол рядом с ее прибором целую стопку книг и брошюр.
— Это для вас, — сказал он ей как бы мимоходом.
Он очень любил книги и чрезвычайно дорожил своей библиотекой, но готов был отдать ценнейшую из книг, если считал, что она кому-нибудь необходима для работы.
_____
Насколько мне помнится, Алексей Максимович никогда не именовал себя в печати Максимом Горьким. Он подписывался короче: «М. Горький».
Как-то раз он сказал, лукаво поглядев на собеседников:
— Откуда вы все взяли, что «М» — это Максим? А может быть, это «Михаил» или «Магомет»?..
_____
Горький умел прощать людям многие слабости и пороки, — ведь столько людей перевидал он на своем веку, но редко прощал им ложь.
Однажды на квартире у Горького в Москве происходило некое редакционное совещание.
Докладчица, перечисляя книги, намеченные издательством к печати, упомянула об одной научно-популярной книге, посвященной, если не ошибаюсь, каким-то новым открытиям в области физики.
— Это очень хорошо, очень хорошо, — заметил вполголоса Горький, который в то время особенно интересовался судьбами нашей научно-популярной литературы.
Одобрительное замечание Горького окрылило докладчицу. Еще оживленнее и смелее стала она рассказывать о будущей книге.
— Любопытно было бы, — опять прервал ее Горький, — посоветоваться по этому поводу с Луиджи… — И он назвал фамилию какого-то ученого, с которым незадолго до того встречался в Италии.
— Уже советовались, Алексей Максимович! — не задумываясь, выпалила редакторша.
Горький широко раскрыл глаза и откинулся на спинку стула.
— Откуда?.. — спросил он упавшим голосом.
Он казался в эту минуту таким смущенным и беспомощным, как будто не его собеседница, а он сам был виноват в том, что произошло.
Больше Горький ни о чем не говорил с этой не в меру усердной редакторшей. Иностранный ученый Луиджи… (не помню фамилии) навсегда погубил ее репутацию.
_____
У Алексея Максимовича было много корреспондентов — пожалуй, больше, чем у кого-либо из современных писателей, и значительная часть писем, засыпавших его рабочий стол, приходила от ребят и подростков.
Горький часто отвечал на эти письма сам, горячо отзываясь на те детские беды, мимо которых многие проходят совершенно равнодушно, считая их пустяковыми.
Помню, я видел у него на столе бандероль, приготовленную к отправке в какой-то глухой городок на имя школьника. В бандероли были два экземпляра «Детства».
Оказалось, что у мальчика большое огорчение: он потерял библиотечный экземпляр этой повести и в полном отчаянии решился написать в Москву самому Горькому.
Алексей Максимович откликнулся без промедления. Он всю жизнь помнил, как трудно доставались книги Алеше Пешкову.
______
Кто-то запел в присутствии Горького «Солнце всходит и заходит…» — песню из пьесы «На дне».
Алексей Максимович нахмурился и шутливо проворчал:
— Ну, опять «всходит и заходит»!
— А ведь песня-то очень хорошая, Алексей Максимович, — виновато сказал певец.
Горький ничего не ответил. А когда его спросили, откуда взялась мелодия этой песни, он сказал:
— На этот мотив пели раньше «Черного ворона». «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой».
И Алексей Максимович припомнил еще несколько вариантов «Черного ворона».
Он отлично знал песни народа. Недаром же он был одним из немногих людей, которым удалось подслушать, как складывается в народе песня.
Кажется, нельзя было найти песенный текст, который был бы ему неизвестен. Бывало, споют ему какую-нибудь песню, привезенную откуда-то из Сибири, а он выслушает до конца и скажет:
— Знаю, слыхал. Превосходная песня. Только в Вятской — или Вологодской — ее пели иначе.
Малейшую подделку в тексте Алексей Максимович сразу же замечал.
Однажды мы слушали вместе с ним радиолу. Шаляпин пел «Дубинушку» («Эй, ухнем»).
Горький слушал сосредоточенно и задумчиво, как будто что-то припоминая, а потом помотал головой, усмехнулся и сказал:
— Чудесно!.. Никто другой так бы не спел. А все-таки
Разовьем мы березу, Разовьем мы кудряву —это из девичьей, а не из бурлацкой песни. Я говорил Федору — помилуй, что такое ты поешь, — а он только посмеивается: что же, мол, делать, если слов не хватает?
Пожалуй, немногие заметили эту шаляпинскую вольность. Но Горький был чутким и требовательным слушателем.
Я вспоминаю, как в одну из своих редких отлучек из дому он сидел весенним вечером за столиком в неаполитанской траттории. Люди за соседними столиками, возбужденные весной и вином, смеялись и говорили так громко, что заглушали даже разноголосый гул, который доносился с улиц и площадей Неаполя.
Столики затихли только тогда, когда на маленькой эстраде появился певец, немолодой человек со впалыми, темными щеками.
Он пел новую, популярную тогда в Италии песню, пел почти без голоса, прижимая обе руки к сердцу, а Неаполь аккомпанировал ему своим пестрым шумом, в котором можно было разобрать и судорожное дыхание осла, и крик погонщика, и детский смех, и рожок автомобиля, и пароходную сирену.
Бывший тенор пел вполголоса, но свободно, легко, без напряжения, бережно донося до слушателей каждый звук, оттеняя то шутливой, то грустной интонацией каждый поворот песни.
— Великолепно поет, — негромко сказал Горький. — Такому, как он, и голоса не надо. Артист с головы до ног.
Алексей Максимович сказал это по-русски, но все окружающие как-то поняли его и приветливо ему заулыбались. Они оценили в нем замечательного слушателя.
А сам артист, кончив петь, направился прямо к столику, за которым сидел высокий усатый «форестьеро» — иностранец, — и сказал так, чтобы его слова слышал только тот, к кому они были обращены:
— Я пел сегодня для вас!
_____
В одном из писем Леонид Андреев назвал Алексея Максимовича «аскетом».
Это и верно и неверно.
Горький знал цену благам жизни, радовался и солнечному дню, и пыланию костра, и пестрому таджикскому халату.
Он любил жизнь, но умел держать себя в узде и ограничивать свои желания и порывы.
Иной раз Алексея Максимовича могла растрогать до слез песня, встреча с детьми, веселый, полный неожиданностей спортивный парад на Красной площади. Часто в театре или на празднике он отворачивался от публики, чтобы скрыть слезы. Но многие из нас помнят, каким был Горький после похорон его единственного и очень любимого сына. Мы видели Алексея Максимовича чуть ли не на другой же день после тяжелой утраты, говорили с ним о повседневных делах и ни разу не слышали от него ни единого слова, в котором проявилась бы скорбь человека, потерявшего на старости лет сына.
Что же это было — глубокое потрясение, не дающее воли слезам, или суровая и застенчивая сдержанность?
Близкие люди знали, что Алексей Максимович умеет скрывать чувства, но зато долго и бережно хранит их в своей душе.
Тот же Леонид Андреев когда-то бросил Горькому в письме упрек:
«Ты никогда не позволял и не позволяешь быть с тобою откровенным».
Горький ответил ему сурово и резко:
«…Я думаю, что это неверно: лет с шестнадцати и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем: «здесь свалка мусора». Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть.
Касаться же моей личной жизни я никогда и никому не позволял и не намерен позволить. Я — это я, никому нет дела до того, что у меня болит, если болит. Показывать миру свои царапины, чесать их публично и обливаться гноем, брызгать в глаза людям желчью своей, как это делают многие… — это гнусное занятие и вредное, конечно.
Мы все — умрем, мир — останется жить…»[2]
До конца своих дней Горький сохранил то мужественное отношение к себе и миру, которое он выразил в спокойных и простых словах: «Мы все — умрем, мир — останется жить».
Так мыслить мог только настоящий деятель, для которого нет и не может быть личного блага вне того дела, за которое он борется. Вот почему он — человек, знавший богатство и полноту жизни, — мог казаться суровым аскетом тем людям, которые не понимали содержания его борьбы и работы.
Надпись на памятнике (1930-1955)
Двадцать пять лет — это срок немалый, это четверть века, возраст целого поколения, созревшего для жизни и труда.
А наши последние двадцать пять лет весят и значат больше, чем иное столетие. История не поскупилась для них на события, способные заслонить любую отдельную человеческую жизнь, как бы крупна она ни была.
И, однако же, всем этим величайшим событиям не удалось заслонить Маяковского. С любой точки нашего нынешнего дня он виден так же четко и ясно, как в те дни, когда шагал по московским улицам. От этой четкости время становится прозрачным, и нам кажется, что мы видели и слышали Маяковского в последний раз совсем недавно — чуть ли не вчера.
У нас есть улицы Маяковского, площади Маяковского, «Маяковская» станции метро, — и все же это имя не стало привычной принадлежностью мемориальной доски. Стихи Маяковского сохранили всю полемическую, жестокую, пронзительную остроту его сатиры, всю мужественную нежность его лирики.
Вряд ли можно найти человека, который бы относился к этому поэту безразлично. Его любят или не любят, живут его стихами или спорят с ним и о нем, по нельзя не слышать в гуле нашего времени его уверенную поступь, силу его звучного, навсегда молодого голоса.
Бывают портреты, на которых глаза нарисованы так, что встречаются с глазами зрителя, откуда бы он ни смотрел. Об одном из таких портретов говорит Гоголь в своей знаменитой повести.
Этим же свойством обладают и лучшие стихи Маяковского. Они обращаются к нашему времени, как обращались к своему.
Поколение сменяется поколением, и каждое из них чувствует на себе как бы устремленный в упор, внимательный и пристальный взгляд поэта, то дружественный, то обличающий.
И это потому, что в любой строке, написанной Маяковским, он жил полной жизнью, не щадя ни сердца, ни голоса, ни труда. Он встает во весь рост и и большой поэме исторического охвата, и и коротком злободневном фельетоне, и в полусерьезном, полушутливом разговоре с детьми.
О своих стихах он говорил гордо, зная им цену, но говорил со скромностью мастера, ставящего себя в один ряд со всеми другими мастерами своей страны, где бы они ни работали, что бы ни создавали для счастья тех, кто придет им на смену.
Как известно, он не был любителем юбилеев и памятников. Но лучшую надпись на своем памятнике Маяковский, как и Пушкин, сделал сам.
Он знал, что его стих «громаду лет прорвет», и первые двадцать пять лет из этой громады пересек легко, как один день.
Прошло четверть века, но и сегодня, для того чтобы увидеть Маяковского, мы не оглядываемся назад, а смотрим вперед.
Маяковский — детям
Стихов для детей у Маяковского не очень много. Но какая бы современная тема ни привлекала поэта, берущегося за детскую книгу, он чуть ли не на всех путях встречается с Маяковским. Опередить Маяковского нелегко.
В последнее время мы все чаще и чаще говорим, что наша детская литература должна воспитывать в ребятах чувство чести и ответственности, должна давать им простые и ясные, но отнюдь не назойливые понятия о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Книжку об этом написал Владимир Маяковский. Написал много лет тому назад.
Поэты и композиторы пишут для пионерских сборов и туристских походов песни и марши.
Еще в середине 20-х годов Маяковский сочинил для школьников звонкий и четкий марш:
Возьмем винтовки новые, На штык флажки! И с песнею в стрелковые Пойдем кружки…Лучшей походной песни, лучшего марша для легких детских ног не создал до сих пор никто.
У нас накопилось немало песен о первомайском празднике, о зеленой листве и красных флагах. Но только «Майская песенка» Маяковского — по-настоящему майская и по-настоящему детская.
Весна сушить развесила свое мытье. Мы молодо и весело идем! Идем! Идем!В том разделе сочинений Маяковского, который называется «Стихи детям», нет двух вещей, написанных на одну и ту же тему, решающих одну и ту же задачу. Он оставил нам четырнадцать детских стихотворений и решил четырнадцать литературных задач. Тут и сатира на Прогулкина Власа — «лентяя и лоботряса» — меткий и веселый фельетон в стихах, сделанный как будто по специальному заказу школьной редколлегии, — и героическая лирика:
Кличет книжечка моя: — Дети, будьте как маяк! Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу.В одной своей книжке Маяковский катает ребят на самолете, в поезде, на пароходе по всему свету:
Вас по разным странам света покатает песня эта. Начинается земля, как известно, от Кремля…В другой книжке он мастерит для ребят, у них же на глазах, картонного коня — клеит его, раскрашивает, приделывает колесики и гриву.
В третьей книжке он обсуждает с детьми весьма существенный для них вопрос — «Кем быть?»
В любом мастерстве поэт находит то, что может показать особенно привлекательным и заманчивым деятельному человеку на шестом-седьмом году жизни.
Маяковский отлично понимал, что в своих играх дети учатся жить, учатся чувствовать, думать и действовать.
Его детские книги «Кем быть?», «Конь-огонь», «Прочти и катай в Париж и в Китай» — целиком основаны на детской игре.
Но воображаемая прогулка с ребятами по разным странам была для него не только веселой игрой, картонный конь — не только игрушкой.
О том, какое значение придавал Маяковский книгам для детей, можно судить по его беседе с одним из иностранных журналистов.
Журналист задал ему обычный в таких случаях вопрос:
— Над чем вы сейчас работаете?
Маяковский ответил:
— …С особенным увлечением работаю над детскими книжками.
— О, это интересно, — сказал журналист. — И в каком же духе вы пишете такие книжки?
— Моя цель — внушить детям некоторые элементарные общественные понятия. Но, разумеется, я делаю это осторожно.
— Например?
— Скажем, рассказ о лошадке на колесиках. Так вот, я пользуюсь случаем, чтобы объяснить ребенку, сколько людей работало, чтобы такую лошадку сделать. Таким образом ребенок получает представление об общественном характере труда. Или описываю путешествие и таким образом знакомлю ребенка не только с географией, но и с тем, что, например, одни люди — бедные, другие — богатые.
Вероятно, эта беседа очень удивила иностранного журналиста, который вряд ли мог предполагать, что большой лирический поэт нашего времени, прокладывающий в поэзии новые дороги, станет тратить свое время и силы на решение каких-то педагогических задач.
А между тем Маяковский и в самом деле владел высоким педагогическим искусством — искусством воспитывать и больших и маленьких. Он писал не для того, чтобы его стихами любовались, а для того, чтобы стихи работали, врывались в жизнь, переделывали ее.
В любой детской книжке — будь то сказка, песенка или цепь смешных и задорных подписей под картинками — Маяковский так же смел, так же честен, прям и серьезен, как и в своей поэме «Хорошо!» или «Во весь голос».
И в то же время, работая над стихами для детей, он никогда не забывал, что его читатели — маленькие, всего по колено ему ростом.
Осторожно, сдерживая свой громовой голос, как бы не желая напугать ребят, он беседует с ними о важных материях — шутливо, ласково, уважительно:
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое плохо?Маяковский говорит с детьми без всякой снисходительности. Его отповедь маленькому трусу, маленькому лентяю или неряхе сурова и беспощадна. Его похвала тем, кто ее достоин, немногословна и отчетлива, как похвала командира:
Храбрый мальчик, — хорошо, в жизни пригодится.«Стихи детям» занимают в собрании всех стихов Маяковского особое и значительное место. Эти стихи могут еще многому научить детей да, пожалуй, и взрослых.
«Кролик еще ждет своего писателя» о детской литературе и критике
Судьба детской книги в нашей стране не зависит от произвола коммерческих издательств или от инициативы отдельных энтузиастов-педагогов.
Книга для детей стала у нас делом всей большой советской художественной литературы.
Как нужна тут внимательная, добросовестная, умная критика, понимающая все сложные и многообразные задачи литературы, которая встречает человека на пороге жизни.
А что представляет собою селекционер наших детских книг, неизменный советчик библиотекарей и педагогов — профессиональный критик детской литературы?
Нашел ли он какие-нибудь новые дарования? Обогатил ли он детское чтение смелой и удачной инициативой, подобно тем философам и педагогам, которые в свое время предложили ввести в детскую библиотеку Робинзона Крузо и другие произведения мировой литературы?
Нет, наши критики пока что не балуют нас подарками. Заметные критические статьи появляются у нас чрезвычайно редко. Гораздо чаще встречаем мы в печати большие или маленькие рецензии. А рецензия — хоть и самая пространная — это еще не критическая статья, даже если она раздуется так, как басенная лягушка, увидевшая вола. Об этих рецензиях не стоило бы и говорить, если бы они не приобретали иногда, за отсутствием серьезной и систематической критики, слишком большого веса и значения. К ним прислушиваются, и они надолго определяют судьбу книги.
Молодому и еще неопытному педагогу (а у нас много молодых и неопытных педагогов) иной раз не с кем посоветоваться о выборе детской книги, и он всецело полагается на отзывы в журнале, набранные петитом, или на случайные газетные рецензии.
Давайте же поговорим о рецензентах детской книги. До сих пор их самих еще никто не рецензировал. Пусть они испытают на себе, приятно это или неприятно.
Рецензия, которая зачастую притворяется серьезной критической статьей,прежде всего выбирает для себя загадочное и глубокомысленное заглавие. Перечислю несколько таких заглавий.
«Повесть многих граней и проблем». Это сказано пышно, но не слишком точно. «Грани» и «проблемы» настолько различные понятия, что никакой союз «и» не может их соединить. Вряд ли писатель К. Паустовский, которому посвящена эта рецензия, будет благодарен за такой комплимент. Но зато, вероятно, его ничуть не огорчит то легкое и неопределенное порицание, которым озаглавлена другая рецензия, напечатанная на страницах того же самого журнала «Детская и юношеская литература». Рецензия эта называется «С холодком рассудочности».
А как вам нравится такое заглавие: «Кролик еще ждет своего писателя». Или «С окуневой точки зрения», или «И не пионеры и не история», или «Выхолощенный Жан-Кристоф». Подумала ли неосторожная рецензентка о том, что «Жан-Кристоф» — это не только заглавие книги, но и мужское имя, которое носит герой романа? Очевидно, не подумала. Иначе она не наделила бы Жана-Кристофа таким ветеринарным эпитетом, а попросту сказала бы, что книга Ромена Роллана в переделке для детей потеряла свою сложность и глубину.
А попробуйте-ка угадать, о чем или о ком идет речь в рецензии под названием «Импортная грусть»? О Генрике Сенкевиче.
А что значит «Научная фантастика — прожектор исторического завтра»? И бывает ли вообще «историческое завтра»? До сих пор, как это известно всем, история занималась прошлым.
Но дело не в названиях статей. Содержание статей о детской литературе иногда бывает гораздо страшнее.
Что такое критик по нашим понятиям? Это философ, публицист, литературовед. Он должен сочетать философское мышление с дарованием и темпераментом общественного деятеля, борца, не говоря уже о хорошем вкусе и серьезном знании своего предмета. Но беда в том, что люди, пишущие о детской литературе, зачастую и не философы, и не публицисты, и не литературоведы.
Я вовсе не хочу обвинить их в том, что они мало занимаются теоретизированием. Напротив, любая наша рецензия на три четверти состоит из какой-то метафизики — педагогической, литературной или философской. У каждого из рецензентов есть свой узкопрофессиональный жаргон или, вернее, свой таинственный шифр. Этот шифр настолько своеобразен, что может служить для критика чем-то вроде дымовой завесы. Дымовая завеса критика-педагога (обычно именуемая «спецификумом педпроцессов») скрывает его от нескромных взглядов критика-литературоведа. А уже литературовед окружает себя таким густым, таким ядовитым туманом терминологии и фразеологии, что к нему и не подступишься без противогаза.
Беру для примера несколько строк из статьи рецензента-литературоведа «О стихах для детей» (журнал «Детская и юношеская литература», 1934, № 12):
«В стихах К. Чуковского мы встречаемся с несомненной тенденцией создать своеобразный образ (курсив мой — С. М.) повествователя на резко индивидуализированной манере повествования, непосредственно обращающегося к читателю (что еще более усиливает, персонифицирует эту манеру). Именно так построен «Телефон». Основные эпизоды его собраны вокруг основной повествующей фигуры доктора Айболита, которая перекликается с персонажами других книг К. Чуковского. Отсюда основная ритмическая линия стихов Чуковского в «Телефоне», линия, построенная по принципу вольного басенного стиха. Как известно, басня строится как своеобразный сказ, в основе своей басня представляет собой несколько лукавое повествование о каком-нибудь случае; организация стиха в басне подчинена этой повествовательной линии, ритм очень свободен, стиховые единицы в зависимости от смысловой наполненности строки, от интонационной подчеркнутости слова то растягиваются, то сжимаются, представляя собою законченное интонационное целое».
Не похоже ли это рассуждение на известные сатирические стихи Алексея Толстого?
«Нет, господа! России предстоит, Соединив прошедшее с грядущим, Создать, коль смею выразиться, вид, Который называется присущим Всем временам; и став на свой гранит, Имущим, так сказать, и неимущим Открыть родник взаимного труда… Надеюсь, вам понятно, господа?»У Толстого эту длинную тираду произносит либеральный министр прошлого столетия, который, по старой министерской традиции, старался не столько выразить, сколько затушевать свои мысли. Но куда ему до нашего литературоведа! Этот «затушевался» с ног до головы.
Только опомнившись от первого впечатления, начинаешь понимать, сколько ошибок и неточностей в прочитанном отрывке из статьи.
Во-первых, с каких это пор басня стала «несколько лукавым повествованием о каком-либо случае»? Ведь этак любую сплетню можно квалифицировать как басню! Во-вторых, «Телефон» Чуковского никогда никакими своими «линиями», «единицами» и «формами» не был «построен по принципу басенного стиха».
Посудите сами:
У меня зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон. — Откуда? — От верблюда… — Что вам надо? — Шоколада…и т. д.
Разве это сколько-нибудь похоже на басню? Но возьмем самый выгодный для автора статьи отрывок из «Телефона», — такой отрывок, в котором (как сказано в рецензии) строки «то растягиваются, то сжимаются…»:
…А потом позвонил медведь Да как начал реветь: «Му» да «му»! Что за «му»? Почему? Ничего не пойму! Погодите, медведь, не ревите, Объясните, чего вы хотите!Достаточно вспомнить любую басню Хемницера, Измайлова, Крылова, Демьяна Бедного, чтобы убедиться в ошибке нашего критика.
Я не стану здесь много говорить о словесной неряшливости рецензентов, обо всех их «своеобразных образах» и прочих шедеврах стиля. Но я не могу не отметить с прискорбием, что из всей полустраничной критической тирады, которую я только что привел, можно выжать только самую простую, самую короткую мысль, а именно, что писатель К. Чуковский пользуется разговорным языком, ведет рассказ от первого лица и при этом позволяет себе иногда менять стихотворный размер. Вот и все. А сколько дыма напущено, сколько пыли, угара, тумана!
И это не единственный пример словесной расточительности в статьях рецензентов детской литературы. Нужно пристальное внимание, чтобы разглядеть под всей шелухой терминов и фраз хоть какую-нибудь мысль, хоть какой-нибудь вывод. И чаще всего этот конечный вывод оказывается противоречивым и неверным.
Вот, например, в статье критика-педагога, напечатанной во втором номере все того же журнала «Детская и юношеская литература», разбирается книжка писательницы З. Александровой «Ясли». После длинного вступления на тему о том, что хорошие стихи и картинки помогают ребенку учиться говорить (на специфическом языке эта мысль выражается гораздо сложнее), педагог переходит к разбору книжки. Он цитирует стихи Александровой:
Там на шапках у ребят Звезды красные горят.И сейчас же прибавляет от себя сурово и авторитетно: «Что горит? Где горит? — послышатся детские вопросы. Ибо слово «горит» связано у малышей с представлением об огне. Детям данного возраста метафоры абсолютно недоступны».
А несколькими строками ниже критик пишет:
«…Ведь автор умеет рядом с небрежной подписью сделать и хорошую, продуманную…»
Как пример хорошей подписи критик рекомендует стихи:
И без санок и без лыж С этой горки полетишь.«Тепло, конкретно и легко! — восторгается автор рецензии. — Это то, что всегда приятно звучит в произведениях Александровой».
А почему, собственно, эти стихи показались критику лучше предыдущих? На мой «некритический» взгляд, и те и другие стихи приблизительно одного качества. А вот преступную «метафору» критик на этот раз проглядел! Ведь если выражение «звезды горят» — метафора, то почему «с горки полетишь» — не метафора? Слово «летать», наверно, связано у малышей с представлением о птичке, так же как слово «горит» — с представлением об огне.
Где же тут справедливость?
Но метафора — это, очевидно, камень преткновения для многих наших критиков. В «Литературной газете» (№ 122 (438) М. Чачко отмечает, что писатель М. Ильин, автор «Рассказа о великом плане», не любит метафор. Этот вывод он делает не голословно, а на основании цитаты из Ильина:
«Есть машины, которые буравят землю. Есть машины, которые грызут уголь. Есть машины, которые сосут ил и песок со дна реки. Одна машина вытянулась вверх, чтобы высоко подымать грузы, другая машина сплющилась в лепешку для того, чтобы вползать, влезать в землю. У одной машины — зубы, у другой — хобот, у третьей — кулак».
Непосредственно вслед за этой цитатой М. Чачко заявляет: «Писатель избегает метафор». Как избегает? Неужели все эти кулаки, зубы, хоботы, лепешки критик понимает буквально, а не метафорически? Неужели он думает, что машины и в самом деле вытягиваются, сплющиваются, грызут, сосут!
У критика-педагога и критика-литературоведа, которых мы здесь цитируем, очевидно, разные формы дальтонизма: один во всем видит метафору, другой, напротив, понимает все метафорическое буквально.
Тот же М. Чачко утверждает (правда, без осуждения), что писатели М. Ильин, Л. Кассиль и С. Безбородов ввели в детскую литературу «газетный язык». И это свое утверждение критик отчасти основывает на том, что в книгах упомянутых авторов он нашел «политические термины», такие, как «пролетариат», «буржуазия», «МТС»!
Как это понять? Быть может, товарищ М. Чачко полагает, что из инвентаря нашей художественной — в строгом смысле этого слова — литературы следует исключить все политические понятия (буржуазия, пролетариат и т. д.), заменив их какими-нибудь сочными выражениями из фольклорного запаса? Очевидно, критик действительно так думает. Недаром же он противопоставляет Кассилю, Ильину и Безбородову «Сказку о военной тайне» Гайдара, в которой слово «буржуа» заменено специально придуманным к случаю затейливым словом «буржуин», а буржуазное государство называется «буржуинством».
Как видно, любой общепринятый термин можно освободить от газетного привкуса, если придать ему причудливое, необычное окончание. Слово «буржуазия» банально и газетно, а вот «буржуинство» — и оригинально и художественно!
Гайдар — очень талантливый писатель, но ставить в пример чуть ли не всей детской литературе самые субъективные и спорные из его словесных поисков — это значит сбивать с толку и автора, и читающую публику.
Но разве наши рецензенты думают об авторе и читателе! Если бы думали, они писали бы интереснее, понятнее, грамотнее, добросовестнее.
Они не позволили бы себе в статьях о литературном языке писать, как М. Чачко. А он пишет так: «Языковые течения»; «Разноязыковые тенденции».
Он пишет: «Значит ли, что в детской литературе язык обречен на замораживание, на топтание на месте».
Забудем на минуту, подобно самому М. Чачко, о том, что такое метафора, и представим себе буквально этот замороженный и топчущийся на месте язык.
Страшная картина!
Но довольно цитат. Их можно было бы привести бесконечное количество. Ведь дело не только в том, что многие наши рецензенты еще не умеют писать. Иные из них и читать не научились. Прочитав книгу о чукчах, рецензент называет их «чукотами» и путает содержание автобиографического предисловия с содержанием самой повести (рецензия на книгу Одулока «Жизнь Имтеургина Старшего»).
Прочитав книгу К. Золотовского «Подводные мастера», другой критик забывает, во-первых, ее название, а во-вторых, ошибочно упрекает автора книги в излишней экзотике.
А между тем в книге рассказывается о том, как наши водолазы кладут заплату на лопнувшую трубу, отмечают поплавками электрический кабель, пилят старые сваи на дне Невы.
Давно ли водопроводная труба стала считаться у нас экзотикой?
Хвалят ли рецензенты детскую книжку или бранят, — они одинаково далеки от истины. Почти ни на одну рецензию нельзя положиться.
А ведь если уж у нас так мало критических статей, содержащих большие и серьезные мысли, то пускай хоть та информация, которая печатается в библиографических журналах, будет точной и добросовестной.
Я не остановился здесь на нескольких наших удачах только потому, что они пока еще малочисленны и не делают погоды. Но я отлично помню хорошую статью Всеволода Лебедева, умные и тонкие статьи Веры Смирновой. В библиографическом журнале «Детская и юношеская литература» появляются наконец первые опыты критических обозрений. Раньше этого не было. Удачны или неудачны эти обозрения, их все же следует считать шагом вперед.
Однако мы не можем ограничиться этим осторожным шажком. Общее положение в области критики у нас еще очень неблагополучно.
Критика должна быть искусством, вооруженным наукой. Лихаческому «литературоведению», любительской игре философскими и педагогическими терминами — всему этому пора положить конец.
Если писатель работает над книжкой годы, то почему критик работает над статьей два дня, подгоняя ее к очередному номеру газеты или журнала?
Для того, чтобы правильно оценить какую-нибудь этнографическую, историческую или географическую повесть для детей, недостаточно прочесть 156 страниц этой повести. Нужно сравнить ее со всем тем, что в этой области делается и делалось. Надо научиться отличать традицию от рутины, новые ростки от прошлогодней травы. Но пока еще критики редко обременяют себя такой сверхурочной работой, как изучение материала. Они считают себя героями труда, если с грехом пополам выполнят свой урок — до конца прочитают книгу.
Иной писатель готов ехать за тысячи верст в поисках нужного материала. А рецензенту лень съездить на трамвае в Публичную библиотеку, чтобы порыться в материале.
Что же делать для того, чтобы наша критика не скакала, как пристяжная, в упряжке литературы, а везла воз наравне с коренником?
Прежде всего, критики должны всерьез изучать старую и новую, нашу и зарубежную детскую литературу. А то за деревьями они не видят леса, за отдельной книжкой не замечают путей развития литературы.
Но дело не в одних критиках. Нашим писателям — беллетристам и портам — пора отказаться от ложного представления о том, что кто-то за них должен критически мыслить и оценивать литературу. Пусть они сами, наряду с критиками и рецензентами, борются за успех того искусства, которому посвящают свои труды и дни.
Однако и этого мало.
Детская книга ни в коем случае не может быть монополией детских писателей. Вся советская литература должна считать ее своим делом. А у нас один только Алексей Максимович не боится уронить свое писательское достоинство статьями о детской литературе.
Если бы и другие писатели последовали его примеру, можно было бы создать полноценный критический журнал, посвященный детской художественной литературе. А пока у нас существует только один-единственный критико-библиографический ежемесячник на русском языке — «Детская и юношеская литература». Я не раз помянул здесь этот журнал, и помянул, как говорится, «лихом». Справедливость требует от меня, однако, признания тех улучшений и перемен, которые произошли на его страницах за последнее время. Журнал стал грамотнее и добросовестнее. Ведь трудно себе даже представить, каким он был раньше, — о нем нельзя было и говорить всерьез!
И все-таки, несмотря на все напряженные усилия редакционного состава, этот журнал не выплывет, если не будет переоснащен заново. Он должен перестать быть мелким справочником, каким-то домашним оракулом для нерешительных педагогов и библиотекарей. Это должен быть толстый литературно-критический журнал для самой широкой аудитории, — значит, боевой, принципиальный и увлекательный. Представьте себе номер, посвященный научной фантастике, номер, созданный при участии писателей, критиков и ученых (не компиляторов, а тех настоящих ученых, которые и в самом деле двигают у нас науку). Представьте себе номер, целиком посвященный современной детской повести, или номер, обсуждающий книги о приключениях и путешествиях.
А если у редакции хватит изобретательности и живости, можно даже посвятить целый номер такому серьезному разделу искусства, как веселая детская книга.
Надо, чтобы этот журнал доходил до самого широкого круга читателей, чтобы его читали и в городе и в деревне. Если перед нашими критиками будет такая аудитория, они не посмеют больше писать на своем таинственном «птичьем языке», понятном — да и то не всегда — только их ближайшим товарищам.
Я уважаю наших критиков. Я думаю, что им будет совестно писать легковесные статейки, когда они увидят перед собой не горсточку специалистов по детской книге, а множество советских людей, которым дороги воспитательные задачи литературы.
_____
Эта статья была написана четверть века тому назад, и приведенные в ней примеры, естественно, относятся к своему времени. Но вопросы, которых она касается, в какой-то мере живы и до сих пор.
«Высокой страсти не имея…»
Всем нам неоднократно приходилось слышать жалобы на то, что программа преподавания русского языка и литературы в нашей школе излишне перегружена и поэтому школьникам трудно учиться.
Не берусь судить, насколько это верно, но невольно вспоминаю мысль Герцена о том, что «трудных наук нет, есть только трудные изложения, то есть непереваримые».
И в самом деле. Чем догматичнее и схоластичнее обучение, тем больше времени отнимает оно у школьника.
Это не требует доказательств.
Живой интерес к предмету изучения, ясность поставленной задачи, горячая целеустремленность каждого урока — вот что прежде всего может и должно облегчить трудность усвоения школьной науки.
Подростки — это, несомненно, самые страстные, самые неутомимые из всех читателей.
Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку искусство.
В этом деле может значительно помочь учителю и ученику хороший учебник. Нужно добиться, чтобы у ребят появились любимые учебники, подобно тому как бывают любимые детские книжки.
Но для того чтобы такой учебник оказался наконец в руках у школьников, мы должны со всей строгостью и внимательностью проверить существующие учебники, определить, на каком уровне, идейном и художественном, находятся наши литературные хрестоматии.
И педагоги, и литераторы, пишущие для детей, никогда не должны забывать, что в их детской аудитории таятся мощь, сила, ум и талант будущего общества.
За несколько десятков лет наша страна прошла путь многих столетий.
И дети это чувствуют, учитывают и мотают на свой будущий ус. Они понимают, что им предстоит жить в эпоху еще большего подъема, больших скоростей.
Я не переоцениваю сил наших детей и подростков, Но не следует и преуменьшать, недооценивать их, как это делает «Родная речь», предлагая школьникам III класса стихи из плохой дошкольной книжки, а школьнику IV класса задачу такого рода:
«Выберите в рассказе (имеется в виду рассказ Чехова «Ванька») слова, взятые из народной речи, и замените их литературными выражениями» («Родная речь», стр. 110)[3].
Можно себе представить, как бы отнесся к этому странному классному упражнению Антон Павлович Чехов!
Чем, например, заменить такие «народные» выражения в чеховском рассказе, как:
«Секи меня, как Сидорову козу!»
или:
«Упал и насилу очухался…»
Вероятно, так:
«Подвергай меня, дедушка, телесным наказаниям!»
«Упал без сознания и едва пришел в чувство!..»
Я указываю здесь на недостатки хрестоматий в полной уверенности, что мы все же приближаемся к тому времени, когда библиотечка учебных книг будет наконец достойна своего высокого назначения.
Учебные книги для средней школы в последнее время начинают мало-помалу улучшаться.
И тем не менее вопрос об учебниках и преподавании литературы и родного языка еще далеко не разрешен. Требуются огромные усилия, чтобы преодолеть инерцию, отказаться от привычных литературоведческих и педагогических предрассудков. К сожалению, в учебниках до сих пор еще проявляются многие грехи и недочеты литературоведения и педагогики.
Просматривая учебники родного языка и литературы (а одно от другого неотделимо), убеждаешься, что лучше — или, вернее, относительно лучше, обстоит дело с учебниками для старших классов, хуже — для средних и совсем плохо для младших.
Чем ниже спускаешься по лестнице школьных классов, тем чаще обнаруживаешь бессистемность, безвкусицу, безыдейность. А между тем не надо доказывать, что младшие классы относятся к старшим, как фундамент к зданию.
В наших хрестоматиях для старших классов (от VIII до X) известная последовательность и систематичность обеспечивается хотя бы тем, что материал дается в связи с историей литературы, а стало быть, и с общей историей. Найти же видимую закономерность и последовательность в построении учебников для младших и средних классов не так-то легко.
В книге для IV класса «Родная речь», в которой оглавление четко разбито на отделы и этим отделам даны названия, неблагополучие видно сразу.
Какую логику можно усмотреть там, где один отдел называется «Лето», другой — «Осень», третий — «Сказки, легенды, басни», четвертый — «Семья и школа», а пятый — опять по времени года — «Зима»?
В книге для V класса авторы оказались осторожнее. Они тоже делят оглавление на части, но дают этим частям не названия, а только ничего не говорящие порядковые номера, римские цифры — I, II, III, IV.
Да и трудно было бы дать этим разделам названия, настолько они не поддаются точному определению.
Но дело не только в отсутствии стройности.
Недостаток живой педагогической мысли еще сильнее сказывается в характере подачи литературного материала.
Педагоги говорят, что хрестоматия — это та книга, которая призвана познакомить ребенка и подростка с русской литературой, должна привить ему любовь к ней.
Решают ли эту задачу книги, которые называются «Родная речь», «Родная литература»?
Лучших наших поэтов они дают в весьма ограниченных дозах, часто в отрывках, да при этом еще даже не умеют «отрывать» как следует, без нарушения ритма, без потери рифмы, а иной раз и смысла.
В книжке для I класса, давая детям в первый раз Пушкина, составители вырывают из «Сказки о мертвой царевне…» всего-навсего четыре строчки о яблочке, взяв подлежащее из предыдущей строки. Получается лишенная ритма прозаическая строчка: «Оно соку сладкого полно». Но это нисколько не беспокоит авторов учебника. Ведь им нужны не стихи, а повод для беседы о плодах и овощах.
В V классе, предлагая ребятам волнующую и трогательную повесть в стихах «Мороз, Красный нос» Некрасова, составители с легким сердцем выбрасывают из второй части десять главок (с 19-й по 29-ю), а между тем в опущенных главках так много строчек, вполне понятных и доступных детям. Да к тому же в поэме, замечательной по своему нарастающему лирическому напряжению, нельзя безнаказанно выбрасывать десяток строф. Без всего предыдущего такая поэтическая вершина одной из глав, как стихи: «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи», — перестает быть вершиной и превращается просто в риторическую фигуру.
Это похоже на то, как если бы с Исаакия сняли купол и поставили на землю. Купол венчает здание, и смотреть на него следует с известной дистанции. Точно так же теряют свою силу и значительность многие отрывки, включенные в хрестоматию.
В учебнике русской литературы для VIII класса есть цитата из «Цыган». Но составители ухитрились так процитировать Пушкина, что потеряли и рифмы, и размер, и большую долю смысла.
Правда, на месте одного из пропусков поставлено многоточие. Но этот знак препинания ни в какой мере не восстанавливает ни благозвучия, ни смысла. Вот как звучит эта цитата:
Два трупа перед ним лежали: Убийца страшен был лицом… Когда же их закрыли Последней горстию земной, Он молча, медленно склонился И с камня на траву свалился.Очевидно, поэтическая прелесть пушкинских стихов здесь ни в какой степени не принимается во внимание.
Цитата берется только для того, чтобы подтвердить вывод, который формулируется так: «Убийство морально раздавило убийцу».
Можно привести множество примеров, показывающих, как мало ценят составители хрестоматий русскую поэзию. Им ничего не стоит крошить на мелкие кусочки величайших поэтов прошлого и наших современников, давать национальных поэтов в плохих переводах и помещать все вперемешку на одних и тех же страницах. И даже тогда, когда составители посвящают Пушкину целую страницу или разворот, выбор стихов вызывает иной раз недоумение.
Поймут ли, или, вернее, почувствуют ли одиннадцати-двенадцатилетние дети, ученики V класса, стихи семнадцатилетнего Пушкина-лицеиста, отрывок из неоконченной поэмы «Сон», в котором встречаются такие строчки:
Драгой антик, прабабушкин чепец…У Пушкина ли не найти стихов, исполненных «пушкинской» простоты и понятных русским детям?
Но выбор стихов обусловлен не вкусом, не любовью к поэзии, а желанием составителей дать наряду с отрывком из романа Тынянова «Пушкин» автобиографические стихи поэта. Это удобно для «проработки».
Вообще говоря, пригодность того или иного литературного материала для классных занятий служит, по-видимому, главным критерием при выборе художественных произведений. Этому принципу очень часто приносится в жертву качество стихов и прозы.
Такая тенденция особенно заметна в книгах для младших классов. Там Пушкин — редкий гость. Очевидно, он не так удобен для занятий по схеме, как стихотворцы менее знаменитые, а иной раз и совсем безымянные.
В первой книге «Родной речи», где ребятам дается представление о домашних животных, есть такие ласковые строчки, принадлежащие перу неизвестного автора:
Шкуру чушечки дубят, Ну, а мясо все едят.В книгах для детей постарше таких перлов нет. Но и там зачастую ставят на одну доску Пушкина, Майкова, Никитина, Грекова, Белоусова, Аллегро и других поэтов самого разного времени, уровня и стиля.
Я не думаю, что хрестоматии должны отводить место только крупнейшим поэтам. Напротив, следует еще шире использовать ресурсы классической и современной литературы.
Но нельзя же ставить рядом Пушкина, и скажем, Грекова или Аполлона Коринфского. Нельзя вырывать из чудесной пушкинской сказки четыре строчки о яблочке только для того, чтобы поместить их между изображением яблони и басней «Садовник и сыновья» (I класс, «Родная речь», 146 стр.). Не следует представлять детям Пушкина только как автора стихов под названием «Осень», «Зима», «Весна». Это самый верный способ поссорить детей с Пушкиным. Даже в хрестоматии для IV класса из девяти стихотворений нашего величайшего поэта пять посвящено временам года. А в младших классах его стихов почти нет, если не считать трех маленьких отрезков в I классе, трех кусочков во II и четыре — в III.
Выбирая стихи, надо останавливать выбор на том, что могут оценить дети.
С какой радостью учили бы наизусть школьники V-VI классов стихи «Делибаш» или «Блеща средь полей широких, вот он льется. Здравствуй, Дон!»
«Обвал» Пушкина, «Спор» Лермонтова могли бы стать любимыми стихами ребят с двенадцати-тринадцатилетнего возраста. А современная советская литература — как она представлена в хрестоматиях? Крайне скудно и далеко не в лучших образцах. Вы тщетно будете искать в книгах для младших возрастов таких близких, таких любимых писателей, как Гайдар и Л. Пантелеев. Не нашлось места на этих страницах Борису Житкову, М. Ильину. А между тем именно у этих писателей можно найти так много познавательного материала, столько страниц о нашей стройке, о современной науке и технике.
Почему в книге для III класса есть «Путешествие по Саванне» («по Одуэну Дюбрею») и нет рассказа об Индии Бориса Житкова, превосходного рассказа «Про слона», в котором автору удалось показать детям и слона, и тропический пейзаж, и даже поработительную политику англичан в Индии?
Почему так мало Пришвина, Чарушина?
Есть стихи о тимуровцах, а самого «Тимура» и его автора нет!
Очевидно, весь этот живой, волнующий ребят материал не влезает в какую-то схему, основная цель которой — проработка. Живая жизнь и живая литература не поддаются этим скучным и бездарным схемам.
В книгах есть все революционные праздники, есть и поэты революции — такие, как Маяковский, но настоящего революционного духа в них нет. Попадая в мирную и довольно затхлую атмосферу хрестоматий, теряет свой пламенный пафос даже Маяковский. Недаром он так боялся хрестоматий и писал с негодованием: «Навели хрестоматийный глянец!»
Значительная часть политического материала (сравнение дореволюционного прошлого с нашей современностью) подается в таких примитивных и назидательных сопоставлениях, что теряет всякую остроту и свежесть.
Рассудочное отношение составителей к художественным качествам литературы сказывается особенно ярко и наглядно в так называемом подсобном «аппарате», которым снабжены рассказы и даже стихи.
В хрестоматии для VII класса целые страницы отведены писателям, их портретам и литературным образцам. Но разве не отписка — большой портрет Алексея Константиновича Толстого и всего-навсего два четверостишия из собрания его сочинений («Край родной»)?
Представление о Фете должны дать портрет длиннобородого человека и два коротеньких лирических стихотворения — «Облаком волнистым…» и «Я пришел к тебе с приветом…».
Не знаю, следует ли давать ученикам VII класса именно эти стихи Фета, или следовало бы их заменить другими стихами того же автора, более доступными возрасту. Но не успела отзвучать музыка последних строк этого стихотворения —
Рассказать, что отовсюду На меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду Петь, — но только песня зреет, —как на сцену выходит учебно-педагогический конферансье.
«Покажите, что слова «отовсюду на меня весельем веет» обобщают впечатление от нарисованной в стихотворении картины».
Легкие и хрупкие стихи Фета не выдерживают тяжести такого холодно-рассудочного заключения, от которого веет не весельем, а скукой. Да и что это значит: «обобщать впечатление от картины». Это непонятно ни ребенку, ни взрослому.
В «Родной литературе» для V класса после пленительных строчек Пушкина:
Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный… и т. д. —мы слышим глубокомысленный, тяжеловесный вопрос человека в футляре.
«Чего достиг Пушкин противопоставлением двух различных картин?»
Видимо, ничего не достиг, если после его стихов можно задавать такие вопросы!
Но самое убийственное примечание в этой книге дано отрывку из воспоминаний Горького о его детстве.
Ребята прочли этот отрывок. Они растроганы, взволнованы. А составитель, не дав остыть первому впечатлению, скрипучим унылым голосом задает им такую задачу:
«Придумайте отдельные предложения со следующими словами: «унижение, тревоги, печали, угрозы… восторг».
С каким равнодушным легкомыслием относятся авторы хрестоматии к чувствам, которые так дорого достались Горькому и так потрясают его читателей.
Хочется сказать составителям:
Нельзя ли для прогулок Подальше выбрать закоулок?В той же «Родной литературе» для V класса рассказы и стихи чередуются не только с упражнениями на слова «унижение» и «печали», но и с некоторыми элементарными сведениями по теории литературы.
Это дело полезное и даже необходимое.
Но беда в том, что многие из сведений даны не столько элементарно, сколько неточно, приблизительно. Нельзя же считать удовлетворительным такое определение эпитета:
«Прилагательные, которые обрисовывают предмет, называются эпитетами».
Развивая это явно неудовлетворительное определение, составители продолжают:
«Прилагательные, вызывающие у читателя какое-либо чувство (!), называются эпитетами, даже если они не дают наглядного, картинного изображения предмета… Не всегда прилагательное можно назвать эпитетом. В таких выражениях, как «железная лопата»… прилагательное «железная» эпитетом не будет».
Вряд ли у школьника V класса сложится на основании этого определения отчетливое понятие о том, что такое поэтический эпитет. Во всяком случае, трудно поручиться, что, прочитав стихи Николая Тихонова о «железных ночах Ленинграда», школьник поймет что в данном контексте прилагательное «железный» приобретает права эпитета, которых у него не было в применении к слову «лопата».
Дело в том, что все подобные теоретические сведения и определения становятся ясными, понятными и даже интересными только тогда, когда они даются на основании живых наблюдений над большим количеством разнообразного литературного материала. Вот если бы ребята почувствовали различные оттенки эпитетов тургеневских, пушкинских, лермонтовских, если бы их поразил своей свежестью и смелостью какой-нибудь эпитет Тютчева или Гоголя, — вероятно, они бы навсегда усвоили себе, какое значение имеет эта краска на палитре художника. Да и сами научились бы сознательно пользоваться эпитетом как средством живой, выразительной речи.
То же относится и к изучению стихотворных размеров. Почему-то пять основных размеров стихосложения разбиты на целых два года. Почему не на пять? По размеру в год!
В одном классе изучают ямб и хорей, в другом — дактиль, амфибрахий и анапест.
Без большого количества материала, без живых примеров того, как разнообразно может звучать один и тот же размер в различных обстоятельствах, — это формалистическое обучение, утомительная и напрасная трата времени. Если ребята и поймут, что такое ямб и что такое хорей, они это скоро забудут. Нельзя бесстрастно изучать теорию стихосложения. Или произойдет то, о чем говорит Пушкин:
Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить.Впрочем, составители «Родной литературы» для V класса пытаются иной раз говорить языком литературоведов, но они забывают, что при оценке произведений литературы требуется хоть элементарная грамотность.
К примеру, составители спрашивают у школьника: «Какие звуки и краски ранней осени рисует Шолохов?» (стр. 42).
Можно ли «рисовать краски»?
Какое небрежное и неверное словоупотребление!
Все это как будто частности. Но в искусстве частности, как всегда, решают дело.
Какой же вывод отсюда?
Мне кажется, что весь «подсобный» материал надо выделить в особое приложение к хрестоматии или, еще лучше, в отдельную книгу или книги для учителя. В этих книгах должен заключаться хороший и надежный комментарий к текстам, выдержки из лучших критических статей, да и целые статьи о художественном произведении, подлежащем анализу. На мой взгляд, была бы очень полезна запись наиболее интересных и содержательных уроков, проведенных талантливейшими педагогами нашей страны. Эти записи могли бы подсказать молодому учителю те меткие вопросы и тактичные, умные задачи, которые не мешают, а помогают изучать художественное произведение.
Для того чтобы учебники обогатились биографиями и критическими очерками, дающими представление о творчестве писателей, Учпедгиз и Детгиз должны позаботиться об этом заблаговременно, не возлагая эту трудную задачу целиком на плечи составителей учебников. Только тогда биографии — даже самые краткие — будут достойны имен, которым они посвящены, когда каждая из них будет предметом бережного труда автора, редактора, издателя.
Это же относится и к жизнеописаниям политических деятелей, художников, изобретателей, ученых.
И даже больше, даже шире. Подобно тому, как редакции журналов и газет заблаговременно заказывают наиболее ответственные очерки и статьи специалистам, так и Учебно-педагогическое издательство может вовремя подыскать для каждой темы самых подходящих людей. И тогда у нас будут образцовые очерки о нашей родине, о колхозах, о заводах, о людях, которые изо дня в день совершают небывалые дела.
Этим способом вернее всего бороться с любительщиной, самодельщиной, заполняющей учебники для младших возрастов.
Да и помимо заказов надо шире и смелее пользоваться лучшими достижениями нашей литературы для взрослых и для детей. Надо по-настоящему любить ее, а не только обращаться к ней в узко-утилитарных целях.
Заметки о мастерстве
Зачем пишут стихами?
…Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить ее от содержания — значит уничтожить самое содержание; и наоборот: отделить содержание от формы — значит уничтожить форму…
В. БелинскийКо мне, как и к другим литераторам, обращается немало пишущих людей с вопросом: что такое поэтическое мастерство и как ему научиться.
Многие просят даже порекомендовать какое-нибудь руководство по стихотворному искусству.
Такого руководства, к сожалению, а может быть, и к счастью, нет.
Существуют, конечно, книги по теории стихосложения — их даже немало, — но и по самым лучшим из них нельзя научиться писать настоящие стихи.
Однако мне кажется, что мы, профессиональные литераторы, могли бы общими усилиями помочь своим корреспондентам — а заодно и читателям — хоть отчасти разобраться в вопросах поэтического мастерства, поделившись с ними мыслями и наблюдениями, которые накопились у каждого из нас во время собственной работы и при изучении творчества других поэтов.
В этих «Заметках» я и попытался собрать воедино кое-какие свои мысли, а также выводы из прочитанного мною.
Естественно, что в качестве примеров и образцов я беру по преимуществу тех поэтов, у которых учился сам.
I. О прозе в поэзии
У Чехова есть рассказ «На святках». Старуха Василиса пришла в трактир к хозяйкиному брату Егору, про которого «говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует».
«— Что писать?» — спрашивает Егор.
«— Не гони!» — отвечает Василиса. — «Небось, не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.
— Есть. Стреляй дальше».
«— …мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа… царя небесного…
…царя небесного… — повторила она и заплакала.
Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах… сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!..»
«— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.{1}
— Он из солдат, батюшка… В одно время с тобой со службы пришел…
…Егор подумал немного и стал быстро писать.
«В настоящее время, — писал он, — как судба ваша через себе определила на Военое Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства…»
«Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову…»
«И поэтому Вы можете судить… какой есть враг Иноземный и какой Внутреный. Перьвейшый наш Внутреный Враг есть: Бахус».
«Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки».
А старик, Василисин муж, прослушав письмо, доверчиво кивал головой и говорил:
«— Ничего, гладко… дай бог здоровья. Ничего…»
Егор из чеховского рассказа — равнодушный писарь, «сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком».
Но так легко поставить на его место некоего литератора примерно такой же комплекции. Народ просит его, человека, владеющего пером, выразить все то, о чем «не поместить и в десяти письмах», а он преспокойно выделывает на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки.
Народ, умный, терпеливый и вежливый народ, читает такую мудреную «цывилизацию» Чинов Военного Ведомства и подчас только головой кивает:
— Ничего, гладко… дай бог здоровья. Ничего…
Правда, в наше время народ — уже не тот. Его не обманешь витиеватыми фразами и писарскими завитушками. Да и молчать он, пожалуй, не станет, если почувствует пошлость, которую в глубине души чувствовала даже безропотная Василиса.
Но все же чеховский рассказ не утерял своей действенности, своей сатирической горечи и до сих пор.
Доныне еще многие мысли и чувства народа не ложатся на бумагу, не входят в литературную строку. У нас и сейчас еще не совсем вышли из моды каллиграфические завитушки.
И в наши дни есть еще немало людей, которые не считают поэтичными стихи старика Некрасова и родственных ему наших современников, то есть стихи, где нашли себе место многие житейские происшествия: и смерти, и свадьбы, и длинные зимы, и длинные ночи.
А ведь наличием этой прозы в стихах, в повестях и романах измеряется поэтическая честность, поэтическая глубина, ею измеряется и художественное мастерство.
Может ли быть мастерство там, где автор не имеет дела с жесткой и суровой реальностью, не решает никакой задачи, не трудится, добывая новые поэтические ценности из житейской прозы, и ограничивается тем, что делает поэзию из поэзии, то есть из тех роз, соловьев, крыльев, белых парусов и синих волн, золотых нив и спелых овсов, которые тоже в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой жизненной прозы?
Правда, этот готовый поэтический набор, которым пользуются литературных дел мастера, то и дело меняется. В одну эпоху это — роза, в другую — греза, в третью — синий платочек.
Но из-за плеча такою литератора, какой бы моды он не придерживался, всегда выглядывает тот же писарь, — «сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком», набивший руку грамотей, который «может хорошо писать…».
Есть особое писарское высокомерие, которое ставит превыше всего своеобразие и щегольство росчерка. Иной ради этого росчерка даже перевернет страницу вверх ногами, чтобы удобнее было вывести на ней последние, самые замысловатые завитушки. Такому профессионалу кажется, что содержание — только повод для того, чтобы показать, как искусно он «владеет пером».
Целые поколения стихотворцев воспитывались на том, что главное в их деле заключается в своеобразии писательского почерка, являющегося самоцелью, а не естественным результатом вполне сложившегося мировоззрения, характера, отношения к действительности.
И не так-то легко отказаться от такой привычки работать «на холостом ходу».
Не одному поколению поэтов прививалось смолоду убеждение, что поэтический словарь существенно отличается от словаря прозаического, что поэзия представляет собою своего рода легковой транспорт, не предназначенный для перевозки слишком больших грузов, которые полагается возить прозе.
Бог создал мир из ничего. Учись, художник, у него! —писал когда-то беззаботный поэт-декадент.
Но ведь и чеховский Егор стряпал свое письмо из ничего — вернее, из той «словесности», которою начинили ему голову в казарме. Поэтому-то его ровная и «гладкая» писарская строка не вмещала никакого подлинного материала, была глуха к живому голосу живых людей.
Так бывает и с поэзией.
Мы знаем целые периоды в ее истории, когда она страдала особой профессиональной глухотой. В таких случаях у нее вырабатывается свой собственный, весьма ограниченный и условный, непереводимый словарь. Правда, она не отказывалась подчас говорить и о жизненных явлениях, — или, вернее сказать, называла их по имени, но все, чего бы она ни касалась, — жизнь, смерть, любовь, война — превращалось у нее в словесный узор.
Особенно ощутимо это было во дни испытаний и потрясений — таких простых и грубых, как засуха, голод, изнурительная война.
Не было ли похоже на лихое сочинение чеховского Егора некое письмецо — тоже от имени деревенской бабы, но почему-то в стихах, за подписью известного поэта? Появилось оно во время войны 1914 года и называлось «Запасному — жена».
Какие же чувства простой русской женщины-солдатки отразили стихи поэта?
Если ж только из-под пушек Станешь ты гонять лягушек, Так такой не нужен мне! Что уж нам господь ни судит, Мне и то утехой будет, Что жила за молодцом. В плен врагам не отдавайся, Умирай иль возвращайся С гордо поднятым лицом…Так и пишет эта бой-баба: «С гордо поднятым лицом».
И дальше:
…Бабы русские не слабы, — Без мужей подымут бабы Кое-как своих детей, Обойдутся понемногу, Люди добрые помогут, Много добрых есть людей…Напрасно вы стали бы искать в этих стихах, в самом их ритме боль разлуки, тревогу за близкого человека. А ведь такие чувства отнюдь не противоречат подлинному, не квасному патриотизму.
…Обойдутся понемногу, Люди добрые помогут, Много добрых есть людей…Какая же такая баба уполномочила поэта написать это разудалое письмецо своему «запасному» во дни тяжелой и очень непопулярной в народе войны 1914 года?
Впрочем, вряд ли сам автор отдавал себе ясный отчет в том, что пишет. Стихи были изготовлены к случаю, по моде своего времени, по условным ее законам и, в сущности, представляли собою стилизацию, литературную подделку под якобы «народную», солдатскую песню. А стилизация как бы снимает с автора ответственность за содержание.
По правде сказать, только кажется, что снимает. Пусть читатели не протестуют, а народ, от имени которого пишется такое послание, до поры до времени молчит или говорит недоуменно:
— Ничего, гладко…
Но приходит час, и вся фальшь, прикрытая условностью, модой, выступает наружу, и никакая стилизация не служит ей оправданием.
Если бы даже не осталось других доказательств непопулярности в нашей стране империалистической войны 1914 года, — в этом можно было бы легко убедиться, перелистав сборники военных стихов того времени.
Об Отечественной войне 1812 года говорят нам стихи Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Дениса Давыдова, Лермонтова.
Памятью о Севастопольской кампании навсегда остались в нашей поэзии немногословные, но глубокие строчки Некрасова, Тютчева.
Больше сказать эти поэты не могли, связанные царской цензурой.
А война 1914 года породила множество холодных, плоских, легковесных, псевдонародных, глубоко штатских стихов.
На глянцевитой бумаге, на страницах, украшенных фотографиями в альбомных овалах, печатались стихи какой-то дамы Е. В. Минеевой о казаке Кузьме Крючкове, который
На резвой лошади, бряцая храбро шпагой, Разбил насмерть одиннадцать врагов.И тут же — стихи в псевдорусском колокольном стиле, озаглавленные «О, Русь!» и подписанные почему-то экзотическим псевдонимом «Маугли».
В бранной порфире царица сермяжная — Русь — это ты!… —писал таинственный господин Маугли.
Впрочем, плохие и плоские стихи всегда появлялись — в любые времена.
Но за всеми этими «сермяжными индусами» и дамами-любительницами шли пестрой вереницей, как ряженые на святках, известные профессиональные поэты, не отказавшиеся даже в эти трагические дни от обычной своей позы, от привычного грима.
Только мастерства в их стихах было меньше, чем в мирное время. Ведь мастерство неотделимо от содержания. Оно повышается или понижается в зависимости от того, что именно человек мастерит.
Недаром же Маяковский — тогда еще очень молодой и по-юношески задорный — обнаружил пустоту, безличие и однообразие батальных стихов того времени, склеив одно стихотворение из трех четверостиший разных и различных поэтов («Поэты на фугасах», 1914).
Федор Сологуб, который в мирное время цедил, как ликер, то скептические, то эротические строки стихов и прозы, оказался в это время автором бойких куплетов, приведенных выше («Если ж только из-под пушек станешь ты гонять лягушек…» и т. д.).
Томный М. Кузмин тоже освежил свою лирику стихами на военные темы, написанными в изысканно-небрежной, нарочито простодушной манере:
Небо, как в праздник, сине, А под ним кровавый бой. Эта барышня — героиня, В бойскауты идет лифт-бой…И фатоватый, развязный, усвоивший тон всеобщего любимца, которому все позволено, Игорь Северянин выступил с жизнерадостными военными «поэзами»:
Друзья! Но если в день убийственный Падет последний исполин, Тогда, ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин.Казалось бы, большие исторические события, потребовавшие от народа так много жертв, должны были наполнить поэзию гневной, горячей прозой, какою полны были стихи Некрасова о войнах его времени:
Брошены парады, Дети в бой идут. А отцы подряды На войска берут… …Дети! вас надули Ваши старики: Глиняные пули Ставили в полки!И в последнюю царскую войну солдат надували и предавали, а поэты — большинство поэтов — предпочитали жить в поэтической дали и писать этак со стороны, по-«земгусарски» об окопах, кровавых боях, пушках и лазаретах. И все это было так же бездушно, так же мало отражало мысли и чувства миллионов людей, как писарская «цывилизация Чинов Военого Ведомства».
Достаточно положить рядом поэтические антологии, посвященные двум мировым войнам — империалистической 1914 года и Великой Отечественной, — чтобы преисполниться высокой и законной гордостью за нашу советскую поэзию, неотделимую от своего народа и воевавшую вместе с ним. Правда, и в это время было немало скороспелых, банальных и безличных стихов, но не они определяли собой характер поэзии военных лет.
А много ли честных и живых стихотворных строчек оставила нам последняя война императорской России?
Очень немного.
Пожалуй, только буйно-протестующие строчки Маяковского, который с первых же дней восстал против этой войны и отчетливо увидел ее виновника — рубль, «вьющийся золотолапым микробом».
А из множества стихов, написанных поэтами старшего поколения, проникновенно и достойно звучат до сих пор разве только стихи Александра Блока, на первый взгляд такие неожиданные для автора «Незнакомки» и «Снежных масок»:
Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон. Без конца — взвод за взводом и штык за штыком Наполнял за вагоном вагон.В этих строгих и мерных стихах, похожих по ритму на баллады, которые поют в вагонах, была простая житейская правда и предчувствие великих, грозных событий:
…Уж последние скрылись во мгле буфера, И сошла тишина до утра, А с дождливых полей все неслось к нам ура, В грозном клике звучало: пора!Александр Блок и Владимир Маяковский — поэты очень различные по возрасту, темпераменту, характеру дарования и мировоззрению.
Маяковский открывает большую поэзию нашей советской эпохи. Блок завершает собою поэзию дореволюционную.
Но их роднит то, что оба они в эти исторические дни много и напряженно думали, знали цену поэтическому слову, понимали ответственность поэта перед временем и народом. Оба они далеки от всего, что было в литературе узкопрофессионального, высокомерно-«писарского».
Среди их современников было немало талантливых поэтов и способных стихотворцев.
Как же случилось, что поэзия в последние предреволюционные десятилетия утратила свою власть над читателем?
Мы хорошо помним имена популярных в то время и даже любимых тогдашними читателями поэтов. Но разве можно сравнить их идейное влияние с влиянием современных им прозаиков — Льва Толстого, Короленко, Чехова, Горького?
А ведь еще в некрасовские времена, когда жили и работали такие гиганты русской прозы, как тот же Лев Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Салтыков-Щедрин, поэзия не уступала прозе, а делила с ней роль идейного руководителя, выразителя чувств, «властителя дум». Поэзия — конечно, в лучших ее образцах — была так же содержательна, интересна и толкова, как лучшая проза. Стихов Некрасова читатели ждали не менее жадно, чем новых глав самого волнующего романа.
На это могут возразить, что далекое прошлое всегда представляется нам в каком-то ореоле. Но ведь Некрасов уже при жизни стал народным поэтом и занял, преодолев сопротивление многих скептически к нему относившихся литераторов, прочное место наряду с великими поэтами, уже окруженными ореолом вечной славы.
«Вы на публику имеете влияние не менее сильное, нежели кто-нибудь после Гоголя», — писал Некрасову Чернышевский в 1856 году.
А когда на похоронах Некрасова Достоевский назвал его имя рядом с именами Пушкина и Лермонтова, послышались молодые голоса:
— Нет, выше!
Конечно, не это восторженное восклицание, прозвучавшее у открытой могилы, определяет удельный вес и значение Некрасова в нашей поэзии.
Вокруг его имени еще долго кипела борьба — да и доныне она не совсем утихла. Но стихи Некрасова проникли в народ безымянной песней — «Коробушкой», «Кудеяром-атаманом», «Тройкой», «Несжатой полосой», стали достоянием каждого мало-мальски грамотного человека, вызвали к жизни множество поэтов-самоучек, вошли в обиход людей самого разного возраста.
Школьники твердили наизусть: «Ну, пошел же, ради бога…» и «Мороз-воевода дозором…»
Студенты пели: «Выдь на Волгу: чей стон раздается…»
Так оно и должно было случиться.
На общенародное признание имеет право только умная и зрелая поэзия, которая, как и проза, охватывает разнообразные области жизни и решает серьезные задачи.
А когда поэзия выходит из графика движения, ее незаметно переводят на запасный путь.
У нее могут быть свои любители, но она перестает быть чтением.
У поэтов, проделавших на своем веку какую-то работу, а не живших в литературе «на всем готовом», всегда есть точный адрес и точная дата их жизни и работы.
Этим адресом не может быть вселенная.
Мы все живом во вселенной — об этом забывать не надо, — но, кроме того, у каждого из нас есть более простой и определенный адрес — страна, область, город, улица, дом, квартира.
Наличие такого точного адреса может сложить критерием, позволяющим отличить подлинную поэзию от производной.
Точный адрес был и у Шекспира, и у Пушкина, у Чехова, Горького, Блока и Маяковского.
А вот, скажем, Габриэль д'Аннунцио давал читателю такие координаты:
«Вселенная, мне».
По этому адресу еще труднее найти человека, чем по адресу, указанному Ванькой Жуковым:
«На деревню дедушке».
На узкий круг людей многозначительный вселенский адрес может произвести впечатление, но ведь книги — и проза и стихи — держат экзамены, подвергаются испытанию и проверке чуть ли не каждый год, и все то, что неполноценно, рано или поздно проваливается, не выдерживает испытания временем. Обнаруживается подоплека поддельной книги, проступает ее схема — скелет.
И если Шекспир, Данте, Сервантес, Пушкин, Гоголь живут долго, то это не значит, что они переходят из десятилетия в десятилетие, из века в век без экзамена. Нет, они тоже проверяются временем и блестяще выдерживают испытания.
Впрочем, мысль о бессмертии или даже о литературном долголетии не должна особенно беспокоить литераторов. Все равно сие от них не зависит.
А вот честное, неравнодушное отношение к своему времени, к своим современникам, к своему народу — таково главное условие подлинной поэтической работы.
Вряд ли весьма модный при жизни поэт Владимир Бенедиктов мог предвидеть, что его невинные стишки о кудрях покажутся потомкам (да и умным современникам) не только смешными и нелепыми, но и возмутительными по своей бестактной игривости.
Кудри девы-чародейки, Кудри — блеск и аромат, Кудри — кольца, струйки, змейки, Кудри — шелковый каскад! …Кто ж владелец будет полный Этой россыпи златой? Кто-то будет эти волны Черпать жадною рукой?..Потомок вправе спросить: «Позвольте, а когда были написаны эти стишки?»
И, узнав, что они были «дозволены ценсурою» в год смерти Пушкина, еще больше обидится на поэта Бенедиктова — не столько за это совпадение, сколько за то, что и после Пушкина оказалось возможным появление в печати таких домашних, альбомных стихов.
Бестактность их — не в любовной теме. Тема эта вполне уместна и законна в романе и в повести, в драме и в поэме, а в лирических стихах — и подавно.
«Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли», — говорил Чернышевский.
Однако в поэзии, которая является не частным делом, а достоянием большого круга читателей, народа, даже любовная лирика, выражающая самые сокровенные чувства поэта, не может и не должна быть чересчур интимной. Читатель вправе искать и находить в ней себя, свои сокровенные чувства. Только тогда лирические стихи ему дороги и нужны. В противном же случае они превращаются в альбомные куплеты, неуместные на страницах общедоступной книги или журнала.
Сколько поколений повторяло вслед за Пушкиным:
Прими же, дальная подруга, Прощанье сердца моего, Как овдовевшая супруга, Как друг, обнявший молча друга Пред заточением его.Но кому какое дело до сложных чувств стихотворца Бенедиктова к некоей замужней особе:
Так, — покорный воле рока, Я смиренно признаю, Чту я свято и высоко Участь брачную твою; И когда перед тобою Появлюсь на краткий миг, Я глубоко чувство скрою, Буду холоден и дик… …Но в часы уединенья, Но в полуночной тиши, — Невозбранного томленья Буря встанет из души… …И в живой реке напева Молвит звонкая струя: Ты моя, мой ангел-дева, Незабвенная моя!Стихотворный ритм верно служит настоящему поэтическому чувству. Но с какой откровенностью выдает он пошлость лихого гитарного перебора:
Ты моя, мой ангел-дева, Незабвенная моя!Ту же пошлую легковесность и бестактность находил Маяковский в лирических излияниях некоторых современных ему стихотворцев. Вспомните «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им…».
Но дело не только в публичном выражении домашних и не всегда почтенных чувств.
Время предъявляло и предъявляет свой счет поэтам значительно более крупным и подлинным, чем, скажем, Владимир Бенедиктов.
В «Дневнике писателя» Достоевского есть любопытные строчки, посвященные знаменитому стихотворению Фета «Шепот, робкое дыханье…».
Как известно, в этом стихотворении совсем нет глагола, а есть только существительные с некоторым количеством прилагательных.
У Пушкина, в противоположность Фету, то и дело встречаются строфы, состоящие почти сплошь из глаголов:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас…Или:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей».Тут ни одного прилагательного; зато как много действия — непрерывная цепь глаголов.
Глаголы, великолепные, энергичные, действенные, пронизывают все описание Полтавской битвы, и только в одном четверостишии, где напряжение боя достигает своей высшей точки, существительные постепенно, в сомкнутом строю, вытесняют глаголы:
Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон.Но ведь это — горячая, прерывистая речь, которая спешит угнаться за стремительным бегом событий. В ней естественно сгрудились в одном месте подлежащие, в другом — сказуемые; в третьем сказуемые вовсе исчезли, как это случается в устном торопливом рассказе.
Другое дело — стихи Фета «Шепот, робкое дыханье…».
Все строчки этого стихотворения — целых двенадцать строчек — состоят почти из одних только существительных без единого глагола.
Но суть дела не в этой поэтической причуде.
Вот что пишет Достоевский по поводу упомянутых стихов Фета.
Полемизируя с теми, кого он называет «утилитаристами» (то есть сторонниками общественно полезного искусства), и, видимо, желая объяснить себе и другим их точку зрения, он предлагает читателям такую нарочито экстраординарную ситуацию:
«Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял… Жители толкаются по улицам, в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского Меркурия (тогда все издавались в Меркурии). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:
Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы. И заря, заря!..Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой с четвертого этажа…
Не знаю наверно, как приняли бы свой Меркурий лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трели соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыханье ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —
В дымных тучках пурпур розы…или
Отблеск янтаря,но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни…»
Надо сказать, что не лиссабонцы, и не «утилитаристы», а сам Достоевский — может быть, даже вопреки своим намерениям — подверг суровой казни «знаменитого поэта» и его стихи о шепоте и робком дыхании. Он изничтожил эти хрупкие стихи, идиллические и благополучные, показав их в пылу полемики на трагическом фоне лиссабонского землетрясения и сопоставив грозное колыхание земли с «колыханьем сонного ручья».
Конечно, землетрясения случаются не так часто, и, пожалуй, очень немногие лирические стихи могут выдержать аккомпанемент подземного гула и грохота разрушающихся зданий!
Но безусловно справедливо в этом рассуждении одно.
Любая строфа или строчка поэта появляется не в пустоте, не в отвлеченном пространстве, а всегда на фоне большой народной жизни, на фоне многих событий или хотя бы «происшествий», о которых собиралась рассказать в своем несостоявшемся письме чеховская Василиса.
И совершенно справедливо назван в этом рассуждении поступок поэта (там так и сказано: поступок) небратским.
Небратскими, как бы чужеродными были многие строчки Аполлона Майкова, Щербины, Бенедиктова.
«Братскими» были стихи и проза Пушкина, великодушною, щедрого, верного народу поэта.
«Братскими» были стихи и повести Лермонтова, стихи, песни и сатиры Некрасова.
Вспомните лермонтовское простое, ничем не приукрашенное, уже близкое к толстовскому, описание битвы под Гихами:
И два часа в струях потока Бой длился. Резались жестоко, Как звери, молча, с грудью грудь, Ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили Меня), но мутная волна Была тепла, была красна.И дальше:
Уже затихло все; тела Стащили в кучу; кровь текла Струею дымной по каменьям, Ее тяжелым испареньем Был полон воздух. Генерал Сидел в тени на барабане И донесенья принимал.Беспощадно реалистическое изображение боя не мешает высокому взлету мысли поэта.
За медленными, тяжелыми и густыми, как испарения крови, строчками следуют стихи:
…Тянулись горы — и Казбек Сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной Я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он — зачем?»Эти мысли и до сих пор приходят в голову людям перед лицом грозных военных событий, приходят в том же ритме, в той же естественной последовательности.
Недаром народ так бережно удержал в памяти правдивые строки Лермонтова и не сохранил слишком «поэтичных» стихов Бенедиктова.
На что ему нужны писарские выкрутасы и упражнения в каллиграфии!
В свое время Фет написал язвительные стихи, обращенные к псевдопоэту. Как известно, он метил в Некрасова.
Молчи, поникни головою, Как бы представ на Страшный суд, Когда случайно пред тобою Любимца муз упомянут! На рынок! Там кричит желудок, Там для стоокого слепца Ценней грошовый твой рассудок Безумной прихоти певца…Но напрасно Фет взывал к суду.
Время по-своему рассудило спор между так называемым «грошовым рассудком» Некрасова и «безумной прихотью» Фета.
Правда, наша поэзия навсегда сохранит сосредоточенную, музыкальную, прихотливую лирику Фета.
…Ряд волшебных изменений Милого лица…Сохранит фетовские стихи о русской природе, по поводу которых Тютчев писал:
Иным достался от природы Инстинкт пророчески-слепой: Они им чуют, слышат воды И в темной глубине земной… Великой матерью любимый, Стократ завидней твой удел: Не раз под оболочкой зримой Ты самое ее узрел…Лучше не скажешь о свежести, непосредственности и остроте фетовского восприятия природы. Его стихи вошли в русскую природу, стали ее неотъемлемой частью.
Кто из нас не бережет в памяти чудесных строк о весеннем дожде:
Две капли брызнули в стекло, От лип душистым медом тянет, И что-то к саду подошло, По свежим листьям барабанит.Или о полете бабочки:
Ты прав. Одним воздушным очертаньем Я так мила. Весь бархат мой с его живым миганьем — Лишь два крыла…У редкого художника найдешь такой проникновенный пейзаж:
И путь заглох и одичал, Позеленелый мост упал И лег, скосясь, во рву размытом, И конь давно не выступал По нем подкованным копытом…Это — тоже поэзия, добытая из прозы, а не взятая из готового поэтического арсенала.
И все же язык Фета — не язык народа. Поэт исключил из своего словаря все, что казалось ему житейским, грубым, низменным. Природа, любовь, сложные и тонкие чувства — вернее, ощущения — вот предмет его поэзии.
Александр Блок, ценивший Фета, но видевший сознательную ограниченность его поэзии, говорит в одной из своих статей:
«Вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада да с пахучих клеверных полей, которые еще А.А. Фет любил обходить в прохладные вечера, «минуя деревни».
Впрочем, у Фета есть стихи и о деревне. Но речь в них идет, в сущности, не о деревне, а о «деревеньке» — то есть об имении, усадьбе.
На страницах фетовских стихов нет не только некрасовских, но и пушкинских прозаизмов — вроде:
…Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет…Или:
Все, чем для прихоти обильной Торгует Лондон щепетильный И по Балтическим волнам За лес и сало возит к нам…Самого себя Фет называет «природы праздным соглядатаем». А природа у него — точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиный покой, журчащий сладко ключ. В этом мире есть своя таинственная жизнь:
День бледнеет понемногу. Вышла жаба на дорогу, …Различишь прилежным взглядом, Как две чайки, сидя рядом, Там, на взморье плоскодонном, Спят на камне озаренном.Если назойливая современность и вторгается иной раз в этот замкнутый мир, то она сразу же утрачивает свой практический смысл и приобретает характер декоративный.
Вот как, например, отразилась в поэзии Фета железная дорога, которую при его жизни проложили среди русских полей, лесов, болот:
И, серебром облиты лунным, Деревья мимо нас летят, Под нами с грохотом чугунным Мосты мгновенные гремят. И, как цветы волшебной сказки, Полны сердечного огня, Твои агатовые глазки С улыбкой радости и ласки — Порою смотрят на меня.Здесь отлично сказано и про «мгновенные мосты», и про деревья, облитые лунным серебром (про глазки, сказки и ласки — хуже). Но Фету и в голову не приходило, что о железной дороге можно писать не только с пассажирской точки зрения.
Долг строителям дороги заплатил за него, пассажира первого класса, и за его спутницу с агатовыми глазками другой русский поэт — Некрасов.
Некрасовская «Железная дорога» тоже начинается с того, что за окном вагона мелькают родные места, залитые лунным сиянием. И даже рифма в одной из первых строф та же, что у Фета: «лунным — чугунным».
Но говорится в этих стихах совсем о другом:
Добрый папаша! К чему в обаянии Умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии Правду ему показать… …Прямо дороженька: насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?Конечно, в некрасовских стихах гораздо меньше легкости и внешней красивости, чем в одноименных стихах Фета. Они жестче, грубее.
Но поэтичными их делает сила воображения, значительность мысли и чувства. А это отражается в энергии и своеобразии стиха.
В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему. Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, стоит за плечами Каменотесцев, ткачей…И не так страшны в этой реалистической балладе призраки мертвецов, обгоняющие лунной ночью поезд, как точные, неприкрашенные образы живых строителей дороги.
…Волосом рус, Видишь, стоит, изможден лихорадкою, Высокорослый, больной белорус. Губы бескровные, веки упавшие, Язвы на тощих руках, Вечно в воде по колено стоявшие Ноги опухли; колтун в волосах…Даже «колтун» попал в стихи! Это вам не «агатовые глазки».
Незачем было Достоевскому переносить Фета в восемнадцатый век, в Лиссабон, и показывать ему там ужасы землетрясения. Картина постройки железной дороги в некрасовские и фетовские времена достаточно трагична, чтобы служить разительным контрастом «шепоту, робкому дыханью…»!
Но не для того, чтобы напугать или разжалобить читателя, была написана Некрасовым «Железная дорога». Стихи эти суровы и трезвы. Посвященные детям, они зовут растущих людей к действию, к деятельности. Они говорят о будущем, когда народ, который «вынес и эту дорогу железную»,
Вынесет все — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется ни мне, ни тебе.Но, может быть, стихи Некрасова, перегруженные публицистикой, даже какой-то хроникой событий, в конце концов оказались газетной однодневкой, зажигательной прокламацией и утеряли с годами жар чувства, остроту мысли, новизну стиля? Может быть, они давно стали достоянием литературного архива, между тем как стихи Фета, — говоря его же собственными словами, — «золотом вечным горят в песнопении»?
Нет, это не так.
Современный ценитель поэзии найдет, пожалуй, больше поэтической неожиданности и своеобразия в словаре, в ритме некрасовской «Железной дороги», чем в «Железной дороге» Фета.
Трудно и даже невозможно сравнивать стихи, написанные разными поэтами в различной манере и стиле, но нынешнему читателю некрасовская поэма, вероятно, попросту покажется интереснее. Перед его глазами возникнет в мельчайших подробностях целая эпоха с меднолицыми, «присадистыми» подрядчиками и босыми мужиками, строителями первой чугунки.
В этом-то и заключается преимущество жизненной, правдивой поэзии, которую многие из современников обычно упрекают в излишних «вульгаризмах», в нарушении условных поэтических приличий.
Она живет долго и сохраняет свою питательность для многих и многих поколений.
И каждое поколение находит в ней что-нибудь новое, ускользнувшее от внимания прежних читателей, ибо подлинная правда сказывается и в крупных, заметных с первого взгляда подробностях, и в самых мелких, едва уловимых деталях. Да и крупное открывается со временем в новом свете.
Некрасов, честный и трудолюбивый литератор, получивший звание поэта от самого народа, не слишком заботился на своем веку о чистоте поэтических риз, бывал в самых глухих закоулках жизни, среди самого разнообразного люда. Такой пассажир, не первого, а третьего или даже четвертого класса, может рассказать современникам и потомкам много любопытного и поучительного.
II. О стихе работающем и праздном
О том, какая судьба ожидает поэзию Некрасова в будущем, существовало в свое время немало предсказаний.
«…я убежден, что любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением…»
«…я убежден: его (Некрасова) слава будет бессмертна… вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов».
Первое из этих двух утверждений принадлежит И. С. Тургеневу (письмо редактору «С.-Петербургских ведомостей». 1870, январь). Второе — Н. Г. Чернышевскому (письмо к А. Н. Пыпину. 1877, август).
Потомкам предстояло решить, кто из них прав.
Десятилетия, которые лежат между нами и этими предсказаниями, — вполне достаточный срок для их проверки.
Как же рассудило время?
Время решительно стало на сторону человечной и народной, умной и сердечной некрасовской поэзии, широко охватывающей жизнь, далеко заглядывающей вперед.
Отдав должное всем поэтическим заслугам Фета и Полонского, бережно отобрав их лучшие стихи, оно все же признало победителем Некрасова.
В чем же его победа? В том, что для народа поэзия Некрасова стала своей, народной и послужила ему оружием в борьбе; в том, что она питала и питает не одно поколение поэтов, столь различных меж собой, как, например, Добролюбов и поэты «Искры», Блок, Маяковский и Твардовский.
Может ли сравниться с его значением и влиянием поэзия Фета и Полонского?
Овладевая русским стихом, всеми его богатствами и возможностями, молодые поэты не могут пройти мимо огромного и сложного поэтического хозяйства Некрасова.
Они не могут не оценить в должной мере подвиг поэта, который после Державина, Жуковского и Крылова, после Пушкина и Лермонтова создал свой собственный, вполне современный стих, нашел свой ритм и строй речи, вобравший все своеобразие этих трудных переломных десятилетий, зазвучавший всеми их голосами.
В этом строе речи плавная народная песня сочетается с устным пестрым говором, высокая поэтическая традиция с газетной злободневностью.
Какая сила и какое искусство нужны поэту, который всегда имеет дело с неподатливым, новым, разнообразным, впервые входящим в поэзию материалом!
Если снобы разных толков не видят этого мастерства, тем хуже для них. Это доказывает только, что они не понимают стихов, не умеют вглядываться и вслушиваться в стихи.
Как у любителей изысканной кухни, так называемых «гурманов», гордящихся своим прихотливым вкусом, на самом-то деле вкус притуплен острыми приправами, небо и язык обожжены всякими пряностями, так и литературные гурманы, пресыщенные поэзией, слышат только трескучую «музыку персидского шаха»[4] и глухи к оттенкам слова.
А Некрасов требует от своего читателя очень тонкого внимания и слуха; он — один из тех поэтов, которых нельзя читать глазами, про себя. В его стихах звучит голос, человеческий голос, то обличающий, то лирический, то жанровый, характерный.
Вспомним — Бозио. Чванный Петрополь Не жалел ничего для нее. Но напрасно ты кутала в соболь Соловьиное горло свое…И тот же поэт пишет:
— Государь мой! куда вы бежите? — «В канцелярию; что за вопрос? Я не знаю вас!» — Трите же, трите Поскорей, бога ради, ваш нос! Побелел! — «А! весьма благодарен!» — Ну, а мой-то? — «Да ваш лучезарен!» — То-то! принял я меры… «Чего-с?» — Ничего. Пейте водку в морозы — Сбережете наверно ваш нос, На щеках же появятся розы!По стихам Некрасова люди многих последующих поколений будут знать живую интонацию его современников — всех этих председателей казенных палат, процентщиков, акционеров, странников, коробейников, деревенских баб, детей, стариков…
В свое время Крылов и Грибоедов умели передавать стихом любой оттенок голоса, мужского или женского. Строфа была для них как бы голосовой лестницей, и они отлично знали, на какой ступеньке и даже на каком месте этой ступеньки находится та или иная интонация и высота голоса говорящего лица:
«Соседушка, мой свет! Пожалуйста, покушай». — «Соседушка, я сыт по горло».Вторая фраза, несомненно, произнесена человеком, у которого демьянова уха подступила уже к самому горлу.
А вот жеманная фраза светской кумушки:
Я удавилась бы с тоски, Когда бы на нее хоть чуть была похожа!Грибоедов запечатлел разговорную манеру своего времени так, как будто приложил к тексту комедии ноты. Мы слышим хриплый, точно сдавленный высоким воротником мундира, бас полковника Скалозуба, тенорок Молчалина («В мои лета не должно сметь свое суждение иметь»), голоса графини-бабушки и графини-внучки, реплику заботливой Натальи Дмитриевны:
Ах, мой дружочек! Здесь так свежо, что мочи нет; Ты распахнулся весь и расстегнул жилет.Мы навсегда запоминаем немногословные вопросы озабоченной княгини-матери по поводу Чацкого:
— От-став-ной?.. И хо-ло-стой?И даже величавую однострочную реплику лакея с крыльца:
— В карете барыня-с, и гневаться изволит.Но умение пользоваться стихом для передачи характерной речи так естественно у поэта-драматурга и баснописца.
У других же поэтов, эпических и лирических, оно наблюдается реже.
Однако Пушкин, создавший образцы чуть ли не всех возможных в поэзии видов и жанров, обнаружил непревзойденное мастерство и в этой области.
Сколько разнообразия в ритме, в темпе, в характере речей и коротких реплик, которые мы находим на страницах его поэм, драматических сцен, баллад и стихотворных повестей — в «Борисе Годунове» и в «Графе Нулине», в «Каменном госте» и «Домике в Коломне», в «Евгении Онегине» и в стихах «Стамбул гяуры нынче славят…».
По-разному, по-своему говорят у него старики и молодые, мужчины и женщины, русские и поляки, испанцы и англичане, люди различных времен, классов, сословий.
Как не похож строгий и бесстрастный монолог старого монаха Пимена —
Описывай, не мудрствуя лукаво, Все то, чему свидетель в жизни будешь: Войну и мир, управу государей… —на речь другого старика — непоседливого, озабоченного, суетного мельника («Ох, то-то все вы, девки молодые!»).
Даже те действующие лица, которым поэт уделил всего две-три строчки, успевают полностью проявить свой характер.
Вспомните пристава в корчме на литовской границе. Григорий читает царский указ:
«И царь повелел изловить его…» Пристав. И повесить. Григорий.Тут не сказано повесить. Пристав.Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить и повесить.Уже в этих двух фразах — весь царский пристав, — и, пожалуй, не только годуновского, но и более позднего времени.
Вы скажете: этот отрывок написан прозой. Да, но такой прозой, которая органически входит в стихи, спорит с ними и дополняет их.
А как запечатлели стихи Пушкина — может быть, первый и единственный раз в поэзии — голос ребенка.
Мы явственно слышим высокий, безмятежный от неведенья жизни, детский голосок в реплике русалочки (внучки старого мельника):
Тот самый, что тебя Покинул и на женщине женился? —и в другой ее наивной и спокойной реплике:
А что такое деньги, я не знаю…Так служит поэту гибкий, послушный, работающий стих.
После Пушкина и Лермонтова только у Некрасова он вновь обретает силу, жизненность, предельную выразительность, то есть те свойства стиха, которые позволяют поэту брать на себя разнообразные и ответственные задачи наравне с великими мастерами прозы.
Некрасов уловил множество различных человеческих голосов, сохранив для нас не только интонации, но даже и тембр голоса «десятипудового генерала», молодого коробейника, коммерческого воротилы Зацепы, который говорит в «Современниках» по поводу одного весьма щекотливого прожекта:
Ново… странно… до дерзости смело… Преждевременно, смею сказать!К. И. Чуковский был прав, когда, полемизируя с хулителями Некрасова, писал о могучей песенной стихии, преображающей в поэзию то, что ранее считалось прозаическим.
Но песня Некрасова — не кольцовская песня. Она сложная, многоголосая. В ней звучит то хор, то отдельные голоса. Широкая мелодия сменяется речитативом и наконец совсем преодолевается характерным говором или повествованием.
Ритм не убаюкивает поэта. В самых напевных его стихах то и дело встречаются строчки, полные суровой жизненной прозы, глубокого драматизма.
Вот однообразные бабьи причитания. Потерявшая сына старуха изливает свое горе перед соседкой:
Ветер шатает избенку убогую, Весь развалился овин… Словно шальная пошла я дорогою: Не попадется ли сын? Взял бы топорик — беда поправимая — Мать бы утешил свою… Умер, Касьяновна, умер, родимая, — Надо ль? топор продаю.Этот тихий, вырывающийся из напева вопрос сильнее и страшнее всех слезных материнских жалоб и причитаний.
И дальше:
Кто, как доносится теплая шубушка, Зайчиков новых набьет? Умер, Касьяновна, умер, голубушка, — Даром ружье пропадет!Правдиво и человечно переплетаются здесь и спорят между собой материнская печаль с неизбежными житейскими заботами — «топор продаю», «даром ружье пропадет»…
Это и есть проза, питающая подлинную поэзию и отличающая ее от поддельной.
У нас еще встречаются люди, которые из любви к оригинальности в сотый раз повторяют банальнейшую фразу о том, что некрасовская поэзия прозаична, полна уныло-крестьянского однообразия, неуклюжа, тяжела.
Об этой мнимой «тяжести и неуклюжести» некрасовского стиха с исчерпывающей полнотой сказал Чернышевский: «Тяжестью часто кажется энергия».
Некрасов писал много и в самых различных жанрах в ту пору, когда тонкие ценители поэзии предпочитали небольшие томики тщательно отобранных, накопленных за многие годы стихов. Об одном из таких сборников говорит Фет:
Но муза, правду соблюдая, Глядит, — а на весах у ней Вот эта книжка небольшая Томов премногих тяжелей.И в самом деле, томик Тютчева, о котором идет здесь речь, мал да дорог. Многие сборники лирических стихов его современников, вместе взятые, не перевесят одного его стихотворения.
Однако из книг лучших поэтов того времени — Тютчева, Фета, Полонского, Алексея Толстого, Майкова, тоже вместе взятых, — мы меньше узнаём о чувствах и событиях эпохи, о жизни русского народа, города, деревни, чем из деятельной, щедрой и отзывчивой поэзии Некрасова. На дороге, которую он сам прокладывал, у него бывали срывы, неудачи. Это видели самые горячие его почитатели. Как верно и сердечно говорит о его случайных неудачах тот же Чернышевский, критик строгий и требовательный, но такой осторожный и чуткий в обращении с поэзией и с поэтами. Он пишет Некрасову:
«Есть ли у Вас слабые стихотворения? Ну, разумеется, есть. Почему и не указать их, если бы пришлось говорить о Вас печатно? Но, собственно, для Вас это не может иметь интереса, потому что они у Вас — не более, как случайности — иногда напишется лучше, иногда хуже, — как Виардо иногда поет лучше, иногда хуже — из этого ровно ничего не следует, и она ровно ничего не выиграет, если ей скажут, что 21 сентября она была хороша в «Норме», а 23 сентября в той же «Норме» была не так хороша — она просто скажет: значит, 23 сент. я была не в голосе, а 21 сент. была в голосе…»
Некрасову не всегда удается согреть и расплавить жаром своей поэзии великое множество событий и явлений, с которыми он имеет дело, но если оглядеть все его наследство, то окажется, что прозаичен он только в самом лучшем и благородном смысле этого слова. Не теряя достоинства, серьезности и толковости устной речи, стих его поет и не нуждается в музыке, чтобы стать песней.
Как хороший певец, Некрасов так искусно владеет дыханием, что может в любой строфе развернуть весь диапазон человеческого голоса от его верхов до самых низов, от высокого, заливистого тенора до густого, низкого баса:
Меж высоких хлебов затерялося Небогатое наше село. Горе горькое пó свету шлялося. И на нас невзначай набрело. Ой, беда приключилася страшная! Мы такой не знавали вовек: Как у нас — голова бесшабашная — Застрелился чужой человек!Это — как будто бы скромный и точный рассказ о деревенском событии, а какая полнозвучная соловьиная трель слышится в простых и просторных строчках:
…Как у нас — голова бесшабашная — Застрелился чужой человек!Некрасов много писал о деревне. Но разве можно считать его только деревенским, крестьянским поэтом? Ведь он, в сущности, первый певец города — большого, неуютного промышленного города, который мы знали до революции:
Люди бегут, суетятся, Мертвых везут на погост… Еду кой с кем повидаться Чрез Николаевский мост.Или:
Огни зажигались вечерние, Выл ветер и дождик мочил, Когда из Полтавской губернии Я в город столичный входил.Это не тот Петербург, который мы видели с Невского проспекта, с набережных. Ко временам Некрасова Питер повернулся другой своей стороной — Разъезжей, Ямской улицей, Сенной площадью, городскими предместьями, не барскими особняками, а доходными домами и трущобами.
И так различен ритм в деревенских и городских стихах Некрасова.
Как же можно говорить об однообразии его стихов?
Даже в пределах одного и того же стихотворного размера вы найдете у него множество далеких друг от друга оттенков.
Вспомните «Кому на Руси жить хорошо».
Птичка защищает свое гнездо с птенцами:
Так быстро, быстро кружится, Что крылышки свистят!..И тем же размером написаны прозвучавшие на всю Россию строки:
Порвáлась цепь великая, Порвалась — расскочилася: Одним концом по барину, Другим по мужику!..Поэт такого масштаба и разнообразия имеет право на свою школу, которая может и должна существовать и развиваться в течение многих столетий. А ведь в 1958 году исполнилось всего лишь восемьдесят лет со дня смерти этого большого русского поэта!
Напрасно пели, да и сейчас еще поют, ему отходную люди, полагающие, что литературные стили меняются так же быстро, как фасоны дамских шляп и платьев.
«Как тальи носят?» — «Очень низко, Почти до… вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор… Так: рюши, банты… здесь узор… Все это к моде очень близко».У Некрасова есть чему поучиться многим поколениям поэтов.
Он умеет создавать образ человека, своего современника, ровно ничего о нем не рассказывая, а характеризуя его только его же собственными речами. И тут обнаруживается, какие богатейшие драматургические возможности таятся в стихе — в размере, в ритме, в голосовой шкале строфы. Редкий драматург достигает той выразительности, какой достиг Некрасов.
Несколько коротеньких реплик создают у него не только характер, но даже и внешний облик действующего лица.
Припомните разговор двух петербуржцев:
— Государь мой! куда вы бежите? — «В канцелярию; что за вопрос?»…По этим отрывистым, неизвестно кому принадлежащим фразам мы легко можем представить себе обоих участников диалога.
Оба они — чиновники не слишком высокого класса (иначе бы они не ходили пешком), но и не слишком низкого (об этом свидетельствуют их степенные обороты речи). Один из них — тот, который заблаговременно «принял меры» против мороза, — ведет себя несколько более развязно; другой держится солиднее, официальнее. Крещенский мороз не позволяет им долго застаиваться на месте, отчего весь разговор ведется в бодром и быстром темпе и сопровождается притопываньем.
Мало того, мы можем точно определить по стилю и характеру разговора и эпоху, и место действия.
А между тем автор даже не назвал своих действующих лиц, не обмолвился ни единым словом ни о них самих, ни об окружающей обстановке, если не считать последней ремарки, воссоздающей перед нашими глазами пронизанную холодом петербургскую улицу:
Усмехнувшись, они разошлись, И за каждым извозчик помчался. Бедный Ванька! надеждой не льстись, Чтоб сегодня седок отыскался…За автора красноречиво и убедительно говорит его стих — размер, ритм, словесный отбор и строй речи, определяющие интонацию, высоту и тембр голосов всех действующих лиц.
Но не только в разговорах, где два голоса оттеняют друг друга, но и в монологах некрасовских персонажей вы с первых же слов ощущаете, что за человек перед вами, каков его возраст, сословие, какую жизнь он прожил.
Разве не ясна до мельчайших подробностей фигура рассказчика в отрывке из «Кому на Руси жить хорошо»:
Аммирал-вдовец по морям ходил, По морям ходил, корабли водил, Под Ачаковым бился с туркою, Наносил ему поражение, И дала ему государыня Восемь тысяч душ в награждение…Тут есть и характерный стариковский говор, и голос, и жест. А ведь я привел только шесть строк из этого безупречного по мастерству рассказа в стихах.
Надо быть замечательным трагическим актером, чтобы донести до публики знаменитое стихотворение «Филантроп».
В течение многих десятилетий декламаторы патетически читали этот монолог, лишая рассказчика всякого характера. Они изображали честного, благородного, обиженного людьми и судьбой человека, который гневно обличает лицемерного благотворителя, лжелиберального штатского генерала.
Декламаторам и в голову не приходило, что следует обратить внимание на словарь, ритм, обороты речи в этом привычном для них стихотворном тексте. Иначе бы они прежде всего заметили, что человек, от имени которого они произносят монолог, излагает трагические обстоятельства своей жизни крючковатым канцелярским слогом:
Частию по глупой честности, Частию по простоте…Они заметили бы, сколько в его словах самоунижения («пропадаю в неизвестности, пресмыкаюсь в нищете»), как много хмельного шутовства и ёрничества в самых горьких его признаниях. Уж одни причудливые, чуть ли не озорные рифмы так убедительно говорят об этом:
Тер и лоб, и переносицу, В потолок косил глаза, Бормотал лишь околесицу, А о деле — ни аза!Сложный трагический образ возникает перед глазами читателя, который чутко прислушивается к языку, ритму, рифмам некрасовского стихотворения.
Некрасов стоит в ряду таких бытописателей-гуманистов, как Гоголь, Достоевский.
Он умеет заставить говорить самого бессловесного человека.
Сколько рядовых, но незаурядных людей проходит по страницам его эпопеи «Кому на Руси жить хорошо», по его своеобразным стихотворным очеркам — таким, как стихи «О погоде» или «Современники».
В стихах Некрасова нет той гармонии, тех стройных архитектурных пропорций, которыми отмечена поэзия Пушкина. Но ведь и времена были другие. В сущности, не такой уж значительный период отделяет «Евгения Онегина» и «Повести Белкина» от стихов Некрасова, романов Достоевского и Толстого, а какая пропасть разверзается между этими годами! Все ломалось, перестраивалось тогда в России — и в деревне и в городе; одни общественные слои отживали, другие приходили им на смену, третьи пробивались к жизни, четвертые давали знать о своем существовании глухими подземными толчками. Все менялось, менялась и литература.
Поэзия Некрасова похожа на половодье, на разлив большой могучей реки. Он ли не любил природу с ее покоем и тишиной, он ли не знал ее! Но, верный сын народа, он стал в эту трудную пору поэтом суровой правды, поэтом борьбы, и главная его тема — не камышовые заросли, не лес, не рассветы и закаты, не вальдшнепы и тетерева, а народ, человек, множество человеков.
Есть у него, как и у Фета, стихи о дожде.
Не те стихи о холодном питерском дожде, в которых говорится:
На солдатах едва ли что сухо, С лиц бегут дождевые струи, Артиллерия тяжко и глухо Подвигает орудья свои…Нет, о теплом, благодатном дожде на проселочной дороге.
Начинается стихотворение со строчек мирных и свежих, как и сам летний дождик:
Вот и Качалов лесок, Вот и пригорок последний. Как-то шумлив и легóк Дождь начинается летний. И по дороге моей Светлые, словно из стали, Тысячи мелких гвоздей Шляпками вниз поскакали…Редко у кого вы найдете такое чистое, верное и смелое изображение природы. Стихи эти — спокойные, сосредоточенные — будто взяты из лирического дневника, будто написаны поэтом для себя, а не для других (и потому-то так дороги всем другим — многому множеству читателей).
Вряд ли автор заботился об аллитерациях, но как светятся капли дождя в строчке:
Светлые, словно из стали…Однако Некрасов чужд фетовской идиллии. В этом же стихотворении он говорит не только о невинном летнем дожде, но и о весьма трагических событиях на той же самой земле, по которой поскакали «тысячи мелких гвоздей»:
В Ботове валится скот, А у солдатки Аксиньи Девочку — было ей с год — Съели проклятые свиньи; В Шахове свекру сноха Вилами бок просадила — Было за что… Пастуха Громом во стаде убило. Ну, уж и буря была! Как еще мы уцелели! Колокола-то, колокола — Словно о пасхе гудели!..Изумительный по своей мощи стих «Колокола-то, колокола» выбивается из стихотворного размера. Но ведь и события, о которых идет речь, тоже «выходят из ряда вон»!..
Большие — не эгоистические, не субъективные — чувства и мысли дали Некрасову то счастье, которое не так-то часто выпадает на долю поэта. Стихи его льются потоком, а не падают редкими, хотя и полными каплями, как это было в современной ему лирике у лучших из поэтов, ибо худшие готовы были писать много и плохо.
Вольным потоком лилась поэзия Пушкина, Лермонтова, а после них наступило время прекрасных, но небольших по размерам лирических стихотворений и довольно слабых поэм. Поэты как бы переходили от смелой тактики маневренной войны, в которой армия пользуется наступательным порывом для захвата возможно большего пространства, к приемам позиционной, окопной войны. В их работе над стихами уже не чувствуешь большого разбега, нет строчек и строф, высланных далеко вперед и оторвавшихся от предшествующих, еще не вполне законченных, наскоро набросанных строф, как это было в черновиках, в первоначальных вариантах пушкинских поэм…
А наших дней изнеженный поэт Чуть смыслит свой уравнивать куплет.Те же поэты, которые, подобно Майкову, пытались писать большие поэмы, писали их чаще всего вяло, холодно, безжизненно, книжно.
Говорят, когда ювелир Бенвенуто Челлини, который был мастером миниатюры, создал статую крупных размеров, его современники — скульпторы — отзывались о ней с тонкой иронией:
— Какая большая статуэтка!
То же получалось у поэтов-эпигонов, которые незаконно считали себя продолжателями пушкинской традиции. Длинное стихотворение не есть поэма, длинный рассказ — не повесть и не роман.
Эпигоны пытались жить в просторной пушкинской квартире, но заполнить, обставить и обогреть ее было им нечем. И жили они в этом великолепном особняке, перегородив его дощатыми стенами и обогревая времянками.
А Некрасов в своей поэзии — у себя дома.
Стих его послушен ему и не кажется одеждой с чужого плеча. Вы не можете представить себе «Филантропа» или «Власа», написанного другим размером.
В армяке с открытым воротом, С обнаженной головой, Медленно проходит городом Дядя Влас — старик седой.Некрасовский стих то едок и язвителен, то нежен, то плавен, то шероховат, но вы его всегда узнàете.
Он вольно дышит и заливается трелью в песенных размерах, а как выразительно передает он шаткую поступь старика.
Кто-то говорит типографскому рассыльному Минаю: «Да, пора бы тебе на покой».
А Минай отвечает строго, с хрипловатой одышкой:
«То-то нет! говорили мне многие, Даже доктор (в тридцатом году Я носил к нему Курс патологии): «Жить тебе, пока ты на ходу!» И ведь точно: сильней нездоровится, Коли в праздник ходьба остановится: Ноет спинушка, жилы ведет! Я хожу уж полвека без малого, Человека такого усталого Не держи — пусть идет!»После этих слов явно слышишь стремительные и неустойчивые шаги, короткое, тяжелое старческое дыхание.
В последних строчках монолог старика Миная достигает необыкновенной силы. Характерная бытовая речь приобретает вес мудрой и горькой народной пословицы. Перед вами уже не рассыльный Минай, а человек в самом большом смысле этого слова.
Такие стихи оправдывают существование стихов.
Они являются лучшим ответом на столь часто возникающий у вполне здравомыслящих людей вопрос:
«Зачем, собственно, пишут стихами? Ведь никто же на свете стихами не говорит».
«Писать стихи — это все равно, что пахать и за сохой танцевать. Это прямо неуважение к слову», — сказал как-то Лев Толстой по поводу полученного письма со стихами.
Суровые, гневные слова великого мастера прозы несомненно справедливы, если отнести их к стихам безжизненным, бессодержательным, к так называемой «рубленой прозе».
Но ведь ценил же Толстой поэзию Пушкина.
А Горький, вспоминая свое первое юношеское впечатление от пушкинских стихов, говорит:
«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко» («В людях»).
В сущности, замечания Толстого и Горького, при всей их видимой противоположности, одинаково убедительны. Но первое относится к плохим стихам, второе — к хорошим.
Вероятно, хорошие стихи научили многих прозаиков писать хорошую прозу.
Другое дело — стихи, в которых рифма и размер, а заодно и поэтические образы служат только внешними украшениями, а то и просто паспортом, подтверждающим принадлежность этих стихов к поэзии. Но это паспорт фальшивый.
Условная, размеренная, рифмованная речь кажется весьма странным и даже нелепым способом выражения мыслей, если стих перестает работать, если он ничего не дает слову — ни выразительности, ни энергии, ни темперамента.
А у Некрасова даже такой прозаизм, как упомянутый Минаем «Курс патологии», не превращает стихов в прозу, не лишает их огромной силы поэтического воздействия.
Кстати, не будь Некрасова, вряд ли бы этот «Курс патологии» нашел себе место в поэзии, как не могла поместиться в писарском письме корова, которую Василисе пришлось продать из-за нужды.
Если стих живет не праздной жизнью, а работает, он выдерживает огромный груз прозаического житейского материала, ничуть не теряя своей поэтичности и музыкальности.
Разве потеряло бы письмо Василисы к дочке материнскую теплоту и нежность, если бы писарь допустил в него и злополучную корову, и длинные зимы, и длинные ночи?
В противоположность своему герою писарю автор рассказа не тратит ни одной лишней капли чернил на красивый росчерк, на каллиграфию, на музыкальность и поэтичность.
А получается и правдиво и музыкально.
«…мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа… царя небесного…
— …царя небесного, — повторила она и заплакала».
Проза такой чистоты ничуть не менее поэтична, чем хорошие стихи.
С другой стороны, мы знаем в литературе много случаев, когда и рассказы, и повести, и стихи впадают в ту прозу, которая стоит за пределами искусства, то есть в прозу протокольную, лишенную чувства и воображения, неорганизованную, не подчиненную никакому ритму, не знающую словесного отбора.
В этой статье я чаще всего обращаюсь за примерами к Некрасову, так как его стихи, взявшие на себя труднейшую задачу — претворить новый, прозаический, жизненный материал в песню, в балладу, в поэму, — дают нам возможность представить себе, до чего широки границы смелой и живой поэзии, до чего велик ее диапазон.
Поэзия Некрасова, освобожденная от рутины, от привычных канонов, нашла для себя не стесняющую, не ограничивающую ее форму. Поэзия эта позволяет себе быть простой и вразумительной, емкой и содержательной, как лучшая проза, да к тому же еще обладает и своими особыми преимуществами.
Стихи умеют быть лаконичными, как пословица, и, подобно пословице, глубоко врезаться в память. Они способны передавать самые разнообразные интонации и темпы. Согласованные с дыханием, они могут подниматься до самых верхов человеческого голоса и спускаться до шепота. Сквозь прозрачную их форму ясно проступает рисунок мысли со всем, что в ней последовательно или противоречиво, едино или многообразно.
В стихах есть размеренная поступь; поэтому-то стихотворная стопа так хорошо передает движение.
Вспомните строчку из «Полтавы»:
…Волнуясь, конница летит…И тем же четырехстопным ямбом изображен балетный танец в «Евгении Онегине»:
То стан совьет, то разовьет, И быстрой ножкой ножку бьет.Какая проза так явственно изобразит попятный ход Невы во время наводнения:
Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И затопляла острова…Подлинная, проникнутая жизнью поэзия не ищет дешевых эффектов, не занимается трюками. Ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения своей задачи, для работы.
Это целиком относится к пушкинским стихам. То же можно сказать и о стихах некрасовских.
Стихотворная фраза у Некрасова строится так живо и естественно, все паузы, все знаки препинания настолько четко обозначены в ней, что любой школьник напишет его стихи под диктовку, не слишком ошибаясь в расстановке точек и запятых.
Однажды, в студеную зимнюю пору, Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз.После «был сильный мороз» — точка. После «гляжу» и «лошадка» — запятые. Это определено ритмом.
А как ясно чувствуется неверная ритмическая запятая в известных стихах Плещеева:
И смеясь, рукою дряхлой гладит он…Цезура после слова «рукою» здесь гораздо сильнее запятой. Вот и получается: «Смеясь рукою».
______
Некрасов — не только мастер песни, но и мастер устного рассказа, вольного, почти беллетристического повествования.
Казалось бы, правильный, классический стихотворный размер Некрасова меньше всего соответствует, а скорей даже противоречит естественному, живому рассказу. Недаром многие известные актеры, в стремлении к естественности, всячески пытались сгладить, скрасть рифму и ритм при чтении стихов.
Однако же таким поистине народным поэтам, как Иван Андреевич Крылов, удается найти тот верный, соответствующий дыханию лад, при котором стихи, отнюдь не превращаясь в прозу, умеют рассказывать, повествовать, с первых же строчек привлекая внимание слушателя, обещая ему любопытнейшую историю.
У мельника вода плотину прососала… —так неторопливо, с настоящим аппетитом опытного рассказчика начинает Крылов свою знаменитую басню.
Проказница Мартышка, Осел, Козел Да косолапый Мишка Затеяли сыграть квартет… —с такой неожиданной и небывалой ситуации начинает он другую свою басню. Только потому, что мы бесконечно привыкли к ней, она не поражает нас. Однако мы до сих: пор слышим в ней живой голос доброго и лукавого мудреца, исподволь начинающего свое повествование.
Но у Крылова стихотворный размер — свободный, басенный, разговорный. А Некрасов пользуется самым строгим, правильным размером и все же достигает необыкновенной живости рассказа.
И шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок!Как много места отведено в двух строчках большим сапогам, овчинному полушубку, большим рукавицам — и как мало места занимает в них сам «мужичок с ноготок». Потому-то он и кажется нам таким маленьким — с ноготок.
Только в устном рассказе, сопровождаемом жестами, возможна такая выразительность.
Явственно и четко звучат на морозе два голоса. Но вот в разговор врывается гулкий стук топора. И вместе с ним в нашем воображении возникает зимний лес.
В лесу раздавался топор дровосека…Мы чувствуем звонкий морозный воздух и в раскатистом окрике, которым «мужичок с ноготок» подбадривает свою лошаденку:
«Ну, мертвая!..» — крикнул малюточка басом…Эти слова и в самом деле сказаны басом. Они занимают такое место в четверостишии, на котором голос естественно опускается до низких нот. Ведь им предшествуют две длинные строки, почти исчерпывающие дыхание чтеца.
Впрочем, еще до того как поэт поясняет, что «мужичок с ноготок» говорит басом, мы знаем, что он разговаривает или, по крайней мере, пытается разговаривать низким, мужским голосом, так как все его ответные реплики неизменно даются в конце строк — на естественном падении голоса:
— Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!»или:
— Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо».или:
— Так вон оно что! А как звать тебя? — «Власом». — А кой тебе годик? — «Шестой миновал».(Курсив мой — С. М.).
Однако дело не в отдельных эффектах. Весь этот замечательный рассказ полон такой любовью к русской природе, таким очарованием зимнего дня, что мы запоминаем на всю жизнь
…И снег, до окошек деревни лежащий, И зимнего солнца холодный огонь…Вместе с автором мы любуемся — с легкой и ласковой усмешкой, но очень уважительно — маленьким, степенным рабочим человеком, мерно шагающим по лесной тропе.
Противники Некрасова не раз — и при жизни поэта, и после его смерти — упрекали его в демагогии, в неискренности. Но если мы даже оставим в стороне утверждения самого Некрасова и будем искать косвенных улик за него или против него в самых звуках его стихов, в их ритмах, интонациях, оборотах речи, — все это еще красноречивее скажет нам о любви поэта к родной земле, к народу, к людям труда, чем его собственные показания.
Но для того, чтобы услышать подлинный голос Некрасова, надо очень бережно, с пристальным вниманием вслушиваться в его строчки. Внешняя простота, доступность его стихов позволяют иной раз верхоглядам утверждать, что они читали, знают, изучили некрасовскую поэзию досконально. А лучшие чувства Некрасова — его неистощимая нежность к человеку, к природе — лежат не на поверхности. Это — суровый, мужественный поэт, и добраться до глубины его души не так уж легко.
Есть много людей, противопоставляющих «чистую» поэзию Пушкина «тенденциозной» некрасовской. А между тем Некрасов не так уж далек от Пушкина. Они граничат между собой не только косвенно — через Лермонтова. У них есть и непосредственная граница.
Не Пушкин противостоит Некрасову, а обоим им противостоят поэты-эпигоны. И Пушкин и Некрасов враждебно и презрительно относились к какому бы то ни было салонному жаргону. И Пушкин и Некрасов писали на подлинном народном языке.
А поэты-эпигоны разных периодов литературы то и дело впадали в кастовый жаргон, соответствующий вкусам узких литературных кругов.
Поэзия, оторвавшаяся от жизненной прозы и потерявшая связь с общенародным языком, перестает быть поэзией.
На полях черновой рукописи одного из очень поэтичных и в то же время очень прозаичных стихотворений Некрасова («Уныние») есть запись, сделанная рукой поэта:
«Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления, — но следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? Дело в том, что эта мысль — проза в то же время — сила, жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии.
И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией — и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека — и в этом задача поэта».
Некрасов написал эти слова на полях черновика, очевидно, только для себя — беглым, торопливым почерком. Но их следует помнить. Без драгоценной прозы-мысли, дающей стихам «силу, жизнь», не может быть истинной поэзии. И только при наличии такой прозы поэзия может занять принадлежащее ей по праву место в жизни и в литературе. Это доказано примером Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Маяковского, Твардовского.
О талантливом читателе
Поговорим о читателе. О нем говорят редко и мало. А между тем читатель — лицо незаменимое. Без него не только наши книги, но и все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гете, Пушкина — всего лишь немая и мертвая груда бумаги.
Отдельные читатели могут иной раз ошибочно судить о книгах, но за Читателем в большом, собирательном значении этого слова — и притом на протяжении более или менее продолжительного периода времени — всегда остается последнее слово в оценке литературного произведения.
Правда, оценка книги, утвердившаяся на известный срок, очень часто меняется. Какая-нибудь будка, расположенная вблизи, может заслонить башню, стоящую вдали. Но рано или поздно мы осознаем этот обман зрения и начинаем представлять себе литературные величины в более правильных масштабах.
Время идет, одно поколение сменяет другое, и каждое из них по-своему оценивает дошедшее до него литературное наследство. И если прозаик или поэт сохраняют свое значение и вес в течение веков, то это объясняется не тем, что они были однажды зачислены в ряды гениев и классиков или увековечены воздвигнутыми в их честь монументами, а тем, что и новые поколения признают их ценными и нужными для жизни.
А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у нас на полке, постепенно и незаметно теряет свое обаяние. Она как бы уничтожается, сливаясь с другими, ей подобными.
Решает судьбу книги живой человек, читатель.
Все струны, которыми владеет автор, находятся в сердцах у читателей. Иных струн у автора нет. И в зависимости от качества игры на этих струнах они отзываются в душах людей то глухо, то звонко, то громко, то тихо.
Об этом не надо забывать, когда мы говорим о языке, о словаре поэта.
Вспомните, как приблизил Лермонтов к сердцу русского читателя стихи Гейне, переведя немецкие слова такими русскими:
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она.Тютчевский перевод того же стихотворения Гейне, очень близкий к подлиннику, не вызвал у нас, однако, столь же глубокого отклика и потому не вошел в русскую поэзию наравне с оригинальными стихами.
Слова и сочетания слов связаны в нашем сознании со многим множеством самых сложных ассоциаций и способны поднять со дна нашей души целый мир воспоминаний, чувств, образов, представлений.
А это зависит от того, что у самого автора на душе и за душой и насколько он владеет той мощной словесной клавиатурой, которая приводит в движение струны читательских сердец.
И дело тут не только в тонком и основательном знании языка, какое бывает у языковедов.
В поисках наиболее выразительного, единственного, незаменимого слова поэт или прозаик обращается не к одной лишь памяти, как врач, припоминающий латинские названия лекарств.
Слова расположены в нашем сознании не так, как в словарях — не порознь, не по алфавиту и не по грамматическим категориям. Они тесно связаны с многообразными нашими чувствами и ощущениями. Нам не придет на память гневное, острое, меткое словцо, пока мы по-настоящему не разгневаемся. Мы не найдем горячих, нежных, ласковых слов, пока не проникнемся подлинной нежностью. Вот почему Маяковский говорит о добыче драгоценного слова «из артезианских людских глубин».
Это отнюдь не значит, что поэту нужны для выражения чувств какие-то необычные, изысканные, вычурные слова.
Найти самое простое и в то же время самое меткое слово подчас гораздо труднее.
Вспомните описание зимнего вечера в чеховском рассказе «Припадок».
«Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядывали иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег…»
Вот какими обычными, всем и каждому известными словами дает нам ощущение первого снега Чехов. Где же тут словесные «артезианские глубины», о которых говорилось выше?
В лирической сосредоточенности, в скупом и строгом отборе тончайших подробностей, в том ритме, который переносит нас в обстановку зимнего вечернего города.
В сущности, самые простые слова обладают наибольшей силой, если читатель воспринимает их с той свежей непосредственностью, какая свойственна поэтам и детям.
Чехов полушутя противопоставлял всем вычурным описаниям моря простейшее его определение: «Море было большое».
А в народном эпосе «Калевала» заяц, который приносит весть о гибели Айно, говорит ее родным, что девушка «в мокрое упала море».
«Большое море», «мокрое море» — так мог бы выразиться любой ребенок, воспринимающий мир впервые — крупно, сильно и просто.
Взрослый человек может найти более сложные эпитеты для характеристики моря. Но счастлив тот, кому удается сочетать зрелый опыт с таким свежим и непосредственным виденьем мира.
В народном эпосе, в древнегреческой поэзии, в латинской прозе, в надписях на древних памятниках простые глаголы полны движения и силы:
«Пришел, увидел, победил».
А какая сила и вес в строчке лермонтовского стихотворения «Два великана» — в глаголе «упал», поставленном в конце стиха, словно над крутым обрывом:
Ахнул дерзкий — и упал!Поэт как бы возвращает словам первоначальную свежесть, энергию, полнозвучность — достоинства, которыми они не обладали, покоясь в бездействии на страницах словарей.
В глаголе «хохотать» звучат раскаты громкого смеха — «хо-хо-тать».
Мы давно привыкли к этому смеющемуся слову и, произнося скороговоркой, комкаем его, скрадываем безударные гласные.
А как явственно и сильно зазвучал каждый его слог в пушкинских стихах:
Все ходит, ходит он кругом, Толкует громко сам с собою — И вдруг, ударив в лоб рукою, Захохотал.Кажется, впервые этому слову предоставлен простор, необходимый для полного его звучания. Стихотворный размер заставляет нас ясно и четко произносить все гласные. Неизбежная после предыдущего стиха пауза создает ту тишину, после которой громом прокатывается заключенный в слове хохот — «захохотал».
Наша торопливая, подчас небрежная разговорная речь, которою мы пользуемся в быту для утилитарных целей, часто обесцвечивает и «обеззвучивает» слова, превращая их в служебные термины, в какой-то условный код.
Писатель пользуется теми же общепринятыми словами (хотя словарь его должен быть гораздо шире и богаче разговорного лексикона), но, мастер своего дела, он умеет так поставить слово в ряду других, чтобы оно играло всеми своими красками, звучало неожиданно, веско и ново.
А это удается ему только в том случае, если сам он относится к словам неравнодушно и непривычно, если он не только понимает их значение, но и воображает все то, что вложено в них «языкотворцем» — народом.
Не боясь нарушить правила стилистики, Чехов в своем описании первого снега не один раз повторяет слово «снег», которое и само по себе — без эпитетов — может много сказать читателю. Поэт верит в силу этого простого слова, как верит в него неискушенный в словесном искусстве взрослый человек или ребенок, для которого слова так же ощутимы и весомы, как и самые предметы. Но, конечно, не в одном только слове «снег» сила и обаяние чеховских строчек. В них есть и запах молодого снега, и мягкий хруст его под ногами, и заглушенный снегом стук экипажей, и белизна снега, и прозрачность зимнего воздуха, от которого фонари горят ярче обычного.
Вместе с Чеховым читатель не только видит этот первый «молодой» снег, но и слышит его поскрипыванье, и вдыхает свежий зимний воздух, пахнущий снегом, и, кажется, даже ощущает у себя на ладони холодок тающей снежинки.
Все пять наших чувств отзываются на те простые и в то же время магические слова, которыми так бережно пользуется в этом отрывке Чехов.
Его зимний вечерний пейзаж будит у читателей столько тонких, милых сердцу ощущений, что они и сами начинают припоминать нечто свое — такое, чего не назвал Чехов.
Читатель перестает быть только читателем. Он становится участником всего, что пережил и перечувствовал поэт.
И, напротив, он остается равнодушен, если автор проделал за него всю работу и так разжевал свой замысел, тему, образы, что не оставил ему места для работы воображения. Читатель тоже должен и хочет работать. Он тоже художник — иначе мы не могли бы разговаривать с ним на языке образов и красок.
Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель.
Но не всякая книга заставляет читателя, даже самого талантливого, работать — думать, чувствовать, догадываться, воображать.
В жизни нас почему-то пленяют, кажутся нам особенно поэтичными отдаленные звуки — далекий крик петуха, дальний лай собак, по которому мы узнаем, что где-то впереди деревня, дальний людской говор на дороге или обрывок песни, доносящийся к нам издалека. Нам интересно увидеть неизвестных людей в лесу у костра, пламя которого выхватывает из полутьмы их отдельные черты. Проходя по улице, мы иной раз не можем устоять против соблазна заглянуть в освещенное окошко, за которым идет какая-то своя, нам неизвестная жизнь.
Нам интересно все, что будит наше поэтическое воображение, умеющее по немногим подробностям воссоздавать целую картину.
Мы бесконечное число раз перечитываем «Тамань», написанную так немногословно, просто и строго, как пишут в прозе только поэты. Но что-то в этом рассказе всегда остается для нас загадочным, недовиденным, недослышанным.
Я имею в виду не какие-то лукавые недомолвки или сугубо тонкие намеки, которыми часто пользуются претенциозные писатели, желающие придать некиим полумраком таинственную многозначительность тому, что при ярком свете показалось бы примитивным и даже плоским.
Нет, речь идет о той сложности и глубине образа, мысли, чувства, при которых добраться до дна не так-то легко.
Что, казалось бы, мудреного в портрете Катюши Масловой, написанном рукою Льва Толстого? Но мы без конца перечитываем страницы, посвященные ей, чтобы понять, разглядеть, что именно в этом образе молоденькой девушки с такими счастливыми, чуть раскосыми, «черными, как мокрая смородина», глазами, а потом женщины-арестантки с бледным подпухшим лицом так поразило и взволновало нас на всю жизнь. Мы только догадываемся и поэтому стараемся прочесть между строк толстовского романа, что происходит в ее душе после трудного и болезненного перелома, как и когда проснулась в ней ее первая, так жестоко растоптанная любовь, примет ли она искупительную жертву Нехлюдова или найдет для себя какой-то другой путь, более трудный и высокий. Все эти вопросы не перестают волновать нас до последних страниц книги. Да и после того, как мы дочитаем ее до конца, для нашего воображения и мысли остается еще много работы.
И оттого, что автор заставляет нас на протяжении всего романа так много чувствовать, думать и воображать, мы не пропускаем в тексте ни одного слова, мы жадно ловим каждое движение действующих лиц, стараясь предугадать повороты их судеб.
По сложным, внутренне логичным, но в то же время не поддающимся расчетливому предвидению законам развиваются судьбы героев в повестях Чехова «Дуэль», «Рассказ неизвестного человека», «Три года».
А попробуйте заранее угадать, как и куда поведет вас М. Горький в любом из своих рассказов из цикла «По Руси», в «Отшельнике» или в «Рассказе о безответной любви».
Да и в нашем современном искусстве можно найти немало повестей, поэм, кинокартин, которые дают возможность читателю и зрителю быть полноправными участниками той реальности, которую создает художник.
Сложен и противоречив путь Григория Мелехова. Трудно предопределить — несмотря на всю их закономерность — повороты судеб героев «Хождения по мукам». На протяжении всей стихотворной повести, от первой строки до последней, ищет «страну Муравию» Никита Моргунок, и вместе с ним бродит по «тысяче путей и тысяче дорог» читатель, деля с героем поэмы раздумья и тревоги.
Однако и до сих пор еще в нашей беллетристике и поэзии не перевелись «маршрутные» автомобили, которые везут читателя не только к заранее намеченной цели, но и по заранее определенной трассе, не сулящей ничего нового, неожиданного и непредвиденного.
Читателю и его фантазии на такой наезженной дороге делать нечего.
И сам автор в процессе подобного писания вряд ли может найти или открыть что-либо ценное и значительное для себя, для жизни, для искусства. В сущности говоря, такие легкие дороги проходят мимо жизни и мимо искусства.
Читатель получает лишь тот капитал, который вложен в труд автором. Если во время работы не было затрачено ни настоящих мыслей, ни подлинных чувств, ни запаса живых и точных наблюдений, — не будет работать и воображение читателя. Он останется равнодушен, а если и расшевелится на один день, то завтра же забудет свое кратковременное увлечение.
Когда поднимается занавес в театре или раскрывается книга, зритель или читатель искренне расположен верить автору и актеру. Ведь для того-то он и пришел в театр или раскрыл книгу, чтобы верить. И не его вина, если он теряет доверие к спектаклю или книге, а иной раз, по вине спектакля и книги, к театру и литературе.
Зритель готов предаться скептицизму, может потерять доверие к приклеенным бородам и нарисованным лесам, если в считанные минуты спектакля он не занят внутренне, не следит за развитием сюжета, за разрешением жизненной проблемы, если он не взволнован и не заинтересован. Следя за взаимоотношениями действующих лиц, зритель забывает, что они сочиненные, вымышленные. Он плачет над трагической судьбой полюбившихся ему героев, он радуется победе добра и справедливости. Но фальшь, банальность или невыразительность того, что происходит на сцене, сразу же заставляют его насторожиться, превращают актеров в жалких комедиантов, обнажают всю дешевую бутафорию сценической обстановки.
У зрителя не должно оставаться ни секунды времени на сомнения!
Мысли о словах
Писатель должен чувствовать возраст каждого слова. Он может свободно пользоваться словами и словечками, недавно и ненадолго вошедшими в нашу устную речь, если умеет отличать эту мелкую разменную монету от слов и оборотов речи, входящих в основной — золотой — фонд языка.
Каждое поколение вносит в словарь свои находки — подлинные или мнимые. Одни слова язык усыновляет, другие отвергает.
Но и в тех словах, которые накрепко вросли в словарь, литератору следует разбираться точно и тонко.
Он должен знать, например, что слово «чувство» гораздо старше, чем слово «настроение», что «беда» более коренное и всенародное слово, чем, скажем, «катастрофа». Он должен уметь улавливать характерные речевые новообразования — и в то же время ценить старинные слова, вышедшие из повседневного обихода, но сохранившие до сих пор свою силу.
Пушкин смолоду воевал с архаистами, писал на них эпиграммы и пародии, но это не мешало ему пользоваться славянизмами, когда это ему было нужно:
…Сии птенцы гнезда Петрова — В пременах жребия земного, В трудах державства и войны Его товарищи, сыны…Высмеивая ходульную и напыщенную поэзию архаиста графа Хвостова, Пушкин пишет пародию на его оду:
И се — летит предерзко судно И мещет громы обоюдно… Се Бейрон, Феба образец… и т. д.(курсив мой. — С. М.){2}
Но тем же, давно уже вышедшим из моды торжественным словом «се» Пушкин и сам пользуется в описании Полтавского боя:
И се — равнину оглашая — Далече грянуло ура: Полки увидели Петра.Современное слово «вот» («И вот — равнину оглашая») прозвучало бы в этом случае куда слабее и прозаичнее.
Старинные слова, как бы отдохнувшие от повседневного употребления, придают иной раз языку необыкновенную мощь и праздничность.
А иногда — или даже, пожалуй, чаще — поэту может как нельзя более пригодиться слово, выхваченное из живой разговорной речи.
Так, в «Евгении Онегине» автору понадобилось самое простонародное, почти детское восклицание «у!».
У! как теперь окружена Крещенским холодом она!..Каждое слово — старое и новое — должно знать в литературе свое место.
Вводя в русские стихи английское слово «vulgar», написанное даже не русскими, а латинскими буквами, Пушкин говорит в скобках:
Люблю я очень это слово, Но не могу перевести: Оно у нас покамест ново, И вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме…Тонкое, безошибочное ощущение того, где, в каком случае «годятся» те или иные — старые и новые — слова и словесные слои, никогда не изменяло Пушкину.
Это особенно отчетливо видно в его стихотворении «В часы забав иль праздной скуки…».
Тема этих стихов — спор или борьба прихотливой светской лиры и строгой духовной арфы. Но спор здесь идет не только между светской романтической поэзией и поэзией духовной. В стихотворении спорят между собою и два слоя русской речи — современный поэтический язык и древнее церковнославянское красноречие:
В часы забав иль праздной скуки, Бывало, лире я моей Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, И ранам совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей. . . . . . . . . . . . . Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.Если первая строфа этих стихов вся целиком пронизана причудливым очарованием свободной лирики, то во вторую уже вторгается иной голос — голос торжественного и сосредоточенного раздумья. Постепенно он берет верх и звучит уже до конца стихотворения.
Таким образом, стихи не только развивают основную тему, но и как бы материально воплощают ее в слове.
Человек нашел слова для всего, что обнаружено им во вселенной. Но этого мало. Он назвал всякое действие и состояние. Он определил словами свойства и качества всего, что его окружает.
Словарь отражает все изменения, происходящие в мире. Он запечатлел опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, развитию техники, науки, искусства. Он может назвать любую вещь и располагает средствами для выражения самых отвлеченных и обобщающих идей и понятий. Более того, в нем таится чудесная возможность обращаться к нашей памяти, воображению, к самым разным ощущениям и чувствам, вызывая в нашем представлении живую реальность. Это и делает его драгоценным материалом для поэта.
Какое же это необъятное и неисчерпаемое море — человеческая речь! И литератору надо знать ее глубины, надо изучать законы, управляющие этой прихотливой и вечно изменчивой стихией.
Поэт, который умеет пользоваться всей энергией слова, накопленной веками, способен волновать и потрясать души простым сочетанием немногих слов.
«Чертог сиял», — говорит Пушкин, и этих двух слов вполне довольно для того, чтобы вы представили себе роскошный пир изнеженной и самовластной восточной царицы.
…А все плащи да шпаги, Да лица, полные воинственной отваги, —всего только две строчки, но как передают они суровое и строгое величие двенадцатого года.
Если поэт живет в ладу со своим родным языком, в полной мере чувствует его строение, его истоки, — силы поэта удесятеряются. Слова для него — не застывшие термины, а живые, играющие образы, зримые, внятные, рожденные реальностью и рождающие реальность. Его словарь — оркестр.
И это мы видим не только на примере классиков — создателей нашего поэтического языка.
Какой звучности стиха и меткости изображения достигает наш современник Александр Твардовский в описании будничного зимнего утра на фронте:
…Шумным хлопом рукавичным, Топотней по целине Спозаранку день обычный Начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, Оживал костер с трудом, В закоптелый бак гремела Из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом, Шли бойцы из всех берлог Греться бегом, мыться снегом, Снегом жестким, как песок.Язык отражает глубокое знание жизни и природы, приобретенное человечеством. И не только специальный язык разных профессий — охотников, моряков, рыбаков, плотников, — но и общенародный словарь впитал в себя этот богатый и разнообразный житейский опыт. В живой народной речи запечатлелось так много накопленных за долгие века наблюдений и практических сведений из тех областей знания, которые по-ученому называются агрономией, метеорологией, анатомией и т. д.
Вступая во владение неисчерпаемым наследством своего народа, поэт получает заодно заключенный в слове опыт поколений, умение находить самый краткий и верный путь к изображению действительности.
В одной из глав «Василия Теркина» («Поединок») изображается кулачный бой.
Дерутся герой поэмы, «легкий телом» Теркин, и солдат-фашист, «сытый, бритый, береженый, дармовым добром кормленный».
В этом неравном бою
…Теркин немцу дал леща, Так что собственную руку Чуть не вынес из плеча.Кажется, невозможно было изобразить более ловко и естественно тот отчаянный, безрасчетный, безоглядный удар, который мог, чего доброго, и в самом деле вынести (не вырвать, а именно «вынести») руку из плеча.
Мы знаем немало литераторов, которые любят щеголять причудливыми простонародными словечками и затейливыми оборотами речи, подслушанными и подхваченными на лету.
Но не этими словесными украшениями определяется качество языка. Такие случайные речевые осколки только засоряют язык. Подлинная народная речь органична, действенна, проникнута правдой наблюдений и чувств.
Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, — с придачей некоторого количества новых, — будут служить многие столетия после нас для выражения еще неизвестных нам идей и мыслей, для создания новых, не поддающихся нашему предвидению поэтических творений.
И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие — образный, емкий, умный язык.
В нем самом есть уже все элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и словесная живопись.
Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова — поэзии.
В словах «мороз», «пороша» мы чувствуем зимний хруст. В словах «гром», «гроза» слышим грохот.
В знаменитом тютчевском стихотворении о грозе гремит раскатистое сочетание звуков — «гр». Но в трех случаях из четырех эти аллитерации создал народ («гроза», «гром», «грохочет») и только одну («играя») прибавил Тютчев.
Все, из чего возникла поэзия, заключено в самом языке: и образы, и ритм, и рифма, и аллитерации.
И, пожалуй, самыми гениальными рифмами, которые когда-либо придумал человек, были те, которые у поэтов теперь считаются самыми бедными: одинаковые окончания склонений и спряжений. Это была кристаллизация языка, создававшая его структуру.
Однако немногие из людей, занимающихся поэзией, ценят по-настоящему грамматику.
В обеспеченных семьях дети не считают подарком башмаки, которые у них всегда имеются. Так многие из нас не понимают, какое великое богатство — словарь и грамматика.
Но, тщательно оберегая то и другое, мы не должны относиться к словам с излишней, педантичной придирчивостью. Живой язык изменчив, как изменчива сама жизнь. Правда, быстрее всего стираются и выходят из обращения те разговорно-жаргонные слова и обороты речи, которые можно назвать «медной разменной монетой». Иные же слова и выражения теряют свою образность и силу, превращаясь в привычные термины.
И очень часто омертвению и обеднению языка способствуют, насколько могут, те чересчур строгие ревнители стиля, которые протестуют против всякой словесной игры, против всякого необычного для их слуха оборота речи.
Конечно, местные диалекты не должны вытеснять или портить литературный язык, но те или иные оттенки местных диалектов, которые вы найдете, например, у Гоголя, Некрасова, Лескова, Глеба Успенского, у Горького, Мамина-Сибиряка, Пришвина, придают языку особую прелесть.
Всякая жизнь опирается не только на законы, но и на обычаи. То же относится и к жизни языка. Он подчиняется своим законам и обычаям — то выходит из своего русла, то возвращается в него, меняется, играет и зачастую проявляет своеволие.
Нельзя протестовать, скажем, против установившегося у москвичей обычая не склонять слово «Москва», когда речь идет о Москва-реке. Собственное имя реки, озера или города у нас как бы сливается со словами «озеро», «река», «город». И в этом своеобразное очарование (Пан-озеро — на берегу Пан-озера; Ильмень-озеро — на берегу Ильмень-озера; в Китеж-граде, в Китай-городе).
Чистота языка — не в педантичной его правильности.
Редактор «Отечественных записок» Краевский настойчиво указывал Лермонтову на неправильность выражения «Из пламя и света рожденное слово».
Лермонтов пытался было исправить это место в стихотворении и долго ходил по кабинету редактора, а потом махнул рукой. Пусть, мол, остается, как было: «Из пламя и света»!
И хорошо, что оно так и осталось, как было, хотя, разумеется, счастливая вольность Лермонтова никому не дает права пренебрегать законами языка.
* * *
Живое слово богато и щедро. У него множество оттенков, в то время как у слова-термина всего только один-единственный смысл и никаких оттенков.
В разговорной речи народ подчас выражает какое-нибудь понятие словом, имеющим совсем другое значение, далекое от того, которое требуется по смыслу. Так, например, слова «удирать», «давать стрекача», «улепетывать» часто заменяют слова «бежать», «убегать», хотя в буквальном их значении нет и намека на бег. Но в таких словах гораздо больше бытовой окраски, образности, живости, чем в слове, которое значит только то, что значит.
О живом языке лучше всего сказал Лев Толстой:
«…Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами… Невольное сравнение — отварная и дистиллированная теплая вода и вода из ключа, ломящая зубы — с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она еще чище и свежее». (Из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету, 1-6 января 1871 г.)
О хороших и плохих рифмах
Рецензент пишет молодому поэту:
«Рифма ваша бедна. Избегайте глагольных рифм. Нехорошо рифмовать одинаковые окончания падежей — «словам — сердцам, лугов — ковров и т. д.».
Спору нет, богатая, полнозвучная рифма лучше бедной, новая лучше старой, рифма, охватывающая чуть ли не все слово, лучше
мелочишки суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений,хотя Маяковский тут же признается, что и поэту-мастеру приходится подчас пользоваться этой «мелочишкой».
И, однако же, в совете рецензента кроется существенная ошибка. Эта ошибка — безапелляционность. Можно ли говорить о каком-то абсолютном и неизменном качестве рифмы независимо от места, времени и цели ее применения?
Скажем, бедны ли рифмы в стихах:
Горит восток зарею новой. Уж на равнине, по холмам Грохочут пушки. Дым багровый Кругами всходит к небесам Навстречу утренним лучам.Что это за подбор рифм? Сплошные дательные падежи — холмам, небесам, лучам! Хоть бы одну коренную согласную прихватить — ну, скажем, «небесам, часам, голосам», — все же рифма была бы немного богаче.
Или, например:
Туча по небу идет, Бочка по морю плывет.Неужели величайший мастер русского стиха Пушкин совсем не заботился о рифме, относился к ней небрежно? Или, может быть, в те времена поэзия была так примитивна и неразвита, что охотно пользовалась самыми неприхотливыми рифмами?
Нет, пушкинская рифма богата и полнозвучна. Да и не только у Пушкина, но и у многих его современников вы найдете острые, меткие, звонкие рифмы, подобранные в первый раз и на один раз, на данный случай.
Возьмите Дениса Давыдова:
…Старых барынь духовник, Маленький аббатик, Что в гостиных бить привык В маленький набатик. Все кричат ему привет С аханьем и писком, А он важно им в ответ: «Dominus vobiscum!»…[5]Или прочтите у Баратынского:
Когда по ребрам крепко стиснут Пегас удалым седоком, Не горе, ежели прихлыстнут Его критическим хлыстом.И даже у поэтов XVIII века можно найти немало своеобразных, звучных, изысканных рифм.
Значит, дело не в возрасте поэзии, не в стадии ее развития.
А уж если говорить о Пушкине, то мы знаем, как требовательно относился он к слову, к стиху, к рифме.
И если вглядеться внимательно в его строчки, посвященные началу Полтавского боя («Горит восток зарею новой…»), то станет ясно, что рифмы этих строк, хоть и представляют собою окончания дательного падежа, отнюдь не плохи, не бедны.
В чем же их достоинство?
В том, что эти рифмы превосходно выполняют свою задачу.
Посмотрите, какую картину рисуют одни только рифмующиеся слова, даже взятые отдельно (без остального текста):
…новой… …холмам… …багровый… …небесам… …лучам…По этим поставленным в конце строчек словам можно догадаться, о чем в стихах идет речь, или, во всяком случае, можно почувствовать краски изображенного Пушкиным бодрого боевого утра.
Значит, не случайные, а важные для всей картины слова рифмуются поэтом. Они много говорят воображению даже в том случае, если вы закроете всю левую часть текста.
Да и музыкальную задачу отлично выполняют эти звучные слова с открытой гласной «а» и гулкой согласной «м» в конце: холмам — небесам — лучам.
Только избалованные литературные привередники могут отказаться от такого звучания.
Что же касается пушкинского двустишия
Туча по небу идет, Бочка по морю плывет, —то дело тут не в одних рифмах, но и в том, что в этих двух строчках перекликаются между собой не только окончания строк и слов, но каждое слово верхней строчки находит отклик в соответственном слове нижней, перекликаются небо и море.
В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут.Целые строчки рифмуются здесь между собой и по смыслу и по звучанию.
Какая из двух рифмующихся строчек возникла раньше у поэта, которая из них породила другую, нельзя сказать. Так нераздельны эти строчки-близнецы.
Наш слух радует и в нашей памяти надолго остается оригинальная, полнозвучная, острая рифма или созвучие.
Но бывают случаи, когда простая глагольная рифма сильнее и уместнее самой причудливой, самой изысканной.
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, — И шестикрылый серафим На перепутье мне явился.Величавая эпическая простота этих строк вполне соответствует суровым в своей бедности и скромности рифмам: «влачился — явился».
А вот другой пример.
В «Евгении Онегине» говорится:
Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил.Было бы странно, если бы в такой прозаической, деловой строке вдруг оказалась щегольская, причудливая рифма. Да и рифмующаяся с ней строчка:
И раб судьбу благословил —по своей спокойной серьезности не требует мудреного, вычурного окончания. Глагольная рифма тут несомненно на месте.
Или возьмем стихи Жуковского:
Раз Карл Великий пировал; Чертог богато был украшен; Кругом ходил златой бокал; Огромный стол трещал от брашен; Гремел певцов избранных хор; Шумел веселый разговор; И гости вдоволь пили, ели, И лица их от вин горели.Глагольные рифмы последнего двустишия здесь вполне закономерны.
Торжественный тон баллады постепенно уступает место естественному разговорному тону:
Вслед за патетической фразой:
Гремел певцов избранных хор… —идет простая, житейская:
Шумел веселый разговор…А кончается этот отрывок уже совсем запросто:
И гости вдоволь пили, ели, И лица их от вин горели.В заключительных строках той же баллады, где юный Роланд простодушно признается, что грозного великана, похитившего талисман, убил он, — поэт опять дает волю глагольной рифме.
…«Прости, отец. Тебя будить я побоялся И с великаном сам подрался».Здесь тоже глагольная рифма отлично выполняет свое назначение. Напряжение героической баллады разрешается веселым признанием Роланда так же естественно и легко, как в басне Крылова открывается замысловатый ларчик с секретом.
А ларчик просто открывался.Недаром же и Крылов в этом случае тоже воспользовался глагольной рифмой. Простая рифма как бы подчеркивает, как просто открывался этот ларчик.
Говоря с начинающим автором о бедности глагольных рифм, о том, что они являются для стихотворца линией наименьшего сопротивления, рецензент должен только предостеречь поэта от нечаянного, бессознательного пользования этими простейшими рифмами.
Можно и должно обратить внимание молодого автора на сложные и богатые достижения современной стихотворной техники, но опасно и вредно толкать его на путь механического рифмоплетства, трюкачества, одностороннего и преувеличенного интереса к рифме.
Заядлый рифмоплет несноснее присяжного остряка.
Нельзя разряжать поэтическую энергию стремлением к непрестанным внешним эффектам, к остроте каждого двустишия или четверостишия.
Как умно собирают и берегут поэтическую энергию наши крупнейшие мастера стиха — Пушкин, Тютчев, Некрасов. Сколько у них скромных строчек, скромных рифм, ведущих за собой строчки огромной силы и глубины чувства.
Нельзя требовать от поэта: будьте оригинальны, прежде всего — оригинальны, ищите свои рифмы, свою манеру, вырабатывайте свой — особенный — почерк.
Как будто человек может по своему желанию быть оригинальным.
В результате такого стремления к оригинальности во что бы то ни стало многие из молодых авторов как бы гримируются, наскоро приобретают ложную индивидуальность.
Легко уловить манеру, особенности стиля, скажем, Игоря Северянина, но как сложно, как трудно определить, охватить индивидуальность Чехова. Легко написать пародию на Андрея Белого, но поддается ли пародии или даже подражанию проза Лермонтова? — «Я ехал на перекладных из Тифлиса…»
Тут нет или почти нет тех внешних особенностей и примет, служащих для пародиста нитью, за которую он может ухватиться, чтобы распутать узел, разобрать по ниточкам ткань.
Только глубокое и любовное изучение Пушкина, всего Пушкина, начиная с лицейских стихов и кончая дневниками и письмами, дает нам представление о его личности, о его почерке. Так и складывалась эта огромная личность — не сразу, а постепенно, вбирая в себя весь мир, всю человеческую культуру. Оттого-то она и стала своеобразной и навсегда своеобразной останется.
А как быстро исчезают на наших глазах ложные индивидуальности, как легко расшифровывается, а затем и забывается их манера, стиль.
Начинающему автору говорят: ваш эпитет банален, трафаретен. Нельзя ли найти что-нибудь посвежее?
Автор перебирает десятка два-три эпитетов и находит какой-нибудь поновее. Но отрывается ли он таким образом от трафарета, от шаблона, от банальности? Ничуть.
Для того чтобы успешно бороться с банальностью, отойти от рутины и трафарета, надо зорко и внимательно наблюдать мир, думать, чувствовать и точно выражать мысли и душевные движения.
Меньше всего заботились об оригинальности своего учения Маркс, Энгельс, Ленин.
Не стремились к своеобразию ради своеобразия ни Павлов, ни Лев Толстой, ни Чехов.
Шекспир посвятил ложной оригинальности, мнимой новизне иронический сонет:
Увы, мой стих не блещет новизной, Разнообразьем перемен нежданных. Не поискать ли мне тропы иной, Приемов новых, сочетаний странных? Я повторяю прежнее опять, В одежде старой появляюсь снова, И, кажется, по имени назвать Меня в стихах любое может слово. . . . . . . . . . . Все то же солнце ходит надо мной, Но и оно не блещет новизной!Я думаю, что искать во что бы то ни стало оригинальную рифму — занятие не слишком полезное.
Оригинальные, новые, своеобразные рифмы приходят естественно и свободно, когда их вызывают к жизни оригинальные, новые, своеобразные мысли и чувства. Они рождаются так, как рождались меткие слова у запорожцев, сочинявших письмо турецкому султану, или у Маяковского, когда он писал «Во весь голос».
Боксер дерется не рукой, а всем туловищем, всем своим весом и силой, певец поет не горлом, а всей грудью.
Так пишет и настоящий писатель: всем существом, во весь голос, а не одними рифмами, сравнениями или эпитетами.
Мы ценим хорошую, звучную, меткую рифму и не собираемся отказываться от нее, как это принято сейчас в модной поэзии снобов. Но когда рифма становится самоцелью, чуть ли не единственным признаком стихов, когда рифма и стихотворный ритм перестают работать, то есть служить поэтической идее, поэтической воле, — их ждет неизбежная участь. В течение какого-то времени они остаются внешним украшением, а потом и совсем отмирают за ненадобностью.
Рифмой великолепно пользуется живая народная поэзия. Там рифма появляется то в конце строчек, то в начале, то в виде точной рифмы, то в виде свободного созвучия.
Вот, например, колыбельная песня, записанная где-то на Севере:
И ласточки спят, И касаточки спят, И соколы спят, И соболи спят. Ласточки спят все по гнездышкам, Касаточки — по закуточкам, Соболи спят, где им вздумалось.Как чудесно и по значению и по звучанию перекликаются здесь ласточки с касаточками, соколы и соболи. Стихотворная форма не мешает соболям жить вне рифмованных строчек — «где им вздумалось».
_____
Мне могут сказать, что все эти «ласточки — касаточки» и «соколы — соболи» взяты из довольно примитивной народной песенки. Чему же учиться у нее?
Но ведь и Пушкин, как всем известно, учился у народа и записывал то, что слышал на базарах и на проезжих дорогах.
Из иной прибаутки или песенки можно извлечь много полезного и ценного. Она не только учит нас народной мудрости и толковости, но и заражает слушателя той счастливой непосредственной веселостью, которою подчас так богаты безымянные поэты-импровизаторы.
Вдоль по улице в конец Шел удалый молодец. На нем шапочка смеется, Перчаточки говорят, Как бы каждую девицу По три раза целовать.«Говорят» (должно быть, автор произносил это слово «говорять») и «целовать» — очень плохая рифма, а все-таки стихи получились звонкие, задорные, метко передающие портрет щеголя из слободки. На помощь слабым рифмам здесь приходит яркая звуковая окраска всего шестистишия, сочиненного, как видно, одним духом и с большим аппетитом.
Даже на фронте среди жесточайших боев народ не терял дара веселой импровизации. Под Ельней я слышал от наших танкистов такую частушку:
Танк танкетку полюбил, В рощицу гулять водил. От такого рóмана Вся роща переломана.«Полюбил» и «водил» — плохая рифма, но она вполне оправдана следующей за ней неожиданной рифмой «рóмана — переломана». Так часто бывает в поэзии народа, который обращается и с языком, и с песенными размерами, и с рифмами по-хозяйски.
А хороший хозяин прежде всего знает, что всему должно быть свое место и свое время.
Пушкин любил рифму. Он посвящал ей стихи («Рифма — звучная подруга…){3}. Он играл рифмами в октавах и терцинах, легко и победительно владел строфой с четверной рифмой («Обвал», «Эхо»). Когда ему это было нужно, он мог блеснуть самой острой, полнозвучной и неожиданной рифмой в эпиграмме.
Но, полемизируя с любителями поэтических красот, он с откровенной преднамеренностью избегал какого бы то ни было щегольства в отборе слов, размеров и рифм.
Мы все помним его стихи, написанные в пору зрелости, — ироническую отповедь «румяному критику», презирающему грубую реальность.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий, За ними чернозем, равнины скат отлогий, Над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора. Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено, И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея. И только. На дворе живой собаки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед. Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка И кличет издали ленивого попенка, Чтоб тот отца позвал да церковь отворил. Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил…Вся тогдашняя Россия отразилась в этих стихах, открывавших новую страницу в русской поэзии.
— Но что это за рифмы? — сказал бы строгий рецензент, потомок «румяного критика». — Вы только послушайте: «нет — вслед», «ребенка — попенка», «отворил — схоронил»…
Я думаю, что было бы нелегко объяснить придирчивому дегустатору, что он мерит стихи не той меркой, что богатые, изысканные и замысловатые созвучия были бы столь же неуместны в этих правдивых, суровых стихах, как и привычные «светлые нивы» и «темные леса», которые желал бы видеть в сельском пейзаже «румяный критик, насмешник толстопузый»…
Слово в строю
Из всех искусств самым ходким, распространенным, можно сказать — даровым материалом пользуется поэзия. Музыке нужны инструменты — от оргàна до простой дудки, — живопись немыслима без красок, а поэтическое искусство имеет дело со словом — с теми обыкновенными, всем знакомыми словами, которые служат нам для повседневной разговорной речи.
Насущно необходимые основные слова повторяются миллионами людей бесконечное число раз. Мы постоянно слышим их и произносим сами. От частого употребления многие из слов стираются, как ходячая монета. Привыкая к ним, мы почти не слышим их звучания. Они теряют свое буквальное значение, как бы отрываясь от питающей их почвы, теряют силу и образность. Эпитет «яркий» перестает быть ярким, эпитет «ужасный» настолько перестает быть ужасным, что мы частенько слышим и даже сами говорим: «Я ужасно рад» или «Это мне ужасно нравится». Слово «прелестный» лишается всякой прелести и даже иной раз звучит пошловато или иронически.
Большинство людей не затрудняет себя выбором наиболее подходящего слова в будничной, обиходной речи. Тем, кто глух к слову, могут показаться почти разнозначащими такие определения, как «великолепный», «превосходный» и «шикарный». Они не чувствуют происхождения слова, не умеют отличать всенародный язык от временной словесной накипи.
Но дело не только в засорении языка недолговечными словечками и оборотами речи.
Даже коренные и всем необходимые слова, которые сами по себе не могут устареть, часто соединяются в гладкие, привычные, штампованные выражения, ослабляющие вес и значение каждого слова в отдельности.
Но можно ли сделать отсюда вывод, что поэты должны избегать общеупотребительных слов и пользоваться только какими-то особенными, редко встречающимися словами и выражениями?
Нет, лучшие поэты имеют дело с тем же простым, толковым и дельным языком, на котором говорит народ. Но самое обычное, изо дня в день произносимое слово как бы обновляется, вступая в строй поэтической речи. Оно становится полнозвучным и полновесным.
Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении. В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара.
Слово поэта действенно и вещественно. Прилагательные у него не декоративны, — они так же работают и столько же весят, как и определяемое ими слово —
…И железная лопата В каменную грудь, Добывая медь и злато, Врежет страшный путь!Подлинный поэт не бросает слов на ветер — не грешит многословием. Баратынский говорит о своей музе:
Но поражен бывает мельком свет Ее лица необщим выраженьем, Достоинством обдуманных речей…Обдуманное, бережно отобранное слово требует и от читателя сосредоточенного внимания.
Как Золушка, одетая в платье, которое ей подарила фея, простое и обыкновенное слово преображается в руках поэта.
Мы часто слышим слова «грусть», «грустно». Сколько сентиментальных романсов на все лады повторяет эти уютно-меланхолические словечки.
А как ожило, каким значительным и даже величавым стало это простое слово «грустно» в драгоценных пушкинских строчках:
На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко…Прелесть и подлинность придает этому слову самый ритм стихов, их интонация — естественная, как дыхание.
Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою…Звучание слова «грустно», еле различимое в обыденной разговорной речи, становится здесь ощутимым и внятным. Может быть, это еще и потому, что оно перекликается со сходным по звуку словом «Грузия»? («На холмах Грузии…»)
Поэтическое слово не одиноко. Это слово в строю. А для вступления в строй оно, как и полагается, должно быть точно измерено и взвешено. Каждый слог его на учете. Ведь слова должны отзываться на легчайшие колебания темпа и ритма, соответствующие душевным движениям.
Часы не свершили урока, А маятник точно уснул. Тогда распахнул я широко Футляр их, — и лиру качнул. И грубо лишенная мира, Которого столько ждала, Опять по тюрьме своей лира, Дрожа и шатаясь, пошла… Но вот уже ходит ровнее, Вот найден и прежний размах… О, сердце! Когда, леденея, Ты смертный почувствуешь страх, Найдется ль рука, чтобы лиру В тебе так же тихо качнуть И миру, желанному миру, Тебя, мое сердце, вернуть?В этих стихах Иннокентия Анненского словно невидимый маятник отсчитывает секунды, а вместе с ними — биения человеческого сердца. И словесный строй с безупречной верностью передает перебои сердца, замирание его и возвращение к жизни.
Слово в строю не живет само по себе, только для себя. Оно содействует другим словам — сотоварищам по строю.
То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит, То, как путник запоздалый, К нам в окошко застучит.Эпитет «обветшалый» не только выполняет свое прямое назначение, но еще и передает — вместе со словом «зашумит» — шуршание соломы на крыше.
Каждый, кто работает над стихом, знает по опыту, как много звука можно добыть из слова, когда оно оказывается в стихотворном строю.
Обычное, прозаическое, чаще всего служебное слово «свой» звучит не слишком громко, но в двустишии:
…И я умолк, подобно соловью, Свое пропел и больше не пою… —оно присоединяет свое малое и слабое звучание к созвучному с ним слову «соловей», и вместе с ним как бы передают последний перелив соловьиной песни.
Вступая в строй размеренной стихотворной речи, каждое слово вносит что-то свое в ее интонацию и звуковую окраску. Отдельные слова как бы растворяются в сочетании с другими, теряют свои жесткие, определенные границы, свой частный и узкий смысл. Это и дает поэту возможность пользоваться словами, как художник пользуется красками. В новых словосочетаниях рождаются новые оттенки.
Не прямым — словарным значением каждого слова поражают и волнуют нас лирические стихи Фета —
Я болен, Офелия, милый мой друг! Ни в сердце, ни в мысли нет силы. О, спой мне, как носится ветер вокруг Его одинокой могилы.В какой протяжно-унылый гул ветра на пустыре сливаются эти две последние строчки. Какой неистовой скорбью звучит — после тихой жалобы первого двустишия — неожиданное, пронизанное одною и той же гласной восклицание:
О, спой мне, как носится ветер вокруг Его одинокой могилы.Фраза разделена между двумя строчками так, чтобы слова «Его одинокой могилы» стояли и в стихах одиноко. Даже относящийся к ним предлог «вокруг» оставлен в предыдущей строчке, чтобы в последней не было ничего, кроме этих трех простых и скорбных слов: «Его одинокой могилы».
Слова говорят не только своим значением, но и всеми гласными и согласными, и своей протяженностью, и весом, и окраской, дающей нам ощущение эпохи, местности, быта.
Устная речь в различных областях нашей страны отличается своим особым складом и ладом. И как разнообразны оттенки этой народной речи в стихах Есенина, Багрицкого, Исаковского, Асеева, Светлова, Прокофьева, Семена Гудзенко, Петра Комарова, Виктора Бокова.
А с какой любовью и бережностью передает говор простых людей в вагоне под Москвой Маяковский:
…И чист, как будто слушаешь МХАТ, московский говорочек…Тут дело не в отдельных словах, а в том, что все они вместе как нельзя лучше доносят до нас разговорную, рассыпчатую русскую речь, которой любуется чуткий к слову поэт.
Музыка — одна из основ лирики. Но и в эпической поэме слова связаны между собой не только смысловой, но и музыкальной темой.
В современной русской поэзии это особенно заметно у Александра Твардовского. Впрочем, его поэмы «Страна Муравия» и «Дом у дороги» питаются глубинными лирическими ключами, и потому так явно сказывается в них музыкальное, песенное начало.
В устной живой речи всегда есть свой ритм, интонация, даже мелодия. Опираясь на эту музыкальную основу народного языка, поэт создает и свой собственный мелодический строй.
Слова в стихах — да и в хорошей, поэтической прозе — не живут порознь. Стройно согласованные, одушевленные высокой поэтической идеей, устремленные к единой цели, они поражают и радуют читателя так, будто звучат впервые.
Свободный стих и свобода от стиха
Во многих странах за рубежом рифма сейчас не в моде. Поэты отказываются от нее как от пустой детской забавы.
Правда, мы знаем рифмы, которые не забавляли, а убивали наповал. Вспомните стихи Дениса Давыдова:
Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок Корчит либерала.Как опорочила, как разоблачила псевдолибералов того времени убийственная для них рифма «обирала — либерала». Будто насмешливое эхо, передразнив, исказило это претендующее на благородство слово «либерал».
Но далеко не всегда рифма смеется и дразнит.
Какую законченность, какую силу приговора придают меткие рифмы стихам Лермонтова «Смерть Поэта»:
Его убийца хладнокровно Навел удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, — В руке не дрогнул пистолет.Эти строгие, точные созвучия, это стойкое, упорное повторение одной и той же гласной в рифмующихся и нерифмующихся словах («хладнокровно», «ровно», «пустое», «дрогнул») с необыкновенной четкостью передают пристальность и длительность кощунственного прицела. Не только последняя строчка, но и вся строфа вызывает в нашем воображении прямой ствол взведенного Дантесом пистолета, — как будто бы сейчас, на наших глазах решается судьба Пушкина.
Рифма — это до сих пор действующая сила, которую нет расчета и основания упразднять.
Навсегда запоминаются полнозвучные и щедрые, в первый раз найденные, но такие естественные, будто они от века существовали, рифмы доброй здравицы Маяковского:
Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости.Но не будем спорить здесь о рифме. У поэзии много музыкальных средств и без нее. Да к тому же пустое рифмоплетство так часто вызывает только досаду, подменяя собой настоящее поэтическое творчество.
Мы знаем, что в греческой и латинской поэзии, богатой аллитерациями, и совсем не было рифмы. Шекспир в своих трагедиях и комедиях пользуется ею только изредка. Без рифм зачастую обходится испанская поэзия. Отсутствовала она и в «Эдде», и в наших былинах, и в «Калевале».
Пушкин в ранней молодости отозвался пародийной эпиграммой на стихи Жуковского, написанные без рифмы:
Послушай, дедушка, мне каждый раз, Когда взгляну на этот замок Ретлер, Приходит в мысль: что, если это проза, Да и дурная?..Однако сам он в зрелые годы написал белым стихом одно из лучших своих лирических стихотворений:
…Вновь я посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнанником два года незаметных…Белым стихом написана поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Особым очарованием полны нерифмованные стихи Александра Блока «Вольные мысли» и другие.
Но современные реформаторы стиха освободились не только от рифмы, но и от какой бы то ни было метрики.
И это бы еще не беда. Образцы свободного стиха мы находим в поэзии с незапамятных времен — и в народном творчестве, и у отдельных поэтов, наших и зарубежных.
Вспомним многие из «Песен западных славян» Пушкина, его же «Песни о Стеньке Разине», «Сказку о попе и работнике его Балде», «Сказку о медведихе» («Из-под утренней белой зорюшки…»){4} вспомним лермонтовскую «Песню про купца Калашникова», «Ночную фиалку» Блока.
Да и на Западе свободный стих («Vers libre») существовал задолго до Гийома Аполлинера.
Но и в «Пророческих книгах» Блейка, где каждый стих подчинен особому складу и размеру, и в широких, освобожденных от всех метрических канонов строках Уолта Уитмена есть какая-то, хоть и довольно свободная, музыкальная система, есть усложненный, но уловимый ритм, позволяющий отличить стихи от прозы.
А у Маяковского — при всем его новаторском своеобразии — стих еще более дисциплинирован, организован. В последние же стихи этого поэта-оратора («Во весь голос») торжественно вступают строго классические размеры:
Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима.И все же Маяковский даже в этих строчках остается самим собой. Мы сразу узнаем его почерк.
К нему как нельзя более подходит двустишие Шекспира:
И, кажется, по имени назвать Меня в стихах любое может слово.Разве это не его характерные слова — «громада лет», «весомо, грубо, зримо» или слово «сработанный»? Стихи пронизывает излюбленная Маяковским «хорошая буква» — Р. Созвучия в конце слов богаты и полны: «зримо — Рима», «прорвет — водопровод».
Для чего же понадобилось Маяковскому ввести в живую, разговорную — «во весь голос» — речь эти классические ямбы, отточенные, как латинская надпись на памятнике?
Очевидно, строгий и точный размер был нужен ему для того, чтобы выделить в потоке современного, грубоватого, подчас озорного просторечья торжественные строчки, обращенные к будущему.
В этом сочетании вольного стиха с правильным стихотворным размером есть своя новизна. Маяковский и тут остается новатором.
Но дело не в примирении классического и свободного стиха и не в споре между ними. Было бы несерьезно и неумно делить поэтов на два враждующих лагеря — приверженцев классической метрики и сторонников свободного стиха.
Это было бы похоже на свифтовскую войну «остроконечников» и «тупоконечников» — то есть тех, кто разбивает яйцо с острого конца, и тех, кто разбивает с тупого.
Вопрос в том, куда ведет поэзию «раскрепощение» стиха, все более приближающегося к прозе, подчас лишенной даже того сложного и скрытого ритма, который вы уловите в лучших образцах прозы.
И вновь вспоминается вопрос Пушкина:
…что, если это проза, Да и дурная?..«Освобождение» стиха доходит иной раз даже до отказа от знаков препинания, как это принято в телеграммах.
Это, конечно, смело, экономно и может сильно обрадовать учеников третьего-четвертого класса.
Только одно непонятно: зачем упразднять эти маленькие, честно поработавшие значки, когда во всей организованной, членораздельной и музыкальной речи они все равно присутствуют, ставь их или не ставь.
У хороших поэтов все точки, запятые, тире вписаны в стих ритмом, и отменять их — дело напрасное.
Не всякое нововведение плодотворно и прочно. Только временем проверяется его жизнеспособность.
Еще не так давно многим казалось, что свободный танец Айседоры Дункан — это последнее слово искусства, как бы сдающее в архив строгий классический балет.
Айседора Дункан была и в самом деле очень талантлива и сыграла большую роль в истории хореографии. Но это ничуть не помешало развитию и процветанию классического балета. Он и до сих пор живет и продолжает одерживать блистательные победы.
В искусстве вполне законна и даже неизбежна смена течений, школ, стилей. Но ошибочно думать, что эта эволюция происходит с той же быстротой и легкостью, с какой «рок-н-ролл» сменяет «буги-вуги».
Мы знали немало игр, сочиненных наподобие и по образцу шахмат. Перед первой мировой войной была в ходу «Военно-морская игра» с металлическими корабликами вместо шахматных фигур. Однако ни одна из этих «свободных» игр не могла заменить или вытеснить старые, строгие шахматы, до сих пор еще открывающие простор для новых задач и решений.
Слов нет, развитие науки, техники, искусства расширяет возможности творчества, дает ему бóльшую свободу маневрирования, освобождает его от излишнего статического равновесия во имя равновесия динамического.
Подлинное новое искусство, опираясь на прошлое и отражая реальную жизнь, приобретает новые темпы, делает понятным с полуслова то, на что требовалась прежде бóльшая затрата художественных средств и времени.
Вольный стих в какой-то мере помогает автору избежать привычных ходов, проторенных дорожек, дает ему возможность найти свой особенный, отличный от других почерк.
Но, как мы видим, «освобождение» стиха не ограничивается ликвидацией рифмы, стихотворных размеров, а заодно и запятых. Подчас оно ведет к полной бесформице, и самые тонкие ревнители формы оказываются ее убийцами.
В поэзии происходит то, о чем говорит Тютчев в стихах о лютеранской церкви, упростившей до бедности свой обряд и обстановку:
…Но видите ль? Собравшися в дорогу, В последний раз вам вера предстоит: Еще она не перешла порогу, А дом ее уж пуст и гол стоит, — Еще она не перешла порогу, Еще за ней не затворилась дверь… Но час настал, пробил… Молитесь богу, В последний раз вы молитесь теперь.Таким же пустым и голым оставляет мнимое новаторство дом, в котором живет поэзия.
Разрушение производит подчас почти такой же эффект, как и созидание. Но сенсация, вызываемая разрушением, недолговременна. Она забывается, и в конце концов остается только пустое место.
Недаром в большинстве зарубежных стран поэты теряют или не находят читателей. Стихи мало и редко издают, и влияние их на жизнь ничтожно. Да, в сущности, поэт-индивидуалист и не рассчитывает на то, что его поймут многие. Его стихи — это такие радиоволны, на которые в лучшем случае могут настроиться очень редкие радиолюбители. А в худшем случае единственным их читателем оказывается сам автор.
У Диккенса в романе «Наш общий друг» великолепно изображены разбогатевшие выскочки, так называемые «нувориши».
У этих новоиспеченных богачей все новое: новая мебель, новые друзья, новая прислуга, новое серебро, новая карета, новая сбруя, новые лошади, новые картины…
Да и сами-то они с иголочки новые.
Не похожи ли на диккенсовских героев ультрамодернисты, щеголяющие нарочитой новизной своих образов и стихотворных размеров, новым синтаксисом и даже правописанием?
Традиции — то есть культура — создают общий язык понятий, представлений, чувств. Потеря этого общего языка изолирует поэта, лишает его живой связи с другими людьми, доступа к их умам и сердцам.
Лучшие традиции — это и есть те горы, над которыми должно возвышаться, как вершина, подлинное новаторство. Иначе оно окажется маленьким, незначительным холмиком.
В строгой метрике дантовских терцин, в стихотворных размерах Петрарки, Шекспира, Гете, Пушкина многие поколения поэтов еще будут открывать глубокие, неразгаданные тайны. В этих размерах они найдут многоступенчатую голосовую лестницу, которая соответствует многообразию чувств, пережитых поэтами, народом, человечеством.
Значит ли это, что стихотворная форма должна оставаться незыблемой, закостеневшей, скованной раз навсегда установленными канонами?
Нет, каждое время, каждая поэтическая индивидуальность ищет и находит свои размеры и ритмы, диктуемые жизнью и развитием искусства.
Очевидно, стих живет и развивается, как и все в жизни, диалектически. Смелые поиски новых путей уживаются и чередуются со столь же смелым обращением к лучшим традициям, обогащенным новыми открытиями.
О линейных мерах
Рассказывают, будто в одном из музеев не в меру ретивый экскурсовод останавливал публику, пытавшуюся рассматривать картины на стенах без его компетентной помощи.
— Не смотрите, не смотрите, — говорил он. — Я вам сейчас все расскажу.
Хоть и реже, чем прежде, но до сих пор еще у нас встречаются судьи искусства, полагающие, что сущность живописи, скульптуры, поэзии и даже музыки заключается в одном лишь беллетристическом сюжете, который можно пересказать своими словами.
Ценители менее наивные понимают, что у художественного произведения должны быть и другие качества, кроме интересного сюжета. Однако весьма многие из них измеряют эти качества линейными мерами, упрощающими оценку и позволяющими сопоставлять и сравнивать степень мастерства совершенно несхожих между собою поэтов и художников.
В суждениях о поэзии такими критериями чаще всего служат — после идейности и направленности, определяющих значимость произведения, — образность, музыкальность, оригинальность сравнений и т. д., причем все эти достоинства рассматриваются отдельно друг от друга и независимо от целого. Признаками хороших стихов обычно считаются обилие образов, полнота и новизна рифмы, разнообразие стихотворных ритмов и другие, выражаясь языком коннозаводчиков, «стати».
Подобные оценки, встречающиеся в рецензиях и отзывах различного рода консультантов, редакторов и руководителей литературных кружков, влияют — и довольно существенно — на судьбы поэзии. Происходит своеобразная селекция, ведущая к одностороннему развитию способностей поэта. Сугубая и специальная забота о рифме превращает многих не лишенных дарования стихотворцев в искусных и усердных рифмоплетов. Поиски разнообразных размеров часто ведут к механическим упражнениям. Чрезмерное стремление к остроте и новизне образов рождает внешние эффекты и банальность наизнанку.
Более четверти века тому назад у нас даже существовала особая литературная школа, считавшая образность своим идейным знаменем, — так называемый имажинизм.
Спору нет, поэт, художник мыслит образами. Но если образ становится самоцелью, он превращается в некое подобие флюса.
Мы знаем силу и меткость пушкинских образов, сравнений и метафор. Но наряду с такими строчками, как:
И мимо всех условий света Стремится до утраты сил, Как беззаконная комета В кругу расчисленном светил.или:
Нева металась, как больной В своей постели беспокойной, —вы найдете у Пушкина стихи, где нет никаких образов, метафор, метонимий. Например:
Я вас любил — любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим.Если в этих двух четверостишиях и создается какой-нибудь образ, то лишь внутренний, духовный облик поэта, написавшего такие великодушные и проникновенные стихи о любви.
Все интонации, все паузы этих стихов совершенно естественны и в то же время безупречно музыкальны.
Но, может быть, музыкальность и должна быть главным критерием при оценке поэзии?
Ведь говорил же замечательный французский поэт Поль Верлен: «Музыка — прежде всего».
И в самом деле — без музыки нет поэзии. Это люди знали с древнейших времен.
Однако что значит музыкальность в применении к стихам?
Музыкальной называли многие декламацию Надсона.
Музыкальными считались в свое время салонные стихи Апухтина.
Бальмонт — поэт и в самом деле музыкальный по природе — поражал читателей то потоком внутренних рифм —
Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез… —то игрой аллитераций.
Все это воспринималось как проявление высшей виртуозности.
Иные поэты считали, что музыкальность придают стихам звучные и причудливые иностранные слова и даже фамилии.
Игорь Северянин писал:
Иди к цветку Виктории Регине, Иди в простор, И передай привет от герцогини Дель-Аква-Тор…Или:
Моя дежурная адъютантесса, Принцесса Юния де Виантро Вмолнилась в комнату быстрей экспресса И доложила мне, смеясь остро: — Я к вам по поводу Торквато Тассо… В гареме паника, грозит бойкот, В негодовании княжна Инстасса И к Лучезарному сама идет.Андрей Белый подчинил свою прозу четкому, почти стихотворному ритму. И читать эту сложную, размеренную прозу было так же утомительно, как ходить по шпалам.
Нарочитая музыкальность, как и нарочитая образность, чаще всего бывает признаком распада искусства.
Музыка и образы выступают здесь наружу, подобно сахару в засахарившемся варенье.
Подлинная музыка лежит не на поверхности. Она — в таинственном совпадении чувства и ритма, в каждом оттенке живой и гибкой интонации.
Вы найдете ее не только в стихах, но и в простой, прозрачной и вместе с тем всегда загадочной прозе Лермонтова.
В одной печальной и тревожной реплике Веры из «Героя нашего времени»: «Не правда ли, ты не любишь Мэри? ты не женишься на ней?..» — куда больше подлинной, глубокой, правдивой музыкальности, чем в самых звучных стихах с искусственно подобранными аллитерациями.
Несколькими словами, двумя беглыми вопросами Лермонтов проявляет весь облик и характер Веры, всю ее робость, нежность и покорность.
Разнообразие и богатство интонаций человеческого голоса передает только та музыка, которая свободна от автоматизма пианолы или музыкального ящика.
Стих способен передать весь диапазон, всю безмерную ширь душевной жизни человека. Так стоит ли тратить чудесные силы стиха на пустые ухищрения, на словесные фиоритуры?
Один и тот же стихотворный размер может выразить самые различные мысли, чувства, настроения.
Вспомните суровые и простые стихи Александра Блока, так верно и чутко передавшие предгрозовое затишье первых дней войны 1914 года:
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист. Раскачнувшись, фонарь замигал, И под черною тучей веселый горнист Заиграл к отправленью сигнал. И военною славой заплакал рожок, Наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток Заглушило ура без конца…Кажется, что размер, которым написаны эти стихи, — четырехстопный и трехстопный анапест, — создан именно для них. Столько в нем торжественности, военной строгости, сдержанной, суровой грусти.
А ведь точно таким же размером написана одна из баллад Жуковского, говорящая совсем о других временах и событиях:
До рассвета поднявшись, коня оседлал Знаменитый Смальгольмский барон; И без отдыха гнал меж утесов и скал Он коня, торопясь в Бротерстон.Только внутренняя рифма в третьей строке внешне отличает эти стихи от стихов Блока. Но как различны их интонации, их стиль и словарь!
Сколько поэтов писали, пишут и, несомненно, будут писать четырехстопным хореем — легким стихом, который мы привыкли встречать чаще всего в сказке и шутливой песенке.
Но вы, вероятно, даже не узнаете этот знакомый вам с детства четырехстопный хорей в стихах Александра Твардовского о переправе:
Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда… Кому память, кому слава, Кому темная вода, — Ни приметы, ни следа…С какой бережной точностью запечатлели эти стихи тревожные минуты переправы, когда решалась судьба отряда, уже отчалившего на понтонах от нашего берега!
Почти вполголоса, даже шепотом, как при задержанном дыхании, звучат строки:
Кому память, кому слава, Кому темная вода…Тут и тревога, и надежда, и то тихое, почти беззвучное движение губ, с которым мы произносим последние слова прощания.
Вряд ли Твардовский сознательно ставил перед собой именно такую задачу — «показать, передать, выразить», когда писал эти стихи.
Но он писал их «от всей души», в самом буквальном значении этих слов, а в таких случаях поэт крепко держит в руках все свои изобразительные средства — рифму, размер, аллитерации, — и все они вместе, а не порознь, честно работают, подчиняясь хозяйской воле и выполняя задачи гораздо более сложные, чем поиски рифм, размеров, образов.
Впрочем, заботиться о качестве и новизне рифмы, размера и ритма следует каждому поэту. Только это не должно быть рассудочным, комбинаторским делом.
Никакие технические упражнения в искусстве версификации не могут научить поэтическому мастерству — точно так же, как нельзя научиться плавать на суше.
Выбор дороги
Самая короткая эпиграмма — так же, как и большая эпическая поэма, — может переходить от поколения к поколению, побеждая пространство и время.
Сохраняя весь жар непосредственного чувства, всю остроту и силу удара, она перерастает рамки личного и злободневного.
Для этого она должна, по какому бы частному поводу ни написал ее поэт, возвыситься до такого обобщения, чтобы заключенная в ней внутренняя правда относилась не только к одному указанному дню и данному лицу.
Но это еще не все.
Чем больше соответствует эпиграмма своему жанру, чем благороднее, совершеннее и строже ее форма, тем больше у нее шансов пережить и автора и адресата.
И не только в эпиграмме, но и в других родах литературы самый жанр в какой-то степени защищает автора от мелочного и узкого толкования его стихов, рассказа или повести, от нескромных поисков между строк, которые так любят обыватели или досужие комментаторы — охотники расшифровывать художественные произведения с помощью биографического метода.
Это в полной мере относится даже к такой сугубо личной, наиболее субъективной области поэзии, как лирика.
Если для автора лирические стихи — искусство, а не просто наиболее удобная форма любовных излияний и объяснений, он даже и нечаянно не подаст читателю ни повода, ни права вторгаться в сферу его интимной биографии. Поэта ограждают и защищают самые законы стиля и жанра — те прочные стены искусства, которые не должны нагреваться и коробиться от огня, пылающего внутри.
Ромео обнимает Джульетту, а не актер такой-то актрису такую-то, если только партнеры эти верны своему искусству.
Любовь, выраженную в лирических стихах, читатель вправе «присвоить» в самом буквальном смысле этого слова. Да, в сущности, сознательно или бессознательно, он и пользуется этим правом, читая лирику лучших поэтов.
Какие бы догадки ни высказывали комментаторы о том, кому посвящены строчки Шекспирова сонета:
Одна судьба у наших двух сердец: Замрет мое — и твоему конец, —читатель находит в них свои собственные чувства.
Как бы ясно ни представляли мы себе, при каких обстоятельствах были написаны и кому посвящены стихи Пушкина:
В последний раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать…или:
…И сердце вновь горит и любит — оттого, Что не любить оно не может… —все же стихи эти мы относим к самим себе, к своей собственной лирической биографии.
И в этом их сила, их удивительная жизнестойкость.
Пушкин всегда отчетливо сознавал, в каком духе, роде, жанре пишет он стихи или прозу. В письмах его встречаются упоминания о том, что он намерен написать трагедию в Шекспировом роде или повесть в духе Вальтера Скотта. Эти признания отнюдь не умаляют оригинальности и самобытности его творений, а лишь говорят о том, что уже в самом начале поэтического труда, в самом замысле провидел он не только контуры сюжета и образов, но и стиль, жанр, ритм будущего произведения. В сущности, Пушкин просто не представлял себе сюжета вне той формы, которая наиболее соответствовала бы материалу.
Одним почерком и в то же время на самый разный лад — в своем особом характере, ритме, стиле — написаны «История пугачевского бунта» и «Капитанская дочка», «Скупой рыцарь» и «Сцены из рыцарских времен».
И дело тут не только в могучем таланте Пушкина, но и в той высокой культуре, которая открывает перед художником бесконечное множество путей и дорог.
Мы знаем немало поэтов и прозаиков, отнюдь не лишенных дарования, которые так и не могли вырваться из однозвучия и однообразия только потому, что у них не было достаточного кругозора — жизненного и литературного — и они до конца своих дней перебирали три-четыре струны, не подозревая даже, сколько неисчерпаемых возможностей таит их искусство.
Пушкин был создателем почти всех наших литературных жанров. Не удивительно, что он с такой ясностью отдавал себе отчет, в каком музыкальном ключе поведет он то или другое свое создание.
Но возьмем других поэтов, не столь широкого диапазона.
Евгений Баратынский близок Пушкину и в лирике своей, и в эпиграмматической поэзии. Глубиной мысли, свободой и смелостью выражения самых сокровенных чувств, «достоинством обдуманных речей» он навсегда завоевал одно из почетнейших мест в русской поэзии.
Но, конечно, его мир куда ограниченнее пушкинского. Поэзия Баратынского неизменно остается лирическим дневником даже тогда, когда он берется за поэму. При всей ясности и чистоте его поэтической речи он никогда не достигает пушкинской простоты, конкретности и народности.
У него вы не найдете таких земных и простодушных строчек, как:
То ли дело быть на месте, По Мясницкой разъезжать, О деревне, о невесте На досуге помышлять!Или:
Три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор Белье повесить на забор; Погода становилась хуже…И однако же, несмотря на то, что Баратынский никогда не выходит из круга лирических тем, поэзия его даже в своих — довольно тесных — пределах блещет разнообразием жанров и стилей. И он, подобно Пушкину, ясно отдает себе отчет, в каком роде и в какой манере пишет то или иное стихотворение.
Подлинным романсом — еще до встречи с музыкой — была элегия Баратынского «Разуверение»:
Не искушай меня без нужды Возвратом нежности твоей: Разочарованному чужды Все обольщенья прежних дней! Уж я не верю увереньям, Уж я не верую в любовь И не могу предаться вновь Раз изменившим сновиденьям!..Читая эти стихи, невольно думаешь, что композитор, положивший их на музыку, не сочинил ее, а словно открыл и выпустил на волю музыкальную душу этой лирической исповеди.
Но вот перед Баратынским встает другая задача. Он произносит в стихах взволнованную речь, предостерегая поэта, которого глубоко чтит, от суетности, от соблазнов моды, от легкого и неверного успеха:
Не бойся едких осуждений, Но упоительных похвал: Не раз в чаду их мощный гений Сном расслабленья засыпал. Когда, доверясь их измене, Уже готов у моды ты Взять на венок своей Камене Ее тафтяные цветы; Прости: я громко негодую; Прости, наставник и пророк, Я с укоризной указую Тебе на лавровый венок!..Какой энергией негодования, какой горечью и любовью проникнуто это страстное обращение. Однако, сохраняя всю силу и блеск ораторской речи, оно в то же время остается произведением своего жанра — изящным и стройным лирическим стихотворением.
Совсем иная поступь в лирико-философских раздумьях Баратынского — в таких стихах, как «Последний поэт» («Век шествует путем своим железным…»), «Смерть» («О смерть, твое именованье нам в суеверную боязнь…») или «Приметы» («Пока человек естества не пытал…»).
В этих стихах голос Баратынского подобен органу, заключающему целую лестницу разнообразных звучаний от нижнего до верхнего регистра.
А как глубоко различны по музыкальному тону, по краскам, по словесному отбору одухотворенные поэтические пейзажи Тютчева и его же веские и зрелые социально-философские размышления, достигающие порой античной монументальности.
Трудно представить себе, что одною и тою же рукой написано такое свободное, легкое и прозрачное стихотворение о русской природе, как «Есть в осени первоначальной…», и другое, звучащее «медью торжественной латыни», — «Оратор римский говорил…».
Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора — Весь день стоит как бы хрустальный, И лучезарны вечера… Где бодрый серп гулял и падал колос, Теперь уж пусто все — простор везде, — Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боле, Но далеко еще до первых зимних бурь — И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле…В этих стихах поэт говорит как будто даже не словами, а какими-то музыкальными паузами, ритмическим дыханием.
Но каким полнозвучным, твердым и властным становится его голос, когда он берет на себя другую художественную задачу. Для каждого рода поэзии он находит в родном языке новый словесный пласт.
Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги: «Я поздно встал — и на дороге Застигнут ночью Рима был!» Так! но, прощаясь с римской славой, С Капитолийской высоты, Во всем величье видел ты Закат звезды ее кровавой!.. Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые — Его призвали всеблагие, Как собеседника на пир; Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был И заживо, как небожитель, Из чаши их бессмертье пил!Разумеется, у любого крупного поэта вы найдете большее или меньшее разнообразие форм, стилей и размеров. Но не об этом сейчас речь, а о том сознательном выборе дороги — жанра, поэтического строя и музыкального лада, — без которого автор так легко может попасть в плен ко всем случайностям ритма, рифмы и словаря.
Но, конечно, такой сознательный выбор поэтической дороги — отнюдь не дело холодного расчета, а непосредственный вывод из той подсознательной работы поэта, которая обычно называется вдохновением.
Однако и вдохновение бессильно, если оно не оснащено мастерством и глубоким знанием многообразных путей и средств своего искусства.
Именно это знание помогает художнику прокладывать новые дороги для «езды в Незнаемое», о которой говорит Маяковский. Ворота в страну Незнаемого открываются двумя ключами — целеустремленным проникновением в жизнь и столь же глубоким проникновением в законы искусства.
Уж кажется, кто меньше Некрасова был склонен пробовать свои силы в изысканных литературных формах — в терцинах, октавах и триолетах; кто меньше, чем он, размышлял, что такое стансы, элегии и мадригалы! Однако и он — поэт-деятель, поэт-журналист, откликавшийся чуть ли не на каждое событие в жизни родины, постоянно преодолевавший сопротивление нового, грубого, еще не освоенного жизнью и поэзией материала, — со всей ясностью понимал, какую силу придает руке поэта мастерски выкованное оружие жанра — песенного, повествовательного, эпиграмматического. Он в равной мере владел всеми этими видами поэзии. Но достаточно внимательно прочесть одно его короткое стихотворение — всего лишь восемь строчек без заглавия, — чтобы убедиться в том, как метко выбирал он поэтический жанр, словарь, стихотворный размер.
Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом, Крестьянку молодуюВ этом маленьком стихотворении, похожем на запись в дневнике, совершенно отсутствуют те бытовые подробности, какими так богата некрасовская поэзия. Да они и не нужны суровым, обличительным ямбам, которые для того и родились на свет, чтобы глубоко врезаться в сознание читателя.
Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя… И Музе я сказал: «Гляди! Сестра твоя родная!»Простые, лаконичные строки проникнуты классической строгостью. И потому-то так законны и естественны в них, — несмотря на то, что действие происходит в Питере, на Сенной площади, — такие чуждые бытовой поэзии слова, как «бич» и «Муза».
Всякая подробность в изображении этой — так называемой «торговой» — казни была бы излишней и оскорбительной.
Некрасов это чувствовал, и оттого его стихи, сделанные из стойкого, огнеупорного материала, живы до сих пор и надолго переживут нас, нынешних его читателей.
А между тем стихотворение было написано по свежим следам событий («Вчерашний день часу в шестом…») и звучало вполне злободневно, как призыв к действию — прокламация.
Поэт нашел форму, при которой злободневное перестает быть однодневным.
Право на взаимность
О поэзии у нас зачастую говорят слишком общо и бегло. Отдельные, вырванные из текста строчки стихов играют во многих рецензиях только служебную роль и не дают читателю ни эстетического наслаждения, ни возможности проверить выводы рецензента.
Рецензенты такого рода меньше всего склонны предоставлять слово автору, очевидно, считая, что содержание стихов можно пересказать своими словами, пользуясь цитатами только как иллюстрациями к общим рассуждениям.
И в результате подобного разбора в сознании у читателя в лучшем случае остается только общая схема, основная мысль стихотворения да отдельные идеологические или словесные погрешности автора.
Лучшие критики, прокладывавшие пути нашей литературе, учат нас своим примером, что изучать живое произведение искусства надо так, чтобы оно в руках исследователя не умирало, не теряло своего обаяния, а щедро и полно открывало все то, что заложено в него автором.
Но это возможно только тогда, когда критик не убивает в себе читателя, простого, непосредственного, отзывчивого читателя.
Белинский — профессиональный журналист, писавший статьи и рецензии для очередных номеров журнала, — сумел, однако, до конца сохранить в себе именно такого непосредственного читателя и благодарного театрального зрителя.
Критическая статья или рецензия, посвященная произведению искусства, должна и сама быть поэтическим произведением.
«Сказки дедушки Иринея» — В. Ф. Одоевского в значительной мере устарели и по содержанию, и по форме. Но гораздо более долговечной оказалась статья Белинского об этих сказках — вдохновенная статья, полная живого интереса к автору и горячих, взволнованных мыслей об искусстве, о детях, о задачах воспитания.
Искусство ждет и требует любви от своего читателя, зрителя, слушателя. Оно не довольствуется почтительным, но холодным признанием. И это не каприз, не пустая претензия мастеров искусства. Люди, которые вложили в свой труд любовь, имеют право на взаимность. Требовательный мастер вправе ждать самого глубокого и тонкого внимания к своему мастерству.
Пожалуй, художественная проза чаще находит у нас пристальную оценку, чем поэзия. Очень немногие рецензенты обладают способностью говорить не только о содержании стихов, но и о самом их существе, которое Гейне называет «материей песни», то есть о содержании, нераздельно связанном с поэтической формой и только в ней, в этой форме, живущем.
Обозреватели стихов чаще всего похожи на людей, у которых есть руки, но нет пальцев для того, чтобы уловить художественные мелочи и детали, а ведь из них-то, из этих деталей, и складывается поэтическое произведение.
Побольше внимания к отдельным стихотворениям, к отдельным строчкам, к отдельным словам.
Без этого внимания к частностям невозможно охватить целое. А свои окончательные выводы критик должен делать вместе с читателем. Это, конечно, не значит, что критик должен быть на поводу у читающей публики, — отнюдь нет. Но он должен уметь убеждать, как убеждает талантливый поэт или прозаик, ведущий за собой читателя силой мысли и жаром чувств.
Восторженно-одобрительное или ироническое замечание критика ровно ничего не стоит, если оно не убедит в своей правоте читателя.
Актеры на сцене оказались бы в неловком положении, если бы их громкий хохот, вызванный острой репликой, не был поддержан зрительным залом.
Критические отзывы должны быть доказательны и полновесны. А это возможно только тогда, когда критику понятен самый процесс поэтического творчества, когда он постигает не только общую идею, выраженную в стихах но и самую стихотворную ткань — «материю песни, ее вещество».
О звучании слова
Однажды мне случилось присутствовать на занятиях литературного кружка, где — по выражению Маяковского — некий профессор «учил молотобойцев анапестам». Правда, это были не молотобойцы, о которых говорит Маяковский, а учащаяся молодежь, и учил ее анапестам не профессор, а скромный руководитель кружка. Но суть дела от этого не меняется. В поисках так называемых аллитераций[6] молодые люди подбирали примеры из Маяковского, Есенина, Бальмонта, Лермонтова, Блока, Багрицкого, Брюсова, Асеева, Тихонова, Сельвинского… Не все ли равно, какого поэта цитировать, — лишь бы он годился для примера!
Видимо, эта игра нравилась участникам кружка, и они наперебой цитировали:
Чуждый чарам черный челн…Или:
Белые бивни бьют в ют.У Пушкина было труднее отыскать такой стопроцентный пример пользования аллитерациями, — разве только:
Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой.Или:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.Но ведь это всего отдельные строчки, а не целое стихотворение, пронизанное одними и теми же звуками. Однако и по пушкинским стихам прошлись усердные «аллитераторы». Руководитель кружка был доволен своими учениками, а мне вспомнилась меткая эпиграмма Роберта Бернса — «При посещении богатой усадьбы»:
Наш лорд показывает всем Прекрасные владенья… Так евнух знает свой гарем, Не зная наслажденья.Вряд ли такое внешнее и формальное изучение художественной формы способствует пониманию поэзии. Даже природу и значение аллитераций трудно понять, вырывая из стихов случайные строчки и отделяя форму от содержания.
Можем ли мы говорить о звучании того или иного слова, о красоте его и благозвучии в отрыве от смысла? Только чеховская акушерка Змеюкина могла упиваться и кокетничать словом «атмосфера», не зная толком, что оно значит.
Возьмем, к примеру, слово «амур». По-французски оно означает «любовь», а по-русски этим именем называют только крылатого божка любви. У нас оно отдает литературой, XVIII веком и звучит несколько слащаво и архаично или же насмешливо: «дела амурные».
Зато совсем иным кажется нам то же самое слово «Амур», когда оно относится к могучей, полноводной сибирской реке. В названии реки нет ничего слащавого и кокетливого. Оно сурово и величаво. В нем есть нечто азиатское, монгольское, как в имени «Тимур».
Так неразрывно связано звучание слова с его смысловым значением.
Что общего между русским словом «соль» и музыкальной нотой?
В названии ноты нет ни малейшего соленого привкуса, хоть оно по своей транскрипции и звучанию вполне совпадает с названием минерала.
Никто не думает о пушке, произнося фамилию величайшего русского поэта. А между тем та же фамилия, если ее носит какой-нибудь мало кому известный Иван или Степан Пушкин, в значительно большей степени напоминает нам пушку. (Впрочем, великий поэт в какой-то мере помог и своим однофамильцам освободиться от ассоциации со словом «пушка».)
Звуки, из которых состоит фамилия поэта, приобрели новое качество потому, что в сознании миллионов людей возникло новое автономное понятие, новый интегральный образ. И в зависимости от этого нового смысла и нового образа по-новому воспринимаем мы и самые звуки фамилии «Пушкин». Она звучит для нас громко, как его слава, радостно, величаво и просто, как его поэзия.
Всякий настоящий писатель, а поэт в особенности, тонко чувствует неразрывность значения и звучания слова. Он любит самые звуки слов, отражающие весь реальный мир и запечатлевшие столько человеческих чувств и ощущений. Он пользуется звуками не случайно, а с отбором, отдавая в каждом данном случае предпочтение одним звукам перед другими.
Вспомним отрывок из стихов Пушкина.
О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, Когда, склоняяся на долгие моленья, Ты предаешься мне, нежна без упоенья, Стыдливо-холодна, восторгу моему Едва ответствуешь, не внемлешь ничему…Можно с уверенностью сказать, что все эти десять «м» и девять «л» подобраны поэтом не случайно, но и не искусственно, не преднамеренно.
Это не бальмонтовские стихи, вроде:
Чуждый чарам черный челн…Музыкальной основой этих пушкинских аллитераций было, вероятнее всего, слово «милый» («милее»), с которого начинается приведенный здесь отрывок стихотворения, столь богатый звуками «м» и «л».
Простой и нежный эпитет «милый» привлекал поэта не только своей мелодической прелестью, но и тем глубоким и чудесным значением, которое придал этому ласкающему слову создавший его народ.
Тогда изгнаньем и могилой, Несчастный! будешь ты готов Купить хоть слово девы милой, Хоть легкий шум ее шагов.В различных стихах Пушкина слово это звучит в самых разнообразных интонациях и оттенках.
…Она мила, скажу меж нами, Придворных витязей гроза… …В последний раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать… …Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе… …И навестим поля пустые, Леса, недавно столь густые, И берег, милый для меня…Таким образом, есть основания предполагать, что именно слово «милый» подсказало Пушкину все эти «м» и «л» в цитированном нами лирическом отрывке («О, как милее ты, смиренница моя!»).
Слова, в которых есть «м» и «л» («моленья», «внемлешь», «мучительней»), не подобраны поэтом из щегольства.
Проникновенные строки пушкинских стихов меньше всего похожи на рукоделие, на преднамеренный, искусственный подбор звуковых красок.
Поэт настолько строго и сдержанно пользуется теми или иными звукосочетаниями, так называемой «инструментовкой». что многие чтецы, декламирующие его стихи, даже и не замечают преобладающих в том или ином стихотворении звуков.
Читая «Графа Нулина», известные опытные актеры так мало обращали внимания на совершенно явную и очевидную неслучайность повторения звука «л» в лирическом отступлении поэмы.
Это «л» — то мягкое, звучное «ль», то более твердое и глухое «л» — как бы врывается в стих вместе с долгожданным колокольчиком, о котором говорится в поэме.
Казалось, снег идти хотел… Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, Друзья, тот, верно, знает сам, Как сильно колокольчик дальный Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой?.. Уж не она ли?.. Боже мой! Вот ближе, ближе… сердце бьется… Но мимо, мимо звук несется, Слабей… и смолкнул за горой.Это, несомненно, тот самый колокольчик, которого поэт так нетерпеливо ждал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачужке».
Громко, заливисто звенит колокольчик в строке, где мягкое «л» повторяется трижды:
Как сильно колокольчик дальный…И совсем слабо, глухо, как-то отдаленно звучат последние «л» в заключительной строчке лирического отступления:
Слабей… и смолкнул за горой.Если чтеца не волнует, не ударяет по сердцу строчка «Как сильно колокольчик дальный…», — то это говорит о его глухоте, о его равнодушии к слову. Для такого исполнителя стихов слово только служебный термин, лишенный образа и звуковой окраски.
К сожалению, людей, воспринимающих слово как служебный термин, немало среди чтецов, да и среди литераторов.
Народ — простой, близкий к природе — умеет говорить звучно и образно. Он ценит и чувствует, иной раз даже сам того не сознавая, — звуковую окраску слова. Это видно по народным песням, сказкам, пословицам, поговоркам, прибауткам, частушкам. Устная народная речь звучна, свежа, богата.
Об одном стихотворении
Мы хорошо помним, что все настойчивые попытки Сальери «музыку разъять, как труп», и «поверить алгеброй гармонию» оказались бесплодными.
Произведение искусства не поддается скальпелю анатома. Рассеченное на части, оно превращается в безжизненную и бесцветную ткань. Для того чтобы понять, «чтó внутри», как выражаются дети, нет никакой необходимости нарушать цельность художественного произведения. Надо только поглубже вглядеться в него, не давая воли рукам.
Чем пристальнее будет ваш взгляд, тем вернее уловите вы и смысл, и поэтическую прелесть стихов.
С детства я знал наизусть стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Лет в двенадцать — тринадцать я бесконечное число раз повторял его и любил до слез. Но, перечитывая эти стихи теперь, на старости лет, я как будто заново открываю их для себя, и от этого они становятся еще загадочнее и поэтичнее.
Только сейчас я замечаю, как чудесно соответствуют ритму нашего дыхания сосредоточенные, неторопливые строки с теми равномерными паузами внутри стиха, которые позволяют нам дышать легко и свободно.
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит.Читая две последние строчки этого четверостишия, вы спокойно переводите дыхание, будто наполняя легкие свежим и чистым вечерним воздухом.
Но ведь об этом-то ровном, безмятежном дыхании и говорится в предпоследней строфе:
…Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь…В сущности, дышит не только одна эта строфа, но и все стихотворение. И все оно поет. Как в песне, в этих стихах одна строфа подхватывает последние слова другой, предыдущей строфы.
За стихом:
Жду ль чего? Жалею ли о чем?… —следует:
Уж не жду от жизни ничего я…После строфы, кончающейся словами:
Я б хотел забыться и заснуть! —следуют слова:
Но не тем холодным сном могилы…Эта неразрывная песенная вязь как бы подготавливает читателя или слушателя к тем заключительным строчкам стихов, где уже и в самом деле слышится пение:
…Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел…Так органично связаны воедино поэтическое содержание и стихотворная форма. Размер, ритм, аллитерации, рифмы, цезура служат одной музыкальной и смысловой теме. Все это — как бы «косвенные улики», вещественные доказательства, подтверждающие наличие подлинных мыслей и чувств у поэта и позволяющие отличить автора-свидетеля от автора-лжесвидетеля.
Стихотворение кончается словами:
Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел…И долго после того, как закроешь книгу, слышишь этот шум ветвей. Последняя строчка лирических стихов — на самом деле не последняя: она оставляет за собой, как эхо, долгий гул — след отзвучавшей музыки.
Стихи, о которых идет здесь речь, научили меня в юности любить лирическую поэзию. На склоне лет я отнюдь не собирался и не собираюсь подвергать их разбору. Я хотел только поблагодарить поэта.
Искусство поэтического портрета
«Перевод, переводить, переводчик» — как мало, в сущности, соответствуют эти общепринятые, узаконенные обычаем слова тому содержанию, которое мы вкладываем в понятие художественного, поэтического перевода.
Мы переводим стрелки часов, переводим поезд с одного пути на другой, переводим по почте или по телеграфу деньги.
В слове «перевод» мы ощущаем нечто техническое, а не творческое. Пожалуй, оно вполне оправдывает себя в тех случаях, когда относится к переводу документа, письма или устной речи с одного языка на другой.
Иное дело — художественный перевод, немыслимый без затраты душевных сил, без воображения, интуиции, — словом, без всего того, что необходимо для творчества.
А между тем и нотариальный перевод, скрепленный печатью « с подлинным верно», и перевод «Божественной Комедии» Данте определяются одним и тем же термином, несколько суховатым и в известной мере принижающим достоинство этого литературного жанра.
Кстати, и самое слово «перевод» — переводное.
Но дело не в терминах. Пусть это искусство называется каким угодно словом, лишь бы только и переводчики и читатели представляли себе с достаточной ясностью всю сложность и трудность мастерства, которое призвано воспроизводить на другом языке сокровенные мысли, образы, тончайшие оттенки чувств, уже нашедшие свое предельно точное выражение в языке подлинника.
Мы знаем, что даже замена одного слова другим в стихах или в художественной прозе весьма существенна. В переводе же не одно, а все слова заменяются другими, да еще принадлежащими иной языковой системе, которая отличается своей особой структурой речи, своими бесчисленными причудами и прихотями.
Когда-то академик А. Ф. Кони, говоря о том, какое значение имеет порядок, в котором расположены слова, и как меняется смысл и характер фразы от их перемещения, подтвердил свою мысль замечательным примером перестановки двух слов:
«Кровь с молоком» — и «молоко с кровью».
А ведь словесный порядок всегда изменяется при переводе на другой язык, подчиненный своему синтаксису. Да и сами-то слова приблизительно одного значения существенно отличаются в разных языках своими оттенками.
Таким образом, у неосторожного переводчика всегда может получиться «молоко с кровью».
Чтобы избежать этого, необходимо знание чужого языка и, пожалуй, еще более основательное знание своего. Надо так глубоко чувствовать природу родного языка, чтобы не поддаться чужому, не попасть к нему в рабство. И в то же время русский перевод с французского языка должен заметно отличаться стилем и колоритом от русского перевода с английского, эстонского или китайского.
При переводе стихов надо знать, чем жертвовать, если слова чужого языка окажутся короче слов своего.
Иначе приходится сжимать и калечить фразу.
Так случилось, например, с поэтом Бальмонтом при переводе прекрасного стихотворения Томаса Гуда «Мост вздохов».
Еще несчастливая Устала дышать. Ушла, торопливая, Лежит, чтоб не встать.Это непонятное «еще несчастливая» поставлено здесь вместо «еще одна несчастная», но слово «одна» не влезало в строку, как в переполненный автобус.
По выражению Маяковского, переводчик здесь «нажал и сломал».
Еще более похож на «молоко с кровью» перевод гетевского стихотворения «Паж и мельничиха», сделанный когда-то Фетом.
Паж
Куда ж ты прочь? Ты мельника дочь, — А звать-то как?Дочь мельника
Лизой.Паж
Куда же? Куда? И грабли в руке!Дочь мельника
К отцу, налегке, В долину ту, книзу.Паж
Одна и идешь?Дочь мельника
Сбор сена хорош, Так грабли несу я; А там же, в саду, Я спелые груши найду, И их соберу я.Из-за тесноты стихотворного размера простой и толковый вопрос: «Куда ты идешь?» — превратился в очень невразумительную фразу: «Куда ж ты прочь?» — и весь диалог стал похож на разговор двух глухих.
Фет был замечательным русским поэтом и прекрасно переводил древних поэтов. Талантливым лириком — да и переводчиком — был Константин Бальмонт. Но, очевидно, в приведенных выше примерах оба они нечаянно впали в инерцию механического перевода, и стихотворный размер подлинника оказался у них «прокрустовым ложем», искалечившим заодно и переводимые стихи, и русский синтаксис.
Есть старая и вполне справедливая поговорка: «Мыслям должно быть просторно, а словам тесно». Она означает, что мысль в художественном произведении должна быть большая, а слов — возможно меньше.
Однако печальные примеры неудачных стихотворных переводов, отнюдь не опровергая старой поговорки, учат нас, что и словам не должно быть в стихах слишком тесно. Нужен простор, чтобы слова не комкались, не слипались, нарушая благозвучие и здравый смысл, чтобы не терялась живая и естественная интонация и чтобы в строчках оставалось место даже для пауз, столь необходимых лирическим стихам, да и нашему дыханию.
Но дело не только в технике перевода.
Высокая традиция русского переводческого искусства всегда была чужда сухого и педантичного буквализма.
Любопытно, что впервые предостерег российских переводчиков от стремления к рабской точности Петр Первый. В своем указе Никите Зотову о том, каких ошибок следует избегать при переводе иностранных книг, он говорит:
«…не надлежит речь от речи хранить в переводе, но точию, сенс выразумев, на своем языке так писать, как внятнее может быть».
В этом указе, подписанном в г. Воронеже, в 25-й день февраля 1709 года, с необыкновенной простотой, суровостью и лаконизмом выражено основное правило переводческой работы: выразумев сенс — смысл, суть — писать на своем языке как можно внятнее.
Петровский указ имел в виду перевод книг по фортификации. Однако в не меньшей степени относится он к художественному переводу в прозе или в стихах.
Обращаясь к переводчику, Сумароков писал («О русском языке»):
…Хотя перед тобой в три пуда лексикон, Не мни, чтоб помощь дал тебе велику он. Коль речи и слова поставишь без порядка. И будет перевод твой некая загадка, Которую никто не отгадает ввек, То даром, что слова все точно ты нарек, Не то, творцов мне дух яви и силу точно…Но, пожалуй, короче и лучше всех сказал о ложной точности Пушкин в своем отзыве на перевод «Потерянного Рая», сделанный Шатобрианом:
«Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона слово в слово, Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем преложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен».
Главный недостаток Шатобрианова перевода — буквальность, не способную передать поэтический смысл и выразительность подлинника, — Пушкин объясняет тем, что труд этот «есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пищущего поколения… Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба…»
Что ж, говоря по совести, литераторы нередко занимались переводами ради заработка.
Но если вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они — дети любви, а не брака по расчету, что нельзя было в свое время и придумать лучшего переводчика для «Илиады», чем Гнедич, лучшего переводчика для «Одиссеи», чем Жуковский, лучшего переводчика для песен Беранже, чем Курочкин.
Вы обнаружите, что перевод трилогии Данте был жизненным подвигом Дмитрия Мина и Михаила Лозинского, а переводы из Гейне — подвигом Михаила Илларионовича Михайлова.
Вы увидите, какое место занимает в поэтическом хозяйстве Бунина «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Каин» Байрона и «Леди Годива» Теннисона. Вы поймете, что значил «Фауст» Гете для Пастернака, Уолт Уитмен для К. Чуковского, Ронсар для Левика, Сервантес и Рабле для Любимова.
Перевод замечательных стихов или прозы является важным событием — этапом в жизни литературы и авторов перевода.
Однако у нас еще нередки случаи, когда издательства затевают и осуществляют в довольно короткий срок полное или чуть ли не полное собрание сочинений какого-нибудь иностранного поэта-классика или современного поэта, только отчасти пользуясь отбором уже существующих переводов, но главным образом рассчитывая на заказ новых. В результате чаще всего появляются более или менее грамотные, но весьма посредственные переводы, бессильные передать прелесть, своеобразие и величие подлинника.
И это не мудрено. Истинно поэтические переводы надо копить, а не фабриковать. Изготовить за год или за два новое полное собрание сочинений Шелли, Гейне, Мицкевича, Теннисона или Роберта Браунинга, так же невозможно, как поручить современному поэту написать за два или даже за три года полное собрание сочинений.
Ведь стихи выдающихся поэтов переводятся для того, чтобы читатели не только познакомились с приблизительным содержанием их поэзии, но и надолго по-настоящему полюбили ее.
Переведенные с английского, французского, немецкого или итальянского языка стихи должны быть настолько хороши, чтобы войти в русскую поэзию, как вошли «Сосна» и «Горные вершины» Лермонтова, «Бог и баядера» и «Коринфская невеста» Алексея Толстого, «Ворон к ворону летит…» Пушкина, «Не бил барабан перед смутным полком…» Ивана Козлова, «Суд в подземелье», «Торжество победителей», «Ночной смотр» и «Кубок» Жуковского.
Где же и быть этим замечательным стихотворным переводам, как не в сокровищнице русской поэзии? Ведь нельзя же их причислить к английской или немецкой.
«Песнь о Гайавате» Ивана Бунина, конечно, представляет собою перевод поэмы Генри Лонгфелло, но она в то же время и выдающееся произведение нашей поэзии.
Русский поэтический язык, которым в таком совершенстве владел Бунин, придал его «Гайавате» новую свежесть, новое очарование.
Такое совершенство перевода достигается не только размерами таланта и силою мастерства.
Надо было знать и любить природу, как Бунин, чтобы создать поэтический перевод «Гайаваты». Одного знания английского текста было для этого недостаточно.
Переводчику так же необходим жизненный опыт, как и всякому другому писателю.
Без связи с реальностью, без глубоких и пристальных наблюдений над жизнью, без мировоззрения в самом большом смысле этого слова, без изучения языка и разных оттенков устного говора невозможна творческая работа поэта-переводчика. Чтобы по-настоящему, не одной только головой, но и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гете и Данте, надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств. В противном случае переводчик обречен на рабское, лишенное всякого воображения копирование, а это ведет к переводческой абракадабре или, в лучшем случае, к фабрикации рифмованных или нерифмованных подстрочников.
Настоящий художественный перевод можно сравнить не с фотографией, а с портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистичной, но она не пережита ее автором.
Чем глубже и пристальнее вникает художник в сущность изображаемого, тем свободнее его мастерство, тем точнее изображение. Точность получается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэтическая точность дается только смелому воображению, основанному на глубоком и пристальном знании предмета.
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ (страницы воспоминаний)
В этих записках о годах моего детства и ранней юности нет вымысла, но есть известная доля обобщения, без которого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах. Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Изменены и кое-какие фамилии.
С. М.Времена незапамяьные
В начале жизни школу помню я…
А. Пушкин
Семьдесят лет — немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны.
А за те семь десятков лет, которые протекли со времени моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на свете по меньшей мере лет семьсот.
Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того, чтобы увидеть ее начало — время детства, — приходится долго и напряженно всматриваться в даль.
Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригородная слобода Чижовка, мыловаренный завод братьев Михайловых. При заводе, на котором работал отец, — дом, где я родился.
Собственно говоря, никаких «братьев Михайловых» мы и в глаза не видели, а знали только одного хозяина — флегматичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича Михайлова и его сына — воспитанника кадетского корпуса в коротком мундирчике с белым поясом и красными погонами.
Годы, когда отец служил на заводе под Воронежом, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи. Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гете в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.
Однако мечты эти так и не сбылись.
У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на бóльшее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей.
Немногие оказались бы в силах так решительно и круто повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней молодости.
Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко — где-то в Золотоноше или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.
Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу.
Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод.
И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы.
Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но самолюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав мешал ему уживаться с хозяевами в поддевках и сапогах бутылками — людьми невежественными, но требовавшими от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ладил отец и с властями предержащими.
Был у него в молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.
Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира.
С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь, — это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него «право жительства» вне «черты оседлости», где евреям разрешалось тогда селиться.
В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.
Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам…
Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы представляли себе — вместо того, незнакомого, — нашего воронежского пристава, большого, статного с полукружиями белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружинах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакированных сапогах.
И вот такой-то пристав кубарем катился по всем ступенькам, гремя шашкой и медными задниками калош. Об одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом…
Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обрушились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода не съездил к губернатору, с которым частенько играл в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.
Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе — иначе хозяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а скорей всего предоставил бы строптивого мастера его судьбе.
Однако через некоторое время он предпочел расстаться с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выведать у него кое-какие из его профессиональных секретов.
_____
На заводе «братьев Михайловых» отец не чувствовал над собой — особенно в первые годы — хозяйской руки. Был он в это время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать наша, не отличавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода простиралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досуга, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.
Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих родителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго. Правда, отца я и в более поздние годы помню сильным, широкоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и маленькая острая бородка поседели задолго до старости. Только густые, черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх, ни за что не хотели поддаваться седине.
Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воронежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удивленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряженного внимания.
Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а побледневшую от времени фотографическую карточку, на которой она казалась такой юной и миловидной в скромной кофточке с модными тогда «буфами» на плечах. Волосы ее, коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти, и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Под фотографией значилась фамилия московского фотографа.
Это была память о тех праздничных месяцах, которые мать провела до замужества в гостях у сестры и брата в Москве. Там-то она и встретилась с моим отцом. Покинув строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске, она впервые попала в столицу, в круг молодых людей — друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страстные студенческие споры о политике, о религии, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом.
«Давида Копперфильда» она и отец читали вслух по очереди.
Московские друзья брата приняли ее в свой кружок как свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.
Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.
Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о московских «старых» студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного, которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: «Дýшман». Я был тогда совершенно уверен, что это не зря.
Воронежские знакомые моих родителей были людьми совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные, они изредка приезжали к нам из города отдохнуть и пообедать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, детей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет, деремся ли мы друг с другом и кого больше любим — папу или маму.
Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров, мы выбегали во двор и любовались лошадьми, которые ожидали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбы с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и помахивали хвостами, а мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у них лошади или горячие и можно ли покормить их с ладони хлебом.
Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и он всегда оказывался лучше всех.
Это был молодой, норовистый конь, которого хозяин завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы далеко от города.
Ворончиком назвали его, вероятно, потому, что шерсть у него была черная и лоснистая, как вороново крыло, но для меня эта кличка была больше связана с именем города. Ворончик — воронежский конь.
Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика запрягали в легкие, узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой брат, который был на два года старше меня, не упускали случая полюбоваться рослым, статным, огнеглазым Ворончиком, когда он легко и весело выносил дрожки из распахнутых ворот. А как гордились мы отцом, который спокойно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого коня.
Я был еще очень мал в это время — и поэтому Ворончик навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным конем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал голову или подымался на дыбы, пытаясь освободиться от стеснявшей его упряжи.
Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаивался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его, ласково приговаривая: «Ну, не шали, не шали, малый!»
Но «малый» был не прочь пошалить. Однажды он чуть не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин завода и кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он задерживался там дольше обычного.
Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над площадью по канату.
В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты.
У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра. Весь мир преобразился от этих мерных и властных звуков, которые вылетали из блестящих, широкогорлых, витых и гнутых труб. Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.
Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется… Но вдруг оркестр умолк, и сад опять наполнился обычным, будничным шумом. Все вокруг потускнело — будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко — на весь городской сад:
— Музыка, играй!
Солдаты, продувавшие свои трубы, разом обернулись в мою сторону. А человек, стоявший перед маленьким столиком, прикрепленным к подставке, постучал по краю столика тоненькой палочкой и что-то сказал музыкантам.
Оркестр заиграл еще веселее. Снова солнце выглянуло из-за тучи.
После этого памятного дня я долго упрашивал мать повезти нас еще раз в городской сад.
Но в город повезли не меня, а старшего брата. И не в городской сад, а в больницу. Брат заболел скарлатиной.
До того мы с ним почти всегда болели вместе, и это нам даже нравилось. Мы переговаривались друг с другом или играли в какую-нибудь игру, лежа, сидя, а иногда и стоя в кроватках. Лечить нас приезжал из города щеголеватый военный доктор, фамилия которого была Чириковéр.
Я любовался его блестящей формой, его военной выправкой.
Самая фамилия доктора казалась мне звонкой, боевой. «Чириковéр» — в этих звуках слышалось треньканье шпор, как и в нарядном слове «офицер».
К словам — даже к именам и фамилиям — дети относятся гораздо серьезнее и доверчивее, чем взрослые. В любом сочетании звуков они предполагают какую-то закономерность. Слова для них неотделимы от значения, а значение — от образа.
Но брата лечили в городе какие-то неизвестные мне доктора без фамилий — и потому я никак не мог представить их себе.
Мать осталась с братом в городе на все время его болезни.
Помню нашу опустевшую квартиру. Отец работает в небольшой комнате за письменным столом у окна, а я, притаившись в углу, перебираю какие-то вещички — чурки, гвоздики, винтики, пустые коробочки.
Вот этот гвоздик лучше всех — он еще совсем новенький, блестящий, с широкой шляпкой, похожей на солдатскую фуражку. Как он, должно быть, понравится брату! Если играть в войну, такой замечательный гвоздик может быть у нас самым храбрым солдатом или даже офицером.
Отец слышит мое бормотанье, оборачивается и спрашивает, что я делаю. Узнав, что я собираю игрушки к приезду брата, он хвалит меня — ласково и щедро, как умеет хвалить только отец.
После этого я и в самом деле чувствую себя «хорошим мальчиком» и уже ничего не жалею для брата. Я готов отдать ему все свои игрушки — даже граненое цветное стеклышко, даже тяжелую, широкую подкову, которую нашел за воротами.
Признаться, я очень редко бывал «хорошим мальчиком». То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал абажур от лампы или банку с вареньем. В раннем детстве я не ходил, а только бегал — да так стремительно, что все хрупкие, бьющиеся вещи как будто сами подворачивались мне под руки и под ноги. Был у меня на совести еще один грех: часто, потихоньку от матери, я убегал обедать к рабочим, которые угощали меня серой квашеной капустой и солониной «с душком», заготовленной на зиму хозяевами.
Впрочем, наведывался я к ним не только ради этого лакомого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили цигарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне понятными словами. Помню одного из них — огромного, чернобородого, с густыми сросшимися бровями и серебряной серьгой в ухе. Он мне «показывал Москву» — сажал к себе на ладонь и поднимал чуть ли не до самого потолка. Говорил этот великан хриплым басом, заглушая все другие голоса, и каждое его словцо вызывало взрыв дружного хохота.
Я был слишком мал, чтобы разобрать, о чем шла речь, но хохотал вместе со всеми.
С такой же готовностью делил я с ними и обед. Они похваливали меня, говорили, что я «енарал Бородин — на всю губернию один», а я уплетал солонину, виновато поглядывая на дверь, — не застигнет ли меня на месте преступления кто-нибудь из моих домашних.
Почему-то я думал в то время, что человеческая душа находится где-то в животе и похожа на маленькую муфту. Сначала душа у всех золотая, а потом понемногу чернеет от грехов.
И я был глубоко убежден, что у старшего моего брата нет на душе ни единого пятнышка, а моя душа-муфта давно уж черным-черна от всего, что я натворил на своем веку…
Впрочем, тогда я еще редко отчитывался перед своей совестью.
_____
Как ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, до раннего детства почти невозможно.
Два-три эпизода, отдельные минуты, выхваченные из мрака, — вот и все, что остается от прожитых нами первых лет.
Отчего же мы так плохо помним свои младенческие годы? Оттого ли, что они были очень давно и заслонены последующими десятилетиями? Но ведь обычно память прочнее удерживает впечатления далекого прошлого, чем отпечатки наших недавних, но уже поздних дней.
А может быть, мы не помним своих первых лет просто потому, что были в эти годы слишком глупы, ничего не видели, не замечали, не понимали?
Нет, всякий, кому приходилось наблюдать ребят двух-трех лет, — я уж и не говорю о четырехлетних, — знает, как они приметливы, сообразительны, догадливы, сколько у них сложных чувств и переживаний.
В сущности, в первые годы детства человек проходит самый трудный из своих университетов. Школьники изучают языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает всю речевую премудрость — по крайней мере, настолько, чтобы довольно бегло и правильно говорить, — к двум годам. Он изучает язык без посредства другого — знакомого — языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти первые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Самые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни кажутся ему событиями огромной важности.
Так почему же все-таки эти события, глубоко поразившие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и случайно удерживаются в его памяти?
Я думаю, это происходит оттого, что ребенок отдается всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно, без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, которая возникает у него в сознании в более позднем возрасте. Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком событий и впечатлений, он не запоминает себя, как «не помнит себя» человек в состоянии запальчивости или головокружительного увлечения.
_____
Вот почему, должно быть, мое воронежское детство оставило у меня в памяти только очень немногое, только самое яркое и необычное: первую в жизни музыку, первую разлуку с братом, первый пожар, окрасивший багровым заревом завешенное на ночь окно.
Помню первого увиденного мною в жизни вора, молодого конторщика, который попался на заводе в какой-то мелкой краже. Его не арестовали, не отдали под суд, а только уличили и с позором прогнали с завода. Никогда не забуду, с каким интересом смотрел я издали на этого стриженого, рябоватого молодого человека, который, нахохлившись, сидел у стола в ожидании попутной лошади. В нем не было ничего особенного, но каким загадочным и необыкновенным сделало его в моих глазах страшное слово «вор»… Вор! Мне казалось, что только у воров бывают такие помятые парусиновые штаны и куртки, такие крупные рябины на щеках, такие красные подбритые затылки.
Еще более ясно и четко припоминаю гостивших у нас на заводе хозяйских племянников — двух больших мальчиков в круглых шапочках с лентами, в белых блузах с откидными матросскими воротниками и якорями на рукавах. Впрочем, большими эти мальчики казались только мне и брату, а на самом деле старшему из них было, по словам моей матери, не больше одиннадцати — двенадцати лет, младшему — лет девять.
В одном из дальних закоулков заводского двора мы строили с ними настоящий завод, чтобы варить настоящее мыло. Раздобыли у рабочих все, что для этого требуется: несколько больших кусков белого, но не слишком свежего бараньего сала, от запаха которого у меня подступала к горлу тошнота, банку едкого щелока, немножко силиката. Оставалось только устроить топку и вмазать над ней в глину старый, ржавый котелок, который мы нашли на дворе среди груды железного хлама.
Гордые тем, что эти нарядные городские мальчики, несмотря на разницу лет, играют с нами, как с равными, мы трудились, не жалея сил.
А так как приезжие ребята боялись испачкать свои новенькие матроски, то всю черную грязную работу они поручили мне с братом. Мы укладывали кирпичи, месили глину. Сначала нам это очень нравилось, но скоро мы оба устали и проголодались.
Вытирая рукавом лоб, брат робко и тихо сказал мальчикам, что дома у нас сейчас завтракают… Но старший из них, рыжий, с веснушками на носу, возмутился. «Подумаешь — завтракают!.. Да как же это можно бросать дело на середине? Если так, то уж лучше было бы и не начинать совсем!»
Когда топка была наконец готова, мальчики велели нам набрать щепок и хворосту и попробовать развести огонь. Но сколько мы ни старались, как ни дули в топку, присев перед ней на корточки, огонь не разгорался. Рыжий послал моего брата на завод за керосином, а мне велел раздобыть еще растопки.
За собой он оставил только самое приятное дело: зажигать спички, которых у него было более чем достаточно — целых два коробка!
Наконец из топки клубами повалил черный дым, щепки и хворост затрещали.
Мы думали, что уж теперь-то мальчики отпустят нас домой. Но рыжий только руками замахал.
— Вон чего выдумали! Пока огонь горит, самое время варить мыло. Маленькие вы, что ли? Такого простого дела не понимаете? А еще заводские!..
Нам стало совестно, и мы снова взялись за работу. Вывалили из мешка в котел сало, вылили из жестянки щелок и присели отдохнуть. Рабочие-то ведь тоже отдыхают. Цигарки сворачивают, курят…
— Помешивать, помешивать надо, а то пригорит! — не переставая подгонял нас рыжий.
Но тут огонь опять погас. Пришлось снова дуть, подкладывать растопку, поливать щепки керосином.
Я поглядел на брата и ужаснулся. Он был весь — с головы до ног — в глине и копоти. Даже на ресницах у него была глина. За версту от него несло керосином и отвратительным до тошноты, протухшим бараньим салом.
Верно, я тоже был хорош в эту минуту, но себя я не видел и только чувствовал, что от усталости у меня подгибаются коленки, а от дыма болят и слезятся глаза.
У нас уже не было никакой охоты варить мыло, — так осточертела нам эта игра. Но все-таки мы продолжали работать без передышки и даже больше не заговаривали о том, что нас ждут дома к завтраку. Да уж какой там завтрак! Мы пропустили и обед. Наверно, домашние беспокоятся о нас, ищут на заводе и по всему двору.
Где-то вдали прогрохотал гром. Приближалась гроза, а мы все еще возились с топкой.
Не то чтобы мы очень боялись приезжих мальчишек в матросских костюмчиках. Силой они не могли бы удержать нас на работе. Но обоих нас как бы приковали к месту слова рыжего о том, что нельзя же бросать работу на середине, что если так, то уж лучше было бы и не начинать.
Я едва удерживался от слез. У брата тоже кривился рот. Но плакать на глазах у этих больших мальчиков было бы слишком позорно.
И все же мы дали волю слезам, когда нас наконец разыскала мама. Мы бросились к ней с громким ревом, но она в ужасе отшатнулась от нас.
— Что это вы делали? — спросила она.
— Завод строили, а потом варили…
— Варили?.. Что варили?
— Мы-ы-ыло!
— Но как можно было так измазаться? Ведь вот мальчики тоже играли с вами, а почти совсем не выпачкались…
Ни я, ни брат ничего не ответили маме. Мы плакали навзрыд не то от обиды, не то от радости, что наконец-то нас освободили из плена.
Мне шел в это время пятый год, брату седьмой, но нам на всю жизнь запомнился день, когда мы варили мыло.
А еще — где-то в самой глубине памяти — осталась у меня первая дальняя поездка на лошадях.
Гулкие, размеренные удары копыт по длинному-длинному деревянному мосту.
Мама говорит, что под нами река Дон.
«Дон, дон», — звонко стучат копыта. Мы едем гостить в деревню. Въезжаем на крестьянский двор, когда тонкий серп месяца уже высоко стоит в светлом вечереющем небе. Смутно помню запах сена, горьковатого дыма и кислого хлеба. Сонного меня снимают с телеги, треплют, целуют и поят топленым молоком с коричневой пенкой из широкой глиняной крынки, шершавой снаружи и блестящей внутри…
Старый дом в старом городе
Не знаю, что побудило отца покинуть завод братьев Михайловых и Воронеж. Но только помню, что с тех пор началась у нас полоса неудач и непрерывных скитаний.
Почти полгода после отъезда нашего из Воронежа прожили мы у дедушки и бабушки в городе Витебске. Приехали мы туда вчетвером: мама, я, брат и маленькая сестренка, только что научившаяся говорить и ходить. Отца с нами не было — он странствовал где-то в поисках работы.
Я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить разницу между Воронежем, где я родился и провел первые свои годы, и этим еще незнакомым городом, в котором жили мамины родители. Но все-таки с первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то другое, особенное: больше старых домов, много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни и церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестяников, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали.
Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хоть это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел.
Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я припоминаю с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни старалась мама урезонить и утихомирить нас. Труднее всего было ей справиться со мной. Я так привык к простору нашей воронежской полупустой квартиры, что и здесь, в этих небольших, загроможденных тяжеловесной мебелью и старинными книгами комнатах, пробовал разбежаться во всю прыть, налетая при этом на кресла, этажерки и тумбочки или вскакивая со всего разгона на старый диван, который покорно подбрасывал меня, хоть и стонал подо мной всеми своими дряхлыми пружинами.
Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаянье — особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в послеобеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потревожить дедушку было не так уж страшно: за все время нашего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но свободно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда она куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хозяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с которыми она почти никогда не расставалась.
Наш приезд заставил потесниться всех обитателей старого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые были старше ее, давно уже покинули родительский кров и успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока оставались дома. Их было трое: двое моих дядюшек, еще не вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то время в гимназии. Мы запросто называли их всех по именам, без добавления почтительного слова «дядя» или «тетя». Да они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их так величать.
Дядюшки мои готовились к каким-то экзаменам, но особенного рвения к наукам не проявляли. Зато у старшего из них — красивого, сильного юноши с голубыми глазами, мягким голосом и мягкими усиками — было множество разнообразных способностей и увлечений: он мастерил замечательные шкатулки, выпиливал рамки для портретов, играл на трубе и — что поражало меня больше всего — умел никелировать самовары. На моих глазах красный медный самовар становился зеркально-серебряным, и это казалось мне не меньшим чудом, чем сказочное превращение лягушки в принцессу или частого гребешка в лесную чащу.
Я считал своего дядюшку настоящим волшебником, но скоро убедился, что бывают случаи, когда и ему не под силу сотворить чудо.
В дедушкином доме была одна комната, не слишком большая, которая торжественно именовалась «гостиной». Она была тесно уставлена уже порядком поблекшей и потертой плюшевой мебелью. Но главным ее украшением были два совершенно одинаковых узких зеркала, почти доходивших до потолка. Привязанные к железным крюкам в стене веревками, они были слегка наклонены вперед, и от этого отраженная в них комната со всей мебелью как бы уходила куда-то вверх. Мне это очень нравилось: опрокинутая в зеркало гостиная казалась гораздо красивее и таинственнее.
Но скоро я придумал, как сделать, чтобы отражение стало еще интересней.
У каждого зеркала был подзеркальник — полочка из черного дерева вроде столика — с выгнутыми резными подпорками, которые старый столяр, чинивший дедушкину мебель, называл «кронштейнами».
Однажды, когда никого не было в комнате, я ухватился за эти подпорки обеими руками и стал раскачивать зеркало, то прижимая его вплотную к стене, то откидываясь вместе с ним на всю длину веревки.
Оказалось, что на зеркале можно отлично качаться, как на качелях. Да нет, куда занятнее, чем на качелях! Вы раскачиваетесь все быстрее и быстрее, а перед вашими глазами мелькают в зеркале самые разнообразные вещи: висячая лампа со всеми своими блестящими подвесками, кресла, стол с лиловой плюшевой скатертью, бисерная подушка на диване, портрет какого-то старика в раме под стеклом на противоположной стене.
И вдруг все это понеслось куда-то кувырком. Я лечу вместе с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стукается над самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, который мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза от града осколков.
Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать, чтó я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный свод с его светилами, я не чувствовал бы себя более несчастным и виноватым.
Вбежавшие в комнату родные — мама, бабушка, дедушка — не сразу обнаружили меня. Когда же они поняли, что я лежу среди груды осколков под тяжелой рамой разбитого зеркала — и при этом лежу совершенно неподвижно, молча, не плачу, не зову на помощь — они так и замерли от ужаса. Медленно и осторожно приподняли раму и все втроем наклонились надо мной.
— Жив! — сказала мама и заплакала. Она подхватила меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.
И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать нескольких царапин от мелких осколков.
Все до того обрадовались, что не только не стали бранить меня, а бросились обнимать, целовать, расспрашивать, не ушибся ли я и не очень ли испугался.
Никому и в голову не пришло наказать меня за мое преступление. А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы я за него как-нибудь поплатился. С грустью смотрел я на осиротевшее второе зеркало, оставшееся таким одиноким в своем простенке.
В глубине души я еще лелеял надежду, что мой дядя, который так ловко превращает медные самовары в серебряные, как-нибудь соберет и склеит все осколки, а потом ловко покроет их своим самоварным серебром.
Но оказалось, что даже и его ловкие руки тут ничего не могут поделать. Правда, он смастерил из самых крупных осколков несколько маленьких зеркал в рамках и без рамок, но все они вместе не могли заменить то большое, которое я разбил.
Так и осталось навсегда в доме у дедушки и бабушки вместо двух парных зеркал одно, как у инвалида остается одна рука или одна нога.
И, вероятно, заходя в свою маленькую гостиную и глядя на это уцелевшее зеркало, старики не раз вспоминали шального, непоседливого внука.
_____
Несколько дней в доме только и было разговору, что о гибели зеркала и о моем чудесном спасении. Потом об этом происшествии перестали говорить. Однако с той поры не только я, но и мама и брат ясно почувствовали, что мы слишком загостились у дедушки и бабушки. Прямо нам этого никто не говорил, но бабушка все чаще и чаще заводила с мамой разговор о том, что наш папа не умеет устраиваться, что он строит воздушные зáмки и мало думает о семье. Я видел, что маму такие разговоры огорчают, и очень сердился на бабушку.
Мне было непонятно, какие такие воздушные замки строит папа, и очень хотелось увидеть хотя бы один из этих воздушных замков. И все же я чувствовал, что в словах бабушки есть что-то обидное для нашего папы. Почему она говорит, что он мало думает о нас? Ведь мама часто получает от него очень толстые письма, в которых он заботливо и нежно расспрашивает о каждом из нас — о брате, обо мне и даже о нашей сестренке, хотя что интересного можно рассказать о ней, когда она еще такая маленькая!
Обычно эти досадные разговоры прерывал дедушка. Он был не охотник до споров и ссор, не хотел перечить бабушке и поэтому, желая утешить маму, только ласково трепал ее по щеке, как маленькую, и примирительно повторял:
— Ну, ну, душенька… Все будет хорошо… Все будет хорошо!
Но тянулись неделя за неделей, месяц за месяцем, а папа так и не приезжал за нами, не вызывал нас к себе и, должно быть, все еще строил свои воздушные замки, — уж не знаю, сколько он их там успел настроить. Наверно, целую тысячу!
Видно было, что нам долго еще придется прожить в Витебске. И вот дедушка, бабушка и мама решили, что больше нельзя терять время зря и пора усадить моего старшего брата за книги. Еще до приезда в Витебск он умел довольно бегло читать и отчетливо выводил буквы. Давать ему уроки вызвалась теперь наша тетушка-гимназистка. Это было для нее совсем нетрудно: ученик относился к делу, пожалуй, с большей серьезностью и усердием, чем его молодая и веселая учительница, которая сразу же прерывала урок, если к ней приходили подруги, или кончала его раньше времени, чтобы примерить новое платье.
Так как во время уроков я постоянно вертелся около стола и не на шутку мешал занятиям, тетушка решила усадить за букварь и меня. И тут вдруг обнаружилось, что я не только знаю буквы, но даже довольно порядочно читаю по складам. Не помню сам, когда и как я этому научился. Младшие братья и сестры часто незаметно для себя и других перенимают у старших начала школьной премудрости.
Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет — древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много.
И в самом деле, новый учитель оказался добрее даже нашей учительницы-тетки. Та могла, рассердившись, стукнуть своим маленьким кулачком по столу или, блеснув серыми, потемневшими от минутного гнева глазами, сдвинуть над переносицей темные пушистые брови.
А этот, видно, и совсем не умел сердиться. Через день приходил он к нам на урок, худой, узкоплечий, с черной курчаво-клочковатой бородкой. Он долго вытирал у входа ноги в побелевших от долгой службы башмаках, ставил в угол палку с загнутой в виде большого крюка ручкой и, покашливая в кулак, шел вслед за нами в комнаты.
Бабушка, которая ценила в жизни успех и удачу, относилась к нему довольно небрежно. Зато дед встречал его приветливо и уважительно, подробно расспрашивал о здоровье и предлагал закусить с дороги. Но учитель всегда решительно и даже как-то испуганно отказывался, повторяя при этом, что он только что сытно позавтракал.
И правда, мы с братом не раз видели, как завтракает наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на лавочке возле наших ворот и, развязав красный в крупную горошину платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба, одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли в чистой тряпочке.
Не знаю почему, мне было очень грустно смотреть, как он сидит один у наших ворот и, высоко подняв свои костлявые плечи, задумчиво жует хлеб с луком.
В порыве внезапной нежности я встречал его на самом пороге, рассказывал ему все наши новости и даже пытался, хоть и безуспешно, повесить на крюк его старое и почему-то очень тяжелое пальто.
Он ласково гладил меня по голове, и мы шли учиться. Но должен сознаться, что, несмотря на всю свою нежность к нему, уроков я никогда не учил и даже не пытался придумать сколько-нибудь убедительное оправдание для своей лени.
Я попросту рассказывал ему, что готовить уроки мне было некогда: сначала надо было завтракать, потом гулять, потом обедать, потом к бабушке пришли гости и мы все пили чай с вареньем, а потом нас позвали ужинать, а после ужина послали спать…
Слегка прикрыв глаза веками и посмеиваясь в бороду, он терпеливо выслушивал меня и говорил:
— Ну, хорошо, хорошо. Давай будем готовить уроки вместе, пока тебя опять не позвали пить чай с вареньем. Ну, прочитай это слово. Верно! А это? Хорошо! Ну, а теперь оба слова вместе… Совсем даже хорошо. Умница!
И он щедро ставил мне пятерку, а то и пятерку с плюсом.
На прощанье учитель задавал к следующему разу новый урок, должно быть, уже и не надеясь, что я что-нибудь приготовлю.
И он был прав.
Я не слишком отчетливо запомнил то, что мы с ним проходили, хотя учился у него на круглые пятерки. Зато сам он запечатлелся в моей памяти неизгладимо — весь целиком, со всей своей бедностью, терпением и добротой.
Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и позабыть, а эту помню.
Звали его Халамейзер.
_____
И вот наконец мы дождались приезда отца. Так и не устроившись по-настоящему, он забрал нас с собой, и мы начали кочевать вместе. Переезжали из города в город, прожили год с чем-то в Покрове, Владимирской губернии, около года в Бахмуте — ныне Артемовске — и, наконец, снова обосновались в Воронежской губернии, в городе Острогожске, в пригородной слободе, которая называлась Майданом, на заводе Афанасия Ивановича Рязанцева.
Как ни различны были великорусские и украинские города, в которых довелось побывать нашей семье, — окраины этих городов, предместья, пригороды, слободки, где ютилась мастеровщина, были всюду почти одинаковы. Те же широкие, немощеные улицы, густая белая пыль в летние месяцы, непролазная грязь осенью, сугробы до самых окон зимою.
И квартиры наши в любом из таких пригородов были похожи одна на другую: просторные, полупустые, с некрашеными полами и голыми стенами.
Впрочем, мы, ребята, мало обращали внимания на квартиру, где нам приходилось жить. Целые дни мы проводили на дворе, а в комнаты возвращались только к вечеру, когда уже закрывали ставни и зажигали свет.
Почти все детство мое прошло при свете керосиновой лампы — маленькой жестяной, которую обычно вешали на стенку, или большой фарфоровой, сидевшей в бронзовом гнезде, подвешенном цепями к потолку. Лампы чуть слышно мурлыкали. А за окном мигали тусклые фонари. На окраинных улицах их ставили так далеко один от другого, что пешеход, возвращавшийся поздней ночью домой, мог свалиться по дороге от фонаря к фонарю в канаву или стать жертвой ночного грабителя. Фонарям у нас не везло. Мальчишки немилосердно били стекла, а взрослые парни состязались в силе и удали, выворачивая фонарные столбы с комлем из земли. Где-то в столицах уже успели завести, как рассказывали приезжие, газовое и даже электрическое освещение, а в деревнях еще можно было увидеть и лучину.
Это были времена на стыке минувшего и нынешнего века. Прошлое еще жило полной жизнью и как будто не собиралось уступать место новому. Не только старики, но и пожилые люди помнили ту пору, когда они были «господскими». На скамейке у ворот богадельни сидели севастопольские ветераны, увешанные серебряными и бронзовыми медалями, а по городу ходили, постукивая деревяшками, участники боев под Шипкой и Плевной.
Но понемногу, год от году, все гуще становилась паутина железных дорог. Узкие стальные полосы, проходя через леса, болота и степи, сшивали, связывали между собой дальние края и города. От этого менялось представление о пространстве и времени.
Правда, в наших краях железная дорога все еще казалась новинкой. Поезд называли тогда машиной, как теперь называют автомобиль, и о нем пели частушки:
Д'эх, машина-пассажирка, Куда милку утащила? Утащила верст за двести. Мое сердце не на месте. Эх, машина с красным флаком. Как прощались, милой плакал…Много разговоров было в то время о крушениях на железной дороге, и жители наших мест с опаской доверяли свою судьбу поездам. Недаром на станциях, расположенных обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, как провожают солдат на войну, — с плачем, с причитаниями.
Самые усовершенствованные новейшие электровозы никого теперь не удивляют. А как поражали нас, тогдашних ребят, впервые увиденные нами паровозы — черные, закопченные, с высокой трубой и огромными колесами. Они вылетали из-за поворота дороги, как сущие дьяволы, сея искры, оглушая людей пронзительным шипением пара из-под колес, бодро и мерно размахивая шатунами. А вагоны — зеленые, желтые, синие, — постукивая на ходу, манили нас в неизвестные края бессчетными окнами, из которых глядели незнакомые и такие разные, не похожие один на другого, проезжие люди.
Не только поезд, но даже и случайно найденный проездной билет сохранял для нас, мальчишек, все обаяние железной дороги, ее мощи, скорости, деловитости, ее строгого уклада. Зеленые, желтые, синие билеты, плотные и аккуратно обрубленные, напоминали нам своей формой и цветом вагоны — третьего, второго и первого класса. Мы знали, что билеты эти уже использованы и не имеют никакой силы, но цифры, пробитые в них кондукторскими щипцами, только увеличивали для нас их ценность. Бережно хранили мы каждый билет, на котором черными, четкими буковками были обозначены названия станций:
ОСТРОГОЖСК-ЛИСКИ
ВОРОНЕЖ-ГРАФСКАЯ
ХАРЬКОВ-МОСКВА
И почему-то все эти города казались нам куда интереснее и привлекательнее нашего, хоть и наш уездный город представлялся мне чуть ли не столицей по сравнению с пригородной слободой, где не было ни одного двухэтажного дома, если не считать заводских построек.
А заводы в те времена были так неуютны и мрачны, что мне иной раз бывало до боли жаль отца, когда в утренних сумерках он торопливо надевал свое будничное, старое, порыжевшее пальто и отправлялся на работу — в копоть и грязь, в жар и сырость, в лязг и грохот завода.
На Майдане
Первое знакомство с новыми местами всегда было для нас, ребят, праздником. Еще не отдохнув с дороги, мы живо обегáли свои новые владения, открывая то полуразрушенный завод, который может служить нам крепостью, то овраг в конце двора, то большой, кипящий своей сокровенной жизнью муравейник за сараем.
Такую радость открытия испытали мы и на этот раз, приехав в Острогожскую пригородную слободу.
У самого дома начинались луга и рощи. На большом и пустынном дворе было несколько нежилых и запущенных служебных построек с шаткими лестницами и перебитыми стеклами. Из окон верхних этажей с шумом вылетали птицы. Все это было так интересно, так загадочно.
А в конце двора прямо на земле лежали полосатые зелено-черные арбузы и длинные, желтые, покрытые сетчатым узором дыни.
В первый раз увидел я их не на прилавке и не на возу, а на земле. Должно быть, здесь их так много, что девать некуда. Потому-то они и разбросаны у нас по двору.
Я попробовал взять обеими руками самый крупный и тяжелый арбуз, но оказалось, что он крепко держится за землю.
— Мама! — крикнул я во все горло. — Смотри, арбузы валяются!
Но мама не обрадовалась.
— Не трогай, — сказала она, — это чужие!
— Да ведь двор-то теперь наш!
— Двор наш, а дыни и арбузы не наши.
В тот же день за воротами меня и брата окружила целая орава мальчишек, которые сразу же принялись нас дразнить.
— Где вы живете? — спросил я одного из них.
— Где живете? У черта на болоте! — ответил косоглазый мальчишка и показал мне язык. Другие засмеялись.
— А есть у вас альчики? — спросил косоглазый.
— Что такое альчики?
— Ну, лодыжки.
— А что такое лодыжки?
Косоглазый рассердился и плюнул.
— Вот чумовой! Ну бабки!
— Нет, — сказал я. — Мы в бабки не играем.
— А хочешь кобца? — спросил другой мальчишка, широкоплечий и скуластый.
Мне было совестно признаться, что я и этого слова не знаю. Я подумал немного, а потом сказал тихо и нерешительно:
— Хочу.
— Ну, коли хочешь, так получай!
И мальчишка проехался по моей голове суставом большого пальца.
Я закричал от боли. Брат вступился было за меня, но его схватили и для острастки насыпали ему за шиворот несколько горстей земли.
После этого первого знакомства с улицей мы долго не выходили за ворота без старших и водили знакомство только со взрослым парнем — слепым горбуном, который жил по соседству с нами.
Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый. Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и проводил целые дни совсем один.
Это был первый слепой, которого я встретил на своем веку.
Помню, после знакомства с ним я крепко-накрепко зажмурил глаза, чтобы представить себе, как должны чувствовать себя слепые и чтó стоит перед их невидящими глазами.
Долго держать глаза закрытыми я не мог — это было очень, очень страшно!
Но отчего же наш слепой так спокоен, добродушен и приветлив? Чему улыбается он, сидя в ясную погоду на скамейке у своей хаты?
Об этом я часто думал в постели перед сном, перебирая в памяти все, что прошло передо мной за день.
Дома у нас во всех комнатах тушили на ночь свет. Однако я никогда не боялся темноты. В семье нашей я считался бесстрашным малым, удальцом. И если порой мне в душу закрадывался страх, я никому об этом не говорил.
Но вот однажды мне случилось проснуться в самую глухую пору осенней безлунной ночи, когда, как говорится, «хоть глаз выколи». Тут я сразу вспомнил слепого и с невольным страхом подумал: «А что, если я тоже ослеп?» Сердце у меня похолодело.
Повернувшись лицом в сторону, где было окно, я стал пристально и напряженно вглядываться, надеясь увидеть в щели между ставнями хоть слабый просвет или, по крайней мере, не такую уж черную тьму. Нет, куда бы я ни поворачивался, всюду стояла та же густая чернота, в которой глаза становились бессильными и ненужными.
Что же делать? Ждать рассвета? Но когда еще он наступит! Стенные часы в соседней комнате только что мягко и глухо пробили один раз. Либо это час ночи, либо половина какого-то другого часа. Может быть, ночь только начинается? У меня не было ни малейшего представления, в котором часу я заснул и сколько времени проспал… Нет, невозможно ждать так долго!
Ах, как было бы хорошо, если бы удалось разыскать спички, хоть одну-единственную спичку и коробок! Все было бы так просто: чиркнул раз — и узнал бы, ослеп я или нет. Но пройти на кухню, не разбудив кого-нибудь из нашей большой семьи, было невозможно. Да и найдешь ли коробок спичек в полной тьме!
И все же я решился. Тихо ступая босыми ногами и стараясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. Но там, где была дверь, оказалась глухая стена. Значит, я заблудился в своей же комнате? Я уже готов был вернуться в постель и как-нибудь потерпеть до утра, но и кровать не так-то просто было найти. Долго блуждал я по комнате, вытянув руки вперед, пока наконец не наткнулся на большой сундук, на котором спал старший брат.
— Что это? Кто это? — забормотал он спросонья.
— Это я, я!
Услышав мой тревожный шепот, брат спросил — тоже шепотом:
— Что ты бродишь? Почему не спишь?
Я сказал, что хочу пить, но не выдержал и тут же решил открыть ему страшную правду. Может быть, от этого мне станет хоть немножечко легче.
— Понимаешь, я, кажется, ослеп… Ничего не вижу!
— Совсем ничего?
— Ни-че-го!
— Ну, так знаешь, мы оба с тобой ослепли! Я тоже ничего не вижу.
И брат засмеялся.
Мне сделалось стыдно. Я сказал, что пошутил, и, найдя свою постель, юркнул с головой под одеяло.
От этого не стало ни светлей, ни темней, но зато тише, теплее, уютнее.
Счастливый тем, что беда миновала, я скоро уснул.
______
Днем никакие страхи не тревожили меня.
Каждое утро открывало передо мной необъятный день, в котором можно было найти место для чего угодно. Хочешь — носись по двору, пока ноги носят, хочешь — заберись на стропила под самую крышу заброшенного заводского строения и, сидя верхом на балке, распевай во все горло:
Ой, на гóри Та женцú жнуть, Ой, на гóри Та женцú жнуть, А по-пид горою Яром-долиною Козаки йдуть, Козаки йдуть!Голос твой гулко отдается во всех углах пустого здания, ему вторит эхо, и тебе кажется, что твою песню подхватывает целый полк, который на рысях движется за тобой, за своим храбрым командиром.
А то можно спуститься в глубокий овраг, искать клады, рыть пещеры.
Чего-чего не успеешь до обеда, если только тебя не пошлют в лавочку или в пекарню.
А впрочем, бегать в пекарню, зажав в кулаке гривенник, — тоже дело не скучное.
Пекарня у нас турецкая. Черноусый, белозубый пекарь, ловко перебросив с руки на руку огромный каравай с коричневым глянцевитым верхом, кроил его на прилавке широким, острым, как бритва, ножом, похожим на разбойничий.
Весело подмигнув своим карим — в мохнатых ресницах — глазом, он щедро прикидывал к весу лишнюю осьмушку и легким, почти незаметным движением скатывал мне на руки полкаравая с довеском.
И вот уже я иду назад, прижимая к животу теплую, мягкую краюху ситного, и с наслаждением жую пухлый довесок, полученный мною в знак дружбы от черноусого турка.
Но все эти радости разом исчезали, как только нас принималась трепать лихорадка. Нам и в голову не приходило, что зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии.
Чуть ли не через день метались мы в жару и в ознобе на своих кроватках, а мать терпеливо переходила от одной постели к другой, укрывая нас чем придется — шалями, платками, пальтишками.
— Нет, надо поскорее бежать отсюда, надо перебраться в город, ведь на детях лица нет! — без конца повторяла мать, подавая ужин усталому после заводского дня отцу.
— Скоро, скоро! — отвечал отец, не отрывая глаз от объемистой — должно быть, скучной — книги без картинок, а только с буквами и цифрами.
— Да ты не слушаешь меня, — с горечью говорила мать. — «Скоро, скоро!» — а мы все на том же месте.
Отец смущенно и растерянно снимал очки и смотрел на мать кроткими, какими-то безоружными глазами.
— Ну потерпите еще немного, — говорил он, будто обращаясь сразу ко всей семье. — Еще полгода, ну, самое большее — год, и все у нас пойдет по-другому. Я тут кое-что начал — совершенно новое… И если только дело удастся, — это будет…
Отец не успевал договорить.
Безнадежно махнув рукой, мать принималась собирать со стола тарелки. Мы видели по выражению ее лица, по усталому взмаху се руки, что она давно уже не верит отцовским обещаниям и надеждам.
А мы верили. Без отцовских надежд жизнь у нас была бы во много раз беднее и бесцветнее. В худшие времена, которые переживала наша семья, мы не сомневались в том, что нас ждет самое счастливое, самое замечательное будущее. И оно уже тут, за порогом.
Мы с братом любили играть в это будущее.
Лежа в постели — один на кровати, другой на сундуке, — мы наперебой сочиняли длинную и необыкновенную историю.
Отцовские опыты, о которых ни я, ни брат не имели ни малейшего понятия, наконец удались. Приходит телеграмма. Отца вызывают в Петербург. Мы второпях укладываем вещи, зовем извозчика — нет, двух! — и катим на вокзал. Носильщики в белых фартуках, с большими бляхами на груди несут наш багаж. Вот мы уже заняли места в зеленом вагоне — родители и младшие дети на длинных скамьях, а мы с братом на коротких по обе стороны окошка. Первый звонок, второй, третий. Свисток, гудок…
Продолжение этой истории каждый из нас по-своему видел во сне.
_____
Время показало, что отец был прав в своих надеждах в ожиданиях.
Его открытия и опыты не принесли нашей семье богатства, но через несколько лет в ее жизни и в самом деле произошли большие перемены.
Мне же судьба готовила такие неожиданные, почти сказочные приключения, каких я не видел и во сне.
Да и жизнь вокруг меня тоже не стояла на месте. Она держала курс на 1905, а потом на 1917 год.
_____
Наш двор был как будто нарочно предназначен для мальчишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода, обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, овраг в конце двора — все это как нельзя более подходило для непрерывной игры в войну, в индейцев, в пиратов, в рыцарей.
Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы сами, — я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упорно и увлеченно продолжал играть в нее один, без его участия.
В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную, еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем, заросли лопухов и бурьяна вставали непроходимыми лесами. А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сложенные из маленьких дощечек или щепочек, уездные городишки, построенные до мелких обломков кирпичей и, наконец, большие города с рядами домов в четверть или даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и городов, соединенных воображаемыми дорогами — проселочными, шоссейными и железными, — уходила добрая половина дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитаемой, можно было спокойно приниматься за игру.
А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все бóльшие и бóльшие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у меня у самого было в то время весьма смутное представление.
Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.
Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.
Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.
Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.
Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кончиками пальцев. И — как это ни странно — игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка…
В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира, кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уездного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на вывесках непонятные мне слова: «Нотариальная контора», «Общество взаимного кредита» или «Коммерческие номера». (Кстати, по ошибке, я долго читал «кóмера» и никак не мог понять, почему на этой вывеске слово «камера» пишется через «о» — «кóмера».)
Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на Майдане был от нас за тридевять земель.
Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери было не до знакомых, — так погружена она была в свои домашние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на слободке сверстники и товарищи.
Хоть семья наша подчас нуждалась в самом необходимом и обстановка нашей призаводской квартиры была более чем скромной — несколько венских стульев, столов, дешевых железных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и почти пустых комнатах, — все же босоногие ребята с нашей улицы относились к нам, как к барчукам.
Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались меной голубей. Да и одевались не так, как все.
Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из материи кремового цвета с пелеринками. Много раз становилась она перед нами во время примерки на колени, что-то подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметывая его к плечу.
Наконец пальтишки были готовы. В первый же праздничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в город, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы смешны!
Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот в карты, подскочил к нам и, скривив в усмешке щеку, спросил:
— Чего это вы балахончики такие надели?
А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным грязью, — будто он только что умылся землей, — дернул меня за пелеринку и заорал во все горло:
— Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!
— Это певчие, певчие из ихней церквы! — послышался чей-то голос. — А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку дадим!
Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрослых за ворота не выходили. Но прозвище «певчие» надолго осталось за нами.
Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизни мы почти все дни проводили у себя на дворе и на улицу выглядывали редко.
На дворе-то я и познакомился с первым моим приятелем — слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем на свете — о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет… Говорили о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков.
— Как ты думаешь, что будет с землей, если она столкнется с кометой?.. — спрашивал я.
— Даст бог, цела останется, — говорил горбун, немного помолчав. — В ней ведь камня да железа много. Она прочная — авось выдержит.
Разговор с горбуном всегда успокаивал мои детские страхи и тревоги. Я верил ему — может быть, потому, что он отвечал на мои вопросы не сразу, а после серьезного раздумья.
А главное, он всегда надеялся, что все обернется к лучшему.
В ненастную погоду горбун сидел где-нибудь в уголке, нахохлившись и плотно сжав бледные губы.
Когда же светило яркое солнце, он обращал к нему свои незрячие глаза, и рябое лицо его светлело, будто улыбалось.
Ходил он медленно, говорил тихо, вкладывая в каждое слово свой особенный смысл.
По воскресеньям, когда его брат Матюшка, вихрастый, озорной парень, играл со своим приятелем Колькой Гамаюнóм в карты, пересыпая разговор нехорошими словами, Митрошка стоял рядом, слушал и сосредоточенно молчал, но вид у него был такой, будто и он участвует в игре.
Жизнь у горбуна была до отупения унылая, скучная, и все же он никогда ни на что не жаловался, не сердился, не выходил из себя.
Его отец, сапожник, человек угрюмый и несловоохотливый, вполне оправдывал старую поговорку «пьет как сапожник». Во хмелю бывал буен и частенько бил жену и сына Матюшку смертным боем. Жена металась по двору и выла, а Матюшка одним махом перелетал через забор, спасаясь у нас на дворе.
Один только горбун никуда не бежал, а сидел на завалинке с окаменевшим лицом, с которого никогда не сходило выражение равнодушной покорности. Обычно отец не трогал его, но однажды, взбешенный кротким видом Митрошки, ударил его изо всей силы кулаком по горбу. Митрошка как-то смешно засеменил по земле, пробежал немного, а потом пошел дальше своим обычным степенным шагом,
Таким он и запомнился мне на всю жизнь — тихим, солидным, в поношенном, но чистом коричневом пиджаке почти до колен, в жилетке и брюках навыпуск, в старом синем картузе на слегка запрокинутой из-за переднего горба голове.
_____
Постепенно к нам стали привыкать и те соседские ребята, которые еще недавно не давали нам на улице проходу. Примирению нашему особенно помогло одно неожиданное происшествие.
Мальчишки на улице поссорились между собой. Перебранки и даже драки возникали у них за игрой в орлянку, в карты или же тогда, когда кто-нибудь переманивал у другого породистых голубей. Не знаю, из-за чего загорелся сыр-бор на этот раз, но только вся наша улица восстала против двух своих главных коноводов, которым до тех пор беспрекословно подчинялась.
По отдельным выкрикам, доносившимся издалека, мы смогли догадаться, что Гришку — младшего брата Кольки Гамаюна, и Саньку Косого обвиняют в каком-то тяжком преступлении против всего товарищества.
В самый разгар драки калитка наша настежь распахнулась, и к нам во двор заскочили Гришка и Санька, разгоряченные, расцарапанные, в разодранных рубахах. Наш дворовый пес с лаем бросился на них, но брат поймал его за веревку, которой он был привязан, а я успел вовремя запереть калитку. По ней сразу же забарабанила дюжина кулаков. Через минуту несколько лохматых мальчишеских голов показалось над забором.
— Тут они! Тута! — послышались голоса, но перемахнуть через забор среди бела дня мальчишки, как видно, не решились — то ли боялись нашей собаки, то ли ожидали подкрепления.
Знаками показали мы Гришке и Саньке на старый разрушенный завод за оврагом. Там можно было отлично укрыться на тот случай, если вся эта орава все-таки отважится проникнуть к нам во двор. Гришка и Санька поняли нас без слов и пошли за нами по направлению к заводу, то и дело оборачиваясь и угрожая кулаками своим преследователям, которые остались по ту сторону забора.
По шаткой, трясучей заводской лестнице мы взобрались на второй этаж, который давно уже перестал быть вторым этажом, так как пола у него не было и только балки отделяли верхнее помещение от нижнего, загроможденного железным хламом.
На всякий случай мы заперли щелявую дверь на крючок, а сами устроились на балках, с тревогой поглядывая вниз. Да и было чего опасаться. Сорвешься с балки на груду железа в нижнем этаже — и поминай как звали!
При нашем появлении где-то в углу захлопала крыльями, а потом вылетела через окошко какая-то большая птица, ютившаяся под крышей. Всполошилась она до того шумно и неожиданно, что мы все так и замерли на месте. Скоро наш страх прошел, но еще долго не могли мы отделаться от какой-то смутной тревоги, которую нагнала на нас эта жилица заброшенного чердака. Несколько минут мы даже говорили друг с другом шепотом. Но постепенно у нас завязался самый спокойный, мирный разговор. В конце концов брат предложил Гришке и Саньке зайти к нам в дом, пообещав показать им какую-то большую книгу о птицах, в которой были нарисованы голуби всех пород — дутыши, хохлатые, трубастые, бородавчатые и т. д. Гришка и Санька, которые были завзятыми голубятниками, заинтересовались этой книгой.
— Ладно, придем другим разом! — пообещал Гришка.
Нам очень не хотелось расставаться с нашими новыми приятелями, но уговаривать их было бесполезно: нельзя же в самом деле ходить в чужой дом с царапинами и синяками под глазами и на лбу, в разодранных рубахах и штанах.
На прощанье Гришка поклялся нам, что он будет не он, если завтра же не кликнет на помощь своего брата Кольку и не рассчитается со всеми обидчиками.
Не знаю, как добрались он и Санька в этот вечер до дому, но на другой день прятаться на задворках пришлось уже не им, а тем ребятам, которые загнали их к нам во двор.
В этот день на улицу вышел сам Колька Гамаюн, старший брат Гришки. Он давно уже работал у сапожника подмастерьем, турманов больше не запускал, а в праздничные дни ходил по слободке в пиджаке и красной рубахе навыпуск, с новенькой гармошкой, поблескивающей черным лаком и ярко-белыми клавишами.
Сильнее его не было на нашей улице никого, — разве что Матюшка, брат горбуна. Но с Матюшкой у него давно уже был уговор «не замать» друг друга.
Неторопливо и тяжело ступая, прошелся Колька вместе с младшим братом раз-другой по улице, грозно поглядывая по сторонам, и этого немого предупреждения было вполне достаточно. Мальчишки сразу поняли, что оно значит. Несколько дней после этого они далеко обходили Гришку и Саньку при встрече, потом долго и осторожно мирились с ними и наконец снова признали их власть.
А меня с братом Гришка и Санька взяли с тех пор под свое покровительство.
Скоро нам удалось зазвать их к себе в гости.
Пришли они утром в одно из воскресений, умытые, гладко причесанные, в новых, чистых рубахах, в целых, хоть и заплатанных штанах с карманами, полными жареных семечек.
Мы опять побывали с ними на старом заводе — и наверху и внизу, — а потом Гришка вызвался научить нас ловить на дворе тарантулов. Дело это нехитрое. Надо опустить в норку кусочек воска, привязанный к нитке. Тарантул обязательно за него ухватится, и тут-то наступит самая страшная минута: нужно вытащить живого тарантула из норки и посадить его в спичечную коробку с такой быстротой и ловкостью, чтобы он не успел укусить вас.
Правда, поймать тарантула нам так и не удалось. То ли он в это время спал, то ли отлучился по какому-нибудь делу, а может быть, его никогда и не было в этой норке… Зато Санька Косой обучил нас другому искусству. Он отлично мастерил из папиросной бумаги и пробки парашютики, которые необыкновенно красиво поднимались вверх, пока наконец не исчезали где-то в вышине. Жаль только, что улетавшие парашюты к нам уже не возвращались, а папиросной бумаги и пробок было у нас мало.
В конце концов мы очень подружились с Гришкой и Санькой, на которых даже и прежде, во времена нашей вражды, смотрели с невольным восхищением, — такими ловкими, лихими и бывалыми они нам казались. Дружба с ними льстила нашему самолюбию. И когда мама позвала нас пить чай, мы стали горячо убеждать их пойти с нами.
Мама несколько удивилась таким нежданным гостям, но усадила их вместе с нами за стол и дала каждому из нас по блюдечку еще теплого, только что сваренного вишневого варенья.
Гришку и Саньку нельзя было и узнать. Переступив порог нашего дома, эти отчаянные парни, которые на улице за игрой в орлянку так смачно переругивались между собой и так далеко плевались, — вдруг сделались смирными, робкими ребятами к заговорили какими-то не своими, тоненькими голосами.
После чая мы повели их в другую комнату, где они почувствовали себя немного свободнее. Брат показал им книжку с птицами, глобус и географическую карту на стене.
— «Соединенные Штаны», — прочел Санька, и это нам так понравилось, что мы еще долго после этого называли Штаты штанами.
С тех пор мы не раз встречались с Гришкой и Санькой. Но пришло время, и оба они стали редко появляться на улице. Саньку отдали в уездное училище, а Гришку — в ученики к тому самому сапожнику, у которого был подмастерьем его брат, Колька Гамаюн.
Однако наша дружба с ними, хотя и довольно кратковременная, как-то сразу помирила нас со всей улицей. Во всяком случае, мальчишки перестали нас дразнить. А ведь они были великими мастерами этого дела. Помню, какой невообразимый гомон подымали они, когда в нашем пригороде появлялся кто-нибудь из местных юродивых — тихая, робкая, еще довольно молодая женщина, дурочка Лушка, толстая, краснолицая Васька Макодёриха, отличавшаяся весьма строптивым и буйным нравом, или же старый Хрок, безбородый, сморщенный, хмурый человечек с нахлобученным на голову по самые брови медным котлом. Прозвище свое он получил из-за того, что, приплясывая, издавал какие-то хриплые звуки, вроде: «Хрок! Хрок! Хрок! Хрок!»
Гулом восторга приветствовали мальчишки юродивых, особенно Хрока.
Даже петрушечника, изредка приходившего на Майдан с пестрой ширмой на спине, не встречали и не провожали таким неистовым гомоном и хохотом, как угрюмого Хрока, когда он принимался топтаться, кружиться на месте, подпрыгивать и приседать. И все это с такой невозмутимой и торжественной серьезностью!
Ребята свистели, улюлюкали, колотили по медному котлу Хрока палками, пока их не разгоняли взрослые, которые любили и жалели «блаженненьких». Из всех калиток подавали юродивым ломти хлеба, бублики, бросали медные гроши и копейки.
Глубокая, дремучая старина окружала мое детство на слободке. Хрока с котлом на голове или Ваську Макодёриху так легко можно было бы представить себе на улицах времен Ивана Грозного, а то и в еще более ранние времена. Да и крытые соломой хаты, в которых обитало большинство жителей пригорода, вряд ли на много отличались от жилищ их дальних предков.
Недолговечные лавры
Работа на маленьком, почти кустарном заводишке была слишком мелка для отца и не могла утолить его постоянной жажды нового. Он любил изобретать, делать опыты, а должен был с утра до глубокой ночи простаивать у горячих котлов сырого и полутемного завода. Приходил он домой поздно, но пользовался любой минутой отдыха, чтобы раскрыть книгу и уйти в нее с головой. Читал он так самозабвенно, что мать, которая весь вечер ждала его, чтобы поговорить о самых насущных делах — о том, что надо заплатить долг в лавку, сшить детям новые пальтишки к зиме, — не решалась оторвать его от книги. Сама она весь день, безо всякой помощи, стряпала, мыла некрашеные полы, стирала белье, одевала и обшивала пятерых, а потом шестерых ребят. Ей-то уж совсем не удавалось передохнуть и почитать книжку. Даром пропадали ее прекрасные способности, ее редкая память.
Только вечером, под стук швейной машинки, она иногда вполголоса пела, но пела грустные песни.
Помню время, когда работа на заводе приостановилась и отец надолго уехал из дому искать счастья.
Мы одни на пустынном дворе. Ставни у нас наглухо закрыты, да еще приперты железными болтами. Со всех сторон доносится яростный, хриплый лай собак, да изредка за нашим забором постучит колотушкой обходящий свой круг ночной сторож.
Мать, склонясь над шитьем, поет песню про чумака, ходившего в Крым за солью и погибшего в пути, и про его товарища, который пригнал домой пару волов, оставшихся без хозяина.
Я лежу, съежившись, в постели, и слова этой простой песни наполняют мое сердце страхом и тоской. Мне почему-то кажется, что в песне говорится о нашем отце, что это он шел-шел, «тай упав» где-то в дороге, и кто-то чужой принес нам весть о его гибели…
Рано утром во всех наших комнатах открывались ставни. Вместе с темнотой уходили ночная грусть и ночные тревоги, и для нас, ребят, начинался новый день — огромный, как бывает только в детстве, до краев наполненный дружбой, дракой, игрой, беготней…
_____
Но вот наступила для нас новая пора: мне с братом наняли репетитора, веснушчатого гимназиста седьмого — предпоследнего — класса, и мы стали готовиться к экзамену.
Старший брат поступил в гимназию первым. Это был не по летам серьезный мальчик. Задолго до гимназии успел он прочесть множество книг, не истрепав, в противоположность мне, ни одной из них. Книги он бережно хранил в окованном железом сундуке, куда мне не было доступа. Помню, как, забравшись в сундук, брат приводил свои книги в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского «Скупого рыцаря». Мы часто с ним дрались из-за книг или еще из-за чего-нибудь, — но вдруг ни с того ни с сего он прерывал самую бешеную нашу схватку совершенно необычным в борьбе приемом: принимался осыпать меня нежными и горячими поцелуями. Смущенный и обезоруженный, я бывал, конечно, вынужден в этих случаях мириться, так и не додравшись до конца, хоть и чувствовал в братских объятиях не то военную хитрость, не то обидную снисходительность старшего.
Поступив в гимназию, брат как бы совершенно переродился. Это был уже не прежний, не домашний мальчик, не мой сверстник в коротких штанишках и в детской курточке, а гимназист с блестящим гербом на фуражке и с двумя рядами серебряных пуговиц на серой, почти офицерской шинели. Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал один, окруженный всеми домочадцами, и между одной ложкой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал о гимназических порядках, о строгих и добродушных, толстых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми погонами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером.
Я жадно слушал рассказы брата и старался представить себе всех этих незнакомых людей и обстановку, так мало похожую на все, что мне случалось видеть до тех пор.
Каждый день там происходили какие-нибудь события — не то что у нас на Майдане.
Казалось, мой брат, который был старше меня всего двумя годами, уже вошел в настоящую, деятельную жизнь, в мир, где каждый человек на виду и каждый час полон событий и происшествий.
И этот особенный, не всем доступный мир, блещущий форменными пуговицами и лакированными козырьками, назывался гимназией.
_____
А через год после того, как брат надел фуражку с гербом и серую шинель с темно-синими петлицами, должен был держать экзамен и я.
Всю осень и зиму, в дождь и снег, к нам на слободку ходил из города наш репетитор-гимназист, так успешно подготовивший в гимназию брата. Со мной занятия у него шли не совсем гладко. Я был беспечен и рассеян, не всегда готовил уроки, пропускал в диктовке буквы и целые слова, ставил в тетради кляксы. Кроткий и терпеливый Марк Наумович мне все прощал. А я мало думал о том, что только ради меня шагает он каждый день через лужи или снежные сугробы, пробираясь на Майдан и обратно в город, и что родителям моим не так-то легко платить ему за уроки по десять целковых в месяц.
Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на следующее утро просыпался, полный решимости взяться наконец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день у меня был расписан по часам.
Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно составленное расписание.
Как будто нарочно, чтобы помешать мне, у самых ворот нашего дома останавливался любимец слободских ребят — петрушечник. Мог ли я усидеть на месте, когда над яркой, разноцветной ширмой трясли головами, размахивали руками и со стуком выбрасывали наружу то одну, то другую ногу знакомые мне с первых лет жизни фигуры: длинноносый и краснощекий Петрушка в колпаке с кисточкой, тощий «доктор-лекарь — из-под каменного моста аптекарь» в блестящей, высокой, похожей на печную трубу шляпе, усатый и толстомордый городовой с шашкой на боку… Я знал и все же не верил, что шевелит руками кукол и говорит за них то пискливым, то хриплым голосом этот пожилой, мрачный, небритый человек, надевающий их на руку, как перчатку.
А на другой день ребята соседнего двора запускали большого бумажного змея — да не простого, а с трещоткой. На третий — я как-то нечаянно, между делом, зачитывался «Всадником без головы» или какой-нибудь другой заманчивой книжкой из сундука, который был в полном моем распоряжении до прихода из гимназии брата.
Но вот однажды мой репетитор объявил мне, что должен поговорить со мной серьезно.
Я насторожился. До этого времени серьезные разговоры — о книгах, об экспедициях на Северный полюс, о комете, про которую в те дни так много писали в газетах, — бывали у Марка Наумовича только с моим старшим братом, а со мною он добродушно пошучивал — даже тогда, когда объяснял мне правила арифметики или грамматики. Он был теперь уже учеником последнего — восьмого — класса и обращался со мною, как взрослый с ребенком.
Но на этот раз он уселся за стол не рядом со мною, а напротив меня, и, глядя мне прямо в глаза, спросил:
— Послушай-ка, ты и в самом деле хочешь держать экзамены в этом году? Или, может быть, собираешься отложить это дело на будущий год?..
— Нет, не собираюсь, — как-то нерешительно ответил я, еще не понимая, к чему он клонит.
— Ну так вот что, голубчик. Пойми, что ты, в сущности, не учишься, а только играешь в занятия. Не думай, что экзамены — это тоже игра. Отвечать ты будешь не так, как отвечаешь мне. Сидеть вот этак, развалясь на стуле, тебе не позволят. Ты будешь стоять у стола, и экзаменовать тебя будет не один, а несколько учителей. Может быть, инспектор и даже сам директор! И на каждый заданный вопрос ты должен будешь ответить коротко, четко, без запинки. Понял?
Я задумался. Нет, отвечать коротко, четко, без запинки я вряд ли смогу…
А Марк Наумович продолжал смотреть на меня в упор, то и дело мигая красными от бессонницы глазами (он и сам в это время готовился к экзаменам, да еще каким — к выпускным, на аттестат зрелости! — и работал чаще всего по ночам).
— Ну да ладно, попробуем! — сказал он уже менее строго. — Только знай: с нынешнего дня и я начну спрашивать тебя, как спрашивают у нас в гимназии. А ты забудь, что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экзаменует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Григорьевич Антонов!
Об этих учителях, приводивших в трепет всю гимназию, я много слышал от брата. Но представление о них никак не вязалось у меня с образом доброго Марка Наумовича, такого худого, веснушчатого, в серой гимназической блузе с тремя пожелтевшими пуговичками по косому вороту и в поношенных серых брюках, из которых он давно уже вырос.
И все же после этого серьезного разговора я почувствовал ту же острую тревогу, которая охватывала меня по ночам при воспоминании о предстоящих экзаменах. Ну, конечно же, я провалюсь! Разве такие в гимназию поступают? Да я, чего доброго, разом позабуду все, что знаю, когда меня вызовут к большому столу, за которым будут сидеть учителя в золотых погонах, инспектор, директор… Может быть, мне и готовиться уже не стóит? Как хорошо было бы сейчас простудиться и заболеть на все время, пока идут экзамены. Это все же лучше, чем провалиться. Да нет, нарочно не заболеешь!..
У меня уже подступали к горлу слезы, когда на пороге неожиданно появился отец, который вчера только вернулся домой на несколько дней и сейчас отдыхал в соседней комнате.
— Простите меня, Марк Наумович, — сказал он, протирая очки. — Конечно, вы абсолютно правы: готовиться к экзамену надо серьезно и основательно. Однако вы нарисовали сейчас такую мрачную картину, что и я, пожалуй, не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете, дорогой, поговорку: «Своих не стращай, а наши и так не боятся». Уверяю вас, мы выдержим, да еще на круглые пятерки! Я в этом нисколько не сомневаюсь.
— Ах, ты никогда ни в чем не сомневаешься! — с горечью прервала его мать, вошедшая в комнату вслед за ним. — Марк Наумович дело говорит, и я так благодарна ему за то, что он беспокоится о своем ученике. А ты только портишь его. Вот увидишь, теперь он и совсем забросит книжки и уж наверное провалится.
— Нет, — сказал отец, — вы его не знаете!
— Это я-то его не знаю? — удивилась мать.
— Ну, может быть, знаешь, да не веришь в то, что у него есть сила воли. А я верю. Ведь ты не подведешь меня, а?
Я молчал.
До экзамена оставался всего один месяц. Меня перестали посылать в лавку и в пекарню. Сестрам и маленькому брату было строжайше запрещено отрывать меня от занятий. Они проходили мимо моего стола на цыпочках и говорили друг с другом шепотом.
С самого раннего утра я сидел за столом, как приклеенный. Сидел час, другой, третий, пока меня не начинало клонить ко сну.
Помню, как однажды около полудня, когда солнце смотрело с вышины прямо в наши окна, я встал, чтобы размяться немного, и как-то нечаянно заглянул в соседнюю комнату, где сияли белизной и свежестью застланные с утра кровати.
Младшие ребята играли в это время на дворе. Мать ушла на рынок.
«Отчего бы мне не прилечь на несколько минут? — подумал я и сам удивился этой неожиданной мысли. — Все равно за столом я сейчас трачу время даром и только клюю носом».
Никогда еще в жизни не случалось мне ложиться в постель в такую пору дня. Вероятно, от новизны ощущения этот дневной отдых казался мне чертовски соблазнительным.
Поколебавшись немного, я лег на одну из кроватей, сладко жмурясь от солнца, бившего мне прямо в глаза. Но и сквозь плотно закрытые веки я видел солнце. В радужной полутьме так отчетливо доносились ко мне все звуки со двора: протяжный петушиный крик, резвый лай собачонки, звонкие голоса детей… Я заснул крепким, блаженным сном и проспал несколько часов подряд.
Вернувшись домой, мама пожалела меня и не стала будить. Вот, мол, до чего доработался бедный ребенок!
Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но в памяти моей этот счастливый и безмятежный дневной сон запечатлелся ярче и сильнее, чем даже экзамены, стоившие мне так много тревог и волнений.
В последние дни перед экзаменом я то и дело переходил от одной крайности к другой: то непоколебимо верил в свой успех (это я-то провалюсь? Нет, такого и быть не может!), то впадал в отчаянье и считал себя неспособным ответить на самый простой вопрос, который зададут мне восседающие за столом экзаменаторы.
Должно быть, я унаследовал в равной мере и счастливую веру в будущее, присущую моему отцу, и вечные тревоги матери.
Когда мною овладевала эта мучительная, бросающая то в жар, то в холод лихорадка тревоги, я с ужасом представлял себе свое возвращение домой после провала на экзамене. Понурив голову, я плетусь за матерью. Избегаю расспросов соседей. Не слушаю утешений отца, который уверяет меня, что в будущем году я уж непременно выдержу на круглые пятерки.
И вот опять тянутся унылые дни за днями, и ко мне по-прежнему каждый день шагает из города Марк Наумович, — если только он не поступит в этом году в университет…
Ну, а если не Марк Наумович, то какой-нибудь другой гимназист-репетитор, которому тоже надо будет платить за меня десять целковых в месяц!
_____
Наконец наступил день страшного суда — первый день моих экзаменов. Мама надела темное праздничное платье и соломенную шляпку с вуалью, аккуратно причесала меня, одернула на мне курточку, и мы отправились пешком в город.
Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты сирени наклонялись, будто предлагая прохожим сорвать густую, тяжелую гроздь.
Мама отломила влажную ветку, и я видел, что на ходу она старательно ищет звездочку с пятью лепестками — «счастье».
На этот раз мама была или, по крайней мере, казалась бодрой и веселой. Против своего обыкновения, она всю дорогу убеждала меня, что я отлично подготовился и непременно выдержу.
Я совершенно иначе представлял себе это шествие в гимназию на экзамен — думал, что мама будет беспокойно поглядывать на меня и спрашивать по пути таблицу умножения или «слова на ять». И мне было приятно, что сегодня она такая спокойная я ласковая.
Мы говорили с ней о посторонних вещах, о которых никогда не разговаривали раньше: о том, когда открываются в городе магазины, когда зажигают и тушат на улицах фонари и сколько примерно в Острогожске извозчиков — сто или больше…
_____
Вот наконец и гимназия — белое одноэтажное здание со множеством чисто вымытых, голых окон и с тяжелой входной дверью.
Я много раз до того проходил мимо каменной ограды, которой был обнесен гимназический двор, но никогда еще не открывал этой заповедной двери. Гимназия казалась мне каким-то особым царством, живущим своей загадочной жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с маленькой звонницей, в которой так уютно жили колокола и голуби.
_____
Этот майский день, когда мы с мамой без конца ходили взад и вперед по длинному, гулкому коридору или стояли у окна в ожидании минут, решающих мою судьбу, был для меня не только первым днем экзаменов.
Впервые я очутился в большом городском каменном доме, где было столько дверей, окон и просторных комнат с высокими потолками.
В первый раз я видел так много ребят, и почти все они казались такими чистенькими, умытыми, старательно причесанными. А все взрослые, кроме родителей, пришедших с детьми, были здесь одеты в форменные синие сюртуки с золотыми квадратиками на плечах и с двумя рядами блестящих пуговиц. Поодиночке или по двое, по трое, они с деловым видом, словно пчелы из улья, появлялись из какой-то таинственной комнаты, на дверях которой была дощечка с надписью: «Учительская». Одни из этих людей добродушно улыбались — не знаю, нам или солнечному свету, щедро затопившему в это утро весь коридор, — другие смотрели хмуро, озабоченно и как будто даже не замечали наших поклонов.
Первый человек, которому я поклонился при встрече, был маленький старичок с лицом, изборожденным морщинками, и реденькой, седовато-рыжей бородкой. Он осклабился и приветливо закивал мне головой. По широким золотым галунам на рукавах я принял его за директора или, по крайней мере, за инспектора гимназии и очень удивился, когда через несколько минут увидел его со шваброй в руках. Позже я узнал, что это был гимназический сторож Родион, надевший по случаю начала экзаменов свою парадную форму.
Понемногу ребята, теснившиеся в коридоре и в небольшой комнате, которая называлась «Приемной», стали знакомиться друг с другом; толстый мальчик в крахмальном отложном воротничке и пестром галстуке бантом, собрав вокруг себя ребят, показывал фокусы: глотал копейки и большие пуговицы, а потом вынимал их из кармана пиджачка или из-за воротника сзади.
Я смотрел на него и думал: какой удивительный мальчик!.. Сейчас начнутся экзамены, а он, ничуть не тревожась, потешает ребят фокусами.
Высокая нарядная дама в широкой шляпе с цветами то и дело строго и настойчиво звала его к себе:
— Степа!
Он подбегал к ней на минуту, торопливо кивал ей головой, словно что-то обещая, а потом вновь оказывался в толпе ребят, строил невероятные гримасы или жонглировал маленьким костяным шариком, который то вертелся, словно живой, у него на ладони, то внезапно исчезал.
В другом конце коридора увидел я своего старого знакомого — долговязого и вихрастого Сережку Тищенко, сына лавочника с нашего Майдана.
Сережка и в прошлом году держал экзамены, провалился чуть ли не по всем предметам, а теперь рассказывал ребятам о гимназических порядках так, будто был здесь своим человеком.
— Нет, — говорил он, — если по русскому будет спрашивать Сапожник, — крышка: хоть кого срежет!..
— Сапожник?.. — испуганно спрашивали ребята.
— Ну, Антонов Степан Григорьевич. Прозвище у него такое, кличка. А вот ежели экзаменовать будет Пустовойтов…
— Это тоже прозвище?
— Да нет, фамилие. Так вот, если спрашивать будет Пустовойтов Яков Константиныч, тогда другое дело. Он даже сам подскажет, коли собьешься. А самый злющий из всех учителей — это, уж конечно, Барбоса.
— И вовсе не Барбоса, а Барбаросса, — поправил его мальчик в бархатной курточке. — Я его знаю, мой брат у него в седьмом классе учится.
— Ну, все равно — Барбоса или Бабароса, а только он такие задачки подбирает, что и семикласснику не решить. Они так и называются: «неопределенные»… Всех до одного проваливает!
Я слушал Сережку, и у меня от страха сосало под ложечкой.
Но вот наконец нас построили в ряды и развели по классам. Сейчас должны были начаться письменные экзамены.
Мама проводила меня до самых дверей, еще раз одернула на мне курточку и пригладила мои волосы.
— Только будь спокоен и не торопись, — сказала она, но я видел, что и сама она не слишком-то спокойна.
В первый раз в жизни сел я за парту — желтую с черной блестящей крышкой и с двумя чернильницами в углублениях. Рядом со мной оказался Сережка Тищенко, а сзади — тот веселый, круглощекий мальчик, который показывал в коридоре фокусы, Степа Чердынцев.
В полуоткрытую дверь еще заглядывали родители. Широкая шляпа Степиной матери совсем заслонила мою маму. Я стал искать ее глазами, но тут дверь плотно закрыли, и все мы почувствовали, что с этой минуты предоставлены самим себе.
Скоро в класс вошел медленной, тяжеловесной походкой пожилой, темнобородый, широкоплечий человек в очках. Кое-кто из ребят при его появлении встал. Потом, один за другим, поднялись и остальные.
— Сапожник! — шепнул мне в ухо Тищенко. — Беда!..
Учитель привычным, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды ребят в курточках, матросках, пиджачках, косоворотках.
— Здравствуйте, — сказал он, четко произнося все буквы, в том числе и оба «в». — Приготовьтесь писать диктант!
И он не торопясь роздал нам листки линованной бумаги.
Мы обмакнули перья в чернила и с тревогой уставились на этого спокойного, медлительного человека в форменном сюртуке.
Не переставая ходить по классу — от двери до окна, от окна до двери и по всем проходам между партами, — он начал диктовать громко и отчетливо, но как бы скрадывая те гласные, в которых было легче всего ошибиться.
— Белка жила в чаще леса…
— «Белка» через «ять» или через «е»? — шепотом спросил меня Тищенко.
— Ять, — так же тихо ответил я.
— А «лес»?
— Тоже.
Не знаю, уловил ли Сапожник этот почти беззвучный шепот, но только вдруг он остановился и сказал спокойно и твердо, обращаясь ко всем нам:
— Предупреждаю: тот, кто будет подсказывать другим или списывать, получит неудовлетворительный балл и не будет допущен к следующему экзамену. Понятно?
В классе и до того стояла тишина, а тут стало еще тише.
Не дожидаясь ответа, Антонов продолжал тем же ровным, монотонным голосом:
— …На самой верхней ветке дерева… Повторяю: на самой верхней ветке дерева.
— «Верхней» — «ять» или «е»? — еле слышно спросил Тищенко.
Я написал на промокашке букву «е» и с ужасом подумал, что Сережка будет, чего доброго, донимать меня до конца диктовки.
— Сеня спал в сенях на свежем сене… — слышался из дальнего угла гудящий голос Сапожника.
Я знал, что «свежий» и «сено» пишутся через «ять», «Сеня» — через «е». А вот как пишутся «сени»?..
Тищенко упорно шептал что-то в самое мое ухо, но мне было не до него…
«Ять» или «е»? Как будто «е». Нет, конечно, «ять»!
Вдруг я почувствовал, что кто-то сзади дышит мне в затылок. На мгновенье обернувшись, я увидел, что Степа Чердынцев, приподнявшись, заглядывает в мой листок.
Антонов находился в это время далеко от нас, но, должно быть, у него было какое-то особенное чутье. Грузно шагая, направился он прямо в нашу сторону и — как видно, надолго — остановился перед партой, где сидели мы с Тищенко.
Сережка больше ни о чем меня не спрашивал, а Степа оказался хитрее. Он то и дело брал у меня промокашку, потом возвращал ее мне и при этом каждый раз бросал беглый, почти неуловимый взгляд на мой листок.
— Ты что там делаешь?.. — строго окликнул его Сапожник.
Степа с самым невинным видом показал ему промокашку.
— А глаза твои куда глядят?..
Степа затряс головой.
— Ей-богу, я ничего не вижу. Я близорукий. Мне даже очки доктор прописал.
Сапожник недоверчиво посмотрел на него, потом направился к кафедре, взял розовый листок промокательной бумаги и торжественно вручил его Степе.
— Большое спасибо, — сказал Степа.
Снова в классе стало тихо. Слышался только однообразный и непрерывный, как жужжание большой мухи, голос Антонова.
Но вот диктовка кончилась, и Сапожник сразу же стал собирать наши листки. Я отдал свой, так и не успев его проверить, и с тревогой смотрел, как Антонов, аккуратно сложив листки, уносит их из класса со всеми нашими ошибками, кляксами и помарками… Вот он идет по коридору, медленно и важно, будто сознавая, что держит в руках наши судьбы.
Теперь уже ничего не вернешь. Ну, будь что будет!
Я бросаюсь к маме и пытаюсь припомнить все слова, в которых сомневался. Но одни из них совершенно вылетели у меня из головы, а в других мама и сама как будто не слишком уверена. Может быть, она даже и не задумалась бы, если бы ей пришлось написать с разбегу какую-нибудь фразу, в которой встречаются эти слова. А тут ее берет сомнение. Она пытается припомнить, сообразить, что как пишется, а мне уже не до диктовки.
Пора думать о следующем экзамене — письменном по арифметике. Говорят, экзаменовать будет Макаров — тот самый злющий учитель, которого Тищенко называл «Барбосой», а другой мальчик «Барбароссой».
Ждать нам приходится очень долго, — так, по крайней мере, кажется мне. Мама уговаривает меня съесть бутерброд, который она принесла из дому, но я только головой мотаю.
— Нет, нет, потом, после экзамена!
_____
И вот мы снова в том же классе, где писали диктовку. Опять закрываются плотные двери, отделяя нас от всего мира. Но теперь рядом со мной уж не Сережка Тищенко, а спокойный, неторопливый голубоглазый мальчик в косоворотке. Нам с ним не до разговоров, но я все же спрашиваю:
— Как тебя зовут?
— Зуюс.
— Это что же — имя такое?
— Нет, фамилия. Имя — Константин.
Но вот в класс входит Барбоса или Барбаросса, высокий, с огненно-рыжей бородой. Борода его сверкает золотом в ярком солнечном свете, как и пуговицы вицмундира.
На этот раз ребята все сразу поднимаются с мест.
Макаров милостиво кивает головой, разглаживает пышную бороду и, бодро постукивая мелом, пишет на классной доске две задачи: одну для тех, кто сидит на партах справа, другую — для сидящих слева. Мне выпала на долю задача, в которой надо разделить груши между четырьмя братьями так, чтобы первому досталось больше, чем второму, второму больше, чем третьему, и так далее. А Костя Зуюс должен решить задачу про купца, который купил и продал сколько-то цибиков чая.
Разные задачи даются нам, должно быть, для того, чтобы мы не списывали у соседа по парте.
В первые минуты я ровно ничего не могу сообразить, хоть с Марком Наумовичем не раз делил между братьями и яблоки, и груши, и орехи. Но тогда я решал такие задачи не торопясь, не волнуясь, а теперь особенно раздумывать некогда: того и гляди, у тебя отберут листок, решишь ли ты задачу или не решишь.
А тут еще перед самой твоей партой торчит этот рыжебородый учитель, так похожий на генерала, портрет которого я видел в цветном календаре. Он благодушно улыбается в бороду, и все же под его взглядом мысли путаются у меня в голове. Мой сосед по парте тоже, видно, никак не может подступиться к своей задаче. Он ерзает, сопит, и уши у него горят от волнения.
Наконец Макаров отходит от нашей парты и, бережно расправив фалды сюртука, величаво усаживается на кафедре.
Я облегченно вздыхаю и только теперь принимаюсь за дело, забыв и учителя, поглядывающего на нас с высоты своей кафедры, и соседей по парте, и быстро бегущее время. Наконец мне как будто удается справиться с задачей: верно или неверно, а груши между братьями поделены. Прежде чем приняться за проверку, я оглядываюсь по сторонам. Все ребята в классе еще сидят, хмурые и озабоченные, низко наклонившись над своими листками. Степа Чердынцев, чуть привстав, просит у соседа, сидящего впереди, промокашку. Макаров, задумчиво поглаживая бороду, смотрит с кафедры в окно, за которым живет своей жизнью еще безлюдный в эти часы сад со всеми своими птицами, шмелями, жуками, стрекозами.
Меня охватывает тревога. Неужели я и в самом деле первым решил задачу? Уж нет ли где-нибудь ошибки? А времени остается, должно быть, совсем немного. С бьющимся сердцем, уже торопясь, я снова складываю, множу, вычитаю, делю… Нет, как будто все правильно — ответ получается тот же, что и в первый раз. Должно быть, верно! Смотрю — и у Кости Зуюса лицо прояснилось, даже появилась на губах улыбка.
— Решил? — спрашиваю я тихонько.
— Ага! — отвечает он одним дыханьем.
А Матвей Иванович уже отбирает листки у тех, кто довел дело до счастливого конца, и у тех, кто запутался во всех этих грушах и цибиках.
Ну, если только я не провалился по русскому письменному, значит, у меня все в порядке. Правда, самое трудное еще впереди. Завтра на устных экзаменах спрашивать меня будет не один учитель, а целая комиссия в сюртуках с золотыми пуговицами и отвечать надо будет быстро, отчетливо, без запинки…
_____
После тревожной ночи мы опять отправились с мамой в гимназию.
В этот день ребят экзаменовали не в классе, а в просторном зале, где со стен смотрели на нас изображенные во весь рост царь в военной форме с широкой голубой лентой через плечо и царица в высоком жемчужном венце вроде кокошника, в нарядном платье, похожем на сарафан, и тоже с лентой через плечо.
Нас, ребят, по очереди вызывали к длинному, покрытому тяжелым сукном столу, за которым среди учителей в синих вицмундирах сидел сам директор, безбородый, моложавый, в темно-зеленом форменном фраке без наплечников. Во всей его повадке было нечто такое, что отличало его от учителей. Он держался свободнее, проще и смотрел на нас как будто приветливее.
И все же я с трепетом ждал той минуты, когда меня вызовут. Как это я буду стоять совсем один перед огромным столом, за которым сидит столько взрослых, важных людей в форме!
В ту пору я был очень мал ростом, — меньше всех ребят, которые пришли экзаменоваться. А тут, в этом высоком зале с большими окнами, с большими дверями и портретами, я почувствовал себя совсем затерянным. Да меня, чего доброго, и не услышат, когда я начну говорить!..
Поглядывая по сторонам, я видел, что и другие ребята боятся не меньше, чем я. Один только Степа Чердынцев и здесь не унывал: он показывал ребятам, как шевелить ушами. Для этого он морщил лоб и старательно поднимал и опускал брови, пока уши у него и в самом деле не начинали слегка шевелиться. В другое время ребятам, наверно, очень понравился бы новый фокус и каждому захотелось бы обучиться этому искусству, но сейчас Степа не имел никакого успеха. Мельком поглядев в его сторону, ребята отворачивались и опять впивались глазами в стол, покрытый зеленым сукном.
Мне тоже было не до Степиных ушей. Очередь уже дошла до буквы «м». Передо мной пошел отвечать высокий, стриженный наголо мальчик в длинных брюках, в косоворотке, подпоясанной шелковым шнурком и вышитой по вороту и подолу. Когда назвали его фамилию — Малафеев, — он тайком, торопливо перекрестился, одернул косоворотку и с какой-то отчаянной решимостью ринулся к столу.
Антонов скрипучим, безучастным голосом предложил ему прочесть вслух сказку «Лиса и Журавль».
Малафеев взял раскрытую книгу и медленно, по складам, будто ворочая камни, прочел несколько строк.
— Довольно, — прервал его Сапожник. — Скажите мне, какого рода существительное «журавль».
— Женского, — нерешительно ответил Малафеев.
— Почему женского?
— Потому что кончается на мягкий знак.
Директор улыбнулся.
— Но ведь слово «учитель» тоже кончается на мягкий знак. Или, скажем, слово «парень». Что же, по-твоему, и «парень» женского рода?
— Нет, мужеского, — виновато сказал Малафеев.
В голосе его уже слышались слезы.
— Ну, ладно, не робей! — приободрил его директор. — Со всяким случается… Прочитай-ка лучше какое-нибудь стихотворение.
— Какое? — спросил Малафеев.
— Да какое хочешь.
Малафеев помолчал, подумал немного и вдруг загудел, словно заиграл на дудке, не повышая и не понижая голоса и не останавливаясь на знаках препинания:
— «Школьник». Стихотворение Некрасова.
Ну пошел же ради бога Небо ельник и песок Невеселая дорога Эй садись ко мне дружок…Тут он перевел дух и опять понесся вперед без удержу:
Ноги босы грязно тело И едва прикрыта грудь Не стыдися что за дело Это многих славный путь.— Славных путь! — поправил Антонов.
— Славных путь! — повторил Малафеев.
Я слушал его и думал: ну разве так читают стихи? Вот я бы им показал, как надо читать!
И вдруг мне страстно захотелось, чтобы меня поскорее вызвали. На вопросы я как-нибудь отвечу, — только пускай дадут мне прочитать стихи…
В эту минуту громко — на весь зал — прозвучала моя фамилия.
Хорошо, что именно в эту минуту, пока еще мой задор не успел остыть.
Не помню, о чем спрашивали меня Сапожник и другой учитель с длинными, опущенными книзу усами, но только отвечал я на этот раз и в самом деле без запинки, как никогда не отвечал Марку Наумовичу. А когда дело дошло до стихов, я, не задумываясь, сказал, что прочту отрывок из «Полтавы» — «Полтавский бой».
— Пожалуйста, — согласился директор.
Я набрал полную грудь воздуха и начал не слишком громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный голос.
Горит восток зарею новой. Уж на равнине, по холмам Грохочут пушки. Дым багровый Кругами всходит к небесам Навстречу утренним лучам.Стихи эти я не раз читал и перечитывал дома — и по книге, и наизусть, — хотя никто никогда не задавал их мне на урок. Но здесь, в этом большом зале, они зазвучали как-то особенно четко и празднично.
Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне казалось, что они так же, как и я, видят перед собой поле битвы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на боевом коне.
Идет. Ему коня подводят. Ретив и смирен верный конь. Почуя роковой огонь, Дрожит. Глазами косо водит И мчится в прахе боевом, Гордясь могучим седоком…Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:
И за учителей своих Заздравный кубок подымает…Тут я остановился.
С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных экзаменаторов. Даже Сапожник — Антонов не сделал мне ни единого замечания и не предложил разобрать отдельные слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, похожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал «славно», а директор подозвал меня, усадил к себе на колени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и знаю наизусть.
Я сказал, что больше всего люблю пушкинского «Делибаша» да еще «Двух великанов» Лермонтова и с полной готовностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.
Директор засмеялся.
— В другой раз! — сказал он. — А сейчас беги к своим, скажи, что получил пятерку.
Не помня себя от радости, я выбежал в коридор.
_____
Домой мы ехали на извозчике. По дороге остановились у магазина и купили гимназическую фуражку — темно-синюю, с блестящим козырьком и белым кантом. Тут же купили и герб с буквами «О. Г.» над двумя скрещенными лавровыми веточками из какого-то светлого, серебристого металла. Мы сразу же прицепили герб к фуражке, и я вернулся к себе на Майдан гимназистом. Отец и старший брат увидели нас из окна и бросились нам навстречу. По моей гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шляпе — я выдержал!
— На круглые пятерки? — спросил отец.
— На круглые!
— Ну, а что я говорил? — сказал он, победоносно улыбаясь.
Сестры и младший брат стали по очереди примерять мою новенькую фуражку, но мама отняла ее и спрятала в шкаф.
А мне так хотелось показаться в ней соседским ребятам.
— Погоди, — сказала мама. — Мы еще не знаем, принят ли ты в гимназию.
— Как это не знаем? Ведь у меня круглые пятерки!..
Увы, через несколько дней выяснилось, что мама сомневалась не зря.
Первые мои «лавры» оказались недолговечными. Какая-то непонятная мне «процентная норма» закрыла для меня доступ в гимназию. Приняли и Степу Чердынцева, и Сережку Тищенко, и Саньку Малафеева, и Костю Зуюса, а меня не приняли.
Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спрятала у себя в шкатулке.
Досуг поневоле
Погоревав немного, я по-прежнему втянулся в будничную слободскую жизнь — дрался с босыми мальчишками, пускал змея, смотрел, как наши голубятники швыряют в небо своих турманов. Гимназия в городе, учителя, директор, так обласкавший меня на экзамене, — все это отошло куда-то далеко и стало казаться не то сном, не то страницей из прочитанной и полузабытой книги.
И вдруг я опять увидел всех учителей гимназии во главе с директором. И где увидел? У нас, на Майдане, за стеклами новенькой витрины фотографа, который, видимо, недавно поселился на слободке.
Среди множества довольно бледных фотографических карточек «визитного» и «кабинетного» формата, изображавших молодых людей с выпученными глазами и застывших в оцепенении девиц со взбитыми прическами и буфами на плечах, была выставлена большая групповая фотография, на которой красовался весь педагогический совет гимназии во главе с директором. Учителей фотограф расположил тремя рядами. Я стал внимательно разглядывать эту поразившую меня фотографию. Тут оказался и классный наставник моего брата — латинист Владимир Иванович Теплых, которого я видел мельком в гимназическом коридоре перед экзаменом, и рыжебородый Барбаросса, и Сапожник, и толстый географ.
Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно, в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от которых зависела судьба стольких ребят.
А нельзя ли купить фотографию? Наверно, она стóит, — если только продается простым смертным, — никак не меньше ста рублей!
Я отважился зайти к фотографу и робко справился о цене. Рыхлый и бледный человек спокойно и деловито ответил мне:
— Один рубль.
Ах, это было очень, очень дешево — двадцать или тридцать учителей гимназии в полной парадной форме — за один рубль!.. Но и такая цена была мне не по карману. Гривенник еще можно было попросить у мамы на тетради или на воскресное гулянье в саду, но где достать десять гривенников — рубль, целый рубль?
Вовсе не надеясь раздобыть такую крупную сумму, я как-то рассказал отцу, что видел у фотографа на карточке всю гимназию, и, если бы мне посчастливилось найти на улице рубль (ведь это же бывает — некоторые находят, правда?..), я бы непременно купил себе такую карточку.
Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в карманах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно рубль, копеечка в копеечку.
В тот же день большая фотография была изъята из витрины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию, — зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей, сидевших в нижнем ряду.
Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами, аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Конорова, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и математика — Барбароссу, и географа Павла Ивановича Сильванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато все теперь были с ногами.
Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки.
_____
Постепенно и я — по примеру старшего брата — пристрастился к чтению. Доставать книги было нелегко, и читал я все, что попадалось под руку. Не меньше двадцати раз подряд перечел роман Жюля Верна «Север против Юга», где изображались подвиги, поражения и победы северных американцев в борьбе за освобождение негров.
Снабжал меня книгами наш сосед, сивоусый, строгий и рассудительный красильщик, у которого был большой выбор третьесортных, изобилующих дешевыми приключениями «рóманов» из приложений к мещанскому журналу «Родина». Сосед очень гордился своими книгами, от которых за версту несло мышами и затхлостью. И до сих пор журнал «Родина» и даже фамилия его редактора-издателя Каспáри неразрывно связаны у меня в памяти с этим едким и душным запахом.
Другим моим поставщиком литературы был молодой парень с красивым, по-девичьи нежным лицом, похожий на царевича из тех русских сказок, которые он сам же мне давал. Целые дни проводил он в лабазе своего отца или дяди за конторкой, на которой, как на аналое, всегда лежала раскрытая книга. От книги молодой Мелентьев отрывался только тогда, когда нужно было отсыпать покупателю-извозчику овса или ячменя. Пощелкав на счетах и получив деньги, он опять садился на свой высокий табурет и погружался в роман, пьесу или в сборник сказок.
Читая запоем книги, он зачастую не знал имени автора и даже заглавия, так как обложки большинства его книг были потеряны.
Таким образом, не имея ни малейшего представления, что за «рóман» дал мне Мелентьев, прочел я знаменитого «Рокамболя» и еще десяток переводных книжек с иностранными именами героев, с тайными интригами, заговорами, погонями и убийствами.
Но в том же лабазе я впервые нашел среди книг «Тысячу и одну ночь», и с тех пор волшебные сказки Шехерезады овеяны для меня едва уловимым запахом овса и ячменя.
_____
Внимательно перебирая воспоминания, связанные с первыми годами жизни, видишь, как глубоко и сильно врезается в нашу память каждое услышанное в детстве слово.
Мне было лет шесть-семь, когда я впервые, прочел или услышал басню Крылова «Волк и Кот».
Волк из лесу в деревню забежал, Не в гости, но живот спасая…До сих пор я отчетливо помню — будто сам, своими глазами видел — этого забежавшего в деревню волка. Помню и высокий дощатый забор, на котором сидит кот. Низко наклонив серую с черными полосами голову, мудрый и спокойный, он деловито разговаривает с усталым, затравленным волком, за которым по пятам гонятся охотники.
И все соседи, чьи имена называет кот (Степан, Демьян, Трофим, Клим), кажутся мне знакомыми людьми, живущими на Майдане где-то поблизости от нас.
Ведь в басне так и сказано: «Беги ж, вон там живет Трофим». Это «вон там» придавало особую реальность словам крыловского кота.
Сквозь каждое слово, как сквозь прозрачное стекло, ребенок видит названный предмет, видит живую и подлинную действительность.
Даже сюжеты книг, прочитанных в более позднем возрасте — лет в десять-одиннадцать, — переплелись у меня в памяти с реальными событиями нашей жизни.
В эти годы скитавшийся по Руси в поисках работы отец познакомился где-то с обедневшим помещиком, отставным подполковником Адамом Николаевичем Лясковским. Имение его было заложено-перезаложено. И вот отец обнаружил по каким-то признакам в этом имении железную руду. У помещика не было и сотни рублей на то, чтобы начать изыскания. Отец на последние свои деньги привез к нему горных инженеров, серьезно заинтересовавшихся этим делом.
Когда же отец навестил Лясковского через несколько месяцев, он нашел у него за богато накрытым столом целую ораву прихлебателей, которые называли теперь отставного подполковника не иначе, как «пáне полковнúку» или «господин полковник». Самолюбивый и вспыльчивый отец сразу же перессорился со всей этой разношерстной и подозрительной компанией дельцов, и расчетливому хозяину пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить и умиротворить отца, который в то время все еще был ему нужен.
Месяц тянулся за месяцем. Изыскательские работы в имении шли полным ходом. И отец ни на минуту не терял уверенности в том, что его труды будут в конце концов достойно вознаграждены, хотя у него не было не только официального договора с подполковником, но даже и простой записки, подтверждающей щедрые обещания Лясковского.
А между тем вся наша семья жила в это время только отцовскими надеждами да еще той скудной помощью, которую оказывали ей родственники. Я был тогда слишком мал, чтобы запомнить все подробности этой печальной истории. Но у меня остались в памяти два письма — гневные строки отца, в которых он спрашивает у Лясковского: «Адам Николаевич, где бог, где совесть, где честь?» — и спокойно скептический ответ подполковника: «Ах, Яков Миронович, бог высóко, совесть далёко, а честь — это дело растяжимое».
Помню, как тяжело пережила наша семья полное крушение всех надежд. А мне было обидно, что мой умный и видавший виды отец позволил так легко обмануть себя и теперь никакими усилиями не может добиться самой простой правды и справедливости.
В эти дни я зачитывался «Дубровским». И как-то незаметно в сознании моем слились помещик Троекуров с помещиком Лясковским, а Владимир Дубровский — с моим отцом. Правда, отец не стал атаманом разбойников и ничем не отомстил вероломному подполковнику, но события, происшедшие в действительности, и эпизоды пушкинской повести так тесно переплелись между собой, что и до сих пор живут в моей памяти рядом.
Гимназия
Совершенно неожиданно пришла весть о том, что я принят в гимназию. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В один и тот же день за какую-то провинность из мужской гимназии исключили ученика, и из женской — ученицу. Оба они были не то в последнем, не то в предпоследнем классе.
И вот вакансия, освободившаяся в мужской гимназии, была предоставлена мне. На фуражке у меня снова заблестел герб, и я среди учебного года очутился за партой.
Мне купили такой же мохнатый, покрытый седой барсучьей щетиной ранец и такую же серую шинель с двумя рядами светлых пуговиц, как у моего старшего брата, и я был бесконечно горд, когда мы с ним — два гимназиста — шагали рядом по дороге в город, разговаривая об учителях, о товарищах по классу, о школьных новостях. Моя шинель была новее, герб и пуговицы блестели ярче, но зато у брата был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназическое обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке в магазине. С первого же взгляда можно было узнать, что я новичок.
В классе я встретил много старых знакомых — тех самых ребят, которые держали со мной вместе экзамены. Почти все они очень изменились за эти несколько месяцев — подросли и утратили что-то свое, домашнее, детское.
Длинный, сухопарый Сережка Тищенко усвоил повадки матерого, стреляного волка, побывавшего во многих переделках. Учителей называл он — конечно, за глаза — уменьшительными именами или прозвищами: «Пашка», «Яшка», «Швабра», «Губошлеп». Отвечать выходил нехотя, неторопливо и, получив очередную двойку, медленно, вразвалку возвращался на место, задевая ногами и локтями сидевших за партами товарищей или строя такие невообразимые рожи, что даже самые примерные из ребят не могли не прыснуть громко, на весь класс.
Степа Чердынцев тоже за это время вполне освоился с гимназической обстановкой и чувствовал себя в классе как дома: на уроках играл со своим соседом в шашки, а на переменах выменивал почтовые марки разных стран на перья, а перья — на марки.
На нем уже не было пышного, пестрого галстука бантом и нарядного отложного воротничка. В гимназической форме он казался еще толще, чем в прежнем пиджачке и коротких штанишках, был коротко острижен и от других ребят отличался только тем, что из рукавов серой блузы выглядывали у него белые накрахмаленные манжеты с блестящими запонками. Как я узнал позже, манжеты он носил не из одного щегольства: они были нужны ему для фокусов и для шпаргалок.
К счастью для меня, моим соседом по парте оказался спокойный и толковый Костя Зуюс, с которым я впервые встретился на письменном экзамене по арифметике.
Он подробно рассказал мне, чтó прошли в классе с начала учебного года по каждому предмету, и самым обстоятельным образом познакомил меня с гимназическими порядками и правилами.
Если бы не Костя, я бы не раз стоял в углу. Накануне того дня, когда по расписанию была у нас география, он заботливо напоминал мне, чтобы я не забыл принести атлас. Всех, кто являлся в класс без атласа, Павел Иванович неукоснительно ставил к стенке и записывал в классный журнал.
Атлас был очень велик и не влезал в ранец, а носить его под мышкой было неудобно. В ненастную погоду его мочил дождь, в мороз из-за него коченели руки. Но Павел Иванович был неумолим.
Перед началом урока этот грузный человек, казавшийся нам настоящим великаном, бесшумно, чуть ли не на цыпочках, обходил ряды парт в поисках очередной жертвы.
Ребята, уже прошедшие осмотр, пытались иной раз передать из-под парты свои атласы тем, у кого их не было, но зоркий Павел Иванович рано или поздно обнаруживал этот маневр и выстраивал вдоль стены добрую половину класса.
Впрочем, такое наказание сулило и некоторые выгоды: стоящих в углу наш географ почти никогда не вызывал отвечать урок. Этим пользовались самые заядлые лодыри. Угол спасал их от двойки.
Павел Иванович учил нас географии несколько лет, пока прямо из гимназии не угодил в сумасшедший дом. Говорили, что на одном из уроков он взобрался на подоконник и пытался пролезть сквозь форточку. После долгой борьбы сторожа сняли его с подоконника и увезли на извозчике.
Больше мы никогда его не видали.
_____
В первые годы моего пребывания в гимназии нашим классным наставником, переходившим с нами из класса в класс, был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слышал от старшего брата.
И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем понятного, но по-своему необыкновенно привлекательного человека.
Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в отлично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротничок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели, но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и любит шутливо повторять латинскую поговорку: «Calvitium non est vitium sed prudentiae judicium». — «Лысина не порок, а свидетельство мудрости».
Легкими и уверенными шагами поднимается он на кафедру, свободным, красивым движением раскладывает книги и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит красиво — изящным тонким почерком. А как умеет он радовать нас метким, шутливым словцом, веселой, чуть лукавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От этой улыбки и сам он светлеет — светлеют глаза, волосы, острая золотистая бородка — да и вокруг как будто становится светлей.
Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не оставлял без обеда, но ученики боялись его проницательных, слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного неодобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника или визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмана, учителя немецкого языка.
До моего поступления в гимназию любимцем Владимира Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству его расположение перешло и ко мне.
Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям русского языка — Антонову и Пустовойтову — обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, некнижную русскую речь.
Не много встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, и в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей.
Отвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оценивает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фальшивую интонацию. В сущности, таким образом он постепенно и незаметно воспитывал наш вкус.
Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами. Они изучали латинский и греческий языки как бы на фоне истории Рима и Греции, — так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между грамматическими правилами о героях Троянской войны, о походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древних времен.
Однажды он явился к нам на урок географии вместо отсутствовавшего в этот день Павла Ивановича. Он не стал проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске а рассказал нам о своем путешествии в Японию.
Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти сказочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас, ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешествием. Мы читали книги о дальних плаваньях, но впервые видели перед собой человека, который сам пересек на корабле синие пространства, занимавшие столько места на нашей карте.
Незадолго перед тем я и Костя Зуюс не отрываясь прочли «Фрегат «Палладу» Гончарова и даже проследили по карте весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь постранствовать по белу свету.
Среди учителей Теплых держался особняком. Он почти не скрывал своего презрения к Сапожнику — Антонову, к недалекому и невежественному Густаву Густавовичу Рихману, к словоохотливому и самодовольному географу, а водил дружбу только со скромным учителем рисования Дмитрием Семеновичем Коняевым, которого большинство сослуживцев, в сущности, и за преподавателя не считало, — экий, подумаешь, важный предмет — рисование!
С этим мягким, простодушным, чуждым служебного честолюбия и далеким от всяких дрязг человеком, которому судьба помешала стать художником, Владимира Ивановича связывали какие-то общие интересы и вкусы. Они вместе ездили на охоту или на рыбную ловлю.
Но чаще всего Владимир Иванович бывал один.
Почему этот одаренный, тонкий, знающий себе цену человек жил безвыездно в нашем уездном городе, отказываясь от перевода в другие города, где ему предлагали должность инспектора и даже директора, — понять трудно.
Нас, учеников, пленяли его гордость и независимость. Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ министра, тайный советник фон Анреп во фраке с большой орденской звездой, — Владимир Иванович продолжал как ни в чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызывал к доске самых посредственных, не блещущих способностями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохранявший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в конце концов нахмурился и важно удалился, не сказав ни слова.
Теплых был загадкой для всего города. Толки и пересуды сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпивает бутылку шампанского или рюмку коньяку с черным кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении обнаружить не могли.
Очевидно, он не был по своему происхождению аристократом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьянская фамилия), но как не похож он был на других учителей провинциальной гимназии, которые давно опустились, забыли о своих университетских годах и стали чиновниками и обывателями.
До поступления в гимназию я слышал много разговоров о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труднее, чем Георгиевский крест на войне.
Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас обоих он называл «триариями» (отборными воинами римской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал только тогда, когда долго не мог добиться от других верного ответа. В таких случаях он шутливо говорил: «Res venit ad triarios!» — «Дело доходит до триариев!»
Каждую субботу я приносил домой заполненную и подписанную им страницу ученического дневника, пестревшую тщательно, с удовольствием выведенными пятерками, и даже пятерками с крестом.
Меня — в отличие от старшего брата — он обычно звал «Маршачком».
— А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух Аяксов, — Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!
Героев «Илиады» я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеян и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука.
Еще в младших классах гимназии я перевел стихами целую оду Горация «В ком спасение» — «In quo salus est».
До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:
Когда стада свои на горы Погнал из моря бог Протей, — В лесных деревьях, бывших прежде Убежищем для голубей, Застряли рыбы. Лани плыли По Тибру. Тибр поворотил Свое течение и волны На храм богини устремил И памятник царя…Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древними языками и античной литературой — предметами, столь ненавистными большинству учеников классических гимназий.
_____
Но, как ни уважали мы нашего латиниста, мы все же порядком побаивались его.
Гораздо проще и свободнее чувствовал себя наш класс на уроках Якова Константиновича Пустовойтова, который временно заменял у нас Антонова. Он еще не дослужился до чина, и потому на его золотых наплечниках не было ни одной звездочки. Говорил он грудным, хриплым, словно надсаженным голосом. Часто покрикивал на ребят и давал им самые невероятные прозвища — по большей части из Достоевского — «Свидригайлов», «Лебезятников» и проч. Однако все мы чувствовали, что на самом-то деле наш мрачноватый Яков Константинович сердечен и незлобив и только из какой-то понятной детям застенчивости, а может быть, и ради самозащиты скрывает свою душевную мягкость и доброту. Роста он был небольшого, и синий форменный сюртук его казался непомерно длинным, даже как будто мешал ему ходить.
Не знаю, сколько лет было в это время Пустовойтову. Должно быть, он был еще довольно молод, но уже производил впечатление неудачника, который давно махнул на все рукой и не надеется больше ни на какое будущее.
Но почему-то таких, не слишком счастливых людей, ребята особенно любят.
Мне нравился его добродушно-ворчливый юмор, его хмурая улыбка и глуховатый голос. Я жалел его до глубины души, когда он приходил в класс на пять минут позже обычного, чем-то огорченный (видимо, какими-нибудь объяснениями с директором или инспектором). Не раз хотелось мне выразить ему свою нежность, но для этого не было подходящего случая.
Однажды весной вся наша гимназия отправилась за город на традиционную прогулку со своим духовым оркестром, с корзинами, полными бутербродов, и сверкающими на солнце большими самоварами. Все мы — от директора до самого младшего приготовишки — были в том счастливом, приподнятом настроении духа, когда исчезают преграды между людьми разных возрастов и положений.
В чуть позеленевшей загородной роще я отозвал Пустовойтова в сторону и после минутного молчания сказал ему, задыхаясь от волнения:
— Яков Константинович, я вас люблю!
Он пожал плечами, чуть-чуть улыбнулся и ответил мне своим негромким, с легкой хрипотцой голосом:
— Ну и что же нам теперь делать?
Я смутился. Он заметил это и ласково похлопал меня по плечу.
— Ладно, ступайте, ступайте, побегайте!
Так окончилось первое мое объяснение в любви.
Пробыл у нас в гимназии Яков Константинович недолго и ушел как-то незаметно.
_____
Из учителей, у которых не было чина и звездочек на погонах, запомнился мне еще один. Это был преподаватель Уездного училища, явившийся к нам однажды на урок вместо заболевшего математика Макарова.
Ребята знали, что Барбароссы в этот день не будет, и, как всегда на «пустом» уроке, уютно занялись самыми разнообразными делами: одни читали книгу, другие играли в перышки, третьи, сдвинув парты, проделывали между ними замысловатые акробатические упражнения. Как вдруг дверь открылась, и на пороге появился толстый, тяжело отдувающийся надзиратель, по прозвищу «Самовар». Он велел всем сесть на свои места и привести в порядок парты, а потом громогласно объявил, что заниматься с нами будет в этот день Серафим Иванович Кобозев.
В ответ послышался гул неодобрения, но быстрый и энергичный Самовар сразу же водворил порядок. Едва он удалился, в класс вошел, сияя улыбкой, завитой и напомаженный молодой человек в синем вицмундире, ничем не отличавшемся от вицмундиров наших гимназических учителей. Только пуговицы и золотые наплечники были у него, пожалуй, поярче и поновее.
Ученики с насмешливым любопытством разглядывали этого белокурого франта с задорным хохолком и шелковистыми усиками.
Большинство гимназистов смотрело свысока на «уездников» — учеников местного Уездного училища, которые нередко появлялись на улицах босиком, без формы с дешевыми желтыми гербами на помятых картузах. Из них чаще всего выходили приказчики, конторщики, счетоводы.
Да и преподаватели Уездного училища казались гимназистам птицами невысокого полета.
При появлении Кобозева всего лишь пятеро или шестеро ребят встало с мест; остальные далее не пошевелились или только слегка приподнялись.
Серафим Иванович покраснел, но не сделал никому замечания. Взойдя на кафедру, он уселся поудобнее, — будто он и в самом деле был учителем гимназии, — и спросил, что нам на сегодня задано.
— Ничего не задано! — коротко и хмуро ответил за всех Тищенко.
Кобозев недоверчиво пожал плечами.
— Ну, а что же вы в последнее время проходили?
— Пройденное повторяли! — глухо отозвался Колька Дьячков, сосед Тищенко по парте.
Кобозев нахмурился.
— Ах, вот как? Пройденное? Ну так не угодно ли вам, господа, решить задачку? На пройденное…
Этого никто не ожидал. Кажется, еще никогда не бывало такого случая, чтобы учитель, временно заменяющий другого, давал классу письменную работу.
— Итак, — продолжал Серафим Иванович, — раскройте, пожалуйста, свои тетрадки и запишите условие.
И он принялся диктовать медленно и четко.
У нас не было ни малейшего желания решать задачу, но и не хотелось ударить в грязь лицом перед этим красавчиком из Уездного училища. Чего доброго, он и пришел-то к нам только для того, чтобы посрамить ненавистных гимназистов.
Ребята перестали перешептываться и склонились над тетрадками. Каждый понимал, что если мы не решим задачи, это будет позором не только для нашего класса, но и для всей гимназии.
На первый взгляд задача казалась довольно простой, но почему-то, как я ни бился над ней, она мне не давалась. Несколько раз перечитывал я условие и с каждым разом все больше запутывался.
Искоса поглядел я по сторонам. Все сидели озабоченные и смущенные. Только Степа Чердынцев беспечно посматривал в окно: списывать было ему пока еще не у кого. Даже наш лучший математик, маленький Митя Лихоносов, сердито покусывал ноготь большого пальца, вместо того чтобы выводить у себя в тетрадке всегда послушные ему цифры.
— Что же вы задумались, господа? — слегка усмехаясь, спросил Кобозев. — Кажется, я вас немного озадачил этой задачкой? Ну, подумайте, подумайте!
И, довольный своей шуткой, он сошел с кафедры и, поскрипывая новыми, до блеска начищенными ботинками, прошелся между рядами парт.
— А вы как будто и вовсе сложили оружие? — спросил он, остановившись у парты, за которой сидели Дьячков и Тищенко.
— Да уж очень трудная! — пробормотал Дьячков.
— Ну, разве? — удивился Серафим Иванович. — А вот у нас в Уездном и потруднее задачки решают!
Это уже был прямой вызов.
Мы представили себе, с каким удовольствием будет рассказывать этот белокурый Серафим своим «уездникам» о том, как оскандалились у него на уроке гимназисты.
Все головы снова склонились над тетрадками. Перья заскрипели. Однако никто не поднимался с места, чтобы положить на кафедру тетрадку и сказать: «Готово, Серафим Иванович! Я решил».
Но вот в конце класса послышалось какое-то движение. Стукнула крышка парты. Мы разом обернулись: неужели у кого-то задача решена?
Да, так и есть. Толстый Баландин поднял руку и весь тянется к Серафиму Ивановичу.
Кобозев, слегка улыбаясь, шагнул в его сторону,
— Додумались? Вот и прекрасно!
Баландин смущенно потупился.
— Да нет, выйти позвольте!
В классе засмеялись. Усмехнулся и Кобозев.
— Ступайте! — сказал он небрежно. — А вы, господа, поторапливайтесь. До звонка уже немного осталось.
Но нас всех словно кто-то заколдовал. Мы делили, множили, вычитали, складывали, но все без толку.
И вот в ту минуту, когда мне наконец со всей ясностью представилось решение, по всему коридору пронесся длинный дребезжащий звонок.
Серафим Иванович взял с кафедры классный журнал, озарил нас лукаво-приветливой улыбкой и сказал на прощанье громко и отчетливо:
— До свиданья, господа! Советую вам еще разок повторить пройденное!
_____
Я дружил почти со всеми ребятами моего класса, особенно с мечтательным, голубоглазым Костей Зуюсом, но чаще всего проводил свободное от уроков время в обществе старшеклассников и чувствовал себя среди них довольно свободно. Это была молодежь конца девяностых годов, много читавшая и горячо спорившая. Молодые люди зачитывались Добролюбовым и Чернышевским, ревностно занимались естествознанием, рассуждали о смысле жизни и о призвании человека. Но все это не мешало им веселиться, петь хором студенческие песни и даже влюбляться. Вот только танцы были у них тогда не в моде: это считалось делом легкомысленным и даже пошлым. Ведь они были люди серьезные! Про одного из них — рослого, широкоплечего и скуластого восьмиклассника Вячеслава Лебедева — в городе рассказывали, будто он для изучения анатомии вырыл ночью на городском кладбище скелет. Не знаю, были ли справедливы эти слухи. А впрочем, по внешнему облику Вячеслава, такому решительному и загадочному, можно было предположить, что он способен перекопать во славу науки не одну могилу, а целую кладбищенскую аллею.
Но, пожалуй, душой кружка молодежи был не он, а его белокурая сестра — семиклассница Лида Лебедева. Несмотря на то, что она еще носила школьную форму — коричневое платье и черный передник, а под скромным плоским бантом ее круглой шляпки стыдливо прятался крошечный гимназический герб, Лида была больше похожа на столичную курсистку, чем на гимназистку из глухой провинции. Она была не менее серьезна, чем ее брат, но гораздо мягче, приветливее и даже в самых ожесточенных спорах сохраняла веселое изящество.
Когда собравшиеся на домашнюю вечеринку рослые гимназисты, окружив рояль, увлеченно, до самозабвения, тянули «Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», Лида по слуху подбирала аккомпанемент, но стоило ей уступить место кому-нибудь другому, хор почему-то сразу редел, и песня уже не звучала так истово и горячо.
Я был очень горд тем, что старшеклассники так радушно и дружелюбно принимают меня в свою среду, и ради их скромных вечеринок с шумными спорами и разноголосым пением готов был отказаться даже от вечернего гуляния в городском саду.
А ведь еще недавно мне казалось, что на свете нет большего наслаждения, чем это воскресное гуляние, за которое надо было платить гривенник. Раздобыть гривенник было не так-то легко. Иной раз приходилось целых два дня отказываться на большой перемене от бутерброда с колбасой, стоившего всего только пять копеек. Но эта жертва так щедро вознаграждалась, когда с билетом в руке вы свободно и уверенно входили в охраняемые контролером ворота и вас мгновенно подхватывали размеренные, сверкающие серебром и медью звуки духового оркестра.
Под музыку, то бодрую, то задумчиво-печальную, вы неслись, как на крыльях, по широким, освещенным поверху аллеям в дальнюю глубь сада, где можно было бродить в полутьме и в прохладе, не рискуя попасться на глаза шнырявшим в поисках очередной жертвы гимназическим надзирателям.
Если бы в придачу к единственному гривеннику у вас в кармане оказалось еще три-четыре, вы могли бы проникнуть в таинственное двухэтажное здание в самом начале сада, откуда до вас случайно долетали то мужские, то женские голоса, то раскатистый хохот, то неудержимые, захлебывающиеся рыдания.
У входа в этот необыкновенный дом были расклеены большие разноцветные листы тонкой бумаги, на которых — во всю ширину — красовалось непонятное слово: «Трильби», а под ним напечатанные разными шрифтами — то крупным, то мелким — ряды фамилий, по большей части двойных.
Это был театр, летний городской театр. Играли в нем иной раз приезжие актеры, но чаще всего местные врачи, адвокаты, чиновники, жены аптекарей, офицерские дочки, а режиссером у них был пламенный любитель театрального искусства — земский начальник, капитан в отставке Левицкий.
Как они играли, хорошо или плохо, я не знаю. Да в те времена такого вопроса у меня и не возникало. С восхищением и благодарностью смотрел я на сцену, когда передо мною взвивался театральный занавес.
Все пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и торопливый перестук молотков перед поднятием занавеса, и смена довольно примитивных декораций, изображавших то гостиную с атласной мебелью и золочеными столиками, то перекресток дороги, то аллею в саду, а иной раз и нечто совершенно неопределенное.
Но больше всего меня поражало то, что взрослые люди, суетящиеся на сцене, заняты игрой, словно серьезным и важным делом.
Мне казалось, что самое трудное в актерском искусстве — это умение как будто по-настоящему смеяться и плакать. Но, пожалуй, еще труднее удерживаться от смеха там, где смеяться не положено.
А как удивляла меня необычайная память актеров, быстро обменивавшихся репликами и произносивших без единой остановки и запинки длиннейшие монологи.
Впрочем, удивление мое несколько ослабело, когда до моего слуха донесся сиплый, но довольно явственный шепот из будки перед сценой.
Почти каждая фраза, которую должны были произнести актеры, долетала до меня заранее из этой загадочной будки.
Эх, не умеют подсказывать! Поучились бы у нашего Степки Чердынцева.
Приглашение в литературу
Начало двадцатого века было и началом резкого перелома в моей жизни.
Через некоторое время после того, как я поступил в гимназию, семья наша навсегда покинула заводской двор и пригородную слободку и переселилась наконец в городскую квартиру — в двухэтажный деревянный дом, над калиткой которого было написано крупными буквами:
ДОМ АГАРКОВЫХ
С переездом в город кончилось, в сущности, мое детство.
Быстрее понеслось время. Как будто кто-то придал часовым стрелкам новую скорость.
На заводском дворе мне порой некуда было девать часы и целые дни. Лето тянулось бесконечно долго — куда дольше, чем летние каникулы моей гимназической поры.
Хоть прямое, сознательное любование природой было мне, как и другим ребятам в этом возрасте, чуждо, но как-то на ходу, на бегу, между делом и среди игры я в глубине души радовался, как никогда потом, нашим старым, ветвистым деревьям, о корни которых столько раз спотыкался, оркестру кузнечиков в жаркий полдень, круженью ласточек на закате и даже предвечерней перекличке ворон над мрачным, полуразрушенным заводом…
После нескольких лет жизни на Майдане город с десятком тысяч жителей показался мне настоящей столицей. Он поразил меня не только своими каменными домами (изредка даже двухэтажными!), но и какой-то своеобразной свободой, которою пользуются горожане по сравнению с жителями пригорода.
Город гораздо меньше зависит от погоды, чем слободка, где после проливного дождя улица становится непроходимой. В городе вы не связаны с какой-нибудь одной хлебопекарней или лавочкой: столько здесь булочных и пекарен — выбирай любую!
Здесь вам не надо, как на слободке, просить лошадь у соседа, чтобы съездить куда-нибудь. По улицам катят взад и вперед, зазывая седоков, извозчики в пролетках с двумя прозрачными фонарями по бокам. За гривенник вы можете проехаться барином, разглядывая вывески лавок по обеим сторонам улицы.
А как сочно, как вкусно называются эти городские лавки — бакалея, галантерея, торговля москательными товарами. И в каждой лавке свой запах, свой уклад, свои особенные повадки у продавцов. Солидный, неторопливый, упитанный приказчик отпускает крупу, отвешивает сахар или режет для вас колбасу в бакалейной лавке. Гораздо более гибкий, проворный, обладающий светскими манерами продавец обслуживает покупательниц в галантерее. И такие рослые, степенные, неразговорчивые дядьки грохочут своим товаром в железоскобяных лавках.
В самом сердце города живет своей особой жизнью целый каменный городок, состоящий из множества лавок и крытых переходов. Это Гостиный ряд, так приветливо манящий прохожих нарядными витринами днем — и такой неприступный, замкнутый на все замки и охраняемый цепными псами ночью.
А есть на одной из главных улиц большой, двухэтажный дом, где в любое время суток — и днем и ночью — радушно встречают приходящих и приезжающих. Над крышей этого дома, во всю ее длину, прибита вывеска, которую я с таким трудом разбирал в те времена, когда приходил в город с Майдана:
КОММЕРЧЕСКИЕ НОМЕРА
Я знал, что этот дом — гостиница и что люди здесь живут не так, как в других домах, не постоянно, а день-другой, самое большее — неделю или две. У дверей гостиницы всегда стоят и разговаривают между собой или со швейцаром приезжие. Среди них часто встречаются люди, бреющие не только бороду, но и усы (что в то время было еще редкостью). Люди эти завязывают галстуки широким бантом и говорят какими-то особенными — звучными и раскатистыми — голосами. С ними — дамы в больших шляпах с перьями и в нарядных платьях, каких не носят у нас в городе.
Это — те самые приезжие актеры и актрисы, которые так великолепно рыдают и смеются в театре.
Но чаще всего из дверей гостиницы выходит усатый и бородатый народ — в картузах, в поддевках и в сапогах бутылками.
У тех, кто носит только усы, — поддевки несколько более щеголеватые, в талию, да и картузы у них поаккуратнее, с высоким верхом наподобие военных фуражек. А у людей бородатых картузы помягче, пониже, поддевки потолще и пошире в поясе.
Усачи — это мелкие помещики нашего уезда или управляющие имениями. Бородачи — купцы.
Я не раз заглядывал в открытую дверь гостиницы, стараясь представить себе, как живут все эти незнакомые люди в таинственных комнатах, называемых «номерами».
Неожиданно мне представился случай побывать в «Коммерческих номерах». Произошло это так.
_____
На одной из вечеринок в квартире у Лебедевых, где чаще всего собиралась молодежь — гимназисты и гимназистки старших классов, — увидел я как-то необычного гостя, петербургского студента. Это был первый встреченный мною, однако же совсем незаурядный студент. Он был сыном богатого, но весьма либерального помещика Бобровского уезда и приезжал из отцовского имения на собственной тройке с колокольчиками и бубенцами. Носил студенческую фуражку с голубым околышем и щегольскую шинель офицерского покроя с широкой пелериной (такую шинель называли «николаевской»).
Собою он был хорош, статен, высок. Черты лица были у него строгие, правильные, глаза — веселые, блестящие, светло-голубые. Небольшая русая бородка была аккуратно расчесана.
Наши серьезные и самолюбивые гимназисты-старшеклассники глядели на него искоса, исподлобья — отчасти потому, что считали его баричем и «белоподкладочником», отчасти, может быть, из ревности, — так представителен и великолепен был он в своем форменном студенческом сюртуке, так непринужденно и весело смеялся, сверкая ровными белыми зубами. А бородку он как будто нарочно отпустил для того, чтобы всем было видно, что он давно уже перешел из юношеского в более солидный возраст.
Впрочем, он всячески старался держаться с нашими усатыми гимназистами запросто, на равной ноге, пел с ними вольные и задорные студенческие песни, вроде:
У студента под конторкой Пузырек нашли с касторкой. Динамит — не динамит, А без пороха палит. У курсистки под подушкой Нашли пудры фунт с осьмушкой…Или:
Там, где тинный Булак Со Казанкой-рекой, Точно братец с сестрой, Обнимаются. От зари до зари, Лишь зажгут фонари, Вереницей студенты Шатаются. А Харлампий святой С золотой головой, Сверху глядя на них, Улыбается. Он и сам бы не прочь Погулять с ними ночь, Да на старости лет Не решается…Аккомпанировала, как всегда, Лида Лебедева. Однако присутствие петербургского гостя ее немного смущало. Она сбивалась и, покраснев, уступала место у рояля студенту, который легко и ловко подбирал любой мотив длинными, сильными пальцами с двумя перстнями — на указательном и безымянном.
Я был значительно моложе всех присутствующих и в пении участия не принимал — стыдился показать, что голос у меня еще совсем детский.
Однако студент обратил свое внимание и на меня. Узнав от кого-то — вероятно, от Лиды Лебедевой, — что я пишу стихи, он дружески похлопал меня по плечу и предложил пристроить несколько моих стихотворений в одном из петербургских толстых журналов — по моему выбору — например, в «Русском богатстве» или в «Мире божьем»… Но предварительно он и сам бы хотел познакомиться с моей поэзией.
В конце концов мы условились, что я приду к нему на следующее утро в «Коммерческие номера». На всю жизнь запомнил я номер, в котором проживал мой студент: пятнадцатый.
Еще бы не запомнить! Взрослый человек, остановившийся в гостинице, студент петербургского университета (это звание казалось мне тогда равным чуть ли не званию профессора или академика) приглашает меня к себе в номер, чтобы послушать мои стихи и потолковать об устройстве их в одном из столичных журналов… Все это было так невероятно, что я решил ничего не рассказывать своим домашним до завтрашнего дня.
Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, раздумывая о том, какие из моих стихов больше всего подошли бы для толстых журналов. Это была неразрешимая задача. Петербургских журналов я еще никогда не читал, а только видел на столах в библиотеке. Кто знает, какие стихи могут понравиться редакторам «Русского богатства» и «Мира божьего»!..
После долгих сомнений и размышлений я решил переписать начисто всю тетрадку стихов.
Бережно и старательно до глубокой ночи переписывал я стихотворение за стихотворением, тут же на ходу исправляя строчки, которые мне казались слабыми.
Утром я проснулся позже, чем предполагал, и, захватив с собой тетрадку, опрометью помчался в гостиницу, где, как мне представлялось, меня уже давно поджидает мой великолепный студент в том же самом щегольском, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в каком я его видел накануне.
Вот они наконец — эти «Коммерческие номера»!
Вместе с несколькими взрослыми людьми — с двумя офицерами и дамой в широкой шляпе — вошел я в подъезд гостиницы. Бородатый старик швейцар в поношенной ливрее с давно потускневшими пуговицами и позументами поклонился вошедшим взрослым, а меня спросил:
— Ты к кому, мальчик?
Я назвал студента.
— А, в пятнадцатый! — сказал бородач. — Только их, кажись, дома нету. С вечера не вернулись.
И он указал рукой на доску, на которой под номерами висели ключи от комнат.
Я поколебался немного, но все-таки решил постучаться к студенту. Не может быть, чтобы такой серьезный человек меня обманул.
По обе стороны длинного, полутемного коридора я увидел множество дверей. Одни из них были полуоткрыты — так, что я мог разглядеть бреющегося перед стенным зеркалом толстого человека в синих штанах с красными кантами и с болтающимися сзади подтяжками или целую компанию мужчин и женщин, завтракавшую за столом, уставленным графинами, тарелками, чайниками и пестрыми чашками.
Другие двери были плотно и таинственно закрыты, и перед ними, точно на страже, стояли туфли, ботинки или высокие сапоги со шпорами.
Вот и номер, где живет мой студент. Я тихонько постучался, но ответа не было. Подождав минуты две, я постучался сильней, но и на этот раз никто не ответил. Неужели студент и в самом деле не вернулся с вечера? Где же и когда я его теперь найду?
Вот тебе и «Мир божий»!
Я был не на шутку огорчен. Не оттого, что терял надежду увидеть свои стихи напечатанными в толстом журнале. Нет, мне было жаль какого-то обещанного и несостоявшегося праздника…
Пробегавший мимо меня с подносом на вытянутой руке молодой парень в белой рубахе навыпуск и в белых штанах крикнул мне на ходу:
— А вы заходите без стука! Чего стучать — соседей будить? Нонче воскресенье, — проезжающие спят допоздна!
От его подноса, накрытого салфеткой, вкусно пахло блинами, топленым маслом и какой-то копченой рыбой. У меня даже засосало под ложечкой, — ведь я ушел из дому без завтрака.
Послушавшись совета, я нажал ручку двери и вошел в номер.
Первое, что попалось мне на глаза в просторной и все же душной комнате, была роскошная шинель студента, небрежно брошенная на спинку кресла. Со спинки другого кресла свешивались синие студенческие брюки со штрипками.
Значит, он дома, в номере. Но почему же его не видно?
Тут только я услышал громкий храп из-за пестрой ширмы, которая была похожа на те, что носят на спине бродячие петрушечники.
Спит.
Я тихонько уселся на стул у небольшого, накрытого узорчатой скатертью стола, на котором стояли пустой графин, бутылка темно-красного вина с черно-золотым заграничным ярлыком и сифон сельтерской воды.
Я стал внимательно разглядывать номер: умывальник с большой фарфоровой чашкой и кувшином, несколько позолоченных стульев с потертыми плюшевыми сиденьями и такой же диванчик. А над диванчиком на стене — картина в золотей раме, изображающая румяную красавицу в красном платье с распущенными по плечам пышными волосами. Почему-то по одну сторону пробора волосы были иссиня-черные, а по другую — белокурые.
Под изображением было напечатано крупными золотыми буквами:
«ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО РАЛЛЕ И Ко».
Осмотрев все, что было в номере, я стал невольно прислушиваться к храпу. Он вовсе не был так однообразен, как показалось мне вначале: в нем было и хрипение, и мурлыканье, и бульканье, и свист.
Как-то незаметно я и сам задремал и выронил из рук толстую книгу, между страницами которой была у меня моя новенькая тетрадка со стихами. Я заложил ее в книгу, чтобы она не помялась дорогой.
— Ммм… кто там? — сонным и недовольным голосом спросил студент.
Я не знал, что и ответить. Вряд ли он запомнил мою фамилию.
— Это я… Вы помните, вчера у Лебедевых… Вы просили занести вам стихи для журналов…
— А, поэт! — уже более бодрым голосом сказал студент. — Отлично. Сейчас я буду весь к вашим услугам!
Через несколько минут он вышел из-за ширмы в каком-то полосатом халате, подпоясанном шнурком с красными кистями. Волосы прилипли у него ко лбу, нерасчесанная бородка сбилась и смотрела куда-то вкось.
После долгого умыванья с фырканьем и плеском он пригладил свои, уже слегка поредевшие, волосы, расправил бородку и, поморщившись, сказал:
— Фу, какой вкус во рту противный!.. Будто всю ночь медный ключ сосал… Сельтерской, что ли, выпить?
И, нажав ручку сифона, он нацедил себе полный стакан шипучей, пенистой воды.
— Так-с, — сказал он, усаживаясь в кресло, на котором висели его брюки. — Самоварчик закажем, а? И, может быть, осетринки с хреном… — добавил он медленно и задумчиво.
Вызвав звонком полового и заказав самовар, осетрину и графинчик зубровки, он снова уселся в кресло и уставился на меня своими голубыми, но на этот раз несколько мутноватыми глазами с красными прожилками в белках.
— Значит, вы мне стишки принесли? Вот и отлично. Давайте-ка их сюда, давайте!
Я молча протянул ему свою тетрадку. Он небрежно раскрыл ее и перевернул страницу, другую.
— Так, так, — сказал он. — Почерк у вас отличный. Превосходный. Вероятно, по чистописанию пятерка? А?
Немного обиженный, я пробормотал, что чистописания у нас уже давно нет.
— Ах, простите! Конечно, нет… Но пишете вы все-таки прекрасно, — сказал он, вновь раскрывая мою тетрадку.
— Вы сами прочтете стихи или мне вам прочесть? — нерешительно спросил я, видя, как рассеянно перебрасывает он страницы.
— Нет, зачем же?.. — сказал студент, позевывая. — Кто же это с самого утра — да еще натощак — стихи читает? Стихи приятно декламировать вечером и, разумеется, в обществе женщин. Не так ли?
И он с размаху бросил мою бедную тетрадку в раскрытый чемодан, где лежали носки, платки, крахмальные воротнички и сорочки.
В это время дверь отворилась, и в номер, скользя на мягких подошвах и поигрывая подносом с графинчиком и тарелками, вбежал половой.
— Что ж, закусим? — спросил студент, разворачивая салфетку. — Присаживайтесь, поэт!
— Спасибо, не хочу, — сказал я сдавленным голосом и, неловко поклонившись, вышел в коридор.
Я уже ясно понимал, что стихи мои не увидят ни «Мира божьего», ни «Русского богатства»… Но взять их обратно у меня не хватило храбрости.
«Первые попытки»
Если бы судьба случайно не свела меня с этим столичным студентом, мне бы и в голову не пришла мысль послать свою рукопись в редакцию какого-нибудь журнала.
Насколько я себя помню, пристрастие к стихам появилось у меня с самого раннего возраста. В сущности, «писать стихи» я начал задолго до того, как научился писать. Я сочинял двустишия, а иногда и четверостишия устно, про себя, но скоро забывал придуманные на лету строчки. Постепенно от этого «устного творчества» я перешел к письменному.
Мне было лет пять-шесть, когда я впервые участвовал в детском утреннике. На маленькой сцене, специально построенной по этому случаю в саду у наших знакомых, старшие ребята представляли какую-то пьеску, а мы, младшие, выступали в дивертисменте — пели, читали стихи или плясали русского в красных рубашках, подпоясанных шнурками. Публика разместилась на стульях, расставленных перед сценой. Когда очередь дошла до меня, я быстро сбежал по лесенке со сцены и, шагая по проходу между рядами стульев, стал громко и размеренно читать стихи, отбивая шагами такт. Где-то в задних рядах публики меня наконец задержали и вернули на сцену, объяснив мне, что во время чтения стихов надо не ходить, а стоять смирно. Это меня очень удивило и даже огорчило. Разве устоишь на месте, когда строчки стихов так и подмывают двигаться, шагать, отстукивать такт…
По совести говоря, я и до сих пор думаю, что был тогда прав. Известно, что в греческом театре хор не стоял на одном месте, а мерно двигался. Да и самое деление стиха на «стопы» оправдывает мое детское представление о том, как надо читать стихи.
Но переубедить взрослых пятилетнему человеку нелегко. Мне пришлось дочитать стихотворение со сцены, но уже безо всякого удовольствия.
Однако придумывать стихи я не перестал.
К двенадцати — тринадцати годам я сочинял целые поэмы в несколько глав и был сотрудником и соредактором литературно-художественного журнала «Первые попытки».
Другим редактором этого рукописного журнала был мой приятель Леня Гришанин. Как и большинство друзей моего детства, он был значительно старше меня — лет на шесть, на семь, по крайней мере. В школе он никогда не учился, так как с малых лет был калекой: ноги у него были согнуты в коленях, и ходил он будто на корточках, сильно шаркая на ходу ногами. Из дому он почти никогда не отлучался и учился в одиночку — по гимназической программе. И все же успевал куда больше своих сверстников-гимназистов, а книг прочел столько, сколько иной не прочтет за целую жизнь.
Пальцы обеих рук были у него тоже сведены и не разгибались. Но он каким-то чудом ухитрялся вкладывать левой рукой в сложенные щепоткой пальцы правой перо, рейсфедер или карандаш и не только писал и чертил, но даже и рисовал превосходно. Недаром каждый номер нашего журнала выходил с красочным заголовком и с тонкими рисунками пером в тексте.
Леня был не только редактором журнала, но и нашей типографией: все номера от первой до последней строчки переписывал начисто он один, так как считал мой почерк слишком детским. Хорошо еще, что номера состояли всего лишь из нескольких страничек и выходили в одном-единственном экземпляре. Впрочем, больше и не требовалось. Журнал читали, кроме Лени и меня, только мои товарищи по классу, мой брат и Лёнина сестра.
Семья у Гришаниных была маленькая, но тесно спаянная одиночеством и каким-то особенным умением понимать друг друга с полуслова. Я очень любил бывать в этом доме, где как будто совсем не было старших, — так просто, по-дружески, шутливо и в то же время серьезно относились друг к другу Леня, его мать и шестнадцатилетняя сестра-гимназистка Маруся. Леня подчас едко подтрунивал над веселым и прихотливо-изменчивым нравом своей младшей сестры, но к его добродушно-насмешливым замечаниям она уже давно привыкла и никогда на них не обижалась.
Приехали Гришанины в наш город откуда-то с Украины, где служил в последние годы своей жизни отец семьи, армейский офицер. Похоронив мужа, Александра Михайловна, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, долго бедствовала и не могла вовремя полечить больного сына. После многих мытарств ей удалось получить место сиделицы винной лавки в городе Острогожске, когда торговля водкой стала монополией государства. Как ни жалка была эта должность, добиться ее было не так-то легко. Нужно было солидное поручительство, чтобы бедной офицерской вдове была наконец предоставлена честь отпускать покупателям бутылки, запечатанные белым или красным сургучом. «Белые головки» стоили дороже, чем красные.
Винная лавка, которую в просторечии именовали «казенкой», «монополькой» или «винополькой», была нисколько не похожа на обыкновенные лавки.
Над входом ее красовалась темно-зеленая вывеска с двуглавым орлом и строгой, четкой надписью:
КАЗЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА
Частая железная решетка разделяла помещение на две половины. В одной, куда не было доступа посторонним, царил чинный и даже торжественный порядок, точно в аптеке, в казначействе или в банке. На многочисленных полках стояли, выстроившись, как солдаты по ранжиру, сороковки, сотки и двухсотки, которым потребители дали свои, более сочные и живописные прозвища — шкалики, мерзавчики, полумерзавчики и т. д.
А по ту сторону решетки толклась самая разношерстная публика. Людям, которые были, как говорится, «на взводе» или «под мухой», отпускать водку не полагалось, но завсегдатаи казенки не сдавались и подолгу, заплетающимся языком, убеждали сиделицу, что они «как стеклышко». Если уговоры и мольбы не действовали, они переходили к угрозам и к самой отборной ругани.
В таких случаях сиделица имела право вызвать городового, который всегда дежурил неподалеку от казенки. Но, кажется, Александре Михайловне не пришлось ни разу прибегнуть к содействию властей. Из маленькой двери, которая вела в жилые комнатки, выходил, с трудом переступая согнутыми в коленях и далеко выставленными вперед ногами, Леня. Этот человек, поднимавшийся всего на полтора аршина от пола, никогда не ввязывался в споры с покупателями. Но было, должно быть, нечто устрашающее в строгом юношеском лице с пронзительными голубыми глазами и в придавленном к земле паучьем теле. Во всяком случае, поглядев на него, даже самый отъявленный буян умолкал и пятился к дверям.
Обычно, пока торговля в казенке шла тихо и мирно, Леня относился к своим обязанностям и к тому хмельному заведению, которое обслуживала его семья, с трезвым и печальным юмором. Только такое снисходительное, философское отношение и могло примирить его с делом, которым ему приходилось заниматься отнюдь не по влечению сердца.
Напряженно думая о чем-то своем, он живо и ловко расставлял по полкам сотни бутылок, которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, или взбирался на лесенку, чтобы достать для покупателя сороковку или шкалик, если нижние полки были уже пусты.
После обеда Леню сменяла на посту мать или Маруся, а он уходил в свою комнату рисовать что-нибудь или читать книжки.
От него я впервые узнал о Писареве, которого он читал не отрываясь, со страстным увлечением.
И когда года через три-четыре я сам стал читать Писарева, я понял, кому был обязан мой приятель своим умением спорить остро и колко, хотя, впрочем, какая-то едкая, подчас горькая ирония была присуща и ему самому.
Со мной он обращался, как старший с младшим, — ведь у него было гораздо больше знаний и житейского опыта, чем у меня. И все же ему, видимо, нравилось подолгу болтать со мной о самых разных материях. Может быть, он просто отдыхал от своих мыслей и тревог в обществе мальчика, который нисколько не досаждал ему обидным сочувствием и с открытой душой встречал каждую его шутку, каждое меткое словцо.
Наш рукописный журнал «Первые попытки» был для меня важным и серьезным делом, а для него, по всей вероятности, только забавой. Однако он старательно рисовал заголовки журнала и аккуратно снабжал его прозой — коротенькими юмористическими рассказами и заметками «из мира науки» — в то время как я мог предложить журналу только стихи.
В комнате, где мы работали, всегда стоял острый, водочный запах, которым была пропитана насквозь вся квартира.
Иногда под вечер, когда на столе у Лени уже горела керосиновая лампа, нашу редакционную работу неожиданно прерывала Маруся. Некоторое время она неподвижно, с закрытыми глазами, сидела в старом кресле, отдыхая от гимназии и от занятий с учениками, которых она репетировала. А потом, как-то сразу стряхнув с себя усталость, приносила брату мандолину и начинала упрашивать его еще разок повторить с ней романс, который она готовила для гимназического вечера. У Лени был прекрасный слух, и Маруся никогда не выступала на вечерах без его одобрения.
Поворчав немного, Леня все же брал мандолину и, наклонившись над ней, принимался теребить струны, а Маруся становилась в позу, складывала руки коробочкой, как это делают профессиональные певицы, и пела:
Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты…Не знаю, нравилось ли Марусино пение клиентам «казенной винной лавки», до которых долетал такой неожиданный для этого заведения лирический романс Чайковского, но мне казалось, что лучше петь нельзя.
— Фальшивите, фальшивите, сударыня, — говорил ей Леня и опять наклонялся над мандолиной.
Я смотрел на его быстро мелькающие руки и думал о том, как отлично справляются с любым делом эти уродливо скрюченные, несгибающиеся пальцы.
Брат и сестра были очень похожи друг на друга — те же немного прищуренные голубые глаза, те же мягкие светло-русые волосы. Должно быть, Леня был бы очень хорош собой, если бы его не изувечила болезнь.
Когда в лавке не было покупателей, в комнату к Лене приходила Александра Михайловна, темноволосая, худощавая, преждевременно состарившаяся женщина в очках. Она пристраивалась где-нибудь в углу, видимо радуясь возможности побыть с детьми, — ведь эта маленькая семья так редко бывала в сборе.
Но раздавался резкий, назойливый звонок из лавки, извещавший о приходе покупателя.
— Вот вам и «тревога мирской суеты»! — с усмешкой говорил Леня и, шаркая ногами, отправлялся торговать казенным вином.
_____
Как из горного озера река, так из детства, которому весь мир представляется извечно неизменным и неподвижным, вытекает своенравная, стремительная юность.
В первые годы жизни мы обходимся без календаря, да, в сущности, и без часов. В календарь заглядываем главным образом перед днем рождения, а часы напоминают нам о себе только тогда, когда время идет к обеду или ко сну.
Все в детстве кажется нам устойчивым, незыблемым, первозданным: город, улицы, названия улиц и лавок; да и самые лавки, где продают крупу и соль в «фунтиках», а сахарные головы в обертке из плотной синей бумаги. Мороженщики с тарахтящими на ходу ящиками на колесах, петрушечники с пестрыми ширмами — все это как будто существует с незапамятных времен, чуть ли не с начала мира…
В эти годы жизни вполне полагаешься на взрослых, которым известно, чтó бывает и чего не бывает на свете, чтó, когда и как надо делать. Мир представляется нашему воображению загадочным, но вполне разумным, хоть пока еще нам знакома только очень небольшая его частица — наш двор да еще несколько прилегающих к нему улиц. Мы забрасываем взрослых бесчисленными вопросами, но далеко не всегда получаем от них вразумительные, утоляющие ответы.
Но вот наступает юность. Мир с необыкновенной быстротой разрастается — в него входят уже целые страны, материки и далекие звездные миры. Время становится считанным и раздвигается в обе стороны — в прошедшее и будущее.
Все на свете оказывается непостоянным, изменчивым и не всегда разумным. Мы начинаем замечать, что взрослые не так уж надежны — они часто ошибаются, колеблются, не согласны друг с другом, а иной раз даже противоречат себе самим и далеко не все на свете знают.
Нам теперь часто приходится действовать на свой собственный страх и риск. Дороги разветвляются, и на каждом перекрестке перед нами встает трудная задача выбора пути. Кое-какой житейский опыт у нас уже накоплен, и мы с нетерпением ждем и жаждем нового опыта.
Весь мир приходит в движение за какие-нибудь два-три года.
Он становится огромным и в то же время, — хоть это и может показаться странным и даже противоречивым — как-то уменьшается в нашем сознании.
Нам больше не кажутся великанами деревья на дворе. Не так заметен теперь замшелый камень, глубоко вросший в землю за старым заводом. Мы уже не следим с таким пристальным вниманием за катящимися по оконному стеклу дождевыми каплями, которые делятся и дробятся по пути вниз, словно блестящие шарики ртути.
Зато перед нами открывается даль, как в бинокле, который повернули другой стороной.
К тому же с приходом юности наши дни наполняются несметным множеством разнообразных впечатлений, навсегда заслоняющих от нас первоначальную пору жизни.
Голос нового века
Юность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века, а этот век с первых же дней показал свои львиные когти.
Во время моего детства и отрочества мы еще не знали (как странно представить себе это сейчас!) ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения.
В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля.
Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет — после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатили первые, еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую, громоздкую конку.
Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюля Верна; со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса.
И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.
То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях.
Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное.
Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами.
Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что в нем таится.
Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду.
— Вы видите перед собой, — заговорил он наконец, — недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, — в том числе и звуки человеческой речи. Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое название «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Соблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем!
От старшеклассников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в исправности», или: «Очевидно, нам придется вернуться к этому опыту в следующий раз!»
Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-но-граф…»
После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша.
Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше, — музыкальные шкатулки были нам знакомы.
А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжествующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон изобрел говорящий аппарат.
_____
Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приблизили нашу уездную глушь к столицам, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе, играя на просторном заводском дворе в города из обломков кирпича и в деревни из щепочек.
Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар.
Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей.
Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и более значительных событий.
Мне было лет семь, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер — да не просто умер, а «в Бóзе почил» — царь Александр Третий.
Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его «чудесном спасении» у станции Бóрки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение.
А вот теперь царь «почил в Бóзе». Я решил, что «Боза» — это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в Бóзе, как видно, ему спастись не удалось.
Года через полтора я услышал новое слово «иллюминация». В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин — Майдана и Лушниковки — прогуливалось в этот вечер вместе с горожанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед — слепой горбун — шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда «ходил на люминацию».
Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то «Ходынке». Страшным это слово казалось оттого, что его произносили вполголоса или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что Ходынка — это Ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы получить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вензелями царя и царицы под короной и гербом.
Неспокойно начиналось новое царствование.
Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известия о том, что в больших городах — в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове — все чаще и чаще «фабричные» бастуют, а студенты бунтуют и что студентов сдают за это в солдаты.
Одни из наших соседей — особенно соседки — жалели студентов, другие говорили, что так им и надо, — пускай, мол, не бунтуют, а учатся!
Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане, да и в городе.
Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера усатый красильщик — тот самый, что зачитывался приложениями к журналу «Родина». Отец говорил, что эта газетка все врет и «скверно пахнет». Я понимал его слова совершенно буквально — может быть, потому, что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом.
Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом, — «Новое время».
И когда я впервые заметил широкие листы «Нового времени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам.
В нашей семье газета появлялась редко — только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он «Неделю», которую называли «Неделей» Гайдебурова. За газетой велись жаркие споры.
Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три года скачи, ни до какого государства не доедешь».
У меня о Франции и французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:
Жил-был во Хранцыи Король молодой, Имел жену-красавицу И двох дочерей. Одна была красавица, Что царская дочь, Другая смуглявица, Что темная ночь…Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий да десяток французских имен из тех «рóманов», которыми снабжали меня торговавший в лабазе Мелентьев и сосед-красильщик.
Но все это казалось мне таким далеким — либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции в наши дни, и о людях, в самом деле существующих.
Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную жизнь и запомнился на долгие годы.
Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстергáзи, Клемансо, Лабори, Бернáр Лазáр, Пати де Клам, Эмиль Золя…
Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан Альфред Дрейфус.
Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на Чертов остров.
Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца.
Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове?
В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг.
Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжалования Дрейфуса.
Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги.
Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то — может быть, только потому, что он был офицер, — я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чириковéра, который когда-то лечил нас в Воронеже…
И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на Чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки.
Чертов остров! Само это название как бы говорит о том, что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь.
Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо в газету под названием: «Я обвиняю». Но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме.
Видно, недаром наша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко.
Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.
Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко, высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной тужурке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой — пышноусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках.
Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех концов света — там была даже марка острова Мартиника, — а мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесиках, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы.
Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по целковому, чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки.
Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться,
Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных с виду людей.
Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семевыч пел шутливые украинские песни.
Жалилася попадья, Що пип з бородою… Запрягала попадья Гуси та индыки, Поихала попадья У Киив до владыки…Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке.
Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей — новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий, шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя, которого Егор Данилыч называл по-русски: «Золá». Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Семен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором, в котором слышались и задор и насмешка, то веселая, то злая.
Мой брат и я давно уже считали себя настоящими «дрейфусарами» и сейчас были целиком на стороне Семена Семеныча, но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз, против своего обыкновения, не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая положить конец пререканиям:
— А ну их к шуту, вашего Дрейфýса вместе с Емилем Золой! Вас двоих не переспоришь.
Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова. Но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул:
— А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери — на Чертов остров, и дело с концом!
Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама.
— Довольно вам горячиться, — сказала она спокойно. — Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.
И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало обо всяких пустяках?
Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Егора Данилыча. И когда он наконец собрался домой и протянул мне на прощанье свою большую широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, задыхаясь от волнения:
— Возьмите, пожалуйста… Мне не надо!..
— И мне не надо! — сказал брат и тоже протянул Егору Данилычу свой целковый.
— Это еще почему? — спросил Егор Данилыч и даже слегка покраснел.
— Вы очень нехороший человек, — сказал я. — Вот почему.
А брат только молча кивнул головой. Егор Данилыч криво усмехнулся:
— Эх вы, Емели Зола!
Он положил оба новеньких целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.
Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побранила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые.
Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.
_____
Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке.
Войны, в которых участвовали наши, русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, стороживший арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь.
На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и «белого генерала», но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.
Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры.
Буром был и я, играя в войну сначала на улицах слободки, а потом и на гимназическом дворе.
Происшествия и события
Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимназия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизменным, как издавна установившиеся в ней порядки.
Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали жить по расписанию.
Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или на пароход. Он уже не располагает своим временем, а подчиняется общему распорядку. То же было и с нами. Гимназические уроки чередовались с переменами в точно определенные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за перегонами.
Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимназия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений, какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании вызова к доске или перед письменной работой.
Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.
По сравнению с неприглядным бытом пригородной слободы и уездного города тогдашнего времени гимназия казалась необыкновенно богатой и парадной.
Портреты в золотых рамах, блещущие лаком кафедры, учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в орденах и при шпагах, торжественные молебны и церемонные «акты», на которых выдавались аттестаты зрелости и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался «силами учащихся» концерт, где старшеклассники в праздничных мундирах играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн или «berceuse»[7] и декламировали стихи Апухтина, — все это не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто впервые переступал порог гимназии.
Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой обстановке и начинали видеть за показной ее стороной унылые гимназические будни.
Будничным и однообразным было большинство уроков. Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда в них просыпалась страсть охотника, преследующего ускользающую добычу. Так, Павел Иванович из года в год охотился на тех, у кого не было атласа. Да и «немая» карта на стене служила этому зверолову западней, куда попадала чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы, горы, пампасы, джунгли — все то, что так увлекает подростков в книгах о путешествиях, становилось на уроках географии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угодить.
У Степана Григорьевича была своя западня — грамматика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно уже поняли и намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал страницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед, не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую позу и не сводил с Антонова глаз.
В конце кондов в западню попадал сам охотник.
Заядлыми егерями — или, вернее сказать, охотничьими собаками — были и два гимназических надзирателя, которые официально именовались «помощниками классного наставника». Они проводили весь день в коридоре, а в классы заглядывали только во время перемен или на «пустых» уроках.
Один из них — по прозвищу «Самовар» — служил до поступления в гимназию полицейским надзирателем. Но, в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.
Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на катке, если они задерживались на десять минут дольше дозволенного правилами часа, ловил их в театре, если они приходили на спектакль без особого разрешения начальства; на улице требовал от них предъявления «ученического билета», а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как они живут, с кем встречаются и что почитывают.
Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости.
Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:
— А правду ли говорят, будто твой батька получил к праздникам хорошую «пейсахóвку»?
Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан «пейсаховки» (пасхальной водки) всегда ожидал его прихода.
Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Константинович Мигунов, прозванный «Шваброй».
Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как Самовар. А на перемене или на «пустом» уроке мы заблаговременно узнавали о приближении Швабры по его громкому и судорожному кашлю, который был слышен издалека.
Однажды во время «пустого» урока ребятам удалось каким-то образом похитить из учительской классный журнал и пронести его по коридору под самым носом Аркадия Константиновича.
У нас было два классных журнала — большие плоские книги в аккуратных черных переплетах. Переплеты были такие плотные, что их крышки откидывались со стуком. Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном отмечались наши успехи и поведение, в другом — заданные на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было строго запрещено, и только по движению руки учителя опытные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вывел он в графе журнала.
И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Баландина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре, а третий остался сторожить у дверей.
Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхрабрились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже четверки, похожие на те, что ставили учителя. Особенно щедро дарили они хорошие отметки по предметам, которые преподавали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были, например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и «француз» Леонтий Давидович, который никак не мог запомнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи указательного пальца.
Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над поправками в журнале.
Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгновенно исчезал под крышкой кафедры.
Наконец Чердынцев сказал: «Ну, на этот раз хватит!» — и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учительскую, но только после того, как Дьячков объявил, что путь свободен.
В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.
Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш географ, придя в класс на следующий день, откинул крышку журнала и стал пристально вглядываться в страницу, прищурив один глаз.
— Елкин! — сказал он удивленно. — Разве я тебя спрашивал на этой неделе?
Смущенный и перепуганный Елкин не успел встать с места, как за него ответило несколько голосов.
— Спрашивали, Павел Иванович, — сказал Баландин.
— Конечно, спрашивали! — подтвердил Чердынцев.
— И я поставил тройку?
— Откуда ж я знаю, — пробормотал Елкин. — Я же не смотрел в журнал!..
Павел Иванович покрутил головой.
— Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя отметил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти, чтоб они могли переправить двойку на тройку. Первым у меня в списке стоял Елкин… И вдруг — извольте радоваться! — против его фамилии уже стоит троечка.
Елкин неловко поднялся с места и сказал заикаясь:
— Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват! Вы просто забыли…
После урока Елкина потребовали к директору, а на другой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы Елкин-младший отвечал только одно:
— Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?
Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ивановича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват, он бы непременно сознался до того, как получил свою порцию сполна. А «порция», ежели правду сказать, была на этот раз солидная!
На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.
Тем дело и кончилось. Только на всякий случай — в виде предупреждения — весь наш класс оставили «без обеда». Вот и все.
_____
Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины, справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых отчаянных ребят ставили в угол, «под часы», к стенке, оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было напрасно. В классах по-прежнему играли в «тесную бабу» или «жали масло», то есть усаживались по пять, по шесть человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих посередине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый день происходили во время большой перемены жаркие кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сражения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах, которые с полным удовольствием изображали резвых боевых коней.
А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть ли не вся гимназия строила на перемене «слона».
Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взбирались те, кто был еще меньше, и, наконец, на самый верх влезали малыши-приготовишки, почти упиравшиеся головами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и невредимым из такой игры, когда все это огромное живое сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его основу.
Иногда устраивали поединок между двумя «слонами». Это была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участников набивал себе шишку на лбу, в худшем — дело кончалось вывихом, а то и переломом ноги или руки.
Еще более удалые игры и развлечения затевались в гимназии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окончившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве. Это были дюжие добродушные парни, которым некуда было девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешуточные бои — «стенка на стенку», а ночью выворачивали в саду и на улице скамейки и фонари.
Таких «мальчиков» не оставляли без обеда и не ставили «под часы», а вызывали к директору и после двух-трех предупреждений отсылали восвояси.
Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо называл «немцá».
_____
В часы, когда все преподаватели покидали учительскую и, один за другим, шли по длинному коридору в классы, впереди всех несся Густав Густавович Рихман. Высокий, не слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, озабоченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди оба журнала — для отметок и для записи заданных уроков. Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая, закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена. Пуговицы ярко блестели, на вицмудире — ни пылинки. Выражение лица такое, будто он только что проглотил очень вкусную и ароматную конфету.
Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как настроение его мгновенно менялось.
Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а когда Рихман милостивым кивком головы позволял им сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по направлению к учительской кафедре. Густав Густавович подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки двигались. Это было какое-то почти бесшумное, но грозное наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из кармашка жилета с золотыми пуговичками крошечную записную книжечку и говорил:
— На, довольна! Я хорошо знай, кто тут есть глявни машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом он будет беседоваль с господин директор!
— Густав Густавович! Это не мы, это парты сами двигаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..
Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу должен был читать перед началом занятий короткую молитву.
Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторяли два, три, а то и четыре раза подряд.
Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает, молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова других молитв, в том числе и заупокойных.
Рихман терпеливо слушал это странное попурри, стоя перед кафедрой и низко наклонив — из уважения к чужому вероисповеданию — слегка лысеющую голову.
Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить перед немецким уроком целые молебны и панихиды.
Дежурный возглашал дьяконским голосом:
— Паки, паки, миром господу помолимся!
А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхватывали:
— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!
Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят за нос.
— На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть молитва перед урок!
— Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густавович! — оправдывался самый старший из ребят, второгодник, пытавшийся петь басом. — Вот мы и читаем великопостную!
Но Густав Густавович твердо решил положить конец этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, священника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и, придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из кармана.
— На, теперь читайт ваша молитва. Я буду провериаль каждый слёво!
_____
Что бы ни происходило в городе или в стране, — гимназия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию. Однако по временам и она ощущала какие-то подземные толчки — отзвуки больших событий.
В один из февральских дней 1901 года среди уроков нас выстроили в коридоре и повели в гимназическую церковь. Пропустить один-два урока ребята были рады, но терялись в догадках, по какому поводу назначено богослужение. День был не праздничный, не царский, не юбилейный.
Только в церкви мы узнали, что молебен будет о здравии министра народного просвещения Боголепова, на жизнь которого было совершено в Санкт-Петербурге «злодейское покушение».
Помню, как бледно горели в этот снежный февральский полдень церковные свечи и как равнодушно крестились мои соклассники, молясь о выздоровлении человека, имя которого слышали первый раз в жизни. Ученики старших классов о чем-то перешептывались, вызывая явное неодобрение начальства, стоявшего впереди с благочестиво склоненными головами.
После молебна занятия возобновились. Мы ждали, что наш классный наставник, Владимир Иванович Теплых, придя на урок, объяснит нам, кто же и за что «злодейски покушался» на министра. Сами же начать разговор не решались — тем более что Владимир Иванович был в этот день как-то особенно холоден, сух и несловоохотлив. Обычно он позволял себе надолго отвлекаться от предмета занятий и беседовать с нами на темы, очень далекие от грамматических правил и от латинского текста, который мы переводили. Но на этом уроке он как будто нарочно занимался одними только неправильными глаголами, которых в латинском языке больше чем достаточно.
Мы слыхали от старшеклассников, что Владимир Иванович не слишком одобрительно отзывается о «студенческих беспорядках» в Петербурге и в ближайшем к нам университетском городе — Харькове. Но в то же время мы не могли не заметить, с какой презрительной брезгливостью относится он к тем из учителей, которые, подобно Сапожнику — Антонову, первыми являлись поздравлять директора в день его ангела и первыми же протискивались на панихидах и молебнах в передний ряд — к самому иконостасу.
Когда Теплых бывал не в духе, никто не смел и приступиться к нему. В глазах у него появлялось выражение хмурой волчьей скуки, лоб прорезала глубокая морщина, а щеки как-то втягивались, отчего лицо казалось еще худощавее, чем обычно.
Он покинул класс после звонка, так ничего и не сказав нам о событиях, которые взбудоражили нашу гимназию и весь город.
А недели через две с лишним всех гимназистов — от приготовишек до восьмиклассников — опять построили в ряды и повели в церковь. Так же горели среди бела дня свечи, но на этот раз священник служил уже не молебен о здравии, а панихиду по тому же министру Боголепову.
— Во блаженном успении вечный покой!..
О том, кто и за что убил Боголепова, я узнал позже.
В классе у нас не было по этому поводу никаких особых разговоров. Ребята простодушно радовались, что по случаю кончины министра народного просвещения их отпустили по домам раньше обычного. Степа Чердынцев даже сказал, что хорошо бы каждую неделю устраивать по такой панихидке.
Прямо из гимназии я отправился к Лебедевым. Уж у них-то я наверное кое-что узнаю.
И в самом деле, когда я вошел в знакомую, беспорядочно заваленную книгами комнату Вячеслава, там говорили о министре, за упокой души которого только что молились в гимназической церкви.
Вячеслав крупно шагал из угла в угол. На стульях, на кровати, на подоконнике разместилось несколько его товарищей-старшеклассников.
В стороне за столиком сидела Лида Лебедева и, подперев ладонью лоб, с увлечением читала какую-то книгу в зеленоватой обложке. Но время от времени и она, не выпуская из рук раскрытой книги, поднимала голову и вмешивалась в разговор.
Здесь министра поминали не так, как в гимназии. Называли его не Боголеповым, а Чертонелеповым и рассказывали, что это именно он приказал отдать в солдаты сто восемьдесят студентов Киевского университета и разогнал лучших профессоров.
А застрелил его студент Карпович.
Я не мог точно представить себе, каков он с виду, но воображению моему рисовалась какая-то в высшей степени героическая фигура — некто, похожий на легендарного стрелка Вильгельма Телля, о котором я недавно читал.
Я не думал тогда, что через одиннадцать лет мне доведется встретить в Лондоне, в русском клубе имени Герцена, живого Карповича — бывшего студента, который когда-то убил всесильного царского министра и был приговорен к двадцати годам каторжных работ.
Карпович оказался совсем непохожим на того Вильгельма Телля в студенческой фуражке, которого я выдумал в юности. Это был еще довольно молодой, темноволосый, смуглый, крепкий с виду украинец. Он громко и весело смеялся и ни разу при мне не напомнил, что он-то и есть тот самый Карпович, о котором говорила в начале девятисотых годов вся Россия.
Уходя от Лебедевых, я бегло посмотрел на обложку книги, которую держала в руках Лида. Мне бросилось в глаза имя автора: «М. Горький».
Отцовские подарки
В те годы, когда литературой снабжали меня сосед-красильщик и румяный юноша Мелентьев, я был глубоко убежден, что все без исключения писатели — покойники, а все книги напечатаны в какие-то незапамятные времена, — недаром же они были так истрепаны, так покоробились и пожелтели.
Наши домашние книжки выглядели чуть-чуть попригляднее, но и они были далеко не первой молодости. Приобрели их в лучшую пору, когда у родителей была еще возможность тратить деньги на книги, да и время для того, чтобы их читать. По мере того как мы росли, книжки постепенно переходили с отцовских полок в окованный железом сундук моего старшего брата. Кое-что перепадало и мне.
Помню, как брату подарили ко дню рождения — ему исполнилось тогда тринадцать лет — большой и толстый том сочинений Глеба Успенского в старом, но прочном коричневом переплете, а мне — такой же увесистый том, состоявший из нескольких номеров журнала «Северный вестник», переплетенных вместе.
Старый журнал девяностых годов, в котором печатались превыспренние и туманные рассуждения Акима Волынского, густо пересыпанные иностранными словами и многосложными философскими терминами, вряд ли мог в это время заинтересовать даже самого усердного литературоведа, а уж для меня, одиннадцатилетнего мальчика, он был таким же подходящим чтением, как синтаксис древнеассирийского языка. Подарили же мне его только потому, что ничего другого под рукой не оказалось, а по внешнему виду «Северный вестник» ничем не отличался от «Сочинений Глеба Успенского», подаренных брату, — ни объемом, ни весом, ни прочностью переплета.
Я принял подарок с благодарностью, но, конечно, ни одной страницы не прочел. Однако гордился тем, что и у меня есть настоящая книга в настоящем переплете.
Это был первый журнал в моей личной библиотеке. Я и не знал в то время, что на свете есть другие журналы, более понятные и привлекательные для моего возраста, чем «Северный вестник».
Но вот вскоре после нашего переезда в город, в дом Агарковых, отец с каким-то таинственным видом подозвал меня и брата и объявил нам, что выписал для нас из Петербурга журнал. Не старый журнал вроде «Северного вестника», а новый, который печатается сейчас и называется «Вокруг света». Получать его мы будем каждую неделю, а кроме того — за те же деньги — нам пришлют еще сочинения Фенимора Купера и Густава Эмара и две картины (олеографии): одну — художника Айвазовского, другую — Лагорио. Какими звучными показались мне все эти имена — Купер, Эмар, Лагорио, Айвазовский!
День за днем провожали мы жадными глазами хромого почтальона, который упорно обходил наши ворота. Но однажды, когда мы его вовсе не ждали, он деловито завернул к нам во двор и сунул мне в руки что-то вроде тонкой книжки в белой обертке с наклейкой, на которой значился напечатанный в типографии адрес.
Много писем и посылок получал я на своем веку и продолжаю получать до сих пор, но никогда я так не радовался, как в тот день, когда была получена эта первая почта, предназначенная не для наших родителей, а для меня и брата: свеженький номер «Вокруг света» с четким, черным шрифтом на белой блестящей бумаге, со множеством рисунков, а главное — с нашими именами и фамилией на бандероли.
Для ребят, выросших в глуши, это было событием, запоминающимся на всю жизнь.
Вы только подумайте! Для вас печатается где-то в Петербурге особый — детский — журнал. Какие-то неизвестные друзья заботливо преподносят вам каждую неделю новую главу повести и два-три рассказа с картинками, которые вы долго рассматриваете, прежде чем приступить к чтению. Вас, точно взрослого, обслуживает почта, посылающая к вам на дом такого занятого человека, как почтальон. Вам присвоено звание — «подписчик», и вы числитесь где-то в Петербурге, в «конторе редакции» под определенным номером — 3709-м. Вашу фамилию и адрес печатают в типографии, чтобы наклеить на бандероль, опоясывающую номер журнала. Все это повышает ваше уважение к себе и приобщает вас к большой жизни.
День, когда мы наконец получили первый номер «Вокруг света», был праздником не только для нас, но и для отца, который умел входить во все наши радости и огорчения. Не так-то легко было ему уделить из своих скудных заработков деньги на журнал, но он готов был отказывать себе в самом необходимом, чтобы хоть на несколько дней или часов скрасить чем-нибудь нашу довольно однообразную жизнь.
Все, что мы получали от матери, которая не жалела последних сил для того, чтобы мы были сыты, одеты, обуты, казалось нам таким будничным, насущно необходимым по сравнению с подарками отца.
В этом сопоставлении таилась какая-то глубокая несправедливость. Чем щедрее бывал отец, тем более расчетливой приходилось быть матери. В сущности, она была единственным в нашей семье взрослым человеком, беспокоившимся о завтрашнем дне. До самой старости отец оставался в душе ребенком, увлекающимся, непрактичным, способным придумывать себе и другим радости даже тогда, когда суровая и трудная жизнь в них отказывала.
Я никогда не забуду, как однажды зимой я и мой старший брат — в то время еще совсем маленькие ребята — ехали с ним в поезде. На каком-то полустанке мы увидели за окном вагона старика в дубленом полушубке, продававшего пестро и весело раскрашенные глиняные игрушки — лошадок с золотыми гривами, уточек, петушков, человечков. Я не удержался и со вздохом сказал отцу, что мне очень, очень нравятся такие лошадки. Ничего не ответив, отец схватил шапку и выбежал из вагона.
Но как раз в эту минуту продавец, словно нарочно, отошел от нашего вагона вместе со своим лотком, уставленным такими заманчивыми яркими вещицами, и зашагал куда-то вдоль поезда. Мы видели, как отец бросился его догонять и тоже исчез.
Раздался третий звонок, и поезд тронулся.
Мы так и замерли от ужаса. Что-то теперь будет с отцом, с нами?..
Соседи по вагону стали успокаивать нас. Они наперебой говорили, что отец, наверно, успел вскочить в один из последних вагонов и скоро придет к нам.
Но он не пришел.
Шуба его, раскачиваясь на крючке, ехала вместе с нами, и я с отчаянием думал о том, чтó я натворил. Ведь это из-за меня, по моей вине отец отстал от поезда и теперь, должно быть, бредет вслед за нами по шпалам пешком, без пальто, под холодным зимним ветром. А с нами что будет? Ведь у нас нет ни билетов, ни денег… Вот тебе и лошадка с золотой гривой!..
Брат, кажется, думал то же, что и я. Он ничего не говорил, только смотрел на меня печально и укоризненно. Но вот в вагон пришел главный кондуктор поезда и высадил меня и брата, а заодно и отцовскую шубу на какой-то станции…
_____
Эта станция — Козлов — глубоко запечатлелась у меня в памяти. Здесь мы должны были ждать отца, который послал вдогонку телеграмму с просьбой задержать нас.
Никогда за всю мою жизнь мне не было так чертовски скучно, как в Козлове, в маленьком зале буфета первого и второго класса, где мы сидели, точно арестованные, на жестком диванчике у окна.
Буфетчик, сонный человек с бледными, одутловатыми щеками, получил от начальника станции строжайшее приказание никуда не отпускать нас до приезда отца. Днем это ожидание еще не было так томительно. Мы с любопытством разглядывали сверкающий и кипящий, невиданных размеров самовар на буфетной стойке, смотрели, как суетится, прислуживая компании офицеров, смуглый, черноглазый человек с переброшенной через руку салфеткой, как за другим столиком пьет чай с домашними булочками и вареньем семья священника.
Почему-то мы привлекали к себе внимание всех входящих в зал. Одни обращались с вопросами к буфетчику, другие — непосредственно к нам.
Буфетчик сначала отвечал довольно охотно и подробно. Говорил, что нас высадили из скорого по телеграмме отца, который должен приехать за нами ночью почтовым. Другим отвечал коротко и сухо: отца, мол, ожидают — отстал в дороге. А напоследок уже еле-еле цедил сквозь зубы: «Папашу ждут!»
С нами пассажиры разговаривали ласково и так жалостливо, что нам начинало казаться, будто мы навсегда останемся здесь на диване и никто за нами не приедет. И когда большая, толстая попадья в лисьей шубе сунула нам по сдобной булочке, я чуть не заплакал от жалости к себе.
Наконец зал опустел. Последним вошел, отряхиваясь от снега и топая ногами, высокий, жилистый жандарм в длинной шинели. Подойдя к стойке, он мигом опрокинул себе в рот под усы большую рюмку водки и, уходя, сказал буфетчику, что почтовый опаздывает на три часа.
Стало совсем тихо. Только с платформы время от времени слышались то протяжные, то короткие гудки, шипение пара и гул колес. За большим окном проносились паровозы, метавшие в воздух красные искры, а за ними покорно бежали бесконечные вереницы томительно однообразных товарных вагонов. Промелькнул как-то и пассажирский поезд.
Но нас теперь даже и поезда не интересовали. Смуглый человек, прислуживавший пассажирам, рассчитался с буфетчиком и, позевывая, ушел, а буфетчик запер дверь, ведущую на платформу, просунув сквозь дверную ручку половую щетку, и скоро захрапел за своим огромным, давно уже остывшим самоваром.
Потянулись последние и самые тоскливые часы ожидания. Нас клонило ко сну, но мы всячески боролись с дремотой, так как должны были сторожить отцовскую шубу, корзину и чемодан. Разговаривать друг с другом вслух мы не решались, боясь разбудить угрюмого буфетчика, а делать нам было решительно нечего… В конце концов я все-таки уснул, оставив на попечение брата шубу и наш багаж.
Только глубокой ночью прикатил на станцию отец, взволнованный, растерянный, но с двумя глиняными лошадками в руках.
_____
Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки отцом.
И без того уже они считали его неисправимым мечтателем, фантазером, чудаком. Но, в сущности, только немногие из них знали и понимали его.
Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувствами и свято держал слово, данное себе самому и другим.
Это был человек неукротимой воли и стойкого терпения. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Казалось, легче разбудить спящего самым крепким сном человека, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким он погружался в химическую формулу или даже в газету. Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно, он отвечал не то в шутку, не то всерьез:
— Вы небось только строчки читаете, а я и между строчек.
Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на заводском помосте у громадных клокочущих котлов. Напряженно думая о чем-нибудь, он бывал рассеян и нередко попадал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаянно хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.
Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований, которые преследовали его да каждом шагу. У него не было той житейской сноровки, которая помогает иной раз и безденежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-предприниматели, в руки которых он нередко попадал, сулили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его находками, всячески старались избавиться от человека, в котором больше не нуждались.
Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все неосуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный завод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье. Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой и солидной фирме братьев Сергеевых.
Название этой фирмы («Sergejeff») можно было увидеть и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске лесопильного завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий старик, сочетавший облик русского церковного старосты со сдержанно-деловитыми манерами богатого финского коммерсанта. Его подчиненные, среди которых было много финнов с русскими фамилиями (Мáкеефф, Éфимофф), обычно начинали службу с должности «мальчика» и не теряли почтительности и расторопности даже тогда, когда становились бухгалтерами и «прокуристами».
Все служащие Сергеева вместе составляли как бы единую семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим. И хоть в своем деле он считался знающим и опытным мастером, хозяева после нескольких лет работы уволили его — под тем предлогом, что он, дескать, становится староват, а производство расширяется и требует рукú помоложе и покрепче.
Больше года отец искал работы. Странно и горько было видеть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии человека, который и сам знал себе цену, и с давних пор заслужил уважение своих товарищей по профессии.
Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, но чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых глазах появилось такое несвойственное ему выражение озабоченности.
Наконец, уже незадолго до революции, он попытался устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать большой нефтеперегонный завод, оборудованный на заграничный лад.
Долго пришлось ему ждать ответа.
Как стало известно потом, дирекция боялась доверить новые шведские машины русскому мастеру и собиралась выписать специалиста-шведа.
Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению администрации завода, шведы порекомендовали ей обратиться к мастеру, которого они знали по своим делам с фирмой Сергеевых, — к моему отцу.
Тут только администрация согласилась взять его на работу.
До последних своих дней работал отец на заводах. В советское время он служил в Нижнем Новгороде — в нынешнем Горьком, и, когда мой старший брат, узнав о его тяжкой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал старого мастера на высоком заводском помосте — у кипящих котлов.
Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему зачесывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы. И только в минуты усталости одна прядка льнула к его большому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.
_____
Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку, который как бы пережил со мною свое второе детство.
Он знал весь мой класс от первой до последней парты. Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимназиях не учился. Однако слушал меня не из простого любопытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным, то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как бы «исправленное, дополненное и улучшенное издание» своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие времена. Вместе со мною и моим братом он как будто и сам проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже тем событиям, которые показались бы всякому взрослому человеку мелкими и ничтожными.
Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришедшийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых. Зато он заранее осуждал все, что исходило от Сапожника — Антонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту нашего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ словоохотливого Рихмана о том, как он хотел было «фехтовайт» с ворами, похитившими у него ночью из погреба «клюбничкино» варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя отыскать свою шпагу.
Одним моим товарищам по классу отец прощал даже самые озорные проделки, других подозревал во всех смертных грехах.
Ничего не поделаешь — таков был характер моего отца.
У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из «светлых личностей», другая — из отъявленных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях — и в «светлых личностях», и в злодеях.
Но, может быть, именно это по-детски горячее, неровное, пристрастное отношение ко всему окружающему и сближало его с нами — ребятами.
После разговоров с отцом и гимназическая жизнь казалась нам гораздо богаче, разнообразнее, и прочитанная книжка интереснее, и вся жизнь шире и заманчивее.
Он редко приезжал домой на долгий срок. Вероятно, поэтому недели и месяцы, которые он проводил с нами, казались нам особенно праздничными и заполненными. Не только мы, но и мать становилась в его присутствии спокойнее и веселее и даже позволяла себе иной раз уходить с ним на целый вечер в гости или в театр.
Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверенность. Все яркое, необычное исходило от него: первые стихи, первые рассказы из истории, первые вести о событиях за пределами нашего дома и города.
И, наконец, тот первый детский журнал, который как бы открыл нам ворота в большой мир и назывался «Вокруг света»
Я верил тогда названиям, и мне казалось, что журнал «Вокруг света» со всеми его бесплатными приложениями — Купером, Эмаром, картинами Айвазовского и Лагорио — в самом деле обещает мне кругосветное путешествие.
Новости в городе и в гимназии
Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать, находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравнивать. Мы принимали все, как должное: вот — думали мы — какие бывают журналы.
Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и были от души благодарны за все, что журнал нам дарил.
Я и сейчас помню, — хоть с тех пор прошло уже более шестидесяти лет, — печатавшуюся с продолжениями переводную повесть о двух мальчиках, которых в разное время похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми близкими друзьями и в конце концов оказываются родными братьями, сыновьями французского офицера. Младший из них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно возвращается домой, а старшего — по имени Клодинэ — родители находят слишком поздно: он безнадежно болен и красиво умирает на глазах у читателя, — как те бледные мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть с таким удовольствием изображала Лидия Чарская.
Трудно понять, как могла эта сентиментальная мелодрама заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как это ни странно, «Капитанская дочка», «Шинель», «Герой нашего времени» мирно уживались у меня на полке, да и в моем сознании с такими детскими книгами, как «Маленький лорд Фаунтлерой» Бернет или «Князь Илико» Желиховской.
Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их герои были моими ровесниками, а читатель-ребенок, при всем своем жадном интересе к жизни взрослых, все же нуждается и в книге, рассказывающей о приключениях и переживаниях юности.
А может быть, детские романтические повести, лишенные особой глубины, но полные событий, были для меня в известной мере отдыхом и развлечением. Во всяком случае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем стремительным развитием сюжета, которое современные дети и подростки находят на экране.
Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа.
Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий.
Подобно американцам, я любил «счастливые концы» и потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от первого лица. Это давало мне уверенность, что герой романа, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки, не утонет и не застрелится. Но оказалось, что и это не всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что рассказ от первого лица где-то на последних страницах внезапно прерывается несколькими рядами точек, а затем — уже от третьего лица — спокойно сообщается, что герой приказал долго жить…
Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц.
А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из «Кавказского пленника» Льва Толстого запоминались не только отдельные строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь врезались мне в память тихие слова Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели», которую я прочел в десятилетнем возрасте: «Зачем вы меня обижаете?..»
Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил диалог из лермонтовского «Маскарада».
— Что стоят ваши эполеты? — Я с честью их достал, — и вам их не купить…Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реплик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир. Правда, мне было не совсем понятно, чтó значит «с честью их достал», но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого вопроса, и молодое, эффектно-благородное негодование в ответе офицера.
«Маскарад» я читал еще в пригороде — на Майдане. У меня не было, да и не могло быть тогда ни малейшего понятия о нравах светского общества, и единственным офицером, которого я знал до того времени, был все тот же воронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве. И все же до меня полностью дошла сущность колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу.
_____
Детских библиотек и читален в это время у нас в городе еще не было, если не считать той маленькой библиотечки, которая целиком умещалась в небольшом книжном шкафу, стоявшем у нас в классе под «научной» картиной с надписью: «Тропический лес». Такие же скромные би6лиотечки были и в других классах.
Книги выдавал раз в неделю — по субботам — наш «законоучитель», еще довольно молодой священник, отец Евгений Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и заботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не слишком длинные волосы и небольшую бородку.
Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бедностью, а строгим отбором, не допускавшим в гимназические библиотеки книг, в которых были малейшие признаки вольного духа.
Басни Крылова, «Детские годы Багрова-внука» и «Тарас Бульба» стояли здесь рядом с «Юрием Милославским», «Ледяным домом» и «Аскольдовой могилой», а дальше шли книги авторов, имена которых я забыл или никогда не знал, — о «белом генерале», о «царе-освободителе» да еще о каком-то «Мехмед-Бее, мамелюке тунисском».
Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и стилю запоздавших более чем на полвека. И все же названия некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. Наверно, это потому, что я со своими одноклассниками тщетно и долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было бы разыграть на гимназическом вечере.
Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициалами — «С-н» или «Э. Гр-р», — а пьесы назывались:
«Избалованное дитя. Комедия в I действии».
«Ленивица. Драма (!) в I действии».
«Бедность, честность, счастье, или Марсельская сирота. Драма в 5 действиях». И все в таком же роде.
Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказавшаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие «Очерки жизни и сочинений Жуковского, составленные П. Басистовым», я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старинный шрифт так трогательно напомнили мне давние времена, что у меня возникло желание познакомиться с ней поближе.
Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно: «История души Жуковского по его стихотворениям».
Другую главу составитель назвал короче: «Черта благотворительности Жуковского». В ней обстоятельно рассказывалось, как Жуковский, получив от одной дамы-писательницы в подарок книжку, послал ей с камер-лакеем сто рублей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее прелестной в своей наивности маленькой дочкой о пользе изучения русской грамматики.
С необыкновенной деликатностью и грацией говорит автор книги о происхождении Василия Андреевича Жуковского, который, как известно, был незаконнорожденным сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи.
«У помещика… Афанасия Ивановича Бунина, — пишет этот биограф, — было несколько взрослых дочерей, но ни одного сына, — и он охотно усыновил мальчика, родившегося почти сиротою (!); мать Жуковского, Лизавета Дементьевна, была также принята в дом Афанасия Ивановича…»
По счастью, немногие из моих соклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами, где только могли, и обменивались своими находками друг с другом.
Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Лебедевы и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доставал для меня и для себя старший брат.
Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что открывшегося у нас в городе «Писчебумажного и книжного магазина». Здесь я впервые обнаружил «Библиотечку Ступина», а потом и целую серию изданий «Посредника» и «Петербургского комитета грамотности».
Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались мне — особенно «Библиотечка Ступина» — необыкновенно привлекательными.
Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все черты и пропорции большого.
Такими казались мне издания Ступина при всей их миниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат, шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подходящие для дешевой общедоступной библиотечки.
Самая фамилия издателя не казалась мне случайной. Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав со словом «ступенька». Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы.
Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитанных в этом возрасте, а вот фамилию издателя почему-то хорошо запомнил.
Не я один сохранил добрую память о книжечках Ступина. Многие из моих современников рассказывали мне, что их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но вполне «всамделишные» книжки.
Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять ее надолго.
До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо, до мельчайших подробностей, представить себе острогожский «Писчебумажный и книжный магазин». Впервые в жизни увидел я там на полках так много превосходной чистой бумаги — целые стопы аккуратно обрубленных белых, гладких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо всяких линеек и клеточек.
Да и, кроме бумаги, чего-чего там только не было! Толстые книги в тисненных золотом переплетах и тонкие в ярких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тетради в глянцевитой клеенке. И тут же на прилавке под прозрачным стеклом еще более заманчивые вещи: перочинные ножички — нарядные, перламутровые и темненькие, попроще, — раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки с напечатанными на них черными или красными слонами, линейки, циркули, перышки — богатейший набор перьев от маленького, тоненького, почти лишенного веса, до крупных, желтых, с четко выдавленным номером: «86».
Ни один магазин в городе не казался мне таким интересным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскромнее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галантерейщиков. Да и народу бывало в нем меньше.
Забежит, бывало, на несколько минут шумная компания гимназистов, гимназисток или «уездников», потолчется у прилавка, накупит всякой всячины — тетрадок с розовыми промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестящих, гладких, так вкусно пахнущих деревом и лаком карандашей, а заодно и полюбуется переводными картинками. Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки «налепные» — штампованные, выпуклые, изображавшие ярко-пунцовые венчики роз и пухлых ангелочков.
Таким покупателям владелец магазина — тихий и серьезный человек, с виду похожий на поэта Некрасова, — долго задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь, раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяином долгие разговоры о том, чтó именно «хотел сказать» автор своей повестью или романом.
Меня владелец магазина на первых порах причислял к той категории покупателей, которые интересуются перышками да картинками, и только потом — через полгода или год, — почувствовав во мне страстного читателя, милостиво допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал толстые романы и повести, а томики стихов проглатывал тут же, не сходя с места.
Чуть ли не через день заглядывал я в «Писчебумажный и книжный магазин».
Книгами торговали у нас в городе и прежде. А вот такого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще не бывало. Это было своего рода знамение времени.
_____
Знамением времени было и появленье у нас в гимназии нового преподавателя русского языка и литературы — Николая Александровича Поповского.
Старый преподаватель словесности Антонов был несловоохотлив, сух и не допускал никакой вольности — ни в мыслях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выражение «глубокая мысль», он дважды подчеркивал его и писал на полях: «Глубокой может быть только яма».
Почему только яма, а не море, не океан, — это было понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть, он и не верил в существование океанов, которых поблизости от Острогожского уезда нет и никогда не было.
Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш учитель словесности. Во время урока лицо его казалось окаменевшим. Он мало интересовался тем, как относятся к нему гимназисты, которых он едва удостаивал беглым взглядом из-под очков.
Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку, старый усталый железнодорожный кассир, который замечает своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений или пререканий.
Степана Григорьевича было трудно вообразить без мешковатого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он отнюдь не был безобразен: напротив, черты его лица отличались правильностью и отсутствием особых примет — достоинствами, которые он так ценил в классных работах учеников.
Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и неподвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то только для того, чтобы почесать в раздумии щеку, погладить бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку, в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников баловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица. Кол.
Нам казалось, что Сапожник будет неразлучен с нами до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе. Классы поделили между ним и новым преподавателем.
Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо всякого предупреждения. Он весело и бодро взошел на кафедру, — молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего предшественника, тоже отличавшегося немалым ростом, но как-то раньше времени осевшего.
Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно по матово-смуглому цвету лица, по черным блестящим волосам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и открыто из-под крутых сросшихся бровей.
В первые же дни после прихода в наш класс Николая Александровича Поповского гимназистам стали известны мельчайшие подробности его жизни.
Они разведали, где он живет и у кого столуется, узнали, что окончил он духовную семинарию, а затем и университет, что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-курсисткой, очень похожей на него, и что между собой эта пара чаще всего говорит по-молдавски, на своем родном языке, хоть и русским владеет в совершенстве.
В классе нового учителя встретили с интересом, даже с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться. Поповский был так не похож на своего предшественника и ни других сослуживцев по гимназии! С учениками был вежлив, всем говорил «вы». После первой письменной работы очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной отметки.
Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый из моих соклассников нашел под своей работой несколько кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцева, одного из первых наших учеников, было написано:
«Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бесцветен. Надо больше читать. Н. П.»
На первых своих уроках Николай Александрович попросту разговаривал с нами обо всякой всячине и только потом начал «спрашивать» — да и то с места, то есть без вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку услышать, и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой парты книгу. Так многие и делали: отвечали Поповскому то под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеивались над простоватым новичком-учителем и были уверены, что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собственного голоса.
Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках Поповского.
Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чердынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с великим трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что, обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так, скорее из удальства. Но все же кашу уплел до последней крупинки. Несколько лет после этого его дразнили «Кашей».
Товарищи подтрунивали над ним и в то же время искренне восхищались его непревзойденной ловкостью. С искусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс нитками, по которым передвигались от одной парты к другой шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом преподавателя.
В конце учебного года учитель математики обычно предоставлял ему возможность переправить двойку на тройку. Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие, зубрежкой или решением задач, но и не сидел без дела, а старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение задач, которые — по неизвестно откуда добытым сведениям — мог предложить ему учитель. А когда его наконец вызывали, он так яростно и энергично выводил на доске цифру за цифрой, что мел крошился у него в руке и он должен был чуть ли не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились запасные кусочки мела. После этого он более или менее благополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше ему и не нужно было.
Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тетради, Степу выручала шпаргалка, спрятанная в рукаве. Она была на резинке и при первой же опасности мгновенно уходила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа — один во всем классе — носил накрахмаленные манжеты.
Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился прятать шпаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал вовсю.
Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыроваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал ему, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александрович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и твердо:
— Садитесь, Сыроваткин. Довольно. Вам я ставлю двойку за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение.
И, со стуком откинув толстую крышку классного журнала, Поповский решительным движением вывел на его странице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он пришел в наш класс.
Никто этого не ожидал. Класс затих, а Сыроваткин и Чердынцев почти в один голос спросили:
— За что, Николай Александрович?.. За что?
Поповский поднялся с места.
— Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать! Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все видел, но только мне было стыдно — понимаете ли, стыдно — ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманываете?.. Если вы хотите остаться безграмотными, оставайтесь — воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать эти места за партами. Ведь на них могли бы сидеть честные и способные юноши, из которых вышел бы толк.
Николай Александрович немного помолчал, а потом заговорил более спокойно:
— Вот что, господа. Не для того я стал учителем, чтобы донимать учеников единицами и двойками, оставлять без обеда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить вас, а не воевать с вами!
Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали и мы.
И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным ровным и звучным голосом:
— Итак, я надеюсь, вы прекратите эту нелепую комедию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, Чердынцев, я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не понадобятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой уговор. Завтра у нас в классе будет письменная работа. Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же, при мне, выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь, — всего две-три странички, не больше! За это я поставлю вам в году тройку, а может быть, и четверку, и вы перейдете в следующий класс без переэкзаменовки. Идет? Согласны?
Чердынцев кивнул головой.
— Ну вот и хорошо. А пока прощайте.
За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий звонок. Урок был окончен.
_____
На следующий день наш новый учитель пришел в класс в самом лучшем настроении. День был весенний — ветреный, но теплый. Деревянные дома, которых в городе было немало, потемнели от сырости. Почернели и голые деревья. Казалось, весь город был нарисован черным угольным карандашом.
В классе у нас была открыта форточка в еще влажный городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми горами, зелеными низменностями и синими морями.
От весеннего тепла и крепкого, свежего воздуха нас одолевала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплывает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно было усилие воли, чтобы преодолеть это приятное оцепенение.
Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то низкий, лениво-добродушный женский голос:
— Мишутка, а, Мишутка, где же ты? Хочешь молочка, детка?..
Почему-то во время школьного урока все постороннее, неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного, живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-то на последней парте проговорил нараспев таким же густым голосом:
— Мишутка, а, Мишутка!..
Николай Александрович не обратил никакого внимания на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе. После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-другой по комнате и подсел к Степе Чердынцеву.
— Ну вот, Чердынцев, — сказал он, — сегодня мы с вами докажем всему классу, что умеем работать. Верно? Давайте-ка выучим до конца урока эти полторы странички. Если вы ответите мне хоть на тройку, лето у вас не будет испорчено. Но дело, в сущности, даже не в этом, а в том, чтобы вы научились наконец ходить прямыми дорогами, а не петлять, как заяц. Ну, в добрый час!
В классе было тихо. Слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу.
Время от времени все мы невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того узкие, обычно такие лукавые глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.
Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы.
В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш.
Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам свалял дурака — поддался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.
Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая.
Чердынцев молчал.
— Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? — спросил Поповский.
Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову.
— Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?
Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы:
— Не могу…
— Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? — все еще с надеждой спросил Поповский. — Ну, страницу, полстраницы?
Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький, — всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками.
Николай Александрович даже испугался.
— Что с вами, Чердынцев?..
— Не могу, Николай Алексаныч! Ей-бо, не могу!
— Чего не можете?
— Ничего запомнить не могу!
— Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!.. А на честную работу вы не способны?
— Не способен! — едва слышным шепотом сказал Чердынцев.
Без старших
В те дни, когда на пустынном заводском дворе я водил палочкой по земле, переходя от одного построенного мною городка к другому и сочиняя историю некоего странствующего героя, я и не предполагал, что эта игра была как бы предчувствием моей собственной судьбы.
Разница была только в том, что мой герой выходил из глуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом произошел гораздо раньше.
После переселения нашей семьи с окраины в город мы не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к новому переезду — и не куда-нибудь, а прямо в столицу, в Питер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петербурге работу на небольшом, еще только строившемся в то время заводе.
Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогожске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода в какую-нибудь из петербургских гимназий.
Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два раза в год — на летние и зимние каникулы. Остальное же время будем жить в Острогожске, у дяди.
И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе шумно подкатил поезд, но увез он из Острогожска не всю нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец был уже в это время в Петербурге).
Впервые я и старший брат были оторваны от большой и дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-студенчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем, чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло занят своими собственными уроками — всякими там греческими глаголами и тригонометрическими формулами — и к тому же в первый раз в жизни влюблен.
Я знал или, вернее, догадывался об этом только по обрывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он не хотел допустить — должно быть, по привычке все еще считал меня маленьким.
Он был так скромен и застенчив, мой старший брат, что даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудрявой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее беглый взгляд в городском саду или на улице.
Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я решил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел из младенческого возраста.
Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гимназистки (он был одним классом старше меня), потом и с нею самой — и очень скоро получил приглашение на ее именины.
Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь провести вечер.
Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все же он купил мне ради этого торжественного случая крахмальный бумажный воротничок, а потом — к вечеру — нанял для меня за гривенник извозчичью пролетку с двумя великолепными фонарями.
Помню, с каким грохотом покатил я по булыжной мостовой, а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво глядя мне вслед.
Вернулся я в этот вечер довольно поздно — часов в двенадцать, — но брат еще не спал.
Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто был на именинах, стараясь не показать виду, что больше всего его интересует сама именинница.
Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.
Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда мне случалось бывать в этом доме. «Ну, а она что? А ты что? А он что?»
Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть, чтобы туда пригласили и брата.
Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки, чистил ботинки себе и мне.
Но на первых порах визит был не слишком удачен. Брат стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала губы, и на ее густых ресницах дрожали крупные капли слез. Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел и хмурился, видимо, подозревая, что виновником этого бурного веселья был именно он.
Чтобы как-нибудь спасти положение, я на правах старого знакомого хозяев предложил брату прочесть что-нибудь вслух. Я чувствовал, что это избавит его от необходимости поддерживать вялый, натянутый разговор и поможет ему преодолеть застенчивость. В гимназии он считался отличным чтецом и не раз участвовал в литературных вечерах. Но, должно быть, он гораздо меньше волновался, выступая перед публикой в актовом зале, чем здесь, в маленькой, скромной гостиной под взглядом любопытных и насмешливых черных глаз.
Долго перелистывал он томик Чехова, не зная, на чем остановиться.
Я тихонько толкнул его под локоть:
— «Хирургию» прочти!
Брат благодарно кивнул головой, слегка откашлялся, и вот в комнате неожиданно зазвучали, перебивая друг друга, два голоса: один — ноющий, гнусавый, другой — хриплый, басистый.
С первых же строк внимание слушателей было завоевано.
Я гордился братом, а наша юная хозяйка была, должно быть, от души благодарна ему за то, что могла наконец дать волю неудержимому смеху, не боясь кого-нибудь обидеть.
В общем, все остались очень довольны, хвалили брата и, провожая, просили заходить почаще.
На этот раз, укладываясь в постель, мы почти не разговаривали друг с другом. Брат был погружен в свои мысли, а я радовался тому, что не должен, борясь со сном, отвечать на его бесконечные вопросы.
Я был совершенно уверен, что в ближайшее время он непременно воспользуется приглашением заходить почаще, но этого не случилось. Только изредка бывал он у новых знакомых, да и мне не советовал «злоупотреблять гостеприимством».
Я смотрел тогда на вещи гораздо проще, и мне была непонятна такая чрезмерная щепетильность. Только много лет спустя я понял, как бережно относился брат к этим встречам. Каждая из них была для него настоящим событием.
_____
В эти месяцы моей вольной, почти самостоятельной жизни я стал все чаще и чаще заглядывать в наш новый «Писчебумажный и книжный магазин», где можно было не только найти свежую, только что полученную из столицы книжку, но и поговорить о современной литературе с любителями чтения, среди которых особенно рьяным был, пожалуй, сам длинноволосый и остробородый хозяин лавки.
В сущности, только теперь, в первые годы нынешнего столетия, я и мои сверстники узнали, что такое «современная литература».
В гимназии литературу проходили не дальше Тургенева и Гончарова, да и то в самых старших классах, но добирались мы до них — а еще раньше до Жуковского, Пушкина и Гоголя — медленно и долго через Антиоха Кантемира, Сумарокова, Хераскова. Для нас это было путешествием по унылой пустыне, в которой почти не было оазисов.
Если в гимназии оказывался умный и талантливый учитель, нас еще могли заинтересовать отдельные, наименее устаревшие отрывки из Ломоносова и Державина. С удивлением различали мы в этих старинных строчках могучие и своеобразные голоса.
А у заурядных преподавателей словесности даже Державин казался продолжением кантемиро-херасковской пустыни.
Да и не только Державина, но и Пушкина заодно с Лермонтовым и Гоголем ухитрялись состарить и притушить такие словесники, как наш тяжеловесный и скрипучий Степан Григорьевич Антонов, недаром получивший от своих благодарных учеников пожизненное прозвище «Сапожник».
Как прививают людям вакцину, для того чтобы они не заболели по-настоящему, так постепенно — скучной зубрежкой отрывков из «Евгения Онегина» (главным образом о временах года) да еще писанием сравнительных характеристик Онегина и Ленского или Татьяны и Ольги — вырабатывали у нас иммунитет к Пушкину, как бы заботясь только о том, чтобы мы не «заболели» им всерьез.
И это нашим словесникам удавалось в полной мере. Нелегко было после них почувствовать прелесть и свежесть строчек, вырванных из пушкинских поэм. Словно какие-то мозоли оставались у нас в мозгу от бесконечного повторения лирических отрывков из гоголевской прозы.
Однако все же, хоть по казенному шаблону, с классикой гимназия нас кое-как знакомила. А вот литературы наших дней она и совсем не признавала, — будто дойдя до «Обрыва» Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная словесность!
Новых, современных изданий пуще огня боялась гимназическая библиотека. Она была похожа на остановившиеся часы, показывающие давно прошедшее время.
Но вот наши крылья настолько подросли и окрепли, что мы сами пустились на поиски чтения, которое могло бы утолить юношеский жадный интерес к новым чувствам и мыслям.
Где только можно было, у товарищей и знакомых, искали мы последние издания классиков и современных писателей — книги, пахнущие не пылью и затхлостью чулана, а свежей типографской краской.
Не помню, как и когда попал в руки брату, а потом и мне тонкий, большого формата номер еженедельного журнала с крупным узорным заголовком «Нива». В этом номере на видном месте была напечатана глава из нового романа Толстого «Воскресение» с рисунками художника Пастернака.
О Толстом толковали тогда много и противоречиво. Его жизнью, ученьем, спорами с церковью и правительством интересовались самые разные люди. Одни называли его учителем, подвижником, другие ни за что не хотели поверить в искренность этого графа, который почему-то сам себе шьет сапоги и ходит босой.
Не мудрено, что мы с жаром ухватились за эту случайно попавшую нам на глаза главу толстовского романа. Не так-то легко было собрать роман целиком, разыскать все тетрадки «Нивы» от первой до последней. И, однако же, мы нашли их и были щедро вознаграждены за свои старания: впервые открылась нам в книге та самая жизнь, которая окружала нас, как воздух.
Самые увлекательные из романов, прочитанных нами до того — Тургенева, Гончарова, Григоровича, — все-таки относились к прошлому, хоть и к недавнему. А тут современность подступила к нам вплотную, к самым нашим глазам, да еще современность, прошедшая перед суровым и мудрым судом такого художника, как Толстой.
В сущности, именно с толстовского «Воскресения» и началось для нас знакомство с новой литературой, которую так осторожно обходила наша гимназия.
Одно за другим узнавали мы новые имена, различали голоса, которых раньше не слышали.
Увлечение писателями-современниками начиналось для нас почти так, как обычно начинается любовь. Вот среди прочих лиц мелькнуло незнакомое, но чем-то привлекательное лицо. Мы еще не выделяем его из множества других, а наша память уже бережет его на всякий случай, почти без участия сознания. Но вот вторая встреча, и мы уже радуемся знакомым чертам и всматриваемся в них гораздо пристальнее. А там, глядишь, знакомство, которое еще недавно казалось таким случайным, уже становится частью нашей жизни, определяет нашу судьбу, и мы даже представить себе не можем, как это мы могли существовать без того, что теперь для нас так дорого и важно.
Помню, как впервые для меня прозвучал со сцены насмешливый, полный веселого задора голос молодого Чехова. Я еще не знал тогда, что такое Чехов, и раньше запомнил названия его маленьких пьес — «Медведь», «Предложение», — чем имя их автора. Потом как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Мы наслаждались их легкостью, простотой, безупречной верностью наблюдения.
Трудно припомнить, когда и как научились мы узнавать в каждой новой чеховской странице тот пристальный, серьезный и внимательный взгляд, устремленный в самую глубь нашего времени, который, пожалуй, стал для нас вернейшей приметой Чехова.
Он входил в нашу жизнь исподволь, легкой поступью, как будто бы ничего особенного не обещая, но оставляя в нашем сознании все более глубокий и прочный след.
Такой постепенности не было в нашем знакомстве с другим большим писателем, появившимся на рубеже двух веков, — с Горьким.
Это имя я услышал задолго до того, как впервые раскрыл небольшой томик в зеленоватой обложке.
Было что-то тревожащее и притягательное в доходивших до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом облике его и даже в имени.
Горький. Имя это как бы говорило о горькой судьбе, родственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горькую правду.
А какой причудливой, разнообразной, правдивой до грубости и в то же время поэтической жизнью пахнýло на нас со страниц его молодых рассказов. Словно ветер, прилетевший откуда-то из степи или с моря, разом распахнул у нас все окна и двери.
Мы вдруг узнали и поверили, что и в наше время есть на земле смелые, вольнолюбивые люди, непоклонные головы, и что жизнь свою можно выбирать, а не идти по готовым, давно проложенным дорожкам.
Самые имена горьковских героев пленяли нас своим неожиданным, непривычным для слуха, почти сказочным звучанием.
Многие из взрослых недоверчиво покачивали головами, пытаясь уверить нас, что Горький — это какой-то самозванец, насильно вторгшийся в тургеневские сады русской литературы, что краски его грубы, а герои надуманы.
Но никакие скептические замечания не могли расхолодить уже влюбленную в него молодежь.
Помню, как прочли мы впервые широкие, полные сдержанной силы, неторопливо размеренные строчки «Буревестника»:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает…Набрав полную грудь воздуха, мы читали эти стихи во всю силу голоса, стараясь передать то пронзительные, то глубокие трубные звуки, которые мы так явственно различали в этих зовущих словах:
Он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы… …То кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!..»Мне было лет тринадцать — четырнадцать, когда я вместе со старшеклассниками внимательно разглядывал переходившую из рук в руки открытку, на которой был изображен широкоскулый молодой человек с мечтательно-хмурым лицом, с крутым изломом прямых, падающих на висок волос. На нем была белая косоворотка, подпоясанная ремешком.
Это был Горький.
В то время я и не предполагал, что скоро мне доведется встретиться с ним и эта встреча окажет решающее влияние на всю мою дальнейшую судьбу.
Большие ожидания
Наконец наступили каникулы — те самые, которые нам предстояло провести в Петербурге.
Невский проспект, набережные с памятником Петра по одну сторону Невы и сфинксами по другую, Петропавловская крепость и Адмиралтейство, Зимний дворец и Летний сад — вот что рисовалось нам, когда мы пытались вообразить этот великолепный, такой знакомый и такой загадочный город — Санкт-Петербург.
Впрочем, мы уже знали, что жить нам придется не на Английской или Французской набережной и не на Невском проспекте. Но и проспект, который был обозначен на конвертах писем, полученных нами от родных, представлялся нам блестящим и праздничным. Как-никак, а все-таки это не простая улица, а проспект! И какое у него звучное название — «Забалканский»!
Родные ни разу не писали нам, как выглядит Забалканский проспект и дом, в котором они поселились. На открытках, полученных от матери, едва умещались ее бесчисленные вопросы о нашем здоровье, о том, как мы учимся, и не протерлись ли у нас рукава, и не износились ли подметки.
А в редких, но пространных письмах отца было много щедрой ласки, много добрых наставлений, но ни слова о том, в котором этаже они живут, во дворе или в квартире, выходящей окнами на улицу, в центре или на окраине.
Все это оставалось для нас загадкой до самого приезда в Питер.
_____
Собрались мы в дорогу легко и быстро — не так, как собиралась когда-то наша семья, начинавшая укладывать вещи чуть ли не за две недели до отъезда.
Всю заботу об упаковке взял на себя брат, никогда не доверявший мне дел, требующих особого порядка и аккуратности. Однако и для меня нашлось ответственное поручение: сторговаться с извозчиком и позаботиться о том, чтобы он рано утром без малейшего опоздания был у наших ворот.
Я обошел целую шеренгу извозчиков, прежде чем мне удалось найти такого, который согласился отвезти нас на вокзал за шесть гривен.
Было еще совсем темно, когда копыта извозчичьей лошади застучали по настилу моста неподалеку от вокзала. В пролетке вместе с нами ехали две спутницы, неожиданно вызвавшиеся проводить нас до ближайшей станции Копанище, — черноглазая гимназистка, которая так нравилась моему брату, и ее подруга. Всю дорогу мы болтали, смеялись, пели и не заметили, как перед нами внезапно выросло одноэтажное кирпичное здание с высокими и узкими окнами. Это и был вокзал.
Спуская с козел нашу корзину, извозчик покрутил головой и сказал:
— Ну и веселые господа! Сколько вожу, а таких не видывал. Надо бы по этому случаю прибавить гривенничек!..
И мы прибавили.
Кажется, еще никогда так стремительно и шумно не подкатывал к платформе паровоз, никогда еще так ярко и весело не блестели желтые вагонные скамейки, как в это утро.
С беззаботной легкостью — не так, как другие пассажиры, долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей, — сели мы в поезд. Впрочем, пассажиров было на этот раз немного. В нашем вагоне, кроме нас четверых, не оказалось ни души. Мы чувствовали себя свободно и непринужденно, и спутницы наши вздумали даже потанцевать друг с дружкой между рядами скамеек. Однако они тут же вспомнили, что времени у нас не слишком-то много, и предложили нам наскоро позавтракать вместе с ними. В корзинке у них оказались завернутые в бумагу тарелочки, вилки, ножи, а еще глубже были аккуратно уложены пирожки, котлеты, бутерброды, яблоки. К нашим припасам они запретили нам даже прикасаться, — ведь у нас впереди была еще такая долгая дорога.
Солнце только всходило за окнами, обещая ясную погоду. Как жалко, что мы не можем провести вместе весь этот чудесный майский день!
Длинный и гулкий гудок паровоза внезапно напомнил нам, что пора прощаться.
Провожая наших приятельниц до вагонной площадки, брат обещал часто писать им и дал каждой из них наш петербургский адрес. Но они обе только покачали головой. Неужели мы будем помнить о них, очутившись в шумной столице!
Они уже говорили с нами, как скромные, затерянные в глуши провинциалки — с людьми, живущими в Петербурге светской, рассеянной жизнью.
Брат не успел еще ничего ответить им, когда наш поезд остановился, подался назад, чуть не свалив нас всех с ног, и остановился снова.
Девочки быстро пожали нам руки и сбежали со ступенек на платформу.
_____
В петербургской извозчичьей пролетке с поднятым над нашими головами кожаным верхом — в это время моросил дождь — въехали мы во двор дома на Забалканском проспекте.
Это был двор, каких мы еще не видывали — чистый, просторный, гладко вымощенный, с двухэтажным каменным домом, садиком в углу и со множеством статуй из белого и черного мрамора, разбросанных в беспорядке от ограды до ограды. Статуи чаще всего изображали печальных, склонившихся перед алтарем женщин в покрывалах, спадающих волнистыми складками, и маленьких кудрявых ангелов, грациозно простирающих ввысь круглые, в мраморных жилках, ручонки.
Неужели же мы будем жить на этом дворе, в этом небольшом, уютном и нарядном доме? Нет, оказывается, здесь живет сам хозяин, владелец скульптурной мастерской, итальянец Ботта. А мы едем дальше — во второй двор. Дома здесь похуже. Кирпичные их стены не облицованы гладкими розовато-серыми плитами, как хозяйский дом, и даже не оштукатурены. Но и это еще не наш двор. Извозчик везет нас дальше — на третий, окруженный невысокими флигелями и весь загроможденный огромными телегами с поднятыми кверху оглоблями.
Едва только мы въехали на этот третий двор, нас оглушил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрывный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и дробный топот лошадей в конюшне.
По узкой, полутемной, грязноватой лестнице поднимаемся мы во второй этаж одного из флигелей.
Это и есть наша столичная, петербургская квартира! О том, что она наша, можно догадаться и безо всяких объяснений: достаточно взглянуть на плюшевую — слегка потертую — скатерть, памятную нам еще со времен Майдана, на старый комод, украшенный знакомой парой серебряных подсвечников, на висящую над столом большую керосиновую лампу.
Отец замечает наше разочарование и, как всегда, бодрым, полным уверенности голосом говорит нам, что это жилье — только временный привал и что скоро мы отсюда переедем. У нас будет прекрасная, просторная квартира при заводе за Московской заставой.
А пока он обещает показать нам Петербург. Для этого он освободится завтра пораньше и, если только не будет дождя, прокатит нас на пароходике по Фонтанке и по Неве, поведет в зоологический сад, угостит на Невском знаменитыми филипповскими пирожками.
По старой памяти он, видно, считает нас еще маленькими и предлагает нам программу, которая года два тому назад привела бы нас в полный восторг. А впрочем, откровенно говоря, мы и сейчас не прочь проехаться на пароходе и отведать филипповских пирожков, хоть и знаем, что Петербург может дать гораздо больше того, что обещает нам от своего щедрого сердца отец.
_____
Мы и в самом деле чувствовали себя чуть ли не детьми, во всяком случае моложе своего возраста, в тот чудесный праздничный день, когда отец впервые возил нас по Петербургу, покупал для нас билеты на плавучей, слегка покачивающейся под ногами пристани, усаживал за мраморный столик открытого кафе и заботливо спрашивал, не хотим ли мы еще мороженого. За несколько месяцев разлуки мы успели отвыкнуть от такой заботы, и теперь она особенно трогала нас.
Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй, гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город через несколько дней, когда решился постранствовать по его улицам совсем один.
Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись по узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся в один огромный дом от перекрестка до перекрестка.
Конка движется так неспешно, что я успеваю прочесть чуть ли не все вывески парикмахерских, кондитерских, ресторанов, банков, страховых обществ, бюро похоронных процессий, винных погребов и ломбардов.
В Острогожске у нас только один книжный магазин, а здесь их целые кварталы. Есть огромные, с зеркальными витринами, а попадаются и такие, где еле-еле умещаются продавец и покупатель.
Меня так и подмывает соскочить на ходу с подножки конки и нырнуть в эту непроходимую книжную чащу. Но мне некогда. Меня ждут Невский проспект, Сенатская площадь, Нева.
И вот уже я шагаю по Невскому. Впереди бледным золотом сияет игла Адмиралтейства с кружевным корабликом на острие. Невский так широк, что дома по обеим его сторонам кажутся ниже, чем на самом деле. Да они и вправду не слишком высоки, и от этого здесь светлее, просторнее, чем на других улицах. А как весело и празднично звучит перестук множества копыт на торцовой мостовой!
Два потока людей движутся навстречу один другому по широким панелям из каменных плит.
Я совсем один в этой пестрой толпе куда-то спешащих или чинно прогуливающихся людей. И оттого, что меня здесь никто не знает да и сам я не знаю никого, я чувствую себя свободным — будто кто-то подарил мне шапку-невидимку.
Я брожу по незнакомому городу без провожатых, но все узнаю: мосты, статуи, соборы, дворцы, арки. Можно подумать, что я когда-то уже бывал здесь и потому так уверенно нахожу дорогу к Сенатской площади, к Неве и памятнику Петра.
И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гранитной ограды Невы или у подножья скалы, на которой застыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне взрослым человеком, причастным к жизни взрослых, к истории, к поэзии.
Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть. Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов, вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный, не мешающий глазам видеть.
В скверах над стрижеными газонами лежали белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей, будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огородах.
И этот простой, неожиданный запах делал еще более странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие ночи.
Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на стеклах верхних окон.
Дома в тревоге ждали меня родные. Они так обрадовались моему возвращению, что не стали меня бранить, а я был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою первую белую ночь.
_____
Наши каникулы кончались, а мы и сами не знали, радует нас или печалит предстоящее возвращение в Острогожск.
Грустно было снова расставаться с родными, жалко покидать только что открывшийся нам во всем своем великолепии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Острогожск, где была наша гимназия, где жили все наши сверстники, товарищи, друзья.
Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала, кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно очутился в Острогожске. Хотелось увидеть всё и всех сразу, снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным, каким был я до отъезда в Питер.
Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращающийся из отпуска в далекий полк, где у него есть определенное положение, точные обязанности, издавна установившиеся отношения с людьми.
Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно переписывался с Острогожском и бережно хранил приходившие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомысленнее и за все время каникул не написал ни одного письмеца.
Вспоминая об этом я мучился угрызениями совести и еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Острогожску.
Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одной триумфальной арки и памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург.
Я уже довольно свободно разбирался в петербургских улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец, наблюдал их и в дневные часы, и вечером при свете газовых фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял себе их обстановки и уклада.
Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциальными и жили во временных, случайных и неуютных квартирах.
А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не встречал.
Однако вскоре — еще до отъезда нашего в Острогожск — мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними.
Вот как это случилось.
Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стихи и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхвалил мои поэмы и переводы — да не кому-нибудь, а самому Стасову.
Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.
Этот человек, которому шел в то время — летом 1902 года — семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.
А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.
И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо — оживленное, помолодевшее. Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.
Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые, особенно хлесткие места заставлял повторять дважды.
С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход.
Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.
Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.
С каким жадным любопытством, с каким счастливым ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широкой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохранилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники библиотеки.
У Стасова не было своего отдельного служебного кабинета. Перед большим окном, выходившим на улицу, стоял его тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это были стенды с гравированными в разные времена портретами Петра Первого. На одних гравюрах он был изображен по пояс, в стальных латах, на других — в мантии, во весь рост. На третьих — это был всадник на вздыбленном коне. Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем, стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать «мирным». Здесь всегда кипели споры, душой которых был этот рослый, широкоплечий, длиннобородый старик с крупным, орлиным носом и тяжелыми веками. Он никогда не сутулился и до самых последних своих дней высоко нес непреклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хотел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса, а только символически заслонял рот ребром ладони, как это делали старинные актеры, произнося слова «в сторону».
Со мною Стасов обращался безо всякой снисходительности, как со взрослым, хоть и говорил мне «ты» и называл меня «Маршачком». Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище: «Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок» и т. д.
Впрочем, чаще всего он называл меня короче — «Сам» (уменьшительное от «Самуил») и на книге, которую он мне подарил, написал: «Сам, пожалуйста, будь всегда сам и меня никогда не забывай. Желаю поскорей большой рост — в сажень!»
Помню, в одну из первых наших встреч я задержался в библиотеке у Владимира Васильевича до конца его занятий.
Вместе мы вышли из подъезда библиотеки и свернули на Невский, продолжая разговаривать.
Было уже около пяти часов вечера, но все еще ярко светило солнце. На улицах было много народу. Прохожие то и дело оглядывались на идущего большими шагами седобородого великана и еле поспевающего за ним мальчика в гимназической фуражке с гербом, в котором поблескивают две буквы «О. Г.» («Острогожская гимназия»).
Пройдя несколько шагов, Стасов нанял извозчика на Пески, на Седьмую Рождественскую, где была его квартира, но по дороге остановился у книжного магазина Суворина.
Продавцы встретили его, как старого знакомого. Пошутив с ними (Владимир Васильевич редко обходился без шутки), он попросил подобрать для него целую библиотечку дешевых суворинских изданий. Тут были томики Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Гоголя — все в одинаковых картонных переплетах.
Когда мы вышли на улицу, Владимир Васильевич сказал мне своим громким шепотом:
— Это все тебе. Повезешь в свой Острогожск!
С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе ехать к нему на Седьмую Рождественскую.
Как запомнились мне эти наши поездки! Мне нравилось сидеть в широкой пролетке рядом с Владимиром Васильевичем, разговаривать с ним, посматривая по сторонам и невольно прислушиваясь к мягкому постукиванию копыт по торцовой мостовой и звонкому — по булыжной.
Вот перед нами подъезд многоэтажного серого дома на Песках.
Щедро расплатившись с извозчиком, Стасов выходит из пролетки и быстро поднимается по лестнице, обгоняя меня и продолжая на ходу, через плечо, начатый разговор.
Сильно дергает он ручку звонка, и домашние сразу догадываются, что это возвратился хозяин.
Перекинувшись с ними несколькими приветливыми, шутливыми словами, он проходит к себе в кабинет — в довольно тесную, узкую комнату, уставленную строгой старинной мебелью и увешанную портретами. Больше всего мне запомнились два репинских портрета: один Льва Толстого, другой — сестры Владимира Васильевича, Надежды Васильевны, замечательной женщины, одной из основательниц Бестужевских женских курсов. Стенная лампа с рефлектором мягко освещает умное, сосредоточенно-суровое лицо, гладкие волосы под темной наколкой, скрещенные худые руки.
Владимир Васильевич укладывается на старинный неширокий диван с намерением отдохнуть до обеда, но отдыхать он не любит и не умеет. Через полчаса он опять на ногах, и мы усаживаемся обедать за большой стол, за которым не раз сидели Мусоргский, Бородин, «Римлянин» (как называл Стасов Римского-Корсакова), Репин, Шаляпин.
Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за городом — в деревне Старожиловке, близ Парголова.
На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь в своей комнате, наверху, и часто будил меня громовым, стасовским, шепотом:
— Сам, ты спишь?
После этого обращения я уже, конечно, не спал и, пользуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его множеством вопросов.
Кого только не знал он на своем веку! Мне даже не верилось, что эта рука, которую я так часто держу в своей, пожимала когда-то руку баснописца Ивана Андреевича Крылова, руку автора «Былого и дум» и редактора «Колокола» Александра Ивановича Герцена.
У Стасова была давняя дружба со «Львом Великим», как он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе.
Он рассказывал мне, как однажды он и Тургенев завтракали вместе в ресторане (Стасов говорил: «в трактире»). Беседуя о чем-то, они неожиданно сошлись во мнениях. Тургенева это так удивило, что он тут же вскочил из-за стола, подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высоким, почти женским голосом:
— Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил — он согласился со Стасовым!
На все мои бесчисленные вопросы Владимир Васильевич отвечал охотно и подробно.
Но один мой вопрос ошеломил его.
Не подумав, я как-то брякнул:
— А с Державиным вы встречались, Владимир Васильевич?
— С Державиным?! — медленно и удивленно повторил Стасов. — Да ты еще, чего доброго, спросишь, знал ли я старика Мафусаила!
С тех пор я старался не задавать Владимиру Васильевичу таких опрометчивых вопросов.
Уж очень было бы жаль, если бы он махнул на меня рукой и решил, что не стóит толковать со мной о далеких временах, о которых у меня имеется самое смутное представление.
А между тем эти устные рассказы Стасова были для меня мостом к очень давней и великой эпохе. Владимир Васильевич родился в 1824 году, в год смерти Байрона. Во время его детства и юности взрослые говорили еще об Отечественной войне, как о событии, лично ими пережитом. И еще совсем свежа была память о восстании декабристов со всеми допросами, доносами и карами, которые за ним последовали. Когда погиб Пушкин, Владимиру Васильевичу было тринадцать лет. Юношей — студентом Училища правоведения — читал он многие, впервые напечатанные, страницы Гоголя. Он был единственным человеком, провожавшим вместе с Людмилой Ивановной Шестаковой ее брата, Михаила Ивановича Глинку, когда тот в последний раз уезжал за границу, А уж о Мусоргском и Бородине Стасов мог бы рассказать больше, чем кто-либо из оставшихся в живых современников.
К сожалению, я был еще слишком молод и не мог как следует воспользоваться щедрой готовностью Владимира Васильевича делиться со мною тем, что хранила его необъятная память.
С трогательной заботливостью старался он приобщить меня ко всему, что было ему самому дорого.
Он повез меня в Академию художеств и попросил Ивана Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать мне библейские рисунки Александра Ивáнова. Он брал меня с собой на органные концерты, где исполнялась музыка композитора, которого он ставил выше всех других, — Баха.
Помню, как после одного из таких концертов он решительно тряхнул головой и сказал:
— И после всего этого помирать? Нет, не согласен!
В то время, когда я готовился к отъезду из Петербурга, Стасов тоже собирался в путь — ко Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. Для Владимира Васильевича это не было простой поездкой в гости, а настоящим паломничеством.
«Лев Великий» занимал в его жизни особое — значительное и важное — место. Знакомство их было давнее. Они постоянно переписывались друг с другом, и всякий раз Стасов по-детски радовался, увидав на конверте крупные, тонкие, не вполне разборчивые буквы толстовского почерка.
Не жалея времени и сил, подбирал он для Льва Николаевича исторические материалы, относящиеся то к следствию по делу декабристов, то к войне с Шамилем. Толстой не скупился на просьбы, зная, что добрый, издавна влюбленный в него Владимир Васильевич готов добыть все необходимые ему документы хоть со дна морского. На стасовском столе в Публичной библиотеке мне часто случалось видеть объемистые пакеты, предназначенные к отправке в Ясную Поляну.
Впрочем, с такой же самоотверженной заботливостью подбирал когда-то Стасов материалы для Бородина и Мусоргского, а в мое время — для совсем еще молодых, никому не известных композиторов и художников.
_____
За несколько дней до нашего расставания Владимир Васильевич повел меня к известному и модному в то время фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библиотеки.
Старый и совершенно лысый Карл Карлович, сохранивший на память о своей давно минувшей молодости только густые, черные как смоль брови, чрезвычайно обрадовался приходу Стасова и сразу же направил на него чуть ли не всю тяжелую артиллерию своих аппаратов.
Но Владимир Васильевич закрыл лицо обеими руками и сказал, что на этот раз он привел сниматься своего молодого приятеля.
Приветливый Булла, у которого даже лысина сияла весело и празднично, выразил по этому поводу живейшее удовольствие и двинул свои аппараты на меня.
Вероятно, если бы я пришел к нему в ателье один, он поручил бы мою особу заботам своих младших помощников. Но так как привел меня Стасов, Булла счел своим долгом заняться мною лично. Он много раз пересаживал меня с кресла на диван, а с дивана — на пуф, легкими, осторожными движениями наклонял мою голову то направо, то налево и долго следил за выражением моего лица, прежде чем открыл и снова закрыл круглой крышкой блестящий глаз большого аппарата.
Через несколько дней мы вместе с Владимиром Васильевичем зашли в фотографию за снимками. Они ждали нас в конверте, четко отпечатанные и тщательно отретушированные.
Много лет в доме у нас хранилась ничуть не выцветшая и не потускневшая карточка, изображающая мальчика в белой гимназической блузе, глубоко задумавшегося над толстой книгой. Книгу эту заботливо раскрыл передо мной Карл Карлович Булла, и называлась она, сколько мне помнится, «Каталог новейших фотографических аппаратов и объективов фирмы Цейс».
Другую — точно такую же — карточку получил Стасов. Он бережно положил ее в свой бумажник и спрягал во внутренний карман сюртука.
А через два дня мы расстались.
Я простился с Владимиром Васильевичем до зимних каникул. Однако нам довелось увидеться гораздо раньше.
_____
Три дня пути с пересадками и долгими остановками, и мы опять очутились в Острогожске. По-прежнему живем у дяди в узкой комнате с окошком во двор — будто и не было в нашей жизни Петербурга, будто он нам только приснился. Через несколько дней мы начнем ходить в гимназию, и время потянется так, как тянулось и в прошлом и в позапрошлом году.
И все же за эти два-три летних месяца что-то вокруг меня неузнаваемо изменилось. Не тот стал Острогожск, не те дома и люди.
Чуть ли не прямо с поезда обежал я всех своих друзей и товарищей, побывал у Лебедевых, у Гришаниных, точно на крыльях облетел весь город — и в первый раз почувствовал, какой он маленький, как легко исходить его вдоль и поперек.
В Петербурге мне казалось, что все мои новые встречи, впечатления, события только для того и выпали на мою долю, чтобы мне было о чем рассказывать в Острогожске. А здесь я почувствовал, что все мои мысли в Петербурге и я жду зимних каникул еще до начала осенних занятий.
Да тут еще вдобавок на нас свалилось неожиданное огорчение. Наши приятельницы-гимназистки, с которыми брат так усердно переписывался летом, не пожелали даже встретиться с нами.
Это было так странно и необъяснимо, — ведь еще совсем недавно они сами вызвались проводить нас, и даже не до вокзала, а до ближайшей станции.
Вскоре выяснилось, что эти-то проводы и были всему виной. Кто-то из знакомых увидел девочек на станции, когда они садились в вагон вместе с нами, и толки об их поездке пошли по всему городу. Об этом сами они узнали только перед началом занятий, когда их матерей вызвали для объяснения к гимназическому начальству.
В первые дни мы всячески искали случая поговорить с девочками, уверить их, что мы готовы на любую жертву, чтобы только защитить их от сплетен и пересудов. Но все было напрасно, — они словно отгородились от нас непроницаемой стеной.
Особенно горевал мой брат. Он ходил из угла в угол по комнате, упорно думая, как восстановить справедливость и спасти так внезапно и нелепо прерванную дружбу. Но он слишком ясно понимал, что всякий неосторожный шаг может только повредить нашим и без того напуганным приятельницам.
Что касается меня, то я по-настоящему сочувствовал и брату и девочкам, но в самой глубине души были у меня другие тревоги и заботы. Я догадывался, что не сегодня-завтра в жизни моей должен произойти решительный поворот.
Однако я исправно ходил в гимназию, сочинял шутливые стихи для журнала, который мы по-прежнему выпускали с Леней Гришаниным, бывал у Лебедевых, где старшеклассники вели ожесточенные споры о литературе и политике, но со дня на день ждал чего-то, сам не зная чего.
И вот однажды, придя домой из гимназии, я нашел на столе конверт, на котором необычным, похожим на узор, почерком был написано:
Его высокородию
Самуилу Яковлевичу
Маршаку
Торопливо вскрыл я конверт и в правом верхнем углу листа почтовой бумаги увидел надпись:
Москва, 15 августа 1902 г.
Письмо было от Стасова.
Он писал, что в одном из разговоров с Толстым упомянул и о встрече со мной.
«…среди всех наших разговоров и радостей я нашел одну минуточку, когда стал рассказывать ему про новую свою радость и счастье, что встретил какого-то нового человечка, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое впереди. Он слушал — но с великим недоверием, как я вперед ожидал и как оно и должно быть. Он мне сказал потом, с чудесным выражением своих глубоких глаз и своею мощною, но доброю улыбкою: «Ах, эти мне «Wunderkinder»! Сколько я их встречал и сколько раз обманывался! Так они часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит, полетит светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между ними не верю! Пускай наперед вырастут, и окрепнут, и докажут, что они не пустой фейерверк!..»
Слово «вундеркинд» было мне до тех пор незнакомо, но все же я догадался, чтó оно значит, и немного обиделся.
Зато конец письма не только утешил, но и взволновал меня чуть ли не до слез.
Стасов писал:
«Я и сам то же самое думаю, — и я тоже не раз обманывался. Но на этот раз немножко защищал и выгораживал своего новоприбылого, свою новую радость и утешение! Я рассказывал, что, на мои глаза, тут есть какое-то в самом деле золотое зернышко. И мой ЛЕВ как будто склонял свою могучую гриву и свои царские глаза немножко в мою сторону. Тогда я ему сказал: «Так вот что сделайте мне, ради всего святого, великого и дорогого: вот, поглядите на этот маленький портретик, что я только на днях получил, и пускай Ваш взор, остановясь на этом молодом, полном жизни личике, послужит ему словно благословением издалека!» И он сделал, как я просил, и долго-долго смотрел на молодое, начинающее жить лицо ребенка-юноши.
Вот это он…»
Трудно сказать, что больше всего тронуло меня в этом письме: молчаливое ли благословение Толстого или эта удивительная просьба доброго и восторженного Владимира Васильевича, не забывшего обо мне и в Ясной Поляне.
А через месяц он уже добился моего перевода в петербургскую гимназию, и я навсегда распрощался с Острогожском.
Провожало меня на этот раз много народу — родственники, товарищи, друзья. Но в вагон со мною вошел только мой брат. И тут я по-настоящему понял, что первый раз в жизни мы с ним расстаемся надолго. Мне хотелось сказать ему на прощанье какие-то особенные, нежные слова, но он не слушал меня. Задвигая одну корзинку под лавку вагона и пристраивая другую на верхней полке, он умолял меня не выходить на станциях, не терять денег и билета и немедленно телеграфировать ему по приезде в Петербург.
Только четкие и гулкие три звонка на платформе заставили его наконец покинуть вагон.
Три Петербурга
И вот я снова в столице.
Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге гостем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жадности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, ни Острова.
Но зато теперь мне открылась новая, еще незнакомая часть Питера, его рабочая окраина — Московская застава.
Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца Владимира Васильевича, завершали собой Петербург дворцов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных решеток с золочеными копьями и львиными масками.
А за Московскими воротами и за железнодорожным Путиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шоссе, по сторонам которого тянулись ряды однообразных деревянных домов вперемежку с кирпичными, такими же однообразными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели кусты сирени в палисадниках.
Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной старыми редкими деревьями, находился завод, где работал отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед тем переселилась наша семья.
______
Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребывания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в одном, а в трех различных, таких несхожих между собою и почти не соприкасающихся мирах.
Один был тот, в который ввел меня седобородый великан — бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Владимир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не скажешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шаляпин:
«Этот человек как бы обнял меня душою своей».
С первых дней моего приезда я проводил целые часы то у него дома, то в просторных залах Публичной библиотеки. Брал он меня с собою и к своим друзьям — композиторам, художникам, писателям.
Так, нежданно-негаданно, попал я в круг взрослых людей, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы подолгу, среди бела дня, с жаром толковать о какой-нибудь новой симфонии, опере, картине или книге. Эти известные и вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве смело, серьезно и весело, как хозяева, как мастера, его создающие. Имена многих из них доходили до меня еще в Острогожске — задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислушиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто раскрыл какую-то очень интересную книгу где-то на середине и по отдельным беглым намекам должен догадываться, что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они связаны между собой.
Каждый из них занимал такое большое место в жизни да и в моем представлении, что мне было даже как-то странно видеть их так близко перед собою в самых обыкновенных костюмах и ботинках, в самой обычной обстановке.
Неужели же этот невысокий, добродушный человек с маленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой шевелюрой и подстриженной клинышком, слегка седеющей бородкой — и в самом деле Илья Ефимович Репин? Ведь если бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо мной знаменитый на всю Россию художник. Скорей уж он похож на служащего земской управы или на нашего острогожского библиотекаря.
А вот строгий, длиннобородый, остро и сосредоточенно поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла очков Римский-Корсаков. Волосы его щеткой стоят над высоким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мною он сдержанно учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии.
Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно улыбающийся Глазунов. У него тяжелые плечи, короткая шея, а косой разлет бровей и небольшие, опущенные книзу усы придают лицу что-то монгольское.
Стасов за глаза любовно называет его «Глазун».
Почти у всех в стасовском кружке свои домашние, ласковые прозвища.
Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так много о «Мусорянине» или «Myсиньке», что мне казалось, будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на клавишах рояля.
В сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла бы с полным правом называться по-нынешнему «Домом искусств» и прежде всего — музыки.
Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров — композиторов, певцов, пианистов. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами.
Я был моложе большинства этих людей лет на двадцать, тридцать, сорок, а то и на шестьдесят с чем-то, но почти все они разговаривали со мною, как с младшим членом своей семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом деле становился взрослее, свободнее, увереннее.
______
Но совсем другим казался я своим товарищам и самому себе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда меня перевели по ходатайству Стасова.
Тут я был школьником, да еще и новичком среди тридцати мальчиков, которые уже несколько лет учились вместе, дружили, дрались и вели исподтишка бесконечные войны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли подставить новичку ножку, дать ему «кобца» или «загнуть салазки», но очень скоро привыкали к нему, как волчата к приблудному волчонку, и уже не отличали его от своих.
А петербургские мои соклассники изводили новичка еще похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний далеко не сразу принимали в свою среду.
Эта столичная гимназия, просуществовавшая уже более полувека и сохранившая после недавней реформы полный курс древних языков, считалась гимназией аристократической.
В Острогожске на весь наш класс был один только князек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое время учились и графы Шереметевы, которые очень обижались, если их фамилию писали с мягким знаком после «т», и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Впрочем, были у нас ребята и не столь знатного происхождения — сыновья профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они по большей части при встрече с новичками напускали на себя какую-то гвардейскую чопорность и надменность.
Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими одноклассниками, если бы мое появление в гимназии прошло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение свободно и по-приятельски беседовать с классом о последних новостях, счел необходимым представить меня моим новым товарищам.
Толстый и всегда благодушно настроенный, он уселся на скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими словами:
— А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен из провинции юный поэт, подающий, как говорят, ба-а-альшие надежды. Прошу любить его и жаловать!
Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выражение «подающий большие надежды», почему-то показавшееся им очень забавным, повторялось несколько дней на все лады. Меня так и звали: «подающий большие надежды» или «приятная новость». К счастью, эти прозвища скоро забыли.
Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназическая форма, которой когда-то при поступлении в острогожскую гимназию я так радовался, сильно отличалась от столичной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не первой молодости: блестящие пуговицы, которыми застегивался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, кожаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос.
В довершение всего я был в то время не по возрасту мал и худощав. (Только впоследствии, уже на границе юности, догнал я своих ровесников и ростом, и шириною плеч.) Среди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких, плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и в ладных черных куртках, туго стянутых в талии лакированными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане.
Еще больше отличался я от столичных гимназистов на улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые, почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень маленькие, изящные гербы из какого-то металла, похожего на матовое серебро.
Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь моя шинель грубого, шершаво-серого сукна! Каким нелепым и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке!
Правда, через некоторое время меня одели по форме, но в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми петербургскими товарищами каким-то очень невзрачным провинциалом.
А ведь всего только несколько недель тому назад — на платформе Острогожского вокзала и в грохочущем, уносящем меня на север поезде — я уже воображал себя настоящим, коренным петербуржцем.
Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по его прямым и широким проспектам или сидел на гранитной скамье в полукруглом выступе ограды над Невой.
И только в гимназии я все еще оставался новичком — и для товарищей, и для всех учителей, начиная с молодого, только что выписанного из Парижа француза, весело поблескивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным учителем греческого языка Цинзерлингом.
В Острогожске я несколько лет шел в классе первым, и даже самые придирчивые из учителей обращались со мной уважительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее мне было трудновато: из-за переезда я отстал от класса, да и учебники, за исключением одного-двух, были в петербургских гимназиях другие.
Первым учеником считался тут большой и очень толстый мальчик с круглой головой, гладко причесанной на косой пробор, — Ваня Передельский. Он был сыном какого-то выслужившегося чуть ли не из нижних чинов генерала.
Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво отвечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том, что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни его усердия, ни красноречия.
Вероятно, у него и в самом деле были все основания числиться первым учеником — незаурядные способности, отличная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии, пожалуй, больше ценили в нем другие качества: он казался таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко можно было представить себе будущим прокурором или докладчиком в сенате, а может быть, профессором, выступающим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему даже не надо было меняться, — разве только дать установиться еще ломающемуся голосу.
Такой примерный ученик был как нельзя более под стать всей этой классической казенной гимназии, где среди учителей не было таких ископаемых, как Сапожник — Антонов, но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что со студенческой скамьи педагогов нового типа вроде Поповского.
Однако бывали здесь и по-настоящему образованные, заинтересованные в своем предмете учителя, оставившие по себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благодарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка на кафедре, слышу его тихий, ровный голос, вспоминаю приветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С незапамятных времен преподавал он в этой сугубо классической гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда, когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Арефьев, человек спокойный, умный и простой. Несмотря на свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не сводил географию к перечню островов и полуостровов, заливов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем вызывал нас, а во время объяснений читал нам целые страницы из дневников экспедиций и записок путешественников. И уж совсем ничего казенного не было в Павле Григорьевиче Мижуеве. Автор книг о Новой Зеландии, сотрудник передовых толстых журналов, он почему-то преподавал у нас немецкий язык.
Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вместе с древними языками она сохранила в полной неприкосновенности свой сложившийся за полвека чинный порядок, от которого веяло холодом.
Нашего директора, строгого и суховатого Шебеко, дослужившегося до первого генеральского чина, мы редко видели во время уроков, а когда он появлялся в коридоре на одной из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли тишину в классах на всем пути его следования.
И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие проделки, какие и не снились самым отчаянным головорезам в Острогожске.
Чаще всего это бывало на уроках «грека» Роберта Августовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточенную войну в течение целых десятилетий. Он подозревал своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою очередь, всей душой ненавидели его геморроидально-поджарую фигуру, его узкую, длинную, прямоугольную бороду, которую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вытаскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и двоек наставил он на своем веку в классных журналах и сколько воды и лампадного масла было подмешано в его чернила.
В гимназии ходили легенды о тех бесконечных «розыгрышах», которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на выдумки ученики. Рассказывали, будто однажды старшеклассники, сыновья состоятельных родителей в складчину заказали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похоронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и цилиндрах. У наших острогожцев не хватило бы на такую затею ни денег, ни дерзости.
Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами черных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами, а потом услышал из передней незнакомый торжественно-печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной колесницы.
______
Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к новой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я невольно сравнивал с ней свою прежнюю — острогожскую. Та стояла в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна ее с одной стороны выходили на просторный двор, с другой — противоположной — смотрели в городской сад.
А здание нашей петербугской гимназии с виду ничем не отличалось от соседних, вплотную примыкающих к нему домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сумрачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека, физический кабинет и гимнастический зал значительно богаче, ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтракали мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем.
И все же мне было здесь как-то неуютно, — может быть, потому, что я попал в класс, где давно уже установились отношения и репутации, да при этом еще начал ходить на занятия среди учебного года.
Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я вскочил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, перезнакомиться между собой и с неудовольствием встречают нового, нежданного пассажира.
Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда кончался школьный день и гимназисты наперегонки устремлялись к выходу.
Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высыпали целою гурьбой и долго провожали один другого до дому, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая обо всем, что только взбредет на ум или попадется на глаза.
Особенно много провожатых бывало у меня, так как по дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выдуманную тут же на ходу историю, которая у моих соклассников называлась «суматохой».
— А ну, Маршак, рассказывай дальше свою «суматоху»! — торопил меня самый постоянный из моих слушателей, добрый, мечтательный Костя Зуюс.
Такое название дали моим устным рассказам потому, что первая выдуманная мною история начиналась словами: «Суматоха страшная…»
Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да и почти все мои товарищи по классу обычно расходились порознь. За одними присылали щегольскую коляску с важным, толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу извозчика или шагали до ближайшей конки пешком.
Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна везла меня по Литейному и Загородному, другая — по бесконечному Забалканскому через Обводный канал, мимо двух огромных железных быков, стоявших перед городскими бойнями, мимо пустынного Горячего поля, на котором ночевали питерские золоторотцы.
Несколько оживленнее становилось наше путешествие перед Обводным каналом. Здесь в тяжелую двухэтажную конку на помощь клячам впрягали пару более резвых запасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновенно криком, свистом, звонким щелканьем кнута.
Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка добиралась наконец до Московских ворот. Тут лошадей выпрягали и переводили на противоположную сторону вагона, так что задняя его площадка становилась передней. После этого конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув ремни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски к Путилову мосту.
Здесь со всех сторон обступал меня тот третий мир, который открылся мне в Петербурге наряду с первыми двумя, гораздо более благоустроенными.
Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то напоминала те пригороды, предместья, слободки, в которых протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь были чаще всего двухэтажные, а по сторонам дороги, вымощенной крупным, крутолобым булыжником, тянулись водосточные канавы с переброшенными через них мостками и дощатые панели.
Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувствовался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же много работали, так же пьяно гуляли по праздникам. И лавки, насквозь пропахшие селедкой, керосином, карамелью и огуречным рассолом, были почти такие же, как на Майдане.
Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем отличалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в провинции. Вопреки надеждам и обещаниям отца, она была неприглядна и неуютна. Маленькие, тесные комнатки в первом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо заселенного двора; низкие окна, в которые может заглянуть любой прохожий; дощатые некрашеные полы… Зато у моих младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в золотые ворота или в пятнашки и прятаться в закоулках полуразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались когда-то в развалинах заброшенного здания на острогожском дворе.
______
Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По кругу, как по поверхности воды, все время ходила легкая рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле, огонька.
В этой единственной освещенной комнате коротала вечер вся ваша семья. Примостившись у нагретой печки, шила, вязала или штопала мать, а младшие дети — две сестренки и меньшой брат — сидели у стола, каждый со своей книжкой. Кто читал про себя, кто шепотом, но все были одинаково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смотреть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых старшим было одиннадцать и девять лет, а младшему семь, подперев кулачками щеки, водят глазами по строчкам, ничего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит лоб, другая плачет над своей книгой, а брат так и подпрыгивает на стуле и громко хохочет: он в первый раз читает «Приключения Макса и Морица».
Одного только отца нет дома. Он еще на заводе.
Завод, на котором служил теперь отец, был значительно больше прежних. Но и здесь люди работали чуть ли не с самого рассвета дотемна и все делалось вручную. На высокий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огромный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и носили ушаты со щелоком.
В котле бурлило, как море, обдавая людей острым, горячим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже на пышное атласное, сшитое из лоскутьев разного оттенка одеяло. Когда мыло начинало вздуваться и брызгать едкой пеной, рабочие помешивали его длинными железными шестами, а мастер — мой отец — то и дело брал деревянной лопаточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к самому краю котла. Рыжее его пальто, щеки, брови, усы, бородка клинышком, даже очки — все это было в белых налетах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно было при входе сразу различить людей на помосте.
Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал о том, как легко потерять равновесие на скользких от налипшего мыла ступеньках.
Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цеху рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов, бывший унтер-офицер лейб-гвардии полка, резал еще не вполне затвердевшее «мраморное» или «кокосовое» мыло тонкой проволокой, а его сподручные, оборванные, вихрастые подростки с Горячего поля, проворно, как заправские фокусники, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не теряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуться, как фунт мыла, а то и целый брусок мгновенно исчезал у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка размякшего мыла. Терять им было нечего: их выгоняли, а через несколько дней брали снова, если нужны были рабочие руки.
Я с любопытством разглядывал этих столичных жителей, бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живущих на птичьих правах и никогда не унывающих. До приезда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор мне никак не удавалось, — они только шмыгали носом, передергивали плечами да перемигивались между собой. Я пытался расспрашивать о них Василия Ивановича Простова, но он отделывался только короткими отрывистыми фразами:
— Да что тут говорить! Шатуны. Погиблый народ. Голо, босо, беспоясо!
И, однако же, он обращался с этими лукавыми, озорными оборванцами по-человечески. Делился с ними махоркой, давал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный, если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере, половину своего заработка он пропивал. Пил главным образом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедельник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал аккуратно, как машина.
Каждое воскресенье, перед тем как выбить ладонью пробку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои сапоги и праздничную черную «тройку», хоть никуда в этот день не собирался.
— И зачем только ты пьешь, Василий? — спрашивал я его.
— А что же еще холостому человеку в праздник делать?
— Ну почитал бы книжку, что ли. Ведь ты же грамотный!
— К чтению, милый человек, привычка нужна, а я только мыло резать привычен. Во сне и то режу.
— А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю? — предлагал я и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух «Севастопольские рассказы» Толстого. — Да ты слушай! Это тебе, как военному человеку, интересно будет!
Страницу-другую он еще выдерживал, а потом его черная с проседью, коротко остриженная голова начинала опускаться все ниже и ниже.
Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его застали спящим на посту, смущенно оправдывался:
— Прошу прощения! Да только не в коня корм. Говорил же я тебе, что не приучен книжки читать, а приучаться уже поздно.
Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал, почему он не женится.
— Опоздал малость. Для семейной жизни, братец, время нужно иметь. Ну и средствá тоже!
Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый, всегда подтянутый человек, даже в нетрезвом виде не теряющий степенного достоинства.
Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы да глубокие, резкие складки вдоль щек говорили о пережитых им годах военной службы и о десятке лет фабричного труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было некуда.
Это был первый питерский рабочий, с которым мне довелось познакомиться за Московской заставой. Завод этот был довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли в стороне от кружков, которых было уже тогда немало на крупных заводах Питера.
Новые товарищи
Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался домой за Московскую заставу.
Когда погода казалась подходящей, — а она часто казалась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы, и летящие вдоль аллей Летнего сада осенние листья, и легкие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного, — я отправлялся бродить по городу.
Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно лежащих друг против друга над каменными, полого спускающимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охватить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно уставленного одинаковыми партами класса, а и в самом деле поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собою величавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история.
Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то незаметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из моих соклассников, сыном художника, Баулиным. Белокурый и очень бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизменным и незаменимым проводником по питерским улицам, закоулкам, мостам и набережным каналов.
Это он впервые показал мне Новую Голландию с великолепными, огромными воротами, через которые мог пройти по водной дороге многопарусный корабль.
Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской архитектуры и в маленьком двухэтажном дворце, примостившемся в углу Летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в двенадцати звеньях университета, напоминающих о том, что это здание было когда-то построено для «двенадцати коллегий».
Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу. Как бы ни был занят мой новый товарищ — рисовал ли он или читал какую-нибудь книгу по искусству, — он никогда не отказывался отправиться со мною пешком в Гавань или на Острова.
Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам этого широко раскинувшегося города, а мне еще так недавно расстояние от Острогожска до нашего пригородного Майдана или до железнодорожной станции казалось непомерно большим.
Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный дом. В маленьких светлых комнатах уютно и спокойно разместились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоровые и костяные фигурки — танцовщицы, пастушки, солдаты в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых полках громоздились большие, тяжелые книги.
Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в углу дивана, принимались осторожно перелистывать огромные страницы, рассматривая собрания русских, итальянских, французских, испанских картин. Многие из них мы уже видели в Эрмитаже, или в Русском музее, — тогда он назывался Музеем Александра III, — и узнавать их было особенно интересно.
В этом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже был моим проводником, как и в странствованиях по городу. Он знал чуть ли не каждую страницу и, не пускаясь в долгие объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для каждого художника и его времени.
Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихонько стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теплыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрослые дома, но только не хотят стеснять нас.
Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его картинами, книгами и причудливыми фигурками в прозрачном шкафу.
Этот первый мой петербургский товарищ и тихая, строгая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-настоящему узнал и полюбил.
______
Полной противоположностью дому Баулиных был другой дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал совершенно случайно.
Как-то на империале конки, который шутливо называли в те времена «верхотурой», моим соседом оказался рослый и худощавый гимназист. Слово за слово, мы разговорились. Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками напоминал прежних моих приятелей — острогожских старшеклассников. Держался он так же серьезно и просто и, несмотря на свою гимназическую фуражку, производил впечатление вполне взрослого, положительного, думающего человека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться старше своих лет, как многие из моих теперешних товарищей по классу.
За полчаса нашего путешествия на «верхотуре» мы успели не только познакомиться, но даже и подружиться. Под звон, грохот и дребезжанье конки он рассказал мне, что больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо решил пойти на естественный факультет университета, а я, еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о своем пристрастии к поэзии.
В этой области он был не слишком сведущ и, кроме Пушкина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова.
На прощанье мой новый приятель Володя Алчевский посоветовал мне непременно прочесть замечательную книгу Тимирязева «Жизнь растения», дал свой адрес и, уже спускаясь по крутой железной лесенке, крикнул мне наверх:
— Обязательно приходите!
В первое же воскресенье я отправился к нему в гости, на Выборгскую сторону, в один из корпусов Военно-медицинской академии.
Среди многочисленных флигелей, в которых помещались клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Алчевских и уже из передней услышал громкие молодые голоса и смех.
— У вас гости? — смущенно спросил я у моего приятеля, отворившего мне дверь.
— Да нет, все свои, — успокоительно ответил Володя. — А что, шумно очень? Это у нас всегда так. Заходите, не стесняйтесь!
Я переступил порог и очутился в большой, низкой комнате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах, а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти седой человек в старенькой военной тужурке без погон.
С первой же минуты меня встретили здесь, как доброго, старого знакомого. Навстречу мне, одна за другой, протянулось из-за стола несколько сильных, твердых, крупных рук.
Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим. Все его братья были уже студентами: один — медик последнего курса с двумя косыми серебряными полосами на погонах, двое универсантов в серых куртках с темно-синими петлицами и двумя рядами золоченых пуговиц, четвертый — «лесник» с блестящими вензелями на темно-зеленых бархатных погончиках.
Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так много студентов. И даже их родители держались как-то по-студенчески, очевидно, сохраняя привычки той поры, когда отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын, а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому креслу, бегала на курсы, стриженая, в накинутом на плечи клетчатом пледе.
В этот день вся семья была в сборе.
За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о политике, о статьях в последнем номере научного журнала. В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя. Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ничуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали сыновья.
Только впоследствии я узнал, что этот седоватый человек — один из самых популярных в студенческой среде преподавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и защитник.
Говорили, что в молодости он был так похож всем своим внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже позировал художнику для известной картины, изображающей больного Белинского в минуту, когда за порогом его комнаты появляется усатый жандарм.
С того времени, как была написана эта картина, отец моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще, если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или возмущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через силу поднятых веках можно было уловить это почти утерянное сходство.
После первого знакомства я не раз бывал в доме у Алчевских. Приходил я не только к Володе, а именно «в дом», потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и резкие в своих суждениях, но, в сущности, очень простые и славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей специальности. Но, кроме того, я узнал здесь, что слово литература означает иногда нелегальные издания, и впервые услышал о существовании газеты «Искра», издающейся за границей.
«Книгохранилища, кумиры и картины»
Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности — девятьсот второй, третий, четвертый — были одними из самых счастливых лет начала моей жизни.
Петербург, который я на первых порах увидел как бы «с черного хода» — с грязного, мрачного, оглушительно-шумного третьего двора на Забалканском проспекте, — повернулся ко мне парадной своей стороной,
Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже, но где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущности, это было тоже работой — может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.
У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских «художников» (так называли тогда в Петербурге молодой Художественный театр), о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор.
Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью придают ему ученый, профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, чтó привело этого генерала в художественный отдел библиотеки.
— А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич, — говорит генерал.
— Цезарь не просит, а повелевает, — с веселой готовностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах — это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той «Могучей кучки», о которой мне так много рассказывал Владимир Васильевич.
Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми перьями. Известная пианистка, она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет, — да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.
Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом.
Другая дама, которая приходит вслед за первой, — ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия. Поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.
Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым сивым волосом — бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине.
Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, словно магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов.
______
А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном, великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове!
Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил меня сюда Владимир Васильевич — сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей-художников.
Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с 4-й линии. В сумрачном, высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов.
Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, чтó представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уже перед глазами у меня встает небольшая, стройная фигура, в которой тем не менее угадывается огромный рост и повелительная сила человека в преображенской треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая, зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий, величавый образ.
А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры.
Эта просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было границ между истовым, страстным трудом и досугом, полным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне необыкновенно счастливой.
Запомнилась мне еще одна мастерская — уже не в здании Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яркий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем к Репину. Маленькая рыжая лошадка со светлым хвостом и такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запряженная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, которая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу и морозцу.
Странная вещь — память. Я не помню, какие гости были у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стеклянных выступах — верандах, балконах, вышках — репинской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна его мастерской деревья и кусты, отягощенные хрупким, пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на солнце и голубого в тени.
Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц, открытых и закрытых балконов, никогда не видел такого сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых, строгих сосен и заснеженных древних валунов.
Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он праздничный, благодушный, тихий. На нем финская меховая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает язык зверей, валунов и деревьев.
Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу, стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого причудливого деревянного дома, а потом, примостившись в углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира Васильевича, белого и величавого, как зима за окном.
За работой Репин рассказывает Стасову что-то смешное — насколько мне помнится, про какого-то своего ученика, которому он с великим трудом достал билет на концерт Шаляпина.
— И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал, потому что весь вечер был занят очень важным делом: рисовал затылки сидящей впереди публики. Ну кому нужны эти затылки и как можно было променять Шаляпина на чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на любом концерте несравненно менее талантливого артиста. А ведь он еще думал, что я похвалю его за такое усердие!
Мы приехали к Репину в среду — в единственный день недели, когда он принимал гостей и позволял себе отдохнуть от работы.
Но вот ему подают — не помню уже что — письмо или телеграмму из города. Один из его почитателей, которому какие-то обстоятельства помешали побывать в Куоккала в этот день, просит позволения приехать завтра.
Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь багровеет — даже уши и шея у него залиты густой краской.
— Да что же это такое? Уж если он сам бездельник, так, верно, думает, что и другим делать нечего. Нет, благодарю покорно! Не успел в эту среду, милости просим в следующую!..
И, отведя душу, он сразу успокаивается и опять становится таким же, как был, — добродушным, спокойным, чуть задумчивым, чуть лукавым.
______
Публичная библиотека, Академия художеств, театральные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже и во сне не снились, — все это так захватывало меня, что поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было уснуть.
Подумать только! После незатейливых любительских спектаклей в острогожском городском театре, куда я так редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя попасться на глаза гимназическому начальству, мне — словно по волшебству — открылся доступ в самые знаменитые петербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина, Комиссаржевская. Я сидел здесь не на галерке, а в партере и чувствовал себя полноправным зрителем в этом нарядном бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось действие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов.
Но, пожалуй, всего этого было чересчур много для подростка, попавшего в столицу из тихого уездного города. Жадно, без оглядки отдавался я всем разнообразным впечатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал, почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю ему о том, где побывал и кого видел.
Почему-то его, человека таких широких интересов, теперь больше всего занимало одно: успел ли я догнать свой класс. Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня другими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не на шутку тревожило его.
По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогожске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов написали музыку на мои слова.
Мне было жаль огорчать отца, но гимназия и в самом деле как бы отступила для меня на второй план.
Со своими одноклассниками я встречался главным образом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожидало меня за стенами класса.
Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли всецело завладеть моими мыслями и чувствами, хотя в большинстве своем они были гораздо более знающими и умелыми людьми, чем острогожские учителя. Но там во всем городе не было для меня никого умнее, чем Владимир Иванович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие из педагогов уступали в талантливости и широте моим новым взрослым друзьям.
Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со мною по поводу былин или «Слова о полку Игореве» так, как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и материал для оперы «Князь Игорь»? И разве узнал бы я в гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг Островского?
Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему этому новому надо было найти место, связать, соразмерить с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так как еще из Острогожска я вывез последствия малярии — малокровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тревожившее моих родителей, — то теперь, в пору особенно интенсивной, полной душевного напряжения жизни, — да еще на переломе между отрочеством и юностью, — я стал хворать не на шутку.
С беспокойством поглядывая на меня, Стасов хмурился, качал головой и говорил:
— Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края — только вот куда бы?
Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожиданно и чудесно, как я и представить себе не мог.
Из отрочества в юность
Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича.
Из года в год — более двадцати лет подряд — проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова. Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жителей Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа, со стеклянной верандой в каждом, был всегда открыт для друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концертов, литературных чтений, семейных праздников со всякими затеями — с гирляндами флажков, цветными фонариками и прочей милой, причудливой бутафорией! Все дачники и зимогоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время стасовских домашних концертов множество людей собирается за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из открытых окон.
В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, затейливо и старательно, «не без страхов, испугов и опасений: а вдруг не приедут!» — как говорил Стасов.
Все домашние принимали деятельное участие в этих приготовлениях, которые уже и сами по себе были праздником.
Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал поднести гостям шуточный и вместе с тем торжественный адрес. На большом листе картона скульптор Гинцбург нарисовал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено место для текста. Написать приветствие поручили мне — и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия гостей надо было еще переписать текст и украсить его узорными, золотыми и алыми заглавными буквами.
Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде величания в старинном стиле под названием «Трем богатырям». По былинному обычаю, первое место занимал у меня Илья — только не Муромец, а Репин. За ним следовали новые, не былинные имена: Максим Горький и Федор Великий — Шаляпин.
Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорожкам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропитанному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова позвали в дом — на нижнюю веранду — и опять усадили за работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один почетный гость — Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне подоспел Владимир Васильевич. Он ободрил меня или, как сам он выражался, «анкуражировал», и посоветовал прибавить к заголовку всего одно слово, а к тексту одну строфу.
И заглавие получилось даже занятнее, чем было: «Трем богатырям со четвертыим», — а самое величание завершалось теперь строчками, относящимися к Глазунову:
Это брат меньшой, богатырь большой — Александр-свет Константинович!Ничего удивительного не было в том, что я забыл упомянуть в своем приветствии одного из самых именитых гостей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким. Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне довелось видеть — правда, только издали и в том обособленном, торжественном мире, каким представлялись мне театральные подмостки.
А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше Горького и возрастом и славой. Да и слава у него была какая-то особенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или такую же страстную ненависть.
Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый на все сильное и самобытное, далеко не сразу признал его. На первых порах он отзывался о Горьком сдержанно, слегка недоверчиво. И не удивительно: это были люди различных эпох. Старик Стасов — младший современник Гоголя и Глинки, человек, который был на четыре года старше Толстого, на шесть лет моложе Тургенева и на двенадцать Герцена, — должен был проделать большую и сложную работу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел этот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а потом и почитателем горьковской прозы.
Читая томики в зеленоватых обложках, он как будто молодел. Угощал отрывками из Горького всех приходивших к нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно:
— Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да ведь это поэт и мыслитель первостатейный — под стать Байрону и Виктору Гюго.
Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в споре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Его голос был для моего поколения голосом времени — и не только настоящего, но и будущего.
И вот этот человек, о котором мы столько думали и спорили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам и будет разговаривать, шутить, слушать музыку вместе со всеми нами. И может быть, мне удастся разглядеть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книжках, ни в толках и пересудах о нем.
______
Они приехали втроем — Репин, Шаляпин и Горький. У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских таратаек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговаривая, не три богатыря, а три самых обыкновенных и в то же время таких необыкновенных человека.
Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору — самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса.
Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в общую беседу.
Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Так светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое — под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном.
Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая темная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в голенища мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, сухощавой и стройной, несмотря на легкую сутуловатость, в небольшой, хорошо посаженной голове с крутым крылом падающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде серо-синих глаз, опушенных длинными ресницами, чувствовалась та подобранность, та целеустремленная и сдержанная сила, что придает каждому движению человека значительность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проигрывал рядом с великолепным Шаляпиным, а Репин даже в своем праздничном светло-сером костюме казался возле него не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым.
Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был заполнен пением, музыкой, «каляканьем велиим» — по шутливому выражению Владимира Васильевича. И все время я невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался к его глуховатому, окающему говору, примечал его особенную усмешку, подчас такую озорную и задорную, словно он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу.
Это был совсем не тот человек, какого мы знали по открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно-хмурого, длинноволосого юношу в косоворотке, а предо мною был зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня неожиданно: и огромный рост, и этот глухой бас, и спокойная деловитость, с которой он говорил о современной литературе, о петербургских журналах, о новом издательстве, где он был руководителем.
Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Старожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, занятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко.
Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды за конку и даже пытался вскарабкаться на империал.
Скульптор Гинцбург, маленький, сухонький и необыкновенно подвижной человек, показывал в лицах местечкового портного за работой, извозчика-балагулу, дремлющего с вожжами в руках, спор двух старух соседок из-за яйца, которое курица снесла на чужом дворе. Помнится, для этой сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб.
Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором, мастерством, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое движение бровей и приспущенных век. Недаром, по рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то шевеля губами.
А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то, что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же время таинственная баллада «В двенадцать часов по ночам…», и разухабисто-отчаянный, зловещий «Трепак» Мусоргского, а вслед за ним рубленая скороговорка «Семинариста», повторяющего без смысла и толку латинские исключения — те самые, что и мне приходилось заучивать наизусть в гимназии:
Panis, piscis, crinis, finis, Ignis, lapis, pulvis, cinis…[8]Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную, горькую и вместе с тем комическую жалобу великовозрастного бурсака, сетующего на свое незадачливое житье-бытье:
Вóт так задал поп мне таску — За загривок да по шее!..И это пел тот же самый голос, в котором еще так недавно звенела колокольная медь, которому повиновалась могучая, мерная поступь призрачных войск, голос, в котором только что слышалось беснованье вьюги, ее колдовская песня, заставляющая убогого, пьяного мужичонку плясать до упаду, а потом убаюкивающая его навсегда.
Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно понято до конца и стоит на своем месте, поддержанное всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа.
Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда после шаляпинского пения и музыки Глазунова Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи.
И все-таки я их прочел. Не помню, чтó именно, — ведь с тех пор прошло без малого шестьдесят лет. Кажется, это был отрывок из поэмы Мицкевича в моем переводе да еще какие-то лирические стихи. Одно только отчетливо запечатлелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал то серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне уверенность и позволило овладеть собой.
Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда взялся и где учусь.
И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно легко и просто разговаривать с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. С таким пристальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне, мою короткую историю. Можно было подумать, что для него нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, которого он увидел впервые.
Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич. Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хвораю и Питер мне, по всей видимости, вреден.
Горький задумался, помолчал минутку, а потом спросил прямо и просто:
— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?
— Непременно устроим! — весело отозвался Шаляпин через головы окружавших его людей.
______
Прошел месяц-другой. И вдруг к нам за Московскую заставу, за Путилов мост, пришли три телеграммы: одна на имя отца и две — на мое.
Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною в жизни. Обе от Горького из Ялты. До сих пор дословно помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов:
«Вы приняты ялтинскую гимназию подробно пишу Пешков».
Вторая была немного длиннее:
«Выезжайте остановитесь Ялте угол Морской и Аутской дача Ширяева спросите Катерину Павловну Пешкову мою жену Пешков».
Телеграмма, присланная отцу, была подписана: «Директор Готлиб». В ней сообщалась та же новость, но только в более официальной форме.
Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно этот крупный, осанистый человек с волнистой шевелюрой преподавал у нас в гимназии латынь.
Итак, все было решено. Оставалось собрать кое-какие вещи и книжки и пуститься в новое странствование — к Черному морю. Почему-то в детстве мне казалось, что я увижу море, только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии всего каких-нибудь трех-четырех дней от меня. Что ж, может быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого?..
______
В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса сменились полями и перелесками средней России, и на меня пахнуло знакомыми с детства местами.
Поезд неутомимо бежал из осени в лето. В белом каменном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце и дробящая его лучи морская синь. Еще несколько часов на пароходе — настоящем, морском, с двумя палубами, сверкающими свежей краской и медью, — и вот уже перед нами Ялта: полукруг набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до головы в темные плащи.
Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо-пронзительным гудком, пароход замедлил бег и, весь дрожа, стал боком-боком подбираться к молу. Винты его вспарывали морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо переливчатой синевы между бортом и молом клубилась рваная, белая, шумная пена, блещущая на солнце цветными искрами.
В пестрой толпе приезжих сошел я по трапу на пристань и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной, а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было ново, неожиданно, — словно я не в настоящем городе, жилом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных декораций, праздничных, но временных. Так непохожи были на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной краской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные сады с плотной, словно металлической, листвой лавров и длинными кистями лиловых глициний.
Вот наконец и дача Ширяева на углу Морской и Аутской.
Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь перед домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окаймленной аккуратно подстриженным густым кустарником с мелкими жесткими листочками.
Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветливой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зеленоватых — в темных ресницах — глаз.
Так вот она какая — Екатерина Павловна! В ней нет ничего кокетливого, нарочитого, дамского. И все-таки она кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на простоту ее платья и прически.
Пожав мою руку своей небольшой, крепкой рукой, она ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским ветром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни — из отрочества в юность.
Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, довелось мне встретить годы, предчувствием которых были овеяны знакомые нам издавна широкие строчки стихов:
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает…»Сюда вскоре после заключения в Петропавловской крепости приехал и сам Горький, заметно похудевший и от этого казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он оброс короткой и жесткой рыжеватой бородой и стал чем-то похож на северного капитана-помора.
Да и весь горьковский дом напоминал в это время корабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каждой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива.
Шел девятьсот пятый год — преддверье новой исторической поры, преддверье моей молодости.
НОВЫЕ СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ
Памяти
Тамары Григорьевны Габбе
Из «лирической тетради»
* * *
Ты много ли видел на свете берез? Быть может, всего только две, — Когда опушил их впервые мороз Иль в первой весенней листве. А может быть, летом домой ты пришел, И солнцем наполнен твой дом, И светится чистый березовый ствол В саду за открытым окном. А много ль рассветов ты встретил в лесу? Не больше чем два или три, Когда, на былинках тревожа росу Без цели бродил до зари. А часто ли видел ты близких своих? Всего только несколько раз. — Когда твой досуг был просторен и тих И пристален взгляд твоих глаз.Стихи о времени
I
Быстро дни недели пролетели, Протекли меж пальцев, как вода, Потому что есть среди недели Хитрое колесико — Среда. Понедельник, Вторник очень много Нам сулят, — неделя молода. А в Четверг она уж у порога. Поворотный день ее — Среда. Есть колеса дня, колеса ночи. Потому и годы так летят. Помни же, что путь у нас короче Тех путей, что намечает взгляд.II
Нет, нелегко в порядок привести Ночное незаполненное время. Не обкатать его, не утрясти С пустотами и впадинами всеми. Не перейти его, не обойти, А без него грядущее закрыто… Но вот доходим до конца пути, До утренней зари — и ночь забыта. О, как теперь ничтожен, как далек Пустой ночного времени комок!III
Порой часы обманывают нас, Чтоб нам жилось на свете безмятежней, Они опять покажут тот же час, И верится, что час вернулся прежний. Обманчив дней и лет круговорот: Опять приходит тот же день недели, И тот же месяц снова настает — Как будто он вернулся в самом деле. Известно нам, что час невозвратим, Что нет ни дням, ни месяцам возврата. Но круг календаря и циферблата Мешает нам понять, что мы летим.* * *
В столичном немолкнущем гуде, Подобном падению вод, Я слышу, как думают люди, Идущие взад и вперед. Проходит народ молчаливый, Но даже сквозь уличный шум Я слышу приливы, отливы Весь мир обнимающих дум.* * *
Сегодня старый ясень сам не свой, — Как будто страшный сон его тревожит. Ветвями машет, шевелит листвой, А почему, — никто сказать не может. И листья легкие в раздоре меж собой, И ветви гнутые скрипят, друг с другом споря. Шумящий ясень чувствует прибой Воздушного невидимого моря.* * *
I
Я помню день, когда впервые — На третьем от роду году — Услышал трубы полковые В осеннем городском саду. И все вокруг, как по приказу, Как будто в строй вступило сразу. Блеснуло солнце сквозь туман На трубы светло-золотые, Широкогорлые, витые И круглый, белый барабан.II
И помню праздник на реке, Почти до дна оледенелой, Где музыканты вечер целый Играли марши на катке. У них от стужи стыли руки И леденели капли слез. А жарко дышащие звуки Летели в сумрак и в мороз. И, бодрой медью разогрето, Огнями вырвано из тьмы, На льду речном пылало лето Среди безжизненной зимы.III
Как хорошо, что с давних пор Узнал я звуковой узор, Живущий в пении оргáна, Где дышат трубы и меха, И в скрипке старого цыгана, И в нежной дудке пастуха. Он и в печали дорог людям, И жизнь, которая течет Так суетливо в царстве буден, В нем обретает лад и счет.«Счастье»
Как празднично сад расцветила сирень Лилового, белого цвета. Сегодня особый — сиреневый — день, Начало цветущего лета. За несколько дней разоделись кусты, Недавно раскрывшие листья, В большие и пышные гроздья-цветы, В густые и влажные кисти. И мы вспоминаем, с какой простотой, С какою надеждой и страстью Искали меж звездочек в грозди густой Пятилепестковое «счастье». С тех пор столько раз перед нами цвели Кусты этой щедрой сирени. И если мы счастья еще не нашли, То, может быть, только от лени.* * *
Возраст один у меня и у лета. День ото дня понемногу мы стынем. Небо могучего синего цвета Стало за несколько дней бледно-синим. Все же и я, и земля, мне родная, Дорого дни уходящие ценим. Вон и береза, тревоги не зная, Нежится, греясь под солнцем осенним.* * *
В полутьме я увидел: стояла За окном, где кружила метель, Словно только что с зимнего бала, В горностаи одетая ель. Чуть качала она головою, И казалось, что знает сама, Как ей платье идет меховое, Как она высока и пряма.* * *
Апрельский дождь прошел впервые, Но ветер облака унес, Оставив капли огневые На голых веточках берез. Еще весною не одета В наряд из молодой листвы, Березка капельками света Сверкала с ног до головы.Последний сонет
Т. Г.
У вдохновенья есть своя отвага, Свое бесстрашье, даже удальство. Без этого поэзия — бумага И мастерство тончайшее мертво. Но если ты у боевого стяга Поэзии увидишь существо, Которому к лицу не плащ и шпага, А шарф и веер более всего. То существо, чье мужество и сила Так слиты с добротой, простой и милой, А доброта, как солнце, греет свет, — Такою встречей можешь ты гордиться И перед тем, как навсегда проститься, Ей посвяти последний свой сонет.* * *
Когда, как темная вода, Лихая, лютая беда Была тебе по грудь, Ты, не склоняя головы, Смотрела в прорезь синевы И продолжала путь.* * *
Бремя любви тяжело, если даже несут его двое. Нашу с тобою любовь нынче несу я один. Долю мою и твою берегу я ревниво и свято, Но для кого и зачем — сам я сказать не могу* * *
Люди пишут, а время стирает, Все стирает, что может стереть. Но скажи, — если слух умирает, Разве должен и звук умереть? Он становится глуше и тише, Он смешаться готов с тишиной. И не слухом, а сердцем я слышу Этот смех, этот голос грудной.Пушкинская дубрава
Три вековых сосны стоят на взгорье, Где молодая роща разрослась. Зеленый дуб шумит у Лукоморья. Под этим дубом сказка родилась. Еще свежа его листва густая И корни, землю взрывшие бугром. И та же цепь литая, золотая, Еще звенит, обвив его кругом. Нам этот дуб священней год от года. Хранит он связь былых и наших дней. Поэзия великого народа От этих крепких родилась корней. У Лукоморья поднялась дубрава. И всей своей тяжелою листвой Она шумит спокойно, величаво, Как славный прадед с цепью золотой.Пожелания друзьям
Желаю вам цвести, расти, Копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути — Главнейшее условье. Пусть каждый день и каждый час Вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, А сердце умным будет. Вам от души желаю я, Друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья, Дается нам недешево!Из Роберта Бернса
Из поэмы «Святая ярмарка»
Был день воскресный так хорош, Все было лету радо. Я шел в поля взглянуть на рожь И подышать прохладой. Большое солнце в этот миг Вставало, как с постели. Резвились зайцы — прыг да прыг — И жаворонки пели В тот ясный день. Бродил я, радостью дыша И вглядываясь в дали, Как вдруг три женщины, спеша, Мне путь перебежали. На двух был черный шерстяной Наряд — назло природе. На третьей был наряд цветной По моде, по погоде В тот летний день. Две первых были меж собой, Как близнецы, похожи Унылым видом, худобой И мрачною одежей. А третья козочкой шальной Попрыгивала весело И вдруг присела предо мной И мне поклон отвесила В тот яркий день. Я шляпу снял и произнес: — Я вас припоминаю, Но извините за вопрос,— Как звать вас, я не знаю. С кивком задорным головы, Смеясь, она сказала: — Со мною заповедей вы Нарушили немало В досужий день! Я — ваша Радость, я — Игра, А это — Лицемерье, И рядом с ней — ее сестра, Глухое Суеверье. Давайте в Мóхлин мы пойдем И, если две сестрицы Идут на ярмарку, найдем Предлог повеселиться Мы в этот день. — Нет, я пойду сперва домой И праздничную смену — Сюртук и новый галстук мой — Для ярмарки надену. Поспел я к завтраку как раз, Надел костюм воскресный. А уж на праздник в этот час Спешил народ окрестный В тот шумный день. Трусили фермеры верхом, Шли батраки оравой. И молодежь одним прыжком Брала в пути канавы. Бежали в праздничных шелках Девицы-босоножки, Несли сыры они в руках И сдобные лепешки В тот добрый день. Монетку бросить был я рад В тарелку с медью мелкою, Но, уловив святоши взгляд, Бросаю две в тарелку я. Я в загородку заглянул. Народ шумит, хлопочет, Несет скамейку, доску, стул, А кто и лясы точит В свободный день. Для знати выстроен навес (Изменчива погода!). А вот стоит вертушка Джесс, Мигая всем у входа. Ее подружки сели в ряд, — Без них какая ярмарка! А там ткачи сидят, галдят (Из города Кильмáрнока). Пришел их день! Здесь кто вздыхает о грехах, Кто в гневе шлет проклятья Тем, кто измазал впопыхах Их праздничные платья. Кто сверху смотрит на других Высокомерным взглядом, А кто веселых щеголих Зовет усесться рядом В привольный день. Но бесконечно счастлив тот, Кто, отыскав два места, Местечко рядышком займет С подругой иль невестой. Глядишь, рука его легла За ней — на спинку стула, Потом ей шею обняла, А там на грудь скользнула В тот чудный день. Уселась публика и ждет. Ни суеты, ни шума. Вот Мóди речь держать идет, Унылый и угрюмый. Он целый час пугает нас Десницею господнею. Сам дьявол от его гримас Сбежал бы в преисподнюю В столь грозный день. Толкуя нам один, другой И третий тезис веры, Он гневно топает ногой, Волнуясь свыше меры. Распутника и гордеца Громит курносый пастырь И жжет отступников сердца, Как самый жгучий пластырь, В тот страшный день. Но вот встают сердито с мест Земные наши судьи. И впрямь, — кому не надоест Такое словоблудье! Речь произносит мистер Смит[9], Но люд благочестивый, Уже не слушая, спешит К холодным бочкам пива В столь жаркий день…Послание Гамильтону По поводу рождения у поэта близнецов
Рубцами хвалится боец — Печатью молодечества. Хвалу войне поет певец — Проклятью человечества. Велик не тот, кто сотню душ Безвинных уничтожит. Достоин чести скромный муж, Что род людской умножит. — Даны вам щедрые дары,— Сказала нам природа,— Но будьте столь же вы щедры И множьтесь год от года. Волью я в кровь струю огня, Чтоб дружною четою Вовеки жили у меня Отвага с красотою!_______
Творец нехитрых этих строф Был некий бард беспечный. Он пел среди родных лугов От радости сердечной. В него влила природа-мать Огня большую долю, И не дерзал он нарушать Родительницы волю. Начертанный природой путь Безропотно прошел он. Нашел он родственную грудь, Любви безмерной полон. Он цвет любви берег весной От яда и от града, И щедрый урожай двойной Поэту стал наградой. Был в сентябре вознагражден Он за любовь и верность. Ему подругой был рожден Наследник — новый Бернс — Чтоб нашу родину певец Грядущих поколений Воспел достойней, чем отец,— Звучней и вдохновенней._______
О гений мира и любви, Тебя мы призываем: Шотландский край благослови Обильным урожаем. Пусть крепнет древний наш народ И славится по праву, И Бернсов род из года в год Поет народу славу!Овсянка
Раз — овсянка, Два — овсянка И овсянка в третий раз. А на лишнюю овсянку Где мне взять крупы для вас? Одиноким, неженатым Не житье, а сущий рай. А женился, так ребятам Трижды в день овсянки дай. Век живет со мной забота. Не могу ее прогнать. Чуть запрешь за ней ворота, Тут как тут она опять. Раз — овсянка, Два — овсянка И овсянка в третий раз. А на лишнюю овсянку Где мне взять крупы для вас?* * *
Жена верна мне одному, И сам я верен ей за то. Не ставлю рожек никому, И мне не ставит их никто. Своим трудом я нажил грош, И сам истрачу я его. Чтó у меня взаймы возьмешь? И я не брал ни у кого, Я не хозяин никому, И никому я не слуга. А если в руки меч возьму, Я отобью удар врага. Так и живу день изо дня, Тоской, заботой не томим. Другим нет дела до меня, И я не кланяюсь другим.«Пойдешь ли со мною»
Пойдешь ли со мною, о Тибби Дунбар? Пойдешь ли со мною, о Тибби Дунбар? Поедем верхом иль в карете вдвоем, А то и пешком по дорогам пойдем. Отца твоего мне не нужен доход. На что мне твой гордый и чопорный род? Делить и нужду и достаток со мной Приди ко мне, Тибби, в юбчонке одной.Невеста с приданным
Я пью за невесту с приданым,
Я пью за невесту с приданым,
Я пью за невесту с приданым,
С горой золотых для меня!
Долой красоты колдовское заклятье! Не тоненький стан заключу я в объятья,— Нужна необъятная мне красота: Хорошая ферма и много скота. Красивый цветок обольстит и обманет, Чем раньше цветет, тем скорее увянет, А белые волны пасущихся стад И прибыль приносят, и радуют взгляд. Любовь нам порою сулит наслажденье, А вслед за победой идет охлажденье. Но будят в душе неизменный восторг Кружки́, на которых оттиснут Георг.* * *
Был я рад, когда гребень вытачивал, Был я рад, когда ложку долбил И когда по котлу поколачивал, А потом свою Кэтти любил. И, бывало, под стук молоточка Целый день я свищу и пою. А едва только спустится ночка, Обнимаю подругу мою. Бес велел мне на Бэсси жениться, Погубившей веселье мое… Пусть всегда будет счастлива птица, Что щебечет над прахом ее! Ты вернись ко мне, милая Кэтти. Буду волен и весел я вновь. Что милей человеку на свете, Чем свобода, покой и любовь?Свадьба в городке Мóхлин[10]
Когда был месяцев семи Год восемьдесят пятый И ливни спорили с людьми За урожай несжатый, — В то время мистер Так и Так Отправился к невесте, Чтобы отпраздновать свой брак С ней и с деньгами тестя В столь мокрый день. Чуть солнце глянуло с небес Сквозь полосу тумана, Проснулась Нэлл, вскочила Бэсс, Хоть было очень рано. Утюг шипит, комод скрипит, Мелькает ворох кружев… Но Муза скромность оскорбит, Их тайны обнаружив В столь важный день. Но вот — природе вопреки — Стянули их корсеты, И очень длинные чулки На ножки их надеты. Осталось — это не секрет — Им застегнуть подвязки. А впрочем, и такой предмет Не подлежит огласке В столь строгий день. Шелка упругие, шурша, Едва дают дышать им. И все же могут, не греша, Они гордиться платьем. Легко их в талии сломать, Шумят их шлейфы сзади. Чтó Ева-мать могла б сказать, На пышный зад их глядя В воскресный день? Вот в куртке праздничной, с хлыстом — «Гей-го!» — подъехал Санди. И Нэлл и Бэсс покинуть дом Спешат, как по команде. А вот Джон Трот — лихой старик. Толст, как судья наш местный, Он маслит, пудрит свой парик — Да и сюртук воскресный В столь славный день…* * *
Весной ко мне сватался парень один. Твердил он: — Безмерно люблю, мол.— А я говорю: — Ненавижу мужчин! — И впрямь ненавижу, он думал… Вот дурень, что так он подумал! Сказал он, что ранен огнем моих глаз, Что смерть его силы подточит. А я говорю: пусть умрет хоть сейчас, Умрет, за кого только хочет, За Джинни умрет, если хочет. Усадьбу, где полный хозяин он сам, И свадьбу — хоть завтра — сулил он. Но думаю: виду ему не подам, Что дурочку сразу прельстил он, Усадьбой и свадьбой прельстил он. И что бы вы думали? Вдруг он исчез. А вскоре нашел он дорожку К моей же сестрице двоюродной — Бэсс. Терпеть не могу эту кошку, Глухую, поджарую кошку! Хоть зла я была, но пошла погулять В Дальгáрнок — там день был базарный. И вдруг предо мною явился опять, Как призрак, дружок мой коварный, Все тот же мой парень коварный. Ответив негодному легким кивком, Пройти поспешила я мимо. Но он, ошалев, словно был под хмельком, Назвал меня милой, любимой, Своей дорогой и любимой. А я, между прочим, вопрос задала, Глуха ли, как прежде, сестрица И где по ноге она обувь нашла… О боже, как стал он браниться, Как яростно стал он браниться! Молил он скорее венчаться пойти, А то он погибнет напрасно. И я, чтоб от гибели парня спасти, Сказала в ответ: — Я согласна. Хоть завтра венчаться согласна!Песня на мотив народной песни «Покупайте веники»
Покупайте веники!
Вот хороший веник,
Веничек из вереска.
Не жалейте денег!
Мне нужна жена — Лучше или хуже, Лишь была бы женщиной, Женщиной без мужа. Толстая, худая — Это все равно. Пусть уродом будет — По ночам темно. Если молодая, Буду счастлив с нею. Если же старуха, Раньше овдовею. Пусть детей рожает, — Было бы охоты. А бездетной будет — Меньше мне заботы. Если любит рюмочку, Пусть не будет пьяница. А не любит рюмочки — Больше мне останется!Милорд спешит в поля, в леса…
Роскошен, леди, ваш убор,
Шелками вышит ваш узор,
А Дженни в юбочке простой
И без шелков пленяет взор.
Милорд спешит в поля, в леса, Не взяв ни сокола, ни пса. Не лань он ищет день и ночь, А Дженни, фермерскую дочь. Миледи так нежна, бела, Но не она ему мила, Не знатный род ее, не честь, А то, что дал за нею тесть. Где перепелка меж болот Сквозь вереск выводок ведет, Там девушка живет в тиши, Цветок, раскрывшийся в глуши. Две стройных ножки поутру Скользят по мшистому ковру, И смех играет, как алмаз, В зрачках задорных синих глаз. Осанка леди и наряд — Образчик вкуса, говорят. Но та сулит нам рой утех, Кого мы любим больше всех.Песня смелых
Прощай, синева, и листва, и трава, И солнце над краем земли, И милые дружбы, и узы родства. Свой жизненный путь мы прошли. Кто волею слаб, кто судьбы своей раб, — Трепещет, почуяв конец. Но гибели час, неизбежный для нас, Не страшен для гордых сердец. Умрем не сдаваясь, — ни шагу назад В неравном и славном бою. Кто в блеске победы грядущей не рад Стоять и погибнуть в строю?О чествовании памяти поэта Томсона
Ты спишь в безвременной могиле, Но кажется, глядишь с усмешкой на устах На тех, что голодом вчера тебя морили, А нынче лаврами твой увенчали прах.Из народной поэзии
Шотландские народные баллады
Верный сокол
— Недаром речью одарен Ты, сокол быстрокрылый: Снеси письмо, а с ним поклон Моей подруге милой! — Я рад снести ей письмецо По твоему приказу. Но как мне быть? Ее в лицо Не видел я ни разу. — Легко ты милую мою Отыщешь, сокол ясный. Среди невест в ее краю Нет более прекрасной. Пред старым замком, сокол мой, Садись на дуб соседний. Сиди и пой, когда домой Придет она с обедни. Придет с подругами она — Их двадцать и четыре. Нет счету звездам, а Луна Одна в полночном мире. Мою подругу ты найдешь Меж дев звонкоголосых По гребням, что сверкают сплошь В ее тяжелых косах.______
Вот сокол к замку прилетел И сел на дуб соседний И песню девушкам запел, Вернувшимся с обедни. — За стол садитесь пить и есть, Красавицы девицы, А я хочу услышать весть От этой вольной птицы. — Свою мне песню вновь пропой, Мой сокол сизокрылый. Какую весточку с тобой Прислал сегодня милый? — Тебе я должен передать Короткое посланье. Твой друг не в силах больше ждать И молит о свиданье. — Скажи: пускай хлеба печет, Готовит больше солода И пусть меня на свадьбу ждет, Покуда пиво молодо. — Залога просит твой жених, Он чахнет в ожиданье. Кольцо и прядь кудрей твоих Пошли в залог свиданья! — Для друга прядь моих кудрей Возьми, о сокол ясный. Я шлю кольцо с руки моей И встретиться согласна. Пусть ждет в четвертой из церквей Шотландии прекрасной! К отцу с мольбой пошла она, Склонилась у порога: — Отец, мольба моя — одна. Исполни, ради бога! — Проси, проси, родная дочь,— Сказал отец сурово,— Но выкинь ты из сердца прочь Шотландца молодого! — О нет, я чую свой конец. Возьми мой прах безгласный И схорони его, отец, В Шотландии прекрасной. Там в первой церкви прикажи Бить в колокол печальный. В соседней церкви отслужи Молебен погребальный. У третьей дочку помяни Раздачей подаянья. А у четвертой схорони… Вот все мои желанья! В светлицу тихую пошла Красавица с поклоном, На ложе девичье легла С протяжным, тихим стоном. Весь день, печальна и бледна, Покоилась в постели, А ночью выпила она Питье из сонных зелий. Исчезла краска нежных губ, Пропал румянец алый. Три дня недвижная, как труп, Красавица лежала… Сидела в замке у огня Столетняя колдунья. — Ох, есть лекарство у меня! — Промолвила ворчунья. — Огонь велите-ка раздуть, А я свинец расплавлю, Струей свинца ожгу ей грудь И встать ее заставлю! Ожгла свинцом колдунья грудь, Ожгла девице щеки, Но не встревожила ничуть Покой ее глубокий. Вот братья дуб в лесу густом Сестре на гроб срубили И гроб дубовый серебром Тяжелым обложили. А сестры старшие скорей Берутся за иголку И саван шьют сестре своей, Рубашку шьют из шелку…_______
— Спасибо, верный сокол мой, Мой вестник быстрокрылый. Вернулся рано ты домой. Ну, что принес от милой? — Принес я прядь ее кудрей, Кольцо и обещанье Прибыть к четвертой из церквей Шотландских на свиданье. — Скорее, паж, коня седлай, Дай меч мой и кольчугу. С тобой мы едем в дальний край Встречать мою подругу!_______
Родные тело в храм внесли И гулко отзвонили, К другому храму подошли И мессу отслужили. Вот в третьем храме беднякам Раздали подаянье. Потом пошли в четвертый храм, Где милый ждал свиданья. — Эй, расступитесь, дайте путь, Вы, родичи и слуги. В последний раз хочу взглянуть, В лицо моей подруги! Но лишь упала пелена С лица невесты милой, Она воспрянула от сна И с ним заговорила: — О, дай мне хлеба поскорей, О, дай вина немного. Ведь для тебя я столько дней В гробу постилась строго. Эй, братья! Вам домой пора. Погромче в рог трубите. Как обманула вас сестра, Вы дома расскажите. Скажите всем, что не лежу Я здесь на ложе вечном, А в церковь светлую вхожу В наряде подвенечном, Что ждал в Шотландии меня Не черный мрак могилы, А ждал на паперти меня Избранник сердца милый!Томас Рифмач[11]
Над быстрой речкой верный Том Прилег с дороги отдохнуть. Глядит: красавица верхом К воде по склону держит путь. Зеленый шелк — ее наряд, А сверху плащ красней огня, И колокольчики звенят На прядках гривы у коня. Ее чудесной красотой, Как солнцем, Том был ослеплен. — Хвала Марии Пресвятой! — Склоняясь ниц, воскликнул он. — Твои хвалы мне не нужны, Меня Марией не зовут. Я — королева той страны, Где эльфы вольные живут. Побудь часок со мной вдвоем, Да не робей, вставай с колен, Но не целуй меня, мой Том, Иль попадешь надолго в плен. — Ну, будь что будет! — он сказал. Я не боюсь твоих угроз! — И верный Том поцеловал Ее в уста краснее роз. — Ты позабыл про мой запрет. За это — к худу иль к добру — Тебя, мой рыцарь, нá семь лет К себе на службу я беру! На снежно-белого коня Она взошла. За нею — Том. И вот, уздечкою звеня, Пустились в путь они вдвоем. Они неслись во весь опор. Казалось, конь летит стрелой. Пред ними был пустой простор, А за плечами — край жилой. — На миг, мой Том, с коня сойди И головой ко мне склонись. Есть три дороги впереди. Ты их запомнить поклянись. Вот этот путь, что вверх идет, Тернист и тесен, прям и крут. К добру и правде он ведет, По нем немногие идут. Другая — горная — тропа Полна соблазнов и услад. По ней всегда идет толпа, Но этот путь — дорога в ад. Бежит, петляя, меж болот Дорожка третья, как змея, Она в Эльфландию ведет, Где скоро будем ты да я. Что б ни увидел ты вокруг, Молчать ты должен, как немой, А проболтаешься, мой друг, Так не воротишься домой! Через потоки в темноте Несется конь то вплавь, то вброд. Ни звезд, ни солнца в высоте, И только слышен рокот вод. Несется конь в кромешной мгле, Густая кровь коню по грудь. Вся кровь, что льется на земле, В тот мрачный край находит путь. Но вот пред ними сад встает. И фея, ветку наклонив, Сказала: — Съешь румяный плод — И будешь ты всегда правдив! — Благодарю, — ответил Том,— Мне ни к чему подарок ваш: С таким правдивым языком У нас не купишь — не продашь. Не скажешь правды напрямик Ни женщине, ни королю… — Попридержи, мой Том, язык И делай то, что я велю!_______
В зеленый шелк обут был Том, В зеленый бархат был одет. И про него в краю родном Никто не знал семь долгих лет.Из поэмы «Калевала»
Рождение кáнтеле (Из руны 44)
Старый, вещий Вейнемейнен, Проходя опушкой леса, Услыхал: береза плачет, Дерево роняет слезы. Он подходит к свилеватой, Тихо плачущей березе И такую речь заводит, Говорит слова такие: — Что ты, дерево, тоскуешь? Что ты плачешь, белый пояс? На войну тебя не гонят, Воевать не заставляют. Тихо молвила береза: — Людям может показаться, Будто я смеюсь на солнце, Будто весело живу я. Мне же, слабой, не до смеха. Веселюсь порой от скуки, Глупая, от горя плачу. Как не плакать мне, бессильной, Не томиться, бесталанной! Кто удачею богаче, Тот надеется на лето, Красное, большое лето. Я же, бедная, тревожусь, Чтоб кору с меня не сняли, Не срубили тонких веток. Краткою весной к березам Резвые приходят дети, Режут нас пятью ножами, Добывая сок прозрачный. Летом пастухи-злодеи Белый пояс мой сдирают, Чтоб сплести кошель и ковшик И для ягод кузовочек. Подо мной, березой белой, Под листвой моей кудрявой, Девушки в кружок садятся, Игры девичьи заводят И зеленый веник вяжут Из моих душистых веток. А порою ствол березы Подсекают для пожоги, Разрубают на поленья. Трижды этим жарким летом Подо мною дровосеки Топоры свои точили, Чтобы стройную березу Подрубить под самый корень. Вот что лето мне приносит, Таковы его подарки. А зима не лучше лета, Снег и стужа — не милее. Грусть меня зимой сжимает. Я сгибаюсь от заботы, И лицо мое бледнеет. Злую боль несет мне ветер, Иней — горькую обиду. Буря с плеч срывает шубу, Стужа — платье золотое. И тогда я, молодая, Сиротливая береза, Остаюсь под ветром голой, Неодетой, неприкрытой. Дрожью я дрожу от вьюги. Слезы стынут на морозе. И промолвил Вейнемейнен: — Перестань грустить, береза, Полно плакать, белый пояс! Скоро ты дождешься доли, Лучшей доли, жизни новой. Ты от счастья плакать будешь И смеяться от веселья! С этим словом Вейнемейнен Взял плакучую березу. Целый день ее строгал он, Долгий день над ней работал. Кáнтеле построил за день, Сделал гусли из березы На мысу среди тумана, На пустынном побережье. И промолвил Вейнемейнен: — Сделан короб деревянный, Вечной радости жилище. Славный короб — весь в прожилках, Весь в разводах и узорах. Где же я колки достану, Где достану я гвоздочки? Дерево росло на воле — Дуб высокий на поляне. Ветви дружные вздымались. Желуди на каждой ветке В золотых росли колечках, И на каждом из колечек — Голосистая кукушка. Чуть кукушка закукует, В пять ладов несутся звуки, — Золото из клюва каплет, Серебро из клюва льется. Вот для кантеле гвоздочки! Вот колки для звонких гусель! Есть гвоздочки золотые И колки для звонких гусель. Но теперь нужны и струны. Целых пять достать их надо, А без струн играть не будешь. Старый, вещий Вейнемейнен, Он искать пустился струны, Струны тонкие для гусель. И дорогою в долине Молодую видит деву. Девушка не плачет горько И не слишком веселится. Просто — песню напевает, Чтоб скорее минул вечер И пришел ее любимый. Старый, вещий Вейнемейнен Сапоги свои снимает И, подкравшись к юной деве, Говорит слова такие: — Пять волос твоих, девица, Дай для кантеле на струны, Добрым людям на утеху! И без ропота девица Пять волос дала тончайших, Пять иль шесть нежнейших прядей Вейнемейнену на струны, Добрым людям на утеху. Вот и кончена работа, — Вышло кантеле на славу. Вещий, старый Вейнемейнен Сел на плоский серый камень, На гранитную ступеньку. Взял он гусли осторожно, В руки взял земную радость, Выгибом поставил кверху, А основой — на колени. И настраивает струны, Согласует их звучанье. Наконец, настроив струны, Короб кантеле кладет он Поперек своих коленей, Нáискось слегка поставив. Опускает он на струны Ногти рук своих проворных. Пять его искусных пальцев По струнам перебегают, Перепархивают ловко. Так играет Вейнемейнен, Отогнув большие пальцы, Струны чуть перебирая. И откликнулась береза, Дерево заговорило Всей листвой своей зеленой, Всеми гибкими ветвями, Звонким голосом кукушки, Нежным волосом девичьим. Заиграл он побыстрее — Громче струны зазвучали. А кругом трясутся горы, Валуны, катясь, грохочут, В море падают утесы, Мелкая скрежещет галька. Пляшут сосны на вершинах, Пни обрубленные скачут. Дéвы Калевы и жены, В хижинах шитье оставив, Как река с горы, бежали, Как поток весенний, мчались. Шли, танцуя, молодицы, Шли степенные старухи — Вейнемейнена послушать, Похвалить его искусство, Рокот струн звонкоголосых. Из мужчин, кто был поближе, — Шапку снял и слушал тихо. Женщины стояли молча, Подперев руками щеки. Девушки роняли слезы, Головы склонили парни И внимали вечным рунам, Пенью нежному березы. Все уста одно шептали, Языки одно твердили: — Никогда никто не слышал Музыки такой приятной С той поры, как светит солнце, Золотится в небе месяц! Далеко, за шесть селений, Пенье кантеле звучало. И селенья опустели. Все, что было там живого, Побежало слушать гусли, Струн приятное звучанье. Слушали не только люди, — Звери дикие лесные На своих когтях сидели, Пенью кантеле внимая, Удивляясь нежным звукам. Опустились с неба птицы И расселись на деревьях. Разные морские рыбы К берегам подплыли близко. И бесчисленные черзи Из земли ползли наружу, Чтобы слушать, изгибаясь, Гусель нежное звучанье, Радость струн звонкоголосых. Тут уж старый Вейнемейнен Показал себя на славу. Он сыграл им хорошенько, Очень чисто и красиво. День играл, другой и третий. Все в один присест играл он, Обуви не сняв ни разу, Пояса не распуская. Он играл в своем жилище, Между стен своих сосновых, И гудела крыша дома, Сотрясались половицы, Окна весело смеялись, Потолки и двери пели, Каменная печь плясала, Притолочный столб качался. Поднял гусли Вейнемейнен И пошел зеленым лесом, А потом сосновым бором. Ели низко наклонялись, Сосны головы сгибали. Шишки с них валились градом, Сыпались дождем иголки. А пошел он через рощи, По лесным побрел полянам, — Рощи радовались гуслям, И поляны веселились. А цветы медовой пылью Усыпали путь-дорогу.Золотая дева
Безутешный Ильмаринен Горько плачет вечерами. По ночам не спит, а плачет, Белым днем не ест, а плачет. Жалуется ранним утром, На закате причитает. Нет его супруги юной, Спит красивая в могиле. Позабыл он свой тяжелый Молот с медной рукоятью. Кузница его умолкла Не на день — на целый месяц. Вот идет второй и третий, Настает четвертый месяц. Встал могучий Ильмаринен, Золота достал из моря, Серебра — со дна морского, Съездил в лес тридцатикратно, Множество свалил деревьев И пожег стволы на угли. Славный мастер Ильмаринен Золото бросает в пламя, На огне расплавил слиток Серебра величиною С зимовалого зайчонка Иль осеннего барашка. Рукавиц не надевая, Не прикрыв от жара плечи, Он в огне мешает угли, Раздувает мех могучий, Чтобы сделать золотую И серебряную деву. Дунул раз, качнул еще раз, А на третий наклонился Посмотреть на дно горнила, Чтó из пламени выходит, Чтó таится в огневище. Из огня овца выходит, Выбегает из горнила. Треть руна ее из меди, Треть из серебра литого, Треть, как солнце, золотая. Все любуются овечкой. Недоволен Ильмаринен. Он сказал такое слово: — Волку надобна овечка, Ильмаринену — подруга, Златокудрая, как солнце, Среброликая, как месяц. Он овцу бросает в пламя, Золота кладет в придачу, Серебра кладет вдобавок, В пламени мешает уголь, Раздувает мех могучий, Чтобы сделать золотую И серебряную деву. Дунул раз, качнул еще раз, А на третий наклонился Посмотреть на дно горнила, Чтó из пламени выходит, Чтó таится в огневище. Конь из пламени выходит, Выбегает жеребенок. Блещет грива золотая, Серебром сверкает шея, А копыта — красной медью. Хвалят люди жеребенка. Недоволен Ильмаринен. Он сказал такое слово: — Волку нужен жеребенок. Ильмаринену — подруга, Златокудрая, как солнце, Среброликая, как месяц. Он коня в огонь бросает, Золота кладет в придачу, Серебра кладет вдобавок, В пламени мешает уголь, Мех кузнечный раздувает, Чтобы сделать золотую И серебряную деву. Дунул раз, качнул еще раз, А на третий наклонился Посмотреть на дно горнила, — Чтó из пламени выходит, Чтó таится в огневище. Из огня выходит дева, Среброликая, как месяц, С волосами золотыми, Заплетенными в косички, И с красивым, стройным станом. Задрожал народ от страха, Но не дрогнул Ильмаринен. Он берется за работу, Он кует свое изделье. Ночь кует без передышки, День кует без остановки. Ноги девушке он сделал, Сделал ноги, сделал руки, Но ходить не могут ноги, Обнимать не могут руки. Сделал уши Ильмаринен, Но не могут слышать уши. Сделал он уста на славу, Чудные уста и очи, Но уста молчат, не дышат, Но в глазах не видно ласки. И промолвил Ильмаринен: — Славная была бы дева, Если бы заговорила, Кабы дать ей ум и голос! Он понес свою невесту На пуховые подушки, Под шелковые покровы, Под цветной широкий полог. Славный мастер Ильмаринен Натопил пожарче баню, Вовремя запасся мылом И водой наполнил кадки Да связал зеленый веник, Чтобы пуночка купалась, Подорожничек помылся, Смыл серебряную накипь, Накипь золота и меди. Сам он выкупался тоже, Всласть попарился, помылся И улегся с девой рядом На пуховые подушки, Под цветной широкий полог. В этот вечер Ильмаринен Приготовил одеяла, Две иль три медвежьих шкуры, Шесть платков из мягкой шерсти, Чтобы спать с женою рядом, С золотой своей супругой. У него был этой ночью Бок один теплей другого. Бок, укрытый одеялом, И платками шерстяными, И густым медвежьим мехом, Хорошо нагрелся за ночь. Но зато другой, который Прикасался к золотому И серебряному телу, — Белым инеем покрылся, Толстой коркой ледяною, Стал холодным, точно камень. И промолвил Ильмаринен: — Не жена мне эта дева. В Вейнеле ее свезу я Вейнемейнену в подруги. В Вейнеле отвез он деву И, вручая свой подарок, Говорил такие речи: — Слушай, старый Вейнемейнен, Я привез тебе подругу. Хороша она собою, А мешать тебе не будет, Потому что не болтлива. Старый, вещий Вейнемейнен Взглядом девушку окинул И сказал такое слово: — Для чего привез ко мне ты Это чудо золотое? — Отвечает Ильмаринен: — Угодить тебе хотел я И привез тебе в подарок Среброликую супругу С золотыми волосами. И промолвил Вейнемейнен: — Ах, кузнец, мой братец младший, Растопи ты эту куклу, Наготовь изделий разных. А не то свези к соседям Или в дальний край немецкий. Много там людей богатых На нее польститься может. Непристойно в нашем роде, Мне подавно не пристало Брать невесту золотую, На серебряной жениться! Заповедал Вейнемейнен, Завешал Сувантолайнен Внукам, правнукам растущим, Многочисленным потомкам, Людям будущего века: Золоту не поклоняться, Серебру не быть слугою. Он сказал такое слово: — Бедные сыны и внуки, Удальцы времен грядущих, Будет ли у вас достаток, Иль совсем его не будет — До тех пор, пока сияет В небе месяц златорогий, Пуще смерти берегитесь Брать в подруги золотую И серебряную деву. Сердца золото не греет, Серебро морозом дышит.Айно
Айно, дева молодая, Прутья в рощице ломала, Веники в лесу вязала: Батюшке родному — веник, Матушке родимой — веник. И еще связала веник Своему красавцу брату. Возвращалась к дому Айно, Шла домой через ольшаник. Ей в дороге повстречался Óсмойнен, идущий с поля, Кáлеванин из подсеки. Увидал он в роще деву В пестрой юбочке нарядной И сказал слова такие: — Не для всех, краса девица, Для меня, моя невеста, Ты носи на шее бусы, Надевай свой крест нагрудный, Заплетай тугие косы, Шелком их перевивая. И ответила девица: — Нет того на белом свете, Для кого ношу я бусы, Шелком косы обвиваю! Крест с груди она сорвала, Кольца с рук швырнула наземь, Ожерелье — с белой шеи, С головы — цветные нити — Матери-земле в подарок, Лесу темному на память. А сама вернулась, плача, В дом родной — на двор отцовский. Был отец в то время дома, У окна сидел на лавке, Украшая топорище. — Ты о чем горюешь, дочка? Отчего, девица, плачешь? — Как мне, батюшка, не плакать, Не печалиться, родимый? Мой нагрудный крест потерян, Кисти пояса пропали, Крест — из серебра литого, Кисти пояса — из меди. Брат у изгороди частой Дерево тесал на дуги. — Ты о чем, сестрица, плачешь? Что горюешь, молодая? — Как не плакать, милый братец, Не печалиться, родимый? Лучший перстень мой потерян, Бусы лучшие пропали — Золотой, как солнце, перстень И серебряные бусы. На мостках сестра сидела, Золотой вязала пояс. — Что горюешь ты, сестрица? Отчего, меньшая, плачешь? — Как, сестрица, мне не плакать, Не печалиться, родная? У меня в лесу сегодня Золото со лба скатилось, Серебро с волос упало, Синий шелк с лица сорвался, Красный шелк расплелся в косах. Мать у погреба сидела, С молока снимала сливки. — Ты о чем горюешь, дочка? Отчего, бедняжка, плачешь? — Как мне, матушка, не плакать, Не печалиться, родная? В роще я ломала прутья, Веники в лесу вязала. А когда я шла обратно, — Повстречался мне дорогой Óсмойнен, идущий с поля, Кáлеванин из подсеки. Он сказал такое слово: «Не для всех, душа-девица, Для меня ты носишь бусы, Крест серебряный нагрудный, Ленты шелковые в косах». Я сорвала крест нагрудный, С пальцев — перстни золотые, С белой шеи — ожерелье, Синий шелк — с лица сорвала. Красный шелк, вплетенкый в косы, Матери-земле в подарок. Лесу темному на память! Дочке матушка сказала: — Ты не плачь, моя дочурка, Не тоскуй, ребенок милый, В молодости мной рожденный. Год кормись коровьим маслом, Будешь статной и высокой. Год кормись свининой белой, Будешь резвой и веселой. Год — лепешками на сливках, Всех подруг нежнее будешь. Да пойди на горку, Айно, Отопри амбары наши, В самом лучшем из амбаров На ларце ларец увидишь, Сундуки под сундуками. Ты открой сундук заветный. Под его узорной крышкой Есть полдюжины блестящих Поясов золототканых, Семь хороших синих юбок. Дочь луны сама их шила, Солнца дочь их вышивала. Ты повяжешь косы шелком, Золото на лоб наденешь, Шею бусами украсишь, Драгоценным ожерельем. Подбери себе рубашку Белой ткани полотняной, Натяни на бедра юбку Самой лучшей синей шерсти, Поясок надень нарядный, На ноги — чулки из шелка, Башмачки — из тонкой кожи, На руки надень запястья Да на пальцы по колечку. А вернешься из амбара На порог избы отцовской, — Всей семье отрадой будешь, Роду-племени утехой! Ты по улице пройдешься, Как цветок благоуханный, Словно ягода-малина. С каждым днем прекрасней будешь, С каждым вечером милее! Так сказала мать родная Дочери своей любимой. Но не стала слушать дочка Утешений материнских. Плача, по двору бродила, Шла по улице, рыдая, И, тоскуя, говорила: — Что за мысли у счастливых? Что за думы у блаженных? Верно, мысли у счастливых, Верно, думы у блаженных Так и плещут, точно волны, Волны малые в корыте. — Что за мысли у несчастных, У девчонок бесталанных? Верно, мысли у несчастных, У девчонок бесталанных, Как сугробы под горою, Как вода в колодце темном… Целый день вздыхала Айно, Целый вечер горевала, И спросила мать родная: — Отчего ты, дочка, плачешь? У тебя жених на славу, Муж великий на примете. У окна сидеть он будет, Разговаривать с роднею. Но в ответ сказала Айно: — Ах ты, матушка родная, Вот о том-то я и плачу, — О красе своей невинной, О косе своей девичьей, О волосиках коротких, Что растут большим на смену. Целый век я буду плакать, Тосковать о красном солнце, Вспоминать про ясный месяц, Край оплакивать родимый, Дом родительский, откуда Ухожу еще ребенком, Поле, где мой брат работал Под окном избы отцовской. Оттого я буду плакать, Что дитя свое родное Старику ты обещала, Посылаешь молодую Быть для дряхлого опорой. Для отжившего утехой, Для трясущегося нянькой, Для бессильного защитой. Лучше б ты меня послала С берега крутого в воду Быть сигам родной сестрою, Рыбам вод морских подругой! Тут пошла она на горку, Дверь амбара отворила И, открыв сундук тяжелый, Пеструю откинув крышку, Отыскала шесть блестящих Поясов золототканых, Семь хороших синих юбок. Это платье дорогое На себя надела Айно, Золото на лбу связала, Серебром одела темя. Синий шелк прикрыл ей щеки, Красный шелк обвил ей косы. И пошла она печально Вдоль одной лесной поляны, Поперек другой поляны. Шла по рощам, перелескам, По прогалинам, болотам, По лесным дремучим чащам. По пескам она бродила И печально напевала: — Рано мне приходит время С белым светом распрощаться, В Мáнала уйти навеки, В дом подземный удалиться. Плакать батюшка не станет, Матушка рыдать не будет, Не прольет мой брат слезинки, Не вздохнет по мне сестрица, Если с берега я кинусь В море, где гуляют рыбы, Где большие ходят волны Над глубоким темным илом!.. День была она в дороге И другой была в дороге, А на третий день к закату Ей в пути открылось море, Камышом шумящий берег. Плакала весь вечер Айно, Горько жаловалась ночью На прибрежном сером камне, Где залив вдается в берег. На рассвете рано-рано Айно в море посмотрела, Поглядела в ту сторонку, Где конец виднелся мыса. Там купались три девицы, В море весело плескались. Айно к ним пошла четвертой, Веточка лесная — пятой. Бросила у моря Айно На ольху свою сорочку, Юбку синюю — на иву. На земле чулки остались, Башмачки — на сером камне, На песке — цветные бусы, Перстни светлые — на гальке. Высился утес над морем, Пестрый камень золотистый. Поплыла к утесу Айно, На скалу она взобралась И уселась на вершине. Но качнулся пестрый камень, Быстро в воду погрузился И ушел на дно морское. Вместе с ним исчезла Айно, Айно — вместе со скалою! Так в волнах погибла дева, Тихая лесная пташка. Кто ж теперь доставит слово, Весть печальную доставит Роду-племени девицы, Знаменитому в округе? Эту весть доставил заяц, Быстрый заяц длинноногий. Он принес родному дому Весть о гибели девицы: — Ваша дочь погибла в море С ожерельем оловянным И серебряною пряжкой. Отстегнулся медный пояс, И ушла девица в воду, В мокрое упала море, Чтобы стать сигам сестрою, Рыбам вод морских — подругой! Услыхала мать родная, Залилась слезами тихо, А потом заговорила: — Матерям скажу я слово: Не качайте ваших дочек, Не баюкайте малюток. А когда придет им время, Замуж их не выдавайте За немилых против воли, Не губите понапрасну Так, как я сгубила дочку, Айно, пташечку лесную! Так рыдала мать родная, И текли ручьями слезы Из очей глубоких, синих По страдальческим морщинам, По щекам ее увядшим. Вот слеза, другая, третья По щеке ее скатилась, Пала светлою росою На подол ее одежды. Вот слеза, другая, третья На подол ее скатилась, А с подола пала наземь — Матери-земле на благо, Канула в морскую воду — Морю синему на благо. Но еще струились слезы, И бегущие потоки Три реки образовали. А на тех горючих реках — По три огненных порога. И у каждого порога По три отмели песчаных. А на отмели песчаной — По холму по золотому. На холмах растут березы. И у каждой на верхушке Три кукушки золотые. Первая из трех кукушек «Любит, любит!» — куковала. А вторая из кукушек «Милый, милый!» — напевала. А последняя кукушка «Радость, радость!» — повторяла. Первая из трех кукушек Куковала вешний месяц, И второй, и третий месяц — Для девицы, что лежала Без любви в холодном море. А вторая из кукушек Вдвое дольше куковала Над печальным, одиноким Женихом девицы юной. А последняя кукушка Никогда не умолкала, Матери несчастной пела, Навсегда забывшей радость. И сказала мать родная, Услыхав напев кукушки: — Мать, утратившая дочку, Не должна кукушку слушать. Чуть кукушка закукует, — Сердце матери забьется, По щекам польются слезы, Капли слез крупней гороха, Тяжелей бобовых зерен… Укорачивает горе Век ее на целый локоть, Отнимает четверть жизни, Изнуряет скорбью тело. Нет, не слушайте весною Пенья звонкого кукушки!Стихи для детей
Угомон
Сон приходит втихомолку, Пробирается сквозь щелку. Он для каждого из нас Сны счастливые припас. Он показывает сказки, Да не всем они видны. Вот закрой покрепче глазки — И тогда увидишь сны! А кого унять не может Младший брат — спокойный сон, Старший брат в постель уложит — Тихий, строгий Угомон. Спи, мой мальчик, не шуми. Угомон тебя возьми!______
Опустела мостовая. По дороге с двух сторон Все троллейбусы, трамваи Гонит в парки Угомон. Говорит он: — Спать пора. Завтра выйдете с утра! И троллейбусы, трамваи На ночлег спешат, зевая.______
Там, где гомон, там и он — Тихий, строгий Угомон. Всех, кто ночью гомонит, Угомон угомонит. Он людей зовет на отдых В деревнях и городах, На высоких пароходах, В длинных скорых поездах. Ночью в сумраке вагона Вы найдете Угомона. Унимает он ребят, Что улечься не хотят. Ходит он по всем квартирам. А подчас летит над миром В самолете Угомон: И воздушным пассажирам Тоже ночью нужен сон. Под спокойный гул моторов, В синем свете ночника Люди спят среди просторов, Пробивая облака.______
Поздней ночью Угомону Говорят по телефону: — Приходи к нам, Угомон. Есть у нас на Малой Бронной Паренек неугомонный, А зовут его Антон. По ночам он спать не хочет, Не ложится на кровать, А хохочет И грохочет И другим мешает спать. Люди просят: — Не шуми, Угомон тебя возьми! Говорит неугомонный: — Не боюсь я Угомона. Посмотрю я, кто кого: Он меня иль я его!______
Спать ложатся все на свете. Спят и взрослые и дети, Спит и ласточка и слон, Но не спит один Антон. В темноте не спит и слышит, Как во сне другие дышат, Тихо тикают часы, За окошком лают псы. — Спи, мой мальчик, — просит мама, Но не спит Антон упрямый. Вдруг часов раздался звон. Появился Угомон. Проскользнул он в дом украдкой, Наклонился над кроваткой, А на нитке над собой Держит шарик голубой. Да как будто и не шарик, А светящийся фонарик. Синим светом он горит, Тихо-тихо говорит: — Раз. Два. Три. Четыре. Кто не спит у вас в квартире? Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон! Перестал фонарь светиться, А из всех его дверей Разом выпорхнули птицы — Стая быстрых снегирей. Шу! — Над мальчиком в постели Шумно крылья просвистели. Просит шепотом Антон: — Дай мне птичку, Угомон! — Нет, мой мальчик, эта птица Нам с тобою только снится. Ты давно уж крепко спишь…- Сладких снов тебе, малыш!______
В лес, луною озаренный, Угомон тропой идет. Есть и там неугомонный, Непоседливый народ. Где листвою шелестящий Лес в дремоту погружен, Там прошел лесною чащей Седобровый Угомон. Он грозит синичке юной, Говорит птенцам дрозда, Чтоб не смели ночью лунной Отлучаться из гнезда — Так легко попасть скворчатам, Что выходят по ночам, В плен к разбойникам крылатым — Совам, филинам, сычам…______
С Угомоном ночью дружен Младший брат — спокойный сон. Но и днем бывает нужен Тихий, строгий Угомон. Что случилось нынче в школе? Нет учительницы, что ли? Расшумелся первый класс И бушует целый час. Поднял шум дежурный Миша. Он сказал: — Ребята, тише! — Тише! — крикнули в ответ Юра, Шура и Ахмет. — Тише, тише! — закричали Коля, Оля, Галя, Валя. — Тише-тише-тишина! — Крикнул Игорь у окна. — Тише, тише! Не шумите! — Заорали Витя, Митя. — Замолчите! — на весь класс Басом выкрикнул Тарас. Тут учительница пенья Просто вышла из терпенья, Убежать хотела вон…- Вдруг явился Угомон. Оглядел он всех сурово И сказал ученикам: — Не учи Молчать Другого, А молчи Побольше сам!От одного до десяти Веселый счет
Вот один, иль единица, Очень тонкая, как спица. А вот это цифра два. Полюбуйся, какова: Выгибает двойка шею, Волочится хвост за нею. А за двойкой — посмотри — Выступает цифра три. Тройка — третий из значков — Состоит из двух крючков. За тремя идут четыре, Острый локоть оттопыря. А потом пошла плясать По бумаге цифра пять. Руку вправо протянула, Ножку круто изогнула. Цифра шесть — дверной замочек: Сверху крюк, внизу кружочек. Вот семерка — кочерга. У нее одна нога. У восьмерки два кольца Без начала и конца. Цифра девять, иль девятка, — Цирковая акробатка: Если на голову встанет, Цифрой шесть девятка станет. Цифра вроде буквы О — Это ноль, иль ничего. Круглый ноль такой хорошенький, Но не значит ничегошеньки! Если ж слева, рядом с ним Единицу примостим, Он побольше станет весить, Потому что это — десять.______
Эти цифры по порядку Запиши в свою тетрадку. Я про каждую сейчас Сочиню тебе рассказ.1
В задачнике жили Один да один. Пошли они драться Один на один. Но скоро один Зачеркнул одного. И вот не осталось От них ничего. А если б дружили Они меж собою, То долго бы жили И было б их двое!2
Две сестрицы — две руки Рубят, строят, роют, Рвут на грядке сорняки И друг дружку моют. Месят тесто две руки — Левая и правая, Воду моря и реки Загребают, плавая.3
Три цвета есть у светофора, Они понятны для шофера: Красный свет — Проезда нет. Желтый — Будь готов к пути, А зеленый свет — кати!4
Четыре в комнате угла.
Четыре ножки у стола.
И по четыре ножки
У мышки и у кошки.
Бегут четыре колеса, Резиною обуты. Что ты пройдешь за два часа, Они — за две минуты.5
Пред тобой — пятерка братьев, Дома все они без платьев, А на улице зато Нужно каждому пальто.6
Шесть Котят Есть Хотят. Дай им каши с молоком. Пусть лакают языком, Потому что кошки Не едят из ложки.7
Семь ночей и дней в неделе. Семь вещей у вас в портфеле: Промокашка и тетрадь, И перо, чтобы писать, И резинка, чтобы пятна Подчищала аккуратно, И пенал, и карандаш, И букварь — приятель ваш.8
Восемь кукол деревянных, Круглолицых и румяных, В разноцветных сарафанах На столе у нас живут. Всех Матрешками зовут. Кукла первая толста, А внутри она пуста. Разнимается она На две половинки. В ней живет еще одна Кукла в серединке. Эту куколку открой — Будет третья во второй. Половинку отвинти, Плотную, притертую, — И сумеешь ты найти Куколку четвертую. Вынь ее да посмотри, Кто в ней прячется внутри. Прячется в ней пятая Куколка пузатая, А внутри пустая. В ней живет шестая. А в шестой — Седьмая, А в седьмой — Восьмая. Эта кукла меньше всех, Чуть побольше, чем орех.______
Вот, поставленные в ряд, Сестры-куколки стоят. — Сколько вас? — у них мы спросим, И ответят куклы: — ВОСЕМЬ!9
К девяти без десяти, К девяти без десяти, К девяти без десяти Надо в школу вам идти. В девять слышится звонок. Начинается урок. К девяти без десяти Детям спать пора идти. А не ляжете в кровать, Носом будете клевать!10
Вот это ноль, иль ничего. Послушай сказку про него. Сказал веселый, круглый ноль Соседке-единице: — С тобою рядышком позволь Стоять мне на странице! Она окинула его Сердитым, гордым взглядом: — Ты, ноль, не стоишь ничего, Не стой со мною рядом! Ответил ноль: — Я признаю, Что ничего не стою, Но можешь стать ты десятью, Коль буду я с тобою. Так одинока ты сейчас, Мала и худощава, Но будешь больше в десять раз, Когда я стану справа! Напрасно думают, что ноль Играет маленькую роль. Мы двойку в двадцать превратим. Из троек и четверок Мы можем, если захотим, Составить тридцать, сорок. Пусть говорят, что мы ничто, — С двумя нолями вместе Из единицы выйдет сто, Из двойки — целых двести!Вакса-клякса
Это — Коля С братом Васей. Коля — в школе, В пятом Классе. Вася — В третьем. Через год Он в четвертый Перейдет. Есть у них Собака такса, По прозванью Вакса-Клякса. Вакса-Клякса Носит Кладь И умеет В мяч играть. Бросишь мяч куда попало, — Глядь, она его поймала!______
Каждый день Уходят братья Рано утром На занятья. А собака У ворот Пять часов Сидит и ждет. И бросается, Залаяв, Целовать Своих хозяев. Лижет руки, Просит дать Карандаш Или тетрадь, Или старую Калошу — Все равно какую ношу.______
Были в праздник Вася с Колей Вместе с папой На футболе. Только вверх Взметнулся мяч, Пес за ним Помчался вскачь. Гонит прямо через поле — Получайте, Вася с Колей! С этих пор на стадион Вход собакам воспрещен.______
Как-то раз пошли куда-то Папа, мама и ребята. Побродили по Москве, Полежали на траве И обратно покатили В легковом автомобиле. Поглядели: у колес Рядом с ними мчится пес, Черно-желтый, кривоногий, Так и жарит по дороге. Рысью мчится он один Меж колоннами машин. Говорят ребята маме: — Пусть собака едет с нами! Сел в машину верный пес, Будто к месту он прирос. Он сидит с шофером рядом И дорогу мерит взглядом, Хоть не часто на Руси Ездят таксы на такси.______
Было в доме много крыс. Вор хвостатый щель прогрыз, Изорвал обои в клочья, Побывал в буфете ночью. Говорят отец и мать: — Надо нам кота достать! Вот явился гость заморский, Величавый кот ангорский. Мех пушистый, хвост густой, — Знатный кот, а не простой. Поглядел он на собаку И сейчас затеял драку. Спину выгнул он дугой, Дунул, плюнул раз-другой, Замахнулся серой лапой… Тут вмешались мама с папой И обиженного пса увели на полчаса. А когда пришел он снова, Встретил кот его сурово, Заурчал и прошипел: — Уходи, покуда цел! С той минуты в коридоре Пса держали на запоре. Вакса-Клякса Не был плакса. Но не мог от горьких слез Удержаться бедный пес. В коридоре лег он на пол, Громко плакал, дверь царапал, Проклиная целый свет, Где ни капли правды нет! Дети таксу пожалели, Оба спрыгнули с постели. Смотрят: лезет стая крыс По буфету вверх и вниз. Передать спешат друг дружке Яйца, рыбу и ватрушки. Ну, а кот залез на шкаф. Сгорбил спину, хвост задрав, И дрожит, как лист осины, Наблюдая пир крысиный. Вдруг, оставив хлеб и рис, Разбежалась стая крыс. В дверь вошла собака такса, По прозванью Вакса-Клякса. Криволапый, ловкий пес В щель просунул длинный нос И поймал большую крысу — Видно, крысу-директрису. А потом он, как сапер, Раскопал одну из нор И полез к ворам в подполье Наказать за своеволье. Говорят, что с этих пор Стая крыс ушла из нор. За усердие в награду Дали таксе рафинаду, Разрешили подержать Прошлогоднюю тетрадь. Кот опять затеял драку, Но трусишку-забияку, Разжиревшего кота Увели за ворота, А оттуда Коля с Васей Проводили восвояси._____
Много раз ребята в школе Говорили Васе с Колей: — Больно пес у вас хорош! На скамейку он похож, И на утку, и на галку. Ковыляет вперевалку. Криволап он и носат. Уши дó полу висят! Отвечают Вася с Колей Всем товарищам по школе: — Ничего, что этот пес Кривоног и длиннонос. У него кривые ноги, Чтоб раскапывать берлоги. Длинный нос его остер, Чтобы крыс таскать из нор. Говорят собаководы, Что чистейшей он породы! Вероятно, этот спор Шел бы в классе до сих пор, Кабы псу на днях не дали Золотой большой медали. И тогда простой вопрос — Безобразен этот пес Иль по-своему прекрасен — Сразу стал ребятам ясен. Но не знал ушастый пес, Что награду в дом принес. Не заметил он того, Что медаль из золота На ошейнике его К бантику приколота.Барабан и труба
Жил-был на свете барабан, Пустой, но очень громкий. И говорит пустой буян Трубе — своей знакомке: — Тебе, голубушка-труба, Досталась легкая судьба. В тебя трубач твой дует, Как будто бы целует. А мне покоя не дает Мой барабанщик рьяный. Он больно палочками бьет По коже барабанной! — Да, — говорит ему труба, — У нас различная судьба, Хотя идем мы рядом С тобой перед отрядом. Себя ты должен, баловник, Бранить за жребий жалкий. Все дело в том, что ты привык Работать из-под палки!Примечания
1
Датская газета «Эстрабладет», ссылаясь на американский журнал «Ньюсуик», сообщает, что инспектор полиции города Детройта (США) Герберт В. Кайе включил произведения книг Андерсена в список книг, подлежащих изъятию.
(обратно)2
См. переписку М. Горького с Леонидом Андреевым в с борнике «М. Горький, Материалы и исследования», том I, изд-во Академии наук СССР, Л. 1934, стр. 154-155.
(обратно)3
Здесь и далее учебники цитируются по изданиям того времени, когда была написана статья (1948-1949).
(обратно)4
Расскаывают, что один из персидских шахов больше всего оценил в концерте разноголосый шум настраиваемых инструментов.
(обратно)5
Господь с вами! (лат.).
(обратно)6
Аллитерация — поэтический прием, состоящий из повторения одинаковых согласных.
(обратно)7
Колыбельная песня (франц.).
(обратно)8
Хлеб, рыба, волос, конец, огонь, камень, пыль, пепел (лат.). (обратно)9
С м и т — имя местного священника
(обратно)10
Это стихотворение Бернса так и осталось незавершенным
(обратно)11
Герой этой баллады Томас Рифмач — Томас Лирмонт (или Лермонт) — легендарный шотландский поэт.
(обратно)Комментарии
1
Закрывающая кавычка отсутствует в печатном оригинале — V_E.
(обратно)2
полужирное выделение слов, выделенных автором курсивом, добавлено нами — V_E.
(обратно)3
закрывающая кавычка отсутствуеет в печатном оригинале — V_E.
(обратно)4
запятая отсутствует в печатном оригинале — V_E.
(обратно)


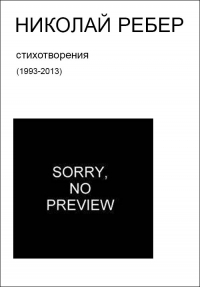
Комментарии к книге «Том четвертый. Статьи и заметки о мастерстве.», Самуил Яковлевич Маршак
Всего 0 комментариев