Татьяна Туринская ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
– Простите, вам не помешает моя сумка?
Дама вежливо улыбнулась:
– Нет-нет, располагайтесь.
Ирина засунула сумку поглубже под кресло и присела, облегченно вздохнув: слава Богу, успела! Прикрыла на мгновенье глаза и тут же умиротворение на ее лице сменилось гримасой боли. Веки и губы сжались плотнее, резко обозначились скулы. Однако она быстро справилась с собой и вновь улыбнулась как ни в чем ни бывало:
– Чуть не опоздала. Всегда я так! К каким бы ухищрениям ни прибегала – все равно опаздываю. Не быть мне английской королевой!
И рассмеялась тихо, но звонко. Смех у нее был очень необычный, словно хрустальный и невероятно заразительный. Ирина знала эту свою особенность и умело использовала ее при любом удобном случае. Однако сейчас в ее планы не входило очаровать или умилостивить кого-нибудь своим смехом, теперь он был таким естественным, как несколько лет назад. Вот только в веселую хрустальность нынче вполне органично вплеталась грустинка.
Лайнер натужно загудел, завибрировал всеми фибрами своей железной душонки, и медленно, как-то тяжело, словно старая двухсоткилограммовая баба, неохотно покатился вперед, едва ощутимо подрагивая на стыках бетонных плит. Казалось, что от движения он просыпается, наливается силой, буквально на глазах превращаясь из толстой неуклюжей старухи в доброго молодца, играючи подбрасывающего двухпудовые гири на потребу любопытному люду. Скорость нарастала. Деревья, c любопытством выглядывающие из-за бетонной стены аэродрома, из отдельных представителей лесного царства превратились в сплошную зеленую поляну. Сила инерции вдавила пассажиров в кресла и, последний раз подпрыгнув на взлетной полосе, машина оторвалась от земли.
Ира снова зажмурилась. И вновь усилием воли заставила себя открыть глаза и улыбнуться.
– Боитесь? – спросила у соседки.
Та отрицательно мотнула головой, приветливо улыбнувшись при этом. Ее лицо было таким открытым, таким милым и обаятельным, что Ирина вдруг ощутила, будто уже давно знакома с нею, и почему-то помимо воли захотелось раскрыть перед незнакомкой душу. Казалось, что уж она-то непременно поймет Ирину, не вывернет ее слова наизнанку, не устроит никакой подлости.
– А я боюсь, – призналась Ирина. – Всю жизнь боюсь. И это притом, что мне очень часто приходится летать. Боюсь смертельно!
Короткая пауза вновь омрачила ее холеное лицо. Ирина сглотнула громко, стремясь справиться со страхом, и продолжила монолог:
– Вернее, боялась. Сегодня впервые в жизни не страшно. Теперь я наоборот хочу, чтобы то, чего так долго боялась, произошло. Покончить бы враз со всем этим…
Соседка недоуменно взглянула на нее: ничего себе, пожелание счастливого полета! Ирина поняла всю бестактность собственного высказывания и попыталась исправить ситуацию:
– Ах, простите, что я говорю! Не обращайте внимания, это так, мысли вслух. Тут же кроме меня еще человек двести, и вряд ли все они согласятся с моими надеждами. Глупости, какие глупости я несу! Простите великодушно, мне, наверное, лучше помолчать.
Дама тактично оставила ее предложение без ответа, не настаивая на продолжении разговора. Вернее, монолога: с самого момента Ириного появления в салоне соседка произнесла лишь одну ничего не значащую фразу. Она раскрыла толстую газету явно бульварного уклона, давая понять, что действительно не намерена продолжать беседу.
Ирина поняла намек. Конечно, со стороны соседки это было не слишком вежливо, но вообще-то, пожалуй, она абсолютно права. Кому понравится такая тема для разговора. Люди спокойненько едут к морю, отдохнуть, покупаться, полежать под ласковым южным солнышком. У каждого из них свои планы на отпуск, и наверняка планы вполне радужные, а тут какая-то дурочка прибежала в последнюю минуту, плюхнулась в кресло бизнес-класса и давай делиться своими надеждами на авиакатастрофу. Да что ж она себе позволяет! Во что она превратилась от своих переживаний! Боже, как мало она стала похожа на себя прежнюю…
Прикрыв глаза и набрав в грудь побольше воздуха, Ира постаралась взять себя в руки. С шумом выдохнула, неуверенно улыбнулась самой себе. По примеру неразговорчивой соседки достала из сумки книгу, раскрыла на середине и попыталась углубиться в чтение.
Самолет гудел ровно и спокойно, без надрыва, словно бы уверяя пассажиров в своей надежности. За иллюминатором проплывала безграничная синь, лишь где-то далеко внизу купались в бездне редкие облачка, такие странные сверху, как будто небо вдруг перевернулось и оказалось под ногами. Ира в который раз читала одну и ту же фразу, никак не улавливая ее смысла. Хм, странно как. Ведь ей очень нравились произведения этого автора. Она терпеть не могла детективы и мистику, всякие кровавые ужастики, считая их низкопробной литературой. Книги же Тамары Никольской были пропитаны весьма своеобразной женской психологией, даже немножко философией, и содержали в себе такую бешеную энергетику, что, никоим образом не относясь к разряду серьезной литературы, не казались второсортными и недостойными внимания. Но сейчас даже самая интересная книга, независимо от авторства, не смогла бы отвлечь Ирину от страшных мыслей. И Никольская была беспощадно захлопнута.
– Вы уж простите мне мою бестактность, сама не знаю, что со мной происходит, – Ирина вновь обратилась к соседке. – Сама себе поражаюсь. Всю жизнь считала себя очень сдержанным человеком, никогда ни с кем не делилась ни мыслями, ни чувствами. Даже с ближайшей подругой старалась держать дистанцию. Подруга… О-ооо, моя подруга… Почему я такая мягкая, почему не умею сказать «нет»?…
* * *
С Ларисой Ира Комилова, можно сказать, выросла. С ней в некотором роде и жизнь прожила. В новый дом обе семьи заехали, когда девочкам только-только исполнилось по четыре года. Так уж случилось, что у них даже дни рождения были совсем рядышком – Иришка родилась восемнадцатого апреля, Ларочка – тридцатого. Месяц – один, а знаки зодиака разные. Может, именно из-за этого и такая разница в характерах.
По злой иронии судьбы оказалось, что в новом доме из их ровесников девочками были только Ира с Ларисой. Остальные дети, как по заказу, сплошь мужского роду-племени. С одной стороны – красота, море потенциальных женихов. С другой – особого выбора не оказалось. Подсунула судьба Ларису – дружи с Ларисой. Пока были маленькими, мамы никуда из родного двора не выпускали, гулять можно было только под своими окнами и только вдвоем. Ссорились девчонки частенько, да деваться друг от дружки было решительно некуда, так что, можно сказать, как ссорились, так и мирились.
Позже пошли в одну школу, и опять же сработал извечный закон подлости: девчонки попали в один класс. Вот там бы и поискать Иришке новых подруг, да ревнивая Лариса постоянно была на стреме: не дай Бог Ирочка на переменке шла с другой девочкой в столовую – устраивала подружке такую истерику, что слышно было в соседнем классе. Доходило до смешного: Ира в одиночестве не могла сходить даже в туалет – обязательно следом плелась Ларочка.
О ее нездоровой ревности очень скоро узнали все одноклассники и даже учителя. А так как Лариса любила и умела устраивать громкие скандалы вплоть до царапанья и вырывания волос из головы соперницы, то заодно с ревнивицей и Ирина оказалась в полной изоляции. Так и случилось, что, прожив в Москве всю свою жизнь, Ирине не удалось обзавестись другими подругами. Приятельницы – да, были, но настоящей подруги, с которой можно было бы поделиться наболевшим, не оказалось. А рассказывать что-либо Ларисе было ох как чревато…
* * *
Ирина вновь зажмурилась, вдавив пальцы до упора в подлокотники кресла. Мимоходом заметила: хорошо, что ногти подпилила совсем коротко, иначе обязательно поломала бы. Ну почему, почему мама не научила ее говорить «нет»?! Скольких жизненных проблем ей удалось бы избежать. И, прежде всего – главной проблемы. По имени Лариса.
* * *
Ларочка Трегубович росла ухоженной и избалованной девочкой. Других детей родителям Бог не дал, даже Лариса, по их словам, родилась у них скорее «вопреки», нежели «благодаря». Несколько беременностей закончились у Ларочкиной мамы весьма плачевно: первый раз она родила тоже девочку, но малышка не прожила и трех часов. Потом были подряд три выкидыша, и только спустя бесконечно долгих тринадцать лет совместной жизни судьба, наконец, улыбнулась чете Трегубович: на белый свет появился крошечный слабенький младенец фиолетового цвета, который невероятными усилиями врачей удалось вернуть к жизни.
Почти до пяти лет Софья Витальевна в самом буквальном смысле слова не позволяла пылинке упасть на ребенка. Гуляла Ларочка исключительно на маминых руках, ходить самостоятельно ей разрешалось только дома, и только на расстеленном на полу ватном одеяле, оберегающем ребенка от ушибов при неизбежных падениях. Дабы оградить дитя от всепроникающих микробов, одеяло дважды в день подвергалось температурной обработке: любящая мамаша ползала по нему на коленях с утюгом, обеззараживая детский полигон.
На игровой площадке во дворе Ларочка только с высоты маминого роста могла наблюдать за процессом появления из-под ловких Ирочкиных рук песочных пасочек, куличиков и неказистых замков. Самой прикасаться к песку было запрещено строго-настрого – как можно? в нем же миллионы микробов! Только на пятом году жизни Софья Витальевна стала иногда милостиво позволять дочери пройтись по дороге собственными ножками. Но только по асфальту и только цепко держа при этом за руку маму, готовую в любую минуту поддержать падающую дочь.
Очень медленно, по чайной ложке в год, Ларочке давалась некоторая свобода действий, однако обо всех своих перемещениях она непременно обязана была докладывать маме. Для ребенка это было совершенно естественно, и она делала это практически на полном автомате: собирались чуть повзрослевшие подружки перейти из беседки на скамейку под навесом, Ларочка тут же сообщала об этом маме, крикнув визгливо под окном: «Мам, я буду вооон на той лавочке!» И девочку поражало, как же Ирочка может передвигаться по двору, не докладывая матери о каждом своем шаге.
Стоит ли удивляться, что выросла Лариса человеком замкнутым, болезненно реагирующим на критику и невероятно, просто-таки патологически ревнивым и мнительным. К тому же при этих весьма сомнительных достоинствах Ларочка обладала более чем скромной внешностью: маленькая, худенькая сверх меры, какая-то скукоженная. На длинном узком лице выдавались широкие скулы, а любопытный нос хищно торчал вперед, вынюхивая чужие секреты. Единственное, на что не поскупилась природа, это волосы: Ларочкину головку венчала копна совершенно шикарных, пышных и шелковистых, с восхитительными кудряшками волос яркого соломенного цвета. Правда, с цветом Лариса начала баловаться лет в пятнадцать, побывав с тех пор не только брюнеткой, а перепробовав на себе и все оттенки фиолетового, красного и каштанового, остановившись, наконец, на огненно-рыжем с красноватым отливом цвете.
Впрочем, даже великолепная шевелюра не красила Ларочку – волосы были слишком длинны и слишком пышны для ее маленького хрупкого тельца, отчего голова казалась непропорционально большой. Сколько раз Ирина советовала ей сменить пышную прическу на стрижку, да результат был один – Лариса дико обижалась на подругу, горячо убежденная в том, что та готовит ей откровенную подлость. Как, разве можно состричь такую красоту? То, что эта красота вкупе с остальными «прелестями» только еще больше уродует фигуру, Лара наотрез отказывалась воспринимать – глупости, красивые волосы не могут испортить внешности. И точка.
Школу Лариса закончила с золотой медалью и без проблем поступила в университет на факультет журналистики. Ирина училась хуже, но вовсе не по причине недостаточно развитых извилин головного мозга, а исключительно из-за отсутствия интереса. Учиться ей было скушно до зевоты. И в двойках она не погрязла только благодаря великолепной от рождения памяти. У Ларочки же, напротив, с памятью случались серьезные сбои, а потому уроки она самым тупым образом заучивала наизусть, не особенно вникая в смысл вызубренного материала. Таким образом, дороги подружек разошлись после окончания школы: Лара, как уже было сказано, пошла на журфак, мечтая о карьере журналиста-международника, Ирина же, ничего особенного не желая, не проявив к семнадцати годам определенных склонностей, направила стопы в более приземленный аграрно-экономический институт изучать особенности поведения различных дебетов-кредитов и сальдо-бульдовых конфликтов при подведении балансового отчета.
Расставшись со школой, Ира надеялась оставить в прошлом и дружбу с Ларочкой. Нет, она, конечно же, не собиралась рвать с ней раз и навсегда, да и сложновато было бы это сделать, учитывая проживание девушек в одном доме. Но так хотелось свежих впечатлений, нормальных, без истерик, дружеских отношений. Однако и в институте ее чаяниям не суждено было исполниться: Ларочка, не сумев ни с кем подружиться в университете, по-прежнему таскалась за Ирой, как приклеенная. Отдохнуть от привязчивой подруги можно было только на лекциях.
Первый поклонник появился у Ирины лишь на первом курсе, ведь до этого ревнивая Ларочка никому не позволяла приблизиться к подруге. Вероника Николаевна, Ирочкина мама, сначала удивлялась, а позже, разобравшись, наконец, почему у ее очень даже симпатичной дочери нет ухажеров, стала возмущаться назойливостью Ларисы. Несколько раз даже пыталась ласково убедить Ларочку, что нельзя так навязывать свое общество, что девочки в этом возрасте должны время от времени отдыхать друг от друга, но ее обращения оставались гласом вопиющего в пустыне – Ларочка не имела намерений делиться с кем бы то ни было единственной подругой. Похоже, она воспринимала Иру, как свою личную собственность…
Первый поклонник как появился, так и сбежал. Не выдержал постоянного присутствия ревнивой подружки, ее косых враждебных взглядов и нудных рассказов, как замечательно живут журналисты-международники в заграницах. Потом были второй, третий и четвертый ухажеры. Потом Ира просто сбилась со счету, а подруга все не унималась.
Но не столько из-за сбежавших поклонников злилась Ира на Ларису. Безусловно, ее здорово раздражала назойливость подруги, хотелось отделаться от нее раз и навсегда. И тем не менее, как бы это ни было противно, а терпеть ее общество Ирина в принципе привыкла. Однако не давала покоя мысль, что подруга может предать в любую минуту. Сейчас она улыбается и преданно заглядывает тебе в рот, а завтра, не моргнув глазом, сотворит такую подлость, что потом сама же будет сокрушаться, как же она могла сделать подобное. Не иначе, мол, бес попутал, и будет вымаливать прощения, не отрывая от Ириных глаз взгляда побитой собаки.
Такое уже было. И не один раз. Но все дурные Ларискины выходки побила одна, самая подлая, самая мерзкая. Сколько лет прошло с тех пор, а до сих пор Ирине тяжело было вспоминать десятый класс, негодование и гнев душили изнутри, призывая отыграться на «подруге» по полной программе.
В детстве Ира была обыкновенным ребенком, без особых талантов, и красотою неземной среди сверстниц тоже не выделялась. Но переходный возраст принес с собой не только головную боль для родителей, но и нескончаемую радость для самой Иры – как-то плавно, совершенно незаметно, она превратилась если не в абсолютную красавицу, то в очень даже миловидную девушку. Из толпы подростков ее прежде всего выделял рост. Она и раньше не была маленькой, всегда была немножко выше одноклассниц, от чего неимоверно страдала. Теперь же она перестала быть просто высокой и худой нескладушкой. Вернее, худой она осталась, но худоба ее как-то округлилась, не прибавив при этом ненужной полноты, и теперь она выглядела не дистрофичной тенью, а очень даже стройной и аппетитной девицей, не лишенной некоторых таинственных выпуклостей. При этом и лицо ее, угловатое и неяркое в недавнем прошлом, нежданно-негаданно стало притягивать чужие взгляды. Лицо ее ныне чем-то неуловимо напоминало японку со старого календаря, который много лет висел у них сначала дома, потом на даче, а выбросить его все не поднималась рука – так мила и приветлива была юная барышня с зонтиком на бамбуковых спицах, так приятно было смотреть на ее чистое лицо. Теперь Ира, вглядываясь в свое отражение по утрам, отмечала нежность кожи с бархатистостью персика и молочностью оттенка, притом, что никогда не считалась белокожей. Но смуглость ее была словно бы прикрыта белой полупрозрачной органзой, и, не делая кожу более светлой, тем не менее, смягчала интенсивность природного оттенка. Извечную мальчишечью стрижку теперь сменило длинное каре. В общем, чего уж там, отраженьем своим Ирина была ныне вполне довольна. Даже очень довольна.
Однако не всех радовали такие перемены в Ириной внешности. Единственная подруга, казалось, испытывала просто-таки физическую боль от одного только взгляда на похорошевшую вдруг Ирину. Самой Ларисе переходный возраст не принес никакой радости, напротив, от него ей достались одни сплошные огорчения в виде щедро разбросанных по лицу противных красных пятен, с которыми ей никак не удавалось справиться. Глотала слезы обиды: почему, ну почему же творится такая несправедливость? Одним – все, другим – шиш в кармане? Так больно было наблюдать, как мальчишки заглядываются на ее подругу, а от самой Ларочки воротят носы в сторону. И однажды, сидя на скамейке в физкультурном зале и глядя, как одноклассники прыгают через «козла» (самой ей особо напрягаться на физкультуре мама не велела), Ларочка заметила восхищенный взгляд Лёшки Звягинцева, устремленный на Иру. Та и правда была восхитительно хороша в коротеньких синих шортиках, обтянувших ладненькую попку, и белой простенькой футболке, заманчиво натянувшейся в районе груди. Сам Лёшка, хиляк и доходяга, куда более болезненный, чем Ларочка, выглядел в свои шестнадцать пятиклашкой, а, поди ж ты – и этот туда же. А на Ларису – ноль внимания! И так она была этим возмущена, так обижена несправедливостью природы, что выдала, не особенно задумываясь над последствиями, а может, наоборот, очень хорошо себе их представляя:
– Красивая Ирка, правда?
Лёшка восхищенно протянул:
– Дааа!
– Так жалко… Какая все-таки подлая штука жизнь! Вот ведь с виду такая красавица, а на самом деле так не повезло человеку – всю жизнь прожить одной. Каково это – с детства знать, что обречена на одиночество? Бедная, бедная Ирка…
У Лёшки от предчувствия сенсации загорелись глазоньки – как это, красавица Ирка Комилова обречена на одиночество? Быть того не может!
– Почему?!!
– Ну а ты женился бы на такой? Красота-то, она, конечно, глаз радует. Но просыпаться каждое утро в мокрой вонючей постели – извините, на кой черт такая красота? Какой мужик это выдержит?!
– Не понял, – Лёшкины глаза полезли на лоб от удивления. Понять-то понял, да поверить в такое было трудно: красавица-Ирка и вдруг такое! – Что, ссытся, что ли?
– Фу, – жеманно поморщилась Ларочка. – Не ссытся, а страдает энурезом. Можно подумать, ты не знал!
И вдруг, словно спохватившись, всплеснула руками:
– Ты не знал? Боже, что я наделала! Забудь, ты ничего не знаешь, понял? Не смей никому говорить, это ее убьет!
И так искренне хваталась за голову, с таким волнением заглядывала в Лёшкины глаза, так горячо умоляла не раскрывать секрет лучшей подруги…
Стоит ли говорить, что уже очень скоро об этом знала вся школа. Объяснять, что энурезом Ира страдала разве что в раннем детстве, как все нормальные дети, было совершенно бессмысленно: чем больше оправдываешься, тем охотнее люди верят в ложь. Над Ирой смеялись, унижали на каждом шагу, обзывали «обоссаной простыней» и «уссатой-полосатой». Как она пережила это унижение – Ирина и сама не знала. Зато Ларочка была довольна – теперь никто не заглядывался на ее подругу, больше того, Ира ныне стала презренной, с ней перестали даже здороваться. А Ларочке вроде как начали сочувствовать: мол, надо же, привязалась эта ссыкуха к человеку, никак от нее теперь не избавишься, эхх, бедолага…
Источник ложной информации был раскрыт молниеносно – Звягинцев раскололся мгновенно, ведь поначалу в его бредовую информацию никто не поверил. Но уж коли эта информация исходила от лучшей подруги – значит, правда. Ира перестала общаться с Лариской, игнорировала ее несколько месяцев. Но та была настойчива в худшем смысле этого слова: не отходила от Ирины на переменах, шла вместе с ней домой. И упорно твердила, заглядывая в глаза:
– Прости меня, прости! Я не знаю, как это у меня получилось! Я, наверное, была не в себе. Ты была такая красивая, и Лёшка так восхищенно смотрел на тебя. А я ведь сидела рядом, в таких же шортиках, но он на меня вообще не обращал внимания! И что-то на меня накатило, я даже не помню, что я говорила. Слушай, – она хватала подругу за рукав, как будто только что все поняла: – А может, Лёшка все придумал, а я ничего и не говорила? Ну не помню я такого, хоть убей, не помню! Ну не могла я такое про тебя сказать, не могла!
Ирина не верила ни единому ее слову. И знала прекрасно – именно Лариска и придумала всю эту мерзость. Никто, кроме нее, не смог бы додуматься до такой гадости. Знала. И прощать не хотела. Но так настойчива была Лариска, так преданно, по собачьи, заглядывала в Ирочкины глаза, так вымаливала прощение… Нет, Ирина не простила ее, но постепенно, слово за слово, начала говорить с предательницей. Сначала вынуждена была отвечать на ее оправдания, потом обвиняла, кричала на подлую обманщицу, срывая злость и обиду. Сначала сквозь зубы, потом постепенно оттаивала. Нет, обида не притуплялась, боль предательства не проходила, но Ира никогда не была слишком волевой, не умела послать мерзавку подальше. Вынужденно простила, не сумев настоять на полном прекращении отношений. Но ничего не забыла…
* * *
– Если бы я ее не простила… Если бы мне только хватило упрямства, если бы только я умела говорить «нет»… Если бы, если бы, если бы… Все могло бы быть совершенно иначе…
Ирина замолчала и устремила взгляд в синее безграничье неба, словно хотела найти там подтверждение своих слов: ведь правда же, ведь могло бы все получиться иначе? Ведь могла же она избежать всего этого?
Соседка тоже отвернулась к иллюминатору и деликатно промолчала, не желая торопить собеседницу. Впрочем, беседой этот разговор назвать было невозможно: это по-прежнему был монолог. Говорила только Ирина, соседка же не произносила ни слова, однако слушала с нескрываемым интересом.
– Вы простите, что я тут с вами разоткровенничалась. Знаете, я так долго носила это в себе, что мне просто необходимо выплеснуть все это. Недаром говорят, что случайные попутчики больше всего подходят на роль исповедника. И правда. Близким ни за что не станешь раскрывать всю себя – могут ведь и напомнить. Особенно если посчастливится заиметь такую вот подругу. А вам почему-то так легко рассказывать… У вас такое лицо открытое, что мне упорно кажется, будто мы с вами сто лет знакомы. Вроде знаю, что вижу вас впервые, а никак не могу отделаться от ощущения, что очень хорошо с вами знакома. Странно, правда? Я вам не надоела со своими воспоминаниями? Может, вы бы хотели почитать? Газеткой вот запаслись…
Попутчица взглянула с удивлением на газету, давно уже свернутую трубочкой. Странно – когда успела? Так погрузилась в воспоминания случайного человека, что забыла обо всем на свете. Однако нельзя без конца отмалчиваться, в конце концов, это просто неприлично. Улыбнулась приветливо:
– Да ничего, газета не прокиснет. Надеюсь, мир не перевернется, если я прочитаю ее через недельку-другую, на обратном пути. А может, и вообще не прочитаю. Думаю, это не смертельно. Гораздо полезнее дать человеку высказаться. Вы правы, очень тяжело носить груз воспоминаний в себе. И даже вредно. Именно поэтому медики и советуют периодически выплескивать накопившиеся эмоции. И делают это практически все, только каждый по-разному. Кто-то с утра до вечера плачется в жилетку каждому встречному-поперечному. Другие – лучшему другу или подруге, третьи – маме, четвертые – как вы, способны открыться только случайному человеку, будучи уверены в том, что больше никогда не встретятся со своей «отдушиной». Пятые раскрывают душу только в кабинете психолога, расплачиваясь за заведомую конфиденциальность немалыми деньгами. Есть и шестые. Эти, будучи не в состоянии красиво изложить свои переживания в устном виде, или попросту не найдя подходящую жилетку, изливают переживания на бумагу.
– А вы? К какому типу вы относите себя?
Собеседница улыбнулась. И такая славная была у нее улыбка, такая уютная, что Ирине захотелось прижаться к ее груди, как к материнской в далеком детстве, и, как тогда, почувствовать себя в полной безопасности.
– Не знаю, наверное, ко всем шести, а может, для меня еще тип не придуман. Да и так ли это важно?
– А и правда, какая разница, – улыбнулась Ирина. – Главное, что с вами очень приятно общаться. Вы так замечательно умеете молчать! Вы просто идеальная слушательница!
Соседка усмехнулась:
– Да уж, слушательница я действительно неплохая. Наверное… Так что там было дальше?
* * *
Дальше была любовь. Сергей возник в ее жизни на четвертом курсе института. Причем ворвался туда стремительно, с фейерверком, громко и навсегда.
Ира спешила, опаздывала на собеседование. Мероприятие было очень ответственное, желающих подработать на каникулах было немало, тем более по будущей специальности, а потому она шагала широко и стремительно, не задумываясь, насколько по-женски выглядит в эту минуту. А выглядело это как раз не слишком здорово: молодая красивая девушка шагала семимильными шагами, устремив взгляд далеко вперед и для вящей скорости давая резкую отмашку руками в такт шагам. И надо же было такому случиться, что группа из трех молодых людей решила обогнать ее во что бы то ни стало. Видимо, парни опаздывали еще сильнее. Пошли на обгон все втроем одновременно, но тротуар был не столь широк, и крайний справа обгонял Ирину впритык к ней. В момент, когда почти уже поравнялся с нею, но не был еще ею замечен, получил существенный удар сжатой ладонью в пах. Ира, как уже было сказано, девушка далеко не маленькая, и шагала очень стремительно, помогая отмашкой рук, или наоборот, руки слишком сильно раскачивались от быстрой ходьбы, но, так или иначе, а парень получил довольно ощутимый удар тютелька в тютельку в причинное место. Несчастный охнул и осел, как подкошенный. Почувствовав, что рука неожиданно врезалась во что-то мягкое, Ирина притормозила и, поняв, во что именно воткнулась со всей силы, побелела от стыда и ужаса: ведь парень скорчился от боли, а вокруг, предосудительно глядя на нее, стояли двое его друзей. Вдобавок ко всему прохожие, заинтересовавшись заминкой в движении, стали собираться в любопытствующую кучку.
В общем, ситуация была крайне неприятная, и неизвестно, чем все могло бы закончиться, если бы пострадавший, пересилив боль, не нашелся и не выдал сдавленным голосом:
– Теперь, как порядочная девушка, вы обязаны на мне жениться!
Публика расхохоталась и начала потихоньку расходиться. Парни тоже побежали по своим делам. Но уже вдвоем – Сергей наотрез отказался прощаться с Ириной, доведя ее до места назначения и дожидаясь под дверьми окончания аудиенции.
С тех пор Ира с Сергеем практически не расставались. Встречались долго, целый год, пока он не решился заявить вторично:
– Женись на мне!
Ира рассмеялась:
– Глупый, девушки выходят замуж!
– Это девушки. А ты у нас – солдат. Ничего себе – девушка, вот так сходу, слету, заехать постороннему мужику прямо в душу кулаком! Так что жениться ты просто обязана. Но сугубо из неземной любви так и быть, любезно позволяю тебе выйти за меня замуж.
Их браку не смогла помешать даже Лариса. Правда, она старалась. Очень старалась, изо всех своих подлых силенок. Сначала, как и с остальными Ирочкиными поклонниками, бродила тенью за влюбленными. Старательно навевала скуку и сонливость все теми же излюбленными рассказами о сказочной жизни журналистов-международников, все не могла решить, что же ей покупать в заграницах в первую очередь – квартиру или машину? Или, может, норковое манто? Ей ведь надо будет в чем-то ходить на светские рауты… Занудство не помогло, и она стала периодически позорить Иру по-детски бесхитростно и даже глупо. Например, когда подруга отлучалась ненадолго или же опаздывала, Ларочка задавала Сергею незатейливый вопросик:
– А Ирка уже показывала тебе свою коллекцию фантиков? Она их с детства собирает, ни одной обертки от конфеты до сих пор не выбросила. У нее потрясающая коллекция! Только ты не говори ей, что в курсе дела, просто как бы невзначай приноси ей свои обертки. И не вздумай при ней выбросить, она этого просто не переживет!
Сергей задорно расхохотался и тут же задал вопрос вернувшейся Ирине:
– Ирэнчик, а почему ты мне до сих пор не показала свою коллекцию фантиков? Замечательная идея! Солнце мое, если ты любишь фантики, я тебя ими забросаю!
Ларочка была посрамлена, но не сражена, и в следующий раз придумала новую историю:
– Сереж, а Ирина тебя предупредила о том, что тебе придется раз в квартал проверяться у венеролога? Ты смотри, такими вещами не шутят.
На что Сергей, успевший разобраться в подлой Ларискиной натуре, отвечал:
– Конечно, дорогая! Мы уже были у доктора две недели назад. Ты знаешь, а ведь он сказал, что это передается не только половым путем, так что тебе тоже стоит к нему наведаться. Я уже сообщил доктору твои координаты, жди гостей…
В общем, как ни старалась Ларочка, а расстроить свадьбу ей не удалось. И зажили молодые, как говорится, душа в душу. К тому времени умер Ирин папа, и молодожены поселились у овдовевшей Вероники Николаевны. Зять с тещей моментально нашли общий язык. Сергей ныне оказался в доме единственным мужчиной, а потому стал безоговорочным главой семьи. К тому же он действительно был человеком основательным и надежным, и в те довольно скудные времена обязанности кормильца-добытчика полностью легли на его широкие плечи.
После окончания института Ирина устроилась рядовым бухгалтером в строительную контору. Через два года семейной жизни появилась на свет Маришка, и Ира временно оставила работу. Хлопот с дочуркой было немало, и на первом этапе молодая мама даже не думала о возвращении на работу. Однако дети имеют обыкновение расти – подросла и Маришка. Маленькие ноженьки уже уверенно семенили по земле, маленькие рученьки не менее уверенным движением вытягивали из-под шкафа ночной горшок, а после самостоятельно выливали его содержимое в унитаз. Вот тогда и заскучала Ирина, запросилась на работу.
Время для этого выдалось не совсем удачное. На предприятиях полным ходом шли сокращения кадров, производства останавливались пачками, отправляя работников в бессрочные неоплачиваемые отпуска. Каким-то чудом Ире удалось избежать подобной участи. Ее контора не прекратила своего существования, и даже сумела обойтись без поголовного сокращения – обошлись отправкой на заслуженный отдых работающих пенсионеров, позволив молодым остаться наплаву. Правда, оставшимся тоже пришлось несладко: зарплаты были мизерными, прожить на них во времена гиперинфляции казалось просто нереально, но, тем не менее, это все-таки была работа. Постоянная. Благодаря чему Ирине удалось не растерять профессиональные навыки. Даже напротив: в то смутное время законы в различных областях менялись чуть ли не ежемесячно, не минуя, естественно, бухучет. Как грибы после дождя, появлялись на свет налоговые инспекции, милиции и полиции, благодаря чему у бухгалтеров появилось дополнительно море работы: кроме давно привычных балансовых, добавились и всяческие формы налоговой отчетности. Работы прибавилось существенно, зарплата же оставалась копеечной. Многие не выдерживали суровой действительности и уходили в никуда, отправлялись в свободное плавание по так называемой рыночной экономике.
Случались подобные настроения и у Иры. Временами так хотелось бросить все и спрятаться за широкой, такой удобной Серегиной спиной. То, что раньше воспринималось недостатком, ныне оказалось огромным плюсом: Сергей, в отличие от супруги, не был отягощен высшим образованием, имел за спиной лишь профессиональное училище. Трудился в автосервисе, ковырялся в железе, отчего руки его пропахли машинным маслом и различными техническими смазками, пальцы потемнели. Иногда Ира стеснялась его грубых рабочих рук, но, по большому счету, на мнение окружающих ей было наплевать. Она просто любила своего супруга, независимо от наличия диплома о высшем образовании, от того, вычищены ли его ногти, и пахнет ли от него бензином или дорогущей французской туалетной водой «Эгоист». Она любила Сергея, а не того, кем он представлялся окружающим. И теперь оказалось, что именно благодаря рабочей профессии мужа они и могут оставаться наплаву, ведь, несмотря на смутные времена, машины продолжали ломаться, а значит, кому-то нужно было их чинить. И если многие предприятия не платили сотрудникам месяцами, то автосервис приносил «живые» деньги. Именно поэтому Ирине и не пришлось идти по проторенной дорожке в «челноки», по-прежнему погружаясь в полюбившийся неожиданно для самой себя мир цифр.
День за днем, год за годом пролетала жизнь. Серые будни… Ах, какое это было счастливое время! Как Ира любила свои серые будни! Когда один день как две капли похож на другой. Ах, как устраивала ее эта одинаковость! Как это замечательно – каждое утро просыпаться от поцелуя любимого, готовить завтрак ему и самой замечательной на свете малышке, матери. Правда, чаще эту обязанность брала на себя Вероника Николаевна, но и Ира не гнушалась приготовлением завтрака. Потом все расходились: кто на работу, кто в садик, а позже и в школу, кто по магазинам. Все были заняты своим делом, каждый приносил пользу другим членам семьи. Вечером возвращались к родному очагу, где ждал вкусный ужин, приготовленный мамой, тещей и бабушкой. После ужина Ирина успевала немножко позаниматься с Маришкой уроками, потом непременно все вместе игрались, смотрели «Спокойной ночи, малыши» и укладывали дочурку в постель, после чего на кухне велись взрослые разговоры, ну а уж еще позже все расходились по своим комнатам и молодые, наконец, были предоставлены сами себе… А утром Ира вновь просыпалась от поцелуя любимого. Они крайне редко выходили в кино или театр, еще реже на концерты. Они обожали свои серые будни, тихие семейные вечера. Ах, какое это было замечательное время!..
Единственное, что несколько омрачало воспоминания о тех безвозвратно канувших в лету временах, это довольно частое вторжение в их жизнь Ларисы. Та уже давно закончила свой журфак, только вместо заграницы попала в заштатную газетенку. Не сбылись мечты, подвели сумбурные перемены государственного масштаба. Ах, как переживала Ларочка, ах, как сокрушалась, бедная, что вместо освещения международных событий ей приходится брать интервью у работников управления коммунального хозяйства. Потом – о ужас! – к обязанностям журналиста на Ларочку повесили еще и корректорскую работу. А ведь всем известно, какая это скука смертная – вычитывать чужие тексты и выискивать в них орфографические и стилистические ошибки, всевозможные несостыковки, проверять факты, уточнять фамилии и имена-отчества героев интервью… И почему-то все чаще Ларису забрасывали именно корректорской работой, отдавая все плановые статьи и интервью другим сотрудникам газеты. Почему, ну почему так несправедливо, ведь те, другие, так плохо учились в университете, ведь в дипломе одни сплошные тройки, а у нее, у Ларочки, диплом красный, заработанный трудом и усидчивостью. Ведь она столько лет штудировала учебники, столько материалов заучивала наизусть, не завалила ни одну сессию, ни разу не пришла на зачет неподготовленной… Ах, какой несправедливый, жестокий, бесчувственный мир!!!
В личной жизни у Ларочки тоже был полных швах. Парочку случайных ухажеров забраковала мама, посчитав их недостойными внимания дражайшей дочери. А других претендентов на ее руку и сердце как-то все не находилось. Вот и жила Ларочка, в основном, интересами Ириной семьи. С ними проводила субботы и праздники, возможно, именно поэтому Ира и любила безумно свои серые будни.
Дни и ночи, недели и месяцы, любимые серые будни тянулись нескончаемой вереницей. Казалось, что мир вокруг замер и нигде ничего не происходит, так же, как в их семье. Но мир двигался вперед, все менялось с несусветной скоростью, и в итоге Ира даже не заметила, когда вдруг жизнь успела наладиться. Когда из почти заснувшего летаргическим сном предприятия их контора вдруг стала процветающей? А сама Ирина теперь была уже не рядовым бухгалтером с копеечной зарплатой, и даже не главным, а заместителем генерального директора строительного треста. Сказалась благодарность руководства за то, что не бросила их, как остальные, в трудные времена, за то, что на лету хватала новшества в законодательстве, что была не только хорошим бухгалтером, но в свое время не гнушалась и секретарскими обязанностями, а постепенно само собой стала выполнять еще и функции экономического советника, и, судя по всему, довольно успешно. Это раньше их контора, в основном, занималась косметическим ремонтом фасадов старых зданий. Теперь же они строили элитное жилье, которое почему-то вдруг стало пользоваться бешеным спросом, несмотря на просто неприличные цены. И сами они уже давно, оказывается, живут не с мамой в их старой трехкомнатной малометражке, а в одной из новостроек, построенных их же трестом, в так называемом «доме повышенной комфортности». И на работу Ира ездит нынче не на метро, а на служебном Мерседесе, правда, не на шестисотом, а «всего лишь» на триста двадцатой модели. А в подземном гараже стоит собственная Вольво, на которой ездит на работу Сергей. Правда, Сергей, как был, так и остался все тем же слесарем-механиком по ремонту легковых автомобилей, только квалификация его за прошедшие годы существенно повысилась, и зарабатывал нынче хоть и меньше супруги, что совершенно не смущало Ирину, но тоже вполне приличные деньги. Ведь его благосостояние напрямую зависело от благосостояния народа. А народ нынче стал выбираться из нищеты, очень многие сумели воспользоваться обретенной свободой не абы с какой выгодой для себя. И ходовым товаром нынче были не только дорогие квартиры, но и машины. Сергей давно уже не занимался ремонтом Москвичей да Жигулей – этот «металлолом» нынче был в ведении не слишком обремененных опытом зеленых пацанов. Сергей же с удовольствием и ощутимым материальным вознаграждением занимался иномарками. А руки у него оказались просто золотые: почти запросто превращал битую машину в конфетку. Так что Иру совсем-совсем не смущало, что она стала зарабатывать больше мужа. Вернее, заработки Сергея не имели для нее ровным счетом никакого значения, главное, что они не голодали.
Но вот что важно. Профессия мужа не смущала ее только дома. Вернее, дома она об этом забывала напрочь. На работе же старалась не афишировать его род деятельности. Пожалуй, не просто не афишировала, а даже скрывала. Как-то вроде бы негоже ей, заместителю генерального директора крупного строительного треста, в мужьях иметь простого работягу… Периодически в тресте случались корпоративные вечеринки, на которые, к вящему удовольствию некоторых, не приглашались официальные половины сотрудников. И это обстоятельство с некоторых пор очень радовало Ирину. Не потому что… А просто не хотелось, чтобы ее успешные коллеги обратили внимание на потемневшие от технического масла руки Сергея.
И еще одно событие прошло совершенно незамеченным, словно само собой разумеющимся. Ира и сама не знала, вернее, не понимала, как она могла поддаться на Ларочкины уговоры, как могла порекомендовать на должность секретаря надоевшую до оскомины подругу? Ну почему же, почему мама не научила ее говорить «нет»?!! Зачем, каким образом она сама себе подложила такую свинью?!!
Глупо, обидно, неразумно, но теперь Ларочка стала ее личным секретарем. Она долго прозябала в своей газетенке, до тех самых пор, пока нерентабельное издание не расформировали, перепрофилировав в женский глянцевый журнал. Для Ларочки, обладательницы престижного красного диплома московского журфака, места в штате не нашлось. Вне штата, впрочем, тоже. Не нужен был хозяевам журнала ее красный диплом. Им хотелось побольше подписчиков, а значит – гламурных снимков, интересных интервью со звездами, сенсационных репортажей и эксклюзивных материалов. А Ларочка, как оказалось, умела только зубрить…
Ах, как она плакалась в Ирочкину жилетку на ее новой кухне! Ах, как рыдала, какими слезами обливалась, оплакивая судьбу свою горемычную. Ведь не девочка давно – четвертый десяток разменяла лет семь назад, а ни работы, ни семьи, ни ребенка – ничего. Только престарелая мамаша висит на шее тяжким грузом. Лекарства старушке и то купить не на что, не говоря уж об обновках да деликатесах… И как-то так само собой вышло, что на вновь созданную должность секретаря заместителя генерального директора треста Ирина порекомендовала Ларису. Сама себе, собственными руками, вырыла такую яму…
* * *
– Как вы думаете, сколько мне лет? – прервала Ира повествование.
– Вы выглядите просто замечательно для своего возраста! – ловко вывернулась собеседница.
Ирина рассмеялась хрустальным колокольчиком:
– А вы молодец! Вас нелегко провести. Все правильно, мне уже сорок, и даже с маааленьким хвостиком. Но на вид дают гораздо меньше.
– Да, на вид вам сложно дать больше тридцати. Но истинный возраст выдает ваш взгляд. Внимательный наблюдатель сразу поймет, что вы опытная женщина, мудрая…
Ирина погрустнела:
– Мудрая… Какая я мудрая? Дура я полнейшая, разве что опытная. Теперь опытная… Правда, лично мне от этого опыта никакого проку. А почему, вы думаете, я так замечательно выгляжу? Гены? Нет, генами тут и не пахнет…
* * *
Ирина взрослела, вместе с нею взрослели и Сергей с Маришкой. Вероника же Николаевна потихоньку катилась к осени жизни. Сергей был старше жены на четыре года, вполне нормальная возрастная разница между супругами. Ни в молодости, ни теперь, в зрелости, он не выглядел значительно старше или моложе Ирины, напротив, вместе они смотрелись вполне органичной парой. И не только смотрелись, но и были таковой на самом деле. Много лет жили, что называется, душа в душу, ссорились крайне редко, но никогда – по поводу денег. Так, бывало иногда, Сергей придет немножко выпившим, Ирине, естественно, как любой нормальной жене, это не понравится, ну и поехали-понеслись. Но вообще-то Сергей не злоупотреблял этим делом, позволял себе расслабиться лишь изредка. Ну а Ира, как порядочная жена, дабы не упустить воспитательный момент, не просмотреть ту грань, из-за которой мужика бывает очень сложно вернуть к нормальной жизни, пилила его потихоньку, впрочем, тоже не слишком усердствуя, дабы не перегнуть палку. А в остальном в семье царили тишь да гладь.
Ира, с ранней молодости привыкшая к комплиментам, к тому, какая у нее замечательная кожа, да красивые, блестящие, как маслины, глаза, не слишком тщательно ухаживала за своей внешностью. В том смысле, что к косметологам не обращалась, довольствуясь нанесением на кожу лица и рук крема перед сном. Иногда и об этой процедуре забывала. Кожа от природы была эластичная и гладенькая, как у младенца. И Ирина была вполне довольна собственным отражением в зеркале. Когда вдруг Ларочка, еще в бытность свою журналисткой, стала заботливо отмечать:
– Ай-ай-ай, подруженька, что-то выглядишь ты сегодня нехорошо. Наверное, не выспалась, да?
Ира пристально вглядывалась в зеркало: да нет, вроде нормально выглядит, как всегда. И ночь проспала, как убитая. И чувствует себя вполне нормально, привычно-энергичной. А в следующую встречу с подружкой Ларочка вновь замечала изменения в ее внешности, и, естественно, не в лучшую сторону:
– Вот она, доля наша бабья! Вот они, переживания, вот они, беременности, вот они, роды-кормления, бессонные ночи. Ты посмотри на меня – ни одной морщинки! Потому что одна живу, без мужиков. На кой хрен они сдались, одни сплошные неприятности от них да носки вонючие. Тебе же всего тридцать семь, а выглядишь… Ох, прости, что я так. Но уж лучше я тебе об этом скажу, чем кто-нибудь посторонний. Я-то тебе мягко скажу, не привлекая внимания чужих людей. А знаешь, какие бестактные-беспардонные личности иногда попадаются? Вот то-то! Да, слава Богу, что мне хватило ума замуж не выйти! А то тоже уже в старуху превратилась бы…
Такие сеансы «капанья на мозги» проводились регулярно, практически каждую неделю. И постепенно Ирина уверилась, что действительно выглядит ужасно. И фигура-то у нее «поплыла», и очертания лица размылись, под глазами – ажурный узор «гусиных лапок», и уголки губ что-то вниз начали поглядывать. В общем, «докапалась» Ларочка, выведя подругу из состояния удовлетворенного равновесия. Ира потеряла уверенность в себе, впала в депрессию. Зеркало ныне вызывало в ней стойкую неприязнь, совмещенную с паническим ужасом старения. Уверения Сергея в том, что она выглядит потрясающе здорово и молодо, не помогали. Ирина была уверена, что он просто пытается ее успокоить, а на самом деле она страшна, как атомная бомба.
Через полтора года бесконечных депрессий Ирина решилась обратиться в клинику косметологических исследований. К тому времени семья перестала испытывать финансовые затруднения, а потому она с чистой совестью позволила себе оттянуть некоторую сумму из семейного бюджета на омоложение.
При первом визите доктор заметил, что для своих лет она выглядит вполне неплохо, и фигура как для тридцативосьмилетней женщины вполне приличная, и сеточка «гусиных лапок» является нормой не только для этого возраста, а для гораздо более молодых дам. Впрочем, произнес все это он не особо убедительно, а с некоторой даже заминкой, и тут же заявил, что не стоит, конечно же, ждать конкретных следов увядания, а бороться с возрастом лучше превентивными мерами. И тут же, чтобы загладить некоторую неприятность своих слов, еще раз повторил, что в принципе пока что к омолодительным процедурам Ирине прибегать не обязательно. Особенно ее впечатлили его слова «пока что» и «в принципе». Они и стали решающими в извечном шекспировском вопросе. Конечно, операции быть!
Она очень хорошо запомнила последние, напутственные, слова доктора перед операцией:
– Учтите, Ирина, не говорите потом, что я вас не предупреждал о негативных последствиях. У этой операции есть очень существенный побочный эффект: выйдя из нашей клиники, барышни частенько впадают в молодость и совершают довольно легкомысленные поступки, напрочь забывая об истинном возрасте. Я понимаю и уважаю ваше стремление выглядеть вечно молодой, но не стоит отрекаться от прожитых лет. Смотрите, не наделайте потом массу глупостей, не испортите себе жизнь.
Тогда Ира восприняла его слова, как попытку набить себе цену, мол, наши операции на самом деле стоят значительно дороже тех немалых денег, которые дамы платят за них. Разве можно измерить деньгами молодость и красоту, которые мы вам практически дарим? И она без страха легла под нож.
Операция не была безболезненной. Вернее, ее последствия. Несколько дней Ирина не могла видеть свое новое лицо. Потом, когда сняли повязки, она увидела себя и ужаснулась – выглядела она ничуть не лучше пьянчужки-синюшницы из ближайшего подземного перехода. Лицо ее отекло и покрылось сплошным синяком. Мешки под глазами, вместо того, чтобы исчезнуть, увеличились раза в три, веки вообще стали фантастически-огромных размеров и сияли всеми оттенками лилово-фиолетовой гаммы. Тело тоже болело и зудело в местах проколов и подмышками, там, где делали подтяжку груди, убирая лишнюю кожу.
Весь отпуск она провела в клинике. Зато на работу Ирина вышла резко помолодевшей и похорошевшей, сбросившей четыре с половиной килограмма. Сотрудники треста не имели представления о том, где «отдыхала» Ирина Станиславовна, но никто из них даже не предполагал, что без вмешательства пластических хирургов дело не обошлось. Благодаря смуглой от природы коже история о том, какое замечательное, жаркое и щадящее одновременно, солнце в Турции, как великолепно они всей семьей отдохнули на курорте в Анталии, была проглочена сослуживцами в один момент. Больше того, еще не успевшие использовать отпуск сотрудники тут же ринулись за путевками на модный курорт.
А Ирина и впрямь выглядела замечательно. Постройнев, избавившись от сеточки мелких морщинок, с подтянутой грудью и «повеселевшими» уголками губ, с новой, совсем коротенькой стрижкой, почти «под ежика», ныне она выглядела так замечательно, как не выглядела и в двадцать лет.
* * *
– Нет, вы представляете, какая дурочка?! – вновь прервала рассказ Ирина. – Поверить так называемой подруге, тысячу раз предававшей меня? Отправить саму себя на операционный стол, под нож?! Зачем, ради чего?!! Чтобы выглядеть на пару лет моложе? Пусть не на пару – на пять, пусть даже на десять. Зачем? Зачем??? Вытерпеть такие чудовищные боли, и только ради того, чтобы выглядеть девочкой с глазами старухи?!!
Собеседница слегка скривилась:
– Ну, не стоит утрировать мои слова. Я назвала ваши глаза мудрыми, но не старушечьими.
Ира устало откинула голову на спинку кресла:
– Ах, бросьте! Я не утрирую. Я сама все знаю. Недаром говорят, что глаза – зеркало души. Так и есть. Я могу выглядеть сколь угодно молодо, но куда денешь прожитые годы? Даже если они были самыми замечательными в моей жизни, они все равно оставляют в глазах отпечаток некоторой усталости. Даже нет, не так. Мне, собственно, и уставать-то было не отчего. Просто с возрастом из глаз исчезает наивность юности, любопытство молодости, жажда приключений. Наверное, именно от этого взгляд тускнеет и приобретает тот самый пресловутый отпечаток мудрости. Хотя мудростью там, уверяю вас, даже не пахнет. По крайней мере, конкретно в моем случае, в моем взгляде…
* * *
Ларочка вынуждена была признать, что после операции Ира стала выглядеть даже лучше, чем во времена ее же собственного расцвета. Некоторое время она воспевала неземную красоту подруги, не забывая, впрочем, каждый раз напоминать сумму, в которую Ирочке вылилось омоложение:
– Нет, подруженька, уверяю тебя: чтобы так выглядеть, не жалко и миллиона! А уж то, что ты заплатила – вообще дешевка! Такой результат многого стоит. Ты ж у нас теперь красавица!
Вроде и комплименты говорила, но выходило это у нее так, словно до операции Ира была сущей уродиной, к которой можно было испытывать разве что жалость, но уж никак не любовь, или хотя бы симпатию. И уж конечно, мол, безусловно стоило пожертвовать некоторой суммой, дабы перестать, наконец, пугать окружающих своим внешним уродством.
После пары месяцев восхвалений в Ларочкиных речах появилась новая интонация:
– Ой, Ирэнчик, ну честное слово, наглядеться на тебя не могу! Ну такая молоденькая, такая хорошенькая стала! Честное слово: была б я мужиком – влюбилась бы в тебя без памяти. Я уж за свою ориентацию опасаться начинаю – как бы не переметнуться в лагерь приверженцев однополой любви, настолько ты хороша стала. Вот смотрю на тебя и аж порой дух захватывает. А как Серега относится к твоему нынешнему внешнему виду?
Ира пожала плечами:
– Да никак не относится. А как он должен к нему относиться? Это все та же я, которую он миллион лет знает, как облупленную. Что во мне изменилось, кроме внешности? Да и та изменилась не столь уж кардинально. Все то же: и глаза, и нос, и подбородок, только морщинки исчезли…
– Ну не скажи! – возмутилась Ларочка. – Как это не сильно изменилась, как это не кардинально? Это он тебе сказал? Много он понимает в женщинах! Привык в железках ковыряться – вот и пусть себе ковыряется, а не рассуждает о женской красоте. Да он вообще когда на тебя последний раз смотрел-то? Небось, смотрит на тебя, а видит свои излюбленные железяки. И вообще я тебе вот что скажу, подруга. Он к тебе просто привык. Ты в нем из всех теплых чувств ныне вызываешь лишь ощущение чего-то привычного, обыденного. Может, и любил он тебя когда-то давным-давно, да всем известно, куда мужская любовь девается.
– Лар, ну ты что говоришь-то? Ты сама соображаешь? – возмутилась Ирина. – Да как это Сергей меня разлюбит, ну что ты выдумала?! Любит он меня, всегда любил, и любить будет всю свою жизнь. Он у меня однолюб. А что не говорит красивых слов каждый день – так мужики все такие. Это мы, женщины, народ эмоциональный. Это нам умолчать о своих чувствах тяжело. Да и то, надо сказать, со временем в словах надобность потихоньку отпадает.
Перевела дыхание, подумала мгновение. А что, собственно, есть привычка?
– Ну… В каком-то смысле ты, конечно, права. Да, чувства переходят в привычку. Но не в плохую, бесчувственную, а совсем даже наоборот. Ты думаешь, я ему о любви твержу с утра до вечера? Ничего подобного! Когда-то давно – да, частенько говорила. А сейчас особой надобности нет. Мы оба и без слов знаем, что любим друг друга. Зачем слова, когда в каждом слове, в каждом жесте чувствуешь любовь. Да что там слова да жесты? Я в его дыхании любовь слышу! А ты говоришь: «разлюбил, привык». Да, привык! И я привыкла! Но мы друг к другу привыкли так, что жить поодиночке теперь не сможем. Функционировать не будем, как если один организм разрубить на две части: в одной останется сердце, в другой почки. Вот тебе и привычка!
Ларочка понимающе покивала головой и сказала тихонько:
– Вот и я говорю: привычка. Она частенько любовь заменяет, а люди и не понимают этого…
С этих пор в разговорах подруг тема супружеской любви и привычки заняла одно из главенствующих положений. Ларочка села на своего конька. Как раньше она много месяцев кряду капала Ирине на мозги, вбивая мысль о том, что та выглядит просто ужасно, так теперь красной нитью проходила тема изжитости семейных отношений между Ирой и Сергеем. То Ларочка делилась подозрениями, что наверняка у Сергея появилась любовница, то она затевала старую, как мир, песню: «Он тебя не достоин».
– Ирочка, дорогая! Смотрю я на тебя, и сердце кровью обливается: ты ж у нас и красивая, и умная, и удачливая. Да ты ж не барахло какое-нибудь, ты ж заместитель руководителя огромного предприятия, а терпишь такое отношение к себе.
– Какое отношение? – искренне изумилась Ирина.
– Ну как какое. Вот только не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь! Господи, да козлу же понятно, что Сергей тебя разлюбил давным-давно! Живет с тобой сугубо по привычке, а может, просто лень разводиться. Это ж какие хлопоты: суд, алименты, размен квартиры. Ты ему нынче так, нечто наподобие мебели: должна быть рядом для удобства.
– Ну что ты мелешь?!
– А душа-то его явно не с тобой! Для души у него другая есть. Может, не так хороша, как ты, зато по-настоящему молодая и влюбленная. А ты ведь и сама не скрываешь, что все чувства давно превратились в привычку. Думаешь, он этого не чувствует? Чувствует, милая моя, еще как чувствует! Потому и нашел себе отдушину на стороне.
– Хватит! Прекрати!
Но Ларочку трудно было остановить. Войдя в раж, она не слышала никого вокруг, пока не выскажет свою мысль до конца:
– Да и вообще, какой мужик станет терпеть, что баба выше его на социальной лестнице устроилась, да еще и денег в дом тягает гораздо больше его самого? Ни один нормальный, уверяю тебя! Так что ваши отношения давно себя изжили. Только не вздумай от этого расстраиваться – тебе волноваться нельзя, а то швы разойдутся. Да и вообще от плохих мыслей новые морщинки могут появиться. Ты, главное, не принимай ничего близко к сердцу. Ты ведь его и сама уже давно разлюбила, только все боялась себе признаться, придумала дурацкую теорию о «хорошей» привычке. Привычка – она и есть привычка, и ничего хорошего для любви в ней быть не может! Не обманывай себя, признайся: ты его уже не любишь!
Уследить за ее логикой было нелегко. Начали, вроде, с обсуждения Ириной внешности. А тут уже выводы о том, что она не любит мужа.
А Ларочка тем временем взахлеб развивала свою теорию:
– Да и, в принципе, это вполне логично: на фиг он тебе нужен? Ты у нас кто? Царица, непревзойденная красавица, редчайшая умница, светская львица. А он? Ну кто он такой? Что он вообще из себя представляет? Мужлан в замасленной робе, провонявший соляркой! На кой хрен он тебе сдался? Зачем тебе терпеть рядом с собой это несостоявшееся ничтожество?
Ира не выдержала:
– Ну, знаешь! Пошла бы ты лучше поработала, что ли! Несешь околесицу!
– Я?! Околесицу?! Да я…
– Как тебе не стыдно? Ты же днюешь и ночуешь в нашем доме, ты же с нами и в будни, и в праздники! Ты прекрасно знаешь, что мы живем душа в душу, у нас прекрасные отношения. И я его люблю, и он меня любит. И Маринку он любит, он вообще замечательный муж и отец…
Ларочка обреченно махнула рукой:
– А, что тебе говорить, если ты попросту отказываешься взглянуть правде в глаза. Любит он тебя, как же. Вот как раз потому и говорю, что и будни, и праздники провожу в вашей семье. Кстати, спасибо, что так деликатно напомнила мне о моем одиночестве. Но уж лучше я буду одна, уверенная в том, что меня никто не обманывает и не предаст в любую минуту с лучшей подругой. А вот о твоей любви к супругу очень даже можно поспорить. Так, говоришь, любишь?
– Люблю, – твердо ответила Ира.
– Тогда почему так боишься взять его с собой на новогоднюю вечеринку? Это раньше у нас гуляли без законных половин, но ведь уже второй год приветствуется появление на вечеринке вместе с супругами. А ты сказала Сереге, что наши вечеринки давно перестали быть закрытыми?
Ирина опешила. Стояла молча, опустив глаза долу. Нет, она ему ничего не сказала. Она даже не думала, что об этом нужно ему сказать, что его нужно взять с собой на корпоратив. Не то, что не хотела идти с ним. Хуже того – она об этом даже не думала…
– То-то, – подвела черту под вопросами Ларочка. – А почему? Сказать или сама знаешь? Знаешь, конечно, только я все равно скажу, а то ты любишь прятаться от правды. Потому что ты его стесняешься. Разве нет? Ну как же ты, заместитель начальника, шишка на ровном месте, вся из себя такая молодая и красивая, выведешь в люди законного супруга: такого старого и малообразованного, с въевшейся грязью под ногтями. Все вокруг будут сверкать голливудскими улыбками и пахнуть Парижем, а твой законный – вонять машинным маслом. Все вокруг будут умные разговоры разговаривать, а твой Сереженька ни в чем, кроме железок, не разбирается. Ну возрази мне, скажи, что я не права и вообще не справедлива к твоему супругу. Ну скажи, что тебе совсем не стыдно за него, что ты гордишься его успехами в сфере исправления дефектов в тормозной системе автомобиля! Честно признайся, и я таки пойду работать.
Ирина промолчала. Да, все это правда, ей действительно было несколько неловко за супруга перед знакомыми, а тем более сослуживцами. Да, стыдно было за его грубые руки, за въевшуюся черноту машинного масла в кожу вокруг ногтей. Насчет того, что соляркой провонял, можно было поспорить, однако, хоть и принимал Сергей каждый день после работы душ, как ни старался истребить «рабочий» дух, а все одно, пусть едва заметный, но «флер железа» впился в его тело, казалось, насмерть. Ира не скупилась на дорогой парфюм для супруга, однако смесь «Парижа» с металлом давала отнюдь не лучший аромат, а потому Сергей нечасто пользовался туалетной водой. Вот дезодоранты и лосьоны после бритья употреблял с явным удовольствием, и Ирина обожала прижиматься к щеке мужа, когда, побрившись и воспользовавшись лосьоном, он выходил по утрам из ванной такой весь свежий и сияющий. Не скрывала своей любви дома, а вне его – действительно стеснялась. Да, она – очень видное лицо в их тресте, у нее завидное положение и очень неплохая (если немножко поскромничать) зарплата. И сама она такая молодая, такая интересная! На нее даже юноши заглядываются, что уж говорить о более зрелых мужчинах. А Сергей рядом с ней смотрится действительно не лучшим образом. Нет, он сам по себе мужчина довольно видный: крепкий, здоровый, вполне симпатичный мужик. Но ведь именно мужик! Она – утонченная дама, а он – мужик, простой мужик! Не украшал он собою Ирину, вот в чем дело. Был не достаточно хорошим фоном для нее…
* * *
Ирина вновь замолчала. Молчала и попутчица, не настаивая на продолжении исповеди, не торопя события. Исповедь хороша, когда человек сам стремится выплеснуть из себя эмоции, а под давлением извне – это уже совсем другая история, там бывает много придуманного. Или, по крайней мере, там будет не вся правда.
Самолет по-прежнему гудел ровно и надежно, не пугая пассажиров посторонними шумами и вибрациями. Облака уже почти не встречались, и теперь ничто не скрывало далеко внизу изумрудно-зеленый ковер леса, изредка исчерченный голубыми прожилками речушек. Солнце било в глаза слишком ярким светом, и Ира раздраженно прикрыла иллюминатор белой пластиковой шторой.
– Понимаете, я уже тогда предала его, уже тогда изменила. Я должна была послать Лариску подальше со всем ее философствованием, должна была угадать ее мысли, а я, как последняя дурочка, попалась на ее крючок. Она так упорно капала мне на мозги, что я вполне серьезно стала задумываться о том, что наши с Сергеем отношения себя изжили…
* * *
Тем временем в тресте появился новый служащий. Нельзя сказать, что новички в тресте случались редко, вовсе нет: как и везде, одни люди уходили, их вакансии занимали новые сотрудники. Иногда в связи с расширением деятельности фирмы создавались новые рабочие места. Так и появился у них Вадим Черкасов, на вновь созданную должность менеджера-маркетолога.
Его появление в управлении стало своего рода сенсацией. Еще бы, такого красавчика в кино-то нечасто увидишь, не то, что воочию. Несмотря на всю красоту, чувствовалась в Вадиме какая-то искусственность: и в самом деле, ну не бывает в жизни таких красавцев! Это только в дешевых любовных романах все герои (или, по крайней мере, самые главные действующие лица) обладают столь поразительной красотой, а жизнь обычно красоту неземную старается приземлить, прикрыть каким-нибудь, хоть малейшим, недостатком или физическим дефектом. В данном же случае Истинная Красота праздновала торжество победы над природой: Вадим был красив, как Апполон, Нарцисс и юный Филя Киркоров, взятые вместе, так сказать, «три в одном флаконе». Было в нем все, «как положено»: если уж рост – то под метр девяносто, если глаза – то непременно самые крупные и блестящие маслины, ресницы – естественно, невероятно длинные, пушистые, и, как у юной девственницы, кокетливо загнутые. Кожа – чистый атлас, волосы – как в рекламе французского шампуня, фигура – как у атлета. В общем, просто нереальный красавец.
Красота его от Ириных глаз не ускользнула, но именно по причине «чересчур» вызвала, скорее, неприятие. Остальные же сотрудницы буквально падали в обморок и аккуратненько укладывались штабелями. Ларочка Трегубович, естественно, оказалась у его ног первой. «Писалась» перед ним буквально кипятком, так, что казалось, пар заметен невооруженным глазом.
Давно уже перестав особенно заботиться о собственной внешности (внешность подруги порой значила для нее гораздо больше), с появлением в коллективе Черкасова Ларочка вновь начала экспериментировать над собою. Зачесывала свои шикарные волосы то направо, то налево, то назад – предмет вожделения не фиксировал на ней взгляд. Меняла юбки на брюки, брюки на платья, платья на костюмы – с тем же успехом. Смена цвета волос желаемого результата опять же не принесла, так же, как и эксперименты с цветом губной помады и лака для ногтей. Все Ларочкины ухищрения оставались напрасными, и она вдруг вспомнила давнишние слова Ирины о том, что слишком пушистые и объемные волосы делают ее тщедушную фигурку непропорциональной. Впервые в жизни послушалась совета подруги, но состригать свою гордость не решилась, зато заплела волосы в косу. С одной стороны, голова действительно перестала казаться столь огромной, зато теперь на первый план вылез хищный острый нос, да и уши оказались совсем не маленькими, о чем Ларочка даже не подозревала. Так что волосы опять пришлось распустить.
Проходили недели, летели месяцы, а Вадим по-прежнему не обращал на Ларочку ни малейшего внимания. На остальных страдающих сотрудниц, впрочем, тоже – за пять месяцев работы в новом коллективе, где совсем уж не было недостатка в женщинах, Вадим не запятнал себя хоть сколько-нибудь близкими отношениями с кем бы то ни было. При этом он не выглядел высокомерным или слишком переборчивым: со всеми офисными девицами общался ровно, одаривая каждую довольно приветливой, однако ничего не обещающей улыбкой. Со стороны даже казалось несколько странным, как столь молодой, интересный, неженатый мужчина, окруженный со всех сторон ко всему готовыми девушками разной степени молодости, умудряется длительное время не связывать себя ни с одной из них.
Постепенно кокетки разочаровались в Черкасове: быть того не может, чтобы ни на кого из них глаз не положил! Или умело скрывает, или… Как ни приглядывались, ни намека на скрытую влюбленность не обнаружили. Ага, значит, все-таки, «или». Так вот где собака порылась! То-то он так хорош, пожалуй, слишком красив для гетеросексуала!
И с еще большим усердием и воодушевлением неудовлетворенные самки стали выискивать в Черкасове признаки нетрадиционной сексуальной ориентации. И тут опять случился прокол: ни характерных для сексменьшинств ужимок, ни томных взглядов в сторону мужской половины сотрудников треста засечь не удалось. И тогда оскорбленные невниманием красавца дамочки решили: не мужик. А как иначе можно было объяснить, что ни с одной из них не захотелось Вадиму испытать кусочек любви и блаженства. Импотент, как пить дать – импотент!
Сначала Ларочка в беседах с Ириной без конца пела оды Вадиму: ах, он такой красивый, такой мужественный! Ах, посмотри, какие у него красивые глаза! А какой рот, какой чувственный изгиб губ! Ах, можно представить, как сладки его поцелуи. А руки, какие у него ухоженные, холеные руки, и как, должно быть, умело они ласкают женское тело…
– Нет, Ир, серьезно. Ну ты только посмотри на него. Это ж сказка, а не мужик! Жаль, конечно, что слишком молод – хм, двадцать пять против моих сорока одного, но это же такие мелочи, верно? Да и вообще, я теперь поняла. Наверное, в жизни каждой женщины приходит время, когда ей хочется видеть рядом с собой не старпёра какого-нибудь, а молодого, здорового парня. Я бы даже выразилась более грубо, но точно: хочется свежего мяса! А? Что скажешь? Как тебе моя теория?
Ирине Ларочкина теория не слишком понравилась:
– Лар, ну ведь глупости говоришь. Лучше подготовь мне документы по «Скай-городу». Какое свежее мясо? Это мужики-пенсионеры себе девочек молоденьких под таким лозунгом разыскивают, но ты-то, ты? Да ты ж посмотри на него, разве он на мужика похож? Так, красивая кукла мужского рода, этакий сувенир из Африки, китайский болванчик: поставь его на сервант и любуйся неземной красотой. Нет, лично меня он не привлекает: слишком, я бы даже сказала, тошнотворно красив. Да и молод тоже слишком. Даже если твоя теория насчет каждой женщины верна, значит, я еще не вступила в этот клуб – мне пока не хочется свежего мяса, меня вполне устраивает Сергей.
– Ага, – тут же парировала Ларочка. – Он тебя так устраивает, что ты прячешь его от всех своих знакомых. Тебе просто жутко неловко перед ними, что у тебя, такой образованной и утонченной, такой простецкий парень в мужьях ходит, а в остальном – без сомнения, он тебя вполне устраивает!
Ирине оставалось только промолчать.
Позже в речах Ларисы появилась прохлада, спустя еще некоторое время и вовсе зазвучало презрение:
– Фу, он точно «голубой»! Ну где ты видела нормального мужика, способного отказаться от шары? Нет, ну ладно, Олька Ерюкова ему не понравилась, Жанна – тем более, тут я его очень даже понимаю – кому они на фиг нужны? За Светку Буткову я вообще молчу – эта и даром, и за деньги никому не понадобится. Но он ведь даже на меня не реагирует! Ты представляешь – я ему и так улыбалась, и этак, и юбочку поддергивала покороче в его присутствии, и аппетитно наклонялась, «ненароком» уронив ручку. Да тут мертвый бы из могилы восстал, а этот – ни гу-гу. Как пить дать – «голубой». Фи, мерзость какая! Представляешь, эту замечательную попку не бабы ласкают, а… Фу, гадость какая! Даже говорить и то противно, представить так и вовсе страшно…
Потом Ларочка вообще словно позабыла о существовании Черкасова. Опять в разговорах с Ирой вертелась вокруг одной темы: насколько Сергей неподходящая для Ирины пара. Вскоре же в эту тему как-то незаметно, как будто совершенно органично, вплелась свежая струйка:
– Хм, знаешь, Ир, я что-то стала замечать, что Черкасов зачастил в сторону дирекции. С чего бы это?
Сначала это была даже не струйка, а так, отдельные капельки, как морось: кап на мозги, кап… Постепенно морось усиливалась: кап, кап, кап, кап, кап… И вот из отдельных капель возник тоненький пока, неуверенный ручеек, и не капал уже, журчал, пусть тихонько, но живенько так, свеженько, весело:
– Ой, подруженька, ошиблись мы. Какой же он «голубой»? Нет, дорогая моя, там ни грамма «голубизны», ни синего, ни фиолетового нет. И насчет импотенции, пожалуй, бабьё наше поторопилось. Ох, что-то будет… Он на дню раз десять забегает, якобы факс отправить, а сам глаз от твоего кабинета не отводит. Я уж переживаю, как бы бабьё не заметило, а то косточки тебе живо перемоют…
Утверждать, что для нее это было новостью, Ирина бы не решилась. Только уверенности пока не было, но и сама заметила участившиеся визиты Черкасова. Мало того, что зачастил в приемную, все какие-то бумажки таскает, якобы его факс вдруг отчего-то перестал работать. Так ведь и на самом деле глаз от нее не отводит. Ира не раз уже ощущала на себе его пристальный взгляд из-за открытых жалюзи. Ее кабинет, как и кабинет генерального, от приемной был отделен лишь стеклянной стеной. Шефу понравилось, что в Америке мало у кого кабинеты закрытые: все должно быть на виду, каждую минуту он должен видеть, работает человек или ерундой мается, вроде и повесил жалюзи на стеклянные стены, да закрывать их позволил только на время обеденного перерыва. Справедливости ради следует заметить, что и в своем кабинете он крайне редко закрывал жалюзи, однако для Ирины это было слабым утешением: за стеклянной перегородкой она чувствовала себя рыбкой в аквариуме, существующей сугубо ради того, чтобы радовать глаз хозяина ярким оперением плавников и хвоста. Утешало одно: приемная у Ирина была своя, пусть не такая большая, как у генерального, зато отдельная, а потому навязчивый взгляд начальства не мурыжил ее с утра до вечера. Правда, сама приемная от общего коридора тоже отделялась всего-навсего стеклянными перегородками, но, так как на всех стеклах висели жалюзи, в итоге выходило, что от посторонних глаз Ирина была слегка прикрыта вроде как легкой дымкой. Хотя, конечно, если внимательно посмотреть, без особого труда можно различить, чем занимается хозяйка кабинета в данную минуту.
Некоторые перемены в поведении Черкасова не сразу ее насторожили. Однако уже довольно скоро Ирина поняла, что назойливое его внимание адресуется не секретариату, а конкретно ей. Сие открытие ее не порадовало, а лишь вызвало раздражение: на кого ты, малолетка, глаз положил? Единственное, что она испытывала по отношению к нему – это неприязнь. То глухая, то яростная, она непременно захлестывала ее при одном взгляде на юного красавца. Все в нем было слишком вызывающим: и манера одеваться, позаимствованная из последних журналов мод, и идеальная укладка постриженных по последней моде волос, и лощеная, вечно чему-то радующаяся физиономия. Нет, ну правда, к чему поверх стильного дорогого костюма вешать под лацканы яркое кашне, вроде он не маркетолог на работе, а как минимум заслуженный артист, в силу юного возраста не успевший еще получить гордое звание народного, на приеме в его честь по случаю вручения престижной международной награды. Это Олег Меньшиков, например, в таком прикиде смотрится вполне органично, а Черкасов в том же одеянии выглядит, как напыщенный павлин. А волосы?! Он же, как кокетливая дамочка средних лет в паническом страхе от приближающейся старости, делает укладку в модном салоне два раза в неделю! Ручки наманикюренные, только лака на ногтях не хватает.
Мало того, что он появлялся в приемной по нескольку раз в течение рабочего дня. Нередко Ирине приходилось сталкиваться с ним непосредственно по производственным вопросам, так как она, как уже было сказано, занимала должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам, а Черкасов занимался ничем иным, как продвижением товара и услуг, предоставляемых фирмой, на рынок. Кстати, маркетологом Вадим оказался на редкость толковым: в голове у него роилось множество свежих идей и каждую из них он излагал Ирине, как вышестоящему начальству. К каждой такой встрече готовился загодя, и у Ирины возникало стойкое ощущение, что каждый свой визит к ней Черкасов репетировал не по одному часу перед зеркалом: настолько гладкой и связной была его речь, причем, он всячески старался использовать не обиходные слова, а мудреные к ним синонимы, или же английские или французские аналоги, стремясь выложить перед начальницей весь свой интеллектуальный багаж на золотую тарелочку, как высший дар покорительнице сердца. Вдобавок ко всему, свои напыщенные речи подтверждал графиками и схемами. О, это были не просто графики, не просто схемы. Казалось, перед представлением вышестоящему начальству он вылизывал их языком – настолько гладенькими, чистенькими, вылощенными они были. Если была хоть малейшая возможность украсить схему каким-нибудь спецэффектом, Черкасов непременно ее использовал, применяя для этого все компьютерные возможности, всяческие тени да объемные изображения, прочие эффекты. Единственное, до чего он пока не додумался, так это заламинировать огромную схему формата А1.
В то же время Ирина была вынуждена констатировать: в Черкасове не было ни грамма жеманства. Все, что он делал, было для него нормой, а вовсе не предназначалось для игры на публику. Просто это была его натура: слишком тщательно следить за собой, слишком тщательно готовить устные и письменные отчеты о проделанной работе, слишком тщательно облекать свои мысли в графические изображения. Все слишком тщательно, все слишком продуманно.
Во время этих производственных встреч Ирина старалась спрятать подальше свои негативные эмоции к посетителю и общалась с Черкасовым ровно, как и с любым другим сотрудником. Однако в душе испытывала неуют и полнейшую антипатию.
* * *
А в душе Ларочки Трегубович, внешне всегда такой спокойной и рассудительной, бушевал ураган страстей. Целыми днями она мило улыбалась своей подруге, а теперь еще и непосредственной начальнице, шелестела легким ветерком в вышестоящие уши море комплементов, всячески старалась угодить: «Ах, Ирочка, ты так замечательно выглядишь, ты такая умница – смотри, как у тебя все ладно получается, а красавица какая, да ты ж моя дорогая подруженька, да я за тебя в огонь и в воду полезу не мешкая!» И в глазах при этом светилась такая откровенность, такая преданность!
Все менялось, когда Ларочка закрывала за собою входную дверь квартиры, оставаясь в одиночестве. Правда, в полном понимании этого слова одной она не оставалась уже несколько лет: Софья Витальевна, перенесшая смолоду несколько неудачных беременностей, плюс многолетнее лечение гинекологических проблем, постарела очень рано и как-то даже вдруг, в одночасье. Уже в пятьдесят лет она вовсю охала и ахала, кряхтела, с трудом преодолевая преграды в виде лестниц, вскорости же и вовсе слегла. До туалета, правда, пока еще добиралась самостоятельно, но этот процесс давался ей все тяжелее, и Ларочка с ужасом ждала, что сил материнских на это скоро вовсе не останется, ведь и возраст уже довольно приличный – как ни крути, а семьдесят пять еще в прошлом году сравнялось. И тогда… Страшно подумать, что будет тогда.
Впрочем, материнское присутствие ее не тяготило. То есть ей, конечно, надоело обслуживать беспомощную старуху, но замечала дочь ее присутствие только тогда, когда мать просила о помощи. Все остальное время она просто не обращала на старушку внимания: ну, лежит там что-то на кровати, охает, ворочаясь с боку на бок. Дерево вон за окном тоже охает, поскребывая стекло старой развесистой веткой, так что ж, внимание на него обращать, вздрагивая каждый раз?
Ларочка разделась, привычно зашвырнув джинсы вместе со свитером на полку шкафа. Опять же привычно подумалось: хвала тебе, Леви Страус, за такое чудесное изобретение! Достаточно постирать раз в три месяца и один раз погладить, зато потом – красота – ни вешать, ни складывать не обязательно: хоть комком бросишь, никакого особого ущерба штанам не доставишь. Свитер – тоже штука удобная, а то придумали – пиджаки, блузки шелковые. Да они пробовали хоть раз эти блузки в порядок привести? То-то, небось, все услугами химчистки пользуются, а ей, Ларочке, такая услуга кусается. С ее-то секретарской зарплатой все самой делать приходится. Попробовала было походить на работу в костюмах да платьях, на такие жертвы пошла ради этого малолетнего красавчика Черкасова, а он, подонок, даже внимания на нее не обратил, ублюдок!
Это Ирка, сука такая, здорово в жизни устроилась – ни хрена ей делать не нужно, живи да радуйся. Машина утром приедет, заберет на работу, вечером вернет обратно в лучшем виде. Разве что по дороге остается забежать в супермаркет да набрать полуфабрикатов, дома сунуть в микроволновку – и ужин готов. И за матерью ухаживать не надо: она у нее, как бык, здоровая! Нет в мире справедливости, нету!!! А тут как лошадь загнанная – утром в забитом транспорте, вечером не легче. Да по магазинам пробегись, сообрази чего подешевле – чай, на секретарскую-то зарплату не слишком разгуляешься.
От привычных мыслей об отсутствии в мировом устройстве коммунистической справедливости захотелось выть в голос, однако, сцепив зубы, Ларочка лишь резким движением ноги зафутболила тапочек. Хотела попасть в стену, да он, мерзавец, отскочил и улетел глубоко под диван.
– А, чтоб тебя, твою мать! – заорала Ларочка благим матом и полезла за тапком.
Софья Витальевна заворочалась на кровати:
– Ларочка, деточка, не смей так выражаться, ты же не пьянь подзаборная, ты же у меня образованная, интеллигентная девочка.
– А не пошла бы ты подальше, старая хрычовка, – беззлобно, скорее по привычке, нежели от негодования, заявила интеллигентка, отряхивая слой пыли с острых коленок. Про себя подумала: пожалуй, пора заняться уборкой, а то пыль скоро в жгуты завьется.
Софья Витальевна обиженно поджала губки:
– Разве я тебя учила таким словам? Как тебе не стыдно, деточка…
– Да заткнись ты, воспитательница хренова, достала уже, – все еще беззлобно ответила Ларочка. Однако чувствовала – истерика на подходе, хорошо бы мать догадалась и умолкла в своей берлоге.
Не тут-то было – старушке устала от молчания и теперь, дождавшись, наконец, любимое дитятко с работы, возжелала общения:
– Какая же ты бессовестная, Лариса Трегубович! Слышал бы отец, как ты с матерью разговариваешь! И это после того, как я четырнадцать лет тебя рожала, как на руках носила, как грудью кормила. А ты?! Такая она, твоя благодарность, да? Бессовестная…
Дитятко не пришлось долго уговаривать, Лариса завелась с пол-пинка.
– А какого хрена ты меня рожала? Я тебя об этом просила? Ты не задумывалась, почему у тебя четырнадцать лет не получалось родить? Да потому, что тебе нельзя было иметь детей!!! И за что я тебе должна быть благодарна? Ты, гнида, в зеркало на себя смотрела, когда рожать меня надумала? Ты соображала, какого уродца в себе носишь? За что я тебя должна благодарить? За этот нос, за эту кожу? За уши лопоухие, за фигуру корявую? Это ты, ты во всем виновата! А теперь лежишь тут, раскорячилась, отдыхаешь от трудов праведных, обслуживай ее еще. Хорошо устроилась, не находишь? Зараза старая, сколько я могу за тобой ухаживать? Вставай давай, хватит на печи вылеживаться! Мне и без тебя хлопот хватает, я тружусь, как пчелка, это ты должна обо мне заботится, это ты должна меня кормить и обстирывать! Это ты – мать, а матери обязаны детям помогать. А ты, ты… Хрычовка, старая, противная хрычовка, ненавижу тебя! И заткнись, слышишь, заткнись, гадина, слышать тебя не могу!
Выплеснув все эмоции, накопившиеся со вчерашнего вечера, Ларочка расплакалась, как обиженное дитя. Нельзя сказать, что подобная сцена была чем-то из ряда вон выходящим в их доме. С тех пор, как Софья Витальевна слегла, такие сцены происходили с завидной регулярностью. Сначала это были единичные всплески негативных эмоций, но в последнее время истерики происходили практически каждый день. Сценарий был отработан до мелочей: сначала мать цеплялась к какому-нибудь слову, к сущей ерунде, иногда, впрочем, старушка возмущалась и по делу, Ларочка непременно огрызалась, даже не пытаясь сдержаться, крыла мать благим матом, после чего плакала, а старушка просила у обиженной дочери прощения. Сегодняшняя сцена полностью укладывалась в этот сценарий. Вот и сейчас, заметив слезы на лице дочери, Софья Витальевна, поджав обиженно губы, спрятала обиду глубоко внутрь – она понимала, как нелегко приходится дочери, и вообще, в ее нынешнем зависимом состоянии она должна быть благодарна дочери.
– Прости меня, детка, я погорячилась. Разве ж я виновата, что некрасивая? Меня такую мать родила, и мне родить хотелось. Да ты ж у меня совсем и не некрасивая, ты у меня очень даже миленькая. И носик вполне приличный, а горбинка ему только пикантности придает…
– Пошла ты со своей пикантностью, – уже спокойнее огрызнулась Ларочка.
Мать словно и не заметила реплики:
– Зато какие чудные у тебя волосики – тебя ж за одни волосы полюбить можно. И не расстраивайся, еще ничего не потеряно, и на твоей улице будет праздник – найдется твой принц заблудившийся, никуда он от тебя не денется…
– Ага, – парировала Ларочка. – Обязательно найдется. Только мне к тому времени лет восемьдесят стукнет и я уже давно буду покоиться на кладбище. Да и не нужны мне те принцы, ни один из них мизинца его не стоит…
– Забудь! Не смей даже и думать! Он чужой, не смей разбивать семью!
Ларочка усмехнулась:
– Много ты, старая, понимаешь! Ты вот в таблетках лежи, разбирайся, а со своей личной жизнью я как-нибудь без тебя управлюсь – без твоих соплей скользко. «Чужой». Это он дома чужой, для родной жены чужой. Только, глупый, никак не может этого понять. Ну ничего, я объясню, я все всем объясню!
* * *
Сергей проснулся, как обычно, за пять минут до звонка будильника. Он и сам не понимал, каким образом это ему удается, но практически каждое утро на протяжении многих лет опережал противный зуммер дряхленьких настольных часов ровно на пять минут. И тем не менее, каждый вечер непременно вновь и вновь заводил будильник, уверенный в том, что его звонок ему, как всегда, не понадобится. Заводил на всякий случай: а вдруг проспит, а вдруг в этот раз не проснется вовремя, и тогда Ира опоздает на работу. А ей опаздывать никак нельзя – негоже начальству опаздывать, задерживаться можно, а вот элементарно проспать и из-за этого опоздать – никак не годится.
Прошел в ванную, умылся-побрился и вернулся в спальню.
– Ириша, вставай, милая, пора, – нежно поцеловал ее обнаженное плечо, выглядывающее из-под одеяла. Знал – супруга терпеть не может просыпаться от резкого звонка будильника, зато после такой нежной «побудки» просыпается радостная и бодрая.
Ирина сладко потянулась в постели и улыбнулась. У Сергея защемило сердце: до чего же она у него хороша! Даже сейчас, еще не совсем проснувшаяся, с припухшими после сна глазами, взъерошенным ежиком волос и морщинкой от подушки, разрезавшей щеку пополам. Может, и не настолько красива, сколько… Сергей задумался, подыскивая подходящее слово. Родная. Вот. Вот то единственное слово, которое ассоциировалось в его мозгу с женой. Именно родная. Его не вдохновляла ее красота, да он и не был уверен, что она у него именно красива. Красота в его понятии – нечто возвышенно-прекрасное, нереальное, почти неживое, и уж, по крайней мере, непременно чужое и холодное.
Ирина же привлекла когда-то его внимание своей миловидностью и естественностью. Вернее, сначала была боль. Сергей усмехнулся про себя. Он обожал вспоминать их знакомство. Боль давно прошла, остались шутки-прибаутки о том, как она заехала ему «кулаком прямо в мужскую душу», веселые подколки, и… тихая радость, что когда-то ему «непосчастливилось» подставить себя под удар незнакомке. И все эти годы радость сопровождалась страхом: а что, если бы не он оказался тогда крайним справа, а Олег или Володька. Что, если бы Ира заехала кулаком не в его «мужскую душу», а в Вовкину. Означало бы это, что ныне она была бы Володькиной женой, а он, Сергей, так и остался бы на обочине жизни, и мыкался бы по сегодняшний день один, неприкаянный?
Мысли роились в голове автономно от тела. Тело в это время жило своей жизнью, привычно суетясь в поисках чистых носков и рубашки, выставляло загодя из холодильника сливочное масло к завтраку, чтобы немножко подтаяло, будило Маришку в школу. Иногда Сергей сталкивался с Ириной в дверях спальни, иногда налетали друг на друга в утренней сутолоке в нешироком коридорчике между прихожей и кухней. Иной раз после столкновения Сергей чмокал супругу в непричесанную еще макушку, иногда Ирина шутейно пихала его локтем в бок: мол, не мешай, пропусти, не путайся под ногами! Но все это происходило с такой любовью в глазах, с таким задором, что Сергею и в голову не приходило обижаться. Он мигом подхватывал игру и тоже начинал легонько отталкивать супругу, и толкались они так в узком проходе до тех пор, пока недовольная, по обыкновению невыспавшаяся Маришка ни пыталась протиснуться между ними, бурча возмущенно: «Не наигрались еще? Как дети малые!» Родители со смехом разбегались в разные стороны, вспомнив о том, что опаздывают, однако настроения это не портило, и весь дом, казалось, был пропитан этим радостным духом любви и семейного уюта.
Сергей никогда не говорил Ирине красивых слов. Никогда не признавался в любви. То есть, он-то, конечно, признавался, но давно, в пору далекой юности, когда они еще не были женаты. После свадьбы же, полагал, эти объяснения уже никому не нужны: коль уж он на ней женился, стало быть, любит, и к чему сотрясать воздух лишними словами. И не догадывался, что для Ирины эти слова вовсе не лишние. Мужчинам невообразимо сложно понять, что творится в загадочной женской душе, что им вообще нужно и из чего они сотворены. Не понимал и Сергей, почему периодически Ирина задавала ему идиотский на его взгляд вопрос:
– Сереж, ты меня любишь?
Пожимал плечом, удивляясь бестолковому вопросу:
– Конечно…
И не понимал, что своим ответом обижает супругу. Немножко, самую малость, но все-таки обижает. Не такого безразличного ответа она от него ждала. Женщинам зачастую недостаточно ощущения любви: пусть даже она абсолютно уверена в том, что любима, но ей хочется услышать эти слова, и отнюдь не в контексте «конечно, только отстань». Ей мало поступков, ей непременно нужны слова, ведь никто еще не отменял правило «женщина любит ушами»! Но далеко не все мужчины это понимают. Не понимал и Сергей.
А ведь любил искренне. Правда, не задумывался об этом, никогда не раскладывал свои чувства по полочкам. Просто знал, что без Иришки ему – никуда, только в петлю или в полынью. Потому что без нее незачем будет просыпаться по утрам, некого будет будить поцелуем в теплое нежное плечо. Потому что… Просто потому, и точка.
Сергей недоумевал, когда слышал где-нибудь брошенную огульно в адрес всех мужчин фразу: «Они все такие». Имелось в виду, что все мужики сволочи, изменники и вообще кобели. Все эти бесконечные споры о том, что, дескать, мужики по природе своей полигамны, а женщины, напротив – моногамны. И все россказни о том, как в пору неандертальцев и троглодитов самцы обслуживали многих самок с целью дать продолжение роду, самки же держались за одного, как за кормильца, с целью выжить, лишь раздражали его, а уж никак не убеждали в правоте. Напротив, у него это вызывало стойкий протест: чушь какая, наоборот именно самки, неважно, разумные ли существа или же простые представительницы фауны, интуитивно заботятся о появлении здорового потомства. А мужики… у них все просто: бери, где можно, пользуйся щедротами матушки-природы! И не от большого, на взгляд Сергея, ума, и не от природы, а сугубо из дурости и личной распущенности. И неправда, что все мужики такие! Ведь он, Сергей, совсем не такой, а изгоем из мужского племени себя не ощущает. Так же, как не ощущает себя и ущербным. Какой же это ущерб, если из всех женщин мира ему нужна одна. Для того чтобы чувствовать себя полноценным мужчиной, на его взгляд, совсем не обязательно доказывать свою мужскую состоятельность с каждой встречной самкой. Вот как раз самки его и не прельщали, а женщину он знал одну – свою законную половинку, Иришку. Вся остальная женская часть населения земли делилась либо на самок, либо на бесполых существ, и ни первая, ни вторая категория ни в малейшей степени его не привлекала.
Причем нельзя сказать, что такие мысли и чувства сложились в голове Сергея вынужденно, под гнетом сложившихся обстоятельств: мол, подсунула судьба одну женщину, а других не показала. Глупости какие! Да будь у него желание, всегда можно было бы найти приключение на стороне. Чего далеко ходить – на их станции техобслуживания работала очень аппетитная бабенка. Правда, гараж – не самое подходящее место для красивой женщины, но так уж случилось, что Женьку в жизни привлекали только железяки. Ей бы мужиком родиться, вон, даже имя ей родители мужское дали, так нет же – угораздило девкой на свет появиться, как будто не смогла в материнской утробе наскрести плоти на лишний пальчик, и всю жизнь расплачивается за такую вот телесную экономию. И девка сочная да видная, ей даже рабочий комбинезон к лицу. И нельзя сказать, что из-за мужской своей профессии превратилась в бесполое существо, ведь по ухоженным ручкам в жизни не догадаешься, что их обладательница занимается в этой жизни исключительно замасленными железом. А как она посматривает в сторону Сергея! Уже все мужики заметили ее неравнодушные взгляды, эта тема давно стала дежурной шуткой в их гараже, да и Сергей – не дурачок, давно понял смысл призывных Женькиных взглядов. Только, несмотря на ее привлекательность, в глазах Сергея она прочно занимала нишу бесполых существ, так как к разряду самок ее отнести было бы просто нечестно.
Нет, не случайно судьба столкнула его с Иришкой, совсем не случайно. Сергей был уверен, что именно Ира – его настоящая половинка. И поэтому ему не было важно, красива ли она, или только симпатична, или даже не слишком симпатична. Она была мила, бесконечно мила, и только это было главным. Сергей искренне недоумевал, когда супруга вдруг надумала подвергнуть себя жутким, на его взгляд, страданиям ради мифического омоложения. Если честно и откровенно, он даже и не заметил особых перемен в ее внешности после вмешательства хирургов. Единственная существенная разница была в прическах – раньше у Иришки были волосы до плеч и по утрам они бывали слегка запутаны. Теперь же Ира носила очень короткую стрижку, и, едва проснувшись, бывала похожа на перепуганного воробышка: волосы во время сна заламывались на одну сторону и торчали в полнейшем хаотическом беспорядке. Впрочем, отторжения у Сергея эта прическа не вызывала, скорее, благодаря ей он испытывал к жене еще более нежные чувства, как к вечному ребенку. Иногда он представлял, как было бы забавно, если бы в таком виде ее увидели на работе, и весело улыбался своим мыслям: строгая начальница в образе ощипанного воробья! Он знал, что Иришка у него самая разумная, самая образованная, что справится с любым, самым сложным заданием, знал и гордился этим, но все-таки никак не мог представить ее в роли строгого заместителя генерального директора строительного треста. Какая же она строгая, какая же она заместитель директора, ведь это просто его жена, его Иришка. Его милая, невзрослеющая девочка…
* * *
Вадим вычерчивал очередной график. На работе не успел, вернее, сделал лишь компьютерную версию, но на стандартном формате А4 график выглядел не слишком впечатляюще, а потому пришлось взять работу на дом. Ведь на десять часов утра у него была назначена аудиенция у Русаковой, а прийти к ней недостаточно подготовленным Вадим никак не мог себе позволить.
Из-под фломастера выходила четкая фиолетовая линия, показывающая, как за прошедший квартал изменился процент продажи элитного жилья, построенного их трестом. После этого Вадим начал рисовать малиновую линию, обозначающую предположительный рост на будущий квартал при условии, если будет принят к работе его проект рекламы. С этой линией было сложнее, ведь процент только ожидался, а потому рисовать его следовало не сплошной линией, а пунктиром. Но как попало рисовать пунктир Вадим не мог – с детства был приучен делать все на совесть, выверено и четко, а потому вырисовывал штрихи по линеечке: пятнадцать миллиметров сплошная линия, три с половиной миллиметра разрыв, и снова пятнадцать миллиметров сплошной линии. Можно было бы сделать разрывы побольше, можно было даже сделать их равными штриху, но в целом линия не выглядела бы тогда столь эффектно и стильно. Конечно, он еще столкнется с трудностями, когда начнет накладывать тень на пунктирные штрихи, ведь в три с половиной миллиметра разрыва ее сложно будет убедительно врисовать, зато эффект обещал был достойным, а именно это и было главным – произведенный эффект.
Вадим получил образцовое воспитание. Папа, Николай Вадимович, – высший офицер, как сам себя любил именовать (не полковник, не генерал-майор, которым стал восемь лет назад, а именно высший офицер, причем ударение ставилось на слово «высший»). Отсюда – четкость действий и ответственность за принятые решения, исполнительность и обязательность. Мама… Мама. От мамы он получил, пожалуй, большую половину качеств, нежели от отца.
Мама была Черкасовой, как Вадим и отец. Официально выйдя замуж, она взяла фамилию мужа. Девичья же ее фамилия – Видовская. Знакомая фамилия? Да-да, человек с хорошей памятью тут же вспомнит хорошенькую блондиночку, томным голосом напевающую «Зеленые листья, как изумруд, в солнечном свете сияют». Да, все верно: Паулина Видовская, та самая Видовская – его мама. Со всеми вытекающими обстоятельствами.
Паулина с детства двигалась к цели, а целью себе она назначила ни много ни мало – Музыкальный Олимп. Да, именно так. С большой буквы, с большим пафосом: Музыкальный Олимп.
Не ребенок – чистая куколка, белокурый ангелочек. Вдобавок к очаровательному личику девочка обладала еще и вполне неплохим голосочком. А потому с раннего детства ей отводилась роль украшения семейных праздников: в разгар вечеринки, как водится, родители выставляли в центре гостиной табуретку, на которую торжественно ставили свое белокурое сокровище, и тихо рдели от гордости, когда подвыпившие гости восторженно аплодировали юной певунье.
В школе с самого первого класса Паулина участвовала в художественной самодеятельности, уделяя этой сфере гораздо больше внимания, нежели непосредственно учебе. Родители не возражали – ребенок действительно добивался некоторых успехов на этом поприще, так зачем же отрывать ее от любимого занятия, сулившего в скором будущем славу и существенное материальное подспорье, ради сомнительного счастья в подробностях узнать тонкости вегетативного размножения многолетних растений.
Единственное, на чем настаивали родители, так это на том, чтобы Паулина не пропускала занятия в музыкальной школе. Во-первых, школа эта не была, как общеобразовательная, бесплатной, и родителям приходилось выкладывать за нее двадцать пять очень нелишних рублей семейного бюджета ежемесячно, а во-вторых, как раз музыка ей в жизни очень пригодится, а потому учиться ей Паулина должна на совесть.
После десятилетки Паулине была одна дорога – в консерваторию. Нельзя сказать, что она поступила туда с легкостью – отнюдь. Оказалось, не одна она была наделена от природы некоторыми музыкальными способностями. Однако к тому времени Паулина обладала несметным количеством почетных грамот и кое-каких наград городского и областного уровня, что в некотором роде, в конце концов, сыграло ей на руку, и девочка таки стала студенткой консерватории.
Правда, отличницей ей стать не удалось: в консерватории простенькие песенки а-ля «Оранжевое небо» не котировались, более того, были откровенно запрещены, и студентов учили «прекрасному, мудрому, вечному», то есть классической музыке. Тут вкусы студентки и ее преподавателей диаметрально расходились: Паулина терпеть не могла всяческие «Подорожные», там где «Веселится и ликует весь народ», потому что «Поезд мчииии-тся, мчится поооо-езд, мчится поооооооооооо-езд».
К счастью для Паулины, ее заметили на одном из капустников в родной консерватории, и пригласили выступить в сборном концерте. Симпатичную девчушку зритель принял с благосклонностью, а потому приглашать ее стали все чаще. Руководству консерватории это совсем не понравилось, и Паулина вынуждена была уйти в академический отпуск. Впрочем, неприятности в альма-матер девушку не напугали: теперь она могла позволить себе полностью отдаться любимому жанру эстрадной песни без боязни накликать гнев преподавателей. И постепенно зритель всего Советского Союза запомнил имя хорошенькой певички: Паулина Видовская.
Карьера юной артистки эстрады поднималась по спирали: не слишком круто, но зато только в гору. Появилось море поклонников. Стоит ли говорить, что слава очень легко вскружила голову юной певичке. Чуть не каждый вечер ее приглашали то в ресторан, то на вечеринку. И везде поклонники, цветы, шампанское. А шампанское такое вкусное, такое колючее, и так легко, так весело становилось после пары-тройки фужеров…
Однако организм Паулины к шампанскому относился не совсем адекватно, можно даже сказать, с некоторой долей подлости. То, что другим – веселье, для Паулины имело своеобразные последствия. И если после одного-двух бокалов она чувствовала легкое опьянение, то после третьего впадала в состояние полной амнезии. Она не падала в обморок, не умирала от отравления организма алкоголем, но становилась абсолютно неуправляемой. Сейчас такое состояние называют коротким емким выражением «крышу снесло», во времена же молодости Паулины просто многозначительно вертели пальцем у виска.
Наутро после вечеринок Паулине иногда рассказывали об ее безобразном поведении накануне, однако она наотрез отказывалась верить таким россказням. Глупости, разве она, такая воспитанная и положительная девушка, могла себе позволить в присутствии посторонних задрать юбку, покрутить аппетитной попкой и в завершение импровизированного концерта громко пукнуть (хотя да, она не могла спорить с тем фактом, что от шампанского ее частенько пучило, но не могла же она сделать это привселюдно?!) Чушь, наглая, бессовестная клевета! Завидуют, они все ей просто завидуют, и эта грязь, эта ложь – ни что иное, как месть недругов за ее славу, за ее достижения, за ее великолепные певческие данные и невероятную красоту. И вместо того, чтобы сделать выводы о том, что алкоголь и она – понятия несовместимые, Паулина без сожаления расставалась с бывшими друзьями, осмелившимися сказать ей правду.
Разгульная жизнь продолжалась. Все чаще Паулину приглашали не в ресторан или клуб, а на частные пирушки, устраивавшиеся на квартирах или подмосковных дачах. Там Паулина чувствовала себя настоящей звездой: ее появление в разгар вечеринки вызывало такой восторг гостей, что сердце девушки умывалось медом. Еще больше радовалась она тому, что является единственной дамой в коллективе, а стало быть, конкуренции за мужское внимание не будет. И правда, фужеры с шампанским протягивали со всех сторон, Паулина с наслаждением утоляла жажду, щебетала пташкой, танцевала то с одним кавалером, то с другим, после чего словно проваливалась в небытие и просыпалась лишь утром, обычно в постели с кем-либо из многочисленных гостей. Впрочем, это ее не слишком печалило: ах, подумаешь, в конце концов, на дворе конец семидесятых, сексуальная революция в самом разгаре!
Однажды после очередного кутежа Паулина проснулась, как обычно, в компании незнакомца. Однако, в отличие от иных незнакомцев, этот был не весел и приветлив, а пугающе хмур. И вместо привычных комплиментов в свой адрес Паулина услышала:
– Все, девочка, закончилась твоя жизнь разгульная. Не могу я смотреть на это безобразие. Поедешь со мной – это вопрос решенный.
Паулина пыталась брыкаться и отнекиваться, однако незнакомец взвалил ее на плечо, как мешок с картошкой, и под насмешливым взглядом хозяина квартиры пронес к выходу. Поймал такси (Паулина так и болталась при этом у него на плече) и отвез в глухую деревню, к старой бабке.
Что это была за деревня, что за бабка, и как оттуда выбраться – Паулина не знала. Деревушка – не деревушка, так, скорее, забытый хуторок. Сделала несколько попыток вырваться из плена. Впрочем, с полным основанием назвать это пленом было бы, по меньшей мере, нечестно: никто Паулину не держал взаперти, никто не охранял. Однако выбраться оттуда без посторонней помощи пленнице не удалось: железной дороги поблизости не оказалось, единственная дорога, пересекавшая деревушку, была, скорее, похожа на тропинку и ездили по ней разве что запряженные старыми клячами подводы да изредка мотоциклы с коляской. Так что деваться Паулине было решительно некуда.
Старушка, хозяйка неказистого домика, была то ли глухонемая, то ли не совсем в разуме. Так или иначе, а добиться чего-либо Паулине от нее решительно не удалось. Через два бесконечных дня в деревеньку наведался давешний приятель Паулины. Впрочем, какой же это приятель, если она даже имени его не знала. А может, просто не помнила. Так, партнер по постели. Обычный, ничем не примечательный партнер.
Имя у партнера оказалось весьма прозаическое – Николай. Однако поведение, отношение его к Паулине обычным назвать было нельзя. Вернее, привычным. Не гордился он знакомством с эстрадной звездочкой, не восторгался неземной ее красотою, не восхищался замечательной ее, точеной, ладненькой фигуркой. Был с нею хмур и даже грубоват, немногословен, и уж совсем далек от мысли о комплиментах.
– Значица так, девонька, слушай сюда. Внимательно слушай. Повторять я не привык. Отныне жить ты будешь либо со мной, либо с этой старушкой – и не говори потом, что выбора я тебе не предоставил. Про сцену и жизнь, так сказать, светскую, забудь. Пока не поздно, буду делать из тебя человека.
Такие перспективы Паулину, естественно, не обрадовали:
– Да кто ты такой, собственно говоря? И кто дал тебе право так со мной разговаривать? Да ты вообще знаешь, с кем говоришь? Я, между прочим, Паулина Видовская, и разговаривать так с собою какому-то быдлу не позволю! Так что пошло на хер, мурло, и быстренько вези меня домой – у меня концерт завтра!
В ответ на гневную тираду «мурло» отвесило ей звонкую оплеуху и ответило хорошо поставленным голосом:
– Я есть лейтенант нашей родной Советской Армии. А ты есть ни кто иная, как шлюха, даже если и зовут тебя все еще Паулина Видовская. Шлюха и блядь. Только я это твое блядство прекращу, я из тебя натуру блядскую вытравлю по капле, ты у меня еще будешь человеком.
Паулина едва не задохнулась от возмущения. Несколько секунд она только хватала раскрытым ртом воздух, однако легкие, кажется, отказывались его принимать, так как она предварительно забыла выдохнуть. Наконец, приведя дыхание в норму, Паулина гневно зашептала:
– Что?! Да как ты смеешь, гнус? Ты, дерьмо собачье, вшивый лейтенантишка, смеешь так разговаривать со мной, Паулиной Видовской?! Да ты, да я…
Она опять сбилась с нормального дыхания, подавившись собственным гневом. Собеседник же лишь ухмыльнулся кривовато:
– Я предупреждал, что повторять не люблю. Но тебе, возможно, нелегко будет привыкнуть к факту, что на самом деле ты шлюха и блядь, а потому попервости я буду часто тебе это напоминать, пока не поймешь. А вот насчет дерьма собачьего и прочих эпитетов поостерегись: ты задеваешь честь офицера, а это не прощается. Считай, что я тебя предупредил. Итак, выбор за тобой: поедешь со мной или останешься с Марковной? Если ты еще не поняла, я тебе расскажу: без меня ты отсюда не выберешься – вокруг глухой лес да болота, и куковать тебе здесь придется до тех пор, пока все-таки не выберешь меня. Я тебя сюда привез, и только я смогу увезти тебя обратно. Твое решение?
Паулина молчала. Наглая рожа лейтенанта была ей отвратительна, ей претила сама мысль, что она могла провести ночь с этим ублюдком. Боже, куда глядели ее глаза, когда она позволила ему забраться под ее одеяло?! Однако еще отвратительней ей казалась мысль остаться здесь еще на неопределенное время, с ненормальной Марковной. Да и концерт ведь завтра, а без этого мерзавца ей, похоже, действительно отсюда не выбраться.
Она попыталась успокоиться, задержав на несколько секунд дыхание, и сказала почти примирительным тоном:
– Небогатый ты мне выбор предлагаешь, – И, словно еще чуточку поразмыслив, продолжила с наигранным сомнением в голосе: – Пожалуй, я могла бы выбрать тебя, если ты прекратишь меня оскорблять. Про честь офицера ты хорошо помнишь, однако про мою, девичью честь, забыл напрочь.
Николай усмехнулся в усы:
– Нет, милая, это ты забыла о девичьей чести. О какой чести ты можешь говорить, если с тобой позавчера не переспал только импотент? Впрочем, таковых в нашей компании не нашлось. И не говори мне, что это в твоей жизни первая групповушка – мне о тебе давно забавные истории рассказывали, да я все верить отказывался: быть того не может, чтобы Паулина Видовская, такая милая, скромная девушка, оказалась конченной проблядью. Так вот, дорогуша: мне будет очень нелегко все забыть, однако даю тебе слово офицера, что никогда в жизни не напомню о твоем прошлом. Этот разговор в нашей совместной жизни будет единственным, и то лишь для того, чтобы расставить точки над «и». Чтобы не было у тебя соблазна без конца укорять меня тем, что ты, такая вся из себя возвышенная скромница-красавица, пошла на невесть какой мезальянс, выйдя за меня замуж. А потому запомни на всю жизнь, что это ты у нас в семье – шлюха и блядь в прошлом, а я – честный офицер, по благородству души решивший избавить тебя от позора.
У Паулины закружилась голова и кровь прилила к лицу. В висках пульсировала мысль: почему, ну почему он с таким упорством называет ее шлюхой? За то, что переспал с ней разок, и уже сразу шлюха? А что значили его слова о групповушке, что за грязные инсинуации, что за намеки о том, что импотентов в их компании не оказалось? А ведь, она это точно помнила, в той компании она была единственной дамой. Неужели?… Да быть такого не может, – от одной мысли о таком ужасе Паулина отшатнулась. Нет, нет, не может быть, это неправда! Хотя… Нет, все равно нет! И пусть она ничего не помнит об этой вечеринке, как и обо всех предыдущих, пусть она помнит только то, с кем проснулась наутро, все равно не может быть, чтобы…
– Почему, – едва прошептала она. – Почему ты так говоришь обо мне? Какие групповушки? Почему ты все время называешь меня шлюхой?
– А как тебя назвать? – искренне удивился Николай. – А как бы ты сама назвала…ммм, барышню, в одиночку обслуживающую восьмерых мужиков? Причем даже не удаляющуюся для этого в отдельную комнату, а с видимым удовольствием проделывающую это на глазах возбужденных кобелей? Можно, конечно, найти другие эпитеты, однако вряд ли они будут звучать более нежно, да и суть исказят. Ведь я не могу назвать тебя проституткой: ты же не взяла ни копейки ни с меня, ни с остальных. Единственная плата за твои услуги – шампанское, но это такие мелочи, обычный разогрев перед сексом. И хватит об этом. Ты думаешь, мне приятна мысль о том, что моя будущая супруга – шлюха с большой буквы?
На глазах Паулины выступили слезы. Господи, неужели вся эта грязь – правда?!
– О, прости, детка, я, кажется, уже нарушил свое обещание не напоминать тебе о прошлом. Но я обещал тебе не делать этого с завтрашнего дня, а сегодня потерпи чуток, прочувствуй напоследок всю низость твоего падения. Хорошо хоть я пленку засветил – ребята ведь «нащелкали» море пикантных кадров с участием Паулины Видовской. Причем старались, чтобы в кадр попали не только твои прелести, но и личико, искаженное гримасой экстаза. Впрочем, я не уверен, что таких фотографий не наделали раньше. А потому вот тебе мое офицерское слово – отныне и навсегда сцена для тебя под запретом: того и гляди, какая-нибудь сволочь надумает шантажировать, или еще лучше, сугубо ради развлечения пустит эти фотографии в народ. Так что обрати внимание и оцени мое благородство: не каждый рискнул бы на тебе после этого жениться. Ну все, так и быть, забыли о прошлом. Вернее, считай, что я забыл, а ты помни, кто ты есть на самом деле. Помни, что ты шлюха и тварь, и цени мое мужество и благородство.
* * *
– Ааах, – вырвалось из Ирининой груди.
Самолет провалился в очередную воздушную яму, и по лицу Ирины разлилась бледность. Постепенно дыхание восстановилось, и она повернулась к собеседнице:
– Ох, простите великодушно, никак не могу привыкнуть, – на ее лице сквозила извиняющаяся улыбка. – А вы не боитесь?
Соседка уверенно покачала головой. Она улыбалась так открыто, лицо ее было таким обаятельным, таким знакомым, что Ирина не выдержала:
– Я вот все смотрю на вас, и пытаюсь припомнить – где я могла вас видеть? Сначала думала – показалось, а теперь просто уверена, что я вас знаю. Напомните, где мы встречались? Я не кажусь вам знакомой?
Соседка задорно рассмеялась:
– Нет, я вас точно никогда раньше не видела. Да и вы меня вряд ли встречали. А лицо… Что лицо? Оно ведь может быть на кого-нибудь похожим, правда?
– Тоже верно, – с облегчением ответила Ирина. – Значит, обозналась. Оно и лучше. Мне бы не хотелось, чтобы эту историю узнали мои знакомые. Так мы точно не встречались раньше?
– Нет-нет, продолжайте, Вы очень интересно рассказываете. Я люблю такие истории. Так что там было дальше?
* * *
Ирина обожала Новый год. Она вообще была женщиной сентиментальной, расплакаться могла даже при просмотре совершенно нейтральной сцены фильма, не говоря уж о выжимающем слезу финале мелодрамы. Новый же год был для нее и вовсе чем-то таким, отчего сжимается сердце и перехватывает горло. Она уже привыкла, что, начиная с последних дней ноября ее мысли упорно стремятся к Новому году. В выходные ей непреодолимо хотелось посмотреть какой-нибудь щемящий душу рождественский фильм. Засыпая, она продумывала до мелочей новогоднее меню, убранство стола и даже украшение домашнего торта – ведь это должен быть не обыкновенный торт, а непременно новогодний, а стало быть, обязательно должен быть белым (обсыпать кокосовой стружкой, или сахарной пудрой? а может, просто покрыть обыкновенным масляным кремом?), а на белом поле хорошо бы нарисовать зеленую елочку (выложить кусочками киви, марципанами? а может, в обычный крем добавить зеленого красителя? или вырезать из бумаги форму елочки, и, как на трафарет, насыпать опять же кокосовую стружку, только крашенную, а потом бумагу аккуратненько снять?). И чем ближе к Новому году, тем чаще на ее глазах выступали слезы.
Это был уже третий год, когда на корпоративные вечеринки сотрудники допускались с законными половинами. Впрочем, обязаловкой новые правила пока еще не стали, а потому Ирина, как и в прошлом, и в позапрошлом году, явилась на праздник без Сергея.
Как обычно, праздновали двадцать восьмого декабря. Генеральный директор прекрасно понимал, что ни двадцать девятого, ни тем более тридцатого собрать коллектив разом не удастся: среди сотрудников было немало женщин, а им, хозяюшкам, сложно будет вырваться из дому накануне праздника – каждая уважающая себя женщина в эти дни занята хозяйством, столом, собственной персоной. Двадцать же восьмое декабря подходило для празднования как нельзя лучше: настроение уже праздничное, хлопотать же по хозяйству еще рановато, а потому ни одна сотрудница не будет чувствовать себя преступницей, отрывая от дома, от семьи драгоценный предпраздничный вечер.
Как обычно, праздновали в ресторане «Домашняя кухня». Название неказистое, даже несколько нелепое, да и особенно модным заведение не было, однако расположено довольно удобно: пусть не самый центр города, зато неподалеку от главного офиса и от метро. Впрочем, последнее обстоятельство особой роли не играло – после веселья сотрудников должен был развести по домам специально для этой цели нанятый автобус. Ну а туда, то есть в ресторан, гости добирались самостоятельно.
Особо уютным заведение тоже не было, зато – неоспоримое достоинство – кухня была действительно почти домашняя, за что генеральный и привязался нежно к этому ресторанчику. А уют… А что уют? Неужели тяжело создать уют для новогоднего праздника? Украсили зал еловыми ветками, гирляндами, шарами, серпантином – вот тебе и уют. В углу рядом с эстрадой установили большую натуральную елку, украшенную по всем правилам – это уже постарались непосредственно работники заведения. Самым же главным было то, что ресторан оказался полностью выкуплен на вечер, а потому посторонних в зале не было и быть не могло, если только не считать посторонними обслуживающий персонал.
Настроение у Ирины было великолепным. Да и могло ли быть иначе. Из зеркала на нее смотрела молодая, очень привлекательная дамочка. Короткая стрижка была уложена при помощи геля и пенки в нечто невообразимо-крылатое, лицо ее, с четко очерченным правильной формы овалом, лишенным даже намека на второй подбородок, оставалось при этом открытым и чистым, сложный макияж создавал впечатление легкого и прозрачного, этакой естественной красоты. Довольно глубокое, но не кричащее декольте оставляло открытой ровно столько женской прелести, сколько было принято в приличном обществе. Чуть портили настроение руки – это было больным Ириным местом. К сожалению, руки у женщины стареют в первую очередь, а вот омолодить их, в отличие от лица, невозможно – не делают на руках пластических операций, увы. Так что, хоть и были ее руки очень ухоженными, но внимательному зрителю открывали истинный возраст обладательницы.
Ларочка тоже пребывала в чудесном настроении. Благодаря праздничной премии ей удалось приобрести весьма недурственный костюмчик чудесного золотистого цвета, который так замечательно сочетался с цветом ее волос. Правда, на новые туфли денег не хватило, пришлось довольствоваться старыми, не слишком нарядными, да и сумка-клатч тоже не блистала новизной, зато в ней очень удобно расположился новенький фотоаппаратик, о котором так давно мечталось. А потому старые туфли и сумочка, по сравнению с костюмом и фотоаппаратом, казались такой мелочью, что и думать об этом не стоило.
Столы были заблаговременно сдвинуты буквой «П», дабы все всех видели и все со всеми общались. На прошлый Новый год попробовали было рассадить людей по новомодному за отдельные столики, в итоге общего праздника не получилось: сидели за каждым столиком приватными компаниями, о чем-то мирно беседовали, а остальных практически и не замечали. Так что решили больше не экспериментировать и расставили столы, как обычно: может, не слишком модно, не по-европейски, зато по-нашему, зато все довольны.
Собственно, для женщин праздник начался еще в фойе. Едва сдав дубленку или шубу в гардероб, каждая тут же устремлялась к огромному зеркалу: подправляла прическу, одергивала платье – в общем, любая женщина всегда найдет, что бы ей подправить в собственной внешности. А у зеркала, естественно, уже толкались ранее прибывшие коллеги. Вот тут и начинался для них настоящий праздник: взоры устремлялись к наряду очередной сотрудницы, со всех сторон неслись восхищения нарядом ли, прической ли, общим ли замечательным внешним видом – главное, что каждая получала свою порцию комплиментов. А, как известно, один комплимент из уст женщины приравнивается приблизительно к пятнадцати мужским. Так что все были в явно приподнятом настроении.
В первые минуты за столом, как обычно, повисла неловкая тишина. Вернее, тишина была, конечно же, условной: со всех сторон неслись едва слышные просьбы «подать салатика» или «наколоть колбаски», и все это вполголоса, чтоб, не дай Бог, никто ничего дурного не подумал. Кто-то чуть смелее, чуть громче других заявлял:
– Нет, нет, шампанское пусть пьют девочки. Лично я предпочитаю водочку.
Другой едва слышно спрашивал у ближайших соседей:
– У вас нет лишней вилки? А у вас? Могу предложить на обмен рюмку.
Разобравшись, наконец, с напитками, закусками и столовыми приборами, все дружно замолчали и уставились на генерального в ожидании тоста.
Буськов Анатолий Михайлович, солидный дядечка годков так ближе к шестидесяти, поднялся во главе стола, оглядел собравшихся за столами сотрудников с видом хана, взирающего на свое войско, зачем-то положил руку на оголенное плечо супруги, сидящей рядом, то ли опираясь на нее, то ли показывая, кто у них в доме, да и вообще в тресте, хозяин, и, наконец, произнес, предварительно откашлявшись:
– Друзья мои! Уж в который раз – и не упомню, но снова мы собрались все вместе в этом зале, а значит, еще один год остался в прошлом. Все мы немножечко, самую малость, постарели, что, впрочем, совершенно не отразилось на лицах наших прекрасных женщин. Все мы немножечко стали опытнее, некоторые даже, не побоюсь этого слова, мудрее. В общем и целом, год для треста был весьма недурным, поработали мы с вами на славу, так что сегодня, в канун Нового года, имеем полное право расслабиться. Новый год каждый из нас будет встречать дома, в кругу семьи, может быть, в кругу друзей, зато сегодня мы будем веселиться с теми, с кем целый год работали рука об руку, делая одно общее дело. Прошу отнестись к сегодняшнему празднику, дамы и господа, с полной ответственностью, дабы не было желания наверстать упущенное в течение следующего года. Сегодня объявляю раздолье и вседозволенность для всех, после праздников же стану вновь сердитым и требовательным начальником. С Новым годом, дорогие мои, с Новым счастьем!
Народ радостно потянулся фужерами и рюмками навстречу друг другу, каждый при этом считал обязательным присоединиться к поздравлению:
– С Новым годом! – дзвинь!
– С Новым годом! – дзвинь!
– С Новым годом!
Звучавший еще минуту назад звон бокалов, разбавленный человеческим гомоном, сменился сосредоточенным звяканьем вилок. Каждый тщательно закусывал, потому что с обеденного перерыва крошки маковой во рту не было, а многие дамы и того не успели, убежав с работы пораньше с целью почистить перышки. Да и убранство стола способствовало обострению аппетита. Буськов, как обычно, не поскупился, и столы отнюдь не выглядели бедными. Были здесь и красная рыбка, и яйца, фаршированные красной же икоркой. Истекала соком стерлядка под нежным сливочным соусом, удерживая ощеренной пастью веточку петрушки. Навязчиво лезла в глаза малиновыми бликами селедочка под шубой, мясное ассорти лоснилось розовыми лепестками, зеленели пупырышками огурчики, играли тугими боками помидоры. Не обошлось и без традиционного оливье – Новый год без оливье, считай, не праздник.
Вскоре кто-то самый смелый заявил в полголоса:
– Наливай!
То ли из-за сравнительной тишины, а скорее из-за того, что очень многие ожидали этого призыва, но услышан был клич за самыми дальними сторонами стола. И уже чувствовалось то радостное оживление, когда народ уже не трезвый, но еще и не пьяный. Праздник начался.
Вадим Черкасов сидел почти напротив Ирины. Сначала она старалась не замечать его навязчивых, призывных взглядов, однако это давалось ей с большим трудом. С настойчивостью, достойной лучшего применения, он буквально пожирал ее голодными глазами, и Ира чуть не давилась маринованным грибочком, чувствуя себя, словно кролик перед удавом.
Черкасов был ей неприятен, она чувствовала к нему резкую антипатию. В то же время, как ни старалась, она не могла не восхищаться его красотой. Фу, вылизан, причесан, надушен, как баба. Но до чего же красив, мерзавец! Да, чувствовала откровенную неприязнь, и в то же самое время отвести от него глаза ей было нелегко. На работе проще – отвернулась в сторону и вроде как не замечала его восхищенного взгляда. Здесь же, по закону подлости, довелось сидеть практически друг против друга, так что бесконечно отворачиваться обозначало свернуть себе шею, и хочешь не хочешь, а Ирина вынуждена была постоянно сталкиваться с Вадимом взглядами. С другой стороны, уже давало себя знать шампанское, а потому все сложнее и сложнее было испытывать антипатию к признанному красавцу, и почему-то уже Иринины глазки заблестели заинтересованно, не сумев скрыть восхищение неземной его красотой…
А праздник шумел, гремел музыкой и хлопушками, искрился бенгальскими огнями. И вот уже они все вместе, почти полным составом, лихо отплясывают что-то ритмично-зажигательное, и струится по Ириным ногам холодящий шелк, подчеркивая мальчишескую узость бедер, и в сумасшедшем ритме движений сползает ткань, обнажая ее смуглое, атласное плечо, и лишь в последний момент Ира успевает придержать ее и вернуть на место. Но все-таки самую капельку, на самое мимолетное мгновенье, обнажилось то, что должно было быть скрыто от чужих глаз. И лишь одна пара любопытных, таких голодных глаз успела увидеть капельку больше, чем было дозволено посторонним.
Лихая музыка закончилась как-то резко, вдруг, сменившись плавным течением меланхоличного танго. Ирина и опомниться не успела, как ее подхватили чьи-то уверенные руки и настойчиво повели вглубь зала под не слишком стройную, зато живую музыку сборного оркестра профессиональных халтурщиков. Чьи-то? Конечно, это были руки Вадима. Несмотря на стойкую к нему неприязнь, Ирина вынуждена была признать, что партнер он замечательный и танцевать с ним доставляло ей не только эстетическое, но где-то даже и физическое удовольствие. Да, давненько она уже не танцевала. Даже и припомнить не могла, где и когда делала это в последний раз. А, впрочем, вероятнее всего, ровно год назад, на такой же новогодней вечеринке. Только танцевала она тогда не с Вадимом. И, видимо, не так мастерски вел ее давешний партнер, коль и не вспомнит, с кем танцевала. Этот же танец забыть будет сложно… А может, это она все усложняет, а на самом деле, ничего такого и нет, просто шампанское ударило в голову на голодный желудок?…
Танцы сменялись застольем, застолье – танцами. И всегда рядом с Ириной оказывался Черкасов. И Ира уже забыла, что он ей глубоко антипатичен. Напротив, сейчас, под воздействием шампанского и праздничного настроения, он казался ей вполне милым мальчиком. Да-да, периодически одергивала она сама себя, именно мальчиком, ведь разница в возрасте шестнадцать лет, и с этим нельзя не считаться. Впрочем, не замуж же она за него собралась, верно? А для танцев разница в возрасте вовсе и не страшна…
Шампанское текло рекой, холодные закуски сменялись горячими. Однако, несмотря на то, что пообедать сегодня не удалось, Ира почти не ела. Впрочем, ничего особенного это не обозначало, просто, выпив, Ирина обычно начинала много внимания уделять общению, и как-то само собою выходило, что на закусывание элементарно не хватало времени. И пришел тот момент, когда организм просемафорил: неправильно ты себя ведешь, девушка, обо мне ведь надо заботиться, а то накажу серьезно, по-взрослому. Это было пока еще лишь предостережение: горячая волна поднялась к самому горлу, стало неимоверно душно и жарко, воздуха катастрофически не хватало. Внимательный поклонник сразу уловил перемены в ее лице, подхватил под руку и повел в направлении небольшого круглого балкончика к спасительному свежему воздуху. Ирина не сопротивлялась.
Балкончик, хоть и маленький, но выглядел весьма живописно: несколько кованных витых колонн, расцветающих вверху раскидистыми ветвями, были соединены сплошными листами толстого стекла, так, что любопытные прохожие могли видеть стоящих на балкончике людей во весь рост. И лишь верхние части стекол, словно спрятанные за кованными райскими кущами, открывались наружу, давая доступ свежему воздуху.
Ирина глотнула морозного воздуха и взглянула на Черкасова с благодарностью: молодец, мальчик, все правильно сообразил, именно это ей сейчас и было необходимо. Вот только холодно, а она в открытом платье, защищенная от мороза лишь шелковым флером. Но какая же эта защита, ведь натуральный шелк не греет, а очень даже наоборот. Ирина только подумала об этом, не произнеся ни слова, но Вадим то ли прочел это в ее глазах, то ли, и даже скорее всего, сам догадался – не дурак ведь, дурак бы не понял, снял пиджак, накинул на плечи замерзшей дамы, и стянул лацканы пиджака на ее груди, укрывая от декабрьского морозца. Так и застыли, словно ледяная композиция: почти вплотную друг к другу, его руки придерживают пиджак практически на ее груди, не переходя при этом граней дозволенного. И – глаза в глаза, и никаких слов, и никаких мыслей. Только глаза в глаза, почти впритык, почти поцелуй, но еще не поцелуй. Оба хотели, но оба понимали, что нет, нельзя, любое дальнейшее движение – шаг за грань дозволенного. Потому и замерли в этой нелепейшей позе, не в силах оторваться друг от друга. Долго стояли, не слыша музыки в зале, не замечая праздничных фейерверков за стеклом, бликов фотовспышек. Близко, рядышком, едва удерживаясь на грани, и чуть не теряя сознания от предчувствия запретного поцелуя.
Ирина сто лет ни с кем посторонним не целовалась. Вернее, двадцать. Почти двадцать. Поцелуи же родного, как часть самой себя, Сергея уже давно перестали ввергать в пучину страстных ощущений. И теперь Ира наслаждалась давно забытым чувством, когда что-то поднимается из самых низких глубин организма и застывает комков в горле, когда становится вдруг трудно дышать, когда распирает грудь горячей волной, не стынущей на морозе. Наслаждалась, прекрасно понимая, что продолжения не будет, продолжение невозможно, и даже невинный поцелуй она никогда не сможет себе позволить. Только ожидание, только ощущение чего-то запретного, не больше. И в эту минуту она не удивлялась, почему же ей так приятно стоять здесь, в этом ажурно-чугунном зимнем саду, в замечательной имитации воздушной беседки, рядом с этим мальчишкой, который моложе ее, страшно сказать, на невероятных шестнадцать лет, с тем, кто был противен до омерзения еще несколько часов назад…
А совсем рядом, за стеклом, стояла Ларочка Трегубович. Стояла долго, не отводя от парочки глаз. И хищно улыбалась каким-то одной ей ведомым мыслям…
* * *
Николай Черкасов, бравый лейтенант с усами, слова своего не сдержал. Не мог он забыть о том, что видел собственными глазами, в чем лично принимал участие. А потому денно и нощно рассказывал супруге, кто она есть на самом деле. Его дико унижало сознание того, что жена его ни кто иная, как шлюха подзаборная. И что имели ее все, кому не лень, и имели так, как подсказывала каждому его извращенная фантазия. С другой стороны, память предательски часто возвращалась к дикой той оргии, когда к нескончаемому своему ужасу он имел возможность воочию убедиться в том, что все забавные сказочки про любимую его певицу, Паулину Видовскую, истина в последней инстанции. Хуже всего было то, что с ним, законным мужем, Паулина была холодна, словно ледышка, и то наслаждение, то запретное удовольствие, что Николай испытал в том «гареме наоборот», в роли мужа оказалось ему недоступным.
От сцены Паулине пришлось отказаться. Николай в ее жизни случился как нельзя кстати, так как именно в это время всплыли фотографии грязнейшего содержания с ее участием. Слухи поползли сначала по Москве, а потом, как водится, дошли до самых до окраин. И, дабы не ставить супруга, а еще больше саму себя в неловкое положение, Паулине пришлось сменить длинные светлые волосы, визитную карточку Видовской, на мальчишескую стрижку цвета «спелой меди». Нельзя сказать, чтобы новая прическа Паулину изуродовала – вовсе нет, она по-прежнему была красавицей, однако на себя прежнюю походила очень мало.
Сменить довелось не только фамилию и прическу. Буквально через два дня после срочной свадьбы Николай Черкасов вместе с новоиспеченной супругой отбыл к месту службы в Иркутск. Паулину это обстоятельство страшно бесило: мало того, что ей пришлось оставить сцену ради этого солдафона, так еще и увез ее из родной Москвы в самую настоящую, по ее разумению, Тмутаракань. Теплых чувств к Николаю после всего этого, естественно, она испытывать не могла, но вынуждена была терпеть его присутствие в собственной жизни. Ничего-ничего, вот пройдет времечко, улягутся сплетни, забудется имя Паулины Видовской, самые злые языки перестанут обсасывать подробности ее личной жизни, и она еще вернется. Правда, фамилию Видовская ей уже никогда не носить, но она может испытать судьбу под именем Паулины Черкасовой. И выглядела она нынче совершенно иначе – вряд ли кто-нибудь додумался бы провести параллели с той самой скандально известной Видовской… Вот имя разве что… Имя Паулине и впрямь досталось редкое, а стало быть, ее могут идентифицировать именно по нему, но отказаться от своего имени она никак не могла. Как ни крути, а с самого раннего детства это была ее визитная карточка, самый верный талисман. Она ни разу в жизни не встречала тезку, никогда ей не доводилось оглядываться, когда ее именем окликали кого-нибудь другого. Нет, решительно, изменить своему имени Паулина не могла.
Николая она ненавидела. Да и мало какая женщина смогла бы любить, во-первых, свидетеля своего позора, во-вторых, постоянно тычущего ее в тот позор очаровательным носиком. Ведь редко случался день, когда Николай не напоминал ей о грязном прошлом. Днем он еще хоть как-то старался сдерживать себя, хотя все равно периодически проскакивали его излюбленные словечки «шлюха» да «блядь» (последнее он произносил нарастяжку, и оно звучало из его уст, как «билять»). Ночью же становилось еще хуже. Паулина не знала, чего он от нее хочет. Вроде и старалась, исполняя все его требования, но он только злился, оскорбляя грязно и мерзко, непременно вставляя излюбленную свою фразу:
– Тебе мало меня, да? Тебе непременно надо побольше зрителей, а лучше участников. Шлюха, тварь! Я один тебя не завожу, да? Может, мне роту свою привести, может, тогда ты продемонстрируешь свои блестящие таланты?
Хуже всего было то, что буквально через пару недель после свадьбы Паулина почувствовала неладное. И совсем уж отвратительно было то, что это неладное оказалось правдой: да, она таки забеременела. Ощущения сами по себе были не из приятных: тошнота, тупая тянущая боль внизу живота… Но эти физические неприятности казались такой мелочью по сравнению с моральными страданиями Паулины. Во-первых, она сама не предполагала, кто мог бы претендовать на лавры отца ее будущего ребенка. Конечно, она вполне могла забеременеть от Николая, ведь с ним-то она точно спала. С другой стороны, если верить Николаю, претендентов на отцовство было хоть отбавляй. Но можно ли верить Николаю? Были ли все эти жуткие оргии на самом деле, или Николай придумал их только для того, чтобы жениться на ней? Ведь, не будь всей этой грязи, Паулина ни за что на свете не согласилась бы выйти замуж за этого мужлана! Наверняка это он все подстроил. А на самом деле не было, и быть не могло никакого группового секса. Она же не какая-нибудь… Она же приличная девушка, она – Паулина Видовская!
Но как тогда объяснить наличие грязных сплетен о бурных групповушках с участием Видовской? А может, сам Николай их и распустил все из той же навязчивой идеи жениться на ней. Да, да, наверняка так оно и есть, он сам все это придумал! Подлец и мерзавец! Он все просчитал, он сделал все для того, чтобы она не могла уйти от него, чтобы закрыть ей доступ на эстраду, в мир людей утонченных, ценящих ее красоту, ум и интеллект.
Однако Николай слишком хорошо играл роль возмущенного супруга – прирожденный актер! Всю беременность он тыкал Паулину носом в то, что под сердцем она носит неизвестно чье дитя. Неизвестно, чье грязное, похотливое семя привело ее к беременности. И какой он, Николай, герой, что спас шлюху от позора, и каково ему, бедолаге, каждый вечер ложиться в постель с беременной распутницей и грязной шлюхой… Впрочем, подобные стенания не мешали ему каждую ночь заворачивать беременную супругу то так, то этак, периодически хлестать по щекам за то, что не оправдывала она его надежд на развязный безудержный секс, которым одарила лишь раз, той мерзкой, но такой восхитительной, даже волшебной ночью.
Спустя девять месяцев, как и положено, родился мальчик. К несчастью, появился он на этот свет абсолютным блондином с голубыми глазами. А ведь Николай Вадимович Черкасов, записанный в метрике мальца, как отец, был бравым кареглазым брюнетом. И все пуще неслись проклятия в сторону Паулины. Мальчишка же, названный в честь отца Николая Вадимом, вызывал у новоявленного папаши и вовсе невиданный гнев. И то, что к трем годам уже ничто не напоминало о блондинисто-голубоглазом прошлом ребенка, уже не могло изменить отношения отца к сыну. И пусть нечастые в их доме гости непременно указывали на буквально бросающееся в глаза сходство отца и сына – Николай лишь с плохо скрытой ненавистью бросал горящий взгляд в сторону мальчишки, и тут же улыбался гостям: мол, а на кого же еще может быть похожим его сын.
С течением времени Николай научился сдерживать гнев и ненависть в присутствии ребенка. Но научиться любить его так и не сумел. А потому отношения его с маленьким Вадиком были крайне прохладными, даже скорее отчужденными. Николай был чересчур строг с сыном, едва сдерживая в груди ненависть к чужому (?) семени. Хуже всего было то, что, как он ни старался, а забеременеть Паулина больше не смогла. И сомнения в отцовстве засели в голове Черкасова-старшего навсегда.
Мальчик страдал от более чем строгого к себе отношения отца. При нем был тихим и незаметным, дабы не нарваться лишний раз на пролетающий мимо подзатыльник. По той же причине хорошо учился в школе – не из особой любви к наукам, а сугубо из животного страха перед тяжелой отцовой рукой.
Мать же малец просто обожал, даже боготворил. Паулина всегда была дома, всегда рядом с сыном. Пока носила его под сердцем, ненавидела, уверенная в том, что именно из-за него бесконечно злится Николай, унижает, а порою и избивает. После рождения ребенка чувства изменились. Причем, отнюдь не сразу, как пишут в романах и показывают в кино. Поначалу темно-розовый вечно хнычущий комочек раздражал и совсем не вызывал умиления. Потом постепенно в душе матери проснулась жалость к младенцу: ах ты, бедняжка, угораздило стать сыном этого придурка-солдафона, нелегко тебе в жизни придется, сынок! Позже к жалости добавилось чувство сообщничества, такое вот ощущение друзей по несчастью. Потом поняла, что если она не защитит несчастное, бесправное существо, вышедшее из ее утробы, то никто его не защитит – никому, кроме нее, оно не нужно. А позже и вовсе то ли привыкла, то ли полюбила – суть одно и то же.
Мальчик рос, и всегда рядом с ним была мама. В детский сад он не ходил – садика в их гарнизоне не было, а водить дитё к частной няньке, собирающей детишек со всего гарнизона, при неработающей жене было неоправданным расточительством. С друзьями тоже не особенно выходило дружить – те все, как один, хвастались папами, какие они у них сильные, какие хорошие, да у кого из них на погонах звезд больше. Маленькому же Вадику было не то что бы неинтересно говорить о своем отце, ему было страшно даже просто представлять его мысленно. А потому мальчонка чаще сидел дома у окна, или же прогуливался с мамой по гарнизону.
Мама была хорошая и добрая. Мама много рассказывала Вадиму про красивый город Москву, в который они непременно когда-нибудь поедут и останутся там навсегда. В разговорах с матерью они, словно сговорившись, никогда не упоминали об отце: видимо, маме разговоры о нем были столь же малоприятны, как и маленькому Вадиму.
Мама учила Вадика культуре. Как правильно говорить, как вести себя за столом, как относиться к девочкам. Мама всегда одевала его, как игрушечку: даже в сложные советские времена умела находить для сына красивые модные вещи, а чего не удавалось купить, мастерила сама – откуда-то взялось пристрастие к рукоделью. И Вадик всегда выглядел самым ухоженным ребенком в гарнизоне.
Постепенно мальчик привык к всеобщему вниманию: с самого детства все тетеньки, соседки да мамины немногочисленные приятельницы, восхищались его красотой: надо же, какой хорошенький! Ему бы девочкой родиться! В школе девчонки, хоть и маленькие совсем, а быстро разглядели его необычную внешность, и по-детски бесхитростно открыто проявляли влюбленность, угощая Вадика кто яблоком, кто конфеткой. Но, несмотря на это, не было у Вадика друзей, не было подруг – одни сплошные одноклассники да соседи. Одноклассники, как и соседи, периодически менялись, ведь не один гарнизон довелось сменить Черкасовым, место жительства менялось с завидным постоянством, зато всегда рядом была мама.
Мама тщательно следила за своей внешностью. У Вадима прочно вошло в привычку видеть маму полуобнаженной, обмазанную чуть не до пояса то давленной клубникой, то сметаной. Мальчика не смущала мамина нагота – для него это было естественное и невинное зрелище, однако он с детских лет привык восхищаться маминым телом: до чего же она хороша, даже намазанная всякой дрянью! Мама же словно специально красовалась перед ним – вертелась то одним боком, то другим, потом вдруг начинала баловаться и мазать той же дрянью и без того румяные щечки Вадима:
– Привыкай, сынок, красота – она быстро проходит, ее удержать не просто. Следи за собой, сыночка, и все бабы твои будут!
А «сыночке» уже исполнилось десять. А мама так любила его целовать-лобызать, а то еще начинала мазать его щеки своими, как она говорила – «делить маску на двоих», и так увлекалась этим занятием, что и сама не замечала, что не только щеками мажет сына, но и грудками своими восхитительно-обнаженными, да по мальчишечьей голой груди… Странное чувство охватывало маленького Вадика в такие мгновения: с одной стороны, ему почему-то неприятны были такие мамины забавы, и он уворачивался от нее, как мог. С другой – по желудку его растекалось нечто тошнотворно-приторное, малоприятное само по себе, но отчего-то сердце мальчишки словно замирало и падало куда-то вниз, в пропасть, и сладко-сладко кружилась голова и еще что-то непознанное пьянило, окрыляло его…
* * *
– А потом был Новый год…
Ирина вздохнула так тяжело, что спутница поняла: вот и добралась страдалица до самого тяжкого воспоминания.
* * *
А потом был Новый год. Как обычно, собрались дома у Русаковых. Никого чужих, только Русаковы в полном составе, плюс любимая теща Сергея Вероника Николаевна, да, куда уж от нее денешься – Ларочка Трегубович.
В углу просторной гостиной сверкала новенькой гирляндой высокая, под потолок, елка. В ее лучах радостно игрались дождики, отсвечивая разноцветными бликами. Стол, как обычно, ломился от праздничных яств: Ирина, несмотря на извечную занятость, постаралась на славу, да и как она могла не постараться. Это будничные блюда она не слишком любила готовить, а потому с радостью хваталась за оправдание в виде непосильной занятости и в основном кормила семью полуфабрикатами из ближайшего супермаркета. А уж праздничные, тем паче новогодние блюда – это был ее конек, тут она была еще та затейница. Да и Вероника Николаевна постаралась, принесла свои фирменные голубцы и заливной язык.
Все такие красивые, нарядные, веселые. Еще трезвые… Впрочем, эту оплошность никогда не поздно исправить. И Сергей, как глава семьи и единственный мужчина за столом, налил дамам вина, себе немножко водочки, и провозгласил тост:
– Ну что ж, давайте проводим старый год и дружненько, хором скажем ему искреннее спасибо. Год был, в общем и целом, вполне неплохой, да что там скромничать – год был откровенно хороший и плодотворный, в чем-то даже знаменательный. Маришка вот у нас стала почти взрослым человеком, паспорт получила. Правда, это еще не признак взрослости, не совершеннолетие, но уже первая ступенька к нему. И вообще – детям паспорта не выдают, так что, Марьяша, ты у нас уже почти что взросленькая. Вот такой год выдался: вроде и ничего, по крайней мере, для нашей семьи. С другой стороны, не удержалась Обезьянка, натворила бед напоследок: тут тебе и цунами с полутора сотнями тысяч погибших, приехавших весело отметить рождество в южных широтах, тут и больше сотни жертв рокового пожара на концерте в ночном клубе Буэнос-Айреса. Так что, Обезьяна, иди себе с Богом, и не поминай нас лихом. Да в следующий раз постарайся обойтись без жестоких шалостей. И Петуху, своему последователю, передай, что мы люди неплохие, и обижать нас не следует, а потому пускай будет поласковее с нами. В общем, спасибо, Обезьяна, и до следующих встреч.
Все одобрительно зашумели, дружненько встали в порыве красиво проводить сумасбродку Обезьяну, дабы у нее остались о семье Русаковых теплые воспоминания и она не вздумала корчить им свои обезьяньи рожицы в следующее свое правление, потянулись рюмками да фужерами друг к другу. И последние десять минут уходящего года прошли в непрерывном жевании и похвалах авторшам блюд:
– Ууу, а заливное-то на славу удалось! Ну, теща, ну, умница вы наша!
– Селедочка под шубкой замечательная вышла, – внесла лепту Ларочка. – Правда, я уже гору костей насобирала, но это такие мелочи, правда?
Ирину от замечания подруги передернуло: ну что за человек, обязательно все всегда нужно испортить! И вовсе нет в «шубе» никаких костей – она же несколько часов их из селедки выбирала, сама терпеть не могла, когда приходилось вылавливать косточки из салата! Ну одна, может, и затесалась случайно, но ведь аж никак не «целая гора»! Впрочем, на бестактный Ларочкин «комплимент» никто, кроме Ирины, не обратил ни малейшего внимания: все собравшиеся за столом знали Ларочкину подлую конструкцию, как облупленную. И тем не менее Ирине стало обидно.
Зато Ларочка торжествовала. «Занервничала, подружка? То-то! Ты еще не знаешь, что тебя ожидает в ближайшие пять минут!»
На голубом экране появился президент, как обычно, весь такой отглаженный и прилизанный мальчик-отличник. Что-то говорил своему народу, чего-то желал, да только его никто не слушал: в этот момент народ обычно откупоривает шампанское, а это, как известно, дело весьма ответственное и внимание присутствующих за столом обычно прочно привлечено именно к этому процессу – все жмурятся, старательно отворачиваются от бутылки, опасаясь пробки-пули, и все-таки непременно, пусть из-за плеча, но подглядывают за действиями смельчака, взявшего на себя эту непростую задачу.
Сергей, как всегда, с задачей справился мастерски: и выстрелить не забыл, и при этом умудрился не пролить на праздничную скатерть ни капли шампанского. И теперь, когда куранты на Спасской башне начали свой последний в этом году отсчет, шампанское щедро переливалось из бутылки в нарядные хрустальные фужеры под дружный комментарий собравшихся:
– Раз, два, три, четыре, пять…
Именно к пятому удару в каждом фужере играло шампанское, шаля и забавляясь, разбрызгивая мельчайшие капельки на руки и носы гостей. Но никто, казалось, не замечал этих полусладких колючек, продолжая считать, сколько еще ударов осталось до Нового года, до нового счастья:
– Шесть, семь, восемь…
И, аккурат за четыре секунды до того самого нового счастья, Ларочка разбила старое:
– За новое счастье, и пускай супружеская неверность останется здесь, в этом отвратительном году подлой изменницы Обезьяны!
Эта коротенькая тирада легла на оставшиеся четыре секунды, словно отрепетированная и в момент, когда куранты возвестили наступление нового, 2005 года, когда у соседей и на улице гремело дружное «Ура», в квартире Русаковых повисла гнетущая тишина. Казалось, все присутствующие напрочь позабыли причину, по которой собрались за праздничным столом, про шампанское, все еще брызгающееся в фужерах, весело плюющееся последними фонтанчиками брызг. Все взгляды были прикованы к недавней ораторше. Но никто не отваживался задать тот самый, судьбоносный вопрос. И, когда пауза затянулась уже просто до неприличия, Сергей, как глава семьи, его задал:
– Это ты о чем?
Ответ давно вертелся у Ларочки на языке, но отвечать до того, как прозвучал вопрос, в приличном обществе не принято.
– Это я об Обезьяне! – торжествующе изрекла она.
Присутствующие вздохнули свободно: ну, Ларочка, выдала! Как всегда, болтает, что ни попадя, ни на минуту не задумываясь о последствиях. Да, видать, рано вздохнули. Только пригубили шампанского, вспомнив о наступившем уже Новом годе, как Ларочка столь же торжественным тоном продолжила:
– Да-да, о подлой Обезьяне! Именно она во всем виновата! Если бы не ее рожицы да кривлянья, разве могло произойти то, что произошло? Разве могла Ирочка, такая умница, такая замечательная жена и мать, натворить столько бед самостоятельно?
И вновь за столом повисла тишина. На сей раз еще более гнетущая и тяжелая. Ведь в первый раз оставалась надежда на недоразумение, теперь же самые страшные слова прозвучали вслух.
И вновь Сергей сорвал паузу. Его тихий, но твердый голос показался громовым в той гнетущей тишине:
– Ты о чем? Будь добра, объясни, что за грязные намеки ты позволяешь себе отпускать в адрес моей жены?
Ларочка с готовностью подскочила со стула. В этой ее готовности явственно ощущалась отрепетированность. Даже, скорей, некоторая натренированность.
– Намеки? Грязные??? Впрочем, грязные – да, но не намеки! Я привыкла говорить правду в глаза, не скрываясь, я ненавижу ложь во всех ее проявлениях, и никто не смеет обвинять меня в намеках! Я не могу смотреть, как твоя жена сидит рядом с тобой рука об руку, словно ничего не случилось, сидит как порядочная женщина и делает вид, что она не понимает, в чем ее обвиняют. Я презираю ее за ту ложь, которую она внесла в дом, в нашу семью. Да-да, нашу! Я всегда ощущала себя частичкой вашей семьи, полноправным ее членом. А потому не потерплю подлости и предательства в нашей семье!
Сергей с трудом проглотил возникший вдруг комок в горле и в третий раз задал все тот же вопрос:
– Ты о чем?!!
Ларочка, словно очень давно ожидала удобного момента, ловко выхватила из лежавшей рядом сумочки фотографию:
– Вот о чем! Вот о чем!!! Вот! – торжественно вручила фото главе семьи. – Я все надеялась, что у нее проснется совесть и она сама расскажет тебе обо всем. Но мои надежды не могли оправдаться. Потому что та, что все эти годы скрывалась за маской порядочного человека, оказалась последней дрянью и подлой обманщицей! Маришка, девочка моя дорогая, прости, что вся эта грязь выплыла при тебе, но ты уже взрослая девочка, даже паспорт имеешь, а я не смогла сдержаться, не смогла смотреть в ее лживые глаза. И вы простите, Вероника Николаевна, я не хотела сделать вам больно. И ты, Сергей, не держи на меня зла. Обижайся и злись на предательницу, а не на вестника, принесшего в дом дурные новости. Я только хотела помочь тебе избежать лживых признаний и обещаний…
Речь ее была выспренно-фальшивой, приготовленной загодя, привычно зазубренной, как урок по физике. Никто ни на минуту не поверил в ее искренность, но с такой болью заиграли желваки на лице Сергея, такое отчаянье отразилось на его лице, что все за столом, еще не видя фотографии, поняли – это страшный компромат, подтверждающий каждое сказанное Ларочкой слово.
В сердцах швырнув фотографию на стол, Сергей метнул в сторону Ирины взгляд разъяренного раненного льва, и вышел из гостиной. Фото воткнулось углом в заливное, несколько раз покачнулось, но устояло, больше того, заливное сыграло для него роль подставки. И теперь фотография, словно в рамке, стояла посреди стола и любой мог любоваться изображением.
А любоваться было чем. Снимок вышел мастерский, высокохудожественный. Балкон ресторана «Домашняя кухня» был на нем похож, скорее, на романтическую беседку, подсвеченную извне ослепительными фонарями, отраженными в стекле балкона. Чугунные колонны, расплетенные вверху причудливыми зимними безлистными ветвями, словно издеваясь над Сергеем, создавали впечатление ореола из оленьих развесистых рогов. Под ними двое в весьма недвусмысленной позе: его руки у нее на груди, как будто бы придерживают лацканы пиджака, но почему на груди?! Мужчина и женщина на снимке не целовались, но близость и выражение их лиц говорили лучше любого поцелуя: да, они не целовались, но между ними было гораздо больше общего и запретного, чем обычный поцелуй! Пожалуй, даже фото полуобнаженных или вовсе обнаженных людей выглядело бы более невинно, нежели это изображение двоих, пожирающих друг друга глазами, готовых отдаться друг другу прямо здесь и сейчас, в этой прозрачной беседке, простреленной резкими лучами фонарей, в присутствии миллионов свидетелей-снежинок… Это, казалось бы, абсолютно невинное фото, было настолько насыщено, пропитано эротикой, что она, эта чрезмерная эротика, словно бы даже капала с фотографии, острым соусом растекаясь прямо по заливному. И ни один зритель никогда в жизни не поверил бы, что на снимке – двое посторонних людей, разгоряченных быстрым танцем и соединенных на пару мгновений разве что пиджаком. Фотография была столь красноречива, что даже Ирина усомнилась в собственной верности мужу.
* * *
– Да-да, представьте себе – я сама усомнилась в том, что между нами ничего не было… Знаете, если бы эта фотография попала на какой-нибудь фотоконкурс, она непременно выиграла бы главный приз. Даже нет, она собрала бы море главных призов всех мировых фотоконкурсов! Ларочка, конечно, распоследняя дрянь и мерзавка, но снимок у нее вышел замечательный. Не каждый признанный мастер сумел бы сделать хотя бы бледную его копию. В этом снимке уместился целый несуществующий роман! Чтобы поверить в то, что у этих людей давние и страстные отношения, зрителю не нужны были ни дополнительные доказательства, ни богатая фантазия. У нее получилось слишком красноречивое фото.
Ирина замолчала, погрузившись в воспоминания о крахе. Спутница терпеливо ждала продолжения. Зачем торопить? Когда человек не готов рассказывать дальше, он лишь замкнется в себе от неосторожных расспросов. А продолжение все равно будет – уж если человек сказал «А», «Б» обычно не заставляет себя долго ждать.
* * *
Никакие уверения в верности результатов не принесли. Сергей наотрез отказался ей верить.
– Молчи! Не смей мне лгать! Я видел это фото собственными глазами! Или, скажешь, это фотомонтаж? Скажи, скажи, что это фотомонтаж, скажи, я поверю. Скажи! Это монтаж или это было на самом деле?
Ах, как Ирине хотелось спрятаться за спасительной ложью. Так хотелось крикнуть:
– Да, да, конечно, фотомонтаж, дорогой! Разве это может быть правдой?
Но нет, ложь, даже если это ложь во спасение, неприемлема. Не могла она лгать, глядя в его полные надежды глаза.
– Нет, это не монтаж, – она с трудом выдавила из себя признание. – Но это все равно неправда. Не верь ей, слышишь, не верь! Я просто выпила слишком много шампанского…
– А. Так это шампанское во всем виновато? Ну конечно…
– Да нет, не шампанское. Я, я сама виновата, только ведь ничего не было! Выслушай меня – ничего не было, ничего! И быть не могло, ведь он совсем мальчишка! А я не Пугачева, меня дети не интересуют! Он меня даже не поцеловал, он только набросил на меня пиджак, и все! Пиджак, понимаешь? Или пиджак – это уже измена?
В глазах Сергея засветилась надежда. Совсем слабенько, едва заметным огоньком, но это была надежда, надежда на спасение от предательства. Может, и правда – один только пиджак, и все? А Лариска, известная своею подлостью, выхватив мгновенье из вечности, выдает за измену один несчастный пиджак?
Но Ларочка знала, что, не будь ее рядом, вся афера может лопнуть, а потому стояла у самой двери, подслушивая каждое слово сквозь неплотно прикрытую дверь. И тут же встряла в разговор супругов, лишь только почувствовала, что Сергей готов поверить жене:
– Пиджак, говоришь? Честная, говоришь? А что ж ты, такая честная, без мужа по застольям шляешься?
Ирина гневно глянула на мерзавку и рявкнула:
– Вон отсюда, дрянь!
Ларочка проигнорировала ее слова. Зато с радостью ухватилась за недоуменную реплику Сергея:
– Так это же корпоратив, там же собираются только сотрудники, ты же сама знаешь…
– В самом деле? – картинно вздернула бесцветные бровки Ларочка. – Это она тебе сказала, верная супружница? А мне, например, другое известно: у нас уже три года вечеринки открытые, народ, в основном, парами приходит. Если, конечно, не имеют особых причин скрывать своих мужей от общества. Или наоборот… Вот некоторые, видимо, имея большие планы на этот вечер, скрыли от законных супругов, что приглашение было выписано на семью, а не на одну только жену. Не веришь – спроси у кого угодно, хоть у самого Буськова! Любой подтвердит, что Новый год у нас в тресте праздник семейный. По крайней мере, последние три года.
Сергей, еще надеясь, что Лариска все придумала, подтасовала факты, с надеждой посмотрел на супругу: ну скажи, скажи, что она лжет, ведь это не может быть правдой, скажи! Но, вместо того, чтобы опровергнуть Ларискины обвинения, Ирина лишь виновато отвела глаза в сторону, не в силах встретиться с мужем взглядом. Именно в эту минуту мир для обоих рухнул навеки.
* * *
– Как, ну как, скажите на милость, я могла ему сказать, что все почти двадцать лет совместной жизни стеснялась его профессии? Господи, каким смешным это выглядит теперь. Какая же я была дура! Профессия?! Руки с въевшимся под ногти машинным маслом?! Отсутствие высшего образования?! И я ведь знала, всегда знала, каждую нашу минуточку, что это мелочи, абсолютные, ничего не значащие пустяки! Главное – что я люблю только его, а он любит только меня, понимаете? Только меня! Вернее, любил…
Ирина вновь замолчала. Однако потребность высказать наболевшее давила изнутри, слова сами выплескивались наружу:
– А хуже всего то, я даже и сейчас не смогла бы ему признаться в том, что стеснялась его рук. Не смогла бы обидеть его, унизить своим стеснением. Мне легче было оставить все, как есть: измена – это больно, но не так унизительно, как если жена стесняется своего мужа. Понимаете? Я слишком сильно его люблю… Боялась унизить правдой, а из-за этого он за правду принял ложь…
* * *
Николай терпел. Он долго терпел, как эта дрянь издевалась над ним. Мстила ему за его благородство. Он спас ее от позора, женился на падшей женщине, терпел в доме байстрюка, зачатого от одного из многочисленных кобелей, увивавшихся за дармовой сукой. И за это она, подлая, мстила ему изо дня в день. Вернее, из ночи в ночь.
Дни Николай проводил в мечтах, в воспоминаниях о той жуткой, но такой сладкой оргии. Сторонний наблюдатель видел лишь хорошего офицера, заботливо воспитывающего желторотых мальчишек, впервые надевших шинели и болтавшихся в них, как карандаши в стаканах; непрестанно несущего службу, отдававшего свой офицерский долг Родине и готового в любой момент защитить собственной грудью отчизну от возможного неприятеля. И только сам Николай знал, что творилось у него в душе за наносной серьезностью и положительностью. Его тело денно и нощно требовало любви, но не той, пресной и холодной, по-рыбьи бесчувственной, которой каждую ночь вынужденно одаривала его супруга. Нет, он всею душою, всем телом, каждой волосинкой жаждал той распутной любви, которую познал единственный раз в жизни, устыдившись свидетелей своей необузданности.
Он опустился до того, что просил (!) о такой любви свою законную шлюху! Он, офицер, унизился до того, что просил одолжения у шлюхи. Молил чуть не на коленях! И что? Она, прочувствовав всю ответственность момента, дала ему желаемое? Как же, дала! Дрянь такая. Она-то дала, да не то, чего так хотел, так жаждал Николай. Она в очередной раз «одарила» законного супруга отвратительным ледяным сексом, когда каждая клеточка ее тела буквально кричала ему, как он, Николай, противен ей со своими притязаниями.
Порой он готов был убить подлое созданье, отравлявшее его жизнь. Удавить подлую шлюху с ее беспородным выродком-приблудышем, избавиться от позора одним махом и забыть, забыть эту развратную дрянь раз и навсегда. Иногда он даже обдумывал детали предстоящей расправы, решая, как лучше обыграть свое алиби. Но мысли об убийстве так и оставались мыслями, так же, как и мечты о безудержном сексе оставались мечтами. А ведь он женился на этой дряни не только из любви к красивой картинке под названием «Паулина Видовская», но и из надежды, что, женившись на ней, каждую ночь будет иметь тот праздник тела, который испытал однажды. И, по его расчету, эти ночные праздники должны были с большим перевесом перетянуть неуютные воспоминания о разгульном прошлом супруги. Но где-то он допустил ошибку в расчетах. Знать бы где, исправить бы промах… Или хотя бы отыграть все назад: не жениться на шлюхе, не провести с ней ту памятную ночь, перевернувшую его жизнь…
Памятуя о неадекватном действии алкоголя на организм Паулины, он несколько лет не позволял ей прикасаться к спиртному. Даже на свадьбе запретил ей выпить хотя бы бокал шампанского, опасаясь, как бы молодая супруга не устроила стриптиз прямо на праздничном столе. И постепенно этот запрет вошел в привычку. Даже на Новый год, в компании с сослуживцами и их женами, когда пили все, даже язвенники и трезвенники позволяли себе хотя бы пару бокалов шампанского, Паулина обходилась лимонадом. Она отнюдь не была уверена в том, что все россказни Николая о ее, мягко говоря, раскрепощенном поведении под воздействием алкоголя являются правдой. Однако на всякий случай осторожничала – чем черт не шутит, а вдруг действительно она дала ему повод так говорить. Конечно, вытворять то, что она, по словам Николая, вытворяла, Паулина не могла хотя бы потому, что не могла бы этого сделать никогда, но… вдруг все же самую чуточку, самую малость лишнего себе позволила. А потому спиртное стало для нее непререкаемым табу.
Однако спустя некоторое время, когда Вадику было лет шесть, Николай собственноручно налил супруге даже не бокал шампанского, а – о ужас! – рюмку водки. Правда, не за общим столом. В тот день они обмывали его очередную звездочку, и дом был полон гостей. И гости, и виновник торжества порядком набрались, Паулина только и успевала подавать на стол все новые и новые бутылки да обслуживать гостей. С утра крутилась на кухне, готовя праздничные закуски, весь вечер бегала с кухни в гостиную, что-то разогревала, что-то подрезала, меняла тарелки, мыла, приносила-уносила… Выбегалась, устала так, что белый свет не мил. И когда, наконец, за последним гостем закрылась дверь, радостно вздохнула и кинулась собирать со стола.
Но не тут-то было: Николай притянул Паулину к себе, посадил на колени, нагло забравшись левой рукой под платье. Паулина съежилась: ну вот, опять начинается! Свободной рукой Николай налил рюмку водки из почти уже пустой бутылки, не сказал – приказал:
– Пей!
– Нет, Коля, мне же нельзя, ты что, забыл? Да и не пью я водку…
– Я сказал: пей! – командирским тоном повторил он, сверкнув гневным взглядом.
Зажмурившись, Паулина выпила. Водку она пила впервые. Было время, в далекой молодости упивалась до чертиков шампанским, но в силу юного возраста и наносного аристократизма от водки нос воротила, коньяк же всю жизнь считала мужским напитком. Водка обожгла, горло сжало спазмом, и Паулина испугалась, что ее сейчас стошнит, но нет – удержалась, да и Николай подсуетился, вовремя подсунул стакан с лимонадом. Спазм в горле разошелся, внутри разлилось приятное тепло.
Паулина улыбнулась: и совсем не такая она противная, эта водка, как говорят! Даже, пожалуй, есть в ней что-то такое… приятное, теплое. И рука Николая, холодная и отвратительная, стала, кажется, значительно теплее. И с чего она взяла, что его рука отвратительная? Наоборот, она такая ласковая, несмотря на грубость и требовательность… О, да она совсем и не грубая! Требовательная – да, но не грубая… Да нет, она даже ничего и не требует, она только дает! А что же она дает? О Боже, что она ей дает!
Блаженство разлилось по телу Паулины: о, она просто обязана отблагодарить его за это блаженство! Обязана?! Да нет же, нет, не обязана. Это не долг и не обязанность, это – ее право, это ее привилегия. Если ей хочется это сделать – зачем сдерживать свои желания.
– Ах, милый, где ты прячешь свое сокровище? – похотливо промурлыкала Паулина, опускаясь на колени перед мужем…
Наконец Николай сполна получил все то, о чем мечтал долгие семь лет. Это была почти та ночь!
С изумлением он понял то, чего не понимал все эти годы. Он ненавидел Паулину за то, с каким нескрываемым восторгом она проделывала это при свидетелях, или, скорее, соучастниках. Ненавидел за то, что самые главные свои, самые будоражащие сексуальные впечатления получил, опять же, не один на один, а при свидетелях и соучастниках. Он не мог простить ей того, что все эти годы даже воспоминания свои о той омерзительно-сладкой ночи он опять-таки вынужден был делить с посторонними ему людьми, которых он к тому же презирал ничуть не меньше, чем саму Паулину. Они, эти воспоминания, были вроде как не совсем его собственные. Они, как и Паулина, были даже не общими с соучастниками, а словно похищенными у остальных. Вроде он, как тать, воспользовался бардаком, и украл в личное пользование кусочек Полины, кусочек всеобщего кайфа той бордельной ночи.
Теперь же, когда Паулина безраздельно принадлежала ему одному, вся, до последней капельки, без остатка, когда он и только он мог проделывать с нею все те штучки, что когда-то на его вожделеющих глазах проделывали с Паулиной чужие самцы, наряду с кайфом вседозволенности он почувствовал удивившую его раздосадованность. Еще несколько часов назад его душили ревностью воспоминания о том, что ее губы ласкали поочередно незнакомых друг с другом мужиков, на одну безумную ночь ставших ее стараниями «молочными братьями». Жадные, любвеобильные губы Паулины, ее гостеприимное ненасытное лоно непостижимым образом сроднили их, случайных «попутчиков» той ночи.
И теперь, когда он, наконец, смог вернуть себе именно ту Паулину, ту отвратительную в своей доступности, даже дармовости шлюшку, больше всего ему хотелось разделить этот праздник секса с «молочными братьями». Теми же, или другими – не суть важно. Важно, чтобы кто-то видел, что Николай вытворяет с потерявшей стыд женой. И не менее важно, чтобы Николай мог видеть, что с его потерявшей стыд женой вытворяет кто-то посторонний.
Поймав себя на этой мысли, Николай взопрел от ужаса и возбуждения. И не мог понять, то ли рад тому, что сторонним незнакомцам в гарнизоне взяться неоткуда, то ли огорчен.
Он проснулся первым и с немым обожанием уставился на сопящую рядом Паулину. Хороша, чертовка! И пусть она давно уже обрезала белокурые волосы, которые он так любил, и пусть теперь вместо ангелочка выглядит рыжей бестией – до чего же она хороша. Лицо белое, чистое, как у девочки. Пухлые губы приоткрылись, выставляя напоказ жемчуг зубов. Эти губы… Что они вытворяли всего несколько часов назад! А тело!..
В ней странным образом уживались дьявольская сущность и божественная красота. Несмотря на очень сложное к ней отношение, Николай вынужден был это признать. Он мог сколько угодно ненавидеть ее, как человека, но ее тело сводило его с ума. Даже беременность не смогла его испортить. Безмятежно раскинувшаяся на смятой простыне, она выглядела пятнадцатилетней нимфеткой. Ни дать, ни взять, Лолита. Маленькая испорченная дрянь. Чертовка, мастерски управляющая взрослым мужиком. Он, офицер, зависит от нее не меньше, чем пес на коротком поводке зависит от своего поводыря. Плохо уже то, что он сам понимает свою зависимость. Но нельзя допустить, чтобы о ней узнала Паулина. Она должна думать, что это она – его рабыня. А от своей рабской от нее зависимости он постарается избавиться.
Наверняка это не составит особого труда. Теперь, когда он наконец-то выдернул ее из состояния сомнамбулы, в котором она пребывала все эти годы, возврата к старому не может быть. Прошлой ночью он основательно стряхнул с нее спесь недотроги. Теперь все встало с головы на ноги: шлюха вновь стала шлюхой, больше нет смысла притворятся нормальной женщиной. Теперь каждую ночь он будет получать то, чего так долго желал. А когда недоступное становится доступным, оно перестает казаться чем-то особенным. Вне всякого сомнения, он избавится от зависимости. Он еще охладеет к ней, заведет любовницу. Скоро не он будет добиваться от нее секса без тормозов, а она от него. А он будет держать ее в холодном теле. Отныне поводок не в ее руках, а в его! Теперь он будет мучить ее пресным сексом. Или даже нет – воздержанием! Заведет себе любовницу, а Паулину посадит на голодный паек. Да! Он так и сделает.
Но… не сейчас, нет. Сейчас Николая неудержимо влекло к этому падшему ангелу. Слишком живы были впечатления от недавних игрищ с Лолитой. Возжелав продолжения ночного кутежа, он впился губами в ее сосок, втягивая, всасывая в себя Паулину, словно крокодил, заглатывающий жертву целиком. Она проснулась, скривилась от боли:
– Ай! Перестань, мне больно!
Этот ее вскрик обжег его холодностью. Николай отпустил грудь не без сожаления, рука его скользнула под одеяло. Он уже понял, что ночная оргия не вернется, но тело его еще жило ожиданием праздника.
Паулина не отказала ему, не кочевряжилась. Она покорно раздвинула ноги. Но он чувствовал – это уже не та Паулина, не фея ночи. Лолита рассеялась под первыми солнечными лучами. Рядом с ним вновь лежал манекен: столь же безотказный, и столь же безответный: рядите меня в любые одежки, делайте со мной, что пожелаете – мне это все равно. Чары «наркоза» рассосались. Черт бы ее побрал! Она все еще не наигралась во фригидную статую!
После скучного секса, больше похожего на утреннюю гимнастику, Полина накинула халатик.
– Что вчера было? – в ее голосе слышалось напряжение.
Что было?! Николай чуть не выматерился в голос. Да ничего особенного! За исключением того, что это была их лучшая ночь за все время, пока они вместе. Неужели ей не понравилось?
Не понравилось – это не про нее. Когда не нравится, поступают так, как она поступила только что – раздвинула ноги, изо всех сил демонстрируя отвращение к партнеру. Николай знал: настоящая она была ночью. А сейчас… Сейчас она вновь вернулась к своим идиотским играм в холодность, не хочет признать, что все эти годы была неправа, изображая из себя надгробный памятник Паулины Видовской.
И все таки «Что вчера было?» – это слишком подло даже для нее.
– Ты о чем?
– О том! Ты мне вчера наливал водку, или мне это приснилось?
– Наливал, – все еще не понимая вопроса, ответил Николай.
– Ну? – нетерпеливо спросила Паулина.
– Что ну?
– Ну что ты разнукался, как маленький? Я спрашиваю: что вчера было? Я выпила водки, и что?
Врать она не умела, он это знал. И притворяться тоже не умела. Может, она и была когда-то певичкой, но актрисой не была никогда.
– Ты…? Ты не помнишь?!
– Если бы помнила, не спрашивала бы. Так что было?
Вот оно как. Первое время Николая дико бесило отрицание ею фактов. Он относил это к ее беспринципности. Был уверен, что она в грош не ставит понятия о чести, человеческую мораль. Он упрекал ее за распутство, а она ему нагло заявляла, что ничего такого не было. Он принимал это за цинизм, а она…
Да ну, так не бывает. Не может человек абсолютно не помнить, что творил несколько часов назад. Даже если был пьян. А Паулина-то выпила всего ничего, он ведь налил ей единственную рюмку водки. Даже воробью не хватило бы такой дозы для беспамятства, а уж женщина, пусть даже хрупкая, никак не воробей.
Так врёт, или и в самом деле не помнит? Наверняка врёт! Вот только врать она не умеет…
Николай замешкался на долю секунды. Сказать правду, что она снова была той животной тварью, которая покорила его своей беспредельной развратностью в ту памятную ночь? Описать в красках, как они любили друг друга этой ночью, что испробовали пусть не все известные человечеству позы и способы, но… в общем, авторы Камасутры не краснели бы, подглядывая за ними в замочную скважину.
Его так и подмывало рассказать ей все. Пусть знает, какая она на самом деле, когда срывает внутренние тормоза. Пусть знает, что ее маниакальная скромность никому не приносит удовольствия, в том числе ей самой. Пусть знает, что им обоим станет лучше, если она навсегда прекратит вести себя, как истукан в юбке!
Он очень хотел рассказать правду. Но внутри сидел страх. Николай-то, конечно, был уверен, что врать Паулина не умеет. Но если все-таки допустить, что он ошибается и она врет, что все она прекрасно помнит, и эта ее забывчивость – лишь еще один элемент игры в каменное изваяние, то тем самым он откроет ей себя, покажет свою от нее зависимость. Рабскую, признаться. А он, Николай Черкасов, советский офицер, априори не может быть рабом, он не может зависеть от милости подзаборной шлюхи.
И ладно бы она просто узнала об этой его зависимости. Но она ведь наверняка станет ее использовать. Станет понукать им, грозя отлучить от тела, веревки вить будет. Из него, офицера советской армии!
Существовала и другая угроза. Если Николай прав и она не врет, правда о вчерашней ночи может шокировать ее так, что ему больше никогда не удастся влить в нее ни глотка алкоголя. И уж тогда… Паулина не будет шантажировать его отлучением от тела, нет. Куда хуже: она никогда не будет отказывать ему в сексе. В незатейливом и безвкусном, похожем на утреннюю гимнастику. А другого секса он от нее теперь до самой смерти не получит.
Нет уж. Правда, конечно, хороша, но ложь со всех сторон выгоднее.
– Да ничего не было, – ответил Николай, стараясь приглушить волнение в голосе. – Посидели, поговорили. Помечтали о будущем…
– О будущем? – в глазах Паулины сквозило недоверие: с какой бы стати она обсуждала с ним свое будущее, в котором Николаю места не предвидится?! – И о каком же будущем мы мечтали?
– Ты что, и правда ничего не помнишь, ни словечка?
Паулина на мгновение задумалась и уверенно покачала головой. «Еще бы, – усмехнулся Николай. – Конечно, не помнишь ни словечка. Прошлой ночью было все, кроме слов. О чем с тобой, шалавой, говорить?» А вслух сказал:
– Мечтали, как Вадим вырастет, как отдадим его в военное училище, как офицером станет, как продолжит семейную династию…
– Врешь, – неожиданно зло и дерзко заявила Паулина. – Вот тут ты все врешь! Не могла я мечтать об этом! Да я никогда в жизни не соглашусь, чтобы Вадик стал военным! Врешь, ты все врешь! Ты просто скрываешь от меня…
На ее глазах выступили слезы, и Николай испугался, что не выдержит ее слез и признается во всем. В том, какая это была… эээ… плодотворная ночь, какой чертовски-разнузданной была Паулина, с каким трудом удалось ему удержать ее дома, когда она в безумном порыве ненасытности рвалась позвать ближайшего соседа отпраздновать торжество здорового секса.
– Вру, – с легкостью согласился он. – Вру. Ты и вчера говорила то же самое. Сказала, что в семье достаточно одного дуба. За что и получила от меня конкретный нагоняй. Мы немножко поссорились, а утром я понял, что неправ, и решил извиниться. Я не буду настаивать, чтобы Вадим стал офицером. Но и ты его не отговаривай. Давай договоримся: вырастет – сам решит свою судьбу, без нашего с тобой вмешательства. Согласна?
Паулина почувствовала подвох. Что-то здесь не то. Как-то легко он отказался от мечты о семейной династии, подозрительно легко. Или ей только кажется? Уж не мания ли у нее?
Странно, что она ничего не помнит. Она и раньше, бывало, испытывала провалы в памяти, но тогда вокруг было море поклонников, шампанское лилось рекой – было от чего захмелеть. А главное – от кого! А тут… Не могла же она захмелеть от мужа! И ведь выпила-то всего ничего. Наверное, это водка так на нее подействовала.
Знать бы еще наверняка, как именно она подействовала. Николай ведь до сих пор шпынял ее за якобы распутство в ее звездные времена. Паулина-то, конечно, не верила в эти его россказни, но когда тебе много лет вбивают в голову какую-то мысль, причем зачастую вбивают в прямом смысле слова, помимо воли начинаешь сомневаться в себе.
В любом случае, изменить Паулина ничего не может. Что бы ни произошло ночью – это уже произошло. Назад уже ничего не отыграешь. Остается надеяться, что Николай наконец-то говорит правду. Они просто спорили о будущем Вадика, да. Это похоже на правду. А уж то, что он упомянул про нагоняй, придает его словам стопроцентную правдивость. Без нагоняев с его стороны они практически не общаются. Может, и до драки дошло – тело как помятое, мышцы ноют. Спасибо, хоть синяков не оставил.
Точно. Потому-то Николай и замешкался с ответом на ее простой вопрос: «Что вчера было?» Видимо, вчера он конкретно распустил руки. Остается надеяться, что Вадик не видел, как Николай ее избивал. Бедное дитя…
Вот и пришел конец ее сомнениям: все намеки Николая на ее мифическое распутство под воздействием алкоголя – сказка чистой воды. Она была права все эти годы: Николай все это выдумал, чтобы жениться на ней. Просто выдумал.
* * *
Ирина не могла оставаться дома. Вернее, ей не было там места. В их новой просторной квартире нашлось место всем, кроме нее. Сергей закрылся в спальне, не желая видеть и слышать предательницу-жену. Маришка, вся в слезах, закрылась в своей комнате, бросив на прощание полный презренья взгляд на предательницу-мать. Вероника Николаевна по-прежнему сидела за столом, не в силах вымолвить ни слова, лишь с немым укором и бесконечной жалостью глядя на предательницу-дочь. Предательница-подруга сидела напротив, нагло ухмыляясь в лицо жертве оговора. Всем в этом доме нашлось место. Всем, кроме Ирины.
Еще три дня назад, в тот проклятый день двадцать восьмого декабря, шел снег, создавая иллюзию праздника, дурманя головы подвыпивших людей, заставляя поверить в сказку. Жухлые листья, по странному капризу природы все еще висевшие на ветвях, покрылись снегом и стали похожи на елочные игрушки. Тогда все вокруг выглядело нарядным и праздничным. Теперь же, в новогоднюю ночь, с неба не упало ни одной снежинки. Больше того, даже тот, предательский, снег растаял, превратив сказочно-прекрасный город в мегаполис-помойку. Москва горела миллионами огней и огоньков, переливалась тысячами разноцветных бликов, а под ногами прохожих булькала грязная жижа.
Впрочем, прохожих как раз и не было. Улица вокруг была пустынна. Во всем безумном, грязном, лживом мире Ирина оказалась одна. За окнами домов веселился народ, где-то уже пели, где-то с балконов шумно выстреливали фейерверки, кругом стреляли, гремели взрывами петарды, но это был лживый мир. На самом деле нет никакого праздника, нет в мире радости и веселья, нет счастья. Нет музыки, нет цветов, нет запахов. Есть грязь и ложь, и все веселье, происходящее вокруг, ни что иное, как обман зрения, стереомультфильм: очень похоже на правду, но ложь. Иллюзия жизни вместо самой жизни. Одна сплошная иллюзия. А на самом деле кругом только грязь, и пахнет не мандаринами под елкой, а опять же – грязью.
Она шла и шла, не выбирая дороги и направления, не зная конечного пункта маршрута, не ведая цели. Вернее, цель у Ирины была. Умереть. Это единственное, чего ей сейчас хотелось. Нет, она не собиралась кончать жизнь самоубийством. Не из страха боли или осуждения. Единственное, что останавливало ее от самоубийства, что там, где она окажется после, уже никогда не сможет встретиться с Сергеем и объяснить ему всю ложь и нелепость обвинений в измене. Сереженька, миленький, родненький, да как же ты мог поверить? Да разве ж ей нужен тот мальчишка? Да ведь он ей никогда и не нравился, скорее наоборот, был ей крайне неприятен. И как же так получилось, что на фотографии они так близко? И почему она буквально пожирает его глазами, готова практически сию минуту броситься в его постель? Ведь этого не было! Не было. Не было… Ничего не было…
Все кончено. Сергей никогда не простит. Не поверит, что ничего не было. Не поверит, что всю жизнь она любила только его и никто другой ей никогда и даром не был нужен. И что на самом деле влюблена в Вадима не она, а Лариска. Что отомстила, мерзавка, как раз за то, что на нее саму Вадим не клюнул, а давно заглядывался на Ирину. Лариска – дрянь, но у нее есть доказательство неверности в виде фотографии. А у Ирины никаких доказательств нет. Ни своей верности, ни Ларискиного предательства. Никаких доказательств, пусто!
Все кончено… Ее никогда не простит Сергей. Ее никогда не простит Маришка. Ее никогда не простит мама. Они никогда не простят ее за то, чего она не делала. И доказать, что она ничего предосудительного не сделала, невозможно. Нет, мама, наверное, простит – на то она и мать, но осуждать будет до последнего вздоха. Но это бы полбеды, с этим можно было бы жить дальше. Ее никогда не простят Сергей с Маришкой. Вот это беда. С этим жить нельзя. Когда любимые муж и дочь считают тебя предательницей и изменницей – с этим жить нельзя…
Ирина шла и шла, твердя про себя:
– С этим жить нельзя…
Она не просто так повторяла эти слова. Она кликала на себя гнев Божий, кару небесную. Ей нельзя больше жить, все кончено, так почему она еще жива? Ведь ночь, пустынно и страшно, она одна посреди пустого и чуждого ей города, в шикарной шубе, с бриллиантами в ушах и на пальцах. Ну где же вы, разбойники-грабители, убийцы-потрошители? Куда вы попрятались в самую важную в году ночь? Ну вот же я – берите, режьте, стреляйте, забирайте бриллианты, снимайте с моего хладного трупа меха! А самое главное – заберите мою жизнь, мою никчемную, никому не нужную жизнь! Где вы, убийцы, зачем попрятались по норам? Ау! Убейте меня, ну пожалуйста, ну кто нибудь, смилуйтесь надо мною – убейте меня…
* * *
– Не у-би-ли…
Ирина произнесла это с таким бесконечным разочарованием, что у невольной слушательницы сжалось сердце, словно и ей было жаль, что подлые убийцы почему-то попрятались по норам в новогоднюю ночь. Поймав себя на этой мысли, собеседница-незнакомка тряхнула головой, как бы сбрасывая с себя наваждение, и произнесла:
– Вижу. А что было дальше?
Ирина горько вздохнула:
– Звонок…
* * *
Было уже начало шестого, когда тишину новогоднего утра прорезал телефонный звонок.
Ирина достала мобильный из сумочки, посмотрела на дисплей. Сердце радостно екнуло – там высветился номер Сергея. Он волнуется, возможно, он уже простил ее? Или, по крайней мере, готов простить?
– Алло, – ее голос дрогнул от надежды.
– Ира, мама умерла. Иди домой, ее еще не увезли. И нужно что-то решать с похоронами…
Сердце застыло комом в горле. Ирина хотела спросить, чья, чья мама умерла, но язык не повиновался. Обычно Сергей называл тещу Вероникой Николаевной. Значит, умерла мать Сергея? Тогда почему «иди домой, ее еще не увезли»? Неужели?… Нет!!! Господи, нет, прошу тебя, пожалуйста, нет, нет, нет!!! Не надо, Господи, не так, только не так! Это я должна была умереть, я, слышишь, я! Ты все напутал! Я, Господи, я…Меня, пожалуйста, Господи, меня, меня!..
Веронику Николаевну похоронили третьего января. И в ее смерти была виновата, конечно же, Ирина. Сердце матери не вынесло подлости дочери. Так думали все кругом, так думала и сама Ирина. Да, это она убила маму. Своим легкомысленным поведением, тем, что дала повод думать о себе плохо. Тем, что выпила в тот проклятый вечер слишком много шампанского, а потому пришлось выйти на тот проклятый балкон с тем проклятым Вадимом… Она убила свою мать, убила свою семью. И теперь она одна. Одна в целом свете…
Сергей подал на развод. Маришка категорически отказывалась разговаривать с матерью даже по телефону. Ирина переехала в старую квартиру, откуда тридцать первого декабря, радостная и веселая в ожидании праздника, нагруженная свертками и судочками с голубцами и заливным языком, вышла ее мама. Вышла, а обратно не вернулась. И уже никогда не вернется.
В первый же рабочий день Ирина уволила Ларису Трегубович с должности своего секретаря. Надеялась таким образом избавиться от мерзавки навсегда. Не тут-то было. Эта дрянь подала иск на трест за незаконное увольнение, и Ирине снова пришлось терпеть негодяйку в своей приемной.
Развели Русаковых просто и быстро. Ирине не хватило наглости протестовать против развода. Что ж, если Сергей решил – так тому и быть. Да и все равно, семья уже распалась, время вспять не воротишь. Нет больше семьи, нет мамы.
Но осталась мамина квартира, а потому Ира отказалась от размена общей с Сергеем и Маришкой квартиры в крутой новостройке. Она ведь не на улице остается, а усугублять делёжкой и без того тяжелые отношения не хотелось. Не хотелось еще больше портить жизнь любимым, вынуждая их менять привычный образ жизни. На том и порешили – Ирина забрала только свои носильные вещи, все остальное, в том числе машина, осталось Сергею с Маришкой. Ире машина не была нужна – водить она все равно не умела, и в ее распоряжении оставался служебный Мерседес.
Привыкнуть к новой жизни было нелегко. Спасала работа. Только там теперь Ирина могла существовать. Но, вопреки указанию Буськова, жалюзи в ее кабинете теперь постоянно были закрыты – Ира не желала видеть подлую физиономию секретарши и призывно-сочувственные взгляды Черкасова.
Жить не хотелось, есть не хотелось, спать тоже не хотелось. Ирина осунулась, под глазами прочно залегли темные круги. К ней стремительно возвращался ее реальный возраст…
* * *
Ларочка торжествовала. Вот он, миг удачи! Отомщены все ее унижения, настал, наконец-то, и на Ларочкиной улице праздник! Получилось даже лучше, чем она задумывала. Вероника Николаевна, умница, очень вовремя умерла от инфаркта. Теперь-то уж Ирке точно мало не покажется! Еще лучше было бы, если б старушка не откинулась в праздничную ночь, а сдружилась с Кондратием: так, чтобы Ирке еще много-много лет из-под нее пришлось говно выгребать – вот это был бы полный кайф, вот это вышло б ей настоящее наказание за все ее подлости, которые Ларочке пришлось терпеть с самого раннего детства. Да только хитрая сучка вряд ли стала бы рученьки свои холеные мамашкиным дерьмом марать, наверняка наняла бы сиделку – у нее ж денег куры не клюют. Так что ладно, и так все вышло просто замечательно. Спите спокойно, Вероника Николаевна, ваш мужественный поступок оценен на пять баллов.
Ирка, правда, чуть было не нанесла Ларочке ответный удар, уволив ее. Ларочка такой подлости не ожидала. Уволить собственную подругу?! Оставить без средств к существованию человека, на чьей шее глыбой висит престарелая мать?! Ишь, чего удумала! И за что – за правду?!
Но Ларочкина растерянность длилась каких-то пару часов. Едва собрав вещички и покинув приёмную, она тут же направилась к юристу. Суд Ларочку в должности восстановил, да еще и обязал трест оплатить ей вынужденные прогулы. Спасибо нашему самому гуманному в мире суду. Его стараниями Ларочка не только не потеряла работу, но и приобрела мотивацию и возможность отомстить начальнице и по совместительству подруге (хвала Богу – бывшей!).
В мыслях она выстроила умопомрачительный план мести. Пора, наконец, с умом распорядится должностью секретаря-референта. Она ведь не только обязана помогать Ирине, но и имеет доступ к важнейшим финансовым документам треста. А это мало того что прекрасная возможность отомстить за собственное увольнение и в ответ как минимум уволить обидчицу, как максимум и вовсе засадить ее за решетку. Это еще и прекрасная возможность собственного карьерного роста. Должен же кто-то заниматься финансами треста, когда Ирина отправится в места не столь отдаленные. У Ларочки, правда, не совсем подходящее для этого образование, но она ведь девушка весьма сообразительная, она сумеет. Отсутствие профильного образование – это же не приговор, это всего лишь небольшая преграда на пути к цели. Кто видит цель – не видит препятствий! В конце концов, ей ведь удалось уволить Ирину из семьи. Дело за малым – уволить ее с работы и прочно водрузить собственную личность в обеих Ириных ипостасях.
Сладкие мысли о мести грели Ларочкину душу, и она уже не замечала, что давно думает вслух. Поняла, только когда услышала слабый вздох из-под горы одеял:
– Ох, доченька, разве я тебя такому учила?
Все Ларочкино воодушевление развеялась, как по мановению волшебной палочки. Вот же, грымза старая, сколько же лет она еще будет ее мучить?
– Не воняй, дерьму слова не давали. Ты мне еще советы давать будешь. Да если б ты меня учила правильно жить, разве б мне пришлось теперь дерьмо твое разгребать? Скажи, какого хрена я училась на пятерки, зубрила тысячи страниц? Что мне толку с того красного диплома, о котором ты так мечтала? Да лучше б я не мозгами крутила, а жопой – глядишь, и получше устроилась бы в этой жизни. Это ж тебе мои хахали не нравились – мордой, видите ли, не вышли. Или фамилией. Из-за тебя теперь одна кукую. Ирка вон, не слишком-то в морды заглядывала, да ноженьки свои на замке не держала – не стеснялась, в отличие от меня, дуры скромной, раздвигать их перед каждым встречным-поперечным. Теперь и при муже, и при должности. Впрочем, муж уже в прошлом…
– Ларочка, опомнись, что ты говоришь? Ирочка же всегда была такая славная девочка, как ты можешь…
– Ха, нашла славную девочку! Это я у тебя славная, забыла, что ли? А как, ты думаешь, эта славная девочка таких высот добилась? Она же училась на одни тройки, она же дура набитая! А как еще дуру могут взять на такую должность? В то время, когда я науки наизусть заучивала, эта сучка из чужих постелей не вылезала. Вот и доскакалась на простынях до должности заместителя генерального. А я, пай-девочка, у нее в секретарях прозябаю. И это с моим-то красным дипломом! Так кто из нас двоих славная девочка? Я вот тебя, калеку, пару дней забуду покормить, да жопу твою обосранную помыть – тут же вспомнишь, что это дочь твоя хорошая, а не та сука!
Софья Витальевна тяжко вздохнула и зарылась поглубже в одеяла. Не в ее положении спорить с единственной кормилицей…
– То-то, – довольно осклабилась Ларочка. – Ничё, мать, потерпи чуток. Ты еще на моей свадьбе отпляшешь. Ты еще Сережку сыночком назовешь…
* * *
Николай нашел панацею от фригидности супруги. Правда, к этому лекарству старался прибегать как можно реже, только когда уже было совсем невмоготу. На шампанское не тратился, обходился водочкой: и дешевле, и экономия продукта. Как показала практика, шампанского Паулине нужно было не меньше трех фужеров, да и то эффект был не слишком силен – дула его, как лимонад, только и подавай. А водочки хватало одной рюмашки. Попробовал однажды увеличить дозу – сам не рад был такому эксперименту: разошлась Паулина так, что насилу угомонил. Сам-то с возросшими требованиями едва справлялся, отвязная супруга все рвалась на улицу – одного мужика ей было явно недостаточно. А потому на будущее Николай строго ограничивал дозу «лекарства от фригидности» одной рюмкой водки.
И еще он заметил, что Паулина не только раскрепощалась под воздействием алкоголя. Практическими опытами выяснилось, что она напрочь переставала узнавать его, принимая за случайного любовника. Именно поэтому и становилась такая бесстыдно-развязная, безбашенная, потому и исчезали все запреты и табу, потому и позволяла себе все, чего душа ни пожелает. И ночью, в пылу любовной горячки, Николай радовался, что наступит утро, и Паулина не будет помнить ничего, абсолютно ничего из того, что мастерски проделывала ночью. Утром это снова будет добропорядочная женщина, образцовая офицерская супруга, самый надежный тыл защитника отечества. Мечта любого мужика – пуританка днем, шлюха ночью. Еще и в доме приберет, и готовит вполне сносно.
Все было отлажено в их быту и сексуальной жизни. Несколько месяцев пресного, безвкусного секса, когда приемлемой считалась исключительно поза миссионера. Паулина при этом лежала, скривившись, с открытыми глазами, заведя за голову руки, и с нетерпением ждала, когда кончится очередной сеанс выполнения ею супружеских обязанностей. Теперь ее демонстративная отстраненность не раздражала Николая. Напротив, эта игра стала доставлять ему истинное наслаждение. Еще слаще было осознание того, что в эту игру он играет один, что только от его желания зависит, с кем спать: с ледяной ли супругой или с отъявленной шлюхой, готовой на любые крайности и эксперименты.
Он был единственным и полновластным повелителем этой женщины. И потому в моменты холодной близости получал едва ли не большее удовольствие, чем в отвязные ночи. Ему нравился контраст холодная-горячая, скромница-шлюха. Терзая фригидное тело жены, он представлял на ее месте школьницу-шестиклассницу, впервые предоставившую юное свое тело в пользование мужчине, да не такому же школьнику-сопляку, а зрелому, многоопытному гиганту секса. Иногда он представлял себя учителем юной кокотки, плохо написавшей годовую контрольную по алгебре и таким вот бесхитростным способом отрабатывающей желанную пятерку. По его представлению, именно так, практически замерев под учителем, должна вести себя школьница в ночь своей сексуальной премьеры.
В другой раз он представлял Паулину одноклассницей Вадима, зашедшей узнать домашнее задание по географии, но вместо Вадима заставшей его изголодавшегося по женской ласке отца. И малышка лежит под ним, боясь противиться грозному дяденьке, предоставив ему в беспрекословное пользование свое неумелое, неготовое еще к плотским утехам тельце. А когда дяденька отпустит ее, молча оденется и уйдет. Она не скажет ни слова ни маме, ни папе. А потом она придет на день рождения к Вадиму и будет стыдливо отводить глаза от жадно-насмешливого взгляда его отца. И, услышав тихо-приказное: «Приходи завтра утром», кивнет послушно и испуганно. И утром, когда все дети будут в школе, она снова придет к нему, молча разденется и покорно ляжет в постель, и уже не будет стыдливо прикрываться одеялом, а лишь посмотрит выжидательно на своего хозяина: «Что дальше, господин?»
Еще он любил представлять на месте неласковой супруги молоденькую невесту новобранца, приехавшую просить командира о краткосрочном отпуске солдатику для срочного бракосочетания. Животик у девицы скоро полезет на нос, а потому со свадьбой тянуть нельзя: «Не могли бы вы, товарищ командир, отпустить моего Костика, то есть рядового Фесенко, хотя бы на три дня?» «Так не положено, гражданочка. Ваш жених нынче принадлежит государству в моем лице, и от одного меня зависит – состоится ваша свадьба или нет, появится ли дитя на свет законным или нагулянным байстрюком». «А может, как-нибудь возможно решить эту проблему, товарищ командир?» «Да не как-нибудь, а только всем известным способом, милочка, через постель». «Ну что вы, как можно? Я же верная жена, я не могу…». «Ну что ты, милая, какая же ты жена? Ты пока что бесправная шлюшка, нагулявшая ребенка без мужа. И что значит «не могу»? Как минимум один раз ты уже смогла, значит, и сейчас можешь. Хочешь мужа себе и отца ребенку? Тогда выполнишь свой гражданский долг и доставишь удовольствие командиру жениха. Впрочем, я не принуждаю – на нет и суда нет. Но по закону отпуск рядовому Фесенко будет положен не ранее, чем через десять месяцев. Да и тот от меня будет зависеть: если захочу, миллион причин найду, чтобы жениха твоего, заморыша Фесенко, в отпуск не отпустить». «Хорошо, товарищ командир, согласная я. Только уж вы поаккуратнее, а то ж я беременная, вы уж слишком не усердствуйте…»
Такие внутренние диалоги доводили Николая до полного экстаза. И холодность супруги уже не омрачала, а доставляла не абы какое удовольствие: то, чего он не смог бы позволить себе никогда в жизни, а именно изнасиловать школьницу ли, невесту ли подчиненного, жену ли друга или вышестоящего начальства, он с восторгом проделывал в мечтах, трудясь над неласковым телом Паулины. И тогда ее отстраненность не оскорбляла, не доводила его до отчаяния, а становилась весьма логичной и даже возбуждающей. А потом, когда надоедало играться в маньяка-насильника, растлителя малолетних соседок и дочерей высшего офицерского состава, Николай прибегал к замечательному, спасительному эликсиру. И имел тогда офицер Черкасов совершенно дикий, разнузданный секс с женой, искренне считающей его посторонним кобелем.
Поистине завидное разнообразие с одной-единственной женщиной! И полгарнизона перетрахаешь, не подхвативши срамной болезни, и скромницу-жену увидишь в такой ипостаси, в которой она никогда в жизни не рискнула бы показаться законному мужу! Главное, чтобы волшебный эликсир она принимала строго дозировано, только в присутствии мужа и не иначе, как по его высочайшему велению.
* * *
Сергей переживал развод едва ли легче Ирины. Для него это был такой же удар судьбы, такая же непосильная ноша. Удар под дых от любимой женщины, от той, которую искренне считал единственной и неповторимой.
Очень тяжело было начинать новую жизнь в окружении старых вещей. Вроде ничего вокруг не изменилось, все осталось таким же, только воздух из его мира откачали, оставив ровно столько, чтоб не задохнулся: по глоточку в час. Мысль о предательстве любимой не отпускала, жгла днем и ночью.
И без того было больно, а тут еще Лариска присосалась, как рыба-прилипала. Лезла с навязчивым сочувствием, едва ли не каждый день врываясь в их дом с докладами, как Ирина со своим молодым ухажером милуется прямо в кабинете, не стесняясь открытых стеклянных стен. В подробностях рассказывала про свое незаконное увольнение, да как обстоят дела с ее судебной тяжбой против треста. Радовалась, как дитя, когда ей удалось посадить Ирину в лужу.
Визиты ее утомляли Сергея. Поначалу старался не показывать ей свою неприязнь, молча терпел присутствие свидетельницы краха его счастья. Но Ларочка была столь назойлива, столь отталкивающе-слащава в своем стремлении утешить брошенного мужа бывшей подруги, что постепенно Сергей начал открыто демонстрировать истинное к ней отношение. Но Ларочка – святая простота! – не понимала, что ее не желают видеть в этом доме. И по-прежнему считала Русаковых своей семьей.
По выходным от нее вообще не было отбою. Как в субботу утром приходила, так до самого позднего воскресного вечера выставить ее за двери не удавалось. Сутки напролет она убирала квартиру, с демонстративным наслаждением перебирала одежду в шкафах, ревностно выискивая забытые Ириной вещи и с нескрываемым восторгом уничтожая эти маленькие следы чужого счастья, изломанного ее руками. Готовила обеды и ужины, радостно мурлыкая незатейливые песенки под урчание микроволновки. Сергей устал бороться с ее наглым вторжением в их жизнь – это казалось бессмысленной тратой слов и нервов.
– Лариса, я не безрукий инвалид и сам могу убрать квартиру.
– Ха, знаю я, как вы, мужики, убираетесь. За месяц так засерешь квартиру, что я потом ее за год не отскребу. Молчи уж, умелец…
– Если уж и засру, то выскребать ее придется не тебе, – пытался воевать Сергей.
– Хм, интересно, а кому же, если не мне? – возмущалась Ларочка, елозя тряпкой под шкафом и аппетитно, как ей казалось, покачивая попкой из стороны в сторону.
– Ну, во-первых, как я уже сказал, у меня и самого еще руки не отсохли…
– Ага, я вижу, – двигала она попкой еще яростнее.
– Во-вторых, Маринка уже взрослая и тоже не без рук…
– Ха! На Маринку где сядешь, там и слезешь!
– В-третьих, я могу пригласить сотрудницу из «Бюро добрых услуг», их сейчас развелось, как грязи…
– Ага, они там все такие добрые-добрые! И такие услужливые! Только после них несчастных ложек не досчитаешься, не говоря уж об остальных ценностях.
– В-четвертых, я, в конце концов, могу жениться, и разгребать, как ты говоришь, все это будет моя будущая жена.
– Что? – От такой угрозы Ларочка аж распрямилась. – Это кто тут жениться собрался? Я надеюсь, это шутка? Ты вообще соображаешь, что говоришь? Да ты представляешь, что с Маришкой будет? Да в ее-то непростом возрасте?! Ты хочешь, чтобы у ребенка был нервный срыв? Ты хочешь, чтобы она свою жизнь закончила в психушке?
Сергей рассвирепел:
– Что ты несешь? Какая психушка? Она уже взрослый человек и все прекрасно понимает!
– Вот именно, понимает, – тоже повысила голос Ларочка. – Слишком много понимает! Ты думаешь, ей сейчас легко? Ты думаешь, ради кого я стараюсь? У меня, между прочим, мать-инвалид дома одна, беспомощная, а я у вас днюю и ночую! Только для того, чтобы вы меньше переживали о той шлюхе, чтобы Маринка не считала себя брошенной и никому не нужной! Чтобы ты не был одиноким – я ведь вам не чужая, я ведь всю жизнь рядом с вами была, вы же мои родные, у меня ж кроме вас – никого! Да я ж Маринке – вторая мама. Первая из ее жизни ушла, исчезла, сдохла, так что теперь – я ее мама. А ты хочешь в дом постороннюю тетку привести? «На, доченька, получи новую мамочку, прошу любить и жаловать». Так, да? А я? А меня – на помойку?
Сергей опешил. Как вышло, что он теперь должен оправдываться за свои слова и намерения перед самозванкой, отчитываться за свои действия? Сказал примирительно:
– А ты чего ждала? Раз Ирина мне больше не жена, то ты займешь ее место? Прости, но у меня другие планы. Давай расставим точки над «и». Ты – подруга моей жены. Вернее, бывшая подруга моей бывшей жены. Так?
Ларочка ошарашено смотрела на него. Неужели ей сейчас откажут от дома, вышвырнут, как ненужную старую тряпку?
– Нет, не так. Это когда-то давно я была ее подругой. А потом, когда вы поженились, я стала вашей подругой. Вашей, общей, понимаешь? И теперь, когда она уже моя бывшая подруга, я осталась только твоей. Твоей, понимаешь?
Сергей не стал уточнять, что именно она имела в виду под так тщательно выделенным словом «твоей», сказал по возможности менее резко:
– Извини, Лара, но моей подругой ты не была. Я всегда воспринимал тебя, как Ирину подругу. И теперь, когда Ира осталась в прошлом, твое место там же – в архиве истории. По крайней мере, я тебя воспринимаю именно так…
В сердцах зашвырнув половую тряпку на телевизор, Ларочка зарыдала:
– Ты неправильно воспринимаешь! Все не так, ты лжешь! Я не чужая вам, у вас теперь, кроме меня, никого нет! Вы без меня пропадете! Кто же еще о вас позаботится, как не я? Кто же позаботится о Маринке? Девочке нужна мама…
Сергей ласково перебил:
– У нее есть мама. Они поссорились – да, но ее мама жива. А чужая мама ей ни к чему. Да, ты не совсем посторонний нам человек, да, ты много лет была рядом с нами. Но, Лариса, тебя стало слишком много. Это несколько утомительно. Ты ведь не хочешь нас утомлять, правда? Вот и дай нам отдохнуть. Хорошо? Тебе ведь и без нас есть, о ком заботиться. У тебя ведь мама дома лежит некормленая, кроме тебя ей и воды подать некому. Ты иди, Ларочка, иди к маме, хорошо?
Пожалуй, впервые Сергей назвал ее Ларочкой. Это был хороший признак, замечательный признак, и Ларочка радостно шмыгнула носом:
– А потом? Я ведь смогу прийти потом, правда? Ты же не выгоняешь меня, да?
И такая щенячья преданность сквозила в ее глазах, такая светилась надежда на нужность кому-то, кроме больной матери, что Сергей не смог лишить ее в одночасье этой надежды:
– Конечно, милая, конечно. Потом, когда-нибудь потом. Ты иди…
* * *
Ирина долго избегала оставаться один на один с Черкасовым. Он и раньше вызывал в ней не лучшие эмоции, теперь же, после той жуткой новогодней ночи, с ним были связаны слишком неприятные ассоциации. Слишком… Такие ассоциации не способна стереть никакая красота, никакая любовь.
Впрочем, периодически им все же приходилось оставаться наедине по производственной необходимости. Как ни крути, а маркетологу в кабинет заместителя генерального по экономике дорожка была протоптана не только логически объяснимая, но порою и попросту неизбежная. Тогда Ирине приходилось принимать его в своем кабинете, и, как бы ни старалась она сократить время его визитов, но иногда вопросы бывали довольно серьезны и не из серии быстроразрешимых, а потому случалось им оставаться вдвоем относительно долго.
Больше всего радости это доставляло Ларочке. С нескрываемым удовольствием она появлялась на пороге кабинета бывшей подруги и с тошнотворной сладостью в голосе произносила:
– Ирина Станиславовна, к вам Вадим Николаевич Черкасов. Вы его примете?
Ирине хотелось размазать подлую дрянь по стенке, но, как показал юридический прецедент, она ничего не могла поделать с этой мерзавкой: поводов для увольнения по статье та упорно не давала.
– Пусть войдет, – сухо отвечала она, стараясь не подать виду, как неприятны ей и Ларочка, и этот красавчик Черкасов, будь он неладен.
– У-ху, – многозначительно кивала Ларочка, мол, знаем-знаем, зачем он к вам пожаловал. И добавляла отрешенно: – Как скажете…
И уже Черкасову:
– Входите, Вадим Николаевич, вас примут, – подчеркнуто холодно, с неприкрытой неприязнью и даже презрением.
Не успевал Вадим явиться пред светлы очи начальницы, как та уже подскакивала и в спешке крутила ручки управления жалюзи. Всех, всех принимала в закрытом кабинете, и только для Черкасова открывала полностью все жалюзи, чтобы ни один, самый крошечный уголок кабинета не оставался скрытым от любопытных глаз секретарши.
Совещания с Черкасовым были для Ирины откровенным мучением. Она понимала, что пришел он к ней не просто так, не по доброте душевной, не из личной прихоти, а сугубо по делу. И решать эти дела ей все равно придется, так как кроме нее этим заняться некому, это ее прямая должностная обязанность. Но взглянуть в его глаза никак не отваживалась, чувствуя себя перед ним, как кролик перед удавом. Боялась, как бы ни прочел он в них презрение и страх, ненависть и волнительные воспоминания о ничего не значащих минутах, проведенных вдвоем под присмотром снежинок и видоискателя Ларочкиного фотоаппарата на балконе ресторана «Домашняя кухня».
Зато Черкасов не сводил с нее глаз, и Ирина чувствовала его влюбленный взгляд, который парализовал ее пуще прежнего. Она краснела и бледнела, заикалась, теряла необходимые слова и термины, и еще больше терялась. Руки и голос дрожали, и она боялась до обморока, что он увидит, как она дрожит, и что это увидит ее подлая секретарша, и что в любую минуту в приемную может войти кто угодно из сотрудников, даже сам Буськов, и они так же станут свидетелями ее волнения и страха. И тогда все, кто пока еще не был в курсе ее семейной драмы, тут же поймут и догадаются, и все узнают, что муж ее бросил из-за небольшого, ничего не значащего минутного адюльтера с подчиненным. Даже нет, всего лишь намека на адюльтер, из-за невинного взгляда, брошенного не туда, куда нужно… От волнения и страха руки опускались, и выскальзывали из них деловые бумажки, ручки, карандаши, все валилось на пол в присутствии проклятого Черкасова…
В очередной раз поднимая очередную выроненную неуверенными Ириными руками бумажку, Вадим произнес:
– Не волнуйтесь так, Ирина Станиславовна, не надо.
Он сказал это тихо и куда-то в пол, так же, как и хозяйка кабинета, остерегаясь хищного взгляда секретарши.
– Хотите, я позже приду, когда вы успокоитесь? Или, может, давайте я оставлю бумаги, вы их просмотрите, а потом мы все обсудим по телефону.
От этой его понятливости, от своей слабости, от любопытных Ларискиных глаз слезы катились по Ириным щекам. Она старательно отворачивалась от стеклянной стены, а Ларочка радостно потирала руки: так-так, и после этого ты смеешь заявлять о своей невинности?
– Хорошо, Вадим Николаевич, оставьте бумаги, я все просмотрю…
Парализованный этим сломленным от горя голосом, Черкасов таял от нежности к несчастной, раздавленной судьбой начальнице. И все стоял и стоял пред нею, коленопреклоненный, к бесконечной радости Ларочки Трегубович…
* * *
В понедельник, восемнадцатого апреля, у Ирины с самого раннего утра все валилось из рук. Это был один из самых знаменательных дней в году. В этот день они всегда собирались за праздничным столом. Приходили обе бабушки, дедушка (отец Сергея), приходили ближайшие друзья родителей и, конечно же – дочери. Восемнадцатого апреля 1988 года появилась на свет самая замечательная девочка на свете, Марина Русакова. Маришка. Доченька…
Но обычного праздника сегодня не будет. Прежде всего, нет больше бабушки Ники, Вероники Николаевны. И нет больше семьи. Раскололась семья на два неравных куска. Или нет, не так. Семья осталась, но откололся от нее кусок под названием мама. Она больше не член семьи. Она теперь бывшая жена. А мама? Тоже бывшая?
Дрожащей рукой Ирина набрали до боли родной номер. Трубку сняли практически сразу же.
– Олё, – радостно прощебетала трубка Маринкиным голосом, и Иринино сердце ухнуло в пропасть.
– Здравствуй, доченька. С днем рождения…
Ответом ей была короткая тишина. Потом трубка словно очнулась и саркастично выплюнула:
– Хм, это кого же к нам в гости занесло? Что за добрая тетенька о нас вспомнила?
Ира едва сдержала обиду:
– Зачем ты так, Мариша? Ты думаешь, мне легко без вас?
– А нам? О нас ты подумала? Ты думала обо мне, когда целовалась со своим молокососом? А о папе думала? Тогда мы тебе не были нужны, а теперь вдруг вспомнила. Что так? Молодой любовничек бросил, нашел себе помоложе?
– Не надо, Марина, ты ведь ничего не знаешь… Давай я приду вечером, тогда и поговорим. Я все объясню…
– Нечего объяснять, и так все понятно, – дерзко ответила дочь. – И вообще – на день рождения приглашают друзей и родственников, а ты теперь никто!
Ирина не нашлась, что ответить. Да и некому было – трубка весьма недвусмысленно пищала короткими гудками.
Сердце остановилось от боли. Господи, как трудно дышать. Если бы только она могла заплакать, если бы смогла душевную свою трагедию выплеснуть из себя со слезами – глядишь, и сердцу стало бы полегче. Но нет, слезы никак не накатывали, глаза были сухи до неприличия, словно Ирина вдруг стала древней-предревней старухой, разучившейся плакать лет двести назад. Боль раскалывала, разрывала на куски. Чтобы остановить ее, Ирине хотелось выйти на балкон и сигануть вниз, разрубить все проблемы одним прыжком в вечность. Да какая уж тут вечность – третий этаж старого дома хрущевской эпохи. Вместо вечности окажешься в инвалидной коляске, и только… Ирина собрала волю в кулак и отправилась на работу: нельзя рассупониваться, нельзя. Если она пережила ту страшную новогоднюю ночь, теперь обязана жить долго. Даже если этого ей хочется меньше всего на свете.
На работе стало чуть-чуть легче. Круговорот неотложных дел отвлек от личной трагедии, и Ирина смогла не то чтобы забыть об утреннем разговоре, но хотя бы абстрагироваться от него, отодвинув на задний план мыслей. Потом, она подумает об этом потом, когда будет уже не так больно. Ради самосохранения, ради выживания она будет руководствоваться примером Скарлетт О’Хара. Потом, все потом…
Но потом не получилось. В начале двенадцатого в кабинет вплыла подчеркнуто-радостная секретарша и с издевательской улыбкой заявила:
– Ирина Станиславовна, вы не отпустите меня сегодня после обеда? У моей девочки сегодня день рождения, очень ответственный день. Придут родственники и любимый юноша – как раз сегодня она решила представить его семье. У меня очень много дел – сами знаете, как нам, женщинам, достаются такие семейные праздники. Все приготовь, убери, погладь рубашки да платья. Да и себе еще нужно успеть почистить перышки – не могу же я перед потенциальным зятем выглядеть золушкой! Так вы не возражаете?
Хотелось выть в голос, расшвырять по кабинету канцелярские принадлежности, сбросить на пол монитор компьютера, а главное – придушить эту тварь голыми руками. Тварь, забравшую ее жизнь, нагло присвоившую себе право находиться среди любимых Ириных людей, самозванку, называющую себя матерью ее дочери! Но именно этого ожидала подлая мерзавка, именно всплеска эмоций и истерики. Чтобы потом подать в суд иск за нанесение оскорблений или даже побоев. Чтобы с ехидной ухмылкой рассказать за праздничным столом, как вопила от слепой ярости Ирина в собственном кабинете. Нет, нет, дрянь, не дождешься! Триумфа не будет!
– Я вас, Лариса Моисеевна, не задерживаю. Вы можете уйти немедленно. Можете даже не возвращаться – трест без вас не остановится.
– Ну что вы, Ирина Станиславовна, – парировала секретарша. – Трест-то без меня, конечно, не остановится. Но как же я без треста, без вас, Ирина Станиславовна? Кто же станет за вами приглядывать? Вот отгуляю сегодня, поздравлю дочечку, познакомлюсь с зятем, приласкаю мужа – а завтра, как штык, на работе! Так я убегаю? До свидания, Ирина Станиславовна, приятного вечера!
Секретарша покинула кабинет, подчеркнуто мягко прикрыв за собою двери. Ирина сдерживала ярость, безумный крик раненной тигрицы, готовый вырваться из груди. Нельзя, нельзя, тварь услышит, нельзя доставить ей такое удовольствие. И все же через несколько мгновений из груди вырвался протяжный стон, полный смертельной тоски и боли…
* * *
Ларочка постаралась на славу. Квартира сверкала чистотой и идеальным порядком, праздничный стол ломился от яств. И сама Ларочка выглядела вполне прилично в голубом платье. И шикарные волосы не уродовали чрезмерным объемом ее тщедушное тельце – заплела косу, но хитро, только с середины волос, оставив свободной верхнюю их часть. Таким образом убирался излишний объем, а оттопыренные уши оставались спрятанными под волосами.
По обыкновению, Ларочка слегка приврала – не ожидался сегодня никакой потенциальный жених. Просто уж очень ей хотелось досадить бывшей подруге. Пришли, как обычно, родители Сергея да Маринкины подружки. Именинница дежурно чмокнула тетю Ларису в щечку в благодарность за подаренный симпатичный джемпер и после недолгого застолья умотала с подружками на дискотеку. Бабушка с дедушкой досидели допоздна, сокрушаясь по поводу преждевременной кончины свахи. Об Ирине же в этот вечер не было произнесено ни словечка: эта тема была запрещена в доме раз и навсегда.
Ларочка радостно щебетала, подкладывала гостям салатики, суетилась между кухней и гостиной, намеренно демонстрируя, что от отсутствия предательницы семья не пострадала – и без нее найдется, кому позаботиться об осиротевших дочери и муже. И с нетерпением ждала, когда же, наконец, эти старые перцы умотают домой. И тогда… да, именно сегодня все должно произойти! Недаром же она так старательно подливала водочки Сергею. Она давно все спланировала. Именно сегодня все должно решиться. Да, сегодня и только сегодня он должен будет признать, что без Ларочки ему просто никуда!
Словно прочитав ее мысли, старики засобирались. Да и неудивительно – часы показывали пол-одиннадцатого, а ведь завтра рабочий день, Сергею рано вставать. Потоптались в коридоре, пожелали сыну спокойной ночи, да и отбыли, наконец, восвояси.
Ларочка картинно плюхнулась на стул:
– Фу, устала! Ну давай, Сереж, выпьем, а то я ни поесть как следует не успела, ни выпить. Теперь уж можно расслабиться.
Тот не возражал. Налил в две рюмки водки, и, не дожидаясь красивых тостов, сказал буднично:
– Будь, – и выпил, даже не чокнувшись.
Ларочка обиделась, но виду не подала. Ничего-ничего, покочевряжься еще немножко. Все равно тебе деваться некуда – как в той старой-престарой песенке: «Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой!»
– Давай, Сереж, музычку включим, потанцуем, а? А то сидим с тобой, как пенсионеры.
– Не, не хочу. Устал, – он демонстративно потянулся к пульту телевизора, включил какую-то аналитическую программу.
– Бедненький, совсем измотался на своей работе. А давай я тебе массажик сделаю – здорово помогает, расслабляет, – и, не дожидаясь согласия Сергея, Ларочка подскочила к нему сзади, и давай наминать холку: – Я в массаже толк знаю, можно сказать, специалист. У меня рука опытная, набитая. Я ведь маму столько лет выхаживаю, каждый вечер массирую, чтобы пролежней не было.
Сергей молчал, но голову опустил, чтобы больший участок тела был доступен Ларискиным рукам. А та старалась, то наминая, то ласково поглаживая его мощную шею. Постепенно поле ее деятельности расширялось: от шеи она спустилась ниже, разминая его широкие плечи.
– Сними рубашку, – буднично, по-домашнему сказала она, вроде не просила о чем-то из ряда вон выходящем. – Мешает. Через ткань сложно работать, вся сила пальцев в нее уходит.
Не задумываясь, Сергей стянул рубашку через голову, поленившись расстегивать все пуговицы. И продолжал сидеть, склонив голову, как бык. Ларочка вминала пальцами с коротко обрезанными ногтями кожу в мышцы, словно замешивая тесто. Сергей прикрыл глаза, иногда подергивая плечами в ответ на слишком ощутимые вмятины. Сходу прочитав его мысли, она уменьшила давление и теперь не столько массировала, сколько гладила. Иногда, словно невзначай, руки ее скользили вниз, делали несколько ласковых поглаживаний в самом низу спины, потом, словно спохватившись, возвращались к плечам. Иногда, напротив, соскальзывали нечаянно от шеи к груди, и тогда Ларочка прижималась легонько к спине Сергея и замирала так на несколько сладких мгновений.
Он закрыл глаза и, кажется, забылся. Ларискины руки действительно успокаивали, расслабляли его тело. И он забыл, что это Ларискины руки. Ему казалось, что там, сзади, стоит Ирина. И именно Ира прижимается грудью к его спине, именно ее руки ласкают его живот, ее губы нежно щекочут шею. И так ему было хорошо, так уютно под ее нежными руками, что он все глубже погружался в грезу, словно проваливался в гипнотический сон. Ира, Иришка… Да, милая, конечно… Все хорошо… Только почему же мы так давно не делали это? Ничего, мы сейчас все исправим, мы сейчас нагоним все, что упустили…
И его руки уже потянулись за спину, обхватили ноги той, что просила о любви, запутались в ткани, пытаясь найти вход туда, где… Но что это? Это не те ноги! Его любимые ноги гладкие, ровные, высокие. А эти жилистые и маслатые. Чужие! Сергей вздрогнул и очнулся, вскочил резко:
– Ты! Ты… Ты что это делаешь? Что задумала?
– Ничего, Сереженька, что с тобой? Успокойся, все нормально. Я просто делала тебе массаж.
– Массаж? Да ты меня чуть не изнасиловала!
Ларочка улыбнулась ласково:
– Ну что ты, милый! И в мыслях не было. Я лишь делала тебе массаж, а если тебе чего-то захотелось, тут уж не моя вина. Впрочем, твое желание вполне объяснимо: миленький, ты же четыре месяца один. Что ж я, не понимаю? Мы же взрослые люди, к тому же не чужие. И в этом нет ничего постыдного, поверь мне. Я же вижу, как ты этого хочешь…
Она говорила, надвигаясь на ошарашенного Сергея, как ей казалось, неотвратимо. По крайней мере, под ее нажимом он отступал назад, к стене. Ларочка усмехнулась, прижала худосочной своей грудью Сергея к стене:
– Ты хочешь! Это видно невооруженным глазом. И чувствуется даже через ткань брюк. Не стесняйся, Серенький, меня не надо стесняться. Ты можешь сделать это со мной. Я никому не скажу и не обижусь. Я только хочу тебе помочь. Я – твоя скорая помощь, я всегда буду рядом…
Настойчивые руки уже расстегивали его брюки. Отступать было некуда – сзади стена, впереди Лариска. И ее руки, ее наглые вездесущие руки…
– Прекрати! – истерически взвизгнул он. Мужика такой крик не красит, но в эту минуту ему было наплевать на все. – Немедленно прекрати! Ты что себе надумала?
Резко оттолкнув ее, Сергей снова сел на стул, застегнул брюки, потуже затянув ремень.
– Прекрати, слышишь? Прекрати, – уже тише повторил он. – Не смей.
– Да что с тобой, Сережа? Что случилось? Я просто делала тебе массаж. Ты же знаешь, я всегда делаю то, что ты хочешь. Сначала ты хотел массаж – пожалуйста, мне не сложно. Потом захотел чего-то большего – ну что ж, на то и друзья, чтобы помогать в трудную минуту. Что случилось-то? Чего ты так испугался? Ты решил, что я непременно хочу прибрать тебя к рукам? Не бойся, в загс не потащу. Я только хотела тебе помочь. Ты четыре месяца один, мужику-то оно одному не сахар, верно? Что ж я, не понимаю?
Вслед за Сергеем она подошла к стулу, но наглеть и жаться к нему в этот момент не рискнула. Пусть немного успокоится. Эк он, однако, бурно отреагировал! Не будь Ларочка так уверена в своей неотразимости, она могла бы и обидеться.
Она стояла перед ним и, сцепив руки за спиной, чуть покачивала бедрами. Платье красиво покачивалось вокруг ее ног голубыми фалдами.
– Прекрасно понимаю, – она пыталась убаюкать его некстати вздыбившуюся гордыню, ломавшую ее гениальный план. – И это вовсе не говорит о твоей распущенности. Это просто физиология. Тебе это просто необходимо. Если не для удовольствия, то хотя бы для здоровья. Ну сам посуди – не пойдешь же ты ради здоровья на Тверскую! Это чревато последствиями.
Эк она ловко вывернула! Про здоровье Ларочка здорово придумала. Нужно развивать эту версию до победного. Не мытьем так катаньем, но она должна сегодня добиться своего!
– Я же забочусь о своей матери? Забочусь. И о Маришке забочусь, и о тебе. Мне это как раз совсем не составит труда, не стесняйся! Для меня главное, чтобы вам было хорошо. Чтобы вы были живы-здоровы. Да неужели ради твоего здоровья я не пожертвую такой малостью?
Она активнее заиграла бедрами, платье едва поспевало за ними и чуть дыбилось в районе коленок. Давай же, истукан, просыпайся! Ради тебя стараюсь, ради тебя прикупила новое белье!
– Сереж, ты меня удивляешь, ей Богу! Что страшного произойдет, если ты получишь то, что жизненно необходимо любому мужчине? Когда ты болеешь, ты принимаешь лекарство из любых рук – будь то мать, будь то дочь или доктор. Так ведь сейчас точно такой же случай, вот и рассматривай его с точки зрения медицины. Я – твоя скорая помощь. Тебе понадобилась прививка – я доктор, я готова ее сделать. Что тут страшного? А ты поднял истерику. Как нецелованный мальчик, честное слово!
Сергей слушал эту тираду и просто диву давался. Как у нее все легко и просто. Прививка, обычная медицинская процедура! Как ловко она его подловила, как мягко стелет – логику свою выдумала. И по этой ее логике выходит, и правда – ничего страшного. Получил таблетку из рук доброй тетеньки, утолил жажду стаканом воды, поданным чужим человеком. И правда – в чем крамола? О Боже, что за бред!
– Знаешь, Лара, шла бы ты домой. Я что-то сегодня притомился. Спасибо за помощь, все было очень вкусно. Но уже поздно – иди домой…
Домой?! Ларочка испугалась. Вот сейчас он ее выгонит и все мечты пойдут прахом. А как же голубые фалды, как же новое белье? Да к черту белье, когда под откос идет генеральный план! Она не должна уходить. Если она спасует сейчас – значит, Ирка победила. Ну уж нет!
Интим не прошел, значит, стоит вернуться к кулинарно-хозяйственной теме. Пока между ними стояло только праздничное застолье, всё шло гладко и соответственно графику. Придется сделать шаг назад, чтобы потом была возможность двигаться вперед.
– Ну что ты, Сережа, здесь же еще столько дел! Со стола убрать, посуду помыть. Нужно еще как-то умудриться втиснуть все салаты в холодильник…
– Ты не волнуйся, я сам справлюсь. Да и Маринка скоро придет, поможет. Ты и так сегодня устала.
Ларочка поняла, что вот сейчас, в эту минуту решается ее судьба. Или она останется в этом доме хозяйкой, или в следующий раз ей даже не откроют двери. Кинулась на колени, обхватила руками его ноги:
– Не прогоняй меня! Не гони! Я тебе еще пригождусь… Пригодюсь… Тьфу, как его? Сережечка, миленький, неужели ты не видишь, что я тебя люблю? Люблю с самой первой встречи! Я столько лет ждала этого дня, я так мечтала.
В попытке освободиться его нога дернулась под ее руками. Ну уж нет! Ларочка только пуще прижалась к ним и затараторила, стараясь усмирить его, уговорить:
– Ну что тебе еще нужно? Ты же видишь – я хорошая хозяйка, я Маринке буду самой лучшей матерью. Тебе женой буду верной, не как та шалава! Не хочешь жениться? Не надо! Я и так согласна, будем жить не расписанными. А хочешь – я буду приходить только тогда, когда ты захочешь. Вот как сегодня: захотел, а я раз – и здесь, и к твоим услугам, а? Ну пожалуйста, миленький мой, любимый! Ну что тебе стоит? Чем я хуже? Я так хочу быть рядом с тобой! Кем пожелаешь. Хочешь – женой верной, хочешь – наложницей султановой, хочешь – просто подругой? Нет, просто подругой не надо, лучше наложницей. Серенький, родненький, я же о тебе всю жизнь мечтала, не прогоняй меня, а? Ну пожалуйста! На меня, возьми, прямо сейчас. Я вся твоя, вся-вся! И никаких обязательств. Вот видишь, какая я выгодная невеста – всегда к твоим услугам, в любую секундочку, совершенно бесплатно, да еще и никаких обязательств… Я сделаю все, что ты захочешь. Не стесняйся, проси! Нет, приказывай! Я раба твоя, твоя скорая помощь… Я столько лет терпела эту сучку только ради того, чтобы быть рядом с тобой. Теперь ее нет, она нам уже не помешает…
Ее пальцы судорожно пытались расстегнуть ремень, но, захлебываясь словами, она никак не могла этого сделать. Наконец, войдя в раж от собственных признаний, от впервые высказанных вслух слов, не дававших покоя много лет, начала рвать ремень зубами, рискуя их сломать. А руки царапали голую грудь Сергея, будто пытаясь сгрести его в охапку, присвоить себе, унести с собой.
Сергей брезгливо оттолкнул мерзкое существо, жалобно подвывавшее в районе его паха:
– Прочь! Прочь отсюда! Ты что себе удумала? Специально все подстроила, да? Уходи, слышишь, уходи! И никогда не возвращайся. Слышишь? Никогда сюда не возвращайся!
Ларочка поднялась с колен. Ухмыльнулась, оправив собственноручно разодранное в пылу страстей платье:
– Гонишь? Смотри, не пожалей. Дурак ты, Серенький, счастья своего не понимаешь. До сих пор любишь сучку подзаборную, да? Да она с ним прямо на рабочем столе трахается! Жалюзи закроет, гадюка, несмотря на запрет Буськова, и трахается! А в дырочку-то все прекрасно видно! Правда, в дырочку могу смотреть только я, остальные сотрудники только догадываются. Ходят мимо, ухмыляются, прикалываются: «Русакова проводит очередную пятиминутку»! Ну что ж, видать, это твой удел – любить шалаву и не замечать порядочную женщину. Ты сам выбрал, Сереженька. Только о той сучке позабудь – ты ведь ей теперь даром не нужен, у нее теперь, как у Пугачевой, молодежный период. Они уж и заявление на прошлой неделе подали, так что мадам Русакова очень скоро превратиться в Черкасову. А ты давай, терпи, занимайся по ночам самоудовлетворением…
И, накинув на разодранное платье пальто, с гордо поднятой головой вышла в ночь.
* * *
– Сегодня…
Решение назревало давно. Он сразу заметил – что-то не так, что-то изменилось. В первый же рабочий день наступившего года Черкасов понял: что-то произошло. Причем произошло уже после их с Русаковой маленького приключения на балконе. Что-то крайне серьезное и негативное. Впрочем, негативное для Русаковой. Самому же Вадиму ситуация вполне могла пригодиться в будущем, и даже, возможно, не слишком отдаленном. А стало быть, Черкасов мог позволить себе отнести неизвестное происшествие к позитиву.
Русакова изменилась резко и конкретно. Не заметить это мог разве что слепой. Мало того, что она резко постарела – как раз это обстоятельство Вадима чрезмерно порадовало. Но, что много хуже, изменилось отношение Ирины к окружающим. А возможно, и к самой жизни. Раньше она не была благосклонно настроена разве что к Вадиму, но с остальными сотрудниками была приветлива и улыбчива. И, если раньше от нее исходили флюиды довольства окружающим миром вообще и собственной жизнью в частности, то теперь она источала целые потоки неуверенности в себе, ненависти опять же только к себе одной, и презрения к жизни в целом.
Если раньше Русакова подчеркнуто демонстрировала равнодушие к сотруднику Черкасову, за которым легко угадывалась неприязнь, то ныне нечаянное равнодушие выказывалось всем сотрудникам. Всем. За исключением Черкасова и недавней подруги Ларисы Трегубович.
Вадим не знал, радоваться или огорчаться тому, что теперь в его присутствии Ирина Станиславовна робела, краснела и судорожно искала предлог поскорее закончить явно тяготившую ее аудиенцию. Впрочем, он быстро решил, что эти перемены к лучшему. По крайней мере, для него.
И еще он заметил, да и не только он – практически все сотрудники обратили внимание, что недавние подружки превратились вдруг в отчаянных врагов. О судебной тяжбе Трегубович против треста знали все. И вряд ли нашелся бы сотрудник, сочувствующий истице. Секретарша за несколько лет работы в тресте сумела настроить против себя очень и очень многих. Ее увольнение коллектив принял, можно сказать, с откровенной радостью, многие даже со злорадством, довольно потирая руки: ага, получила по мозгам, ехидина! Однако, как говорят в Одессе: недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Очень скоро секретарша победоносно воцарилась за своим рабочим столом, как овчарка в будке под дверью хозяина. И с того самого дня плотно закрытые жалюзи в кабинете Русаковой стали обычным явлением. То, чего не позволял себе даже Буськов, для его заместительницы стало привычным и в некотором роде обязательным делом.
Атмосфера сгущалась, в воздухе определенно пахло грозой. Что-то будет…
– Сегодня, – повторил под нос Вадим. – Сегодня или никогда…
* * *
Работать Ирина не могла. Но и домой идти не хотелось. Так и просидела до позднего вечера в кабинете, спрятавшись за спасительными жалюзи от чужих сочувствующих взглядов, убивавших самолюбие пуще презрительных.
Лишь в начале девятого вызвала машину. В супермаркет заезжать не стала – аппетита не было совершенно, да и в холодильнике, кажется, еще оставалась упаковка йогурта. У парадного дежурно попрощалась с водителем, поднялась по плохо освещенной лестнице на свой третий этаж.
Вообще-то «плохо освещенной» – слишком громко сказано. Лампочка-сороковаттка, одетая в металлическую решетку, как в забрало, горела лишь на первом этаже, остальные были плотно погружены во тьму. На третьем этаже ее отсвет скорее угадывался, чем был реально заметен. Выше же третьего и вовсе царил непроницаемый мрак.
Практически все дома в округе давно обзавелись кодовыми замками и консьержами. Было и в этом доме несколько попыток навести порядок, но все они так или иначе провалились. Кодовые замки без конца кто-то срывал, консьержки оказывались пьянчужками, а единственная нормальная консьержка-пенсионерка умерла прямо во время ночного дежурства. С тех пор подъезд стоял неохраняемым, и по вечерам здесь начали собираться теплые компании любителей алкоголя и наркотиков.
Ирина осторожно пробиралась впотьмах, боясь наткнуться на чей-нибудь лежащий организм, погруженный в пучины наркотического бреда. Она уже привыкла загодя доставать ключи, выставив самый большой и острый, от ригельного замка, вперед, наподобие стилета. Этот ключ давал ей пусть ложное, но чувство защищенности.
Она уже открыла свою дверь, уже почти захлопнула ее за собой, но чья-то тень метнулась от стены, просочилась вслед за нею в квартиру, обхватив сзади одной рукой, обездвижив, второй же закрыв ее готовый вскрикнуть от ужаса рот:
– Тссс…
Удивительно, как быстро в голове проносятся мысли в минуту опасности. За какое-то мгновение Ира успела вспомнить и подумать о многом. Превалирующей оказалась мысль: наконец-то!
Вот он. Наконец-то! Убийца, грабитель, потрошитель… Явился – не запылился. Его звали на новый год, а он явился спустя почти четыре месяца. Хорошо, даже если поздно. Это лучше, чем страдать еще лет сорок в мучительном ожидании встречи с мамой. Второй превалирующей мыслью было искреннее сожаление, что Маришкин день рождения теперь навсегда останется омрачен смертью матери.
Сердце выскакивало из ушей от страха, а мозг радовался: хорошо, очень хорошо, а главное, так вовремя, ведь сил на борьбу с собой совсем не осталось…
…Убедившись, что жертва не собирается кричать, злодей отпустил сначала ту руку, что сжимала Ирине рот:
– Не бойтесь, Ирина Станиславовна, это я, Вадим. Не кричите – не надо ставить в известность о моем визите соседей. Включите свет, – и только после этого отпустил вторую руку.
Несколько мгновений Ира не могла пошевелиться. Потом непослушной рукой с трудом нащупала выключатель, щелкнула. Прихожая оказалась залита светом. Ира стояла зажмурившись, обуреваемая противоречивыми чувствами. Разочарование боролось с радостью, но оба этих чувства меркли под гнетом возмущения.
Открыв глаза и увидев перед собой знакомое лицо, Ирина едва не расплакалась от гнева, бессилия и пережитого ужаса.
– Вы с ума сошли? У меня же чуть сердце не разорвалось от страха!
Не обращая внимания на ее слова, Черкасов снял куртку, тщательно развесил на плечиках и прошел в комнату. И уже оттуда не то спросил, не то сказал:
– Я пройду, хорошо?
Еще несколько мгновений Ирина стояла на месте, обескураженная его наглостью. Потом поняла, что хозяйка, застывшая в собственной прихожей, в то время как гость уже давно прошел в комнату, выглядит как минимум нелепо, сняла плащ и, забыв его повесить, так и прошла с ним в руках.
Черкасов стоял посреди гостиной и оглядывался. Улыбнулся:
– Вы считаете меня слишком настойчивым?
«Наглец», – подумала Ирина. А вслух ответила не слишком дружелюбно:
– А вы?
– Я? Скорее нет, чем да. Нет, определенно нет. Думаю, мне давно следовало это сделать.
– Наглец, – теперь уже вслух повторила Ирина. – Обыкновенный наглец.
Устало присела на диван. Только теперь обратила внимание, что до сих пор держит в руках плащ. Усмехнулась рассеянно, положила его на колени и снова повторила:
– Наглец…
Черкасов без приглашения устроился в кресле:
– Ну что вы, Ирина Станиславовна, какой же я наглец? Я глупый нерешительный мальчишка, который слишком долго ждал хотя бы намека на позволение приблизиться. Но сегодня понял – пора. Именно сегодня. Я не знаю, что сегодня произошло, просто чувствую, что вам очень плохо. Ужасно, невероятно плохо. И боюсь, что если меня не будет рядом, вы сделаете какую-нибудь ужасную глупость. Непоправимую.
Ирина улыбнулась натянуто, одними губами:
– Ах, милый мальчик, как вы ошибаетесь! Если бы я еще была способна на глупости! Последнюю глупость я совершила двадцать восьмого декабря прошлого года. С тех пор я смертельно, безвозвратно повзрослела. И на глупости – увы – не осталось ни сил, ни желания, – после недолгой паузы добавила: – Ни способности.
Горькая тишина повисла в комнате. Черкасов посмотрел на Ирины руки, нервно дергающие пуговицы на плаще, перевел взгляд на ее лицо. Оно не было хмурым или злым. На нем была написана беспомощность и безысходная усталость от жизни.
– Я догадывался, что ваши неприятности каким-то образом связаны со мной. Вернее, с тем вечером. Я могу как-то помочь вам?
– Нет, – быстро и почти весело ответила она. – Нет, вы не можете мне помочь, Вадим Николаевич. Мне уже нельзя помочь. Так что премного благодарна за участие и считайте, что вы выполнили свой гражданский долг: предложили руку помощи страждущему. Теперь вы со спокойной совестью можете оставить меня в покое.
Вадим чуть-чуть задержался с ответом, словно взвешивая все «за» и «против»:
– Нет. Увы – я не могу оставить вас в покое. Я вам нужен.
Ирина высокомерно рассмеялась:
– Наглец!
– Повторяетесь, Ирина Станиславовна.
– Самовлюбленный наглец! Напыщенный павлин! Самоуверенный болван!!!
– Уже лучше, – невозмутимо оценил пассаж хозяйки Черкасов. – Продолжайте.
– Индюк! Выспренный, вылизанный, высокомерный индюк! – Она говорила, и все больше входила в раж. О, как давно ей хотелось наговорить ему гадостей! – Мальчишка, сопляк, страдающий комплексом Нарцисса!
– Совсем хорошо. Еще немножко, и вам станет легче.
– Мерзавец, сладенький, гаденький дамский угодник! Малолетний ловелас! Альфонс! Ты думаешь, я не вижу, что тебе от меня нужно? Нашел богатенькую, не совсем еще противную старушонку, и присосался, как пиявка. Да, пиявка! Ты, ты… Это ты во всем виноват, это ты…
И тут ее окончательно прорвало. Все горе, свалившееся на нее в новогоднюю ночь, все неизлившиеся по утраченному счастью, по незаслуженно умершей маме слезы, вся боль, накопившаяся внутри и ежесекундно разрывавшая грудь – все выплеснулось на Черкасова в потоке грязных оскорблений, в слезах, в брызгавшей ядом слюне:
– Гад, мерзавец, сволочь, козел! Ты, ты во всем виноват! Ненавижу! Слюнтяй, маменькин сынок, похотливый павиан! Ты, ты! Откуда ты взялся на мою голову? Откуда та дрянь взялась на мою голову? Ты, вы, вы оба, ты и Лариска – сладкая парочка идиотов! Ты, ты…
Словно дьявольская сила подхватила Ирину с дивана, бросила к креслу, в котором развалился Черкасов. Она била его руками по голове, но удары получались слабыми, так как голова его была довольно далеко от нее. Тогда она стала пинать его по ногам, по коленям острыми носами демисезонных сапог:
– Ты, ты виноват! Вы оба! Сладкая парочка!
Удары по ногам оказались весьма болезненными, и Черкасов подскочил из кресла – нет уж, лучше пусть бьет руками. Ирина воспользовалась любезно предоставленной возможностью и стала молотить его кулаками, что было мочи:
– Ты, ты, ты!!!
Внезапно запал пропал, словно сосуд гнева опустошился. Ирина остановилась, растерянно посмотрела на гостя, на свои руки. Закрыла ладонями лицо и заплакала. Вадим прижал ее к себе, стал покачивать, словно убаюкивая, легонько поглаживая по спине:
– Чшшш…
Он не торопил ее, не успокаивал. Просто давал выплакаться. И Ира плакала, плакала, как малолетнее дитя, выплескивающее обиду на дверь, прищемившую пальчик.
– Чшшш…
Постепенно всхлипы становились реже. И, когда они уже почти стихли, Вадим оторвал Ирину от себя, заглянул в ее лицо, улыбнулся, увидев расплывшуюся по щекам косметику:
– Уууу, как наш макияжик-то поплыл, – притянул снова к себе и поцеловал.
Поцелуй был не столько любовный, сколько отеческий, хотя к невинному и не относился никоим образом. Ира не сопротивлялась – в эту минуту ей как раз хотелось, чтобы он ее поцеловал. И она уже вся размякла, готовая к чему-то запретному, но поцелуй оказался несуразно-коротким, как поощрительный приз. Она и опомниться не успела, как почувствовала, что стоит одна посреди комнаты, и Вадим уже не держит ее в своих объятиях. Открыла глаза – а он уже выходит из комнаты. Зачем, куда?
– Вадим?
Оглянулся, улыбнулся ласково:
– Жить будете. Вот теперь я могу оставить вас в покое.
Ира растерянно стояла посреди комнаты. Что это? И он так просто уйдет?
Уже громко щелкнул, открываясь, ригельный замок на входной двери, но спустя мгновение веселая физиономия Черкасова снова заглянула в комнату:
– Знаете, Ирина Станиславовна, я все-таки буду настаивать на составлении брачного контракта. Если уж вы назвали меня альфонсом, то остальные тем более так подумают. Нет, мне вашего не надо.
И снова исчез. На сей раз входная дверь захлопнулась, ставя жирную точку на визите неожиданного гостя.
– Наглец, – уже не так уверенно произнесла Ирина. И впервые за долгое время улыбнулась.
* * *
– Понимаете, он вернул меня к жизни. Если бы не он, меня в тот вечер не стало бы. Не думаю, что я покончила бы с собой. Скорее всего, мое сердце просто не выдержало бы той боли и остановилось. Или разорвалось – не так важно. Важно то, что в тот вечер мои мучения должны были завершиться. А он продлил агонию. Ах, если бы не его визит, я бы уже давно отдыхала на облаках! Теперь же мне предстоит спуститься в преисподнюю. Зачем, ну зачем он пришел? И зачем я поверила, что жизнь еще не кончена, что счастье еще возможно, зачем?!!
Вопросы явно были риторическими, а потому собеседница не стала искать на них ответ. Она была идеальной слушательницей, именно поэтому Ирина так разоткровенничалась перед нею. И в благодарность за то, что попутчица не стала учить ее уму-разуму, не стала выкладывать свои философские изыскания по поводу человеческих отношений, Ирина продолжила исповедь.
* * *
Нельзя сказать, что непосильный груз с души, с сердца упал и в одночасье растворился в небытие. Душевная боль никуда не делась, она продолжала разъедать ее нутро постепенно, клетку за клеткой. Однако визит Черкасова оказался для Ирины своеобразным антибиотиком. Это только в фантастических фильмах о глобальных эпидемиях, грозящих вымиранием всему человечеству, ученые в самый последний момент находят лекарство, и ребенок или жена главного героя, приняв одну-единственную пилюлю или инъекцию, тут же излечиваются от смертельной болезни. Но жизнь человеческая – не кино и не роман автора-дилетанта, в ней так быстро не излечишься от вплотную подобравшейся смерти.
Однако главное уже произошло – Ирина приняла спасительный эликсир жизни, и тот начал свой победоносный поход по ее душе. После ухода Черкасова Ирине, впервые за последние недели, вдруг захотелось посмотреться в зеркало. Что он там говорил о поплывшем макияже? Увидела собственное отражение и ужаснулась. Морщинок по-прежнему не было, но лицо ее, кажется, конкретно позабыло о том, что ножом хирурга ему велено было помолодеть на десять лет.
Темные круги под глазами не красят ни одну женщину. В начале двадцатого века, во времена расцвета немого кино была кратковременная мода на чахоточных красоток а-ля Вера Холодная, но долго такая чудовищная мода продержаться не смогла. И сейчас, как во все времена, символом красоты является чистая ровная кожа. Ираже словно только что вышла из машины времени, вернувшись с прогулки по съемочной площадке, где над ее лицом серьезно потрудились гримеры.
Она будто впервые за несколько последних месяцев увидела свое лицо. Хоть и смотрелась в зеркало несколько раз в день, а оценить свой внешний вид, все потери, смогла только теперь, после визита Черкасова. Только теперь она сообразила, что последствия косметической операции канули в лету, и, если не предпринять немедленных действий, будет поздно – процесс станет необратимым. И только теперь поняла, что, оказывается, ей на это все еще не наплевать, отчего-то ей еще хочется хорошо выглядеть, ей еще хочется кому-то нравиться.
Кому-то? Едва ли можно применить это слово. Ей не хотелось нравиться кому попало. Ей хотелось нравиться конкретному человеку. Если теперь она не нужна мужу, если он, муж, теперь уже официально именовался бывшим, то был на свете еще как минимум один человек, в чьих глазах Ирине хотелось бы видеть свое великолепное отражение. И пусть этот человек молод, пусть! Так даже еще интереснее. Завоевать сердце ровесника – невелика заслуга, хотя и это не всегда легко сделать. А вот в ее-то сорок один, да влюбить в себя двадцатипятилетнего мальчишку – вот это подвиг, это ли не станет подтверждением ее женских чар? Конечно, мальчишка никогда не сможет заменить ей семью, Сергея и Маришку. Но последняя надежда на примирение с любимыми умерла не далее, как сегодня утром. Скончалась, не приходя в сознание, даже сама возможность остаться хотя бы приходящей воскресной мамой. Настоящей семьи у нее уже никогда не будет – ее место в ней прочно заняла мерзавка Лариска, нагло присвоив себе Ириного мужа и даже дочь.
А значит, Ирине оставалось только попытаться заменить настоящее чувство суррогатом любви. Пусть так, пускай рядом будет нелюбимый, лишь бы только не было этой отвратительной пустоты вокруг! В конце концов, не обязательно любить самой. Недаром говорят: из двоих обычно любит один, второй же снисходительно позволяет себя любить. Что ж, пусть она будет такой вот второй – она позволит этому мальчишке любить себя.
Конечно, это смешно, ему всего двадцать пять, разница в возрасте – безумных шестнадцать лет! При известной доле фантазии Ирина могла бы быть его матерью. Ну и пусть, пусть! В конце концов, не собирается же она за него замуж. Зато она перестанет быть одна, она перестанет бояться вечеров и истерически ненавидеть выходные. Да, безусловно, она даст почву для злых сплетен о себе. Но и сейчас о ней говорят много гадостей. Так пусть говорят. Пускай сплетницы сами попробуют заиметь себе такого поклонника.
Пусть завидуют, пусть! Все, что угодно, пусть рядом будет, кто угодно – хоть малолетка, хоть пенсионер. Только бы не быть одной. Только бы ее отпустило это страшное когтистое чудовище под названием Одиночество.
И Ирина взяла с полочки в ванной комнате маску-скраб. Итак, приступим…
* * *
Утром девятнадцатого апреля Ларочка опоздала на целый час. Ворвалась фурией в кабинет начальницы, и «извинилась» с торжествующей улыбкой на физиономии:
– Ах, Ирина Станиславовна, простите за опоздание! Больше такого не повторится! Вы же сами знаете, каково это – приемы устраивать среди рабочей недели. Пока всех гостей выпроводишь, а они все не уходят и не уходят. И выгонять нельзя, это же родители мужа и будущий зять. Муж, конечно, пока еще гражданский, но вы же, Ирина Станиславовна, великолепно знаете, что штамп в паспорте ничего не гарантирует. Ну вот у вас, к примеру, штамп был. И что? Сильно он вас от развода защитил? Не это главное, скажу я вам, дорогая моя, – менторским тоном с неприкрытой издевкой произнесла Ларочка. – Главное – любовь! Когда она есть – никакой штамп не нужен. А с этим у нас с Сереженькой все в порядке. Вы бы порадовались за подругу, Ирина Станиславовна, а? Чего молчите-то?
Очень хотелось Ирине выдрать шикарные Ларискины лохмы прямо с корнями, выцарапать эти торжествующие маленькие глазки. И, пожалуй, вчера она не смогла бы отказать себе в этом удовольствии, набросилась бы на гадину, не задумываясь о последствиях. Но Лариска просчиталась, сегодня перед нею была не та Русакова, не вчерашняя. И пусть она выглядит точно также – это уже другой человек.
Ларочка здорово удивилась, услышав спокойно-уверенный ответ начальницы:
– Не в вашем положении просить прощения, Лариса Моисеевна. Ваши семейные проблемы меня очень мало волнуют. А опоздание на час – серьезное нарушение трудовой дисциплины. Официально предупреждаю: позволите себе опоздать еще раз хоть на пять минут – будете уволены за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Как секретарь, подготовьте приказ с выговором Трегубович Ларисе Моисеевне за опоздание с предупреждением о тяжких последствиях повторного опоздания, в двух экземплярах. На одном из них распишитесь о том, что предупреждение вами получено. Это уже не как секретарь, а как Трегубович Лариса Моисеевна. Второй экземпляр можете засунуть себе в укромное место. Все, я вас больше не задерживаю, приступайте к выполнению своих должностных обязанностей.
Ларочка опешила. Мало того, что она не получила ожидаемой энергетической подпитки от взбешенной и униженной бывшей подруги. Оказывается, она еще и серьезно подставила саму себя. Ведь двух выговоров за опоздание формально будет достаточно для уже законного увольнения. Да что ж такое, кругом одни обломы. Сергей вчера все ее надежды в прах превратил своей бестолковой скромностью, теперь эта гадюка новым увольнением угрожает.
* * *
Мужа Паулина ненавидела. Она только и ждала возможности уйти от него. Но возможность эта никак ей не подворачивалась. Они без конца переезжали с места на место, меняя гарнизоны. Из Иркутска в Хабаровск, оттуда поехали «кормить камчатских крабов». Потом вновь была Сибирь, Урал. И практически никогда они не жили в городах. Города по большей части представали их глазам в виде вокзалов или аэропортов.
Будни же их проходили в гарнизонах. И из-за этого, как уверяла себя Паулина, она даже не имела возможности уйти от Николая. Ну как, как она без его помощи доберется до вокзала? Ладно бы одна – еще куда ни шло, можно бы рискнуть уехать на попутке или рейсовым автобусом. Но с вещами, с Вадиком… Как она дотащит все их с сыном вещи до дороги. А если и дотащит – кто даст гарантию, что ей удастся поймать попутку, что сразу удастся взять билет на первый же проходящий поезд на Москву. А если окажется, что билеты распроданы на месяц вперед, куда им с Вадиком деваться? Переть чемоданы обратно и являться побитыми собаками пред очи разгневанного их бегством Черкасова… Судьба определенно издевалась над Паулиной, за все эти годы не предоставив Паулине ни единого шанса уйти от ненавистного мужлана.
Впрочем, днем такие мысли даже не приходили в ее хорошенькую головку. Днем ее жизнь протекала вполне сносно: утром Николай уходил на службу и крайне редко появлялся раньше десяти вечера, что вполне устраивало Паулину. Днем, пока сын был в школе, она готовила кушать, стирала и убирала, не слишком задумываясь о горькой своей судьбинушке. Потом приходил Вадик, и жизнь вообще казалась ей подарком судьбы.
Мальчик рос послушным и ласковым. Николай без особого труда сумел запугать ребенка так, что не было никакой нужды заставлять его делать уроки. С самого первого класса Вадик понял, что отцовского гнева можно избежать лишь благодаря хорошему поведению и, конечно же, пятеркам в дневнике. А потому между тяжелой отцовской рукой и учебой выбрал последнее. Учиться было намного легче, чем переносить отцовский гнев. И Вадик учился почти с удовольствием. Да и проблем с науками у него не возникало: природа одарила его не только примечательной внешностью, но и хватким умом, и хорошей памятью. Да еще от отца передались такие черты характера, как скрупулезность и усидчивость.
Времени на учебу ему хватало сполна. Другие ребята рвались из дому на улицу погонять в футбол, поиграть в снежки, в конце концов, пошлить, а Вадику больше нравилось быть дома, с мамой. С друзьями у него с детства не заладилось. То ли бесконечные переезды не способствовали возникновению крепкой мальчишеской дружбы, то ли он попросту не ощущал в ней необходимости. Он мог часами сидеть над тетрадками, по нескольку раз переписывая домашнее задание, если вдруг допускал небрежность или описку. С видимым удовольствием вырабатывал каллиграфический почерк, подолгу выписывая одну и ту же букву разными способами, решая, каким из них буква получается красивее.
Позже, когда в школе появились предметы, требующие определенных графических навыков, такие, как геометрия, физика, химия, Вадик с удовольствием вычерчивал схемы, и многоэтажные формулы. У него был целый набор деревянных линеек и лекал, которые он подолгу перебирал в руках, решая, которой из них стоит воспользоваться в данном конкретном случае. Пластмассовые принадлежности им категорически отвергались: от них уже нанесенные линии и рисунки могли размазаться, а грязь в тетради считалась абсолютно неприемлемой. Образно говоря, он, как Кай в гостях у Снежной Королевы, часами мог выкладывать из льдиной слово «Вечность». И друзья ему совсем не были нужны. Ведь у Вадика была мама.
Паулина никогда не работала. Не из-за лени, хотя она и не смогла бы себе даже представить такую ситуацию, когда ей пришлось бы чем-то профессионально заниматься, кроме пения. Но пение, увы, было в далеком прошлом. А потому Паулина с видимым удовольствием сидела дома, спрятавшись с чистой совестью за уважительной причиной в виде отсутствия в гарнизоне приличной работы для женщин. Дома было хорошо, дома был любимый сыночек, Вадичка, Вадюша. Когда мальчик возвращался из школы, она словно просыпалась от зимней спячки. Она порхала вокруг драгоценного сыночка, кормила не чем попало, а непременно чем-то изысканным. Даже если это и было приготовлено из обычных продуктов, то блюдо в обязательном порядке должно было выглядеть нарядным, и подано, как в лучших аристократических домах. Стол накрывался, как в ресторане, с полной сервировкой: тут тебе и белоснежные крахмальные салфеточки в ажурном серебряном зажиме, и целый набор тяжелых мельхиоровых вилок, ножей и ложек с затейливой головкой, тарелки, соусник и супница непременно сервизные, фарфоровые – никакого фаянса, из фаянса пусть плебеи щи хлебают. Ее Вадик должен воспитываться в лучших традициях интеллигентных семей, и никак иначе.
Отобедав, Вадик полчаса отдыхал с любимой книгой в руках, пока мама прибирала со стола. После этого они вместе садились за уроки. Не было ни малейшей необходимости сидеть над Вадиком и силой заставлять его делать домашнее задание, или следить за тем, чтобы он выполнил его аккуратно и правильно. Это была их традиция: мама непременно должна быть рядом с сыном. И Паулина с пристрастием наблюдала, как мальчик пишет упражнение по русскому языку, как из-под его руки выходят ровнехонькие слова и предложения, или же столбики цифр, или схемы, рисунки. Наблюдала, непременно хвалила едва ли не каждую минуту, периодически целуя в макушку или щечку, нежно и одобрительно поглаживая сыночка по спине.
После письменных уроков они приступали к устным, слившись щеками в единое целое над учебником истории и вместе зачитывая вслух два-три раза заданные параграфы. После этого Вадик становился перед мамой в центре комнаты и рассказывал выученный урок. Не для того, чтобы доказать маме, что он все запомнил. В его памяти не сомневались ни он, ни Паулина. Но для верности ему требовалось отрепетировать свое выступление перед классом. Он отрабатывал не только содержание ответа, но и осанку, и выражение лица, и интонацию на том или ином этапе пересказа, выделяя самые важные моменты темы. Мама слушала внимательно, подсказывая время от времени, где именно, на каком факте лучше сделать упор, как выделить его интонацией или, может, гневным взглядом, если по теме следовало кого-либо осудить за неправильные действия в давнем прошлом, ставшем уже историей.
После того, как все уроки были выполнены, Паулина окончательно хвалила сына смачным поцелуем в губы, что означало переход к следующему этапу распорядка дня. Учебники и тетрадки уже отдыхали в портфеле или на полке, а Вадим с мамой начинали заниматься красотой. Оба раздевались до пояса, прятали волосы под эластичную повязку и приступали к колдовству. Именно так называла это действо Паулина.
Сначала они очищали кожу: Паулина – специальным молочком, Вадик – глицериновым мылом, тщательно взбитым в густую стойкую пену. После очищения на кожу лица и груди накладывались маски. Чаще всего в ход шла сметана или сливки. И то, и другое предварительно долго взбивалось миксером, увеличиваясь в объеме и насыщаясь кислородом. Потом Паулина щедро намазывалась этим продуктом до самого пояса. Так щедро, что сметана едва не капала с нее. И уже после этого приступали к массажу. Именно так Паулина именовала следующее действо. Стоя на полу, она усиленно терлась лицом о лицо Вадима и грудью соответственно о его торс. Именно от этого, как она утверждала, ее грудь, несмотря на роды и долгое кормление Вадика, до сих пор выглядела девичьей. Это занятие веселило обоих. Минут пятнадцать они терлись друг о друга всеми частями тела. Под конец такого вот массажа даже их спины были испачканы сметаной.
В завершении они принимали душ: сначала Паулина отмывала чумазого и жирного от самодельного крема Вадика, потом менялись местами, и уже Вадим ласково смывал с мамы остатки сметаны. Под детскими ладошками расцветали нежные мамины соски. Паулина на мгновение задыхалась от неги, разлившейся по всему телу, после чего смеялась низким, каким-то чужим смехом, и говорила всегда одну и ту же фразу, которую Вадим знал уже назубок, но все равно с нетерпением ожидал этого момента. Еще и еще раз, вчера, сегодня, завтра. Всегда, всегда, каждый день его жизни это будет повторяться: скользящая под руками жирная кожа маминой груди, мгновенно вспухшие соски, задержанное на миг дыхание, короткий мамин смех и глубокий взволнованный голос, выдававший смущение чувств сквозь нейтральную фразу:
– Привыкай, сыночка, о красоте заботиться. Красота – она быстро проходит…
И не замечала Паулина, что сыночку-то уже почти двенадцать лет, и что не только у нее самой дух захватывает от такого «массажа». Упорно не замечала, что не только у нее самой соски вспухают. Не замечала… Или не хотела замечать…
Потом они занимались маникюром. Паулина весело смеялась, наблюдая за неловкими манипуляциями сына со специальными щипчиками. Сначала делала ему маникюр сама, потом некоторое время материнское сердце обливалось кровью, наблюдая, как неловок сын с режущим инструментом. Но все более ловкими становились движения Вадика, все лучшего результата он достигал. И руки его были столь же ухоженными, как и лицо. Ногти аккуратно подстрижены, наполированы так, что и без лака отсвечивали благородством. Когда сынок освоил эту науку, Паулина начала учить его азам педикюра. А чтобы не делал себе больно, позволила учиться на своих ногах. Как водится, не обошлось без порезов и мелкого кровопролития, однако руки у Вадика были ловкие и ласковые, и скоро Паулина уже не морщилась от боли, а тихонько млела от наслаждения, когда ласковые детские руки массировали ее ступни, втирали крем в пятки, нежно мяли пальчики и подушечки, то поглаживая, то щекоча. Млел и Вадик, тщательно скрывая свое наслаждение за ложной сосредоточенностью и с огромным трудом подавляя в себе желание расцеловать, облизать, обсосать, словно леденец, каждый мамин пальчик. Лишь изредка, слегка поранив щипчиками нежную кожу под кутикулой, позволял себе зализать ранку языком.
А потом приходил вечер, а вместе с ним на пороге появлялся хмурый отец. И переставало светиться счастьем мамино лицо. Пожелав спокойной ночи родителям, Вадим отправлялся в постель, но сон редко приходил сразу. И часто, очень часто Вадик мучительно прислушивался к ритмичному поскрипыванию кровати за стеной. И обливалось кровью детское сердечко. И возбужденное сыновней ревностью воображение рисовало картины кровавой расправы над отцом, подлым насильником любимой матери.
И плакал мальчишка, давясь горькими слезами, пряча слезы в подушку. И упорно билась мысль в висок, не находя выхода: «Гад, гад, что же ты делаешь?! Она же моя!!!»
* * *
Ларочка дрожала в приступе ярости. Подлец, мерзавец! Он отказался от нее, побрезговал! Унизил своим отказом, а ведь она не просила ничего особенного. Господи, да любой, любой нормальный мужик только счастлив был бы! Ну кто, скажите, в здравом уме и при твердой памяти откажется от халявы? Кто?! Разве что импотент. Но это же глупость несусветная – Сергей и вдруг импотент. Мало того, что это было на него совершенно непохоже. Она ведь сама, собственными руками, да что там руками – всем своим телом чувствовала его налитую плоть, так что ни о какой импотенции и речи быть не может. Нет, он просто гад, он побрезговал ею. Не хочет осквернять память о бывшей жене, низкой шлюхе.
Ну ничего же, ничего, еще не вечер. Этот гад еще пожалеет. Она ему устроит райскую жизнь. Он до конца дней будет жалеть о том, что посмел отказать ей. И ведь дурак-то какой – не столько ей отказал, сколько самому себе. Ведь она же видела, чувствовала, как ему хотелось. Ну дурак…
Может, месть Ларочкина была незатейливой и даже наивной. Может и так. На особую оригинальность Ларочка не претендовала. Зато была уверена: месть ее, пусть и не особо заковыристая, но по нервам бьет без промаха. После той ночи, когда Сергей отказался от нее, почти каждую ночь она набирала номер Сергея и долго молчала в трубку. А тот наивный идиот был уверен, что ему названивает Ирина. Вот умора-то!
Это его заблуждение Ларочку очень веселило, она даже с удовольствием подыгрывала.
– Але, – сонно вопрошала трубка.
Ларочка не отвечала.
– Але? Але, Ира, это ты? Хватит молчать, это ты?
Ларочка начинала усиленно дышать, изображая взволнованность. Трубка замолкала, то ли слушая ее дыхание, то ли обижаясь за прерванный сон. Потом сердитым голосом Сергея выдавала:
– Прекрати! Или говори, или перестань звонить. Ты что, не понимаешь, что от твоих звонков и Маришка просыпается? Если хочешь поговорить со мной, то по крайней мере не молчи. А лучше позвони вечером. Если нам еще есть о чем говорить…
Ночь от ночи монологи Сергея становились все более гневными:
– Прекрати звонить! Ты не даешь нам спать! У тебя что, от молодого любовника крыша совсем набок съехала? Оставь нас в покое!
А Ларочка только хихикала. Она и не представляла, что настроить Сергея против Ирины окажется так легко. Они-то, конечно, и без того уже развелись, но кто знает, какая бредовая идея взбредет в Иркину голову. А вдруг она надумает мириться, просить прощения. И вдруг он простит. Нет, о таком повороте событий следовало позаботиться заранее. Чтобы о примирении супругов и речи не возникло. Нет, дорогие, вы еще очень горько пожалеете, что не оценили в свое время Ларочку Трегубович!
Однажды ночью, в очередной раз набрав знакомый номер и намереваясь вдоволь позабавиться гневом Сергея, Ларочка услышала женский голос:
– Алло?
Ларочка опешила. Она хорошо знала голос Маришки, узнала бы и голос Сережиной матери. Но нет, это определенно была совершенно посторонняя женщина!
– Алло, – повторила трубка. – Вас зовут Ирина и вы хотите поговорить с Сергеем? Должна вас разочаровать: отныне вам придется говорить только со мной. Меня зовут Евгения. Если хотите, можете называть меня Женей. Так меня зовут только друзья, но вам я могу позволить некоторую фамильярность. Что ни говори, а мы теперь вроде как не совсем чужие люди. Ну что, будем говорить или дышать?
Впервые за два месяца еженощных звонков Ларочка первой положила трубку.
* * *
Неожиданный визит Черкасова ничего не изменил. Они по-прежнему оставались начальницей и подчиненным со всеми вытекающими последствиями. Постороннему человеку могло показаться, что не происходит ничего особенного – все, как всегда, без каких-либо существенных отклонений.
А отклонения несущественные мог обнаружить лишь очень внимательный созерцатель. Впрочем, такого рядом не обнаружилось, а потому коллектив треста жил своею обыденной жизнью, оставив, наконец, в покое личные неудачи Русаковой.
Жалюзи в кабинете Ирины Станиславовны по-прежнему были закрыты весь день. Но теперь Ирина Станиславовна стала иногда забывать открыть их на время визита Черкасова. И происходило это все чаще. Однако любопытная секретарша после неоднократного изучения обстановки через дырочку вынуждена была констатировать: за стеной не происходит ровным счетом ничего интересного. Да и после визитов Черкасова Русакова уже не выглядит выбитой из седла, как раньше. И Ларочка разочаровано выворачивала губки: фии, так неинтересно…
При довольно регулярных встречах с Черкасовым действительно не происходило ничего особенного. Но с некоторых пор Ирина Станиславовна перестала так нервно реагировать на его визиты в свой кабинет. Руки ее перестали дрожать в его присутствии, уже не прятались в дальних уголках памяти необходимые слова, да и цвет ее лица при этих встречах теперь оставался вполне ровным. Любопытный наблюдатель смог бы констатировать: Русакова снова замечательно выглядит. Нет больше темных кругов под глазами и изможденного взгляда, неизменно придающего женскому обличью лишний десяток лет.
За закрытыми жалюзи не происходило ровным счетом ничего особенного, тем более крамольного. После его знаменательного визита прошло уже почти два месяца, а они до сих пор словом не обмолвились насчет произошедшего. Говорили они только о работе. И вовсе не из боязни быть услышанными посторонними ушами. Просто они до сих пор были всего лишь коллегами. Да, несколько недель назад один из них фактически спас жизнь другому, но кто станет обращать внимание на житейские мелочи.
Они по-прежнему обсуждали лишь рабочие вопросы: как повысить эффективность рекламы, какой процент от прибыли целесообразно в нее вложить, дабы реклама или PR-акции принесли ожидаемый результат, но не съели лишних денег. Какой процент из рекламных денег отпустить на телевизионную рекламу, сколько потратить на печать проспектов, а сколько на биг-борды, и какой из этих способов рекламы, в конце концов, наиболее эффективен.
С языков слетали производственные фразы, а глаза жили своею жизнью. Диалог шел постоянно, но сугубо на визуальном уровне: многозначительные взгляды, мимика, жесты:
– Вы сегодня великолепно выглядите, Ирина Станиславовна!
– Знаю, Вадим Николаевич. Все равно спасибо.
– Как провели вчерашний вечер, Ирина Станиславовна?
– Замечательно, Вадим Николаевич! Лучше всех!
– А не было ли вам скушно, Ирина Станиславовна? Или, быть может, одиноко?
– Ну что вы, Вадим Николаевич! В одиночестве есть свои прелести – никто не мешает смотреть любимый фильм, например, или предаваться фантазиям…
– А не обо мне ли были те фантазии, Ирина Станиславовна?
– Ах, Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, как вы самоуверенны! Нет, уважаемый, не о вас…
– Сдается мне, Ирина Станиславовна, что вы не вполне искренне отвечаете на мои вопросы. И что-то подсказывает, что в ваших фантазиях мне было уделено немало времени и места.
– А вот об этом, дорогой Вадим Николаевич, вы можете только догадываться. А ответа от меня не получите: ни да, ни нет. Так и будете всю жизнь сомневаться: думаю ли я о вас. Скорее нет, чем да!
– Не верю, Ирина Станиславовна, ох, не верю я вам! А не поужинать ли нам с вами сегодня, Ирина Станиславовна, а? Как вы на это смотрите?
– Смотрю положительно, Вадим Николаевич, но издалека.
– А это как, Ирина Станиславовна?
– А вот подрастете, Вадим Николаевич – тогда и поймете…
– Тогда, быть может, мне неожиданно нагрянуть к вам в гости, Ирина Станиславовна? Как в прошлый раз?
– Нет, Вадим Николаевич, как в прошлый раз не надо.
– Ну тогда, может, немножко иначе, а, Ирина Станиславовна?
– Насчет «иначе» – интересная идейка, Вадим Николаевич. Только давайте не будем спешить…
И они не спешили.
* * *
Сергей едва ли переживал развод легче Ирины. Как показали многочисленные исследования, при разводе мужчины испытывают гораздо больший шок и стресс, нежели женщины. Хотя всю жизнь принято было считать иначе. Теперь от Сергей на собственной шкуре смог прочувствовать, что это такое – развод.
Разводы бывают разные. Иногда их причиной становится материальный недостаток, тот самый случай, когда мужик элементарно не в состоянии прокормить семью. Оно то, конечно, грош цена такому мужику, хотя Сергею всегда было интересно: и что, без такого вот горе-супруга женщине будет легче в материальном плане? Раньше муж приносил в дом всю зарплату, которой и так не хватало. Теперь же, после развода, она будет получать лишь четверть от его крошечной зарплаты, а траты ведь останутся прежними. Да еще придется покупать телевизоры-холодильники взамен отошедших по суду горе-мужику. В чем выгода? Тащить ребенка на себе одной в еще более тяжелом материальном состоянии?
Бывает, жена подает на развод из-за неверности мужа. Это уже более серьезная, на взгляд Сергея, причина для развода. И тут он был вполне солидарен с инициаторшей такого развода: все правильно, не умеешь удовлетворяться одной женщиной – не женись. А уж коль женился, но без приключений жить не умеешь – будь добр, «приключайся» так, чтобы жена ни о чем не догадалась.
Бывает, и мужья подают на развод по причине неверности жены. Как раз в этой категории оказался сам Сергей. Теперь он познал на своей шкуре – каково узнать, что самый родной человек предал так подло, так низко. Ничего положительного Сергей из этого опыта не вынес, одну только сплошную боль…
Предательство – это всегда больно. Сергея же Ира предала дважды: изменив с малолеткой и обманывая его в течение трех лет. Кто знает, может, этот малолетка и не был первым. Ведь зачем-то ей понадобилось быть на предыдущих вечерах без мужа. Значит, предательство началось еще тогда, и он все это время, как последний идиот, носил на себе ветвистые рога. О, Боже!
Предала… Все ложь и обман. Вот для чего ей понадобилась пластическая операции, вот для кого она омолаживалась. Молодежный период… А еще про мужиков говорят: седина в бороду, бес в ребро. А как это же самое сказать про женщин, если бороды у них нет, а седину успешно закрашивают, чтобы вешать лапшу на уши зеленым пацанам. Ну а им-то, пацанам этим, что, ровесниц не хватает? Им-то зачем нужны бабы в два раза старше их самих? Неужели они, старые, слаще молоденьких. Тогда почему пятидесятилетние мужики на молодых девок кидаются, как с голодухи. Как же все это сложно. И больно…
На работе у Сергея знали, что их благополучный, казалось бы, брак распался в одночасье. О причинах не спрашивали – какая, в принципе, разница, из-за чего люди расстались. Мужики деликатно обходили этот вопрос стороной, за что Сергей был им благодарен.
Иногда он стал позволять себе после работы посидеть с приятелями в пивнушке. Но, натыкаясь наутро на укоряющий Маришкин взгляд, не позволял себе такие походы слишком часто. Оно-то конечно, шары заливши, на какое-то время перестаешь чувствовать боль. Но утром она возвращалась обратно, прихватив за компанию похмельные муки. Да и не выход это – горе в водке топить. Что ж тогда Маришке делать, тоже к бутылке присосаться? Нет, нельзя рассупониваться. Пора брать себя в руки и терпеть. Больно, но надо терпеть. Говорят, время лечит. Интересно, сколько времени должно пройти, прежде чем он хотя бы научится нормально дышать?…
Недели летели перелетными птицами, а легче не становилось. Вроде и выгнал из дому Лариску, вечно своей противной физиономией напоминавшую о существовании Ирины. Поражался, как же Ирина такую змеюку на груди пригрела. Она же, змея эта, все годы только об одном и мечтала – как Сергея в свою постель затащить, как семью их разбить. Вот и разбила… Не без Ириной помощи. Наверняка ведь все знала с самого начала, с самой первой измены. Наверняка все Ирины художества на ее глазах развивались. Но нет, она терпела, выжидала, когда подруга завязнет во лжи по самый хвостик, тогда и нанесла смертельный удар. Удар по их семье.
Без Лариски стало чуть-чуть легче. Самую малость, но все-таки легче. По крайней мере, никто теперь его не отвлекал от мыслей и воспоминаний. Маришка закрывалась в своей комнате и занималась там неизвестно чем. Девочка сильно изменилась, стала замкнутой и озлобленной. Да и немудрено, после таких-то событий. В одну ночь, самую, казалось бы, праздничную в году, потерять сначала мать, в фигуральном смысле слова, а буквально через несколько часов стать свидетельницей мгновенной смерти бабушки. Бедный ребенок, как она это пережила! И как надолго останется в ней пережитый стресс? Какие изменения и проблемы он породит? Наверняка этот шок изменит ее характер. И вряд ли в лучшую сторону. Бедное, бедное дитя…
Постепенно Сергей стал ловить себя на мысли о том, что чаще обычного поглядывает в сторону Женьки. Не без инициативы с ее стороны. Первое время не до нее было, не замечал ее призывных взглядов, а вот подишь ты – таки обратил внимание. И даже сам удивился, когда вдруг обнаружил ее рядом за столиком в кафешке.
Женька была симпатичная. Здесь, в кафе, никто вовек не догадался бы, что работает она автослесарем. Ничем она не была хуже какой-нибудь секретарши или вообще бизнес-леди. Костюмчик разве что не такой дорогой, но ухожена не меньше. Без особых наворотов, но вся такая светлая, ладная. И обаятельная. Да-да, как же он раньше этого не замечал. Красота и ухоженность – не показатель человечности. А обаяние – это уже близко, это своеобразный сигнализатор: внимание, рядом человек, к которому стоит присмотреться.
А может, не в обаянии дело. Может, в доброте? Впрочем, к чему эти самокопания. Сергею привычнее было мыслить фактами. А факты таковы, что с некоторых пор вокруг него как будто сформировалась некая субстанция, обволакивающая и усыпляющая. Пожалуй, усыпляющая – то самое слово, ключевое. Женька его усыпляла. Она как будто погружала его в гипноз, в забытье. Забытье от жены и предательства. И пусть они с Ириной развелись, он по-прежнему идентифицировал себя не иначе, как ее мужем.
Женька мало говорила, что здорово повышало ее в глазах Сергея. Если бы она еще и поменьше зыркала на него с немым обожанием, было бы еще лучше. Но по-настоящему сердиться на женщину за взгляды, сияющие любовью, невозможно, и Сергей стал уговаривать себя, что эти ее поглядывания ему даже нравятся. Она смотрела на него чуть насмешливо, но влюблено. Ее присутствие рядом создавало скорее уют, чем раздражение – на первом этапе этого было более чем достаточно. Не Ирина, конечно, но… Нужно привыкать жить без нее.
Он не задавал себе глубинных вопросов, а любит ли он Женьку. Во-первых, самокопаний он никогда не любил. А во-вторых… Женька была настолько непохожа на Ирину, что даже глупо было задаваться подобными вопросами. Одному было уж очень тяжко. Женькино присутствие сглаживало паршивую, чего уж там, реальность. С ней он будто погружался в виртуальный мир, где цвели пионы на клумбах, где порхали над ними мультяшно-яркие бабочки. Вроде все замечательно, но каждое мгновение Сергей знал, что это – ненастоящее, что стоит кликнуть по значку «выйти из игры», и мир вокруг станет по-настоящему серым. Таким, каким он и должен быть в реальной жизни. В его жизни.
Иногда он вспоминал Ларискины слова, сказанные той ночью, когда он от нее окончательно избавился. Про скорую помощь и физиологию. В чем-то она, безусловно, была права. Ему нужна была скорая помощь, и это факт. Против природы не попрешь, это еще один факт. Тут она попала в самую тютельку. Но в то же время Лариска здорово просчиталась. Потому что, как ни была ему нужна скорая помощь, но принять ее Сергей был готов далеко не из любых рук. Далеко не любое тело могло удовлетворить его инстинкты.
В идеале ему нужна была Ирина. Не сегодняшняя, не предательница, а та, которая много лет назад стала его женой. Лариска на эту роль не могла претендовать даже отчасти, даже издалека, и даже приблизительно. А Женька, выходит, могла. Другое дело, насколько глубоко в свою душу готов был пустить ее Сергей. Но «глубины души», по его представлению, стопроцентно принадлежали к самокопательству, а значит, даже не стоило пытаться искать ответ на этот вопрос.
Если кого-то весть о расставании Сергея с женой и порадовала, то этим человеком была Женя. Угораздило же влюбиться в женатого мужика, да еще и пребывающего в счастливом браке. Как бы ни семафорила она ему о своей готовности отправиться в полное приключений любовное путешествие, а призывы ее всё тонули в безответности. И когда она уже, было, перестала надеяться на взаимность, по автомастерской разнеслась прекрасная, как первый лучик солнца, новость: не всё благополучно в семействе Русаковых.
В эти отношения Женя нырнула, как в омут. Не пугало ее ни наличие теперь уже бывшей жены, ни опасный возраст дочери возлюбленного: никогда не знаешь, чего ожидать от шестнадцатилетнего подростка, сегодня ты для него лучший друг, а завтра – злейший враг.
В их с Сергеем первую ночь Маринка гостила у родителей Сергея. Женю грела мысль, что все между ними произошло отнюдь не случайно, и дочку он сплавил намеренно, чтоб не путалась под ногами.
А среди ночи их разбудил телефонный звонок. Сергей застонал:
– Опять…
Ночные звонки Женю всегда пугали, в ее представлении они были предвестниками беды. Сергей же, к ее удивлению, выглядел не испуганным, а, скорее, раздосадованным.
– Что-то случилось, – она сама не знала, был ли это вопрос или утверждение.
Он не спешил снимать трубку. Телефон трезвонил назойливо и противно, разрывая ночную тишину мелодичным треньканьем.
– Ничего не случилось. Это моя бывшая взяла моду звонить по ночам и дышать в трубку. Все нервы вымотала…
Женька рассмеялась:
– Хочешь, я ее вмиг отучу от такого баловства?
Не дожидаясь ответа, сняла трубку и подчеркнуто вежливо произнесла:
– Алло?… Алло? Вас зовут Ирина и вы хотите поговорить с Сергеем?…
* * *
Прошло около двух месяцев, пока Черкасов не приступил к действиям. До сих пор их с Ириной диалоги происходили сугубо на уровне взглядов. Теперь же, когда весна вошла в свою завершающую стадию, все больше напоминая нравом изменчивое лето, Вадим решился, наконец, перейти в наступление. Когда уже все рабочие вопросы были решены, и он, по обыкновению, должен был развернуться и покинуть кабинет Русаковой, он вдруг заявил:
– Ирина Станиславовна, а может, хватит играться в нерешительных подростков? Как вы смотрите на то, чтобы отпраздновать окончание рабочей недели?
Ирина смутилась. Игра в кошки-мышки доставляла ей определенное удовольствие, хотя, откровенно говоря, уже порядком приелась. Хотелось хоть какого-то прогресса, а он все не наступал и не наступал, и она даже как будто разуверилась в том, что Черкасов когда-нибудь решится пойти дальше игры в гляделки. Взгляды взглядами, пофлиртовать с женщиной существенно старше себя – это одно, а вот более серьезные отношения не каждому, видимо, по зубам.
– Ммм, вы застали меня врасплох, Вадим Николаевич. Даже не знаю, что вам ответить. А вы что, каждую пятницу торжественно празднуете наступление уикенда?
– Не прячьтесь за словами, Ирина Станиславовна, оставьте это слабым женщинам. Так как вы смотрите на мое предложение?
Ирина колебалась.
– А что вы подразумеваете под таким празднованием?
– Ну, например, поход в небольшой уютный ресторанчик. Выпьем хорошего вина, послушаем музыку. Может быть, потанцуем…
– И это вся программа? – в ее глазах блеснули чертики.
– Это программа минимум, – немедленно откликнулся Черкасов.
– А что, существует еще и программа максимум? – она явно провоцировала собеседника.
– А как же, Ирина Станиславовна! Я же маркетолог, я же просчитываю каждый свой шаг, взвешиваю каждое слово, оцениваю с точки зрения будущего результата. Или вы считаете меня плохим маркетологом?
– О нет, Вадим Николаевич, в ваших профессиональных качествах я не сомневаюсь. Так вы не ответили: что там насчет программы максимум?
– Вам непременно хочется знать? Ну что ж, Ирина Станиславовна, извольте. Сегодня мы поужинаем в ресторане. Я отвезу вас домой на такси, доведу до квартиры – уж больно у вас парадное ненадежное. Вы откроете двери и будете стоять на пороге, не зная, пригласить ли меня или же я возьму инициативу в свои руки. Инициативу я возьму: я нежно поцелую вас в губы, пожелаю спокойной ночи и уйду, как ушел в первый раз. Тем самым заставлю вас волноваться, сомневаться: хочет ли он меня или нет? Если да, то почему он ушел? Если нет – ради чего он все это затевал? Этого достаточно?
Столь наглой откровенности Ирина не ожидала. Внутри закипело возмущение: да что он себе позволяет, этот мальчишка?!
– Ну, если это вся ваша программа-максимум, то, пожалуй, достаточно.
– Обижаете, Ирина Станиславовна! Я изложил только программу-минимум. Желаете ли услышать продолжение?
– А вы не боитесь, Вадим Николаевич, что, узнав ваши планы, я не позволю им осуществиться. Что я спутаю вам карты…
– Не боюсь, я парень настойчивый и привык добиваться поставленной цели любыми путями, любой ценой. Так вам интересно продолжение?
Ирина смотрела на дерзкого подчиненного снизу вверх, и не могла скрыть некоторой опаски в глазах. Как, ну как так получилось, что этот наглый мальчишка буквально парой-тройкой слов умеет заставить ее так волноваться. И почему он рассказывает ей, что собирается сделать? Какие цели преследует? Впрочем, какие могут быть цели, кроме одной-единственной, можно сказать, вечной. Но если это та самая извечная цель, то почему все так сложно. Зачем он строит такие лабиринты, такие запутанные ходы, ведь можно сделать все намного проще и быстрее. А еще в ее душе вдруг заворочался противный червячок не то страха, не то сомнения. Даже нет, не страха, не сомнения, это было словно бы откровение: а мальчик-то непрост, ох как непрост! Пожалуй, такой способен если не на все, то на очень-очень многое.
– Ну что ж, если вы настаиваете, – ответила она, пытаясь унять дрожь в голосе.
Черкасов улыбнулся мило, почти бесхитростно, да только его мнимая бесхитростность уже вряд ли могла вогнать собеседницу в заблуждение:
– Я не настаиваю, просто вы сами хотели знать. Так вот, продолжение такое: этим летом мы с вами поедем отдыхать куда-нибудь к морю, и именно там, перед самым отъездом, когда вы будете ожидать этого меньше всего, я сделаю вам предложение. Ммм… пожалуй, на пляже. Да. Не уверен, что согласие вы дадите сразу же. Но я ведь уже говорил: я чертовски настойчив. Потом мы заключим брачный контракт – это, как я уже говорил, обязательный пункт моей программы, на нем я буду настаивать, чтобы никто из окружающих не посмел упрекнуть меня в материальной заинтересованности брака с вами, для меня это принципиально. Потом – скромная свадьба и счастливая семейная жизнь. Как вам такая программа?
Ирина чуть прищурилась: да, она права, мальчик ох как непрост! Насмешливо усмехнулась:
– Все хорошо, все понятно. Но почему же свадьба скромная?
– То есть вас смутило только прилагательное? Против самого факта свадьбы вы, как я понимаю, не возражаете?
– Я давно знала, что вы наглец, юноша, – Ира не любила, когда над нею насмехались. Пусть даже беззлобно. – Теперь могу добавить: весьма самоуверенный наглец. Свадьбы не будет. Ни скромной, ни шумной. Как не будет и поездки к морю. Но объясните мне, почему вы планировали именно скромную свадьбу?
– Все просто. Во-первых, вы уже были замужем и вряд ли нуждаетесь в большом празднике, как если бы выходили замуж впервые. Во-вторых, вы определенно станете рефлексировать из-за разницы в возрасте, а потому не захотите иметь много зрителей, обсасывающих подробности. В-третьих, вряд ли вам будет приятно иметь в свекровях почти ровесницу, а потому я не уверен, что ваше настроение в этот день будет безоблачным. Поэтому сразу предлагаю организовать скромную свадьбу, на которой будут присутствовать только свидетели. Ну и мы с вами, разумеется. И никаких гостей. Мои родители не станут исключением. Конечно, я предварительно представлю вас им, но в свадебной церемонии они участвовать не будут.
Упоминание о разнице в возрасте, о которой она и сама не забывала на минуту, да еще и в связке с его родителями, окончательно вывело Ирину из равновесия. Слишком уж много вольностей позволяет себе этот юный негодяй. Однако стоит признать: прожекты он выстраивает весьма смело. Сукин сын, конечно. Но неординарный сукин сын.
Ирина начала терять контроль. Осознавала, что он играет с ней, как кошка с мышкой, но поддалась на провокацию, как школьница.
– Вы не просто наглец, – вспылила она. – Вы еще и хам! Указывать женщине на ее возраст может только крайне невоспитанный человек!
– Или крайне близкий. Каюсь, каюсь. Я бы никогда не позволил себе намеков на ваш возраст, если бы не имел решительных намерений в отношении вас. А потому воспринимаю это не как дерзость, а лишь как констатацию факта. Я ведь давно об этом думаю. Естественно, не однажды размышлял о разнице в возрасте. Правда, я не знаю точно, сколько вам лет, и, честно говоря, мне на это искренне наплевать. Меня бы даже обрадовал факт, если бы вам оказалось лет пятьдесят…
Ирина аж зашлась от гнева:
– Хам! Вон из кабинета!
Черкасов поспешил исправиться:
– Вы неправильно поняли, Ирина Станиславовна. Или, скорее, это я неправильно выразился. Я не имел ввиду, что вы выглядите на пятьдесят. Это же абсурд – посмотритесь в зеркало. Я лишь сожалею о том, что вы недостаточно… ммм, скажем так – старше меня. То есть я подчеркиваю: меня не пугает разница в возрасте, меня огорчает, что она недостаточно существенна.
Русакова посмотрела на него, как на умалишенного:
– Вы страдаете геронтофилией? Вас возбуждают бойкие старушки? Или лучше, чтобы они были уже не слишком бойкими, а прочно привязанными к к печальному одру?
Черкасов развеселился:
– Ну вы еще себя причислите к старушкам! Не передергивайте мои слова. Я радовался бы, если бы вы были старше, только из того соображения, что мог бы быть хоть чуточку спокоен в том плане, что не найдется более удачливый конкурент, претендующий на ваше внимание. Что опять же говорит лишь о том, что мои планы в отношении вас крайне серьезны и долговременны. Я не собираюсь жениться на вас на год или на два, чтобы потом поискать себе жертву помоложе.
– Или постарше, – вставила Ирина.
– Или постарше! – легко согласился визави и вновь мило улыбнулся. – Я настаиваю на том, что мне никогда не понадобится другая женщина, кроме вас. Независимо от вашего возраста в эту минуту или же через двадцать лет. Я однолюб, Ирина Станиславовна, и воспринимаю это, как данность. Так вот, в моей жизни существуют и будут существовать до моего последнего вздоха только две женщины: моя мама и вы! Я очень люблю свою мать и искренне надеюсь, что вы с нею поладите. Кстати, вы очень на нее похожи, только вы моложе. Хотя она тоже прекрасно выглядит, и ей тоже никто никогда не дает ее лет. И на сей ноте давайте закончим препирательства. Я изложил вам свою программу-максимум, которую вы желали услышать, и уж будьте уверены, приведу ее в действие, чего бы мне это ни стоило. Поймите, Ирина Станиславовна, я привык добиваться цели. Поймите и примите это, как факт, от которого вам никуда не деться. Просто я хочу, чтобы вы знали, что вас ожидает в будущем, и постепенно готовили себя морально к тому, что я стану вашим мужем. Так как, мы ужинаем сегодня?
Ирина была уже слишком зла на собеседника, чтобы сдерживать гнев глубоко внутри.
– Кто поужинает, а кто и посмотрит! – прошипела она. – Вам, юноша, не в ресторан надо, а к доктору. Засуньте ваши программы себе, знаете куда? Никуда я с вами не пойду!
И действительно, не пошла. Целый вечер просидела одна, сердито уставившись в экран телевизора и совершенно не понимая, что там происходит. Мальчишка, наглец! Он уже все расписал по полочкам. Без нее! Сам решил, сам женился. Никуда она с ним не пойдет!
Однако в следующую пятницу, бесконечно удивляясь самой себе, почему-то приняла приглашение. И был ресторан, и было хорошее вино, и была музыка, и было несколько весьма горячих и многообещающих танцев. Однако, как ей и было сказано заранее, Вадим проводил ее до самых дверей, потом, как и обещал, сладко и долго, так, что заныло где-то под ложечкой, поцеловал, пожелал спокойной ночи и ушел, даже не перешагнув ее порога.
А Ирина потом до утра вертелась с одного боку на другой, пытаясь понять, что же это с нею происходит. Почему приняла приглашение этого мальчишки, зная наверняка о его планах в ее отношении. Зачем, зачем, корила она себя. И вместо того, чтобы окончательно разозлиться на него, вычеркнуть его из своих мыслей, поставив жирный крест на его программе-максимум, вновь и вновь вспоминала его долгий страстный поцелуй. И не только выходные, но и вся следующая неделя вплоть до очередной пятницы была отравлена сладострастными воспоминаниями о непроизошедшем.
* * *
Дальнейшие недели и месяцы Ириной владело смятение. Программа-максимум, озвученная Черкасовым, ее пугала. Если первой ее реакцией на нее была злость, то теперь Ира ее боялась. Слишком уж к кардинальным переменам она вела. Хватит с нее перемен. Она еще от маминой смерти и от развода не отошла.
Стоит ли говорить, что сама она не предпринимала шагов навстречу Черкасову. Больше того, ей хотелось помешать ему внедрить его наполеоновские планы в реальную жизнь. Хотелось. Но… Вопреки желанию каждую маленькую битву за каждую маленькую безымянную высоту она безнадежно проигрывала. То ли желание помешать ему было не совсем искренним, то ли во всем виновато ее неумение сказать решительное «нет».
Пока что события разворачивались именно по этой программе, как по нотам. Уже несколько раз они ужинали вместе. Иногда в ресторане, иногда у Ирины дома. Но ни разу еще Вадим не переступил границы дозволенного, вел себя, как близкий друг, или, скорее, как преданный поклонник, но ни в коем случае не более того.
Их отношения все еще ограничивались лишь некоторыми безобидными ласками, но той, заветной грани, они все еще не переступили. Причем Ирина вовсе не была уверена в том, что это ее доблесть. Пожалуй, иногда она даже злилась на слишком щепетильного Вадима. Нет, не потому, что он так долго не переступал эту грань, не потому, что ей самой хотелось ее переступить, поставив тем самым их отношения на новую ступеньку развития. Она злилась на него, потому что не она, а именно Вадим стоял на страже этой заветной грани. Не она одергивала его, не позволяя заходить слишком далеко, а он в самый, казалось бы, ответственный момент, когда Ирина сама уже была готова возразить против его слишком настойчивых ласк, буквально на мгновение опережал ее, словно одергивая сам себя, и переходил к обсуждению погоды ли, мнимых ли преимуществ очередной голливудской экранизации бессмертной «Анны Карениной» перед отечественным фильмом столетней давности. А Ира оставалась сидеть со смущенным видом, вроде это не он ее, а она, распутница этакая, пыталась соблазнить скромного мальчика из хорошей семьи.
Иру пугало присутствие в ее жизни Черкасова. Ее чувства по отношению к нему можно было сформулировать словами «и хочется, и колется». С одной стороны, ей, несомненно, льстило его внимание, а его настойчивость и приверженность намеченному плану подчеркивали, что он воспринимает ее не как временную забаву для пополнения коллекции, что имеет он на нее более чем серьезные виды. С другой стороны, это же и пугало. Эти страшные, неотвратимые шестнадцать лет разницы не были для нее пустым звуком.
Вадим уже не казался ей выспренным, вылизанным, чересчур красивым юношей, производившим отталкивающее впечатление своим безоговорочным физическим совершенством. Да, Ирина отдавала должное его красоте, но неестественная чрезмерность его красоты уже перестала раздражать ее. Теперь Черкасов казался ей милым мальчиком, и все чаще ловила она себя на мысли, что ей хочется назвать его не Вадимом, а Вадиком. И с ужасом, с бесконечной паникой стареющей женщины понимала, чувствовала, что он для нее слишком молод, молод просто-таки до неприличия, и безмерно комплексовала по этому поводу, но в то же время это обстоятельство добавляло как будто бы шарма, этакой приторно-остренькой клубнично-перченой изюминки в их отношения. Он нравился ей, как представитель мужского племени, умел одними руками заставить волноваться и трепетать ее тело. И в то же время где-то глубоко внутри она чувствовала к нему еще и материнскую нежность.
Все это было очень сложно. И страшно. Было до безумия страшно брать на себя ответственность за эти отношения, за возможное совместное будущее. Но Черкасов вел себя именно так, как должен вести себя будущий супруг: корректно и уверенно, не позволяя хотя бы на миг усомниться в уже близком совместном будущем. И Ира чувствовала, что скоро ей предстоит принимать очень важное, ответственное решение, возможно, самое важное в ее жизни. И панически боялась момента, когда она вынуждена будет его принять.
Да, Вадим ей импонировал. Ей уже было приятно его общество. Но даже на минуту она не могла представить себе, что этот человек будет рядом с нею всю оставшуюся жизнь. Не коллегой, а мужем. Нет, не такого мужа ей хотелось. Не таким представлялся. Само слово «муж» в ее понимании упорно ассоциировалось с Сергеем и только с Сергеем. Ирина боялась признаться самой себе, что допускает в свою жизнь Черкасова только лишь для того, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний. О Маришке, о Сергее, о маме…
И, когда уже Черкасов озвучил приглашение провести отпуск вместе, прежде чем ответить ему «да» или «нет», вытащила из памяти мобильного номер, который прочно въелся в ее личную память:
– Сережа, давай встретимся сегодня. Мне очень нужно тебя увидеть…
Они встретились впервые после развода. Тогда была лютая зима, теперь лето играло буйством красок, нещадно палило жаркими солнечными лучами.
Они сидели под тентом за выносным столиком у небольшого придорожного кафе. Сергей пил пиво, Ира крутила в руках бокал вина. Разговор не клеился – Сергей был явно настроен враждебно. Ира предполагала, что он не бросится с разбегу в ее объятия, но такого отчуждения все-таки не ожидала. Хотела попытаться объяснить то, что не удалось объяснить под горячую руку. Думала, что теперь, поостыв, Сергей будет более благосклонен услышать оправдания из ее уст. И просчиталась, вместо понимания или хотя бы внимания к ее словам наткнувшись на холодную, почти высокомерную стену.
– Сережа, я очень сожалею о том, что произошло. Но никак не могу объяснить тебе, что, собственно, ничего ведь и не произошло. Ничего не было, понимаешь, ничего. Лариска все подстроила, и вышло так, как будто…
– Ага, – перебил Сергей ее оправдания. – Лариска виновата. Она же и выстроила вас для высокохудожественного снимка. Еще скажи, вы именно так и задумывали, чтобы фото вышло поэротичнее, пошутить, мол, хотели. Да ты же давным-давно перестала быть верной, ты ведь даже под нож хирурга легла сугубо ради острых ощущений! И там, на этом балконе, была только прелюдия. Возможно не первая, даже скорее всего не первая, и вы явно собирались потом продолжить свои изыскания в физиологической области…
– Нет, Сереж, не так. Не перебивай меня, пожалуйста, я и сама собьюсь. Просто я выпила слишком много шампанского, а ты же знаешь, когда я выпью, меня в жар бросает. Вот я и вышла на балкон…
– А он уже стоял там, заранее подготовив пиджак, дабы добрая начальница не заболела! Да ты же практически отдавалась ему на той фотографии! Пусть не физически, но фигурально. Ты этого хотела, ты готова была к этому! Это был лишь вопрос времени: в прошлом, настоящем или в будущем, но ты отдавалась ему глазами!
Ирина поморщилась. Не брезгливо, а словно ей больно было слышать его слова:
– Перестань, пожалуйста. Не надо так, это неправда…
Сергей разошелся не на шутку:
– Неправда? А что тогда правда? Надеюсь, ты не будешь отрицать, что и после развода не прекратила с ним отношений? Да и зачем, ведь как раз после развода ты стала свободной женщиной, и тебя уже никто не смог бы упрекнуть в распутстве. В растлении малолетних – да, но не в распутстве! А потом вдруг ты вспомнила о семье. О бывшей семье. Что так, мальчик наигрался в любовь и бросил тетеньку? Надеюсь, не у самого алтаря? Я вроде слышал, что ты за него замуж собиралась. Или уже нет? Конечно нет, коль уж сосунок себе другую нашел, постарше – ты для него слишком молоденькая, зеленая совсем, ему ведь надо, чтобы непременно одной ногой в могиле. И вот тогда начались звонки по ночам, эротическое сопение в трубку. А теперь, услышав посторонний женский голос, испугалась, что можешь потерять нас насовсем. Да только ты нас уже потеряла! Прекрати звонить! Ты для нас умерла! Тебя больше нет!
От его тирады Ира дернулась, как от пощечины. Ложь, это же все ложь! Да и какие звонки? А голос? Неужели?… Нет, нельзя сейчас задавать ему этот вопрос, она не имеет права, она ведь бывшая жена. Господи, какое же это страшное слово: «бывшая»! Миленький, родненький, как же ты не понимаешь, что этого не может быть, не должно быть!
– Звонки? О каких звонках ты говоришь? Я позвонила лишь однажды – поздравить Маришку с днем рождения…
– Ага, конечно. Я и не сомневался. Зато с остальным ты согласна безоговорочно.
– Нет, Сережа, не согласна. Это все ложь. Я до сих пор тебе верна.
Про себя добавила: почти. Но ведь черта еще не преодолена, она еще по ту сторону, где находится порядочность и непорочность. Почти, опять же почти!
– Прекрати, – злобно зашептал Сергей. Пожалуй, таким разъяренным Ира его никогда раньше не видела. – Не смей фиглярствовать! Если для тебя верность – пустой звук, не оскорбляй чувства людей, которые верили тебе, которые любили. Не заставляй меня ненавидеть тебя. Хотя ты этого уже почти добилась. Прощай.
Резко встал из-за столика и пошел прочь. На круглой пластиковой столешнице плескалось недопитое пиво в высоком прозрачном стакане. А Ира аккуратненько, чтобы окружающие не заметили, длинным ноготком убирала готовые скользнуть по щекам соленые капельки горя…
Сергей был взбешен. Где были его глаза? Как же он раньше не замечал ее насквозь лживой натуры? Дрянь, притворщица! Наглая, бессовестная дрянь…
Именно в этот вечер он принял то нелегкое решение, от которого отказывался до сих пор в призрачной надежде возврата к прошлому. Маришка уехала к подружке на дачу до самого папиного отпуска, когда они по давно заведенной традиции должны были отправиться в Ялту. Но Сергей не остался в гордом одиночестве – рядом с ним теперь была Женька.
* * *
– Понимаете, я даже тогда не смогла объяснить ему, почему все три года ходила на новогодние вечеринки без него. Я всегда считала это такой ерундой, такой откровенной мелочью, не стоившей выеденного яйца, что никогда не задумывалась о реакции Сергея, если бы ему вдруг стало известно о моей маленькой неправде. Да собственно, я это и ложью не считала. Так, просто не сказанная правда. Я не хотела, чтобы между нами легла принадлежность к разным социальным категориям: я – ярко выраженный белый воротничок, он – традиционный представитель рабочего класса. Я любила его таким, каким знала. Не любила, люблю, – поправилась Ирина. – Вот такая дурочка – любила, но стеснялась. Господи, если бы я только могла знать, к чему, к каким жутким последствиям это может привести!
Ирина в очередной раз замолчала. Однако пауза долго не продолжилась. Ей словно пришла в голову какая-то мысль. Она схватила книгу, до сих пор сиротливо лежащую у нее на коленях, настойчиво продемонстрировала ее собеседнице:
– Читали? «Спроси у зеркала», – ухмыльнулась сама себе. – Хорошее название, как про меня. Спроси у зеркала – что ты есть на самом деле. Нет, я не про название. Вы вообще читали этого автора, Тамару Никольскую? Вот бы мне ее встретить! Ей бы эту историю рассказать. Пускай напишет, пускай все знают, какая я дура! Нет, не так. Пускай знают, что нельзя быть дурами, пусть знают, к чему могут привести такие, казалось бы, мелочи! И операция эта дурацкая, и стыдливость за профессию мужа. А доктор-то как оказался прав! Ведь предупреждал, предупреждал меня, дурочку: будь осторожна, есть у искусственного омолаживания побочный эффект! Нет же, приняла его слова за попытку выпотрошить из меня побольше денежных знаков. И ведь все правильно сказал: женщина чувствует себя моложе, и не знает, что с этим делать. Она ведь уже разучилась быть молодой, она уже мыслит по-другому. Возникает диссонанс между внешним видом, самоощущением и поведением. Вот он, побочный эффект! Пропади она пропадом, та операция…
* * *
В правильности выбора Ира уверена не была, но на приглашение Черкасова о совместном отпуске все-таки ответила согласием. Вадим звал в Ялту, чем-то она ему была памятна. Но и для Иры Ялта не пустой звук, ведь много лет вторую половину июля чета Русаковых неизменно проводила именно там. Ялта – это семья, это Сергей и Маришка, это традиция. В конце концов, это счастье. Нельзя путать счастье и его суррогат. А поэтому вместо Ялты они с Черкасовым отправились в Испанию.
И был отпуск, и была Таррагона, и было море. Было предложение руки и сердца в самый последний день отпуска, на пляже, у самых-самых волн, лижущих их голые ступни. Но, вопреки ожиданиям Черкасова, не смогла Ирина принять предложение, не смогла надеть колечко с маленьким бриллиантиком. Не смогла…
В первый же день после отпуска в Ирин кабинет ворвалась Лариска. Подбежала к столу и давай теребить лежащие на нем бумажки, изображая раскаяние:
– Ирочка, миленькая, прости меня! Сама не знаю, как это получилось. Черт попутал, не иначе. Ты же моя единственная подруга, я же тебя люблю. Это он, он виноват! Он столько лет приставал ко мне со своими грязными предложениями…
Ира хотела было выставить посетительницу вон, ведь прекрасно знала цену всем ее штучкам. Но любопытство в очередной раз взяло верх: о ком это она? Кто это к ней грязно приставал? И она позволила предательнице продолжить.
– Я сначала стеснялась тебе сказать, не хотела, чтобы вы из-за меня поссорились. А потом… не устояла. Ну что мне было делать, Ир? Я же живая, мне же тоже счастья хочется! А на меня никто и не смотрит. Да даже если бы и глянул кто, куда мне его привести? В крошечную квартирку, провонявшуюся больной мамашкой? Трахаться практически на ее глазах? А Серега был так настойчив… Я однажды в субботу пришла, как раз незадолго до Нового года, а ты еще с базара не вернулась. Маришка, как всегда, у бабушки по субботам… В общем, я сначала сопротивлялась, а потом… Ну кричи на меня, ругайся! Да, знаю, виновата! Ну не смогла я ему сопротивляться, я же живая!
Ира сжалась, как от удара:
– Врешь, гадина, опять врешь! Он тебя всю жизнь терпеть не мог!
Ларочка улыбнулась снисходительно:
– Ириша, ты так ничего и не поняла? Господи, ну это же так просто! Все мужики ведь одинаковые! И твой такой же, не хуже и не лучше других. Ведь им всем нужно разнообразие, не могут они одним борщом питаться. И икрой одной не могут. Помнишь, как в «Белом солнце пустыни» Верещагин морщился: «… опять икра!» И не в том дело, борщ ты или икра, а в том, что ему нужно разнообразное меню! Тебе-то хоть не так обидно – тобою он «питался» двадцать лет, а мною – четыре месяца. Понимаешь, всего четыре месяца! Использовал меня в качестве бесплатной уборщицы, кухарки, наложницы, вытрахал меня, что называется, вдоль и поперек, куда только можно было, и ровным счетом через четыре месяца вышвырнул на помойку! Гад, гад какой!
Слезы брызнули из Ларочкиных глаз, и она, казалось, упивалась ими, словно получая физическое удовлетворение от этого процесса. Ире ни капельки не было жаль эту дрянь, но сердце все-таки предательски защемило. Однако успокаивать мерзавку она не стала. Впрочем, выставлять из кабинета она не спешила.
Лариса выплакалась, и продолжила исповедь:
– Ты прости меня за ту фотографию, я ведь и не думала ее так подло использовать. Хотела ее тебе отдать, потому она в сумочке и оказалась. А потом увидела вас такими счастливыми. И этот гад ведь даже глазом не моргнул в мою стороны, не кивнул, не чмокнул в щечку хотя бы дежурно, формально. И это после того, что было буквально пять дней назад! После того, как он завернул меня в такую позу, о которой я даже не догадывалась! Гад какой! Зато могу тебя успокоить: супружеское ложе он не осквернил. По крайней мере, тогда, в тот раз. Нет, этот мерзавец меня… прямо на Маришкиной кровати!!! Ты представляешь, гад какой!
Нда… Видать, предела человеческой подлости и впрямь не существует. Ирина открыла было рот, чтобы выставить нахалку за дверь, да та, испугавшись, что ее не выслушают до конца, затараторила скороговоркой:
– А потом, когда часы начали отбивать двенадцать, у меня как будто задвиг какой-то произошел. Мне казалось, что мы на свадебной церемонии, как в американских фильмах показывают. Ну, помнишь, там священник обычно произносит такую фразу: «Если кто-то знает что-то, что мешает этим людям вступить в брак, пусть скажет сейчас или молчит во веки веков». Не уверена в точности, но что-то в этом роде. Ну, тут меня и поперло, понесло, как Остапа Бендера. Словно пелена какая-то на глаза упала: не вижу ничего, только цель – Сергей. Твоим он побыл двадцать лет, надо же по-честному, теперь ведь, думаю, моя очередь пришла. Ведь Ленин говорил делиться… В общем, остальное ты знаешь. Да, да, я подло поступила, знаю, да только ты при всем желании не сможешь наказать меня больше, чем Серега. Как бы ни хотела, а большей боли не доставишь. Он ведь жениться обещал – Маришка не даст соврать, ведь на ее дне рождения и сказал, прямо при родителях, представил меня будущей женой. А потом, потом…
Она опять зашлась слезами, и сквозь всхлипывания Ирина услышала:
– Он в дом привел другую бабу! При мне, при ребенке! Привел какую-то гаражную шалаву, такую же чумазую, как и он сам. Керосином провонялась насквозь! И заявляет мне: все, мол, Ларочка, надоела ты мне, я от тебя и так поимел все, что хотел. Спасибо, говорит, тебе за доброту твою сердечную, за то, что помогла от супруги постылой избавиться, а теперь проваливай-ка ты по добру, по здорову…
Ирина словно очнулась от гипноза: Господи, кого она слушает? Ей что, мало лжи?
– Знаете, Лариса Моисеевна, шли бы вы работать. Хватит меня сказками от дел отрывать. Такую ахинею несете, слушать гадостно. Да и не собираюсь я с вами личную жизнь обсуждать. Ни свою, ни вашу. Идите, работайте.
– Ахинею?! – подскочила на стуле Лариса. – Ахинею, говоришь? Ее Женя зовут, то есть Евгения. Это он ее Женей зовет. Она у них в гараже слесарем работает. Не веришь? А ты у Маришки спроси. Или у свекровки бывшей. Она тебе всю правду расскажет. И про меня, и про Женю-Евгению. Они, насколько мне известно, уж заявление в загс подали, так что у Маришки твоей скоро официальная мачеха появится. Пожалуйста, можешь мне не верить. Просто позвони в гараж, и попроси к телефону Евгению. Она наверняка с диким удовольствием сама подтвердит эту информацию.
И, довольная произведенным эффектом, Лариса с гордо поднятой головой покинула кабинет.
После новогоднего Ларискиного «выступления» Ирина не склонна была верить ни единому ее слову, и сначала действительно не поверила. Однако чуть позже, в тишине кабинета, стала прокручивать некоторые слова предательницы. И вот теперь пазл сложился в ясную, четкую картинку. Нашли в ней логичное место и звонки, и посторонний женский голос, о котором говорил Сергей. Значит, Лариска не врет. Вернее, не все ее слова являются ложью. То, что Сергей первым изменил ей с Лариской – чушь несусветная, в это Ира никогда не сможет поверить. А после развода? Вот тут ее уверенность растворялась в сомнениях. Кто его знает. Вообще-то, он Лариску всегда терпеть не мог, с трудом переваривал ее присутствие в их доме. Однако после развода расстановка сил существенно изменилась. Конечно, о его сердечной привязанности к Лариске и речи быть не могло, но почему бы не допустить, что физические отношения между ними, как говорится, имели место быть. В конце концов, он же здоровый мужчина. И, если уж тебе предлагают тело на тарелочке с голубой каемочкой, по закону жанра отказываться не должно.
Итак, допустим, в этой части рассказа Лариска говорит правду. Что это дает Ирине? Боль, одну сплошную боль. И все-таки на этом этапе Сергея еще можно было оправдать. Что ни говори, а к тому времени они уже числились в разводе, и разрыв между ними произошел именно по ее вине. То есть, это Сергей был абсолютно уверен, что виновница развода – Ирина. А потому с чистой совестью принял «подношение» от Лариски.
И то, что послал ее подальше через четыре месяца – тоже очень даже похоже на реальность. Тут можно лишь удивляться, что он выдержал Ларискино присутствие так долго, а вот разрыв между ними вполне закономерен. Но то, что он привел в дом постороннюю женщину… Женя, Евгения… Уж не та ли Женька, с его работы, о которой он что-то рассказывал? Наверняка она. Ведь Лариска так и сказала: слесарь, провонялась керосином. И сам Сергей, когда говорил о каких-то звонках, упомянул чужой женский голос. Да, точно, так и есть. Вот почему бесится Лариска. Ее планы полетели коту под хвост. Она все это давно задумала: развести Ирину с Сергеем и женить его на себе. Но так тщательно просчитанный план не сработал. Она разыграла, как по нотам, его первую часть, но дальше все ее надежды оказались разбитыми вдребезги: не выдержал Сергей ее натиска. И, пытаясь добиться своего, Лариска начала обрывать ему телефон своими дурацкими звонками. Как выразился Сергей: «эротично дышать» в трубку. Забавно выразился… Только как же он не догадался, что дышать в трубку и молчать – не в Ирином характере? Как же не понял, что звонила ему Лариска? А однажды, видимо, она нарвалась на эту Евгению…
Да, наверняка именно так все и было. И Ирина уж, было, вздохнула облегченно: ну слава Богу, все разъяснилось. Надо только сказать об этом Сергею. Он обязательно должен знать, что это звонила Лариска, ведь именно из-за звонков он на нее и злится. Или не только из-за звонков? Но ведь он и сам не без греха: и Лариска у него была четыре месяца, и Евгения эта. Так что очень спорный вопрос, кто из них больше виноват. Рассорились с подачи подлой подруги семьи, а потом, как по взмаху ее дирижерской палочки, синхронно друг дружке изменили. Но хватит, пора уже поставить все на свои места. Раз Ира разобралась в ситуации, Сергей тоже все должен понять, ведь не дурак же!
Не дурак… И действительно, пазл сложился. Да только поздно. Уже слишком поздно: Сергей с этой Женей уже подали заявление в загс, значит, у них все очень серьезно… Имеет ли Ирина право вмешиваться в чужие дела. Не сделает ли только хуже, позволив себе вмешаться. А может, подлая Ларочка опять все врет? Ну подумаешь, была Женя-Евгения, ну мало ли, развлекся мужик несколько раз – что ж, сразу жениться?
Только, было, воспрянула Ира духом, как червячок сомнения заворочался с новыми силами. О каком минутном развлечении может идти речь, если Сергей сам, сам упомянул, что посторонний голос отвечал по его телефону. То есть по их с Маришкой общему, по домашнему! Стало быть, он привел ее в дом, к Маришке! Разовых барышень в дом не водят. Неужели Ларочка сказала правду?!
Вот что, решила Ирина. Голову можно ломать и до вечера, и до конца жизни. Не лучше ли сразу все выяснить и поставить точку? Только наводить справки у самого Сергея она не будет, к чему ей лишние унижения. Она и так уже достаточно унизилась, попросив его о той встрече и оставшись за столиком в гордом одиночестве под насмешливыми взглядами официанток. Нет уж. Как, бывало, говаривал Володя Ульянов: «Мы пойдем другим путем».
Вечером того же дня Ирина заняла исходную позицию неподалеку от входа на станцию техобслуживания. Место она выбрала очень удачное: сама не бросалась в глаза, изображая покупательницу у киоска «Союзпечати», зато перед нею, как на ладони, открывалась площадка перед мастерскими. Машин там было немало, однако Ира без труда отыскала искомую «Вольво» вишневого цвета, нынче безраздельно принадлежащую Сергею.
Ждать пришлось довольно долго. Давно истекли положенные восемнадцать ноль ноль, когда рабочий день считался официально завершенным. У Ирины от напряжения даже стали слезиться глаза, от непривычки долго стоять на одном месте, да еще и на высоких каблуках, нестерпимо горели пятки. Но ее долготерпение было вознаграждено сторицей. Только вряд ли подтверждение опасений можно считать наградой.
Сначала к машине подошла девица лет двадцати восьми. Издалека Ирина не могла хорошо разглядеть ее, так, только общий вид: светлые легкие брючки, белая майка-топ, длинные светло-русые волосы забраны в простенький хвостик. Подошла к машине и стоит, оглядывается на мастерские. Буквально через минуту оттуда появился Сергей, еще издали щелкнул кнопкой блокировки на брелоке. «Вольвочка» радостно пискнула, признав хозяина, и Женя, не дожидаясь, пока Сергей, как истинный джентльмен, откроет ей дверцу, обслужила себя сама и юркнула на переднее сиденье.
Вроде уже можно было бы Ирине уходить – увидела все, что хотела. Но она продолжала стоять. Вот уже «Вольвочка» выехала с территории станции, плавно развернулась, влившись в поток автомашин на главной трассе, и проехала мимо Ирины, обдав веселым ритмом незатейливой модной песенки из радиоприемника. В открытом окне отсвечивала неподдельным счастьем мордашка соперницы.
«Симпатичная», – отметила про себя Ирина и, вдребезги разбитая горькой правдой, покинула свое убежище.
* * *
– В ту минуту, когда они проехали мимо, я и приняла решение. Не потому, что хотела замуж за Вадима. Потому, что потеряла надежду вернуться к Сергею. Понимаете, эта Женя так буднично, так привычно села в машину, я бы сказала, по-хозяйски. Не захлопнув еще дверцу, принялась снимать защитные шторки от солнца, серебристые такие. Пока Сергей шел к машине, пока садился, она их уже сложила и положила под свое сиденье, поглубже, так, чтобы не мешали ногам. Она уже прекрасно знала, где они должны лежать. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Собеседница кивнула:
– Понимаю. Я вообще человек достаточно понятливый.
Ирина горько улыбнулась:
– Вот и я понятливая. И сразу поняла, что у них это не на один день. Они уже давно вместе и явно не намерены прекращать отношения. И мне не нужно было их преследовать, чтобы убедиться – они едут к нам. То есть, к Сергею. К Маришке…
* * *
Черкасов до сих пор был приходящим любовником. Иногда оставался до утра, но жил по-прежнему с родителями. Он кое-что рассказывал Ирине о своей семье, например, она уже знала, что в Москве они живут только последние восемь лет, с тех пор, как Черкасов-старший получил звание генерал-майора и был переведен в столицу после многих лет служения отчизне в самых отдаленных уголках страны. Что родина оценила его добросовестную службу трехкомнатной квартирой в доме-новостройке в Новогиреево. Что нет у него братьев-сестер, зато есть замечательная мама, которую он любит горячо и беззаветно. Об отце Вадим говорил крайне мало. Ира же и не расспрашивала – догадалась, что отца он, как минимум, любит не столь пламенно, как мать. Этого ей было достаточно. Скорее, даже много. Ее не слишком-то волновала его семья. До поры до времени она надеялась, что ей никогда не придется считать его родственников своими.
Через неделю после возвращения из Испании Вадим, не особенно рассчитывая на скорую победу, сделал Ирине повторное предложение. Не потому, что слишком спешил, не потому, что не умел или не любил ждать. Сугубо из тех соображений, что капля камень точит. И был весьма удивлен, когда Ирина так, на его взгляд, неоправданно быстро ответила согласием. Впрочем, его удивление было приятным. Теперь, получив согласие невесты, следовало представить ее родителям.
Ирина сильно нервничала. Шестнадцатилетняя разница в возрасте доводила ее едва ли не до помешательства. А теперь, собираясь знакомиться с родителями Вадима, она готова была в любую минуту рухнуть в обморок. Хорошо Вадиму – женится на сироте, ни под кого не надо подстраиваться, никому, кроме будущей жены, не нужно нравиться. Ирина же мало того, что была невестой на смотринах, так еще проклятущая разница в возрасте, делавшая ее практически сверстницей будущих свекра и свекрови, чувствовала себя заранее неполноценной, словно ущербной. Она была уверена, что родители Вадима не одобрят его выбор. Разве хоть одна мать в здравом уме одобрит решение сына жениться на тетке почти в два раза старше себя?
Ее опасения сбылись ровно наполовину. Николай Вадимович, отец жениха, увидев будущую невестку, крякнул и вышел в кухню, не особенно заботясь о чувствах будущей невестки. Вадим побледнел от гнева, но ничего не сказал, улыбнулся натужно:
– А это моя мама, Паулина Семеновна.
При этом глаза его горели неподдельным счастьем.
Паулина Семеновна вряд ли была в восторге от выбора сына, однако однозначно оказалась воспитаннее супруга. С ее лица не сходила вежливая, максимально приближенная к искренней, улыбка. Ирина удивилась: надо же, как будущая свекровь похожа на нее саму. Вадим что-то упоминал об их схожести, но Ира и представить себе не могла, что такое возможно между абсолютно чужими людьми. И тогда ей стало понятно, почему с первых минут в тресте Вадим уделял ей столь пристальное внимание. Правда, Паулина Семеновна не была такой смуглой, как Ирина, но и белокожей ее назвать было нельзя. Возможно, когда-то она и была ею, но с возрастом кожа потеряла молочную белизну, слегка потемнев. Впрочем, это было единственным ее недостатком: перед Ириной стояла очаровательная женщина, на вид едва ли старшее ее самой. Стройная, моложавая, крайне ухоженная, даже где-то лощеная, холеная, как и ее драгоценный сынок. Очаровательную ее головку венчала короткая стильная стрижка, открывающая безукоризненный овал лица. Стрижка была не настолько короткая, как Ирин «ежик», и волосы были не такими темными, как у нее – Паулина была скорее темно-рыжей, даже не каштановой. Но за счет Ириных осветленных прядей цвет волос обеих отдаленно можно было назвать близким, что еще более увеличивало их сходство.
Так вот по какому признаку Вадим выбирал себе будущую жену! Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить его неоднократные теплые высказывания в адрес матери. Вот почему он так серьезно и основательно ухаживал за Ириной, вот откуда произрастает его долготерпение и настойчивость. Значит, ей давным-давно была уготована роль жены-мамочки. На что еще она могла надеяться, выходя замуж за мальчишку почти вдвое моложе себя. А Сергей ей был, скорее, мужем-отцом. И такая ипостась мужа была, на ее взгляд, куда правильнее.
Едва ли она имела моральное право упрекать Вадима в своем сходстве с его матерью. Что ж, может, это не так уж и страшно, иметь мужа-сына. В конце концов, Ирина давно потеряла контакт с собственной дочерью, а ведь материнский инстинкт требовал выхода. Вот и вышел…
Как и планировал Вадим, свадьбу отыграли более чем скромную. И опять подивилась Ирина его прозорливости: как верно он все рассчитал! Ведь и правда, ей совсем не хотелось публичной свадьбы. Хотелось, напротив, спрятаться от всех, чтобы никто не видел, не знал, не осуждал: сорокалетняя тетка отхватила себе мальчишку, желторотого птенца, и радуется. А потому отпраздновали свадьбу вчетвером: Ирина, Вадим, и свидетели. Ах, как больно было признать Ирине, что некого даже позвать в свидетели! Как же так случилось, что кроме Лариски-предательницы не оказалось у нее ни одной подруги. Как же она допустила, чтобы эта негодяйка полностью стала контролировать ее жизнь, разогнав потенциальных подруг и женихов, рассорив с любимым мужем, с единственной дочерью, фактически убив ее мать…
В свидетели пришлось брать влюбленную парочку приятелей Вадима. Даже перед этими, бесконечно чужими Ире людьми, она чувствовала себя неуютно, словно бы нарушила уголовный кодекс, похитив у общества достояние, не положенное ей по статусу. Даже свидетели смотрели на нее осуждающе. Они, конечно, всячески пытались его скрыть, улыбаясь Ирине и добросовестно выискивая общие темы для разговора. Но непременно оказывалось, что говорить им, в сущности, не о чем – не привыкла молодежь откровенничать с посторонними взрослыми, они со своими-то родителями не слишком часто общались, а тут какая-то выскочка влезла в их круг и пытается стать своею среди чужих…
Посидели часок в ресторане, без конца предпринимая с обеих сторон бесплодные попытки сломать эту чертову стену отчуждения. «Горько» не кричали – Ирина заранее попросила не делать этого, дабы не усугублять обстановку еще более. Не хватало, чтобы все посетители ресторана смотрели на нее с сожалением и некоторой долей брезгливости. Хотя, судя по всему, Ирине нужно привыкать к таким взглядам.
Вадим перебрался в квартиру новоявленной супруги. Впрочем, прописан был по-прежнему у родителей, категорически не желая давать Ирине повод думать о себе, как об альфонсе. Зарабатывал он, конечно, меньше жены, но вполне достаточно для того, чтобы прокормить небольшую их семью и при этом не ощущать себя ничтожеством. В этом плане Вадим оказался крайне щепетильным человеком: накануне свадьбы по его настоянию действительно был составлен брачный контракт, по которому в случае развода каждый из супругов оставался при том интересе, с которым вступил в этот брак. Совместно же нажитое имущество Вадим благородно отписал Ирине. Хотел было отдельным пунктом вписать, что в случае непредвиденной смерти Ирины все ее имущество отходит в пользу ее дочери, а вот его, Вадимово, имущество целиком и полностью должно бы достаться любимой жене. Однако, по словам нотариуса, вопросы наследования могут оговариваться только в специальном документе, то есть в завещании, а уж никак не в брачном контракте. Повозмущался немножко, но вынужден был смириться, пообещав, что этот вопрос они решат в ближайшее время.
Начались семейные будни. Ира была уверена, что после свадьбы его к ней отношение если не поостынет, то по крайней мере утратит прежний пыл. Вадим сумел удивить ее: мало того, что его внимания к ее персоне не стало меньше, но теперь ей открылись некоторые его черты, тщательно скрываемые до сих пор. Если раньше, чтобы привести руки в порядок, Ира отправлялась в парикмахерскую, то нынче Вадим сам исполнял роль маникюрши, причем по собственному почину. Педикюр, который раньше Ира делала самостоятельно и кое-как, тоже взял на себя новоиспеченный супруг, предварительно немало повеселившись над ее неловкими потугами в этой области. Нежась в ванне, полной розовых лепестков, тихо постанывая от ласкового колдовства юного Нарцисса над ее ступнями, Ира диву давалась, наблюдая за откровенным удовольствием Вадима, получаемым от этого процесса. Не меньшее удивление в ней вызвало то, что, оказывается, он заботится не только о ее прекрасных ножках, но и о своих собственных. Разница была лишь в том, что сам он обходился без лака, все остальное в процедуре педикюра соблюдалось «от» и «до». У него даже был набор специальных инструментов в солидном несессере, как подозревала Ира, довольно дорогой.
Эта его любовь к косметическим процедурам не имела для нее определенной окраски. Она не могла сказать, хорошо это или плохо. Удивительно – да, определенно, но не хорошо, и не плохо. Никак. А точнее, двояко. С одной стороны, приятно, что у него такие ухоженные ноги (о руках и говорить нечего – этот факт Ирина отметила давным-давно). Однако наблюдать за тем, как мужчина столько времени отводит уходу за ногами, было несколько странно. Невольно всплывало сравнение с Сергеем: тот, выйдя из ванны, аккуратно подстригал ногти на руках и ногах, и на этом весь уход был закончен. Однако от этого Сергей не выглядел менее ухоженным или аккуратным. Зато в чем его, несомненно, нельзя было упрекнуть, так это в женских наклонностях. С Вадимом же все было не так однозначно.
Раздражало Иру и то, как, придя домой, Вадим тщательно очищал кожу лица специальным тоником, после чего наносил на кожу крем, одновременно массируя ее. По субботам он непременно накладывал маски, причем, не только на кожу лица, но и на грудь. Больше того, стремился вовлечь в такой вот «глубокий уход» и Ирину, причем, каким-то, на ее взгляд, извращенным способом: обмазывался взбитой сметаной до пояса, а потом начинал мазать ее своим телом. Такие косметические процедуры Ира отвергла категорически, предоставив Вадиму заниматься ими в гордом одиночестве. Мало того, что ей претило показываться молодому супругу в таком неприглядном виде, с маской на лице. Не менее неприятно ей было взирать на мужика, ведущего себя, как баба. И Ира ввела себе в привычку ежесубботнее посещение женского салона: уж лучше она будет делать маски под присмотром профессионального косметолога, а заодно избавится от печального зрелища: субботнего блюда под названием «молодой муж в сметанном соусе».
Все было не так, все было не то… Даже поесть нормально теперь не удавалось: Вадим категорически отказывался принимать пищу из обыкновенных тарелок. Ему непременно нужно было каждое утро и каждый вечер, а в выходные – еще и в обед, накрывать стол по всем правилам сервировки, вместе с непременной накрахмаленной скатертью и сервизной супницей, которую так тяжело было мыть. Не столько даже тяжело, сколько страшно: это был мамин сервиз, а Ира теперь, после ее смерти, относилась к маминым вещам так трепетно, так осторожно. Ну зачем, зачем ему понадобилась эта супница? Не проще ли из кастрюльки налить суп в тарелку и разогреть в микроволновке? Зачем эти лишние телодвижения. Супница по размерам никак не вписывалась в микроволновую печь, и потому приходилось всю кастрюлю разогревать на плите, после этого переливать из кастрюли в супницу, где суп или борщ довольно быстро остывал. А после обеда приходилось мыть и кастрюлю, и супницу, не говоря уже о полном наборе тарелок и столовых приборов. Ну ведь не в девятнадцатом же веке они живут, и не при дворе Екатерины второй! Не обихаживают их толпы слуг и дворецких – чего уж корчить из себя аристократов. И пусть для мытья посуды есть посудомойка, но от остальных-то телодвижений она не освобождает. Ира готова делать все необходимое, но лишнее, по ее разумению, ее времени и усилий не стоило.
Вечерами тоже не все было гладко. Вернее, поначалу Ирине это даже нравилось. Вадим никогда не ложился в постель, не побрившись и не освежившись туалетной водой. Никогда – голым или в трусах. Только в шелковой пижаме темно-синего цвета, подаренной на свадьбу любящей мамочкой. После этого начиналась любовная игра.
Впрочем, с его любовными игрищами Ирина познакомилась до свадьбы, еще в Таррагоне. О, тогда ее весьма впечатлило то, как нежен с нею был Вадим, как долго ласкал ее тело, готовя непосредственно к таинству единения. Как непохоже это было на их с Сергеем привычный секс! Как долго любил ее Вадим, ласково терзая, десятки раз доводя до исступления…
И после свадьбы праздник тела не закончился. Вадим по-прежнему занимался этим часами. Но почему-то после свадьбы Ире уже не так нравились его затянувшиеся ласки. То, что изначально она приняла за заботу о том, чтобы ей было хорошо, теперь не выглядело столь убедительно, и порою ей казалось, что вся эта, такая долгая прелюдия – лишь игра на публику: посмотри, какой я заботливый любовник! А на деле, кажется, заботился он не столько о любимой, сколько о себе самом: Ире начинало казаться, что так много времени ему необходимо не для того, чтобы довести ее до точки кипения, а чтобы элементарно завестись самому. Ведь во время бесконечной прелюдии она успевала несколько раз вскипеть и остыть, и, когда наконец, Вадим приступал к непосредственному слиянию, Ирина успевала так устать, что больше уже ничего не хотелось, и любвеобильность новоявленного супруга начинала только раздражать. С Сергеем было намного проще. Пусть не столь затейливо, зато гораздо результативнее.
И уже очень скоро запах туалетной воды приелся и стал раздражать. Это днем Ира любила этот запах. Вечером же, в постели, предпочитала запах свежевымытого тела, смешанный с ароматом пенки для бритья – такой мужской и возбуждающий. И чтобы непременно едва уловимо пахло машинным маслом… Именно так пахло от Сергея по вечерам. А еще ей никогда не приходилось стаскивать с него противную скользкую пижаму…
* * *
Уже почти четырнадцать лет они вместе, бесконечно долгие четырнадцать лет. И вроде привыкла Паулина к этому мужлану, а полюбить так и не смогла. Грубый, хамоватый офицеришка, не отличающийся ни особенным умом, ни добродетелью. На службе Николай, наверное, был хорошим командиром. Для вышестоящего начальства, видимо, отличным подчиненным. Кто знает, может, начальство его так страшно долбало на службе, что дома ему хотелось на ком-то отыграться, или же давно вошло в привычку измывательство над подчиненными, но дома он неизменно был тираном и деспотом. Паулина с Вадиком и так старались не давать ему повода для критики, но Николай все равно периодически находил, к чему придраться, и устраивал для домашних муштру похлеще, чем новобранцам на плацу.
Любовь, тишь да гладь в доме царили с часу дня до десяти вечера, пока на пороге не появлялся уставший и по обыкновению злой, как черт, Николай. Днем Паулина с Вадиком, казалось, напрочь забывали о существовании мужа и отца вплоть до того момента, когда он напоминал о своем присутствии в их жизнях наглой злой физиономией. Смех и веселье моментально сменялись напряженным молчанием. Вадик старался побыстрее умыться и юркнуть в постель, пока отец не придрался к чему-нибудь. А уж если не успевал и отец находил его не слишком аккуратно поставленный у входной двери ботинок, или же считал, что Вадиковы брюки висят на стуле недостаточно аккуратно, или же портфель стоит не точно по центру стула, где ему следовало находиться, а немножко скривился влево, или же Вадим недостаточно качественно причесан (перед самым-то сном!) – это уже были веские основания для скандала. Сначала разъяренный отец хлестал сына по щекам, обзывая при этом самыми унизительными словами. Потом, войдя в раж, Николаю это казалось слишком легким наказанием, и в ход шли кулаки. Правда, даже в пылу воспитательного процесса он не забывал, что следов на лице воспитуемого оставаться не должно, а потому бил, намотав предварительно полотенце на руку. Ну а уж после, для самоуспокоения и по привычке, заставлял отжаться пятьдесят раз, как он говорил, для хорошего здорового сна.
Паулина пыталась вмешиваться в их мужские разборки, стремясь угомонить разбушевавшегося супруга. Да не тут-то было. Во-первых, в пылу борьбы Николай не слишком разбирал, в какую сторону отправляет кулак, так что и Паулине иной раз доставалось не меньше Вадика. А во-вторых… во-вторых, после ее вмешательства Вадиму было еще хуже. Что физическая боль? Немножко потерпел и забыл. А чудовищное унижение матери было для него самым страшным наказанием. И полночи мальчик страдал, прислушиваясь уже не просто к скрипу кровати за стеной, а к тяжелому дыханию матери, к тяжким ее вздохам и стонам. И, словно мало было насильнику физических унижений, страшные слова, произнесенные шепотом: «шлюха, грязная потаскунья, билять такая!»
Постепенно Паулина стала забывать о безоговорочном табу на спиртное. Нет, она не собиралась напиваться до поросячьего визга в отсутствии мужа – она же порядочная женщина и не может позволять себе ничего компрометирующего. Но уже и не считала чем-то из ряда вон выходящим выпить стаканчик-другой вина – что тут такого крамольного. Николай ведь сам сказал, что ничего такого ужасающего она в состоянии легкого подпития не вытворяет, стало быть, бояться ей абсолютно нечего. Иначе он не стал бы спаивать ее собственноручно. Ведь не то что разрешает, а даже заставляет пить периодически, не заботясь особо, хочется ей выпивать или не очень. Уж если водочка проходила без особых последствий, то вина и вовсе нечего было опасаться. Глупости все, какие глупости! Как она вообще могла поверить этому мужлану, что она, Паулина Видовская, вся такая воспитанная и возвышенная, вела себя, как последняя шлюха. Дура-дура, ей бы сразу понять, что это он все подстроил, сбежать бы от него в первый же день. Не по гарнизонам бы теперь моталась – по заграницам, жила бы себе в пятизвездочных отелях, красовалась на обложках журналов. А теперь ее даже никто не узнает! Правда, она и сама не слишком этого хотела бы: как ни крути, а волна грязных сплетен таки пронеслась сразу после ее срочного замужества. Мало ли, вдруг кто страдает хорошей памятью, вдруг кто да вспомнит подробности ее сладкой жизни. Поди докажи теперь, что Николай, подонок, выдумал всю эту грязь только ради того, чтобы жениться на ней.!
Сухой закон для Паулины был ныне отменен как бы наполовину. Мало того, что Николай периодически без всякого предлога заставлял ее выпить рюмку-другую водки, к этому Паулина уже успела привыкнуть. Теперь даже в гостях он позволял ей немножечко выпить. Правда, без странностей с его стороны и здесь не обходилось: ладно бы с самого начала застолья позволил выпить бокал-другой шампанского, или водочки – а почему бы и нет, ведь дома не позволял, а буквально заставлял. Так нет же, только когда наливали «на посошок», вспоминал вдруг про Паулину, наливал ей полнехонькую рюмку, «мужскую» дозу, и сразу уводил домой. Придурок ненормальный! Ведь в конце застолья уже никогда не оставалось шампанского, которое так любила Паулина.
Когда в очередной раз почти весь мужской состав гарнизона отправился на учения, оставив лишь три смены караула для охраны, на небольшом девичнике по случаю десятилетнего юбилея свадьбы их приятелей, Паулина впервые за годы замужества позволила себе выпить без разрешения. Собственно, это был еще не совсем праздник, лишь репетиция его – какой же юбилей без одного из юбиляров. С другой стороны, когда мужчины вернутся, это будет уже совсем другой день, не торжественная дата, а просто повод для пьянки. А потому и собрались сплошным женским коллективом, чтобы хотя бы так, наполовину, отметить радостное событие.
По причине сугубо женского состава приглашенных был устроен сладкий стол: шампанское, фрукты, торт. Посидели, пощебетали о женский своих делишках, немножечко посекретничали. Паулина была в ударе – за столько лет она уже практически забыла восхитительный вкус шампанского, и теперь резвящиеся пузырьки баловались уже не только в хрустальном фужере, но и в ее голове. Она чувствовала себя такой легкой, такой возвышенной! Так вдруг захотелось петь, захотелось всеобщего внимания и восхищения!
Сначала подружки не заметили, что с Паулиной творится что-то не то. Ну подумаешь – стала смеяться чуть громче, чем обычно. Ну подумаешь – шампанское хлещет, как лимонад. Ничего страшного, хозяйка подготовилась к празднику на совесть, как никак – десять лет, как никак – юбилей, так что шампанского всем хватит. Потом вдруг из уст Паулины полились странные речи:
– Ой, девки, а чего мы тут без мужиков-то скучаем? Я не поняла – какого хрена нас тут одних собрали? И по каким таким признакам нас отбирали в это сборище? Я, например, к сексменьшинствам не отношусь, я горжусь своей ориентацией. Я, девки, мужиков люблю, а вы, со своим бабским коллективом, мне на хер не нужны! Может, вам мои прелести и не дают покоя – еще бы, кто не захочет отыметь Паулину Видовскую независимо от половой принадлежности. Однако я предпочитаю, чтобы меня имели только мужики! А вас, дешевых лесбиюшек, я в гробу видала в белых тапочках! Фу, извращенки!
За столом установилась тишина. Приятельницы уставились на Паулину, словно перед ними сидело привидение. Та же, откровенно наплевав на окружающих, встала из-за стола, оттопырила попку, демонстративно выпустив газы:
– Это вам от меня приятного аппетита! – дико, как-то ошалело заржала, и покинула гостеприимный дом. – Чао, крошки!
Вадим читал в кресле, дожидаясь маму. Отец уехал на учения, и целую неделю теперь можно было не думать о нем, не спешить в десять часов ложиться спать. Да и времени-то еще было самое начало девятого, Вадим не ждал маму так рано, а потому немало удивился, когда в дверь позвонили. Некому было к ним приходить. Все отцовы сослуживцы отбыли вместе с ним на учения, мамины подружки в гостях в полном составе. У Вадима же с друзьями, как обычно, не складывалось, да и не нужны они ему были, те друзья – у них слишком разные интересы. А вот девочки периодически заглядывали в гости, все никак не могли понять, что никто Вадиму не нужен. Забрасывали дурацкими записочками, одаривали многозначительными взглядами. Дуры! Вот и сейчас, наверное, очередная дура приперлась, якобы за домашним заданием. И Вадим, заранее недовольный, открыл дверь.
Перед ним стояла мама. Странная, ухмыляющаяся. Зашла, потрепав его по волосам:
– Здравствуй, малыш!
Прошла в комнату, огляделась по сторонам. Не найдя ничего интересного, прошла в спальню. Видимо, и там не обнаружив того, что искала, моментально вернулась. Уставилась на Вадима ошалелым взглядом:
– Я не поняла – а где народ? Где стол, где поклонники? Где все, я тебя спрашиваю?! Это что же, меня пригласили ради того, чтобы выступать перед одним сосунком? Или я слишком рано пришла?
От ее чужого голоса, от странных слов у Вадика по коже разбежались мурашки.
– Мама, что с тобой?
– А вот хамить не надо! «Мама!» Я, конечно, постарше тебя буду, но не до такой же степени, чтобы так меня оскорблять! Юное хамло! Я не знаю, что ты здесь делаешь, как по мне, ты еще слишком мал для подобного веселья. Ну да, родителям, поди, виднее. Это папаша, что ли, решил тебя посвятить во взрослую жизнь? Ну-ну… Мне-то что? Мне без разницы, не мои проблемы. А сам-то он где, папашка-то?
– Как где? На учениях… Ты что, забыла, мам?
– Еще раз мамой обзовешь – накажу. Понял, козлик? Так где остальные?
Вадим не мог понять, что случилось с мамой, почему у нее такой чужой голос, почему она смотрит на него так отстраненно. И кого она все время ищет? Какие гости? Разве они сегодня собирались принимать гостей? Без отца? Но ведь мама ни о чем таком не говорила.
Ничего не понимая, однако не рискуя еще раз нарваться на «козлика», Вадик сел в кресло и опять принялся за книгу. Паулина постояла посреди комнаты минуту, упершись руками в бока, поразмышляла о чем-то. Подошла к Вадиму:
– Ну ладно, ладно, малыш. Ишь, обиделся! О'кей, взрослый, так взрослый, мне без разницы. Раз отец решил, что уже пора, пусть так и будет. Я не знаю, во сколько лет нынче принято посвящать мальчиков в такие игры. Тебе сколько лет, орел?
– Тринадцать, – не рискуя называть маму мамой, пролепетал Вадик. Неужели она забыла, сколько ему лет? Что это с ней, почему она такая чужая?
– Ну, умора! Тринадцать! Кому скажи – засмеют ведь! Паулина Видовская лишает невинности тринадцатилетнего юношу!
И Паулина со снисходительным смешком опустилась перед Вадимом на колени:
– Смотри, малыш, как это делается! Потом внукам рассказывать будешь, как Паулина Видовская твоему сморчку удовольствие доставляла!
От таких слов Вадим впал в столбняк. Какая еще Видовская? Он слыхом не слыхивал эту фамилию. И о чем мама говорит? Боже, что она собирается делать?! Вадик дернулся, пытаясь оттолкнуть мать, когда та, ничтоже сумняшеся, оттянула его домашние брюки.
– Не дергайся, пацанчик. Видишь, какие у тетеньки длинные ногти? Еще пораню ненароком твою писульку. Не бойся, дурачок, это не больно. Эх, красивый парень растет! То-то девкам от тебя достанется!
Вадим вжался в кресло. Было стыдно и противно смотреть, как мать облизывает то, что обычно ласково называла краником, нынче же обозвала сморчком. И, чтобы не было так противно, зажмурился, сжал кулаки так, что заболели ногти. А мама усердно выделывала с «краником» какие-то затейливые па, и уже от чего-то неведомого захватило дух, стало так трудно дышать… От неведомого? Да полноте, ведь он ежедневно ощущал эту неведомую невесомость, когда сердце совершенно свободно гуляет по телу, одновременно заполняя собою желудок, пах, горло и почему-то уши. Ведь каждый день с таким тайным наслаждением касался руками маминого тела, смывая с него остатки сметаны. И «краник» его неизменно дергался в штанах, когда Вадик чувствовал, как расцветают под его руками мамины соски. Но о таком божественном наслаждении даже не мечтал, да и как можно мечтать о таком. О таком!!!
Наутро Вадима разбудила мама. Именно мама, а не вчерашняя посторонняя тетка, чужая и странная, но доставившая ему немало приятных мгновений. О негативных эмоциях Вадик как-то слишком быстро позабыл.
Мама, как обычно, хлопотала над завтраком, сервируя стол.
– Сыночка, – расплылась она в улыбке, когда умытый и причесанный Вадим появился в кухне.
Чмокнула сына в губы:
– Доброе утро, солнце! Как спалось?
Вадик же не знал, как себя вести, как разговаривать с матерью, боялся открыто взглянуть в ее глаза. Опасался ненароком выдать неловкое презрение, щедро замешанное на благодарности.
– Спасибо, мамочка, нормально.
– Вадюша, я вчера поздно пришла? Ты меня дождался или сам лег? Ты кушал? – неслись один за другим вопросы.
Что отвечать, он тоже не знал. Это что, игра такая в «ничего не помню»? Или это она специально засыпает его такими вопросами, лишь бы не говорить о том, самом важном в их жизнях происшествии, которое им довелось пережить вчера.
– Нет, мам, не поздно. Еще и половины девятого не было.
– У, так рано? А что ж я так рано-то вернулась? Ты не знаешь? Я, случайно, не говорила?
Вадим только диву давался. Придуривается? Но так естественно. Или на самом деле ничего не помнит?
– А ты что, ничего не помнишь? – спросил осторожно.
Паулина неловко усмехнулась:
– Неа, не помню, сынок. Я как выпью немножко – все на свете забываю. Потому папа и не разрешает пить, злится, когда я начинаю его расспрашивать о том, что было накануне. Я хоть не слишком пьяная пришла? Не помню даже, много ли выпила. Кажется, шампанское пила, но даже в этом не уверена. Я ведь ничего дурного не делала, правда, сыночек?
Она в самом деле ничего не помнит! Как ей рассказать о том, чем они занимались? Она же не переживет такого позора. Как ей объяснить, что ничего страшного не произошло? Ведь она же любит своего сыночка, и он ее любит, а значит, ничего позорного и постыдного не было. Просто мама делала ему приятно, очень приятно, что тут страшного. Это ведь и есть материнский долг – делать ребенку приятное. И сыновний долг состоит в том же. Он тоже пытался сделать ей приятно, он очень старался. Только у него ничего не получилось: уж слишком на взводе он был, не успевал толком прикоснуться к обожаемой матери, как «краник» испускал дух и повисал безвольным отростком, бессмысленным аппендиксом. Разве мог Вадик рассказать об этом маме? Что бы было стыдно и ей, и ему самому? Он-то стыдился бы лишь того, что не смог толком отблагодарить маму, что такой еще неловкий и неумелый, но она-то, она ведь придет в абсолютный ужас не от его неловкости, а от того, что смогла позволить себе запретные отношения с сыном. Правда, их отношения и раньше нельзя было назвать пуританскими, и мама никогда не комплексовала по этому поводу. Ну что тут, скажите, страшного, если мать купает своего родного сыночка. Даже если сыночку уже тринадцать, а мама моет его не мочалкой, а ласковой своею ладонью. И что страшного в том, что она так тщательно следит за его чистотой, что самолично вымывает все складочки его сморщенного «краника». Ведь не чужой же, в самом деле. По большому счету, и этот «краник», как и все остальное тело Вадика, до последней клеточки сделано из ее тела, из ее «стройматериала». Так что ж в этом постыдного? В том, что мать любит сына, а сын – мать. Что запретного, что плохого? Да это же прекрасно, что у них с мамой такие замечательные, такие близкие отношения! Ну кто еще так любит свою маму, как он?
– Нет, мамочка, ты не сделала ничего дурного, не волнуйся, – успокоил Вадик мать. – Ты просто была веселая и смешная, рассказывала анекдоты и смешные истории из собственного детства. Я никогда тебя такой не видел, мамуля. Но ты мне очень понравилась. Нет, дорогая, ты ведь и не умеешь делать что-то плохое. Не волнуйся, все было нормально.
Паулина вздохнула с видимым облегчением.
– Сынуля, но ты все-таки папе не говори, ладно? Ему не нравится, когда я такая веселая.
– Не скажу, мамочка, не бойся. Я никогда ему об этом не расскажу.
* * *
Женя перебралась к Сергею как-то настолько потихоньку, незаметно, что никто, даже Маришка, и не заметили, когда же это произошло. Они не обсуждали с Сергеем, жить ли им вместе или нет. И Сергей не делал ей официального предложения если и не жениться, то, по крайней мере, жить под одной крышей. Пока Маришка жила у подружки на даче, Сергею не от кого было скрывать наличие любовницы. А когда Маришка вернулась домой, готовясь к отъезду в Ялту, оказалось, что в доме полно Женькиных вещей. Как-то так получилось, что приезжала она к нему в двух кофточках, утром уходила в одной. На следующий вечер прихватывала с собой платье, которое и надевала с утра, а брюки с майкой оставались аккуратно сложенными на пустой полке шифоньера, где еще недавно лежали Ирины вещи.
Нельзя сказать, чтобы Маришку порадовало появление в доме постороннего человека. Но и особых «фырков» в сторону новоявленной мачехи она не проявляла. Скорее, Марина приняла ее появление в доме как неизбежное зло. На отца не сердилась. В ее понимании ответственность за все произошедшее полностью лежала на матери.
Женя поехала с ними и к морю. Сергей и сам не мог бы сказать, как это произошло. Просто сказала:
– А давайте я с вами поеду. Должна же рядом с вами быть женщина, а то тебя, Сереж, арестуют, приняв за Маришкиного любовника, растлителя малолетних.
Похихикал, приняв за шутку, а потом, увидев, как она укладывает в чемодан свои вещи вместе с вещами Сергея, не нашел слов, чтобы отказать ей. Маришка, правда, весь отпуск дулась на него, да поделать уже ничего было нельзя: ну не развернешь же Женьку на сто восемьдесят градусов, не отправишь восвояси. С отцом Маришка не разговаривала, а вот с Женькой, кажется, нашла общий язык. Нельзя сказать, что они сдружились, но, по крайней мере, Маришка явно перестала относиться к ней враждебно.
Вот так, постепенно и незаметно, врастала Женя в семью Русаковых. О скорой свадьбе не намекала, вполне довольствуясь пока еще статусом сожительницы. С видимым удовольствием приняла на себя функции хозяйки. И квартиру прибирала, и готовила, и обслуживала-обстирывала любовника и его дочь. Причем готовить старалась с фантазией, никогда не позволяя себе кормить семью полуфабрикатами из ближайшего супермаркета, старалась играть на контрастах: «Ирине некогда было готовить, не хватало для вас времени, а у меня вы на первом месте – если я вас не накормлю, никто не накормит». Постирать в наше время супернавороченных стиральных машин – небольшая доблесть, зато после стирки Женя незамедлительно выглаживала все белье, вплоть до носков, демонстрируя: смотрите, какая я замечательная хозяйка!
И действительно, хозяйкой была отменной. И все было хорошо, и постепенно Сергей уже стал привыкать, что рядом с ним теперь практически двадцать четыре часа в сутки находится другая женщина. А нет-нет, да и сыграет память злую шутку, нет-нет, да и назовет ее Сергей ненавистным ныне именем «Ира». Когда замечал оговорку – сильно смущался, но частенько ведь даже и не замечал. Крикнет в глубину квартиры:
– Ириш, завари чайку, – и сидит себе дальше перед телевизором, внимательно наблюдая за перипетиями матча «Спартак» – «Локомотив».
А Женя чайник на огонь поставит, и сидит, пригорюнившись: и как долго он еще будет Иру свою вспоминать. А ночью! Разве легче ей выносить его ночные оговорки? Ведь знала, чувствовала, что не ее он ночью любит, не ее ласкает. Но терпела: Бог терпел, и нам велел. Дождется, когда Сергей заснет, и плачет тихонько в подушку: «Ну когда, когда же он поймет, что я лучше?!»
Женя все ждала, когда же их отношения станут более близкими, душевными. Ну, ясное дело, что поначалу ни о какой близости, кроме физической, и речи быть не могло. Но ведь она давно уже не просто любовница! Ведь и в отпуск вместе ездили, и живут вместе уже несколько месяцев. Ведь даже его дочь ее приняла: пусть не визжит от восторга по поводу Женькиного появления в их семье, но ведь вполне по-человечески с нею общается. А тот, который должен бы оберегать ее чувства от таких мыслей, от разочарований, с каждым днем, кажется, отдаляется все дальше. Почему, почему?!
Почему, проснувшись в одной с ней постели, Сергей так хмурится, вместо того, чтобы радостно чмокнуть ее в щечку. Или хотя бы с улыбкой пожелать доброго утра. Но он все чаще прячет от нее свой взгляд: натянет тренировочные штаны, отвернувшись к стенке, и бежит из спальни, словно прячется от кого. Почему, столкнувшись в дверях или в проходе, отодвигается бочком к стене, освобождая ей дорогу, почему отводит взгляд в сторону и даже не улыбнется. Почему они молчат в машине всю дорогу от дома к гаражу. И когда обратно едут – тоже молчат. Сергей словно специально включает музыку на полную громкость, лишь бы не говорить. И все чаще и чаще Женя стала ловить на себе его затравленный, измученный взгляд. Почему?!
Почему вместо того, чтобы становиться ближе друг другу, они только расходятся все дальше, словно едут на эскалаторе в противоположные стороны. Это когда-то, в самом начале их отношений, им не о чем было говорить, однако тогда они все-таки находили общие темы. Теперь же, спустя столько времени, Жене вместо того, чтобы мечтать о духовном сближении с Сергеем, все чаще приходилось надеяться на то, что пропасть, откуда-то возникшая между ними, не будет разрастаться, а останется хотя бы такой, как сейчас…
Чувствовала, давно чувствовала Женя, что приближается к ним с Сергеем что-то нехорошее. И сама иной раз готова была взорваться, так хотелось выяснить, наконец, отношения: кто она ему – кухарка, уборщица? Или кукла резиновая для отправления нужды определенного рода? Или любовница? Или все-таки жена, пусть хотя бы и гражданская?… Но нет, одергивала себя в последний момент: не в ее положении качать права, ведь в любую минуту ей могут указать на дверь. А потому терпела, подлащиваясь каждый раз, демонстрируя мнимую свою бестолковость. Мол, а разве у нас что-то не так, дорогой, разве есть какие-то проблемы? А по-моему, все нормально…
Вот и в тот вечер старательно изображала из себя дурочку. Пока Сергей смотрел новый боевик с участием Брюса Уиллиса и Роберта Де Ниро, поколдовала на кухне, соорудив аппетитный десерт из ванильного мороженого, абрикосового суфле и шоколадного ликера. Внесла торжественно, держа мельхиоровый поднос на вытянутой руке, словно профессиональная официантка, предстала пред светлы очи любимого:
– Сюрприз!
Сергей дернулся, как от пощечины, отшатнулся. От удара головой о стену спас мягкий подголовник дивана.
– Я тебя напугала, милый, – ласково прощебетала Женя. – Прости, я не хотела. Знаешь, у меня еще ликер остался. Может, мы его и без десерта попробуем, в чистом виде, а? А потом… Воспользуемся Маришкиным отсутствием – так надоело сдерживать себя, так хочется оторваться на полную катушку! Ты же знаешь, я так люблю покричать, постонать… Мррр…
И кошкой потерлась щекой о шею Сергея. Однако вместо того, чтобы поддержать ее игру, он лишь отодвинулся недовольно и снова уставился на экран.
– Ну, Сереж, я так не играю, – надув губки, она все еще продолжала играть роль распущенной девчонки. – Неужели тебя больше привлекает Роберт Де Ниро? А я? Смотри, какая я у тебя! И, между прочим, это все твое!
Схватила руку Сергея и сунула ее себе под короткую маечку, фактически вложив грудь в его ладонь. При этом губы ее тщетно пытались впиться в его губы. Сергей довольно грубо вырвал свою руку, вскочил с дивана, встал посреди комнаты:
– Перестань, прекрати!
Боевик был забыт. Сергей отвернулся к зашторенному окну и так стоял посреди комнаты памятником, не зная, что делать дальше.
Несколько невыносимых мгновений тишины разорвали их общую жизнь на «до» и «после».
– Сереж, я что-то не так сделала? Извини, я не хотела тебя обидеть…
Он долго молчал, не зная, как объяснить ей свою безосновательную истерику. Женя тоже молчала. Она прекрасно поняла, что вот сейчас, наверное, и произойдет развязка.
– Прости, – наконец то промолвил Сергей. Решение было принято, окончательное и бесповоротное: – Я не могу. Ничего не получается. Ты прости меня, я не должен был затевать все это. Получается, я обманул твои надежды…
– Не надо, Сереженька, не надо. Прости, я не буду больше приставать к тебе. Ты смотри кино, а я тихонько посижу рядышком. Кушай десерт, мороженое растает, – скороговоркой попыталась было спасти ситуацию Женя. Но было поздно – поезд тронулся с места, колеса, с таким трудом и скрипом сделавшие первый оборот, крутились все быстрее, скользили без остановки по рельсам решимости.
– Ничего не получается, – повторил Сергей. – Я хотел забыть ее, я очень хотел. Ты хорошая, ты самая хорошая! И не твоя вина в том, что я не могу ее забыть. Я хотел полюбить тебя, я старался – ничего не получилось. Я даже привыкнуть к тебе не могу. Вся твоя ласка, вся забота о нас с Маришкой – они же мне, как кость в горле. Как же ты не понимаешь! Я не могу чай пить из твоих рук. И все твои вкусности в глотку не лезут – не те руки их подают, понимаешь! Ведь мне не вкус важен, а то, какие руки его подают. А руки – не те, не ее руки! Мне и подавать ничего не надо, я сам подавать буду, мне не тяжело, мне это даже приятно. Для нее. Только для нее, понимаешь? Для нее и Маришки. Не для тебя! Так получилось, мир не справедлив – ты хорошая, она дрянь, но только для нее я готов на все! Но ее больше никогда не будет рядом. Рядом с ней другой, теперь другой пьет чай из ее рук, другой подает ей кофе в постель. И я ненавижу ее за это, и никогда не прощу того, что она с нами сделала: со мной, с Маришкой, с тобой. Да-да, именно она виновата в том, что тебе сейчас приходится выслушивать эти слова! Если бы не она, я никогда не позволил бы себе и взгляда в твою сторону.
– Ну зачем же спешить? Давай попробуем еще раз, – она надеялась, что еще можно оставить все как есть, еще не все потеряно. – Я все поняла, я больше не буду…
– Да при чем здесь ты? – взорвался Сергей. – Нет тут твоей вины! Просто ты – не она. Я ведь каждый раз вздрагиваю, столкнувшись с тобой в дверях! Потому, что раньше сталкивался с нею. И нам обоим это очень нравилось, мы, как дети малые, начинали дурачиться. А теперь я дико боюсь поднять глаза и увидеть рядом не ее. Я боюсь тебя, понимаешь? Ты чужая, ты никогда не сможешь стать ею. Она – предательница, я ее ненавижу! Но никогда ее место не сможет занять другая женщина. Я пробовал, я честно пытался – ничего не получается…
Женя поняла, что в этом доме ей больше ничего не светит. Тщетно пыталась сдержать слезы, но они текли по щекам, не слушаясь ее команды «стоп». И, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, отвлечь внимание от этих предательских слез, она сказала тихонько:
– Тогда, может, тебе нужно простить ее? Простить и снова жить вместе.
Ей как раз совсем не хотелось, чтобы он простил бывшую жену, чтобы Ирина снова вернулась в его жизнь, но Женя чувствовала, что он хотел бы услышать от нее эти слова, потому и сказала – по привычке делать ему приятное.
Он устало опустился на диван рядом с Женькой, вздохнул.
– Разве можно простить предательство? Да и не нужен я ей больше, у нее теперь молодой есть, наверное, от него проку больше, чем от меня. Видимо, я уже старый конь. Нет, я никогда не прощу ее, никогда. Но и забыть не смогу. Не потому что она хорошая, а ты плохая. Просто потому, что я такой. Так и буду до смерти куковать в гордом одиночестве. Ты прости меня, Жень, прости, слышишь?…
Она уткнулась в его плечо и расплакалась, не таясь. Она прощалась с ним, с надеждами, с любовью. Не одному ему придется век куковать в одиночестве. Она тоже никого другого не желала видеть рядом с собой.
* * *
Несмотря на то, что Вадим сдержал слово, не обмолвившись о происшествии, Николай догадался. Вернее, не догадался, а прослышал о нелепом поведении Паулины в гостях. Скандал разгорелся страшный. Как водится, не обошлось без рукоприкладства. Заодно досталось и Вадиму. Долго отец выпытывал у него, когда пришла мать, в каком состоянии, с кем и чем занималась. Долго отказывался верить, что сразу из гостей Паулина вернулась домой. Заставил его поверить в непорочность супруги лишь факт, что в тот памятный день в гарнизоне практически не оставалось мужчин, а стало быть, изменять ему Паулине было решительно не с кем.
В гарнизоне на чету Черкасовых стали коситься, все реже приглашать на праздники. Николай зверел от этого еще больше. И все чаще стал наливать супруге рюмку водки на ночь, как он объяснял, «для хорошего сна». Но Вадим-то теперь отлично знал, для какого «хорошего сна» отец это делал. Знал, бесился, ненавидел его все сильнее, все навязчивее было желание убить подлеца. Невыносимо тяжко было Вадику слышать чужой мамин смех за стеной, сладкие ее стоны. Ревность душила днем и ночью, отравляя существование мальчика. Каждую минуту таких ночей на месте отца он представлял себя. Все тело его кричало: «Не смей, гад, она моя, моя, моя!!!» И, представляя себя на месте отца, доводил себя шаловливыми ручонками до полного исступления…
Вскоре Черкасовы переехали в другую часть, неподалеку от Челябинска. То ли так замечательно все совпало, то ли отец сам напросился на перевод, не в силах вынести косые взгляды сослуживцев и ехидные ухмылочки их благоверных – так или иначе, а переезд вся семья приняла с облегчением.
На сей раз Николай не пытался обзавестись новыми друзьями. Держался обособленно, не подпуская к себе никого ближе, чем на пушечный выстрел. Паулинино же существование теперь больше походило на домашний арест.
Вадик ждал, когда отец вновь отправится на учения, чтобы остаться вдвоем с мамой. И тогда, мечтал он, и тогда… В мыслях он знал, что будет тогда, а приличных слов не находил. Вернее, он знал, как все это называется, но все эти слова были грязными и отвратительными, и уж никоим образом не подходили ни к его мамочке, ни к тому, чем они стали бы заниматься в отсутствии отца. И так сладко он мечтал, так сильно хотел, чтобы уехал отец, чтобы оставил их с мамой вдвоем хоть на несколько дней, что сама судьба одарила его своей милостью, отправив отца в командировку за новобранцами.
Ах, как летел Вадик из школы, ах, как сладко билось мальчишеское сердце в ожидании встречи с мамой. Ведь так много времени прошло уже с той памятной, восхитительной ночи, так давно это было. Он уже забыл о том, что сам-то, в отличии от мамы, оказался тогда не на высоте, не сумев доставить мамочке ответное удовольствие. Но уж теперь-то, уж сегодня, он сумеет, он все сделает, как надо! И мамочка поймет, что он у нее самый лучший, самый замечательный, и что не нужен ей больше отец, ведь теперь у нее есть сын!
Но командировка отца прошла даром. Пошли прахом все мечты Вадика. Ничего не было, ровным счетом ничего, если не считать самых обычных их с мамой игр в косметологов. Только еще хуже стало: в очередной раз смывая с него сметану, тщательно промывая его «краник», мама обнаружила, что сын вырос: не сдержался Вадик, не сумел скрыть от мамы возбуждение, вспухнул «краник» прямо в маминых руках и тут же, прямо в ее руках сдулся, оставив мутный скользкий след в ее ладонях… Из-за этого конфуза остались в прошлом их сметанные развлечения: мама, наконец, поняла, что сыну уже четырнадцать, мальчик вырос.
Прошло два бесконечных года. Вадик продолжал мечтать о маме, игнорируя ровесниц. Девчонки бегали за красавчиком табунами, как юные гонористые лошадки, некоторые, что понаглее, практически сами выпрыгивали из трусиков. Но не реагировал на них «краник», висел бессмысленным кусочком плоти, приспособленным лишь для отправления малой нужды.
Мама радовалась необыкновенной серьезности сына:, правильно, сейчас не о девочках нужно думать, а об аттестате – класс-то выпускной, летом судьба твоя решается, а для девочек еще будет время, никуда они от тебя не денутся. Вадик кивал согласно: да, мамочка, конечно, с девочками позабавляться я еще успею. Но лишь об одной «девочке» мечтал, лишь одну хотел каждую секунду своей жизни. Но маме не с кем было пить шампанского в те дни, когда уезжал отец. А потому мечты Вадима оставались лишь мечтами.
Но если долго мечтать о чем-то, если очень сильно чего-то хотеть, то желание непременно исполнится. Исполнилась наконец-то и самая заветная мечта Вадика: очередные учения отца выпали аккурат на его день рождения. А так как друзей в гарнизоне не было ни у Вадика, ни у Паулины, то праздновали они его шестнадцатилетие вдвоем. Настоящий подарок судьбы: он, мама, и шампанское. И не пришлось ничего выдумывать, Паулина сама открыла бутылку, сама налила себе и сыну:
– Вот ты и взрослый, сынок! Вот и могу, наконец-то, выпить шампанского с самым дорогим человечком во вселенной! Будь здоров, Вадюша, будь всегда таким же красивым и послушным, самым замечательным на свете человеком!
И выпила до дна, как и полагается за здоровье сына. Вадик тоже выпил, но чуть-чуть. Не из соображений вредности алкоголя для растущего шестнадцатилетнего организма, а сугубо из практичности: неизвестно ведь, сколько шампанского нужно выпить маме, чтобы перестать быть мамой. А у них была припасена всего одна бутылка – ведь покупала ее мама втайне от отца, чтобы тот, не дай Бог, ни о чем не узнал. И главное, нужно не забыть сразу выбросить пустую бутылку, дабы не оставлять после себя компромата.
Повеселела Паулина сразу, после первого же бокала. Однако это все еще была мама. Щедрой рукой Вадик подливал ей шампанского, не забывая отсчитывать: раз, два, три… Уже после второго мамин взгляд слегка осоловел, язык начал выдавать странные речи про Паулину Видовскую. Третий бокал и вовсе оказался решающим. Взгляд Паулины сконцентрировался на Вадиме:
– Ай, какой красивый мальчик! Малыш, а ты не «голубой»? Для гетеросексуала выглядишь слишком хорошеньким.
И тут же, без перехода, даже без паузы:
– Мальчик, хочешь попробовать звездного тела?
Мальчик хотел. Еще как хотел! Он три бесконечных года мечтал об этой волшебной ночи. Паулина была в ударе. Да и Вадим на сей раз не подкачал, не опозорился. Мама осталась им довольна.
Меньше, чем через год, подгадав к получению Вадимом аттестата, чета Черкасовых перебралась в Москву. Николай, дослужившись до генерал-майора, получил и новую должность при главном штабе. Хоть и небольшой начальник, но и не последний офицеришка. Вадим, как и рассчитывал, получил золотую медаль, а потому без особых проблем стал студентом престижнейшего в стране университета – МГУ.
Командировки у отца нынче случались очень часто: мотался с проверками по стране практически каждый месяц. То на три дня уезжал, то на неделю. Иной раз таких командировок случалось и по две в месяц. Настали для Вадима золотые деньки.
* * *
– Если бы я знала тогда, если бы знала…
И такая бесконечная боль сквозила в Ирином голосе, такая тоска и безысходность, что собеседница и сама, словно участница описываемых событий, вздохнула печально. Но говорить ничего стала. Да и что она могла сказать. В данной ситуации она могла лишь слушать.
– Я ведь действительно думала, что он меня любит. То, что не любила я, ничего не значило. Тогда мне казалось важным, чтобы меня хоть кто-то любил, хоть кто-нибудь! Меня ненавидел Сергей, презирала Маришка. Мама умерла, единственную подругу я сама готова была придушить. Я оказалась одна на этом свете, никому не нужная. И тут вдруг, как глоток свежего воздуха – этот мальчик, Вадим. Красив, как Аполлон, великолепно сложен, тело молодое, упругое, натренированное. А главное, он смотрел на меня такими глазами! И мне неважно было, люблю ли я его. Для меня была важна лишь его любовь ко мне. Если бы не он, я бы давно разучилась дышать. Он был моим воздухом. Вот скажите, вы воздух любите? Не в смысле «погулять, подышать свежим воздухом». А просто воздух, тот, которым дышите. Вы его любите, любите каждый вдыхаемый глоток? Вряд ли. Вы наверняка просто не задумывались об этом. А ведь без воздуха человек умрет. Вот так и я. Я бы просто умерла без Вадима. Не потому, что люблю. Нет, я никогда его не любила, ни одного дня. Я просто позволяла ему себя любить, позволяла быть рядом, чтобы не быть одной. Потому что одиночество – это страшно. Нет зверя страшнее одиночества.
* * *
Золотые деньки как наступили, так и закончились, то есть практически в одночасье. Пять лет Вадим наслаждался жизнью, пять замечательных лет. Хотя бы дважды в месяц они с мамой оставались вдвоем. И уж конечно, никогда командировки не ограничивались одним днем – минимум тремя. Итого, в самый «жидкий» месяц Вадим целую неделю был единственным и полновластным обладателем сокровища под именем Паулина Видовская.
По пьяным материным высказываниям он давно уже догадался, что в молодости она была певицей, той самой Видовской, и звездное прошлое оставило в ее душе неизгладимый след. Каждый раз, глотнув шампанского, она неизменно возвращалась в то далекое время, когда была еще свободной и независимой. Потому и не узнавала Вадима, ведь в пьяных грезах ей было лишь слегка за двадцать, там она была незамужней и бездетной, ведь Вадик у нее появился чуть позже, когда отец увез ее из Москвы, подальше от славы и поклонников. Теперь понятно было Вадиму, почему все эти годы от него скрывали звездное прошлое матери – видимо, немало сплетен породила на свет разгульная жизнь Паулины. И вряд ли те сплетни были лишены оснований – ведь даже Вадиму поначалу бывало неловко за мамины сексуальные фантазии. Правда, неловкость прошла довольно быстро, как только ей на смену пришла уверенность в том, что, как бы ни пыталась, а утром мама не сможет вспомнить ничего из происшедшего накануне. А потому необходимость стесняться отпала, и теперь можно было позволить себе любые, даже самые некрасивые вольности и шалости – мама, вернее, Паулина Видовская, принимала такие шалости с восторгом, не пугаясь самых смелых экспериментов.
Перестал Вадим комплексовать и по поводу того, что занимается с мамой запретными утехами. Было бы желание, а уж придумать себе оправдание можно на любые случаи жизни. Полезность секса для здоровья как мужчин, так и женщин доказана наукой, и это факт. Сексом он занимается отнюдь не с мамой, а с певицей Паулиной Видовской, и это тоже факт: мама и Паулина Видовская – кардинально противоположные личности, а значит, их с Паулиной развлечения нельзя считать инцестом. Перестал и ревновать к отцу, даже когда слышал через стенку похотливые стоны не матери, а Паулины. Он теперь хорошо разбирался, мама ли пыхтит под обрюзгшим к старости отцом, или это Паулина стонет от восторга. Прислушивался не с ужасом, а даже с интересом, пытаясь угадать, что именно в данную минуту происходит за стеной. Ревности к отцу больше не было. Паулины хватало на них обоих, пусть и отец потешится на старости лет. Да и Паулине радость, она любит разнообразие. Разве что в особо бурные родительские ночи Вадим распалялся сам, тогда приходилось самому себя удовлетворять под их разнузданные вскрики.
Все было замечательно, все было великолепно. И все реже отец потчевал маму перед сном рюмкой водки – возраст давал о себе знать. А в один поистине отвратительный день постучалась беда, «подхватил» батенька микроинсульт. Хворь вроде вылечили, через полгода отец полностью оклемался. Но за это время по состоянию здоровья его благополучно «ушли» в отставку, наградив за офицерскую доблесть не слишком богатой пенсией. И осел батяня дома.
Вместе с отцовскими командировками закончились и Вадимовы вольности. Доступа к Паулине он теперь не имел. Отец, впрочем, тоже почти не вспоминал о Паулине, рюмочку в виде снотворного преподносил жене лишь изредка.
После сытных лет довелось Вадиму сесть на жесточайшую диету. Попытался было наладить это дело со сверстницами, да ничего у него не получилось, лишь оконфузился пару раз: «краник» отказывался реагировать на других женщин.
Пропасть Вадиму не позволил чистый фарт: вместе с новой работой он нашел мамину копию. Копия оказалась чуть моложе и чуть бледнее мамы, но это была хорошая копия, качественная, о чем ему немедленно просемафорил «краник».
Идея жениться на Ирине возникла в его голове в ту же секунду.
* * *
– Я была для него лишь копией. Бледной копией его матери, – горько воскликнула Ирина. – Всего лишь суррогатом, приемлемым компромиссом. А я-то, дура, уши развесила. Я благосклонно позволяла ему себя любить! Его неспособность быстро возбудиться я принимала за опытность и благородство. Только теперь я поняла, почему он всегда утверждал, что только рад был бы еще большей разнице в возрасте. Чтобы я еще больше была похожа на оригинал, на его драгоценную мамочку-нимфоманку.
Самолет дрогнул всем своим многотонным телом, выпуская шасси. Скоро посадка, а Ирина еще не успела рассказать самое главное, самое страшное. Невысказанное, оно разорвет ей душу. Ирина заторопилась, заговорила, глотая окончания, захлебываясь недавним ужасом, выплескивая горькую правду.
* * *
Когда Николай лег в госпиталь подлечиться, Паулина навещала его каждый день, балуя домашней едой. В один из вечеров, возвращаясь из госпиталя, она нанесла визит сыну с невесткой. Без приглашения, просто решила сделать им сюрприз.
Отношения свекрови и невестки сложились не сказать что теплые, но ровные. Паулине сложнее было бы принять женитьбу сына на какой-нибудь юной профурсетке. Ирина же никакой угрозы Паулине не несла: мальчик не сойдет с ума от любви к взрослой тетке, а значит, Ирина при всем желании не сможет увести его из-под материнского влияния. Еще больше баллов Ирине добавляла схожесть с Паулиной: это ли не признание того, что любовь к матери для Вадима первична.
Дома оказалась только Ирина, Вадим задерживался на одном из многочисленных семинаров. Будучи перфекционистом, он стремился к совершенству, и с завидным постоянством посещал всевозможные тренинги. Он всегда и во всем должен быть лучшим. Лучшим маркетологом, лучшим сыном, лучшим мужем, лучшим любовником.
Внезапное появление свекрови Иру в восторг не привело, но деваться некуда, за дверь вновь обретенную родственницу не выставишь. Пришлось изображать радость накрывать стол.
Ничего не жалея, хозяйка выставила на стол лучшее, что было в доме: коньяк, шампанское, коробочку конфет «Метеорит», которые всю жизнь любила до умопомрачения. К коньяку подала сыр, карбонат и оливки.
От коньяка гостья отказалась:
– Коньяк – мужской напиток. А шампанское я люблю!
Ирина открыла шампанское, налила гостье. Сама тоже предпочла бы шампанское, но взыграл дух противоречия, хотелось сделать что-то наперекор свекрови.
Та залпом осушила фужер, улыбнулась, не скрывая удовольствия. Закусывать не стала.
– А когда, говоришь, Вадик придет?
Ирина взглянула на часы: четверть девятого.
– Обычно в это время возвращается. Да я и сама только-только с работы пришла, едва переодеться успела, даже не поужинала. Так что вы вовремя.
Про себя заметила, что с некоторых пор ложь стала даваться ей все легче. Хотелось есть, хотелось отдохнуть после напряженного дня. Но вместо отдыха и ужина приходилось улыбаться незваной гостье.
– Как Вадюша, здоров ли?
Глаза Паулины сверкнули странным огоньком. Это длилось лишь долю секунды, и Ира даже не была уверена, что действительно видела что-то особенное во взгляде свекрови.
– Здоров, не волнуйтесь. Все нормально.
– Он не переутомляется? Чем ты его кормишь?
Скривив губы, Паулина критически осмотрела со всех сторон канапе с карбонатом.
– Взяли моду бутербродами питаться! От этих бутербродов одна язва! В твоем возрасте кашки надо кушать, на овсяночку налегать. На меня посмотри: в свои пятьдесят я выгляжу моложе тебя!
От такого комплимента можно было и поперхнуться. Хотелось ответить резко, но ссориться с матерью мужа не стоило. Ира потянулась к бутылке:
– Еще шампанского?
– Сама коньяк хлещет, а мне шампанского, – недовольно проворчала Паулина. – Ты мне еще лимонаду предложи! Я что, по-твоему, дитя несовершеннолетнее? Лей коньяк!
Коньяк так коньяк. Черт ее поймет, эту стерву. То она только шампанское пьет, то оскорбляется. Хоть бы Вадим поскорее пришел, что ли, взял бы на себя беседу с любимой мамочкой.
Ира налила, как и себе, полрюмочки, протянула свекрови. Та оскорбилась:
– Что, полную пожалела? Для матери мужа жалко, да? Лей, не жалей!
Не успела Ира поставить полную рюмку перед гостьей, как та резво схватила ее, огласила тост:
– Ну, будь здорова, да сыночка моего не обижай, – и махом опрокинула в себя коньяк. Зашлась, хватая воздух ртом. Схватила стоящую рядом бутылку шампанского, плеснула в фужер, залпом опрокинула в себя, и только тогда смогла, наконец, перевести дыхание:
– Фу, говно какое! Я же говорила: коньяк – для мужиков. А ты шалава. Приличные женщины должны пить шампанское! И любить мужчин.
Она уже не говорила, а почти кричала. И в глазах ее снова появился хищный отблеск, придававший Паулине ведьмовской вид.
– Вот ты мне скажи – ты кого любишь, – вопрошала она, тыча в Иру наманикюренным пальцем. – Ты лесбиянка? Ну и дура! А я – натуралка, я мужиков люблю! И я горжусь этим! Где они?
Она повела вокруг осоловевшим взглядом. Не увидев ничего нового, воззрилась на хозяйку:
– Где, я тебя спрашиваю?
– Кто?!
– Кто-кто, раскудахталась, твою мать! Мужики, спрашиваю, где? Я ж тебе сказала – бабами не интересуюсь! И ты на меня не глазей – не про твою честь Паулина Видовская! Облизывайся, сколько хочешь, но меня ты, гнида лесбийская, лизать не будешь! Где мужики, я тебя спрашиваю? Или ты меня сюда с определенной целью затащила? Трахнуть решила Видовскую, да? Приобщить к лесбийскому разврату? А вот хер тебе, а вот такого! Утрись, сопля розовая! Вся страна знает, что трахать Паулину Видовскую можно только мужикам! Чего зенки-то вылупила? Наливай давай, а потом по мужикам пойдем. Я тебе покажу, что такое настоящее удовольствие!
Распоясавшаяся свекровь потянулась к бутылке, налила себе еще шампанского, уже без всяких тостов влила в себя, отрыгнула пузырьки.
В эту минуту пришел Вадим. Ира вздохнула свободно:
– Ну наконец-то! Я тут без тебя не справлюсь.
– О, а вот и мальчики! А остальные где? – пьяно лепетала Паулина.
Вадим гневно глянул на Ирину:
– Сколько она выпила?
– Я что, считала, что ли? Да немного, в принципе, наверное, жара на нее так подействовала…
– Живо чаю! Много и очень крепкого!
– Ух ты, красавчик какой, – кривлялась Паулина. – Где-то я тебя уже видела. Только чур, я первая!
Ира вышла в кухню. Поставила на огонь чайник. Подготовила заварник и крупнолистовой чай. Чайник нагревался медленно – слишком много налила воды, отметила про себя Ирина. Тем временем достала непочатую пачку печенья.
Из гостиной донесся напряженный голос Вадима:
– Ира, ты скоро?
Ответила, не выходя из кухни, только оглянулась, чтобы лучше было слышно:
– Минут пять еще, чайник никак не закипает.
Обертка от печенья отчаянно шуршала. К этому грохоту добавился шум нагревающегося чайника. Вадим что-то прокричал, но Ира не разобрала. Раскладывала печенье, спеша поскорее подать чай странной гостье. Приготовила чашки, поставила на поднос сахарницу, печенье, и понесла в комнату.
Представшую ее взору картину она не забудет уже никогда. Вадим сидел в кресле, боком к кухне. Глаза его были сладострастно прикрыты, на лице читалось блаженство. Между его ног на коленях стояла Паулина. На ее голове лежали руки Вадима…
Поднос накренился и чашки вместе с сахарницей и печеньем посыпались на пол. Сыпалось все это ассорти так долго и шумно, словно кто-то невидимый прокручивал на замедленной скорости отснятые кадры фильма ужасов. Голос у Ирины отнялся, тело застыло, и она стояла, как вкопанная, не в силах отвести округлившихся от ужаса глаз от отвратительной картины.
Услышав грохот, Вадим открыл глаза, скривился, как от боли:
– Не смотри! Уйди отсюда, прошу тебя, уйди…
* * *
Ирина замолчала, вновь переживая кошмар. Земля в иллюминаторе неумолимо приближалась. Вот уже завиднелась посадочная полоса. Сначала узкая, как тропка, она на глазах становилась все шире.
– Это уже потом он мне все рассказал. Я не хотела слушать, мне было противно, но он никак не уходил и не уходил. Терзал на коленях чемодан с вещами, и никак не хотел замолчать. Меня тошнило от подробностей, а он все говорил и говорил. Объяснял мне, как он любит мать. И в сыновнем, и в мужском смысле. Оправдывал ее, говорил, что она даже не догадывается ни о чем. Доказывал, что его мать – идеальная женщина, но страдает алкогольной амнезией. Я не знаю, правда ли это, бывает ли такое на самом деле. Но даже если это правда, даже если мать ничего не знает, это ведь ни капельки не оправдывает его! Ведь он самым подлым образом на протяжении нескольких лет насилует собственную мать! Это, наверное, еще хуже, чем если бы она все это знала. Вы понимаете, о чем я? Вы представляете, что было бы с Паулиной, узнай она правду о себе и о сыне? Она-то считает его идеальным, и даже не подозревает, как грязно он ее использует вот уже несколько лет. Или это ей заслуженная кара за ее дурость, за то, что втянула малолетнего мальчишку в свои игрища, оправдывая их заботой о красоте. Неужели она не догадывалась, какие чувства разрывали ребенка, когда она терлась о него голой грудью, когда заставляла смывать с себя сметану? Вы только представьте – женщина, мать заставляет своего сына мыть себя, совершенно обнаженную! Сметана – не одежда! Голыми руками ребенок елозил по ее голой груди, по ее голому заду! Чего она ждала от такого воспитания? И тем не менее мне ее безумно жалко: вряд ли она ожидала такого к себе потребительского отношения. Но ведь он-то называет это любовью! В высоком моральном смысле! Мораль! Насиловать несколько лет фактически бессознательную мать и кричать о морали, о высокой сыновней любви…
– Вы не рассказали ей о том, что произошло?
Ирина вздохнула:
– Как я могла ей рассказать? Как? Прийти к ней в дом, и заявить, что сынок ею успешно пользуется в своих низменных целях. Да разве она такому поверит! Да даже если бы поверила! Это же убьет ее. Я бесконечно далека от каких-либо позитивных чувств к ней, но убивать ее или смертельно ранить я не хочу. Не могу. Вот скажите, вы бы сказали?
– Не знаю, – искренне засомневалась попутчица. – Не знаю… С одной стороны, вроде надо сказать, нужно же прекратить этот кошмар. С другой – я очень хорошо вас понимаю. Действительно, как ей такое скажешь.
Лайнер тяжело коснулся посадочной полосы, подпрыгнул пару раз и уверенно покатился по бетонке.
– Вы уж простите, что вылила на вас столько грязи. Мне ведь, как оказалось, даже поговорить не с кем. Ни друзей, ни родных… Да и разве такое близким расскажешь? Чревато будущими осложнениями: нет-нет, да и напомнят. Впрочем, как я уже сказала, напоминать мне будет абсолютно некому. Разве только вы. Но вы меня не знаете, я вас тоже не знаю. Да и недолго мне осталось. Я ведь не просто так лечу. Я все для себя решила. Хочу увидеть любимых в последний раз. Они ведь наверняка сейчас в Ялте. Как обычно, всей семьей. Только вместо меня теперь другая. Я не буду им мешать, я только посмотрю на них, налюбуюсь ими напоследок. А потом, когда они уедут, я останусь здесь. Навсегда…
И так она произнесла это «навсегда», что любому, самому тупому слушателю стало бы понятно, какой смысл она вложила в это слово.
– Ну зачем же так сразу «навсегда», – попыталась было подкорректировать ситуацию попутчица. – Еще не все потеряно. Вот вы расскажите все это Сергею. Если он вас любит, то все поймет и простит.
Ира усмехнулась:
– Правильнее будет сказать в прошедшем времени: любил. Да, он действительно меня любил, но я сама, своими собственными руками все разрушила. И я уже не виню Ларочку – я сама во всем виновата. В конце концов, она меня всего-навсего провоцировала, а принимала решения и совершала отвратительные поступки я сама. Да и не смогу я ему это сказать. И никому другому не смогла бы. Ни единому человеку, кто знает меня. Как же, Ирина Русакова, вся такая положительная, такая сильная, уверенная в себе, такая правильная, и вдруг самостоятельно, собственной дуростью пустила жизнь под откос? Нет, мне легче умереть, чем предстать перед ним такой глупой и беспомощной. Так что все решено. Спасибо вам за попытку спасти меня от последнего необдуманного шага. Да и не вздумайте винить себя в моей смерти – вы-то тут при чем, вы ведь абсолютно посторонний мне человек. Да и, положа руку на сердце, я и так задержалась на этом свете. Я должна была умереть восемнадцатого апреля прошлого года, так что уже год и три месяца я, можно сказать, живу на этом свете обманом. Искренне спасибо, что выслушали, мне хоть чуточку стало легче. Теперь я без проблем продержусь недельку на плаву. А потом у них закончится отпуск и… у меня закончатся земные страдания.
Ира улыбнулась сквозь навернувшиеся слезы и начала собираться. Взяла с колен книгу, всю дорогу так и пролежавшую на них, хотела было уложить ее в дорожный саквояж. Но попутчица вдруг ловко выхватила ее из Ириных рук, открыла титульный лист. Откуда-то в ее руках возникла ручка. Красивым размашистым почерком написала:
«С искренними пожеланиями счастья и благодарностью за интересную историю. Обещаю превратить Ваш печальный опыт в науку для остальных дам. Следите за новинками: Ваша история в моем изложении будет называться «Побочный эффект, или умей сказать «Нет!»». И никогда не говорите «никогда» – вот увидите, все еще будет хорошо! Тамара Никольская»
С улыбкой протянула книгу Ирине.
Та, прочитав ровные строчки, лишь ахнула:
– Вы?… Так вот почему мне все время казалось, что я вас знаю! – перевернула книгу – так и есть, на обратной стороне красовалось фото попутчицы. И ведь сколько раз вглядывалась Ира в это лицо, сколько раз обращалась к любимой писательнице за советом – естественно, мысленно. Но это знакомого человека легко узнать на фотографии. Незнакомого же по фото – совсем непросто.
Никольская мило улыбнулась:
– Удачи вам, дорогая! Если угодно, примите совет: поговорите с мужем!
– В этом уже нет необходимости, – раздался голос с переднего сиденья.
У Ирины внутри все застыло: не может быть, этого не может быть. Он же…
– Ты же давно…
Ее голос предательски запнулся на полуслове, не сумев преодолеть противный комок в горле. Ирина чуть откашлялась и повторила попытку:
– … должен быть в Ялте, – Она смертельно побледнела, поняв, в какое жуткое положение попала. Господи, зачем же она так разоткровенничалась?!! – Ты что, все слышал?
Сергей уже стоял рядом с ее креслом и тянул к себе ее саквояж:
– Ты же знаешь, я никогда не подслушиваю! Но вообще-то кое-что уловил, извини…
Ира смотрела на него испуганно снизу вверх, не в состоянии больше вымолвить ни словечка. Никольская с нескрываемым любопытством следила за развитием событий.
Ира с ужасом пыталась разглядеть второго пассажира переднего ряда. Сергей понял ее с полувзгляда:
– Не бойся, Маришки здесь нет. Она уже две недели отдыхает с бойфрендом. Вырос ребенок, мы ей теперь не нужны. Но я не выдержал и решил нагрянуть, проверить, чем они там занимаются. Нагрянем вместе – то-то для Маринки сюрприз будет!
– Она не поймет, – прошептала Ира сквозь слезы. – Она никогда меня не простит…
– Поймет, она у нас уже совсем взрослая.
Ира боялась задать самый последний, самый важный вопрос. Набрала побольше воздуха в грудь, и на выдохе спросила:
– А Женя?
Улыбка ненадолго покинула лицо Сергея:
– А Женя давно в прошлом. Я обнаружил у нее один маленький, но очень большой недостаток: она не смогла стать тобой.
– Вы развелись, – с надеждой вздохнула Ирина.
– Да мы и не женились. И давай больше об этом не говорить, а? Ни о моем прошлом, ни о твоем. Мы оба наделали ошибок, оба виноваты. Я, дурак, знал ведь твою подлую Лариску, а почему-то поверил. Так что виноват не меньше тебя. Забыли, ладно? Идем скорее, Маринка ждет.
Довольная финалом, Никольская продолжала сидеть в кресле, мечтательно улыбаясь с закрытыми глазами.
Послесловие
На следующий же день после известных событий Вадим уволился. Еще несколько раз Ирине довелось с ним увидеться, чтобы расстаться официально. Вот тут она и оценила его некоторое благородство: спасибо, что перед свадьбой настоял на брачном контракте, так что Ирине удалось хотя бы в материальном плане не пострадать от этого брака. Последний раз они встретились в том же районном загсе, где и зарегистрировали не так давно отношения. Больше в Ириной жизни он не появлялся.
Один раз позвонила Паулина, интересовалась причиной развода. Мол, мальчик очень переживает, ему так плохо, даже пристрастился к бутылке: выпивает чуть не каждый вечер, бедняга, правда, понемногу. Ира так и не смогла ей ничего рассказать.
Софья Витальевна умерла в самом конце лета. Трест выделил своей сотруднице материальную помощь – в наше время похороны, увы, весьма недешевое «удовольствие». Сразу после этого печального события в тресте сократили должность заместителя генерального директора по экономике, таким образом должность секретаря несуществующей штатной единицы сокращалась автоматически с выплатой бывшей сотруднице выходного пособия в размере трехмесячного оклада. Той же датой в штатном расписании появилась новая должность – финансовый директор, на которую была назначена Русакова Ирина Станиславовна с некоторым увеличением зарплаты. Теперь ей оставалось только подыскать себе нового секретаря.
Зеленый телефонный аппарат с красной трубкой выглядел нелепо на потертом ковре. Примостившись рядом с ним, Ларочка размазывала слезы по щекам и выкрикивала в пространство ругательства.
– Старая сука! Почему ты умерла?! Я могла бы оформить себе пособие по уходу за инвалидом. А ты взяла и сдохла в самый неподходящий момент! И никого нет рядом! Никого!
Периодически она хватала трубку молчащего телефона и кричала в нее:
– На кой хрен мне этот телефон, если мне никто никогда не звонит, а сама я могу позвонить разве что в справочное бюро! Старая ты сука, предательница…

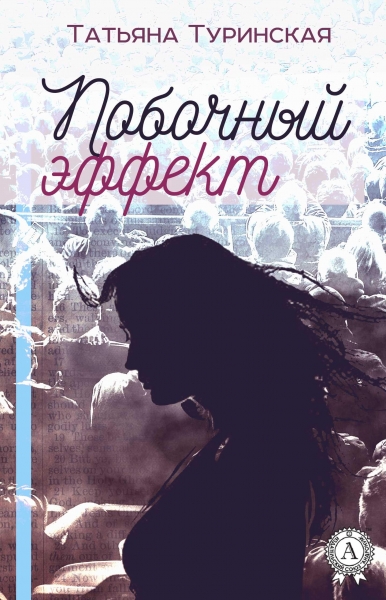




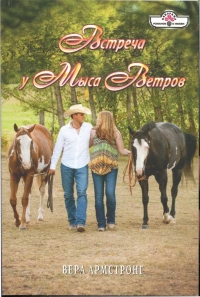


Комментарии к книге «Побочный эффект», Татьяна Туринская
Всего 0 комментариев