Андрей Лазарчук САД ОГНЕЙ
Модуль погасил орбитальную скорость на границе атмосферы и теперь падал вертикально, притормаживая себя малой тягой вспомогательных двигателей. Такая посадка называлась энергетической — в отличие от баллистической и аэродинамической, — и требовала сумасшедшего расхода горючего; зато корпус корабля не нагревался, телекамеры не слепили и весь процесс можно было наблюдать от начала до конца.
На высоте сорока километров модуль выбросил два аэростатных зонда, снабженных длиннофокусными телепередатчиками, и теперь на двенадцати небольших экранах было видно все, что происходит в пространстве вокруг модуля, а на большом обзорном экране сам модуль в дрожащем мареве проваливался вниз, к зеленому полумесяцу атолла, окруженному неправдоподобно-синим океаном.
Когда до поверхности оставалось двенадцать километров, появились первые птицы. Черные, похожие на земных ворон, они налетели со всех сторон сразу. Одни попадали в струи двигателей и мгновенно превращались в клубки белого пламени, другие достигали цели, и вскоре некоторые камеры ослепли, а на экранах остальных появились красные брызги и размытые, не в фокусе, перья. Птиц становилось все больше, воздух кишел ими, и сверху видно было уже только стаю: громадное шевелящееся пятно, черную кляксу, непрерывно меняющую очертания…
Нижние телекамеры, защищенные двигателями, не пострадали, и автопилот легко посадил модуль точно в назначенном месте. Птицы сразу исчезли. Отстрелялись заслонки объективов, телакамеры прозрели. На экранах кругового обзора возникла панорама атолла: рощи и отдельно стоящие деревья, чем-то напоминающие земные кипарисы, мягкая перистая трава, огромные красные, лиловые и черные цветы, неподвижный и блестящий, словно политый маслом, океан… Температура воздуха — плюс двадцать восемь, влажность — семьдесят три процента, скорость ветра — ноль… Атмосферное давление, освещенность, радиоактивность, сейсмичность, ускорение свободного падения, напряженность магнитного поля, состав атмосферы и еще два с лишним десятка параметров… Все в норме, если понятие «норма» подходит к поистине райским условиям.
— Красота, — сказал Лепешев. — Курорт, а?
— Куро-орт… — протянул Вебер. — Посмотришь сейчас, что тут делаться будет. Пока, правда, можно и кофейку попить, пятнадцать минут у нас есть. Хочешь кофе?
— Не хочется что-то, — сказал Лепешев. — Хорошего у вас все равно нет, а барахла не хочется.
— Дело твое, — сказал Вебер. — А я пойду сварю.
Он вышел из рубки, а Лепешев устроился поудобнее и продолжал смотреть на экраны. Зря отказался, подумал он. Подумаешь, знаток и ценитель. Сноб ты, вот и все. Нет, все нормально, мозги пока и без допинга работают добротно, пощады не просят — тренировка — но вот в глазах уже рябит от экранов, да и перелет выдался нелегкий, часа два всего и удалось поспать… Побалую себя, решил он, и ткнул пальцем в кнопку интеркома.
— Эрни, — сказал он, — я передумал. Свари и на мою долю.
— До чего же я тебя знаю, — вздохнул интерком голосом Вебера.
Через минуту Вебер принес большой кофейник и сахарницу, разлил кофе по чашкам и посмотрел на часы.
— Скоро начнется, — сказал он.
— А что будет на этот раз? — спросил Лепешев.
Вебер отхлебнул кофе, поморщился и добавил сахару. — Увидишь, сказал он.
Кофе был действительно посредственный, из сортов, выдерживающих длительное хранение, но лишенных надлежащего вкуса и аромата. А может быть, он просто выдохся. А может быть, это был вовсе не кофе, а, скажем, молотые семена растения ржанки с планеты Белая Королева. На вкус напитки могли различить только опытные дегустаторы, да и те, бывало, ошибались.
На восемнадцатой минуте трава вокруг модуля заволновалась, по ней, как по воде, пробежали концентрические волны, и в тот же момент на мониторе замигала надпись «Ускорение свободного падения, м/сек2», и цифры напротив нее переместились: вместо 8,2 появились 8,3. Потом они стали меняться все быстрее и быстрее: 8,6–9,0 — 11,5 — 14,0… Поникла и легла на землю трава, пропали цветы, на деревьях стали опускаться и обламываться ветви, а тяжесть нарастала: 48,0 — 76,0 — 125,0… Стоящие неподалеку деревья повалились в сторону модуля, а потом изображение сдвинулось и перекосилось — подломились опоры. Один за другим погасли экраны, на мониторе появилось число 1850,0, а потом все исчезло и замигало: «Нет информации — нет информации, нет информации…» С аэростата было видно, как модуль, похожий теперь на приколотого булавкой жука, вдавливается в землю, и сама земля тоже вдавливается в себя саму, образуя гигантскую воронку, кратер, туда рванулась вода океана, и в этот момент не выдержали баки. Пятнадцать тонн жидкого ароматного водорода белым пламенем затопили дно воронки, скрыв под собой остатки корабля. Потом по глазам ударила ослепительная вспышка, и экран померк.
— Вот и все, — сказал Вебер, вставая, — теперь долго ничего видно не будет. Сейчас я перемотаю… Это через два часа.
Ракурс изображения был совсем иной, телезонд отнесло уже довольно далеко. На полнеба стояло темно-багровое зарево. Там, где был атолл, океан бушевал, и прямо из воды, вздымая облака пара, тугими толчками била вверх река огня, летели, как искры из разворошенного костра, вулканические бомбы, и расползалась широко-широко, расслаиваясь пластами, тяжелая грязно-серая туча…
— И так две недели, — сказал Вебер. — Сейчас там вулканический остров, дымок иногда идет, но больших извержений больше нет.
— Н-да… — Лепешев заложил руку за голову и потянулся. — И что же ты сам думаешь по этому поводу?
— Не знаю, — сказал Вебер. — Лезет в голову какая-то ерунда.
— А конкретнее?
— Думаю, что мы с ними каким-то образом не понимаем друг друга.
— Ну, брат, — разочарованно сказал Лепешев. — Об этом, Эрни, догадываются все на свете ежи и даже некоторые ксенологи. А вот что ты хотел сказать, когда говорил «каким-то образом»?
— Цепляешься к словам, Женечка… Допустим, они играют с нами. Правила игры они нам изложили, только мы не поняли, что это игра, и принимаем все слишком всерьез. Или скажем, разыгрывают нас. Юмор у них такой. Хлебом их не корми, дай пошутить над инопланетниками.
— По-моему, немного громоздко для розыгрыша, — сказал Лепешев. — И вообще какой-то плоский юмор.
— Так то по-твоему, — резонно возразил Вебер. — Может быть, мы другого не понимаем. А что касается громоздкости, так это по нашим масштабам громоздко, а по их — в самый раз.
— Ты всерьез так считаешь? — удивился Лепешев.
— Не знаю, — сказал Вебер. — Ни черта я теперь не знаю. Сейчас мне думается так. Через десять минут я придумаю что-нибудь похлеще. Не думай, что я один — мы все тут растерялись…
— На Земле та же картина, — сказал Лепешев. — Все пребывают в растерянности. Весь Совет в растерянности. Ты видел когда-нибудь Совет в растерянности? Страшное зрелище…
— Знаешь что, Женя, — сказал Вебер, — отдохни-ка ты сегодня. Поваляйся, подумай. Альбомы полистай, у тебя в каюте лежат. Терминал туда поставили — если понадобится… Дурацкое все-таки у нас положение: информации море, а ясности нет никакой.
В каюте Лепешев погасил свет и подошел к иллюминатору. Тяжесть на станции была ориентирована так, что планета, казалось, нависает сверху прекрасным бело-голубым куполом, зонтом, прикрывающим станцию и людей от мрака и холода глубокого космоса. Лепешев за свою жизнь видел вот так, вблизи, не менее трех десятков самых разных планет, но никак не мог к этому зрелищу привыкнуть, как нельзя привыкнуть, например, к Сикстинской Мадонне… И еще он в который уже раз попытался представить себе, что чувствовали, что испытывали те, кто впервые со стороны увидели сначала свою, а потом и иные планеты: Гагарин, Борман, Сайков, — и в который раз не смог…
Планета Эгле, подумал он. Название хорошее. Эгле — королева ужей. Интересно, кто это придумал? Королева ужей. Красивая и грустная литовская сказка. Надо найти и перечитать. Было бы забавно, если бы в названии оказался ключ к этой загадке…
Он пытался внутренне расслабиться, пустить воображение «попастись», но пока это не получалось — слишком уж сильным было напряжение последних недель…
…Литва — родина Чюрлениса, доброго гения, понятого — да и понятого ли? — только многие годы спустя после его смерти. Гения, который, подобно богам древности, сотворил мир. И вот в сорока парсеках от Земли натыкаешься на что-то такое, что заставляет вспомнить о Чюрленисе…
— Двадцать шестого мая двести сорок четвертого года автоматический зонд «Коралл ЕР» сообщил, что единственная планета звезды спектрального класса К4 обозначенной в Генеральном каталоге Нисса номером 28182667/34, имеет аномально высокий фон излучения в диапазоне деци- и сантиметровых волн, и прислал достаточно длинную запись этого фона. Всего несколько дней понадобилось, чтобы разложить его на частоты и расшифровать сигналы, оказавшиеся, как и предполагалось, телепередачами. Да, вздохнул про себя Лепешев, на это понадобилось всего несколько дней…
Он был в числе первых, кто эти передачи смотрел. До сих пор он сохранил в себе то ощущение изначального бессилия найти какой-нибудь смысл в бешено-калейдоскопической смене картин, лиц, орнаментов, геометрических фигур, пространственных построений, и еще массы чего-то, что не имело ни названия, ни аналогов, причем все это непрерывно перетекало из одного в другое, вырастая, неимоверно усложняясь, нагромождаясь до полного хаоса, гипнотизируя, затягивая в себя, как воронка водоворота… Редко кому удавалось выдержать это более трех-пяти минут. Он выдержал. Имело ли это смысл — уже другой вопрос.
Конечно, это была речь. Речь зрительных образов. Ничего подобного не знали ни на Земле, ни на других обитаемых планетах. Не символов, а именно образов. «Слишком сложная конкретика, недоступная нашему убогому абстрактному мышлению», — пытался поначалу шутить кто-то. Только поначалу, еще до того, как несколько ожесточенных штурмов, предпринятых совместно Лингвистами, экзолингвистами, ксенологами, логиками, структуралистами, лингвотопологами и прочими, при поддержке компьютерного парка всей Земли, к успеху не привели. Было создано несколько сот вариантов расшифровки записей, от самых примитивных до шизофренически-причудливых, и все они не выдерживали ни критики, ни проверки; причем чем дальше, тем нелепее они становились. На какое-то время проблема эглеанской речи заняла место, исконно принадлежавшее великой теореме Ферма… Наконец, многоуважаемый престарелый Мак-Маган подвел черту под этим этапом исследований: общение посредством передачи зрительных образов — то, которое используют эглеанцы — могло развиться лишь у существ, обладающих телепатией; наличие телепатии, в свою очередь, отмело необходимость в развитии — более того, в возникновении, — второй сигнальной системы; следовательно, ни о каком переводе не может быть и речи, поскольку переводить, собственно, не с чего: перед нами не язык (в любом смысле этого слова), а поток сознания в его первозданной форме. Понятие языка же эглеанцам абсолютно чуждо. А поскольку мы не обладаем телепатией и вообще не знаем, что это такое (тут мэтр допустил полемическое преувеличение, но незначительное), то положение выглядит крайне безнадежным: наши цивилизации есть и будут немы по отношению друг к другу. Что можно предпринять в этой ситуации, он не знает — более того, он полагает, что предпринять ничего нельзя, настолько далеко зашло расхождение в развитии самих принципов общения.
Авторитет Мак-Магана был настолько велик, что ряды штурмующих неприступные эглеанские бастионы поредели по крайней мере на порядок. Появился даже термин: «запрет Мак-Магана», которым прикрывались отступающие. В конце концов на культуре планеты Эгле свет клином не сошелся.
В этой обстановке очень символичным оказалось издание «Трудов по проблеме Эгле». Великолепный шестидесятитомник вышел тиражом в три экземпляра — именно столько заявок на него поступило. Взлет расцвет и падение массового интереса к «проблеме Эгле» были почти мгновенными: на все ушло менее трех лет.
Сохранившие верность знаменам со временем разбились на две группы, чтобы рыть туннель с двух концов. Постулат, выдвинутый Мак-Маганом, они принимали, но делали из него совсем иные выводы.
Одна из групп, собравшаяся в Принстонском университете вокруг очень сильного киберолога Роберта Андроникаса, пыталась сконструировать и запрограммировать («воспитать в лучших эглеанских традициях», — говорил Роберт) компьютер-посредник. Работа началась бодро, но затем, как обычно бывает, стала вязнуть в частностях, важных и трудоемких мелочах; в делах такого масштаба всегда появляется масса ответвлений, которые приходится или хочется разрабатывать, и Роберту требовалось немало усилий, чтобы как-то удерживать правильный курс. Впрочем, как человек трезвомыслящий, он понимал, что все это — дело по крайней мере десятилетия. «Ах, Джин, сказал он однажды Лепешеву, забрав бороду в кулак и глядя поверх его головы своими греческими глазами. — В какую бездонную пасть мы засунули свои головы!»
Вторая Ереванская группа, где верховодили Рафаэлянц и Вебер, занималась непосредственным контактом. Идея эта, естественно, лежала на поверхности, но почти два года ушло на то, чтобы убедить всех, кого следовало, в желательности, целесообразности, допустимости, перспективности и безопасности такого контакта; всех убедить не удалось слишком свежи еще были впечатления от «кукольного театра» Земли ван Фландерна, когда попытка землян форсировать контакт едва не привела к гибели этой странной цивилизации, — поэтому вопрос был вынесен на рассмотрение Большого Совета Академии и прошел большинством всего в два голоса. Не сразу, но довольно скоро в систему Эгле был заброшен старый лайнер «Антарес», который стал орбитальной станцией. И вот три с лишним года идет диалог «на пальцах», за это время многое успели узнать и многое сообщили о себе, а вот понять — понять вряд ли удалось, и неизвестно, какое мнение о нас создалось у эглеанцев…
Станция прошла над линией терминатора и скоро должна была войти в тень. Ночная сторона планеты была усеяна огоньками; это было красиво и празднично — будто ничего не случилось… Лепешев отвернулся от иллюминатора и сел в кресло. Трудно все-таки сохранять объективность, когда погибают близкие люди.
Кстати, о людях…
Эглеанцы оказались не просто гуманоидами — это не редкость, — а именно людьми, причем людьми красивыми. Миниатюрнее землян, они отличались утонченным изяществом, каким-то колдовским, иного слова не подберешь, слиянием хрупкости и силы. Индивидуальные различия у них были не так велики, как у землян, возможно, потому, что процесс тотального смещения рас и племен, только начавшийся на Земле, здесь уже давно завершился. Типичным эглеанцем было стройное стремительное существо со смуглой, иногда палевого или оливкового оттенка, кожей, с европейского типа лицом, большими темными глазами и прямыми или волнистыми волосами любого вообразимого цвета.
Сразу же, как только радиоконтакт стал двусторонним, Рафаэлянц показал эглеанцам картинки, полученные с телезондов. В ответ они продублировали эти картинки, а потом продолжили их другими, снятыми в том же ракурсе. Все поняли это как разрешение продолжать наблюдение. Кроме того, эглеанцы сами стали показывать длинные сцены из своей жизни, а в одно прекрасное утро разложили под открытым небом целую картинную галерею.
С этой галереи начался новый виток контакта. К работе подключились художники, искусствоведы, историки. Кто-то из них, развивая тезис Мак-Магана, предположил, что в культуре Эгле картины должны занимать примерно то же место, которое в нашей занимают пословицы или афоризмы, и не удастся ли нам самим создать что-нибудь такое, какой-нибудь цикл, который окажется посланием, письмом…
Лепешев работал в то время один, используя старый, как мир, метод «погружения». Он на целые недели изолировался от всего и всех и смотрел записи эглеанских передач: и старых, для внутреннего пользования, и новых, адаптированных для землян. Он старался забыть себя, стереть свою индивидуальность и принять, впитать то новое, непонятное, чужое, но не чуждое, чем-то неуловимо близкое, что текло на него с экрана; у него выработалось и закрепилось ощущение прозрачности перегородки, отделяющей его от смысла увиденного, и перегородка эта то таяла и истончалась, то становилась холодной и мутной; а несколько раз ему казалось, что он уже на грани понимания, что еще немного, и перегородка рухнет, исчезнет, и он увидит все новыми глазами и все постигнет, но каждый раз сознание не выдерживало и отключалось, а потом приходилось все Начинать сначала…
И все-таки, наверное, он ближе всех подошел к заветной черте, потому что, увидев картины и услышав от прилетевшего ненадолго на Землю Вебера об идее художников, сказал: «Покажите им Чюрлениса». Потому что почувствовал идущую где-то в глубине ниточку, связывающую творения безымянных мастеров далекой планеты и застенчивого литовца. Потому что именно после демонстрации работ Чюрлениса эглеанцы проявили, наконец, настоящий интерес к землянам, а до этого была, скорее, заботливая и вежливая снисходительность…
Теперь эглеанцы хотели все больше знать о Земле, о людях, их истории, жизни, искусстве… Рафаэлянц, на которого работали все музеи, архивы, библиотеки и галереи, не успевал монтировать материал. Стихийно формировались общие понятия, и Лепешев хорошо запомнил то изумление и даже растерянность эглеанцев, когда с помощью простейших символов им разъяснили понятие языка и его роль в мышлении землян. Но еще большее впечатление на них произвела музыка…
А на нас?
Пожалуй, две вещи. Во-первых, изобразительное искусство в самом широком понимании этого слова. Сюда же, пожалуй, можно приплюсовать эглеанскую эстетику, хотя это вопрос темный. Но восприняли мы много, и даже чересчур, и все как-то по вершкам: модельеры, конечно, вопят от восторга, три года уже, как вопят; архитекторы и дизайнеры, те поспокойнее, те просто впали в энтузиазм и работают днем и ночью — и неплохо, говорят, получается; ну, художников и скульпторов стало раз в десять больше, и все творят в эглеанском стиле, и все норовят представить свои эпохалки на суд самих эглеанцев хорошо хоть, что Раф проявил себя таким беспощадным цензором… Это, во-первых.
А, во-вторых, и, конечно, в главных — это отношение эглеанцев с собственной планетой. Мы на Земле до сих пор не сумели достичь желанного равновесия между первой и второй природой и с точки зрения наших соседей по планете остались видом, неожиданно и катастрофически размножившимся и расширившим рамки своей экологической ниши — за счет всех прочих. Эглеанцы таких проблем не знали, а если и знали когда-то, то вполне успели забыть благо, срок существования их цивилизации приближается к ста тысячам земных лет. В космос эглеанцы не выходили и не стремились, и в связи с этим многие ксенологи считали их путь тупиковым, и Лепешев, всегда испытывавший гордость за космические успехи человечества, готов был с ними согласиться, если бы все, что он видел, не было бы так непохоже на тупик. До чего стойкая штука — антропоцентрические стереотипы… Пожалуй, все-таки придется вернуть к жизни старую, подробно разработанную, но отринутую за неподтвержденностью концепцию интравиртного развития цивилизаций — такого развития, при котором вектор прогресса направлен только внутрь, на самоусовершенствование. Но если это так — если это действительно так, — то просто невозможно представить себе, что может дать полноценный контакт с такой цивилизацией…
Взять, к примеру, уже упомянутое равновесие.
И правда, все, что видели люди, имело характер идиллии с отчетливым привкусом мистики. Промышленности — в известном землянам смысле — на планете не было никакой, а все необходимое в обиходе извлекалось из бесчисленных круглых крохотных озер, наполненных будто бы молоком. Небольшие забавные домики, в которых жило большинство эглеанцев, в полном смысле слова вырастали из земли. На большие расстояния эглеанцы перемещались в прозрачных и явно безмоторных капсулах, бешено носившихся над самой землей, а на небольшие просто летели без всяких технических приспособлений, и Вебер вполне серьезно утверждал, что их переносит ветер. И так далее.
С другой стороны, до сих пор не удалось уяснить, чем же, собственно, занимаются массы эглеанцев. Готовые понятия «работают», «отдыхают», «развлекаются», «отправляют обряды» здесь не годились. То есть, возможно, все это и было, но отличить одно от другого…
Жанровая сцена: Четверо эглеанцев, двое мужчин и две женщины, садятся вокруг низкого круглого стола, кладут на него руки и замирают. Через минуту стол становится зеркальным, потом в центре его появляется вздутие, вырастает до размера человеческой головы, отрывается от стола и повисает в воздухе, наподобие мыльного пузыря, и при этом, оставаясь зеркальным, меняет цвет: от вишневого до ярко-синего и обратно. Когда таких пузырей становится много, люди встают и уходят, каждый в отдельную дверь. Что это: производственный процесс, игра, род искусства или сексуальный акт, как всерьез доказывал Лепешеву один его знакомый. Так или иначе, но сюжет этот эглеанцы повторяли в своих передачах довольно часто. Конечно, это частность, но ведь на таком примерно уровне и остальные наши знания о них. Это уже не говоря о лесах, вырастающих за одну ночь, о циклонах, движущихся с точностью часового механизма, о световых феериях, охватывающих иногда полпланеты, о странных циклопических сооружениях, мгновенно возникающих и так же мгновенно исчезающих… И об инциденте.
Так что за три года наблюдений и двустороннего радиоконтакта ясности не прибавилось и даже убавилось — если это вообще возможно. Ясно только одно: культура и цивилизация Эгле развивались из других семян, по иным законам и принципам и шла другими путями и к другим целям по сравнению с культурой и цивилизацией Земли и прочих известных населенных планет. Никто не мог с уверенностью сказать, какой у эглеанцев социальный строй и есть ли он вообще, какие перспективы развития и возможно ли в принципе конструктивное сотрудничество с ними — а если возможно, то что мы можем им дать.
К началу четвертого года радиоконтакта, когда, с одной стороны, казалось, что основные, принципиальные трудности взаимопонимания вот-вот будут преодолены, а с другой — заметно ослаб поток свежей информации и потребовался поиск новых общих тем. Академия приняла решение о территориальном контакте.
Тридцатого декабря двести сорок девятого года посадочный модуль «Антареса», имея на борту ксенологов Григория Рафаэлянца и Веронику Гордиенко и пилота Юрия Стасова, совершил посадку в заранее согласованном с эглеанцами месте. На высоте десяти километров модуль подвергся нападению огромного количества птиц, проводивших его до самой поверхности. Люди могли выйти из корабля только через час после посадки, когда достаточно остынет обшивка. Но они не успели этого сделать: на сорок второй минуте страшной силы подземный толчок опрокинул модуль, а через десять минут сгустившиеся тучи полностью закрыли видимость. Около часа удавалось поддерживать неустойчивую радиосвязь — были очень сильные помехи — и Стасов сообщил, что снаружи бушует гроза и в корабль постоянно бьют молнии. Затем связь прервалась. Гроза продолжалась больше суток. На вызов Вебера не отвечали ни земляне, ни эглеанцы. Потом тучи рассеялись, и удалось увидеть то, что осталось от корабля.
Эглеанцы молчали четыре дня. Потом они дали картину погибшего модуля, а следом — долгое-долгое, бесконечно долгое изображение стоящей на коленях женщины в синей одежде и в синей повязке на глазах…
Дверь приоткрылась, и Вебер, чуть-чуть просунувшись в щель, спросил шепотом:
— Ты спишь?
— Заходи, — сказал Лепешев.
Вебер ощупью нашел второе кресло и сел.
— Знаешь, Эрни, — сказал Лепешев, — мне кажется, ты задал единственно возможный вопрос, на который можно ответить только отрицательно.
— «Правдиво ответить», хотел ты сказать, — поправил Вебер.
— Пожалуй, да, — сказал Лепешев. — Существенная разница.
— А если я тебе снюсь? — спросил Вебер.
Лепешев подумал, как надо ответить, если Вебер ему действительно снится, и ничего не придумал.
— Не знаю, — сказал он. — А ты-то чего не спишь?
— Не хочу, — сказал Вебер. — То есть хочу, но не могу. Мысли всякие посещают. О бренности бытия.
— Слушай, Эрни… — начал Лепешев. Мысль посетила и его. — Тебе не кажется, что эглеанцы не способны лгать?
— То есть? — насторожился Вебер.
— То есть принципиально не способны. С их телепатией.
Вебер подумал.
— Пожалуй, да, — сказал он. — Да, конечно. Естественно… А как же тогда вся эта ерунда?
— Не знаю… Но ведь пока ни в одной модели ситуации мы этот момент не учитывали. Все время забываем, что они не люди.
— Вот-вот. У нас тут один деятель уже доказывал, что под красивой маской скрывается чудовище, — сказал Вебер.
— Кто это?
— Ты его не знаешь.
— А санкций по отношению к чудовищу он еще не требовал? поинтересовался Лепешев.
— Пока нет. Но внутренне он к этому готов.
Они помолчали.
— Конечно, они не могут лгать, — сказал Лепешев. — Какая может быть ложь, если все твои мысли известны окружающим? И история их должна идти совсем по-другому.
— Эглеанской истории мы совсем не знаем, — сказал Вебер. — Сами они ничего конкретного не сообщают, а спросить как следует я не могу. То есть я спрашиваю, конечно, но как в вату. Может быть, у них нет понятия истории?
— Должно быть, — сказал Лепешев, — как без этого? Есть же у них картины явно в прошлом.
— Слушай, Женя, — сказал Вебер, — я знаю, что у тебя и нервы покрепче, чем у меня, и вообще ты старше и опытнее, и умнее…
— За что я тебя особенно люблю, — перебил его Лепешев, — так это за умение вовремя сказать тонкий комплимент.
— Не надо, я серьезно. Так вот, я их боюсь. Совершенно по-дурацки боюсь, как маленьким темноты боялся. Люблю и боюсь. Раньше больше любил, чем боялся…
— Это пройдет, — сказал Лепешев.
— Нет, — сказал Вебер. — Мы никогда не поймем их. Женя.
Стеклянная стена, вспомнил Лепешев. А вдруг это на самом деле безнадежно?.. Любим мы поныть, вот что.
— Я скоро, должно быть, начну соглашаться со всеми этими старцами из Совета, — продолжал Вебер. — Да и с Мак-Маганом тоже. Не по зубам орешек значит, свернуть экспедицию, уйти отсюда и никогда больше не показываться. И морду кривить — мол, зелен виноград. И забыть все… Я удивляюсь только, почему они именно тебя инспектировать прислали?
— Я сам удивляюсь. Мне намекнули, правда, что старцы считают меня самым нейтральным и самым компетентным в этом деле.
— Почетно… А в общем-то, они ничем не рискуют. Чего не сумели сделать за пять лет… Давай свет включим. Неуютно как-то без света.
Вебер зажег настольную лампу и с минуту сидел неподвижно, обхватив колено сцепленными руками, и Лепешев только сейчас, хотя и пробыл с ним сегодня весь день, работал и разговаривал, увидел, до чего же он устал и осунулся, до чего же он весь на излете и держится уже только на долге да еще, быть может, самолюбии — или что там у него вместо самолюбия…
— Ничего, Эрни, — сказал Лепешев. — Прорвемся.
— Как ты думаешь, — сказал Вебер, — Совет твердо решил сворачивать экспедицию? Твое мнение будет иметь вес?
— Вряд ли, — сказал Лепешев. — Я — это формальность. Посуди сам: одна цивилизация уничтожает один за другим три корабля другой цивилизации, при этом каждый раз будто бы разрешая и даже приглашая совершить посадку. Враждебные действия, нежелание контакта — все налицо. Следовательно, имевшие место переговоры по крайней мере одной из сторон были неправильно интерпретированы. Кстати, не сомневайся — уже появилась масса правильных интерпретаций.
— А я и не сомневаюсь, — сказал Вебер.
Он протянул руку и взял со стола один из лежащих там альбомов, положил его на колени и раскрыл. Перевернул несколько страниц, закрыл; потом рывком поднялся, шагнул к Лепешеву и, держа альбом перед ним, стал листать.
— Зачем они это сделали? — яростно шептал он, перебрасывая страницы. — Зачем? Как они могли это сделать? Ну, как они могли, скажи? Зачем им это?
В альбоме были репродукции эглеанских картин: золотисто-палевые пейзажи, похожие на пламя свечей деревья, замысловатые узоры переплетенных ветвей, воздушные мосты, водопады и фонтаны, прекрасные женщины, солнечные дни и торжественные закаты, легкие города, холмистые равнины и горы, цветы и птицы… В каждой картине, в каждом рисунке была та гениальная недоговоренность, которая превращает лист бумаги, покрытый типографской краской, в широко распахнутое окно в мир, каждый раз в новый, — и каждый раз в такой же прекрасный и безбрежный, как все остальные…
— …Зачем они так? Они ведь знали, что там люди. Они ведь знали…
— Может быть, это и не они, — сказал неожиданно для себя Лепешев.
— А кто? — горько усмехнулся Вебер. — Тайная оппозиция? Эти… массоны? Плоско и старо.
— Масоны, — поправил Лепешев. — Нет, конечно… Представь себе, что когда-то давно эглеанцы готовились к отражению вторжения. Была создана система, уничтожающая все корабли, садящиеся на планету… Или даже не так, а просто они выдрессировали соответствующим образом свою планетку. Но вторжение не состоялось, о системе забыли. А теперь она сработала. А?
— Неплохо? — сказал Вебер. — Жаль, что мне не пятнадцать лет.
— Жаль, — сказал Лепешев. — Я тоже чувствую, что ты многое успел утратить.
— Хотя почему бы и нет? — сказал Вебер. — Во всяком случае, в эту версию все укладывается. Если бы ее удалось доказать… Слушай, а может, Эгле — тоже планета Предтеч?
— В смысле, что сами эглеанцы — это уже цивилизация второго порядка?
— Естественно. Им же все-таки не миллион лет. Я к тому, что эта оборонительная система была оставлена предтечами, они такие штучки любили.
— Я тебя понял. В таком случае, эглеанцы вообще ничего про нее не знают. Но все равно надо попробовать спросить.
— Я спрошу. Подумаю вот, как лучше сформулировать, и спрошу, — сказал Вебер.
— И вообще, попробуй порасспросить их о прошлом, — сказал Лепешев. Нутром чую, там должно быть что-то интересное.
— Да, наверное, — согласился Вебер. — Корни должны быть там.
— Ты с этим запросом долго провозишься? — спросил Лепешев.
— Часа три минимум. — Вебер взглянул на часы. — Давай к половине шестого…
— В рубку или к тебе?
— Лучше сразу ко мне.
В дверях Вебер обернулся.
— Слушай, а при чем тогда эти птицы? — спросил он.
Лепешев пожал плечами. Про птиц он забыл.
На самом деле, причем тут птицы? Птицы в схему не укладываются.
Да в какую схему? Нет еще никакой схемы, голая эвристика при полном отсутствии логики.
На одной логике тоже далеко не уедешь, напомнил он себе. Компьютеры сдались.
А все-таки давай попробуем по порядку…
Итак: благоустроенная планета. Чертовски благоустроенная, даже эквивалент подобрать трудно. Подарок судьбы или рукоделие? Скорее последнее, но точно не знаем.
Уничтожили три корабля — после посадки на планету. Что это за оружие такое, которое дает врагу время на посадку? Да и не только на посадку: первый корабль был атакован через сорок две минуты, второй — через двадцать девять, третий — через восемнадцать. Нет, если это и оружие, то крайне несовершенное. Кроме того, механизм действия: в первом случае атмосферное электричество, во втором — солнечные лучи, сконцентрированные гигантской воздушной линзой, в третьем — гравитация. И существенный ущерб нанесен самой планете, об этом мы как-то забываем.
Да, и птицы. Странные такие птицы, раньше они на глаза не попадались. Эглеанцы любят изображать птиц, но таких я что-то не припомню…
Ну-ка, еще раз. Благоустроенная планета — корабли — птицы… Все? Оружие — несовершенное. Так. Сокращается время реакции. Так. Что еще? Королева Эгле, у которой сожгли змеиную шкуру…
Слово-то какое — реакция… неплохо оно в этом контексте звучит. Ну-ка, ну-ка! Нет, ничего. Пустота. Свинцовая пустота.
Значит, так, сказал себе Лепешев. Сейчас ты ляжешь и проспишь ровно три часа. Когда встанешь, ты уже будешь все знать. Ты и сейчас уже все знаешь, осталось только уяснить это…
Он лег, не раздеваясь, и мгновенно уснул.
Ему что-то снилось, ярко и беспорядочно, но, проснувшись, он сразу все забыл.
Голова была ясной, как после долгого отдыха, и как с ним всегда бывало на новых местах, он не сразу понял, где находится. Только сев и увидев два пустых кресла, горящую настольную лампу и открытые альбомы на журнальном столике, он все вспомнил.
Он подошел к иллюминатору. Станция опять проходила над дневной стороной планеты, и, вглядываясь в контуры материков и островов, напрягая зрение, чтобы различить города и сады, Лепешев испытывал острую горечь и тоску, потому что теперь он знал и понимал все, что произошло, и это знание и понимание навсегда закрывали для него и всех остальных людей дверь в этот чудесный мир…
Но разве можно так, чтобы — навсегда? И даже не потому, что это нам нужно, жизненно нужно, что не одну сотню лет человечество стремится рассмотреть себя со стороны, дать объективную оценку целям и методам, и вот, наконец, встретило обладателей искомой, такой далекой от нашей, точки зрения… Все равно мы вернемся сюда, не можем не вернуться, вернемся, вооруженные новыми знаниями и новым опытом, и начнем все сначала, — и, может быть, с большим успехом. Но это будет уже потом — и без меня…
Он встретил Вебера в коридоре — Вебер почти бежал навстречу, держа в вытянутой руке несколько фотографий.
— Вот посмотри, — возбужденно заговорил он, — посмотри, это совсем новое, это не то, что я спрашивал, но они никогда раньше…
Забавно, подумал Лепешев, разглядывая фотографии, только успел родить гипотезу, и сразу — подтверждение. Всегда бы так…
— Все правильно, Эрни, — сказал он вслух. — Так и должно было оказаться.
— Что именно? — спросил Вебер.
— Все. Это аллергия, понимаешь? У планеты аллергия на технику.
— У них же есть техника, — с ходу возразил Вебер.
— Ну, Эрни, какая же это техника?
Они посмотрели друг на друга, потом Вебер медленно проговорил:
— Вторая природа у них уничтожила первую и принялась за людей, а люди, значит, вымирать не захотели и создали третью… Ну да Организм. Меня все время тянуло сравнить Эгле с организмом — в прямом смысле. Сами эглеанцы — мозг, а все остальное — тело… Как же я сам не догадался! Они создали новую биосферу, очень сложный организм — специально для себя, по своей мерке. И не только биосферу, видимо вообще все переделали. И чтобы не иметь лишних хлопот, организм этот сделали полностью саморегулирующимся — да и как иначе? Естественно, снабдили его и иммунной системой, для борьбы с останками второй природы. Так что вполне понят но, откуда эта аллергия. И понятно, чти эглеанцы не могут и не смогут ничего с ней поделать…
Лепешев вернул ему фотографии: заводы с дымящими трубами, темные, тесные и грязные городские улицы, реки, превращенные в помойки, погибшие леса, обширные, до горизонта свалки…
— Как ты думаешь, — спросил, — сами они понимают, что произошло?
— А даже если и понимают? — вздохнул Вебер. — Можно укладывать чемоданы. По радио мы ни о чем новом уже не договоримся — выдохлись, твоя версия займет место в ряду прочих, и останется одна надежда на Андроникаса, а вот получится ли у него что-нибудь — это из области ворожбы… Закроют контакт — и все. Станцию законсервируют или уберут совсем, все разбредутся, и рванем мы с тобой на Нигрис, заниматься Предтечами. Хочешь заниматься Предтечами?
— Предтечами — это интересно, — сказал Лепешев. — Эрни, старик, а не Стыдно нам будет вот так — сматывать удочки?
— Мне уже стыдно, — сказал Вебер. — Еще как стыдно. А что?
— Да как тебе сказать… Есть одна мысль.
— Выкладывай.
— Подожди, дай додумать… С твоей точки зрения, много ли дал бы территориальный контакт?
— Много. Думаю, много больше, чем мы можем себе представить. Сам знаешь, я с Григорием во многом расходился, но тут он был прав: надо все увидеть вблизи, пощупать руками, повариться там в самой гуще — вот тогда можно понять, и договориться, и поработать вместе, и найти общие цели. А эти языковые сложности… Во всяком случае, Гришка бы смог разобраться. И ты бы смог. Да и я бы, наверное, смог тоже…
— Ясно, — сказал Лепешев. — Что ж, будем считать, что твое мнение было решающим.
— Не понял, — сказал Вебер.
— Аллергия к технике, — сказал Лепешев. — Не к людям.
— Ну и что?
— Парашют.
Вебер, присвистнув, выразительно покрутил пальцем у виска.
— Почему? — удивился Лепешев. — Вполне логично.
— Ну, знаешь, — вздохнул Вебер. — Никогда бы не подумал, что ты такой легкомысленный.
— Ты говоришь совсем как моя бабушка. «Ах, какой ты легкомысленный!» — передразнил его Лепешев. — Даже интонация та же.
— Нет, в самом деле, додумался… Ты бы еще по веревочке захотел спуститься. А как обратно? По бобовому стебельку? Как Мюнхгаузен?
— Думаю, для эглеанцев такой стебелек — не проблема. Эрни, дружище, мы с тобой одним выстрелом угрохаем всех зайцев в округе. Подтвердим теорию аллергии — раз. Установим территориальный контакт — два, не дадим свернуть экспедицию, и это, по-моему, самое главное сейчас. Хотя нет, все главное.
— Говоришь, подтвердим… А вдруг нет?
— Ты же в курсе моих обстоятельств. Не так уж многим я рискую.
— Всего лишь жизнью, — фыркнул Вебер.
— Моя жизнь — что хочу, то и делаю, — возразил Лепешев.
— Нет, — решительно сказал Вебер. — Хватит мне покойников на этой планете. Не пущу.
— Эрни, — проникновенно сказал Лепешев, — ты себе не представляешь, какие у меня полномочия. Я сам не знал, что такие бывают. Понимаешь, я имею право принимать на месте любые решения и любыми средствами настаивать на их выполнении. У меня даже где-то пистолет есть. Хочешь, поищу?
— Иди ты со своим пистолетом… шантажист. У меня, кстати, тоже есть. Вот как устроим на станции пальбу… Знаешь что, давай вместе, а? У меня этих парашютов…
— Нет, — сказал Лепешев, — я первый придумал, я первый и пойду. Тут уж, брат, приоритет мой.
— Может быть, как-нибудь по-другому? — сказал Вебер просительно. Боюсь я за тебя, Женька.
— Эрни, старик, ты знаешь, до чего я не люблю говорить красивые слова, — сказал Лепешев. — Но тут иначе не получится… Понимаешь, я всю жизнь мечтал об этом мире. Грезил им. Видел его во сне. С самого детства, честное слово. Понимаешь, я так хотел рисовать, а у меня никогда не получалось… Он весь остался во мне, этот мой мир. И вдруг оказалось, что он есть и наяву… Я очень хочу туда попасть. Никогда в жизни я не хотел ничего так, как этого.
Вебер долго молчал, опустив голову.
— Сволочь ты, — неожиданно сказал он. — Вечно ты думаешь только о себе…
Модуль погасил орбитальную скорость на границе атмосферы и падал теперь на планету вертикально, притормаживая себя малой тягой вспомогательных двигателей. На высоте пятнадцати километров двигатели смолкли, и перед Лепешевым распахнулся люк. «Давай!» — крикнул пилот. Лепешев в последний раз набрал полную грудь холодного, пахнущего металлом кислорода, на секунду замер, придерживаясь обеими руками за края люка, потом взялся за кольцо парашюта и, сильно оттолкнувшись, бросился в тугой, сразу обнявший его встречный поток…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


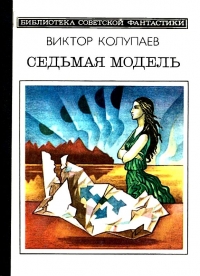

Комментарии к книге «Сад огней», Андрей Геннадьевич Лазарчук
Всего 0 комментариев