Ханна Ротшильд Баронесса. В поисках Ники, мятежницы из рода Ротшильдов
Джейкобу и Серене
Hannah Rothschild
The Baroness
The Search for Nica, the Rebellious Rothschild
Все права защищены.
Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.
Книга издана с любезного согласия автора и при содействии The Wylie Agency.
All rights reserved
Copyright © 2012, Hannah Rothschild
© Любовь Сумм, перевод, 2014
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (), 2014
Ника, Мексика, 1947 год
Ротшильды (неполное родословное древо)
1 Та, другая
Первым при мне упомянул о ней дедушка Виктор. Он пытался научить меня простенькому блюзу в двенадцать тактов, но мои одиннадцатилетние пальцы оказались неуклюжи и слишком малы.
– Ты как моя сестрица, – проворчал дед. – Любить ты джаз любишь, но учиться терпения нет.
– Какая сестрица? Мириам или Либерти? – спросила я, сделав вид, будто не услышала критику.
– Нет, та, другая.
– Какая – другая?
В тот же день я отыскала ее имя на родословном древе Ротшильдов: Панноника.
– Кто такая Панноника? – спросила я своего отца Джейкоба (как-никак она приходилась ему тетей).
– В семье ее звали Ника, а больше я ничего не знаю, – ответил он. – О ней никогда не говорят.
Наше огромное семейство рассеяно по всему свету, и отца, видимо, нисколько не смущало, что он мало что знает про одну из ближайших родственниц.
Но меня было уже не остановить. Я обратилась к своей двоюродной бабушке Мириам, сестре Ники, известному ученому, и та сообщила мне: «Ника живет в Нью-Йорке», а после захлопнулась, как устрица.
Еще один информатор добавил:
– Она – покровительница искусства, своего рода Медичи или Пегги Гуггенхайм джаза.
И перешептывания:
Ее прозвали «Баронессой джаза». Она живет с чернокожим пианистом. Во время войны летала на бомбардировщике «ланкастер». Тот наркоман, что прославился игрой на саксофоне, – Чарли Паркер – умер в ее апартаментах. У нее пятеро детей и триста шесть кошек. Семья порвала с ней (вовсе нет, запротестовал кто-то). Ей посвящено двадцать песен (поднимай выше, двадцать четыре). Она носилась по Пятой авеню наперегонки с Майлзом Дэвисом. Про наркотики слыхали? Она села в тюрьму вместо него. Вместо кого? Телониуса Монка. История подлинной великой любви.
– Какая она – Ника? – вновь пристала я к Мириам.
– Вульгарная. Она вульгарная! – сердито ответила моя двоюродная бабушка.
– Что это значит? – настаивала я.
Мириам объяснять не стала, но дала мне номер телефона сестры. И вот в 1984 году, впервые отправляясь в Нью-Йорк, я за несколько часов до прибытия позвонила Нике.
– Хотите встретиться? – неуверенно предложила я.
– Охренеть как, – ответила она. Не очень-то похоже на то, как обычно выражаются семидесятилетние двоюродные бабушки. – Подъезжай в клуб к полуночи.
Этот район еще не затронула цивилизация. Полно наркоманских лежбищ, и на улице в любой момент жди ограбления.
– Как найти клуб? – спросила я.
Ника расхохоталась:
– Увидишь мой автомобиль! – И повесила трубку.
Пропустить этот автомобиль мог бы разве что слепой. Огромный голубой «бентли», припаркованный посреди дороги. Внутри на кожаных сиденьях обжимались двое пьянчуг.
– Пусть себе – зато присмотрят, чтобы тачку не угнали, – пояснила потом Ника.
Маленькую дверь в подвал найти было труднее. Я громко постучала. Спустя пару минут в двери отворилась форточка и за решеткой возникло смуглое лицо.
– Чего?
– Я ищу Паннонику, – сказала я.
– Кого?
– Паннонику, – повторила я, проклиная свой английский акцент. – Ее обычно Никой зовут.
– А, Баронессу! Так бы сразу и сказала.
Дверь распахнулась, за ней обнаружилось небольшое подвальное помещение – убогое, прокуренное, тесное. Немногочисленная публика слушала пианиста.
– Она за своим столиком.
Высмотреть Нику, единственного белого человека в этой компании, было нетрудно, тем более что сидела она прямо у сцены.
На снимки из нашего семейного альбома она походила мало. На фото была прелестная дебютантка, волосы цвета воронова крыла укрощены и зачесаны, выщипанным бровям придана модная изогнутая форма, рот накрашен – надутые губки, «укус пчелы». На другой фотографии Ника представала не столь элегантной: волосы распущены, ни намека на косметику, и все же вылитая голливудская звезда в роли шпионки времен Второй мировой. Но эта Ника нисколько не напоминала молодые свои ипостаси: яркая красота померкла, точеное лицо огрубело, сделавшись почти мужским. Голос ее я не спутаю теперь ни с каким иным, – голос, который виски, сигареты и бессонные ночи размыли, как волны размывают берег, голос и рычащий, и рокочущий, речь, то и дело прерываемая задыхающимся смехом.
Во рту сигарета с длинным черным фильтром, шуба небрежно брошена на спинку узкого стула. Ника указала мне на свободное место и, взяв со стола чайник, разлила какую-то жидкость по двум фарфоровым чашкам в паутине трещин. Мы молча чокнулись. В чайнике, по моим представлениям, должен был находиться чай. В горло хлынул неразбавленный виски. Я поперхнулась, на глазах выступили слезы. Ника, запрокинув голову, хохотала.
– Спасибо, – пробормотала я.
Приложив палец к губам, она кивнула в сторону сцены:
– Ш-ш! Слушай музыку, Ханна. Слушай!
Мне только что исполнилось двадцать два. Ожидания своего достойного семейства – и подлинные, и воображаемые – я как-то не сумела оправдать. Чувствовала себя несостоятельной: сама ничего не достигла и свое привилегированное положение, открывавшее передо мной завидные перспективы, тоже использовала мало. Меня, как и Нику, не взяли на работу в семейный банк: отец-основатель, Натан Майер Ротшильд, закрыл для женщин из нашего рода все должности, кроме бухгалтера и архивариуса. После университета я пыталась найти работу и попала, как многие выпускники, в зазор; мечтала работать на Би-би-си, но пока что получала отказы. Отец, по семейной традиции занимавший видное положение в банке, благодаря своим связям находил мне то одно, то другое место, но у меня не вышло ни руководить книжным магазином, ни заниматься недвижимостью, ни составлять каталоги предметов искусства. Ситуация для меня сложилась мрачная, и я искала… не то чтобы образец для подражания, но какие-то новые возможности. По сути дела, искала ответа на вопрос: можно ли уйти от прошлого или мы навеки – заложники унаследованных взглядов и устаревших понятий?
Поглядывая через стол на внезапно обретенную двоюродную бабушку, я почувствовала прилив надежды. Зайди в клуб посторонний человек, он бы увидел всего лишь старуху, курящую сигарету и наслаждающуюся музыкой. Наверное, ему бы показалась чудной эта дама в жемчужном ожерелье, – одобрительно дергая головой, она раскачивалась в такт фортепианному соло. Но я видела женщину, которая была сама собой, которая знала, где она и зачем. Я усвоила ее главный совет: «Жизнь только одна – не забывай».
Вскоре после той встречи я вернулась в Англию, получила наконец вожделенную работу на Би-би-си и взялась за документальные съемки. Вновь и вновь мои мысли обращались к Нике. В ту пору, до интернета и дешевых трансатлантических перелетов, путешествие в Америку было делом нечастым и поддерживать отношения через океан было нелегко. Как-то раз мы встретились в Англии, в доме ее сестры Мириам, в Эштон-Уолд, потом я снова попала в Нью-Йорк. Я посылала Нике открытки, она мне – пластинки, в том числе «Телонику» – альбом Томми Фланагана, посвященный ее долгой дружбе с музыкантом Телониусом Монком. В альбом вошел и трек «Панноника». На конверте она надписала: «Дорогой Ханне, с любовью, Панноника». Я часто думала о Телониусе и Паннонике: каким образом встретились эти двое, люди столь разного происхождения? Что у них было общего, кроме вычурных имен?
Ника просила меня поставить эту пластинку моему деду Виктору. Тот сказал, что ему «вполне нравится», и только. «Он и Монка не понимал», – заметила Ника. Мне понравилась роль музыкального гонца между братом и сестрой. В другой раз Ника попросила меня передать деду пластинку пианиста Барри Харриса. Он отозвался о ней примерно с таким же энтузиазмом. Так я и сообщила Нике при очередной встрече.
– Сдаюсь, – махнула она рукой. – Ему лишь классику подавай. – И расхохоталась.
С Никой было весело. Она жила настоящим, не рассуждала, не читала мораль, не нагружала собеседника своим знанием и опытом. Какое облегчение после разговоров с ее братом Виктором и ее сестрой Мириам – с ними любой обмен репликами превращался в поединок умов, в интеллектуальное десятиборье, где от тебя требовалось немедленно предъявить и все, что выучила, и как ты умеешь распорядиться этими знаниями, логикой, риторикой, как подаешь себя. Когда я поступила в Оксфорд, дед позвонил мне и спросил: «Какую ты получила стипендию?» Мне-то повезло, что вообще приняли. Разочарованный, он тут же повесил трубку. Мириам на девяносто четвертом году жизни спрашивала меня, сколько книг я пишу. «Пока ни одной, – призналась я, но зато я снимала уже второй фильм. – Фильмов я сняла столько, что уже не считаю. Сейчас я пишу десять книг, в том числе одну про хайку». И она тоже повесила трубку.
В джазе я разбиралась плохо, но Ника никогда не давала мне почувствовать себя «не в теме», «неклевой», ее нисколько не огорчало, что я не знаю таких слов, как «хаза, чувак, зут, жирдяй, обдолбаться», а «Джек» для меня просто имя. Лишь в одном вопросе она проявляла непоколебимую твердость: Телониус Монк был гений, в одном ряду с Бетховеном. Она называла его «Эйнштейном музыки» и восьмым чудом света, раз уж принято насчитывать семь.
На декабрь 1988 года я запланировала командировку в Нью-Йорк, снять эпизод для документального фильма по искусству. Три вечера я собиралась провести с Никой, заготовила вопросы. Но 30 ноября 1988-го она внезапно умерла после операции по шунтированию. Я упустила эту возможность. Так и не познакомилась ближе с моей замечательной двоюродной бабушкой.
Вопросы, не заданные ей, преследовали меня. Повсюду я натыкалась на непрошеные напоминания: то мелькнет в фильме линия нью-йоркских небоскребов, то прозвучит припев из песни Монка, то поговорю с ее дочерью Кари, – даже запах виски напоминал мне о ней. Моя работа заключалась в том, чтобы снимать документальные фильмы о людях, живых и мертвых, и во всех фильмах на заднем плане проступал силуэт Ники. Я рассказывала о коллекционерах искусства и о людях искусства, а это темы, близкие Нике. Ее неожиданная смерть не оборвала нашу связь. Я решила, что вопросы и теперь можно задать пусть не самой Нике, но пережившим ее друзьям и родственникам.
Постепенно начал складываться рисунок ее жизни. Панноника родилась в 1913 году, накануне Первой мировой войны. Тогда наше семейство находилось на вершине могущества. Богатое, балованное детство в особняках, набитых предметами искусства. Потом Ника вышла замуж за красавца-барона, родила пятерых детей. У нее имелось великолепное шато во Франции, она одевалась в дизайнерские наряды, носила уникальные украшения, летала на аэропланах, гоняла на спортивных авто, ездила верхом. Она была частью космополитической элиты, состоявшей из олигархов, членов царствующих династий, интеллектуалов, политиков и плейбоев. Ника могла познакомиться с кем угодно, отправиться путешествовать куда вздумается – и часто так и делала. Неимущему человеку ее существование показалось бы райским, но в один прекрасный день 1951 года как гром с ясного неба: Ника все бросила, укатила в Нью-Йорк и променяла высшее общество на компанию странствующих чернокожих музыкантов.
В Англии ее почти что забыли, она поддерживала связь только с детьми и с ближайшими родственниками. Публика вспоминала Нику лишь тогда, когда ее чудачества выплескивались на страницы газет. «Король бибопа умер в будуаре баронессы», – вопили таблоиды по обе стороны Атлантики. Потом стало известно, что она сядет в тюрьму за наркотики. Она вернулась – ее роль в биографическом фильме Клинта Иствуда «Птица»[1] сыграла актриса, а затем Ника сыграла саму себя в документальном фильме «Неразбавленный виски» (Straight, No Chaser). Эту ленту сняли в 1968 году два брата, Кристиан и Майкл Блэквуды: с ручной камерой они следовали по пятам за Монком от его постели до концертного зала, в аэропорт и по темным переулкам, запечатлели на целлулоиде все подробности его повседневной жизни. Сохранились на пленке и эпизоды с сердечным другом Телониуса, баронессой Никой де Кенигсвартер, урожденной Ротшильд.
В этом фильме я впервые увидела Телониуса Монка. На заднем плане разглядела свою двоюродную бабушку.
– Знаете, кто это? – спрашивает Первосвященник Джаза оператора, танцуя по тесному подвалу.
Он весил за девяносто килограммов, ростом был метр девяносто и казался громоздким и вместе с тем грациозным, когда вот так кружил, в безупречном костюме, бисерины пота на темной коже. Напевая, Монк перемещается от раковины к столу, тяжелые золотые перстни постукивают по стакану с виски. И вдруг он решительно оборачивается к камере:
– Я вас спрашиваю: знаете, кто она?
В ответ молчание. Монк жестом указывает в дальний конец комнаты. Камера, следуя его указанию, ловит в объектив белую женщину. Ника в окружении четырех чернокожих сидит в этой не то кухне, не то гардеробной, в этом преддверии, отделяющем улицу от сцены. Камера фиксирует детали: никакого гламура, нагая лампочка под потолком, груда немытой посуды в раковине. И женщина, отнюдь не похожая на «цыпочек», подружек рок-музыкантов, – уже за сорок, неприбранные волосы падают на плечи, полосатая футболка и пиджак не слишком выигрышно смотрятся на пышной фигуре. Никакого сходства ни с наследницей большого состояния, ни с роковой женщиной.
– Она из Ротшильдов, – гнет свое Монк. – Ее семейство поставило на то, что король побьет Наполеона. – И, обернувшись к Нике, говорит: – Я всем про тебя рассказываю. Я тобой горжусь.
– И про Суэцкий канал не забудь, – вставляет она слегка пьяным уже голосом. Ее взгляд, устремленный на Монка, полон обожания. – Они купили для Англии Суэцкий канал.
– Ну, с этим уже покончено, – уточняет музыкант помоложе.
– Вот вам Суэцкий канал! – Ника зажимает зубами сигарету и протягивает руку с воображаемым каналом на ладони.
– Ну и дела! – комментирует молодой.
– Я всем рассказываю, кто ты такая! – повторяет Монк. Для человека, который должен бы общаться с помощью музыки, он на удивление любит поговорить. – Знаете, кто она? – еще раз спрашивает он и вплотную приближается к камере, чтобы заставить всех прислушаться. – Она миллионерша, она – Ротшильд.
Много раз я смотрела эту запись, пыталась лучше понять Нику, а также угадать, как реагировали на подобную откровенность старые друзья и все семейство. Об этом я спрашивала и моего отца Джейкоба.
– Мы о ней почти не вспоминали, – признался он.
– Даже когда узнали, что она попала в тюрьму? Что в ее квартире умер знаменитый саксофонист? – приставала я.
Отец запнулся в поисках точного ответа.
– Полагаю, все мы были огорчены и несколько шокированы.
Постепенно я превращалась в детектива-любителя. Что увело Нику из этих роскошных гостиных – в тот жалкий подвал? В те времена развод был непростым делом. За ним следовал общественный приговор, да и детей почти никогда не оставляли блудной матери. Ни образования, ни профессии Ника не имела, а значит, полностью зависела от семьи. Может быть, какая-то мрачная тайна, некая скрытая от всех причина побудила ее бежать из страны, прятаться в чуждом ей мире?
Или она сошла с ума? Иной раз она делала довольно странные заявления на публику. На вопрос, из-за чего рухнул ее брак, Ника ответила журналисту: «Мой муж предпочитал барабан». Кинорежиссеру Брюсу Рикеру она сказала, что переехать в Нью-Йорк ее побудила пластинка: «Я прослушала ее раз двадцать подряд, а потом еще и еще. Опоздала на самолет и так и не вернулась домой».
– Она купила Артуру Блэйки «кадиллак» – сама понимаешь, что это значит, – шепнул мне кто-то.
– И что же?
– Ну ты же не станешь покупать мужчине автомобиль ни с того ни с сего, – подмигнул мне сплетник.
Ходили слухи и о других мужчинах. Что, если в итоге я пойму: моя двоюродная бабушка была дилетанткой, слишком много себе позволяла, ее попросту привлек определенный стиль жизни? Только и всего, ничего более. И что мне делать с таким открытием?
Но та Ника, с которой я была знакома, – решительная, знающая свой путь женщина – отнюдь не была похожа на безответственную распутницу. Младших детей у нее отобрали, но и с ними она никогда не прерывала отношений, а старшая дочь, Джанка, в шестнадцать лет переехала к матери в Нью-Йорк. Ника бежала не от близких – она бежала от жизни в «усыпанной драгоценностями клетке», как она сама выражалась.
– Понимаешь ли ты, во что влезла? Многим это будет не по нутру, – предостерег меня старый друг Ники Кертис Фуллер, узнав, что я взялась за биографию Ники. – Дерьма нахлебаешься.
Я по наивности еще не понимала, сколько людей, особенно среди ближайших родственников, предпочли бы читать о Нике разве что в примечаниях к чьей-то биографии.
Но чему я удивлялась? Доходящая до паранойи секретность – наша семейная традиция, и умение хранить тайну не раз сослужило нам хорошую службу. Благодаря умению хранить тайну мы выжили во франкфуртском гетто посреди погромов XVIII века и очень немногих родичей потеряли во время Холокоста. Тайное знание способствовало тому, что мы сделали состояние на победах Веллингтона и на нефтяных скважинах Баку, а затем помогло нам устоять в хаосе колеблющихся финансовых рынков.
Многие женщины из семейства Ротшильд, в том числе те, с кем я была близко знакома, отказывались даже брать трубку, когда я звонила, или молчанием отвечали на мои вопросы. Я получила два очень неприятных письма с угрозами. То же самое, как выяснилось, происходило и с Мириам, сестрой Ники, когда та писала биографию своего дяди «Дорогой лорд Ротшильд». В книге подробно рассказывалось о нескольких произошедших в семье самоубийствах. Хотя одно из них освещалось в прессе, «преступление» Мириам заключалось в том, что она, вопреки семейным правилам, позволила себе заговорить о внутренних проблемах публично. Одна из родственниц строго ее отчитала: «Даже если ты сочла необходимым привлекать всякой пошлостью внимание читателей, как ты решилась вынести сор из избы и написать о таком!»
Дети Ники поначалу приняли мою идею с энтузиазмом, но позднее их мнение изменилось: они решили, что их мать в книжной биографии не нуждается. Мне их мнение было важно, я ни в коем случае не хотела задеть их чувства, а потому на несколько лет оставила этот замысел. Затем дети Ники опубликовали биографический очерк вместе с собранием фотографий из личного архива Ники и ее интервью под общим заголовком «Музыканты и три желания». Это был совершенно непривычный взгляд на историю Ники: каждого из своих знакомых музыкантов Ника попросила высказать три самых заветных желания. Эти краткие ответы – словно окна в душу. «Иметь такого замечательного друга, как ты», – сказал Монк. «Быть белым», – сказал Майлз Дэвис. А Луи Армстронг ответил: «Прожить сотню лет». Ника еще при своей жизни пыталась опубликовать эту книгу в память о своих знаменитых друзьях, но издатели ее не приняли. Наследники добавили к тексту фотографии, и эти иллюстрации внезапно оживили текст. Постановочных фото было там немного, в основном снимки, сделанные при неудачном освещении, качество их оставляет желать лучшего, но это совершенно неважно: когда они оказались вот так, вместе, перед читателем открылся облик ушедшего поколения.
Я встретилась с великим саксофонистом и другом Ники Сонни Роллинзом, рассказала ему о моем заброшенном проекте.
– Займись этим, – потребовал он. – Ее история – это наша история. Нужно ее рассказать.
Я послушно вернулась к работе и продолжила свое расследование с того места, на каком остановилась. В командировки и в отпуск я повсюду возила с собой видеокамеру и блокнот на всякий случай: вдруг познакомлюсь с человеком, который что-то знает. Я взяла десятки интервью, накопила груды газетных вырезок, пластинок и альбомов, документальных фильмов, фотографий, писем, и-мейлов, магнитофонных записей и мемуаров. Это приключение началось в одной из семейных усадеб Ротшильдов – в Эштон-Уолд, Петербороу, с разговора с Мириам, и бросало меня по всему миру: из Гарлема в Голландию, из Мексики на Манхэттен, из Испании в Сан-Франциско.
Я подготовила сперва радиопередачу о Нике, а потом и документальный фильм «Баронесса джаза». Этот фильм прошел по Би-би-си и Эйч-би-о, его до сих пор показывают в самых разных странах. Но документальное кино – особый жанр биографии, книга же открывает иные возможности. Я хотела испробовать все способы поведать о Нике, каждую скважину пробурить до дна. Почему? Потому что это необычайное путешествие во времени и в пространстве, приключение со всеми элементами мелодрамы: аристократка и несчастный музыкант, бабочка и блюз, любовь, безумие, война и смерть.
Но были на то и личные причины. Хотя мы появились на свет с разницей в полвека, в разных обстоятельствах, несхожие характером, всматриваясь в жизнь Ники, я больше узнавала и о своей собственной. Ника приучила меня искать в первую очередь сходство, а не отличия, свой выбор ставить превыше традиционных условностей, а главное – кураж, дорогая, кураж! Отчего я потратила на книгу чуть ли не двадцать пять лет? О, я бы хотела возиться с ней и дольше, без конца повторяя вопросы: кто же ты, Ника? героиня или потаскушка? борец за свободу или жалкая дилетантка? мятежница или жертва?
2 Повелительница блох
– Зачем тебе это, Ханна? Для саморекламы? – возмущалась Мириам.
– Для саморекламы есть способы и попроще, – парировала я.
– Неужели тебе нечем больше заняться? Почему обязательно писать о ком-то из семьи?
– Ты тоже написала биографию своего дяди Уолтера. Целую книгу! – защищалась я.
– Это другое дело.
– Почему?
– Потому что я писала о науке. Наука важна.
– Музыка тоже важна. Для очень многих людей.
Мириам не разделяла моего убеждения.
– Мне к тебе больше не приходить? – спросила я.
– Не выдумывай, – ответила она.
Если я какое-то время не появлялась у нее, раздавался телефонный звонок:
– Когда ты придешь? Я скоро умру. – И она бросала трубку.
Мир знал мою двоюродную бабушку Мириам как выдающегося энтомолога, но для родных она была грозным, требовательным и вместе с тем вдохновляющим матриархом, который неизменно протягивал руку помощи (благотворительно, хотя и не без причуд) попавшим в нужду. Она дожила до 96 лет и большую часть жизни провела в семейном доме Ротшильдов Эштон-Уолд. Эта усадьба всегда служила пристанищем родственникам и друзьям, в том числе Нике, ее детям и мне. Мириам была знатоком семейной истории, неисчерпаемым источником информации о наших предках, и эту информацию она умела подать и проанализировать. Одна из самых ярких представительниц своего поколения, для моей книги – важнейший помощник. И она это прекрасно знала.
На протяжении нескольких лет я многократно наведывалась к Мириам. По шоссе AI, через северные пригороды Лондона и в самое сердце Центральной Англии. Дивная местность – по крайней мере, для любителя плоских пейзажей и бескрайних полей. Лично я с радостью покидала шумную дорогу, оставляла за спиной оранжевое зарево города Ундла и въезжала в страну чудес Мириам, в ее природный заповедник.
Отец Ники и Мириам, Чарлз, энтомолог-любитель, решил приобрести это имение с целью устроить заповедник для бабочек и стрекоз. Местные риелторы предупредили Чарлза, что владелец в деньгах не нуждается и не станет продавать землю. Вот только владельцем был Натан Ротшильд, отец Чарлза. В 1900 году начались работы по строительству большого трехэтажного здания. Разбили сады, соорудили оранжереи и пруды, привели в порядок парк.
Единственный сын и наследник Чарлза – Виктор – получил основную часть семейного имущества, в том числе всю недвижимость, однако в 1937 году он уступил Эштон своей сестре Мириам. Чтобы сэкономить на отоплении, Мириам распорядилась снести верхний этаж, заметно понизив некогда импозантный трехуровневый фасад. После этого она раз и навсегда запретила подрезать растения, предоставив природе следовать своим путем. Вскоре все стены и большую часть окон увили ползучие растения: плющ, розы, жимолость, глициния и все прочие росли невозбранно. Летом Эштон-Уолд смотрелся не как особняк, а скорее как зеленый, гудящий жизнью холм. Дом был окружен парком площадью в 80 гектаров, там водились олени, – их, разумеется, Мириам столь же решительно запретила отстреливать. И повсюду – заросшие цветами и травами поляны, именно они принесли Мириам славу.
Каждая поездка к ней казалась приключением. Сердце билось быстрее, когда я проезжала через соседнюю деревушку, там даже местный паб именовался «Клетчатый шкипер» в честь одной из разновидностей бабочек. От сторожки вела длинная, разбитая подъездная дорога, она вилась между полей и лугов. Проехав с милю, путник замечал длинную и высокую кирпичную стену, за которой прежде находился огород. Несколько гектаров грядок и оранжерей в 1920-х годах круглогодично снабжали цветами усадьбу и свежими овощами – всех, кто проживал на ее территории. При Мириам эти сооружения обрушились, от них уцелели только фундаменты да осколки стекол. Она сохранила несколько помещений – для ручной совы, для разведения бабочек и для экзотических растений.
В саду еще можно было различить следы искусственного пруда, живой изгороди, беседок и клумб, но угадывались они с трудом. За сорок лет попустительства сорняки опутали водопроводные трубы, тропинки скрылись под ними, деревья боролись за место под солнцем. Природа отвоевывала свое. В начале лета в зарослях скользили ужи. Одичавшая буддлея и цветочные поляны служили приютом мириадам бабочек и насекомых.
– Добро пожаловать в Либерти-Холл! – кричала Мириам, завидев гостей. – У нас каждый делает что хочет.
Здесь можно было повстречать кого угодно – зарубежного профессора, члена семьи, порой какую-нибудь герцогиню, философа Исайю Берлина, законоведа Джона Спэрроу и множество товарищей (преимущественно мужского пола), приобретенных Мириам в путешествиях. На длинном столе в гостиной всегда стоял горячий чай, чтобы все, в том числе множество обитавших в доме мышей, могли подкрепляться по мере надобности. Как-то раз я попыталась обратить внимание тетушки на тот факт, что в опасной близости с кексом суетятся четвероногие «гости».
– Вот и хорошо, что у нас мыши, – значит, не будет крыс. Мыши и крысы вместе не уживаются. Надеюсь, тебе это известно, – преспокойно ответила Мириам.
К ланчу подавали вино из погребов Ротшильда (не самое лучшее, разумеется) и накрывали как минимум на десятерых – мало ли, кто еще подъедет. Мириам, как и ее сестра Ника, любила животных, но если Ника держала кошек, то Мириам – собак, а одно время даже ручную лису. И Мириам, и Виктор держали ручных сов. Когда любимая сова Мириам умерла, из нее набили чучело и усадили на ту самую книжную полку, где птица обитала при жизни. Длинный коридор при входе в Эштон-Уолд был сплошь уставлен папками с данными научных экспериментов Мириам, а стены гостевого туалета украшали розетки, которыми награждались ее призовые коровы. В моей спальне мыши хозяйничали столь беспардонно, что порой оставляли на полу свои экскременты. Жаловаться было бесполезно: Мириам просто не понимала, из-за чего сыр-бор.
Под конец жизни Мириам переместила свою спальню в большую комнату первого этажа, где едва смогла устроиться между верстаком, микроскопами, бумагами и семейными фотографиями. «Блох я держу в целлофановом пакете возле своей кровати, – твердила она. – Так повелось с тех пор, как дети были маленькими, – чтобы не подпускать их к насекомым».
Насекомые – общая страсть всего семейства. Выяснилось, что Ника была названа в честь насекомого. Из Америки мне прислали бутлег песни «Панноника», которую Монк сочинил в честь Ники. Запись была сделана в кафе «Файв Спот», ее то и дело заглушает болтовня и звон бокалов. Ника сидела среди публики и записывала песню, как у них это было принято. Монк откашлялся, чтобы привлечь внимание слушателей.
– Добрый вечер, дамы и господа, – мягко проговорил он. – Вот вам мелодия, которую я написал для вон той прекрасной леди. Насколько я понимаю, отец назвал ее в честь бабочки, за которой он охотился. Наверное, бабочку он не поймал.
Я спросила Мириам, в самом ли деле Ника была названа в честь бабочки.
– Бабочки! – яростно взревела она и укатила прочь из комнаты в своем скоростном инвалидном кресле с электрическим мотором. Сердце у меня упало: чем я ее задела?
Посвящение Монка к песне позволяло кое-что узнать о мифе, который создавала о самой себе Ника. Она подавала себя как существо экзотическое, легко ускользающее. Заманчивая аналогия: поймать Нику – все равно что углядеть бабочку, когда та носится, танцует, кружит по саду. То ее подхватит непредсказуемый ветерок, то привлечет изысканный аромат, лишь на миг блеснут в лучах солнца ее изысканно расписанные крылья, секунда – и бабочка скроется, погрузившись в цветок, или же, сложив крылышки, прикинется листком или лепестком.
Я решила выяснить, имелась ли в коллекциях отца Ники, Чарлза, или ее дяди Уолтера бабочка «панноника». Оба они за свою жизнь составили обширные коллекции, основная часть которых была впоследствии передана Лондонскому музею естественных наук и положила начало музейному собранию бабочек и насекомых. Особых надежд я не питала: поди найди одну конкретную бабочку среди такого множества. Я обратилась в музей, не рассчитывая на ответ, но, к моему удивлению, меня пригласили посетить запасники музея и выяснить все, что меня интересует, о виде pannonica. Наши предки были не только великими собирателями, но и аккуратнейшими архивариусами: каталоги и перекрестные ссылки позволяли с легкостью обнаружить любую информацию.
Сумрачным ноябрьским утром 2007 года я отправилась в музей Естественных наук на встречу с энтомологом Гейденом Робинсоном. Мы встретились в холле у скелета гигантского динозавра и по сводчатым коридорам, мимо дивных и странных существ, направились в хранилище. Робинсон подвел меня к бесконечным рядам металлических стеллажей. Там я увидела чучело гигантской черепахи, на которой некогда Чарлз и его дочери катались по большому парку в Тринге. Бедное животное умерло от безответной любви (не к Нике и не к Мириам, как заверила меня последняя). Огромный подвал, выдвижные ящики, где на изящных подносах красного дерева хранились образцы.
– Мы почти пришли, – сообщил Робинсон, выходя на середину помещения. (Откуда он знал, в какой стороне искать?) – Бабочки справа, мотыльки слева. Здесь подрод Еиblетта.
Я удивилась: он свернул не вправо, а влево и двинулся в боковое помещение.
– Там же отдел мотыльков, – напомнила я.
– Pannonica – мотылек.
– Мотылек? Вы уверены?
– Вполне. Здесь. – Он принялся открывать ящики со стеклянной подложкой.
– Но она всем говорила, что названа в честь бабочки, – сказала я Робинсону. – В ее честь даже песня написана – «Моя маленькая бабочка». Ее имя всячески обыгрывалось.
Робинсон сердито обернулся ко мне:
– Бабочки – те же мотыльки, только летают быстрее. Люди думают, что бабочки и мотыльки совершенно разные, а на самом деле бабочки составляют всего три из многих десятков семейств мотыльков. Они освоили полет на высоте и дневной полет, а потому и окраска у них обычно ярче, нежели у мотыльков, – но, при всем уважении к знатокам, которые считают бабочек такими эротичными, это те же мотыльки, только приодевшиеся.
– Бабочки вас меньше интересуют? – спросила я.
– Не то чтобы меньше, но я бы предпочел, чтобы они занимали свое место и не лезли на чужое. Бабочки всем нравятся, а мотыльков считают противными – обычные причуды дилетантов. Это заблуждение: бабочки – те же мотыльки, но у них пиар лучше налажен.
Мы отыскали вид раппопiса – скромное маленькое насекомое размером с ноготь мизинца, вовсе не привлекавшее взгляд. Прихватив с собой поднос с образцами, мы вернулись в офис Робинсона. Каждый экземпляр был аккуратно насажен на булавку, снабжен отдельным ярлычком с надписью красивым викторианским почерком. Под увеличительным стеклом мы рассмотрели и слова: сперва подпись NC Rothschild (Чарлз, отец Ники), затем дата – август 1913 и, наконец, место, где был пойман мотылек, – Нагиварад, Бихор. В той самой деревне Чарлз познакомился с Розикой, и сюда семья возвращалась каждое лето повидаться со здешними родственниками, пока не помешала война.
Между 1910 и 1914 годами было поймано около десяти маленьких «панноник». Я смотрела на число 1914, сознавая печальное значение даты: это была последняя охота Чарлза на бабочек. Его здоровье постепенно угасало. Поднеся мотылька ближе к свету, я увидела, что не такой уж он скучный и незаметный. Он был красив, с лимонного цвета крылышками, по краям – оттенка выдержанного «шато-лафита», и я рассмеялась: как уместно оказалось дать Нике имя в честь ночного существа – ведь только с наступлением темноты оживала и «Баронесса джаза».
– Ника знала, что ее назвали в честь мотылька? – спросила я несколько недель спустя тетушку Мириам.
– Разумеется, – отвечала она мне как заведомой идиотке. – Раппопiса означает «из Венгрии». Есть и моллюск с таким именем, и разновидность вики. Если б ты потрудилась заглянуть в каталоги чешуекрылых, там бы ее и нашла: Еиbleтта раппопгса. Впервые ее классифицировал Фрайер в 1840 году.
– Почему же Ника говорила, что это бабочка?
Мириам возвела глаза горе, громко фыркнула и выкатилась из комнаты. Мне бы побежать за ней, выспросить, что означает сия мимика, но я и так догадывалась: Мириам – старшая дочь, стоявшая за всеми делами семьи, возглавившая бизнес, продолжавшая дело отца и заботившаяся о родственниках, ближних и дальних, – Мириам не слишком-то терпимо относилась к причудам младшей сестры.
Ника, дочь и сестра энтомологов, уж конечно знала, в честь какого создания наречена. Интересно, почему она предпочла истине миф? Хотела укрыться в тени, оставить эту историю недосказанной, пусть люди кое о чем даже не догадываются?
Она гордилась своим происхождением и финансово зависела от семьи, однако держалась наособицу, перебралась на другой континент, нашла себе иные интересы в жизни и даже после развода не вернула девичье имя. Почему Ника оказалась совсем иной натурой, нежели Мириам и Виктор, не мыслившие себя в отдельности от разветвленного семейства Ротшильд? Чем больше я узнавала о Нике, тем яснее видела, отчего ее так смущало ее настоящее имя, ее род. Для Ротшильдов само рождение Ники стало разочарованием, и она это знала. Хотели еще одного мальчика.
3 Венгерская роза
В 1913 году, когда Ника появилась на свет, Ротшильды столкнулись с двумя крупными проблемами. Одну они себе подстроили сами, над другой не были властны. За истекший век Ротшильды возвели огромную империю, но мир, где существовала эта империя, уже рушился. Неизбежный упадок Австро-Венгерской империи на фоне экспансионистской политики ее соседей – Германии, Франции, Великобритании – означал, что равновесие сил в Европе вот-вот нарушится.
И в пору войны, и в мирное время Ротшильды были банкирами правительств и королей, подкрепляя своими деньгами мечты или опасения европейских государств. Они финансировали промышленность и армию, а потому говорили, что без совещания с Ротшильдами никто не объявит войну и не заключит мир. Когда разразился франко-польский кризис 1836 года, вдовствующая госпожа Ротшильд заявила: «Войны не будет: мой сын не даст на нее денег». То была не пустая похвальба: ее сын владел международной банковской корпорацией, которая непосредственно контролировала состояние экономики многих стран. Империя Ротшильдов простиралась от Баку до железных дорог Франции и Бельгии, и далее эти пути уводили через Испанию и Австрию в Италию. Торговля, арбитраж, рудники, продукты – все находилось в руках Ротшильдов, и эти руки дотягивались до Южной Африки и Бирмы, от Монтаны до Кавказа и далее.
Процветание финансовых империй зависит от стабильности политической ситуации. Но, хотя к мнению семьи еще прислушивались политики и лидеры государств, удержать Европу даже Ротшильды были бессильны и в отчаянии следили за тем, как весь континент соскальзывает в войну.
Но еще большая проблема грозила им изнутри: недостаток наследников мужского пола. Семейный бизнес был основан и управлялся по единому принципу: наследовать и продолжать его могут только мужчины из рода Ротшильдов. Это условие запечатлел в завещании отец-основатель Майер Амшель еще в 1812 году, и оно сохраняется поныне.
«Мои дочери, зятья и их потомство не имеют доли в торговой компании, существующей под именем „Майер Амшель Ротшильд и сыновья“… дело принадлежит исключительно моим сыновьям. Никто из моих дочерей, зятьев и их потомства не вправе требовать, чтобы им предоставили сведения о деловых операциях. Я бы никогда не простил моим детям, если бы вопреки моему отеческому пожеланию они допустили, чтобы моим сыновьям помешали в мирном владении и осуществлении их деловых интересов».
Более того: когда умирал кто-то из сыновей, его вдова и дети не становились автоматически наследниками, доли в компании возвращались пережившим покойника отцам, братьям и сыновьям. Дочерям предстояло выходить замуж за евреев, а лучше всего – за родственников. Иаков Ротшильд в 1814 году писал брату о своей новой жене и по совместительству племяннице Берте: «Жена… непременный предмет обстановки».
Изначально в семействе Ротшильд было пять разумных сыновей, им и предстояло возглавить пять европейских филиалов, но в последние десятилетия XIX века удача изменила роду: за недостатком мужчин в 1901 году пришлось закрыть франкфуртский филиал. У двоих наследников, Майера Карла и Вильгельма Карла, народилось десять дочерей – и ни одного сына. Неапольский банк закрылся еще в 1863 году, так как и у Адольфа Ротшильда с сыновьями не заладилось. На рубеже веков оскудела хромосомой Y и английская ветвь рода. Ротшильды, конечно, с этим не согласились бы, но на самом деле принцип наследования по прямой мужской линии оказался для их дела столь же опасным, как и превратности войны и прихоти налоговой системы.
Вот почему в декабре 1913 года Ротшильды с тревогой и надеждой ожидали рождения еще одного отпрыска Чарлза и Розики. Четвертый ребенок – какого он окажется пола? В 1910-м у четы уже родился наследник, Виктор, но требовался запасной. Остальные пока были девочки – в 1908 году Мириам и в 1909-м Либерти.
Банком управляли мужчины; женщины сидели дома, занимались детьми. Появления на свет мальчика с нетерпением ожидали его дедушка с бабушкой, Натан (Натти) и Эмма, оба – урожденные Ротшильды, в браке с Ротшильдом и Ротшильд, родители Ротшильдов. Натти Ротшильд стал первым членом палаты лордов не христианского вероисповедания, первым иудеем, приглашенным к королеве Виктории в Виндзор (ее величество особо распорядилась, чтобы повара приготовили ему пирог без ветчины). В 1879 году Натти возглавил английское отделение банка Ротшильдов. Он вел международный бизнес, предоставлял ссуды правительствам США, Австрии и России, финансировал экспедицию Сесиля Родса в Южную Африку и алмазную империю Де Бирс, он же собрал средства и на покупку Суэцкого канала. При всех сменявших друг друга администрациях Натти оставался советником британского правительства; ближе всего он был с Дизраэли, но и Рэндолф Черчилль, и Бальфур прислушивались к его рекомендациям. В преддверии войны 1914 года Ллойд Джордж созвал на совещание ведущих банкиров, бизнесменов и экономистов обсудить финансовую сторону боевых действий, и хотя будущий премьер и пэр-иудей в прошлом не раз конфликтовали, однако на этот раз Ллойд Джордж счел, что «только старый еврей говорил разумно».
Его деловая хватка сочеталась с филантропическим пылом. В ужасе от еврейских погромов в России, Натти разорвал выгодную сделку с российским правительством – из принципа. Он жертвовал крупные суммы и проводил кампании, организуя общественное мнение против преследований евреев в Румынии, Марокко, России и в других странах. У себя по соседству, вокруг Тринга, он перестроил все здания, возвел 400 новых, с современными удобствами, создал и возглавил компанию Коммерческого четырехпроцентного жилья – сочетание бизнеса и благотворительности, результатом чего стали 6500 новых домов. Но потомство не вполне устраивало Натти: этому талантливому, требовательному, придирчивому отцу понадобились бы десятки сыновей, чтобы выполнять все его распоряжения, а он породил только троих детей, из них двух не слишком, на его взгляд, многообещающих мальчиков. И теперь семидесятитрехлетний, одряхлевший Натти, как и все семейство, возлагал надежды на новое поколение.
Супруга Натти Эмма родилась в 1844 году. Ей суждено было дожить до 91 года. Когда в 1867 году она приехала в Англию из Франкфурта, чтобы вступить в брак с кузеном, Эмме сказали, что семейный дом для них уже выбран – Тринг-Парк, в принадлежащей Ротшильдам долине Эйлсбери. Для пущего комфорта семейство продолжило железнодорожную колею прямо к воротам усадьбы. Впервые свой дом Эмма увидела на следующий день после свадьбы – типичный для этого семейства щедрый, пусть несколько бесцеремонный, дар.
Как большинство женщин из клана Ротшильдов, Эмма была неукротима и беспощадна в своей прямоте. Она могла вызвать к себе премьер-министра Бенджамина Дизраэли и раскритиковать его роман: стилем он владеет неплохо, но в женщинах ничего не смыслит. Она говорила на трех языках – на всех трех с легким немецким акцентом – и на каждом из них смеялась на особый лад. Вероятно, своим долголетием она была обязана суровой ежедневной зарядке или привычке принимать холодную ванну по утрам.
Брат Чарлза, Уолтер, лорд Ротшильд, – старший сын и наследник титула – также замер в ожидании. Он был слабого здоровья и воспитывался дома. Вырос в медвежеватого, заикающегося здоровяка весом в 130 кг. Племянницы жаловались: своим храпом он будит весь дом. Уолтер так и не женился, но две многолетние любовницы у него были; одна родила ему внебрачную дочь, другая чуть ли не до гроба шантажировала Уолтера угрозой рассказать обо всем его маме. Кроме своей мамочки Эммы он больше всего любил животных, живых и мертвых. В качестве лорда Ротшильда он находился среди членов парламента, принявших знаменитую декларацию Бальфура – подписанное британским правительством в 1917 году обязательство обустроить в Палестине национальный дом для евреев. С этой декларации начался путь к созданию государства Израиль, но, хотя в какой-то мере иудаизмом и Палестиной Уолтер интересовался, мало что могло отвлечь его от всепоглощающей страсти – от изучения животных и насекомых.
Семейного таланта делать деньги Уолтер не унаследовал. Ему выделили кабинет в банке, но, прикидываясь, будто занимается делами, на самом деле он тратил собственное состояние на создание величайшей в мире коллекции животных, какую когда-либо удавалось собрать частному лицу. Более двух миллионов экземпляров бабочек и мотыльков, 144 гигантские черепахи, 200 000 птичьих яиц, 30 000 чучел птиц, множество редких и чуть ли не сказочных существ, от морской звезды до жирафа. Ныне они составляют основу собраний музеев естественных наук в Лондоне и в США. Коллекция Уолтера Ротшильда выделялась не только размерами и экзотичностью, но и тщательной классификацией. Каждый ее элемент был снабжен ярлыком, внесен в каталог, снабжен перекрестными ссылками.
По всему миру агенты Уолтера собирали и скупали экземпляры для его коллекции. Мик охотился на птиц на островах Меланезии и в Квинсленде; капитан Гиффорд – на Золотом берегу Африки; доктор Доэрти – на островах Сула; мистер Эверетт – в Тиморе; два японца – в Гуаме, а мистер Уотерстрейд – на Лирунге. Это далеко не все его охотники на птиц. Что не удавалось поймать, то Ротшильд покупал. Явный шопоголик, он прочесывал аукционы и частные распродажи в надежде пополнить свое собрание. В честь Уолтера названы разновидности жирафа, слона, дикобраза, скалистого кенгуру, заяц, рыба, ящерица, казуар, нанду, райская птичка, галапагосский вьюрок и неправдоподобная муха, у самки которой глаза размещены на длинных стеблях. Уолтер, в свою очередь, дал некоторым из своих диковинок имена в честь уважаемых им людей – королевы Виктории и принцессы Александры, к которым он приезжал в Букингемский дворец в коляске, запряженной тремя зебрами и пони.
Он построил в Тринг-Парке частный музей. В дождливую погоду его племянницы и племянник играли в прятки среди чучел. Я тоже там бывала в детстве, а потом возила дочерей посмотреть на все эти чудеса. По особым случаям мы наведываемся в запасники, в подвалы, где хранятся птичьи яйца и птичьи перья, в том числе собранные Дарвином во время экспедиции на «Бигле». В одном ящике покоится скелет вымершего додо, в другом – две нарядные мухи, некогда выступавшие в мексиканском цирке.
Заглядывая в музей Уолтера, любуясь собраниями, которые другие члены семейства выставляют в своих особняках и усадьбах, я пыталась понять, откуда эта тяга к приобретательству, почему она присуща большинству моих родичей. Отчасти тут сказывается и привычка делать запасы, и желание превзойти всех, продемонстрировать свое богатство, но бок о бок с показухой я наблюдаю и стремление собирателя создать идеальный, упорядоченный мир, которым он мог бы владеть, почувствовать себя в безопасности. Быть может, любая коллекция возникает из этой простой потребности – усмирить внутреннее смятение внешним порядком.
Уолтер, как и все остальные родичи, надеялся, что у брата родится еще один сын. Он понимал, что не соответствует возлагавшимся на него семейным ожиданиям, что его неспособность к банкирскому делу разрушила многие мечты.
Чарлз, которому вот-вот предстояло сделаться в четвертый раз отцом, был необычайно красивым мужчиной слабого душевного здоровья. Смолоду он был подвержен резким перепадам настроения. Он тоже любил природу, но Чарлзу не повезло: он оказался способен и к финансам. Если бы ему, как Уолтеру, позволили без помех следовать его маниакальной страсти к коллекционированию животных, жизнь Чарлза сложилась бы счастливее. Но все планы отца и более дальних родственников легли на его плечи – груз, непосильный для любого человека.
В восемь лет Чарлза отдали в подготовительную школу, и оттуда мальчик патетически писал матери: он любит дом в «10 000 000 000 000 больше, чем любое другое место». Тоска по дому не прошла и к тринадцати годам, когда Чарлза отправили в Харроу. Среди его соучеников были будущие военачальники, герцоги, епископы, политики, в том числе Уинстон Черчилль. Предполагалось, что раннее знакомство с сильными мира сего поспособствует дальнейшей карьере Чарлза. Сам он впоследствии писал: «Если у меня будет сын, я обучу его боксу и джиу-джитсу прежде, чем отдам в школу, поскольку пережитые мною "охоты на еврея" составляют развлечение только для одной стороны и между охотниками и жертвой не отмечается ни малейшей симпатии». В Харроу Чарлзу отводилась роль лисы: он должен был бежать что есть силы, а одноклассники, подвывая, как гончие, гнались за ним по пятам. Поймав, они избивали его до крови. Учителя на это закрывали глаза. «Охотники» не оставили об этом воспоминаний, но сочувствовавший Чарлзу одноклассник, будущий историк Джордж Тревельян, подтверждает, что Чарлз был в школе очень несчастен и главным образом возился со шкурками животных или насаживал на булавку бабочек.
Представляю себе, как бедняжка Чарлз склоняется над коллекцией бабочек-парусников, пронзает каждый экземпляр острой иглой, втирает в их нежные тельца формальдегид, а потом аккуратно, своим мелким разборчивым почерком, записывает данные о каждой бабочке на маленький ярлычок. Этих бабочек он подарил своей школе – в надежде, что следующее поколение учеников почерпнет утешение, разглядывая и изучая их. «Охота на еврея» объясняет нежелание Чарлза отдать дочерей в закрытую школу, но почему же он счел необходимым отправить единственного сына, моего деда Виктора, в ненавистный Харроу? Понадеялся, что бабочки его защитят?
Недавно школа Харроу решила выставить это свое наследство на продажу. Перед самым аукционом я съездила в школу посмотреть на коллекцию Чарлза. В сыром подвале под школьной лабораторией, за грудой старых компьютеров, сломанных ламп и прочих осколков образовательного процесса, я нашла бабочек Чарлза, мечту энтомолога: самое полное собрание парусников в частных руках, лучшими коллекциями располагают лишь три крупнейших музея мира. 3500 экземпляров, 300 подвидов в стеклянных ящиках внутри изящных шкафчиков красного дерева.
Парусники – голиафы среди бабочек. К этому виду принадлежит крупнейшая из известных бабочек, птицекрылка, которая водится в Папуа – Новой Гвинее. Чтобы поймать ее, понадобились ружья – выпугнуть великаншу из леса. Но не размерами очаровывает парусник, а красотой. Ничто, сотворенное человеком, ни картины Энгра или Веласкеса, ни драгоценности Екатерины Великой или Моголов, – ничто не сравнится с великолепием этих созданий. Каждый подвид парусника отличается от другого и размерами, и окраской. Крыло бабочки состоит из тысяч крошечных, свободно сочлененных чешуек, каждая из которых отражает свет по-своему, а в совокупности они дают такую насыщенность цвета, такое сияние, которому даже природа не сумела больше ни в чем подражать[2]. Один из школьников сказал мне, как «хреново», что коллекцию продают, хотя, конечно, кроме него мало кто ценил это сокровище.
На обратном пути из школы я встретила сотни подростков, одетых точно так же, как одевался во время учебы и Чарлз, – синие куртки, приплюснутые соломенные шляпы. Они опрометью бежали на очередной урок, и внезапный порыв ветра сорвал шляпы с голов, десятки соломенных шляп поплыли высоко в воздухе. Я смотрела, как они кружат и медленно опускаются на землю, словно множество бледно-желтых бабочек, и вновь подумала о моем мягкосердечном прадеде, который искал утешения в чудесах природы.
Счастливее всего он чувствовал себя, когда помогал Уолтеру или самостоятельно занимался полевыми исследованиями. В 1896 году, в 19 лет, ему на две недели предоставили свободу, и Чарлз решил отправиться в экспедицию по берегам Нила. Домой он писал о тех странных и замечательных животных, которых встречал по дороге. «Очень интересные твари – суданские коровы». Или: «Я изо всех сил старался добыть черепаху для Уолтера».
По возвращении в Англию Чарлз добросовестно взялся за работу, однако все предлагавшиеся им инвестиции старшие вежливо, но решительно отвергали. Никто не верил в будущее меди и не считал нужным строить плавильный завод; открывать филиал в Японии казалось безнадежной затеей, и, с точки зрения коллег-банкиров, новомодное изобретение, граммофон, в которое Чарлз хотел вложить деньги, было обречено на провал.
Дома он был под каблуком у матери, на работе оставался в тени предков. Одним решительным поступком Чарлз отвоевал себе независимость: женился на прекрасной еврейке из Венгрии, с которой познакомился во время охоты на бабочек и редких блох в Карпатах. Другу, который также страдал депрессиями, Чарлз писал: «Я так рад, что тебе лучше и что на тебя реже "накатывает". Женись, как я, и полностью избавишься». Розика фон Вертхаймштайн стала его единственной на всю жизнь любовью.
Розика фон Вертхаймштайн выросла в известной, но небогатой семье. За красоту ее прозвали «Венгерской розой», темные, с лиловыми обводами, радужки ее глаз играли на свету, словно крылья бабочки. Ника вспоминала, что Розику «все боялись до смерти». И тем не менее, когда Мириам спросили, чего бы она пожелала, если бы любая ее мечта была исполнима, та ответила: «Провести хотя бы еще час с моей мамой».
Розика родилась в 1870 году в семье отставного офицера в Навивараде (Венгрия). Ныне это румынский город Орадеа. Ко времени знакомства с Чарлзом – в 1907 году – ей уже было 37 лет и, по мнению большинства, ей не светило ничего, кроме должности почтмейстерши в родной деревне. Мириам вспоминала: «Она выросла в стране вполне откровенного антисемитизма. Лишь незначительный процент евреев допускали в университеты. В Венгрии родиться евреем значило жить особой жизнью, не сливаясь с обществом». Розика не получила формального образования, но самоучкой освоила не только венгерский и немецкий, но и французский с английским.
Розика считалась «дерзкой девчонкой». Летом она целыми днями играла в теннис, зимой каталась на льду. Она курила, не скрываясь, и вызывала мальчишек на соревнование – кто дальше прыгнет на коньках через препятствие. Первой среди женщин Европы она освоила верхнюю подачу в теннисе – по тем временам весьма рискованное движение, подчеркивавшее форму груди. Ее даже пригласили в Вену обучить этому приему эрцгерцогиню.
Брак с Ротшильдом рассматривался не просто как удача, а как великое достижение, вроде победы на скачках в Дерби. Новости об этом событии мгновенно распространились по Европе. Брачные обеты молодой четы были «скреплены» в Вене на скромной церемонии. Храм был декорирован белой тканью и вечнозелеными растениями, невеста облачилась в шелк цвета слоновой кости. Явившись после медового месяца в Венеции в Англию, Розика впервые увидела дом, где ей отныне предстояло жить. Ее известили: тут она будет воспитывать детей под боком у своей свекрови Эммы и неженатого деверя Уолтера. Розика числится в списках приглашенных на балы и приемы в Букингемском дворце, но уже не как Розика фон Вертхаймштайн. Отныне и навсегда она – миссис Чарлз Ротшильд.
То ли сказались четыре беременности за пять лет, то ли эта жизнь все же приручила и подчинила Розику, – во всяком случае, в Англии о прыжках на льду больше не слышали. Церемонность ее нового семейства постоянно удивляла ее: за четверть века, что они с Эммой провели под одной крышей, они ни разу не поцеловались, даже не обнялись. Но Розика знала, что от нее требуется.
Тем не менее 10 декабря 1913 года Розика горько разочаровала свою новую родню, разрешившись третьей девочкой. Кэтлин Энни Паннонику туго спеленали, тут же передали на попечение двух нянь. На следующий день младенца, опять-таки в сопровождении нянь и более никого из членов семьи, отправили на частном поезде из Лондона к бабушке Эмме в поместье Тринг, где уже подрастали две сестры и брат.
Следующие семнадцать лет Ника – так ее будут звать – гостит то в одной, то в другой усадьбе Ротшильдов, играет с другими маленькими Ротшильдами, охотится с принадлежащими Ротшильдам сворами. В ту пору было принято, чтобы кузены общались постоянно, и даже ныне, когда тех семейных домов уже нет, прежняя близость не вовсе ушла. Мы ссоримся и расходимся, как это происходит в любой семье, но собираемся на юбилеи, на дни рождения главных членов нашего рода, на знаменательные события. Ника, чуточку знавшая идиш, говаривала: «Я из чудной мешпухи, но семья у нас дружная, верь не верь».
4 Бороться, бежать или барахтаться
Свое детство Ника описывала безрадостно: «Меня возили из одной огромной усадьбы в другую в череде стерильных пульмановских вагонов, заказанных специально для нас. День и ночь нас охранял взвод нянек, гувернанток, наставников, лакеев, слуг, шоферов и грумов». Жизнь младшего поколения была полностью подчинена чужому расписанию. Денег на детей не жалели, но никто не присматривался к их личным нуждам или индивидуальным особенностям.
До войны рутина не менялась. Дети спали в одной комнате с няней, которая будила их в семь. После ванны девочек затягивали в тугой корсаж, надевали на них безупречно отглаженную нижнюю юбку, а сверху – накрахмаленное белое платье. У каждой девочки в семье имелась лента своего цвета, которую она повязывала как пояс. Мириам всегда носила голубую ленту, Либерти – розовую, а Ника – красную. Волосы полагалось расчесать, сделав ровно сто взмахов щеткой, а затем закрепить черепаховыми гребнями. Виктор, единственный сын и наследник, учился в закрытой школе и с сестрами виделся только на каникулах. Общение с родителями тоже было ограничено. Когда Розика бывала дома, девочек приводили к ней в будуар. Там они преклоняли колени, складывали ручки и молились: пусть «Бог сделает меня хорошей маленькой девочкой. Аминь». Еврейских обычаев их мать не соблюдала. Укладывали детей тоже по расписанию, и по выходным они старались не засыпать, дожидаясь возвращения отца, – захрустит гравий под копытами лошадей, освещенная газовыми факелами карета неторопливо прокатит по подъездной дорожке.
Обед детям приносили в детскую, за стол с родителями сажали только по достижении шестнадцати лет. Еду высочайшего качества готовил известный французский повар, тративший 5000 фунтов в год только на рыбу. Меню также было неизменным: в понедельник к завтраку подавали вареную рыбу, во вторник – вареные яйца, в среду – вареные яйца, в четверг – рыбу и так далее. Расписание и меню в Тринге были, по словам Мириам, «безупречны, монотонны, невыносимо скучны».
Действительно, расписание дня повторялось, как и меню. По утрам, в одно и то же время, детей выводили на прогулку в парке. Бегать и играть в прятки воспрещалось, потому что девочки могли запачкать белые платьица или потеряться. Зато животным дозволялось бродить в парке на воле, отведенная им территория, за высокой оградой, превратилась в рукотворный Эдемский сад. Там паслись лани, кенгуру, гигантские черепахи, эму, нанду и казуары – питомцы дяди Уолтера. Эму пугали детей: выбивали ногами барабанную дробь и гонялись за колясками в надежде на угощение. Мириам запомнила, как гигантские птицы заглядывали к ней в коляску – «противные глазки-буравчики и длинные клювы».
Зимние месяцы проводили в Тринге, но летом дети, вместе с обслугой и животными, перекочевывали в Эштон-Уолд, примерно в ста километрах от родовой усадьбы. Пронафталиненный на зиму дом распахивал двери, с мебели снимали чехлы, чистили конюшни и подъездные дорожки в ожидании Чарлза с семьей. Эштон, по сравнению с Трингом, был не столь парадным, но и там имелось двадцать постоянных слуг, а летом их число возрастало в связи с дополнительными работами.
Когда Чарлз бывал дома, дети помогали ему ловить и насаживать на булавки бабочек и других насекомых. На это время заведенный порядок отменялся. Дети обожали Чарлза, он был для них «идеальным отцом». И Виктор, и Мириам, и Ника говорили мне о его умении шутить. Мириам вспоминала: «Мой отец был человек с юмором, он любил каламбуры и шутки. Спросит, например, чем олень отличается от лошади. Мы себе голову ломаем. А потом пояснит: лошадь работает, а о-леню – лень, и все хохочут». Ника, Мириам и Виктор передавали мне эту шутку в разных версиях. «Иногда он заглядывал к нам в детскую и рассказывал анекдоты, которых я не понимала, но няни катались от хохота». У себя в кабинете Чарлз хранил золотой слиток и обещал отдать его тому из детей, кто сумеет поднять слиток одной рукой. Ника, ее сестры и брат напрягались и пыхтели, но никому этого сделать не удалось. В пору моего детства дедушка Виктор проделывал тот же трюк, когда мы наведывались к нему в банк.
Счастливым воспоминаниям Ники об отце всегда сопутствовала музыка. Возвращаясь с работы, Чарлз велел детям заводить граммофон и выбирать пластинку. Он любил и классику, и новаторов, Стравинского и Дебюсси, пленялся и свежей гармонией, рожденной в Америке, охотно слушал регтайм в исполнении молодого Скотта Джоплина. После Первой мировой появились новые пластинки: Чарлз приносил домой Бикса Бейдербека, первые записи Луи Армстронга с оркестром Флетчера Хендерсона, «Рапсодию в голубых тонах» Гершвина, и мелодии разносились по всему дому.
Хотя Виктора отправили в Харроу, формальное образование для девочек родители Ники считали излишним и с заведомой неприязнью относились к учителям. «Они представляли себе школу как в „Дэвиде Копперфилде“», – поясняла Ника. Думали, это подавляет в ребенке индивидуальность.
Ежедневно на запряженной пони коляске в усадьбу доставляли гувернанток, учивших в основном рукоделию и музыке. Девочек не подготовили даже к менструации, они понятия не имели о мужском половом органе. Иногда в доме гостили кузены Ротшильды, но посторонних детей они только мельком видели из окна машины или кареты. «Поблизости жили аристократические семейства, но они не приглашали к себе еврейских детей, разве что на массовые мероприятия», – вспоминала Мириам. Ника и ее сестры принадлежали к категории «жидов», «не таких, как все».
О школьных успехах Виктора остались документальные свидетельства, но никаких следов занятий Ники, не говоря уж о прочитанных ею книгах или написанных сочинениях. Мириам рассказывала мне: «Уроки были днем, с большими перерывами на игру. А в пять часов прикатывала коляска с пони и развозила гувернанток по домам. Когда меня лет в шестнадцать или семнадцать спросили, что мы проходили по истории, я ответила: "Дальше римлян мы не продвинулись"».
Наведавшись в семейный архив в Лондоне (он по-прежнему располагается в банке на Сент-Суизин-лейн), я прочесала записи в поисках хоть каких-нибудь упоминаний о Нике. Поиски затрудняла еще одна семейная мания – уничтожать все личные записи. Сохранялись лишь публичные документы, а они, как правило, детей не затрагивали. До сих пор помню, как обрадовалась, в кои-то веки заприметив имя Ники в книге посетителей за 1928 год: между именами ее сестер, герцога, министра и иностранного принца пристроился крупный, кудрявый росчерк: «Панноника Ротшильд».
Еще одно радостное открытие – альбом с фотографиями Ники, обнаружившийся в Эштоне. Стеллажи Мириам ломились от книг и других предметов. Фотографии родственников и знаменитостей чередовались с томами, написанными самой Мириам или ее друзьями. И вот в глубине одной из нижних полок я случайно наткнулась на альбом в темно-синем кожаном переплете с золотым тиснением «Панноника». Годами к нему никто не прикасался, альбом пах сыростью и забвением. Вокруг пригоршнями конфетти валялись мышиные катышки, но сам альбом, к счастью, грызунам не приглянулся. Внутри, на плотных страницах со следами времени, я увидела фотографии маленькой симпатичной девочки, которая с каждой страницей взрослела и превратилась в изумительно красивую девушку-подростка. Фотографии делались только официальные, в неизменном (увеличивался только размер) наряде: Ника всегда в белом кружевном платье, волосы аккуратно причесаны и перевязаны лентами, носочки всегда одной и той же длины. Но даже в этих парадных нарядах и позах девочка смотрит напряженно и пристально, словно бросая вызов камере: попробуй-ка передать ее суть, ее личность. Приметы времени и декорации блекнут рядом с ее яркой и дерзкой красотой.
Понемногу у меня сложилось представление о том, как прошло детство Ники. У детей Ротшильдов не только не было друзей за пределами семьи, но не было и возможности побыть наедине с собой. В доме работало тридцать с лишним слуг, еще как минимум шестьдесят – на ферме, в конюшне и садах. Дети спали в одной комнате с няней, ели в присутствии лакеев, стоявших у каждого за спиной, катались верхом в сопровождении грумов, ванну принимать помогали горничные, а на прогулку водили гувернантки. Сверх обычного набора – дворецкий, экономка, повара, лакеи, горничные, няни, грумы, садовники, шоферы – имелись такие должности для прислуги, о каких я никогда не слыхивала и даже вообразить себе не могла. Специальный парнишка отвечал за глажку цилиндров, а «грум салона» был вовсе не грумом, который при лошадях, а присматривал за произведениями искусства. «Запасной работник» проверял пожарные ведра, имелись специальные люди, заводившие часы и будильники, уничтожавшие вредителей и полировавшие решетки.
«Ничего другого я не знала и думала, что так устроен мир. Мне казалось, так будет всегда, это воспринималось как закон природы, как восходы и заходы солнца, – рассказывала о своих детских ощущениях Мириам. – Самая настоящая клетка, ни на йоту свободы. В том-то и беда: все было отлажено до совершенства, но для детей – сплошные повторы и скука».
Жизнь старших членов семейства Ротшильд, как большинства светских людей, задокументирована в придворной хронике The Times – тогдашнем аналоге журнала Hello! с тем отличием, что вместо сенсаций тут давалась самая безобидная информация («Леди Ротшильд выехала из Лондона в Тринг-Парк» или «Миссис Ротшильд приглашена на чаепитие к принцессе Александре») и торжественно перечислялись все участники больших приемов. Когда Эмма была помоложе – и пока Чарлз не начал уходить в себя, – большие приемы проводились в Тринге, обеды и ужины на несколько сот человек, живая музыка, празднества, представления. Нике запомнилось, как на какое-то мероприятие явился Альберт Эйнштейн и показывал детворе фокусы, в том числе снял с себя рубашку из-под пиджака.
Брак с Розикой помог лишь на время, потом на Чарлза вновь начало «накатывать». Вскоре после рождения Ники (в 1913 году) он впал в депрессию, порой по нескольку дней сряду не разговаривал. Поначалу родные делали вид, будто ничего не происходит. Чарлз выходил к семейной трапезе, но сидел в глухом молчании, а потом возвращался к себе в комнату и смотрел безучастно в окно или в свой микроскоп.
Чем дольше затягивалась Мировая война, тем глубже Чарлз погружался в апатию, и в конце концов семья уже не могла игнорировать ситуацию. После 1916 года он и его супруга не фигурируют в списках гостей ни на одном светском мероприятии: во второй половине этого года Чарлза отправили подлечиться в санаторий в Швейцарии. Но, хотя отправляли его для восстановления здоровья, запросами из банка Чарлза бомбардировали и там: то проблемы с пенсиями для старых служащих, то изменилась маркировка золотых слитков, какие-то выплаты в связи со смертью кузена Альфреда, продажа доли в Рио-Тинто – это я лишь малую часть перечисляю. А Чарлз тем временем пытался осуществить свою мечту создать природный заповедник: частная переписка отражает попытку приобрести в Эссексе землю для организации естественного парка.
Чарлз провел в Швейцарии два года. Его возвращение приветствовали с величайшим оптимизмом, с большими надеждами, но вскоре стало ясно, что лечение не подействовало. Ужасное разочарование для семьи, но для Ники жизнь в такой среде, на фоне постоянной душевной нестабильности отца, сделалась нормальной.
В одиночестве она все больше привыкала полагаться только на себя. Родители почти все время проводили вместе, старшие сестры, очень дружные, редко приглашали малявку в свои игры. Виктор уезжал в школу. Дядя Уолтер жил на отдельной планете своего частного музея, стареющая бабушка Эмма детьми не занималась. Позднее Ника искренне говорила: «Моими единственными друзьями были лошади». Ее детство прошло в роскошной обстановке – и в полной заброшенности. Родственница, знавшая Нику с детства, отмечала, что девочка все более дичала. Ей требовалось влезть на каждое дерево с развесистыми ветвями, а если на пути попадалась высокая ограда, Ника направляла к ней своего коня и заставляла прыгать.
В такой герметичной и разреженной атмосфере Ника, Мириам и Либерти должны были существовать, пока не повзрослеют. Многие их родственницы так и не покинули замкнутый мир Ротшильдов, оставшись старыми девами или же вступив в брак с кузенами. В результате, при всем их немыслимом богатстве и космополитическом происхождении, кругозор у девушек был даже более ограниченный, чем у многих не столь благополучных сверстниц. Богатство и возлагавшиеся на девиц надежды подрезали им крылья – они были пленницами, как бабочки в коллекции Уолтера. Не имевшие независимых средств и доступа к основному капиталу, женщины семейства Ротшильд жили на содержание, выделяемое беспрекословным распоряжением или капризом отца, – в роскоши, зависимости и без права голоса. В семейную хронику заносили только имена дочерей старшего сына, а их мужья и дети уже никого не интересовали.
Но в плену пребывали и мужчины этой семьи, росшие в сознании, что их жизнь принадлежит семейному бизнесу. Ответственность перед родом тяжким бременем ложилась на плечи каждого члена семьи, но кто-то ухитрялся его сбросить. Мириам, Либерти и Ника были не из покорных, и спокойная домашняя жизнь была им не по нраву. Их нежили в роскоши, но их способности оставались нереализованными, никакой отдушины для их талантов и своеобразия, и будущее всех трех сестер неуклонно сужалось. Какие у них были перспективы? Бороться, бежать или барахтаться. Каждая из трех сделает свой выбор.
5 Бесконечная темница
– Да ты хоть что-нибудь знаешь?
Мириам пришла в ярость, убедившись, что о наших предках Ротшильдах я не знаю почти ничего. Мы обедали вдвоем с ней в Эштон-Уолде. Я допустила серьезный промах – попыталась блефовать. Надуть Мириам еще никому не удавалось.
– Я никогда особо не интересовалась, – признала я и добавила в жалкой попытке оправдаться: – До сих пор.
– Не интересовалась! До сих пор! Ты хоть понимаешь, что судьба человека формируется задолго до его рождения? Мы же не из воздуха заводимся. Что-нибудь знаешь о хромосомах, генетике? Даже Библия учит, что грехи отцов скажутся на четырех поколениях – как минимум! – отчитывала она меня, а я, чувствуя себя дурой, кое-как оборонялась.
Мне казалось, семейной историей люди занимаются на старости лет, тогда же, когда возделывают клумбы и думают о душе. К тому же Ника целиком принадлежала XX веку. Но оправдания быстро исчерпались, и я взяла билет на самолет до Франкфурта – в город, где начиналась семейная история Ротшильдов.
Влажным зимним утром я прибыла в Германию, вооруженная камерой и адресом. Собиралась отыскать дом, где жили первые Ротшильды, но нашла лишь бетон и гудронное покрытие на том месте, где прежде стоял этот дом. Во время союзнических бомбардировок 1944 года уцелела только часть одной стены. По узким переулочкам, где подрастал родившийся в 1744 году основатель династии Майер Амшель, ныне проходит автобан. С помощью музея и архива Ротшильдов я начала понемногу складывать семейную историю.
В 1458 году император Фридрих III издал указ: евреям разрешается пребывать во Франкфурте лишь за плату и с условием, что они будут селиться на огороженной, битком забитой улочке на северо-восточной окраине города. Еврейская улица, вернее, узкий переулок длиной в сто с небольшим метров поначалу предназначался для ста жителей, но к XV веку там теснилось более пятисот семейств. В XVIII веке в Judengasse каким-то образом умещалось три тысячи человек. Предпринимались попытки ограничить еврейское население: разрешалось играть не более двенадцати свадеб в год, и то при условии, что и жених, и невеста достигли двадцатипятилетнего возраста. Поскольку евреям запрещалось владеть землей, заниматься сельским хозяйством, появляться в парках, гостиницах или кофейнях, а также приближаться на сто футов к городскому собору, у евреев оставался довольно-таки скудный выбор профессий за исключением ростовщичества и немногих ремесел.
Поскольку законы страны, где они жили, не давали им защиты, еврейские общины вырабатывали собственные системы правосудия, здравоохранения, молитвы, образования, традиций. По сути дела, они представляли собой государство в государстве, что еще более отчуждало их от немецкой общины, с подозрением относившейся к евреям. Ростовщичество принадлежало к числу немногочисленных занятий, которые дозволялись евреям. Иудейская религия не запрещает иметь дело с деньгами и наживать их – напротив, евреям предписывается обогащаться для блага всей общины. Каждый должен был отдавать не менее 10 % годового дохода на благотворительность.
Вплоть до XVIII века евреям разрешалось покидать Judengasse только в одежде с двумя желтыми кольцами на камзоле, а женщины должны были закрывать лицо. При виде христианина еврей должен был обнажить голову, опустить глаза и прислониться спиной к ближайшей стене, пропуская его. У входа в дом Ротшильдов красовалось граффити «Еврейская свинья»: изображались два раввина, сосущие вымя свиньи, а третий совокуплялся с этим животным. Сверху был нарисован маленький мальчик, весь в крови от ножевых ран, – вероятно, святой Симеон, якобы «убитый евреями». Согласно популярному стереотипу, кровь невинных христианских младенцев требовалась евреям для приготовления мацы.
Чем дальше я читала, тем острее сознавала правоту Мириам. Еще бы ей на меня не сердиться: я принимала семейное богатство за что-то само собой разумеющееся и не потрудилась узнать, как мои предки мучились и боролись в начале пути. Их достижения кажутся тем замечательнее, чем внимательнее читаешь старинные описания переулка, где выросли первые Ротшильды, – трущобы столь убогой, что иностранные туристы, в том числе Джордж Элиот, считали обязательным осмотр этого места во время большого европейского путешествия. Гете писал: «Грязь, теснота, раздраженные голоса – все в совокупности производит неприятнейшее впечатление даже на прохожего, который мельком заглянет за ворота». Когда же Гете собрался с духом и вошел в Judengasse, он с изумлением убедился в том, что обитатели Еврейского переулка – «тоже люди, трудолюбивые и приветливые, и остается лишь восхищаться упорством, с каким они держатся за свои традиции». Другой путешественник, побывавший в этой дыре, отозвался не столь позитивно: «Даже те, кто находится еще в цветущем возрасте, похожи на ходячих мертвецов. Смертельная бледность угнетающе выделяет их среди прочих горожан». Неудивительно, что средняя продолжительность жизни в гетто была на 58 % ниже, чем у живущих на соседней улице христиан.
Наш родоначальник Майер Амшель остался сиротой в 1756 году, двенадцатилетним: в Еврейский переулок наведалась чума. Когда он вырос, то удачно женился на Гутле Шнаппер, дочери придворного поставщика герцога Саксен-Мейнинген, и на приданое жены открыл небольшой монетный бизнес. В возрасте сорока с лишним лет Майер Амшель занимал одиннадцатое место среди богачей Judengasse и сумел купить довольно большой дом – по фасаду всего четыре с половиной метра, зато шестиэтажный. У супружеской четы родилось девятнадцать детей, десять из них дожили до совершеннолетия. Имя «Ротшильд» по-немецки означает «Красный щит» – так назывался дом в XVI веке.
Гутле и Майер Аншель все еще жили в Judengasse и пытались сохранить и вырастить своих детей, когда немецкий поэт Людвиг Борн описывал этот переулок так:
«Бесконечная темница, куда еще не заглядывал восхваляемый свет XVIII столетия… Перед нами простиралась длиннейшая улица, а по бокам оставалось слишком мало места, чтобы мы могли по своей прихоти развернуться. Над головой уже не видно неба на ту ширину, которая требуется солнцу, – неба не видно, хотя виден солнечный свет. Дурной запах окружал нас со всех сторон, одежда, которая должна защищать от заразы, впитывала также и слезу сострадания – или скрывала злорадную усмешку – глазевших на нас евреев».
А ведь среди глазевших на Борна могли быть и Гутле и Майер Амшель. Они, должно быть, ломали себе голову в поисках выхода из Judengasse, думали, представится ли их детям шанс прожить жизнь за тесными пределами этого переулка. В ту пору эта мечта казалась безнадежной – сколько уже поколений, сколько талантливых, отчаянно мечтавших о лучшем евреев так и сгинули! Возможно, дети, которых описывает ниже поэт, были дети Ротшильдов, и даже тот самый Натан Майер, который возглавит лондонский филиал банка:
«Мы усердно пробираемся по грязи и замедляем шаг, чтобы как следует все разглядеть. Ноги ставим осторожно, не наступить бы на ребенка. Дemu бултыхаются в канаве и ползают в грязи, бесчисленные, словно мухи, вызванные солнцем к жизни в навозной куче. Как можно отказывать этим малышам в их самых невинных желаниях? Если детские забавы – прообраз взрослой жизни, то жизнь этих детей кажется могилой для всякой надежды, всякой радости, дружбы, любых наслаждений. Вы опасаетесь, как бы нависающие над головой дома не обрушились? Не бойтесь! Они стоят надежно: клетки для пленников с подрезанными крыльями на краеугольном камне злой воли».
«Родилась бы ты там, только и думала бы о побеге», – меланхолично обронила Мириам.
Я развернула на полу рисунок нашего генеалогического древа. Девять поколений отделяют отца-основателя от самого младшего члена рода. Меня от Judengasse отделяет семь поколений, Нику – всего пять. Она родилась через сто лет после смерти Майера Амшеля, но ее с теми временами непосредственно связывала бабушка Эмма, родившаяся во Франкфурте в 1844 году и нередко бывавшая в гостях у прабабушки Гутле – та до самой смерти в 1849 году жила в Еврейском переулке. Мне вообразилось, как маленькая Ника сидит у ног Эммы и слушает ее рассказы о том, как маленькая Эмма когда-то слушала рассказы Гутле. Из поколения в поколение передавалась память, и никто не смел забывать.
Гутле Ротшильд, сильная, гордая женщина, не пожелала покинуть гетто даже тогда, когда ее муж, дети и внуки нажили огромное состояние. Другой наш родственник, Фердинанд, описывал визит к старухе, которая приняла его в «убогом маленьком жилище», где она возлежала «на кушетке в маленькой темной гостиной, окутанная плотной белой шалью, лицо в глубоких морщинах пряталось в закрытый белый чепец, весь в ленточках». Гутле на тридцать семь лет пережила мужа, но, несмотря на такое долголетие и наличие собственных средств, жизнь Гутле, как и жизнь многих других женщин из ее рода, определялась условиями завещания, составленного ее мужем.
У Гутле имелись также особые убеждения, или суеверия. Она полагала, что если покинет Judengasse, то в ее детях и внуках померкнет память об истоках семьи. По мнению Гутле, страх перед возвращением в гетто мог послужить наилучшим стимулом, чтобы младшие Ротшильды старались и дальше преуспевать. Страх лежал в основе семейного честолюбия. Только деньги и власть могли защитить от антисемитизма, от прежней жалкой участи. Сотни лет гонений превратили Ротшильдов в замкнутую и держащую свои секреты про себя семью. Чужакам они не доверяли и не думали, что другие люди в состоянии понять, через что они прошли. Талант наживать деньги в сочетании с маниакальной секретностью – это-то и нужно банкиру. Ротшильды предлагали своим клиентам самые драгоценные услуги: тончайшее знание финансов и безусловную конфиденциальность.
Покинуть свой тесный переулок и смешаться с внешним миром Ротшильды смогли только в 1790-х годах, когда французы, обстреливая Франкфурт, разнесли Judengasse, лишив две тысячи человек крыши над головой. К тому времени семейный бизнес охватывал уже не только монеты, но и зерно и хлопок. С началом промышленной революции, с развитием технологий и транспорта Ротшильды стали импортировать более дешевый и лучшего качества хлопок с севера Англии. Майер Амшель понимал, что костяк любого бизнеса составляют опытные, сведущие и надежные сотрудники. Ему не пришлось далеко искать таких помощников – он сам их выращивал. Из десяти выживших детей пятеро были мальчики. Амшель, Натан Майер, Карл, Соломон и Иаков жили в одной комнате своего скромного обиталища и на всю жизнь сохранили близость.
Покинув Еврейский переулок, добившись первоначального успеха, Майер Амшель расхрабрился и предпринял следующий дерзкий шаг – отправил пятерых сыновей в пять европейских столиц и таким образом основал первое международное партнерство. С 1820-х по 1860-е годы эти пятеро утверждали свой банк в Европе. Во Франкфурте после смерти Майера Амшеля бизнес перешел к его старшему сыну Амшелю, парижским филиалом руководил самый младший, Иаков, Карлу достался Неаполь, Соломону – Вена, а Натан Майер (известный под инициалами НМ) основал отделение в Лондоне.
– В сущности, они создали прообраз Евросоюза, – рассуждала Мириам. – Порой они спорили, в каждой семье случаются споры, но они расселились по миру и продолжали вместе трудиться ради общей цели.
Историк Найл Фергюсон в канонической биографии Ротшильдов утверждал:
«В период с 1815 по 1914 год это был крупнейший в мире банк. XX век не создал ничего равного ему, даже современные международные банковские корпорации не обладают тем превосходством, каким располагали Ротшильды в пору расцвета». Основную часть своего состояния, поясняет историк, Ротшильды нажили на правительственных займах и облигациях.
Первым серьезным испытанием для банка стало финансирование армии Веллингтона в 1814 году. Рискованные обменные операции, спекуляции на стоимости облигаций и комиссионные по займам позволили семье получить огромную выручку. Записи указывают, что в 1818 году совокупный капитал составлял 500 000 фунтов, а к 1828-му достиг 4 330 333 – почти в четырнадцать раз больше, чем у второго по величине банка Baring. В отличие от многих других банкиров Ротшильды возвращали прибыль в дело. Для правительств, которым требовался надежный источник финансирования и крупные займы, Ротшильды оказались незаменимы. Позабыв об антисемитизме, короли и премьер-министры устремились в банк на Сент-Суизин-лейн.
Ротшильды создали систему кредита и дебета, которая освобождала и частных лиц, и государства от традиционных форм расчета. Прежде любая транзакция подразумевала переход какого-то предмета – земли, металлов, собственности – из рук в руки, но облигации не привязывались к физическому обладанию, достаточно было обещания уплатить деньги. «Ротшильды не только сместили старую аристократию, – пишет Фергюсон, – они положили начало новой материалистической религии».
Эти пятеро евреев, которые всю молодость прожили как парии, сумели обосноваться в совершенно чужой стране, без каких-либо связей, без знания языка и завоевать доверие правителей. Мой дед Виктор считал, что все дело в твердом характере и решимости и что из всех пятерых в наибольшей степени обладал этими качествами Натан Майер.
НМ поныне накрывает своей тенью историю британских Ротшильдов. Его портреты висят в холлах наших домов, его имя произносится почтительно и боязливо. Четвертый ребенок Гутле и Майера Амшеля родился, как и все прочие, в Judengasse. В 1799 году, в 22 года, он прибыл в Манчестер – без образования, ни слова не говоря по-английски. Но план у него имелся. Он выяснил, что торговцы тканями не общаются между собой, и уговорил их объединиться и вместе добиваться справедливой цены. Эту же модель бизнеса его братья внедряли в других городах Европы.
Как и все его родичи, НМ обладал истинным талантом конфиденциальности. На вопрос журналиста «Как вы достигли такого успеха?» НМ едко отвечал: «Занимался своим делом и не лез в чужое». Однажды он забыл в манчестерском дилижансе свой саквояж и, разумеется, хотел получить свои вещи обратно, однако не мог выдавить из себя более подробное их описание, нежели: «Темная шляпа и плащ».
22 октября 1806 года Натан Майер женился на Ханне Барент Коэн, старшей дочери Мозеса Монтефиори, ведущего лондонского финансиста. Через этот брак НМ приобщился к кругу влиятельных единоверцев – Монтефиори, Соломонов и Голдшмитов. А вот любовь к музыке Ника унаследовала никак не от него: на вопрос о том, как он относится к этому виду искусства, НМ, запустив руку в карман и бренча монетами, отвечал: «Предпочитаю такую музыку».
Стремительный взлет Ротшильдов породил догадки и сплетни. Откуда ни с того ни с сего взялись эти люди? В чем их тайна? Какими трюками или мошенничеством стяжали они богатство? Казалось невероятным, чтобы за одно поколение семья из безвестности вознеслась до уровня королевских финансистов и советников. Они даже переписывались на непонятном языке, на идише – специфической смеси иврита и немецкого.
И хотя от Еврейского переулка они освободились, но от враждебного окружения отнюдь не избавились. В 1891 году Макс Бауэр обличал их в памфлете: «Дом Ротшильдов – бесформенная структура, нечто паразитическое, расползшееся по земле от Франкфурта до Парижа и Лондона, словно перепутанные телефонные провода». Антисемитская болтология Эдуарда Дрюмона «Еврейская Франция» оказалась настолько популярна, что ее переиздавали двести с лишним раз. «У Ротшильдов, при всем их богатстве, вид старьевщиков», – писал он. А позднее добавил: «Господин Ротшильд обладает всеми преимуществами власти и ни каплей ответственности, он в личных целях распоряжается всеми правительственными структурами, всеми ресурсами Франции». Уильям Теккерей, бывавший в гостях в Тринге и Уэддесдоне, добавлял: «НМ Ротшильд играет с новыми правителями, как юная девица с куклами».
Рассказы «очевидцев» о действиях НМ в 1815 году после Ватерлоо (сочиненные, разумеется, задним числом) представляют собой типичный пример тех нелепых слухов и теорий заговора, которыми окружена эта таинственная семья. Одни утверждали, что банкир отправился на поле боя с почтовыми голубями и выпустил их, когда исход боя стал ясен. Птицы полетели прямиком к его агентам на бирже и принесли им распоряжение: «Покупайте английские, продавайте французские».
Французский журналист Жорж Матье-Дейрнвелл сообщал, что НМ в момент прибытия голубей сам находился в Лондоне. Он вышел в торговый зал биржи, притворился, будто разорен, разыграл банкрота с разбитым сердцем. При виде всемогущего Царя Евреев, простертого во прахе, дрогнули все и кинулись продавать свои акции, а хитрый старый НМ обежал вокруг здания и скупил все акции по дешевке. Его обвиняли также в подкупе генералов, в том, что он затевал крупные спекуляции в пользу своего банка.
Подлинную историю НМ и Ватерлоо исследовал и опубликовал Виктор. Он доказал, что НМ в этот момент находился в Лондоне и весть о победе англичан получил от служащих своего брата. Передав эту новость премьер-министру, лорду Ливерпулю, НМ прямиком отправился на биржу и скупил акции по заниженной цене. Прибыль составила миллион – в ценах сегодняшнего дня более двухсот миллионов.
В скором времени британское правительство стало обращаться к семейству Ротшильд за кредитом. Когда премьер-министру Дизраэли понадобилось финансировать строительство Суэцкого канала, он обратился к своему другу Натану Ротшильду, сыну НМ, только что возведенному им в пэры.
– Сколько? – поинтересовался лорд Ротшильд.
– Четыре миллиона фунтов, – ответил Дизраэли.
– Когда?
– Завтра.
– Кто поручитель?
– Правительство Британии.
– Деньги будут.
Некоторые еврейские семьи крестились, желая ассимилироваться. Ротшильды оставались иудеями, они гордились принадлежностью к этой древней религии, хотя мало кого из британских Ротшильдов можно назвать верующими. Ника вовсе не обучалась еврейским законам и обычаям. Не казалось ли ей это странным: носить фамилию Ротшильд, считаться из-за этого еврейкой, знать, что такое антисемитизм, но при этом понятия не иметь о собственно еврейской культуре? Все четверо детей Чарлза и Розики попали в зазор между двумя мирами, не сделались христианами, не понимали иудаизма. Они оказались на ничейной земле, между неевреями, для которых Ника была чужой, и настоящими евреями, которые сразу же видели, что молодые Ротшильды – не из их числа.
Прежние поколения Ротшильдов сумели создать для своих детей самодостаточный мир, основанный на иудейской вере, приверженности семье и общих амбициях. Когда же эти стимулы стали значить гораздо меньше прежнего, исчез корень, скреплявший различные ветви семьи, и как раз на уровне Никиного поколения семья начала распадаться.
В поколении ее дедов четырнадцать браков из девятнадцати были заключены между членами рода. Прадед Ники Лайонел женился на своей кузине Шарлотте, ее бабушка Эмма тоже состояла в родстве с ее дедом Натти. Заключались и союзы между дядьями и племянницами. Причину этих внутрисемейных браков одни видят в желании сохранить нетронутым капитал, другие – просто в отсутствии других еврейских семей того же уровня, где можно было бы найти невест. Возможно также, что эти истово работающие мужчины не имели времени, да и особого желания, знакомить дочерей с ухажерами. Они трудились вместе, жили одной семьей, а больше ни с кем не общались.
К тому же кто, кроме Ротшильдов, заслуживал доверия? Кто мог понять, из какой убогости они поднялись? Женщины рода разделяли это прошлое, как и стремление мужей обеспечить детям лучшее будущее, свободное от бедности и преследований. Они держались кучно, словно олени, бегущие от хищника: в этом была их лучшая защита, отбившийся от стада погибал. Тесные, до инцеста, семейные связи стали важным ингредиентом в рецепте успеха, но с генетической точки зрения это была бомба замедленного действия.
Христиане с VI века запретили близкородственные браки – и правильно сделали. Наука подтверждает, что инбридинг повышает вероятность проявления определенных видов душевных расстройств. Мириам называла это «настроениями», но более откровенные члены семьи говорили о шизофрении. Медицинские записи, оставшиеся от прошлых поколений, уничтожены, а современные засекречены, так что диагноз не поставишь, однако известно, что имеются физиологические причины умственных расстройств и эта склонность может быть наследственной. Например, для шизофрении вероятность заболевания составляет один к ста, но шансы повышаются до одного к десяти, если этим недугом страдает кто-то из ближайших родственников. Шизофрения, вопреки распространенному мнению, это не раздвоение личности. Среди симптомов значится неупорядоченность мышления, бред, зачастую галлюцинации. Спровоцировать проявление этой болезни может какое-то событие, стресс или наркотики. Каждый случай индивидуален, панацеи не существует. Эта болезнь будет преследовать Нику в разные периоды ее жизни – подчас весьма неожиданным образом.
6 Ротшильдиана
Настало время воздать дань уважения НМ и наведаться к месту его последнего упокоения. Отец объяснял мне, что по обычаю потомки должны каждый год возлагать камень на могилу предка в знак памяти и почтения, однако получить доступ на кладбище, где похоронен НМ, оказалось не так-то просто в связи со всплеском антисемитизма и недавним осквернением еврейских захоронений в нескольких городах Европы. Холодным утром февраля 2008 года член Объединенной погребальной комиссии при синагоге отпер передо мной железные ворота, утопленные в высокой кирпичной стене чуть в стороне от Уайтчепел-Хай-стрит, и тактично остался ждать снаружи, укрывшись от ветра под навесом соседнего жилого дома. Если бы не попадался порой лук кустистый да цикламены и не доносились голоса детишек-мусульман из школы поблизости, можно было подумать, что здесь время остановилось.
Надгробия, в основном 1761–1858 годов, развалились; еврейские надписи поросли мхом и лишайником, в заброшенном саркофаге поселились лисы. Там, где надписи удавалось разобрать, в них отражались история и социальные устремления английских евреев той поры. Иногда указывался адрес – но только далекий от Уайтчепела, то есть свидетельствующий, что иммигрант вырвался из трущоб и сумел перебраться в приличный пригород. Обозначаются и профессии: вот рыба для рыботорговца, а плотник изображен обстругивающим полено. На вершине еврейского общества – коэны, на камне вырезаны две руки для благословения, а эмблема подчиненных им левитов – кувшин, из которого они поливали на руки коэнам. Надгробия НМ и его жены Ханны сделаны из больших белых камней. Очень простые, указаны только имена и даты, а у Ханны Ротшильд также приписка: «Я здесь. Хвалите Господа».
Я аккуратно положила по камешку на каждое надгробие.
Уайтчепел, в сердце Ист-Энда, на протяжении столетий принимал одну за другой волны иммигрантов: сперва гугенотов, потом евреев, за ними ирландцев, недавно на его узких улочках обрела убежище быстро растущая община бангладешцев. Переведя свой бизнес из Манчестера в Лондон, НМ в 1809 году купил дом поблизости, на Сент-Суизин-лейн, где и теперь находится банк, и стал посещать синагогу «Бевис Маркс» – до нее всего несколько сот метров. Этот район, ныне прозванный «Банглатауном», стал его подлинным (пусть и приемным) домом, отсюда банковские операции распространились на всю Британию. Сам НМ скоропостижно умер в Германии в 1836 году, в возрасте всего пятидесяти восьми лет, но по его ясно выраженной воле тело покойного возвратилось в Англию и упокоилось в месте, которое он успел полюбить, – неподалеку от многочисленных благотворительных организаций, которые он основал, в сердце финансовой столицы, где он имел столь внушительный успех.
Большую часть жизни H. M. Ротшильд довольствовался скромным жилищем в пригороде и до самой смерти занимался всеми, даже наименее важными, транзакциями своего банка. Как многие члены семьи – и до него, и после, – этот Ротшильд потребовал, чтобы после его смерти личные бумаги сожгли, но последние деловые распоряжения сохранились в архиве Ротшильдов: продайте облигации казначейства, отправьте сто тысяч соверенов в Париж, купите двести акций «Дуная», пришлите сто бутылочек лавандовой воды и ящик хороших апельсинов и не позволяйте садовнику делать что ему вздумается.
Отец-основатель династии, Майер Амшель, не одобрял пышности и потребления напоказ: не стоит вызывать у людей зависть. Отложив сколько-то денег, он купил сад в уверенности, что этот вид роскоши не привлечет недоброжелательного внимания. Следующее поколение уже не признавало подобной скромности: деньги есть – надо пустить их в ход и наслаждаться жизнью. К тому же молодые Ротшильды поняли, что дело делается не только в банках, что власть и политика формируются в гостиных и во время лисьей охоты. В Англии заседание обеих палат парламента было лишь продолжением обеда в имении. Чтобы продвигаться дальше и закрепить достигнутое, Ротшильдам пришлось зазывать к себе могущественных и известных. Теперь у них хватало средств, чтобы принимать на самую широкую ногу.
Новые дома члены семьи обустраивали друг подле друга: по-прежнему высоко ценилось единство. В Лондоне они селились в особняках на Пиккадилли, за городом облюбовали долину Айлсбери, куда можно было быстро доехать на поезде. Там они создали знаменитые на весь Бакингемшир усадьбы Ментмор, Холтон, Астон-Клинтон, Халкотт и Биртон. В 1883 году НМ арендовал поместье Тринг, а позднее сын НМ Лайонел выкупил это поместье и отдал своему сыну с невесткой – Натти и Эмме. Ротшильды из различных ветвей рода уверяли, что в ясный зимний день они могли помахать друг другу рукой с крыш своих палаццо. Эти дома были самым что ни на есть дорогим и вульгарным воплощением богатства. Огромные, трехмерные визитные карточки: «Мы тут. От нас не отделаешься».
Как и многим другим нуворишам, Ротшильдам деньги заменяли вкус. Они хотели окружить себя всеми признаками богатства – и поскорее. Существует рассказ – быть может, это апокриф, но уж слишком он хорош – о том, как французский кузен Ники Жак организовал для короля Франции охоту на фазанов, а чтобы произвести впечатление, распорядился обучить попугаев выкрикивать Vive le roi и выпустил их порхать среди обреченных на отстрел птиц.
Разумеется, Ротшильды оказались всего лишь очередными «выскочками» в длинной цепочке людей, возводивших капища собственного успеха. Легендарные дворцы в Бленхейме, Хьютоне, замок Говард и Вентворт-Вудхауз – все это памятники военных побед, ловкости в торговых делах или политической проницательности, и все они в свое время шокировали и удручали соседей. Но время шло, излишне яркий блеск недавнего богатства тускнел, покрываясь патиной лет и обретенной репутации.
В 1874 году барон Фердинанд де Ротшильд нанял французского архитектора Детайера и поручил ему построить осовремененную версию шато XVIII века на вершине высокого холма в Уэддесдоне. Специально импортировали из Франции першеронов для перевозки строительных материалов по крутому склону – в совокупности более десяти километров медных труб, стволы вековых деревьев, сотни тонн кирпича и свинца, тысячи метров железных перил, и на всем – герб с пятью стрелами, фамильный знак, символизирующий пятерых братьев, которых родоначальник Ротшильдов разослал по европейским столицам. Панели и мебель оптом скупались и завозились из особняков французской знати: Ришелье, Бомарше и прочие поддались на предложенную Османом реконструкцию Парижа и избавлялись от «старья».
Приобретая имущество великих и знаменитых родов, Ротшильды как бы привязывали себя, свое происхождение, к более славной истории, чем их собственная. Цены на рынках искусств взлетали в поднебесье: новые Ротшильды скупали картины сотнями, в том числе Грёза, Ромни, Рейнольдса, Гейнсборо и Кейпа, увешивали ими стены своих домов. В каждой комнате – бесценные ковры, антикварная мебель. Пусть свой род они могли проследить не далее чем на сто лет в прошлое, до Judengasse, владение этим имуществом связывало их с лучшими аристократическими семьями Европы и с королевскими династиями. Они покупали панели из дворцов, где обитали Бурбоны, они покупали мебель Людовика XV и картины, которыми владела Екатерина Великая, покупали гобелены, севрский фарфор, яйца Фаберже и чувствовали себя продолжением древних династий. На журнальных столиках у них красовались фотографии монархов с автографами и собственные портреты, выполненные на заказ, в придворных костюмах. Французский автор Эдуард Дрюмон назвал один из домов Ротшильдов местом, где «нет прошлого» – сокровища французской культуры разбросаны по огромному палаццо, словно безделушки.
Семья силилась доказать, что она уже не бесприютна, обрела право владеть землей и недвижимостью и ни на кого не оглядывается. Ротшильды строили огромные дома, собирали обширные коллекции, они владели конями и псами, банками и облигациями и не просто выставляли свое богатство напоказ – они пускали корни, а там уже и стебли, прорастая в свою новую родину, становясь кем-то и чем-то. Накапливали ценности, чтобы ощутить собственную ценность.
Гостеприимство их не знало себе равных. НМ и его сыновья отличались малым ростом: предки никогда не имели вдоволь пищи, и это сказывалось еще в нескольких поколениях. Но отныне ни члены семьи, ни гости, ни слуги Ротшильдов никогда не должны были голодать. Столы у них ломились от угощения. Гостям поутру приносили в постель на выбор цейлонский чай, китайский или индийский, молоко предлагали выбирать по породе коров – от лонгхорнов, шортхорнов и так далее. В пятидесяти оранжереях в любое время года поспевали фрукты, овощи и экзотические цветы, всегда пестрели красками клумбы. «В иных наших усадьбах, – повествовала Ника, – вишни с деревьев не собирали заранее: садовники обходили стол, неся целиком дерево».
Судя по гостевой книге Тринг-Парка, в период с 1890 по 1932 год здесь каждый день устраивались обеды, порой на сотню великолепных визитеров. Имя и адрес каждого посетителя безупречным почерком заносили в обтянутые кожей тома. В особую книгу шеф-повара столь же тщательно вписывали меню, чтобы избежать общественного позора: не дай бог подать вернувшемуся гостю то же блюдо, что и в первый раз! Женщины Ротшильдов продумывали подобные мероприятия до мельчайших деталей. Их не допускали на совет директоров, но жены прекрасно знали, кого обхаживать, кто поспособствует деловым интересам их мужей. Международные связи семейства гарантировали, что список гостей также будет всеохватывающим. Ротшильды тщательно подбирали гостей, создавая головокружительную смесь из богатых и рафинированных, творцов и государей, красоту сочетали с умом. Индийские махараджи, персидский шах, Сесиль Родс (чью экспедицию в Южную Африку финансировал Натти) встречались на этой территории с Георгом V, Эдуардом VII, королевой Викторией (та предпочитала кушать в отдельном кабинете) и членами семьи Ротшильд, в том числе, со временем, и с мисс Панноникой Ротшильд.
На семейство работали повара мирового класса, подавались тончайшие вина, проводились празднества, концерты и балы. Кузен Ники Альфред построил в Холтоне дом с цирковой ареной, катком, внутренним бассейном и индийским павильоном, чтобы доставить гостям все мыслимые наслаждения. Альфред – редкость среди Ротшильдов – питал любовь к музыке; он написал шесть фортепианных пьес под общим названием «Бутоны роз» и обзавелся собственным оркестром. Дирижировал он в цилиндре и голубом фраке, размахивая украшенной бриллиантами палочкой из самшита. Не всем гостям это приходилось по вкусу. «Показуха! Беззастенчивое богатство, которое суют тебе прямо в нос!» – писал секретарь Гладстона Эдуард Гамильтон и добавлял, что «с отделкой явно переборщили, глазу не на чем отдохнуть от настоящего золота и сусальной позолоты». Другой гость Альфреда, писатель Дэвид Линдси, замечал: «Число евреев в этом дворце превосходит всякое вероятие. Я довольно внимательно изучал проблему антисемитизма в надежде как-то противостоять этим низменным порывам, но почувствовал некоторое сочувствие к [тем, кто называет] евреев паразитами цивилизации».
Во Франции Эмиль Золя выставил Жака де Ротшильда у позорного столба. Описание, оставленное этим гостем, казалось чересчур узнаваемым: «Повсеместно он стремится к свирепым завоеваниям, подкарауливает добычу, из всех сосет кровь и тучнеет за счет чужой жизни». Другой писатель, Энтони Троллоп, отплатил Ротшильдам за гостеприимство, опубликовав в 1885 году социальную сатиру, опять же весьма откровенно изображавшую Ротшильдов. Едва ли кто из читавших «Как мы теперь живем» сомневался, что Мельмот, «омерзительный жирный богатей… подлый хулиган из трущоб», который явился из чужой страны и захватил лондонскую биржу, списан с прадеда Ники Лайонела. Правда, критиковали не все. Дизраэли, сам по крови еврей, писал: «Лично я убежден, что чем больше Ротшильдов, тем лучше».
Постепенно семья встраивалась в британское общество. Альфред оказался первым евреем во главе Английского банка (он стал директором в 1869 году, в возрасте двадцати шести лет, и занимал этот пост двадцать лет, до 1889 года). Сам Альфред так и не добился вожделенного признания в аристократических кругах, но его внебрачная дочь Альмина вышла замуж за графа Карнарвона и на свое приданое финансировала те самые раскопки в Египте, в результате которых была найдена гробница Тутанхамона. Прадед Ники Лайонел, ее кузен Джимми и дед Натти сделались членами парламента. Эмма, бабушка Ники, дружила с Дизраэли; Герберт Асквит часто наведывался в Уэдесдон. Уинстон Черчилль многократно гостил в их доме, присутствовал и на первом балу Ники. Моя тезка Ханна Ротшильд вышла замуж за лорда Роузбери, главу Консервативной партии, будущего премьер-министра (никто из мужчин, носивших фамилию Ротшильд, на свадьбу не явился: Ханна вышла замуж за гоя).
Тем не менее королева Виктория отвергала прошения даровать прадеду Ники Альфреду титул. «Сделать еврея пэром – на такой шаг она не согласна», – писала о себе в третьем лице королева, хотя Альфред финансировал строительство домов для бедных, одалживал правительству деньги, поддержал выпуск казначейских обязательств США и организовал фонд помощи во время Ирландского голода. Да и расходы правительства ее величества частенько зависели от одобрения Альфреда. И все же семейству пришлось подождать: лишь в следующем поколении сын Лайонела Натти, дед Ники, сделался первым евреем – членом палаты лордов.
В Америке Ника оказалась в совершенно иной среде. Она любила живую музыку, искусство, звуки, которые исчезают, едва родившись. Она собрала тысячи пластинок и сотни часов любительских записей, но совершенно очевидно, что более всего она ценила непосредственно само представление, и ей было важно присутствовать там, а не владеть записями.
У нее был скромный дом, никаких ценных вещей. Вместо Рубенса, Рейнольдса, Ван Дейка, Гуарди и Буше Ника налепила прямо на штукатурку обложки старых альбомов, а вместо черного хода, предназначавшегося для незаметно появлявшихся и ускользавших слуг, устроила проходы для своих кошек. Шторы просвечивали, вся мебель, за исключением большого стейнвейевского рояля, была сугубо функциональной. Напоминанием о европейском прошлом Ники, об огромном семейном состоянии и совершенно ином образе жизни оставался титул, бумага с монограммой, «бентли», меха и ожерелье из идеальных жемчужин.
Гостей Ники не кормили, только выпивка лилась ручьем. На вопрос режиссера документальных фильмов Брюса Рикера, не посылают ли ей родственники вино из знаменитых подвалов Ротшильдов, Ника сердито фыркнула: «Вот уж нет! – И добавила: – Из них и бакса не выжмешь». На взгляд стороннего наблюдателя, Ника разорвала все связи с прошлым.
И все же, хотя она не покупала и не коллекционировала предметы роскоши, одну семейную традицию Ника продолжила. Ее предки, и женщины в особенности, усердно помогали тем, кому не столь повезло в жизни, и старались делать добрые дела в своем окружении. Так, в лондонском Уайтчепеле Ротшильды содержали синагоги, школы и финансировали строительство современного жилья. Осознав, что на собеседование важно явиться в хорошей паре обуви, они позаботились о том, чтобы всем ученикам и выпускникам бесплатной школы Ротшильдов выдавали ежегодно новые башмаки. Многими видами благотворительности Эмма и ее внучки занимались лично.
Служащие Тринга первыми в стране получили бесплатное медицинское обслуживание. Задолго до того, как в аристократических особняках появились современные удобства, каждый дом в поместье Ротшильдов уже был снабжен и водопроводом, и системой канализации. Бабушка Ники Эмма составила список всех добрых дел, в которых она приняла участие, – около четырехсот, от ремонта домов до оплаты проезда ручного барашка в Канаду, вслед за семьей еврейских эмигрантов. Рядом с ней возникали объединения швей, хор, реабилитационные санатории, общества родовспоможения, а в Тринге – антиалкогольная «Компания единой надежды». В благотворительности обязаны были принимать участие и невестка Эммы Розика, и внучки, когда подросли. В праздничные дни все дети в Тринге получали сувенирную кружку со сладостями и новенький блестящий шиллинг, взрослые могли обращаться зимой в «угольный клуб» и в любое время года – за пособием по безработице. Небольшой страховой взнос обеспечивал местному населению бесплатную медицинскую помощь и уход. Каждой семье выделялся участок. По словам одного из служащих, «работа в Тринг-Парке обеспечивала человека от колыбели до могилы».
Ника перенесла этот обычай в Нью-Йорк. Она пыталась помочь любому человеку или животному, если замечала его нужду. Бабушка Эмма занималась благотворительностью систематически, Ника – по вдохновению. Сын Телониуса Монка Тут, в детстве немало времени проводивший с Никой, удивлялся ее щедрости. «Не перечислить, сколько всего она делала для облегчения и даже для спасения жизни музыкантов, – рассказывал он мне. – То мы выкупали чей-нибудь инструмент из ломбарда, то набирали еду для голодных или платили за жилье, чтобы человека не выставили на улицу. Ездили в больницу к одиноким, кого больше никто не навещал. Помогали парню добыть пропитание, потому что у него подружка только что родила. Со всеми своими проблемами музыканты обращались к Нике, и она всегда отзывалась: Санта-Клаус и мать Тереза в одном лице».
Ника не считала свое поведение героическим, как не считала его и частью семейной традиции. «Я видела, что людям нужна помощь, и все тут». Иногда эта помощь выходила боком. «Я попробовала стать менеджером, – признавалась она Максу Гордону, владельцу клуба "Виллидж Вангард". – Представьте себе: я взялась руководить джаз-бандом "Арт Блэки и Джаз Мессинджерс". Вообразите! Я – в роли менеджера! Катастрофа». Возможно, сказалось воспоминание о том, как бабушка снабжала подопечных детей обувью и всегда заботилась о том, чтобы человек, идущий на собеседование, имел что надеть. Ника приобрела для «Мессинджерс» шесть одинаковых синих смокингов. «Думала, это поможет им заполучить работу. С ума сошла!»
К моменту рождения Ники на фасаде Дома Ротшильдов проступили заметные трещины, кузены жили уже не столь дружно. Всепоглощающее стремление делать деньги было утолено, теперь семье хотелось чего-то большего: войти в британское общество, насладиться плодами успеха. Роль женщин в семье изменилась. В XVIII и XIX веках они были партнерами – молчаливыми и совершенно необходимыми, но к началу XX века им удалось до такой степени интегрировать своих отцов и сыновей в структуру британского общества, что сами женщины стали вроде бы уже не так важны. Младшее поколение – Уолтер и его брат Чарлз – не проявляли врожденных талантов банкира. Еще несколько поколений британских Ротшильдов не дадут отпрыска с существенными деловыми способностями. Прежняя потребность преуспеть именно в мире бизнеса надолго заглохнет.
На первом году жизни Ники вспыхнула мировая война. Многие слуги и работники имения были призваны на фронт и остались лежать где-то в чужой земле. Вступали в ряды армии и охваченные патриотическим порывом Ротшильды. Кузены Ники служили в Легкой пехоте Бакингемшира; Ивлин погиб в феврале 1917 года во время кавалерийской атаки на турок. Его брат Энтони также сражался при Галлиполи, но уцелел. Хорошо хоть, английским Ротшильдам не довелось встретиться в бою с заграничными родственниками. Чарлза на действительную службу не взяли: физически он был годен, но душевное его состояние внушало опасения.
Со смертью дедушки Натти 31 марта 1915 года эпоха завершилась. Сотни зевак наблюдали, как погребальный кортеж движется от Гайд-парка в Уиллесден. Четыре лошади с черными плюмажами везли карету с гробом. Овдовевшая Эмма пыталась поддерживать тот же образ жизни в Тринг-Парке – ради внучек. Какое-то время ей это удавалось: Ника и ее сестры жили в роскошной темнице, не замечая бурных событий за пределами своей детской. Но пройдет немного лет, и этот мир вдребезги разобьет внезапная, необъяснимая смерть их возлюбленного отца Чарлза.
7 Бабочка и блюз
Ранней весной 1998 года в Эштоне сестра Ники Мириам заговорила со мной о недуге их отца. В истоках этой депрессии она была категорически уверена и утверждала, что располагает научными доказательствами: на душевном здоровье семьи сказались последствия инбридинга в нескольких поколениях. То было, по словам Мириам, дегенеративное заболевание: чем старше становился Чарлз, тем стремительнее сокращались промежутки между приступами депрессии.
Их отец на долгие месяцы укрывался в швейцарском санатории. Под конец войны разразилась эпидемия гриппа, «испанки», унесшая еще пятьдесят миллионов жизней. Чарлз тоже заразился, сумел побороть болезнь, но еще более ослаб, еще меньше сил было справляться с жизнью. И его вновь отправили на продолжительный отдых и лечение.
Семья хваталась за любую соломинку в поисках средств помочь Чарлзу. Но тут бесполезны оказались и деловая хватка, и влияние. Да, Ротшильды достигли вершин богатства и могущества, но не имели оружия для борьбы с этим незримым врагом. Когда появились известия о «лечении разговорами», придуманном каким-то венским доктором Фрейдом, австрийских кузенов отрядили проконсультироваться у нового светила. Поступали от родственников и специалистов и другие советы: кто рекомендовал лекарства, кто санатории. Швейцарский вариант был наиболее общепринятым: и Томас Элиот, и Макс Линдер, в числе многих прочих, искали там исцеления от депрессии и нервных срывов. В семейном архиве я отыскала письмо от спутника Чарлза мистера Джордана, отправленное из Фузио 25 июля 1917 года; представляется вероятным, что Чарлз, как и немецкий писатель Герман Гессе, лечился у любимого ученика Карла Юнга, доктора Йозефа Ланга. Хотелось бы знать, почему Ротшильды предпочли мистические методы Юнга подходу его конкурента Фрейда. Мириам уверяла, что перед смертью бабушка Эмма взялась за собрание сочинений Фрейда.
По времени недуг Чарлза совпал с уходом из жизни старшего поколения. Между 1905-м и 1917-м старость или смерть выбивали из седла одного за другим тех, кто обеспечивал финансовое господство Ротшильдов после 1875 года. От Чарлза ожидали, что он возглавит британский филиал, модернизирует банковские операции и поведет за собой еврейскую общину Британии. А он хотел лишь изучать естественную историю и проводить досуг с семьей.
Как-то раз в декабре 1919 года Розика пораньше разбудила детей и в качестве подарка к приближающемуся Рождеству сообщила радостную весть: папочка возвращается домой. Девочки ликовали. Пусть толстый слой снега уже укрыл землю, папочка будет ловить с ними жуков и в доме снова зазвучит музыка. Будут шутки, будут забавы! Все снова будет хорошо, как до войны, до того, как папе пришлось уехать. Девочки подготовили выставку всех наловленных ими за лето насекомых. В сентябре неожиданно потеплело, в саду и в живых изгородях густо гудели жуки.
Утром в день приезда отца детей нарядили в лучшие платья и вывели в холл. Шестилетняя Ника волновалась больше сестер: она почти никогда не видела отца, ей так хотелось показать ему все, чему она успела научиться за время его отсутствия! Чарлз приехал на машине, Розика и сиделка помогли ему выйти. Двигался он медленно и сильно хромал (позднее девочкам сказали, что сиделка нечаянно ошпарила ему ногу, выплеснув кипяток из грелки). Но дочери, ничего не заметив, кинулись навстречу отцу. Розика подняла руку, прося их остановиться. Они замерли, с трудом сдерживая свой восторг. Мириам, их предводительница, решилась окликнуть: «Здравствуй, папа!» Но Чарлз и не глянул в их сторону. Они словно оставались невидимками для него. Отец проковылял мимо девочек, мимо наряженной елки, к себе в кабинет.
– И на том мое детство закончилось – с того момента мой отец был безумен, – подытожила Мириам, и мне показалось, что это воспоминание ранило ее и под конец жизни. – Бедная мамочка. Она обожала нашего отца. Человек, за которого она вышла замуж, бесследно исчез. В доме вместо него поселился сумасшедший.
Болезнь Чарлза протекала прихотливо и непредсказуемо. Симптомы ее напоминали шизофрению, настроение колебалось стремительно, от восторга до отчаяния, от спокойствия до маниакальных состояний. Порой он бывал милым, чарующим, но в следующий момент мог вспыхнуть гневом. На Чарлза нападали приступы необычайной щедрости, когда он пытался отдать все свое имущество любому, кто на глаза подвернется. Иногда он сутками напролет не спал, бродил по дому, таращась в пустоту, а потом падал головой в тарелку, засыпая в разгар обеда. Какой-нибудь сюжет целиком поглощал его, и, зациклившись, он пускался в бесконечный разговор с каждым, кто мог заставить слушать. Дети и слуги жили в страхе – не попасть бы под огонь его безумия.
Брат Чарлза Уолтер и их мать Эмма пытались делать вид, будто ничего ненормального не происходит. Уолтер погрузился в научные исследования, Эмма занималась поместьем. Наиболее скверно пришлось Розике: никакой роли в Тринге ей не отводилось, друзьями она не обзавелась и плохо представляла себе правила жизни в Британии. Родители ее умерли в годы войны, сестры оставались далеко, в другой стране. В редкий миг ясности и нежности Чарлз писал жене: «Как жаль, что нам пришлось пройти через все это! Лучше бы нам не дожить до такого!» О чем он? О войне или о своем недуге?
В 1923 году Розика решила переехать в Эштон-Уолд в надежде, что вид оживающей по весне природы ободрит ее супруга. Чарлзу нравилось гулять в саду среди множества насекомых и редких бабочек. В хорошие дни он даже смотрел, как играют его дети, и на какое-то время состояние больного улучшилось. В доме поселилась надежда, но продержалась недолго. Весна перешла в лето, когда же и лето склонилось к закату, вновь помрачнел и Чарлз.
Семьдесят пять лет спустя мы с Мириам сидели у камина в гостиной Эштон-Уолда. Я установила камеру напротив ее инвалидного кресла, сама пристроилась рядом с тетушкой. И тут я услышала нечто столь неожиданное и страшное, что потом еще с час не могла сдвинуться с места, словно приросла.
– Однажды мой отец вошел в ванную и запер за собой дверь. Там он достал нож и перерезал себе горло, – сказала Мириам.
Я знала, что Чарлз покончил с собой, но никогда не слышала подробностей. Эта простая и жесткая констатация фактов трогала куда сильнее, чем если бы тетя Мириам зарыдала или предалась жалости к себе.
Мы долго сидели молча. Я пыталась сообразить, что сказать, стоит ли вообще что-то говорить. Наконец я спросила:
– Вы когда-нибудь обсуждали это потом? В семье?
– Нет, никогда.
Пока Мириам рассказывала, дневной свет померк и огонь в очаге угас. Я поменяла кассету в видеокамере. Мириам потянулась за своей чашкой чая – давно остывшего, разумеется. Я спросила, не налить ли свежего. На маленьком столике все еще горел огонек под серебряным чайником. Я приподнялась, чтобы подлить ей в чашку кипятку, но Мириам жестом усадила меня, не желая, чтобы ее прерывали.
– Никогда не забуду, как мама и бабушка впервые встретились после того, как это произошло, – заговорила она. – Мы вошли в холл Тринга, и бабушка появилась на верхней площадке лестницы. Она просто стояла там и смотрела на нас. Мама не выдержала и убежала.
Детям не стали объяснять, как и почему умер их отец. Слугам запретили говорить об этом, в дом перестали доставлять газеты. Недавно я нашла репортаж в The Times от 16 октября 1923 года. «В пятницу в Эштон-Уолд был найден мертвым наследник лорда Ротшильда. Проведенное в субботу расследование обнаружило, что покойный был найден в собственной ванной с перерезанным горлом. Имеются доказательства того, что он был слаб здоровьем и страдал от депрессии, хотя, насколько известно, оснований для беспокойства у него не было». Я несколько раз перечитала последние слова. «Оснований для беспокойства у него не было». На Чарлза, подумала я, давило бремя вины: как это он не умеет радоваться своей идеальной жизни.
Для Ротшильдов гибель Чарлза стала страшным ударом. Утрата любимого сына, родича, брата, отца – но также и главы британской ветви семьи. Смерть Чарлза погрузила их не только в скорбь, но и в стыд.
В 1923 году самоубийство считалось преступлением – вызовом закону, обществу и монарху. От Мириам, Ники, Виктора и Либерти несколько лет скрывали подлинный характер недуга их отца, а спустя годы добавилась и вторая тайна: они не могли выяснить также и обстоятельства его смерти.
Самоубийца оставляет пережившим в наследство смятение, гнев, вину, скорбь и неизбывную утрату. Самоубийца дезертировал, а родные покинуты в вечной тьме: никто не ответит на их вопросы, никто не рассеет их ужас. Всегда будет, пусть мельком, тревожить мысль: то или это надо было сделать по-другому – и такого не случилось бы. Живые сражаются с неизбывным желанием дотянуться до прошлого, схватить беглеца, удержать его, уговорить. Дети страдают так же, как взрослые, но им недостает опыта и понимания для того, чтобы как-то умерить эту реакцию. Только представьте себе, как это могло повлиять на ребенка, особенно если никто не брался помочь малышу осмыслить его страх, отвергнуть его или принять. У Ники и ее сестер и брата не только не нашлось взрослого, который им в этом бы помог, но дети с тех пор жили в постоянном страхе, что нечто подобное случится с их матерью или с кем-то еще из близких. И липкий ужас: ведь это может случиться и с нами? Не стоим ли мы на узкой ступеньке, с которой в любой момент рискуем свалиться?
Как отзовется это на ребенке, когда он достигнет отрочества? Проявится тревожностью или иными расстройствами или же поведенческими чертами? Медицинские и психиатрические заключения по этому вопросу одновременно и неполны, и всеохватывающи: у детей самоубийцы проявляется множество симптомов, от страха перед близостью до суицидальных склонностей и наркомании. Без травм никто не вырастает, но, как формулирует детский психиатр Элис Миллер, «эмоциональное расстройство возникает не из-за перенесенной в детстве травмы, а потому, что не было возможности выразить травму». Ника и ее сестры ни с кем не могли проговорить свое несчастье, им пришлось пройти через скорбь самым трудным путем – в одиночестве и в молчании.
Ника с ранних лет познала те страшные формы саморазрушения, к которым ведет подавление своих потребностей и природного жизнелюбия. Потому-то и взрослой она рвалась из любой ловушки, не соглашаясь жить несчастливо. Потому же годы спустя она пожертвует собственной свободой, чтобы спасти от тюрьмы Телониуса Монка, и будет сражаться кулаками и зубами, добиваясь для своего друга возможности дожить свои последние годы мирно, подальше от публики.
По правилам иудаизма Чарлза схоронили до истечения суток с момента самоубийства. Присутствовать на похоронах разрешалось только мужчинам – родственникам и близким. Женщины с детьми оставались дома.
Через два года после смерти отца пятнадцатилетний Виктор позвонил Мириам из Харроу и просил ее срочно приехать. Она тут же отправилась к брату. «Он был страшно расстроен, говорил, что мальчики дразнят его – дескать, отец Виктора покончил с собой, а так делают только сумасшедшие и преступники». Семнадцатилетняя Мириам давно уже стала защитницей младших сестер и брата. Она как могла успокоила Виктора: сказала ему, что все это вранье, обещала разобраться, но, главное, заверила, что отец не был ни преступником, ни безумцем. Она примчалась обратно в Тринг-Парк и бросилась к матери с требованием открыть ей правду. Розика, по словам Мириам, «даже не подняла головы, сидя за рабочим столом». Не запнувшись, ответила: «К этому давно уже шло». И тема была закрыта. Впредь мать отказывалась ее обсуждать.
В соответствии с семейной традицией все состояние Чарлза (2 250 000 фунтов) досталось его единственному сыну Виктору. Каждой дочери отец завещал по 5000 фунтов. Розика, пусть и не имевшая опыта в области финансов, взялась управлять имуществом своего мужа, своего деверя Уолтера, а также наследством детей. Оказалось, что Розика обладает блестящим деловым чутьем: к концу ее жизни состояние Виктора удвоилось. Вот только в этом процессе некогда жизнерадостная красавица-конькобежица превратилась в угрюмую и грозную хозяйку: иного выхода не было. Свекровь Эмма, прежде столь энергичная, была сокрушена смертью мужа, а затем и любимого сына. Уолтер, страдавший, как и все остальные члены семьи, становился все более эксцентричным и почти не покидал своего музея.
Переписка с друзьями обнаруживает, что у Розики появилась еще одна тяжкая проблема – здоровье второй дочери, Либерти. С ранних лет девочка росла болезненной и подхватывала любую инфекцию. Эмоционально она была столь чувствительна, что малейший повод повергал ее в пучины отчаяния. Вид пташки с подбитым крылом, хромой лошади или отклонение от привычного ежедневного режима – все это глубоко ее расстраивало. В письмах другу семьи тревога за эту болезненную дочку пронизывает каждую страницу. «Она кажется такой слабенькой. Я живу в постоянном страхе за нее». В краткие периоды хорошего самочувствия проявлялись многообещающие таланты Либерти. Ее картина получила золотую медаль на летней выставке Королевской академии, в возрасте двенадцати лет девочке предлагали давать в Лондоне сольные концерты на рояле. Заботам о Либерти Розика уделяла не меньше времени, чем управлению финансами. Виктор отправлялся в Харроу, Мириам проводила сезон в Лондоне. Ника почти все время была предоставлена самой себе.
До шестнадцати лет Ника, младшая, обычно ела в одиночестве в детской – няня и гувернантка уходили обедать и ужинать в дружескую компанию слуг. Когда Нику наконец допустили к обеденному столу, есть вместе с матерью и сестрами, пришлось привыкать к совершенно новым правилам. За спинкой стула стоял ливрейный лакей в безупречно белых перчатках. По обе стороны от золотой тарелки с семейным гербом тянулись ряды вилок и ножей, указывая, сколько предстоит перемен блюд. На всем протяжении официальной трапезы – а длилась она бесконечно – следовало сидеть выпрямившись, смотреть прямо перед собой, руки, если не заняты, опускать на колени и почаще утирать рот краешком тяжелой, расшитой монограммами льняной салфетки.
Наглядную иллюстрацию к тому образу жизни можно ныне видеть в Уэддесдон-Мэноре: теперь он превращен в государственный музей и открыт для публики. Дом полностью передает атмосферу, в которой прошла юность Ники. Красные ленточки не дают посетителям ступить на бесценный ковер или прикоснуться к фарфоровой посуде, но и в пору, когда подрастала Ника, в доме не отдергивали шторы, оберегая от света произведения искусства, и настрого запрещалось бегать среди тонких изделий Севрского завода, художественно размещенных там и сям яиц Фаберже и позолоченных вещиц XVIII века. Тяжелые французские панели и великолепные образцы редких ковров Савонери заглушали всякий звук.
В Тринге царила такая же роскошная обстановка, как в Уэддесдоне, – и такая же удушающая. Отчасти и поэтому Ника в американской своей жизни так мало интересовалась и собственностью, и церемониями. В ее кухонных шкафчиках трудно было сыскать что-нибудь кроме засохшего печенья и кошачьего корма. Ни обеденного сервиза, ни столового серебра, ни малейшей попытки научиться готовить. Тринг-Парк и даже Эштон, при всей их красоте и комфорте, казались ей местами, откуда надо бежать, – отнюдь не семейным домом.
8 Прекрасная предвоенная пора
Хотя в Британии поколение Ники подпало под первый призыв эмансипации, хорошо воспитанным юным леди все еще подобало изображать из себя нежный и слабый пол. От женщины требовались уступчивость, скромность, смирение. Английское общество оставалось настолько тесным и прочно взаимосвязанным, что каждый в нем знал все обо всех. Даже если какое-то событие не попадало в The Times и не упоминалось в болтовне слуг, сплетня все равно облетала и охотничьи поля, и гостиные. Репутация Ники – «своевольного дитяти» – сложилась задолго до того, как девушка впервые ступила на пол бальной залы. Моя бабушка по отцу Барбара, гостившая в Тринге, в 1929 году писала в дневнике: «Потрясающий красного цвета дворец с зеркальными окнами. В спальнях мебель желтого цвета, на моей постели синие бантики, ванных не хватает. Дивная леди Ротшильд с лицом прекрасной ведьмы, дядюшка Уолтер со спагетти в бороде и повадками старого, прижившегося в доме пса. Младшая сестренка Ника – сплошь жир и веселые затеи».
В 1929 году, достигнув шестнадцати лет, Ника вырвалась из детской. Наконец-то ей разрешили засиживаться после девяти вечера. Ника сочла, что сон – напрасная трата времени, и старалась не ложиться по ночам. «Учетные записи» гостей свидетельствуют, что по выходным в Тринг-Парке собиралось много народу. Кое-кого приглашали на тайные посиделки по ночам на чердаке. С двух часов ночи до пяти утра, после того, как взрослые ложились спать, и прежде, чем проснутся слуги, юные Ротшильды развлекали гостей вином из семейных подвалов и джазовыми записями. «Мы называли это "красться по коридору"», – с лукавой усмешкой вспоминала моя бабушка.
Розика понятия не имела, как справиться с отбившейся от рук дочерью. Оказавшись вдали от родной Венгрии и ее традиций, Розика не могла положиться и на стареющую свекровь или эксцентричного Уолтера. Только совет других светских дам мог выручить Розику, тонувшую в океане скрытых и непостижимых правил британской жизни. Совет же был единодушен: отправить Нику доучиться и обтесаться в Париж. Школу выбрали с приличной репутацией, однако на самом деле ею «заправляли носившие парики сестры-лесбиянки», заявила Ника писателю и критику Нату Хентоффу в интервью для Esquire 1960 года. Эти омерзительные наставницы, по словам Ники, «приставали к девочкам. Они учили нас накладывать помаду, преподавали по капле философию и литературу, но, если не попадешь в число любимиц, – горе тебе. Они пускались на любые ухищрения, чтобы развратить девчонок, – все это было вполне очевидно».
Закончив летом 1930 года эту лесбийскую семинарию, Ника вместе со своей сестрой Либерти отправилась в большое европейское турне. Их сопровождали гувернантка, шофер и прислуга. Благодаря широкой сети родичей по отцовской и материнской линии сестры всюду находили теплый прием. Во Франции они гостили в величественном шато Феррьер. В Австрии Ника вальсировала на балах и обкатывала в Испанской школе верховой езды липиззанеров. В Вене она впервые оказалась замешана в международный скандал – правда, в тот раз еще безвинно. Бессовестная обнищавшая графиня в надежде восстановить семейное состояние объявила о помолвке своего сына с мисс Панноникой Ротшильд. Никакого повода, кроме общего увлечения верховой ездой, для интриги не было. И графине не повезло: Розика, читавшая все иностранные газеты, сразу же обнаружила объявление и тут же послала решительное опровержение.
В Мюнхене сестры учились рисованию. «Гитлер восходил к власти, но мы ничего не замечали, пока не сообразили наконец, что люди, позволявшие себе грубо обходиться с нами, поступали так, зная, что мы еврейки», – рассказывала Ника в интервью Esquire. To был редкий момент политического прозрения: в целом сестры оставались до странности слепы к международным событиям. Мимо них прошел даже крах Уоллстрит в 1929 году, хотя обрушение фондового рынка и последовавшая за этим Великая депрессия тяжело сказались и на состоянии Ротшильдов.
Располагая немалыми средствами и не имея перед глазами мужчины из рода Ротшильдов, который мог бы послужить им ролевой моделью, дети Чарлза и Розики устанавливали собственные правила. Они руководствовались уже не чувством долга, но уверенностью в своем праве и превосходстве. Мириам, Виктор и Ника маскировали неуверенность в себе властностью. Понятно, что особой любовью окружающих никто из них не пользовался.
Все усилия Розики – заграничные школы, лондонские балы – пошли прахом: дочек не брали замуж. Либерти приглянулась кузену Алану Ротшильду, но при ее нервах о делах сердечных лучше было и не думать. Мириам предпочитала глядеть в свой микроскоп, а не в глаза обожателей. В 1926 году, когда ей было всего восемнадцать, старшая из сестер решила не тратить вечера на танцы и флирт и тайком записалась на курсы Политехнического института в Челси. Получив базовое образование, она тут же устроилась на платную работу – изучать в Неаполе морскую живность. Семью она повергла в смущение, светское общество 1920-х годов – в шок. Как может приличная девушка предпочесть своей комфортной и легкой жизни работу? Однако Мириам преисполнилась решимости продолжить исследования, начатые ее отцом, и сделалась-таки одним из ведущих биологов Британии, экспертом международного уровня по блохам, бабочкам и химическим взаимодействиям в биологии. Она не имела формального образования для того, чтобы поступить в университет, зато получила восемь почетных докторских степеней, начиная с Оксфордской в 1968 году и заканчивая Кембриджской в 1999-м. Она также состояла членом Королевской академии с 1985 года, а позднее получила и титул Дамы.
Так Мириам продемонстрировала всему своему поколению, в том числе и Нике, что для женщины имеется и другой путь, что страсть можно обратить в работу и карьеру. К тому времени, когда Ника покинула детскую, Мириам успела уже существенно продвинуться в своих штудиях. Пройдя практику в Неаполе, она занялась разработкой птичьего корма из водорослей вместо привычного зерна. Но главным образом она по-прежнему стремилась продолжить дело отца, разобраться с бабочками и блохами. Как верная долгу старшая дочь, Мириам осталась жить дома, усердно трудилась и хранила память своих родителей.
Без участия Мириам, без ее воспоминаний и ее настояний эта книга не была бы написана, хотя вместе с тем напористость и мощный характер двоюродной бабушки порой грозили сорвать мою затею. Воля Мириам была так сильна, ее воспоминания столь наглядны, что ее голос нередко заглушал голос Ники. Иной раз в ответ на мои расспросы о Нике бабушка пускалась рассказывать о себе или о Либерти. Когда я задавала вопросы о Нике другим людям, те тоже предпочитали говорить о Мириам. Написала бы ты о ней, советовали они. Вот действительно выдающаяся личность, столько за свою жизнь успела.
Я задумывалась, каково было Нике жить в тени столь успешной сестры и богатого брата? Не было ли ее решение переселиться за границу спровоцировано желанием утвердить себя в том обществе, где эти двое не были до такой степени на виду? Оборотная сторона принадлежности к славному семейству (я испытала это на себе): в глазах знакомых ты чья-то дочь, сестра, кузина, племянница, мать, а не индивидуальность. И я изо всех сил держалась за свой замысел, за свою героиню – Нику. Быть может, возражала я, достижения Ники не выражаются в докторских степенях и иных почетных дипломах, они не столь публичны, но оттого не менее ценны. Второстепенные персонажи играют свою роль в истории, настаивала я.
Нику, младшую дочь, никто не принуждал следовать какой-либо традиции, она могла делать что ей вздумается и когда вздумается. К сожалению, средняя сестра, Либерти, так и не смогла реализовать свои таланты – слабая психика превратила ее в полуинвалида.
Виктор же не допускал, чтобы работа в банке помешала его главным увлечениям. Долгожданный сын, единственный наследник, он с ранних лет был избалован и рос в уверенности, что малейшее его желание – закон. Поскольку в младенчестве его привлекал огонь, Розика заставляла слугу шагать задом наперед перед коляской и чиркать спичками. В школе, утомившись занятиями, Ротшильд получил разрешение пропускать уроки, чтобы играть в крикет. В итоге он попал в сборную графства Нортгемптон. Мириам сделалась его менеджером и, за неимением отца (да и мать не интересовалась спортом), посещала все матчи брата.
В Кембридже Виктор штудировал естественные науки – очевидный выбор для человека, чьим первым воспоминанием осталось, как отец просит его поймать оранжевокрылого гинандроморфа. В университете перед юношей открылся целый мир: Виктор ощутил свой интеллектуальный потенциал, нашел равных себе. Хотя многие считали его плейбоем, гоняющим в открытом «бугатти», богатеньким собирателем первых изданий, с тех пор и всю жизнь Виктор ценил академические достижения превыше любых сокровищ. Он преклонялся перед учеными, профессорами, философами, интеллектуалами. Его предки выстраивали свой статус с помощью богатства и роскоши, но Виктор сделал ставку на интеллект и хотел иметь в своем окружении умных людей. Другой его великой страстью стал джаз, он даже подумывал о карьере профессионального музыканта. Прослышав, что в Лондоне дает уроки великий джазовый пианист Тедди Уилсон, Виктор записался на занятия, а в качестве зрителя прихватил с собой сестренку Нику. Спустя годы именно Тедди Уилсон ввел Нику в нью-йоркские клубы.
В числе первых друзей, обретенных Виктором в университете, были Гай Берджесс и Энтони Блант. Они уговорили его присоединиться к дискуссионному клубу «Апостолы». Виктор видел в этих молодых людях ближайших союзников, разделявших его любовь к наукам и литературе и его ненависть к фашизму. В период с 1927 по 1937 год из двадцати шести членов клуба двадцать составляли социалисты, марксисты, коммунисты или, по крайней мере, сочувствующие. Для молодого еврея, современника и очевидца немецкого нацизма, естественно было присоединиться к левым.
Виктор блестяще закончил Кембридж и получил место в Тринити-колледже. Во время войны он служил во внешней разведке (MI6) и получил Георгиевскую медаль за разминирование – по словам Виктора, годы подражания аккордам Тедди Уилсона и Арта Тейтума подготовили его к этой сложной работе.
Но, несмотря на блестящую службу, когда после войны выяснилось, что ближайшие друзья Виктора, Берджесс и Блант, были советскими шпионами, и еще два члена «Апостолов» – тоже двойные агенты, тень подозрения легла и на Ротшильда и омрачила большую часть его жизни. В одной книге его даже назвали «Пятым человеком», и, хотя стало известно, что пятым был Джон Кэрнкросс, клеветники преследовали Виктора. 3 декабря 1986 года он совершил поступок, абсолютно для него не типичный: опубликовал в газетах заявление «Я не являюсь советским агентом и никогда им не был». Даже после того, как Тэтчер это официально подтвердила, слухи не унялись. Впоследствии Виктор сказал своему биографу Кеннету Роузу, что разоблачение Бланта стало для него «ошеломляющим и сокрушительным ударом».
Виктор продолжал научные исследования, в основном изучал репродуктивную систему морских ежей. В итоге он и Мириам оказались единственной парой брат-сестра, удостоенной членства в Королевской академии. По словам Мириам, «брат попал туда, разумеется, гораздо раньше. Полагаю, все дело в мужских предрассудках. Пусть я и не училась в частной школе, как он, – образование, какое уж есть, я получила дома, – но в зоологии я сделала побольше, чем он».
Хотя общего у Виктора и Ники мало, Виктор всегда присматривал за младшей сестренкой. Их объединяла любовь к музыке и к обществу. Ника была очаровательна, в отличие от старших сестер – легкомысленна, и Виктор с гордостью выводил ее в свет. Он привил ей любовь к джазу и советовал научиться летать. Сам он обожал гоночные автомобили и Нику научил водить, на восемнадцатилетие купил ей спортивную машину. Даже когда избранный Никой образ жизни перестал устраивать Ротшильдов, Виктор продолжал покровительствовать ей, порой балуя деньгами или дорогими подарками. Мой отец утверждал, что Виктор не проявлял подобной щедрости по отношению к кому-либо из шести своих детей.
Ожидалось, что Ника выйдет замуж за еврея, но подходящих женихов недоставало. После пансиона и большого европейского тура Розика сочла необходимым ввести дочь в светское общество. Это произошло в 1932 году.
По английской традиции ежегодно в начале сезона происходит представление дебютантов, юношей и девушек. Следуя обычаю, сохранявшемуся до 1958 года, Ника в белом платье делала реверанс перед огромным белым тортом на «балу королевы Шарлотты». Затем она три месяца принимала участие в увеселительном виде спорта – «охота на женихов». Поскольку евреев было крайне мало, не приходилось всерьез рассчитывать на то, что среди сотен дебютантов Ника повстречает своего принца на белом коне.
В июне того же года ее официально представили королю Георгу V и королеве Марии, и Ника завертелась в вихре балов и светских раутов. «Я явилась перед изумленным миром, делала реверансы и не тыкалась носом в пол», – скажет она потом Нату Хентоффу. Розика уже провела двух старших дочерей через дебютантский сезон, на третью у нее душевных сил не хватило, и обязанность сопровождать юную мисс Ротшильд выпала на долю шофера бабушки Эммы. Бедняга: по словам Розмари, кузины Ники, вовремя та никогда не возвращалась.
Семья жила тогда в Кенсингтон-Палас-Гарденз, за оградой. Ускользнуть от выполнявшего роль дуэньи шофера было просто, куда сложнее – в бальном платье до пят перелезть в темноте через высокий забор. Во время сессии парламента с ноября по май еженедельно давали три-четыре бала. Чтобы как-то представить себе обстановку того времени, я поговорила с современницей Ники, вдовствующей герцогиней Девонширской Дебо, урожденной Митфорд. В молодости мисс Митфорд считались эксцентричными, как и девочки Ротшильд. Юнити брала с собой на рауты ручную крысу, а Дайана излагала свои радикальные убеждения партнеру во время танца. По словам Дебо, девушки чувствовали себя как рыба в воде. «Ходили на балы, словно на работу, – сказала она, – но это было весело».
Проследить жизнь Ники во время сезона нетрудно. Каждый танец упоминался в The Times зачастую с подробным описанием наряда дебютантки, с указанием имени одевавшего ее кутюрье. Дневной наряд строго регулировался – портных хватало, а вот вариаций на тему было мало. В тот год, когда Ника появилась в свете, обязательными считались широкие меховые манжеты, которые можно было снимать и использовать как муфту. Платья по большей части с цветочным рисунком, с шелковой отделкой. Юбки до колена из мягкого твида или крепа, иногда к ним прилагался бархатный двуцветный поясок, который скручивался и завязывался тугим узлом. Нике слали наряды из Парижа, из лучших модных домов – Chanel и Worth. Семейные драгоценности Ротшильдов, в том числе изумруды размером с голубиное яйцо и нитка великолепного белого жемчуга, перешли к Виктору, который по особым случаям давал их надеть жене или сестре.
В «Придворном приложении» к The Times Розика поместила объявление: выход ее дочери в свет состоится 22 июня 1931 года по адресу Пиккадилли, 148, в доме ее бабушки Эммы. Моя бабушка Барбара, в ту пору невеста Виктора, оставила в своем дневнике запись об этом вечере.
«Обедали за тремя столами: за большим центральным старики во главе со старшим матриархом, которая выглядела величественно и матриархально, – младший матриарх [Розика] рядом с Уинстоном [Черчиллем], – другой стол возглавлял будущий матриарх Мириам и, наконец, за столом Виктора сидела Ника. Затем прекрасные танцы в огромных залах с позолотой и канделябрами, плюшевыми, отделанными золотом креслами и огромными зеркалами, обилием шампанского и гостями, которые струились из холла по лестнице в лучших своих нарядах и во всех украшениях. За домом открыли парк. Ника прекрасна, как довоенные девушки. Кое-кто из нас отправился в „Кафе де Мадрид“. За Никой на Пиккадилли погнались, но Виктор ее спас»[3].
Сестра моего отца Миранда – одна из немногих членов семьи, навещавших тетю Нику в Нью-Йорке. Она понимала правила, по которым Ротшильды жили в Англии, но знала также, чего Ника ищет по ту сторону океана. «Когда ты запихиваешь все эти „светские новости“ в свою книгу, – сказала мне недавно Миранда, – Ника и Виктор кажутся такими традиционными. А они были совершенно, абсолютно эксцентричными. Ни на кого не похожими. Мой отец [Виктор] катался на водных лыжах в шелковом халате от Schiaparelli и раздевался догола когда ему вздумается. И Ника, и все они ходили на балы только потому, что этого хотела их мать».
Как утверждала Миранда, молодых Ротшильдов нисколько не волновало, примет ли их высшее общество. Если б их это интересовало, они бы поступали иначе и по-другому сложилась бы жизнь каждого из них. Виктор был «интеллектуальный сноб», Ника – музыкальный, зато происхождение или положение собеседника их нисколько не интересовало. Чем они по-настоящему дорожили? – спросила я Миранду и услышала в ответ: «Музыкой. Виктор и Ника просто бредили музыкой. Виктор, талантливый пианист, даже подумывал сделаться джазовым музыкантом». И если Ника наслаждалась сезоном, то не благодаря поклонникам, а потому, что по-настоящему любила музыку и музыкантов.
Первой любовью Ники стал руководитель американской музыкальной группы Джек Харрис. В фильме 1934 года, снятом в лондонском «Кафе де Пари», музыкант скользит по танцполу со скрипкой в руках. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, Харрис то проводит смычком по струнам, то что-то напевает, но главным образом обменивается томными взглядами с кокетливыми дебютантками. Пятьдесят пять лет спустя Ника уверяла меня, что помнит каждую мелочь – и номер его телефона, и его любимый напиток (бренди), а яичницу он предпочитал глазунью. Я так и не узнала, лишил ли он ее девственности, но, во всяком случае, Ника использовала малейшую возможность для свидания с возлюбленным. Я спросила Дебо Девоншир, шокировало ли ее поведение подруги. «Шокировало? Разумеется, нет. Тогда все влюблялись в музыкантов. Они были куда привлекательнее прочих мужчин. Моего фаворита звали Снейпхипс Джонсон. Погиб на войне, бедняга!»
Из Америки постоянно прибывали большие музыкальные ансамбли. Одни играли на балах дебютанток, другие давали концерты. Виктор водил сестренку в ратушу слушать Дюка Эллингтона и Бенни Гудмена. После премьеры «Весны священной» Стравинского в 1913 году, – в год, когда Ника появилась на свет, – музыка изменилась до неузнаваемости. Ее уже не полагалось слушать, развалившись в позолоченном кресле, или совершать под нее размеренные па бального танца – музыка сбросила путы условности, она лилась из радиоприемников и гремела в дансингах. Вместе с эмансипацией музыки происходила и эмансипация молодежи. Наконец-то в руки новому поколению попало что-то, что их родители презирали и не умели понять. Что-то, принадлежавшее исключительно им.
В Европе и Америке музыканты откликнулись на потребность эпохи и отбросили старинные правила композиции. В дансинге никому дела нет до аллегро и скерцо – подавай ритм, под который можно танцевать и петь, ритм, соответствующий только что обретенной свободе. Имя ему – свинг. На разных берегах Атлантики, разделенные огромным океаном, Ника и бросивший школу подросток-афроамериканец Телониус Монк слушали одну и ту же музыку. Их происхождение, их положение в обществе были диаметрально противоположны, но фоном к их жизни звучала одна и та же музыка.
9 «Главнокомандующий»
Ника вращалась в свете уже три года, когда в 1935 году брат повез ее во Францию, в Ле-Туке. Этот модный курорт, продолжение лондонского света, рекламировался в качестве «нового места в привычной обстановке». С тех пор как Ноэль Кауард и его друзья в 1920-х стали проводить здесь уик-энды, блестящие молодые люди начали стекаться сюда на скачки, азартные игры и вечеринки.
За ланчем в Ле-Туке у родичей-Ротшильдов Ника повстречала своего будущего мужа. Молоденькой девушке, выросшей без отца в доме, где правили женщины, барон Жюль де Кенигсвартер показался блестящим, уверенным в себе мужчиной. Красивый еврей, вдовец, на десять лет старше Ники, растивший маленького сына, Жюль служил в банке Парижа экспертом по месторождениям. Семейство Кенигсвартер сто с лишним лет тому назад перебралось из Австрии во Францию и вошло в ту космополитическую группу, которая легко перемещалась из страны в страну, занимаясь бизнесом, охотой и танцами. Розика с юности была знакома с Кенигсвартерами. Кое-какие деньги у баронов водились, но Жюлю приходилось зарабатывать себе на жизнь.
У Ники голова пошла кругом – буквально. Едва ланч закончился, Жюль прямо из ресторана повез ее в аэропорт, и они поднялись в воздух на принадлежавшем ему самолете Leopard Moth. Первое свидание можно считать прообразом всей их будущей жизни. Для Жюля, которому Ника в будущем даст прозвище «Главнокомандующий», виртуозное управление самолетом, проверка безопасности, технические процедуры и четкое расписание были столь же важны, как упоение воздушной стихией. Потом Ника признавалась, что тщательная проверка состояния самолета перед взлетом показалась ей занудством. Жюль, вероятно, тоже подметил кое-какие недостатки своей спутницы: ее учил летать саксофонист Боб Вайз, с которым она познакомилась на танцах в отеле «Савой». Кошмар: она не имела лицензии, не разбиралась в картах. Ника ориентировалась в полете на железные дороги или шоссе. «Вовсе не трудно, лишь бы туман не поднялся», – говорила она мне.
Годами я пыталась побольше узнать о ее муже. Они расстались задолго до моего рождения, и семейство Ротшильд после этого не общалось с бароном. Ника о своем бывшем супруге отзывалась не слишком любезно: авторитарный, норовящий всех контролировать, без чувства юмора. Но во что-то же она влюбилась? Во что?
Узнав, что Жюль в свое время опубликовал мемуары, я исхитрилась отыскать их в букинистическом магазине – в Малаге! Французское название – Savoir dire non («Уметь говорить „Нет“»). Жюль выставляет себя повесой, его-де в армии подвергали аресту за то, что он тайком привел на ночь девчонку, за неисполнение обязанностей. Трижды, вопреки увещеваниям друзей, он поднимал самолет в воздух и садился в непроглядном тумане – а ведь именно за такую опрометчивость, по словам Ники, он пилил ее. На свой лад Жюль был тем, кого в Англии причисляли к «сливкам общества» и кому позарез требуется выставить себя рубахой-парнем, отважным искателем приключений. В начале их знакомства Нику ослепило именно это – дерзкий, не признающий правил ухажер. И в ослеплении влюбленности она не заметила подлинных и постоянных черт характера.
Следующие три месяца Жюль целенаправленно преследовал богатую невесту по всей Европе, он выстроил ухаживание наподобие военной кампании. Для начала он попросил мать пригласить Нику в гости в их летнюю усадьбу в Довиле. Жюлю повезло: Розика с уважением относилась к Кенигсвартерам и отпустила дочь в сопровождении горничной и шофера. Впервые Ника отправлялась в заграничное путешествие без родных – еще дальше от стеснительных рамок ее детства и ранней юности.
Ника доставила себя и слуг в Довиль в своем спортивном авто, и целых два дня они с Жюлем соглашались ходить по земле. Потом минутный каприз – и они с Жюлем полетели в Зальцбург, а оттуда в Вену. Неслыханное нарушение приличий! Матери обеих сторон велели шоферу и горничной следовать за беглецами, но всякий раз, когда слуги их нагоняли, парочка снова прыгала в Leopard Moth и перелетала в другую столицу. Проискав их от Довиля до Зальцбурга, от Вены до Венеции, слуги наконец обнаружили свою хозяйку в Монте-Карло – несколько недель спустя.
Ника сообщила брату, что Жюль не просил ее руки, а скорее велел ей выйти за него замуж. Даже на этом раннем этапе романа девушка не была уверена, уживутся ли они, и просила время на размышления. И с какой стати ей торопиться со вступлением в супружескую жизнь? Но она была очень молода, неопытна, впечатлительна, не имела старшего, у кого спросить совета, и была уверена, что страстно влюблена в Жюля.
В сентябре 1935 года Ника сказала родным, что хочет поехать в Нью-Йорк посоветоваться с Либерти. На самом деле она просто мечтала попасть в Америку и вживую увидеть тех музыкантов, чью музыку жадно слушала по радио. В бальном зале «Савой» в Гарлеме ей предстояло услышать Чика Уэбба, Тедди Хилла и «Короля свинга» Бенни Гудмена. Нике не терпелось услышать двух знаменитостей, Эллу Фицджеральд и Билли Холидей, которая выступала вместе с наставником Виктора Тедди Уилсоном. Во всех областях искусства в Америке сметались прежние границы. В тот самый год, 1935-й, состоялась премьера оперы Гершвина «Порги и Бесс», шокировавшей светское общество изображением бедных афроамериканцев. Музей современного искусства в Нью-Йорке тоже вызвал и возмущение, и споры, подготовив выставку африканского искусства. В литературе вниманием критиков завладели Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек и Скотт Фицджеральд, на Восточном побережье завоевывало славу новое поколение художников – Аршиль Горки, Биллем де Кунинг, Джексон Поллок. Европа по сравнению с Америкой казалась устаревшей, усталой. Там праздновался серебряный юбилей короля Георга V, и Королевская академия устраивала выставку французских картин.
То был первый визит Ники в Нью-Йорк, и в дальнейшем она еще не раз будет искать в этом городе убежища и утешения. Две недели вояжа через Атлантику стали первым в жизни молодой наследницы опытом самостоятельного путешествия. Вскоре она убедилась, что недооценила решимость Жюля. Пока Normandie плыла от английского берега к американскому, Жюль забрасывал девушку цветами и телеграммами. Нике был всего двадцать один год, она не могла устоять перед таким романтическим натиском. В Нью-Йорк она прибыла уже невестой. Жюль отправился за ней на следующем пароходе – не дал ей ускользнуть.
Их брак был зарегистрирован в часовне манхэттенского муниципалитета 15 октября 1935 года. Единственным представителем семьи была Либерти – она же исполняла роль подружки невесты. Все, что происходило с Никой, интересовало газеты. О ее свадьбе New York Times сообщала под заголовком: «Ми$$ Ротшильд выходит замуж». Четыре абзаца статьи были посвящены истории семейства Ротшильд и только заключительный – мужу, геологу, авиатору-любителю и члену известных парижских клубов. В качестве свадебного дара Виктор преподнес Нике самолет, но в ближайшие несколько лет у нее не будет времени для полетов.
Розика вздохнула с облегчением, сбыв с рук хотя бы одну дочь, тем более что на нее надвигалась проблема посерьезнее. Отправляя Либерти в Нью-Йорк, родные надеялись, что в новой для себя обстановке Либерти взбодрится, расцветет. Поскольку она любила рисовать, Розика пригласила ей в наставницы талантливую художницу Марию де Каммерер, родом из Венгрии, лично знакомую родным Розики. Мария рисовала портреты и Либерти, и Виктора, эти картины выставлялись в Нью-Йорке в 1936 году. Я много лет пыталась разыскать тот портрет Либерти: к сожалению, сохранились в основном ее детские фотографии, а более поздних изображений почти нет.
Увы, переезд в Нью-Йорк не помог Либерти, ее состояние только ухудшилось. Она была болезненным ребенком, а в юности сделалась настолько нервной и чувствительной, что малейший пустяк мог нарушить ее душевное равновесие. Мириам утверждала, что сестра унаследовала семейный недуг и на нее, как на Чарлза, «накатывало». О заболевании Либерти информация отсутствует: врачи были связаны клятвой Гиппократа, а после смерти сестры Мириам сожгла все ее медицинские карты.
Вскоре после того как Ника отбыла в свадебный круиз, у Либерти случился нервный срыв. На парадном обеде в Нью-Йорке она шокировала гостей, угостившись вместо поданных к столу блюд розами. Либерти вернули домой, в Тринг, а потом поместили в частную больницу к другу семьи психиатру Фройденбергеру.
Ника вылупилась из куколки, покинула детскую в Тринге, развернула влажные, присыпанные пыльцой крылышки. Но едва ли это можно было назвать обретением независимости. Строгие рамки семьи сменились не менее плотным контролем со стороны мужа. Тоненькую талию по-прежнему стягивал громоздкий корсет. Общественные нормы предписывали длину юбок и покрой блузы. Поведение Ники определялось миллионами указаний и запретов: делай так, а так не поступай. Обычная участь молодой замужней женщины в 1930-х годах.
О первых трудностях их брака я прочла в мемуарах Жюля. Ника нигде не названа по имени, даже в пору медового месяца она упомянута лишь дважды, и то как «моя жена».
Из Нью-Йорка молодожены отправились в Лос-Анджелес через Панамский канал. Оттуда на пароходе OSK – на Дальний Восток. В пути Ника заболела, а корабельный доктор, японец, так разнервничался, когда его призвали лечить титулованную даму, что большую часть визита улыбался и кланялся, а лекарство выписать забыл.
В Пекине они курили опиум, лежа на жестких циновках и ожидая, чтобы красавица-гейша скатала крошечные шарики и добавила новую порцию наркотика в их трубки. Взяв напрокат самолет, они пролетели над территорией, затопленной при разливе Желтой реки, и отчетливо видели семьи с детьми, которые отчаянно махали им руками, надеясь на спасение, но приземлиться и забрать их не могли. Они и сами чуть не погибли: самолет потерпел аварию в малонаселенном районе. Грузовик со скотом подвез их до ближайшей деревни, там они заночевали в гостинице с гигантскими тараканами, а питались только шоколадом и виски. Выбравшись обратно в цивилизованные места, они двинулись дальше, в Японию, где Жюль на пари перепил владельца газетного издательства и купил на рынке револьвер. В Кобе они наведались в секс-шоп и накупили друзьям и родичам музыкальных игрушек. Увы, непристойные подарки были задержаны на таможне. Виктор Ротшильд, когда его призвали к ответу по поводу предназначавшейся ему посылки, отрицал знакомство с человеком по имени Кенигсвартер и заявил, что понятия не имеет, кому пришло в голову послать ему такую мерзость.
Но даже эти приключения во время медового месяца не могли вполне унять глодавшую Нику тревогу. Ее муж маниакально все планировал, ничего не оставлял на самотек. Это многомесячное кругосветное путешествие обернулось для Ники разочарованием, поскольку, как она пояснила Нату Хентоффу, «муж делал все по графику, а для меня это тяжело. Когда мы прибывали в новое место, все наши действия были расписаны по часам, пока не отбудем, и в итоге мы ничего толком не увидели». Постепенно Ника начала осознавать: она попросту сменила одну темницу на другую.
10 На вершине
После свадебного путешествия Жюль и Ника поселились в Париже и присматривали себе жилье поблизости за городом. Любитель джаза мог почувствовать себя на небесах, оказавшись в «Гарлеме на Монмартре». Большой отряд солдат из полка «Адских бойцов Гарлема», влюбившись во Францию с ее свободой, равенством и братством, после Первой мировой войны остался в Париже. «Адские бойцы» стали самым прославленным американским полком в Великой войне, а в мирное время вырос спрос на чернокожих музыкантов и их нарасхват приглашали в ночные клубы Монмартра. Вскоре на правом берегу Сены сложилась община афроамериканцев, пополнявшаяся в основном бродячими музыкантами, молодыми холостяками. Важной вехой в истории этой общины стало возникновение квинтета Hot Club of France благодаря случайной встрече Джанго Рейнхартдта и Стефана Граппели. Основатели этой группы были белые, но тут же появились другие «Горячие клубы» – всех национальностей, оттенков кожи и вер.
Париж сделался обязательным пунктом в турне любого музыканта. Ника получила шанс послушать Коулмена Хокинса, Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера и Дюка Эллингтона. Кого она не увидела, так это Телониуса Монка, который предпочитал оставаться в привычной атмосфере Нью-Йорка и в ту пору как раз пытался собрать собственную группу.
Ника сблизилась с французскими родичами, часто встречалась с ними на ипподромах Довиля и Лонгшампа, охотно сочетая светскую жизнь и спорт. Две ветви семьи отчаянно состязались: Эдуард де Ротшильд выигрывал приз Триумфальной арки в 1934 и 1938 годах, а кузина Ханна де Ротшильд, выйдя замуж за лорда Роузбери, обеспечила его приданым, благодаря которому тот не менее четырех раз между 1894 и 1944 годами выигрывал дерби.
В конце 1935 года Ника забеременела. Ей было двадцать три, семья могла ею гордиться. Старшие сестры оставались незамужними, а дикарку Нику вроде бы удалось приручить. Как многие молодые матери, она предпочитала рожать дома. Супруги переехали в Лондон, и там в июле родился Патрик, а в августе газета Express опубликовала фотографию родителей с ребенком на частном аэродроме в Южном Лондоне. Заголовок гласил: «Малыш Патрик с рождения приучается к полетам. Ему всего месяц, а он уже отбывает с матерью на континент».
Замужество и материнство не могли не изменить образ жизни Ники, но еще более решительный разрыв с прошлым произошел по воле ее брата Виктора. В 1937 году, после смерти дяди Уолтера, Виктор надумал продать унаследованную им недвижимость, то есть Тринг-Парк со всем содержимым и дом бабушки Эммы на Пиккадилли, 147. Его жена Барбара вращалась в художественных кругах Блумсбери – ее мать Мэри дружила с Матиссом и Элиотом. Ее не интересовали сокровища французского XVIII века, груды серебра и фарфора. Вместо этого она хотела, чтобы муж приобретал книги и современное искусство.
Родственников столь поспешное и решительное избавление от семейного достояния повергло в шок. Как мог Виктор распродать имущество, которое его предки так долго собирали, все, что столь высоко ценили прежние поколения? Объяснить это можно по-разному. Вероятно, Виктор предпочитал получить деньги и не обременять себя этим наследием. Или другая версия: быть Ротшильдом казалось Виктору не так уж сладко – он добивался признания среди интеллектуалов, ученых, и здесь его фамилия и богатство были скорее помехой. «Люди думают, в моем доме из кранов течет жидкое золото», – жаловался он в интервью Бернарду Левину для Би-би-си. В Кембридже он увлекся социализмом и впоследствии в палате лордов сидел на скамье лейбористов. Виктор стремился выглядеть как все и ради этого избавлялся от самых вопиющих признаков богатства. Они с Барбарой купили дом в Кембридже – Мертон-Холл, возле университетского колледжа, в котором Виктор числился научным сотрудником. Барбара пригласила английского дизайнера Сайри Моэм, и та покрасила стены в модный тогда нейтрально-белый цвет. После блестящих позолотой дворцов, где прошло детство Виктора, Мертон-Холл казался храмом модернизма.
Распродажа сокровищ Ротшильдов освещалась в газетах по обе стороны Атлантического океана, Би-би-си вела прямой репортаж с аукциона. Продажа основной части собрания заняла четыре дня, и еще три понадобилось, чтобы избавиться от замечательной коллекции серебряных изделий, доставшейся бабушке Ники от франкфуртских Ротшильдов. В первый день за фантастическую цену – 41 252 фунта – ушли семнадцать известных полотен. Легендарный торговец искусством Дьювин приобрел за 17 500 «Дворик» Питера де Хоха. В целом обстановка дома принесла Виктору 125 000 фунтов – эквивалент нынешних десятков миллионов, ведь цена предметов искусства многократно возросла.
Общественное внимание к этому аукциону в стране и за рубежом отчасти было вызвано его необычайным размахом, но, видимо, люди ощущали и некий символический смысл события: уход накопленных поколениями сокровищ из рук Ротшильдов обозначал конец всевластия этого семейства в финансовой жизни Англии.
После смерти Розики Виктор передал ферму в Эштоне своей сестре Мириам. Он словно пытался отречься от родового прошлого и начать все заново. Избавившись от знаменитых голландских мастеров, а заодно от Рейнолдса и Гейнсборо, Виктор повесил на стенах своего дома увеличенные до неузнаваемости изображения спермы различных животных. Ни в детстве, ни когда я бывала в этом доме уже взрослой, я не находила там никаких примет прежней жизни. В этом поколении не одна лишь Ника стремилась к решительному разрыву с прошлым.
С продажей особняка и усадьбы Ника лишилась и домов своего детства, и места, где она могла бы поселиться в Англии. Приходилось забыть обо всех сомнениях и строить свой брак: деться ей от мужа теперь некуда, и обосноваться им предстояло во Франции. Они много времени тратили на поиски постоянного жилья, хотя со стороны казалось, будто молодые только и делают, что развлекаются. От экзотических путешествий они отнюдь не отказывались: в 1937 году, оставив ребенка на попечение нянек, отправились на поиски сокровищ Лимы, которые якобы затонули у Кокосовых островов в пятистах километрах от побережья Панамы. Вернулись с пустыми руками – но зато Ника вновь оказалась беременна.
Рожать своего второго ребенка, Джанку, она снова отправилась в Лондон и сняла дом на Гайд-парк-сквер. Возвращение Кенигсвартеров во Францию опять комментировала английская пресса: 26 ноября 1938 года «Придворное приложение» к The Times объявило, что «барон и баронесса де Кенигсвартер отбыли на континент». Теперь у них появился свой дом – в Нормандии.
Шато д'Абондан ни размерами, ни роскошью не уступало большинству жилищ Ротшильдов. Изначально оно принадлежало семейству американских банкиров Харджис, которые держали свору охотничьих собак и познакомили французов с поло. В то время как Виктор и Мириам приспособились к аскетическому образу жизни, обычному для человека науки, Ника вроде бы сохраняла верность традиционному укладу Ротшильдов. New York Times отметила покупку замка в качестве «одной из самых крупных сделок с зарубежной недвижимостью в последние месяцы». Подозреваю, что на покупку ушла значительная часть приданого Ники: помимо денег, унаследованных от отца, она получила небольшие суммы по завещаниям бабушки Эммы и дяди Уолтера.
Ника сделалась хозяйкой просторного красно-желтого замка, стоявшего посреди шестидесяти гектаров дикой природы и аккуратно вписанных в ландшафт подъездных дорожек. То был прекрасный образец архитектуры эпохи Людовика XIII, «исторический памятник». Первый этаж целиком состоял из ряда богато отделанных салонов с окнами высотой три с половиной метра. На втором и третьем этажах располагалось семнадцать больших спален с гардеробными и – а это уже необычно – четырнадцать современных ванных комнат. Верхний этаж был целиком отдан под помещения для слуг. При замке имелся гараж на восемь больших машин и конюшня на тридцать лошадей. Не забыли и собственную молочную ферму, и псарню, где держали натасканную на оленя свору собак.
Как полагается, была у замка и своя легенда, связанная с одной из прежних обитательниц: Мария де ла Ну, талантливая музыкантша, оборудовала в имении театр и там по ночам давала концерты и спектакли – театр цел до сих пор. Невестку Марии королева Мария-Антуанетта пригласила в наставницы своего сына, и она якобы переодела дофина девочкой и тем спасла ему жизнь во время злополучного бегства в Варенн.
Жизнь в шато д'Абондан мало чем отличалась от жизни в Тринге, разве что стеснительные правила и клаустрофобия во французском высшем свете ощущались еще острее, чем в английском. Для человека с характером Ники то была пытка. Молодая женщина, ненавидящая правила и расписания, оказалась во главе целого заведения, работа которого зависела от соблюдения порядка и иерархии. Как себя вести, она знала, примеров перед глазами хватало – собственно, ничего другого она с детства и не видела, – но как раз такой участи и она сама, и ее сестры и брат не желали для себя. По утрам Ника обсуждала с шеф-поваром меню, а с экономкой – как рассадить гостей. На их домашние пиры гости съезжались со всей Европы. За ужином собиралось до сорока человек, разговор вели одновременно и на французском, и на английском, и на итальянском, и на испанском. Нужно было заранее отвести гостям спальни, подготовить помещения. Зимой развлекались верховыми прогулками и охотой на кабана, летом – прогулками и пикниками в парке. Детям особого внимания не уделялось – они по большей части оставались в детской на попечении нянь, как в свое время Ника.
Жюль чувствовал себя как рыба в воде. В его записках предстает светский, гостеприимный человек, любитель многолюдных застолий. Он сам придумывал механизмы, способствовавшие еще более эффективной работе домашнего хозяйства, – все нужно делать вовремя и в правильной последовательности. Одно из его изобретений – поезд с двумя вагончиками, для горячих блюд и для холодных, который курсировал по шестидесятиметровой трассе между кухней и столовой. Пока гости угощались, поезд неустанно носился взад и вперед, подвозя напитки и закуски. Жюль также установил в каждой спальне внутренний телефон, чтобы гости могли напрямую заказывать завтрак из кухни.
И какие бы сомнения ни терзали Нику, пока что она добросовестно старалась исполнять роль госпожи замка. Кузены, наведывавшиеся в шато, изумлялись тому, как легко она вошла в эту роль: бунтарка повзрослела и сделалась типичной женщиной из семейства Ротшильд, еще одним матриархом.
11 Надвигается буря
В 1936 году Виктор надумал сходить с женой в модный ресторан в Мейфере. Метрдотель узнал его и спросил:
– Вы – лорд Ротшильд?
Виктор подтвердил.
Тот смерил его взглядом с головы до ног:
– Мы не обслуживаем евреев.
Подобное обращение не было в новинку для Виктора и его сестер, но с каждым годом в 1930-х отмахиваться от этого становилось все труднее.
В Европе нарастал антисемитизм. Это означало, что ни один еврей не вправе оставаться вне политики. Уже в 1929 году была опубликована Mein Kampf, где все планы Гитлера излагались черным по белому. По его мнению, все зло происходило от коммунистов и евреев. В 1930-х годах мало кто из евреев мог чувствовать себя в безопасности на континенте: из Германии уже просачивались слухи о преследовании евреев, – не только мужчин, но и женщин, и детей. В 1933 году Гитлер сделался канцлером Германии, в следующем году, после «Ночи длинных ножей», сосредоточил всю власть в своих руках и все опасения сбылись.
После смерти дяди Уолтера Виктор унаследовал титул лорда Ротшильда и фактически стал главой британского еврейства. Хотя он мечтал о спокойной жизни ученого, положение вынуждало его участвовать в политике. Огромная проблема для английской ветви семейства Ротшильд и для самого Виктора заключалась в том, что, уйдя из банка и строя независимую карьеру, он лишился и финансового инструмента давления, и политического влияния. Прежде с Ротшильдами, банкирами королей и правительств, советовались по вопросам международной политики, они финансировали избирательные кампании и войны. Виктору, как и всему его поколению, оставалась лишь одна возможность – публичного протеста.
В 1934 году Ника, Виктор и другие члены семьи присутствовали на премьере художественного фильма «Дом Ротшильдов». Сборы от этого благотворительного мероприятия шли в пользу немецких беженцев. В несколько приукрашенной версии истории Ротшильдов главную роль сыграл Джордж Арлисс. Фильм был номинирован на Премию Академии.
Нацистский режим с самого начала представлял Ротшильдов как образец и воплощение «еврейской заразы». В ответ на «Дом Ротшильдов» Геббельс снял фильм Die Rothschilds, в котором ответственность за все современные проблемы возлагалась на эту семью. В своем дневнике Геббельс пишет о том, как подробно обсуждал с режиссером замысел фильма, порой «до глубокой ночи», и намерен был создать «шедевр пропаганды». Однако сценарий вышел настолько бестолковый и общий смысл расплывался так, что зрители толком не поняли, кто там прав, кто виноват. Геббельс распорядился отредактировать фильм, и эта «диковинка» сохранилась – одно из свидетельств чудовищного предрассудка.
На одну проблему наслаивалась другая: семья уже не выступала единым фронтом, интересы отдельных ее ветвей вступили в противоречие. Когда-то Ротшильды добились столь многого именно потому, что держались заодно, теперь же их пути разошлись. За сто с лишним лет после исхода пятерых братьев из Франкфурта их потомки обосновались каждый на своей родине и теперь разрывались между верностью соплеменникам и верностью соотечественникам. Виктор и его сестры не видели парадокса в том, чтобы быть одновременно англичанами и евреями, но в политике хватало людей, которые полагали, что выбирать придется что-то одно. Британские Ротшильды собрали более миллиона фунтов в помощь немецким евреям, но один из кузенов предостерегал: они поставят под угрозу «свое положение в Англии, если начнут так активно участвовать в международных еврейских делах».
Происходили бесконечные споры о том, где же отвести землю для евреев, устроить им безопасное прибежище. Нацисты поначалу собирались выслать всех на Мадагаскар. Еврейские общины собирали деньги для приобретения участков в Бразилии, Кении и Родезии. Кое-кто из Ротшильдов шумно призывал к международному вмешательству и требовал остановить Гитлера, другие советовали действовать осторожнее. Во Франции Роберт де Ротшильд собирал средства в помощь беженцам, хлынувшим в страну из Германии и захваченных ею стран, но предупреждал: «Иностранцам следует побыстрее ассимилироваться… Если они не приживутся здесь, им следует покинуть Францию».
Альтернативным вариантом были поселения в Палестине, начало которым в 1882 году положил один из французских Ротшильдов, Эдмон. Этот приверженец сионистского движения вложил более 50 миллионов долларов, приобрел 50 000 гектаров земли, поощрял развитие экономики и промышленности Палестины. Но там не хватило бы места для миллионов евреев, которых преследовал нацистский режим, кроме того, существовала еще одна проблема, о которой Эдмон прозорливо писал в 1934 году в обращении к Лиге Наций: «Наше стремление положить конец странствованиям Вечного Жида не должно привести к появлению такого же странствующего Араба». Британское правительство также считало палестинский вопрос «чудовищно запутанным».
Кое-кто из Ротшильдов опасался, что, добиваясь создания еврейского государства, они получат в итоге новое гетто, куда евреев загонят и не позволят им свободно соприкасаться с остальным миром. Обуревавшие Виктора противоречивые чувства вылились в речи для Pathé News в 1938 году.
«Мы, английские евреи, сделаем все, что в наших силах, для защиты этой страны. Мы будем сражаться, как все честные граждане.
Вопреки нашим гуманитарным убеждениям мы все понимаем нежелательность присутствия большого количества беженцев в этой стране даже на короткий срок. Самим беженцам это тоже дается очень нелегко, хотя и по другой причине. Быть вынужденным внезапно отправиться в чужую страну с неведомыми привычками, неведомым языком, с незнакомой пищей, где тебя никто не ждет, где ты и в материальном, и в нравственном отношении зависишь от чужой снисходительности и благотворительности, – можно ли представить себе более унизительное для человека положение?
Я получаю душераздирающие письма от детей, получаю отчеты и свидетельства очевидцев, после которых, мне кажется, я никогда уже не стану тем довольным жизнью и свободным от забот ученым, каким был прежде».
Эта речь пронизана подтекстами. Всего несколько поколений миновало с тех пор, как переселенцами-чужаками были предки Виктора. Его мать и бабушка тоже явились в Англию из другой страны, но сам Виктор считал себя англичанином. Вместе с тем он нес ответственность перед евреями других стран, которые ждали от Ротшильда политической и финансовой поддержки. Из Германии приходили все более пугающие известия, но готового решения, как на это реагировать, пока что не было. Большинство членов палаты общин полагало, что немцев надо как-то задобрить, а среди лордов многие откровенно поддерживали Гитлера. В 1939 году Арчибальд Рэмси основал The Right Club для «изобличения деятельности еврейских организаций». В этом клубе состояли лорд Редесдейл, герцог Вестминстерский, пятый герцог Веллингтон и многие другие – они бывали в гостях у Ротшильдов и не замечали никакого противоречия между приятельскими отношениями с этими евреями и враждебностью по отношению к «еврейству». Одна из «девочек Митфорд», Юнити, переехала в Германию, дабы там поклоняться своему кумиру, а муж ее сестры Освальд Мосли основал Британский фашистский союз. Эти чернорубашечники прямо обвиняли Ротшильдов в том, что те питаются «кровью и потом» народа, – другие формы антисемитизма были хотя бы более вкрадчивыми и смягченными приличиями. Высший лондонский свет узок и замкнут: сидя на скамье в палате лордов или присутствуя на званом вечере, Виктор неизменно видел перед собой членов тех семейств, которые гоняли его отца, словно лису, в Харроу и теперь хотели бы отлучить нового лорда Ротшильда от политической жизни Англии. Вопреки всему, Ротшильды оставались горячими патриотами, они были верны и благодарны Англии и с готовностью жертвовали ради нее своим имуществом и жизнью.
Консервативное правительство подписало в сентябре 1938-го Мюнхенское соглашение, практически не встретив сопротивления в парламенте. В кабинете Чемберлена никто не подал в знак протеста в отставку за исключением семейного друга Ротшильдов Даффа Купера. «Ты говорил, что я получу тысячу [писем в поддержку], – писал Дафф Виктору, – и я получил их гораздо больше тысячи и почти столько же телеграмм. Пусть в кабинете я оказался в одиночестве, в стране я не одинок». Эти двое постоянно переписывались на протяжении 1930-х годов, активно обсуждая, как противостоять нацистской угрозе.
Иногда Виктора упрекают в том, что он сделал слишком мало, однако он, преодолевая равнодушие парламента, настаивал на том, чтобы участь евреев в Германии стала достоянием общественности. Он выступал с речами, выписывал чеки, продал некоторые остававшиеся у него произведения искусства, в том числе «Семейство Бреддил» Джошуа Рейнолдса, и на эти деньги содержал еврейских беженцев. В 1939 году Виктор летал в США и обсуждал положение евреев с президентом Рузвельтом, госсекретарем Корделлом Халлом и министром финансов Генри Моргентау. Руководитель ФБР Эдгар Гувер пригласил его обсудить вероятность использования химического оружия. В ту же поездку Виктор успел взять несколько уроков фортепиано у Тедди Уилсона, специально ради этого съездив из Вашингтона в Нью-Йорк к великому пианисту.
Австрийский филиал банка Ротшильдов закрыли в 1938 году, глава банка барон Луи был арестован и год провел в заключении. Его освободили за огромный выкуп, уплаченный его братом Альбертом. Гитлер и его приспешники без зазрения совести брали за евреев откупные и включали в свои коллекции принадлежавшие евреям произведения искусства. Бесценные сокровища немецких и австрийских Ротшильдов были конфискованы, во дворце Ротшильдов на улице Принца Евгения Адольф Эйхман организовал «центральный пункт выселения евреев» и предлагал наладить эмиграцию евреев из Австрии – теоретически они могли купить себе свободный выезд из страны, однако на практике, уплатив нацистам, они зачастую получали билет не за границу, а в концлагерь.
На исходе 1930-х годов Ника, вопреки предостережениям брата, все еще считала Францию своим домом и оставалась в шато дАбондан. В письмах и дневниках того времени – ни намека на политику, Ника не проявляет интереса к этим событиям. Она с такой легкостью запрыгивала в автомобиль или самолет, отправлялась куда вздумается, и всюду ей сопутствовало богатство – с чего бы ей бояться приближения нацистских полчищ?
Даже когда угрозы, адресованные евреям и конкретно Ротшильдам, раздавались уже в правительстве Франции, Ника предпочитала ничего не замечать. Как многие состоятельные люди, она сумела на время укутаться в кокон своего богатства, и жизнь продолжалась как обычно, с танцами и модными нарядами. Коллекция одежды 1939 года отличалась экстравагантным покроем и веселыми красками. Скиапарелли представила вечернее платье с горностаем и ставшие знаменитыми туфли на высоких каблуках. Прекрасное лето – слишком ясное и красивое, как многие думали, чтобы оказаться преддверием войны.
С лета 1938 года и до начала 1939-го некоторые Ротшильды перебрались из Европы в Нью-Йорк. В январе 1939 года Гитлер велел приступить к осуществлению плана Z – пятилетней программы строительства флота, в результате которой у рейха должны были появиться силы, чтобы сокрушить британское морское владычество. В обращении к рейхстагу 30 января 1939 года Гитлер призвал к «борьбе за экспорт» – необходимо увеличивать доходы, получаемые Германией из-за границы. При этом он явно имел в виду своих заклятых врагов Ротшильдов: «Вновь я выступлю пророком – если международным еврейским финансистам в Европе и за ее пределами удастся вновь ввергнуть народы в мировую войну, итогом ее будет не большевизация земного шара, то есть победа еврейства, но уничтожение еврейской расы в Европе».
В марте немецкие войска оккупировали остававшиеся еще не занятыми регионы Чехии и Моравии – Чехословакия перестала существовать. В мае немцы отобрали у Литвы принадлежавший им прежде Мемель; два диктатора, Гитлер и Муссолини, подписали «Стальной пакт». К концу июля закрылись последние еврейские предприятия, действовавшие в Германии. 1 сентября нацисты вошли в Польшу – началась Вторая мировая война.
А Ника все еще жила с детьми во Франции, в своем шато. Слуги постепенно уходили – садовников, шоферов и конюхов мобилизовали. Вскоре в армию отправился и Жюль. В его записях я с изумлением читаю, что он закопал в саду банку с деньгами и припрятал в гараже машину на случай, если придется спасаться бегством. Нике он об этом не обмолвился ни словом. Быть может, это знак веры в ее способности: он полагал, что она и сама сумеет выбраться, и детей вывезет.
Оставив жене нарисованную от руки карту – маршрут к гавани, – Жюль отправился на военную службу. Сначала он был лейтенантом резерва в Руане, а в январе 1940 года его поставили во главе противовоздушной батареи: усовершенствованная система радаров оповещала о приближении вражеских самолетов. В майскую ночь 1940 года, когда немцы перешли границу с Францией, Жюль находился в Бордо. Поначалу его батарее удалось сбить бомбардировщик «хенкель», но вскоре их окружили вражеские танки. Жюль приказал своим людям уничтожить все оборудование и топливо, которое они не могли унести с собой. Затем они перешли на другой берег Соммы и начали отступать вдоль русла реки.
22 июня французское правительство капитулировало. Жюль немедленно покинул расположение своей части, собрал группу из ста десяти офицеров, сержантов и гражданских добровольцев, и все они на борту польского судна Sobieski эвакуировались в Англию, чтобы присоединиться к «Свободной Франции».
Пока Жюль воевал, Ника с детьми оставалась во Франции. Единственным мужчиной в замке был толстый повар, но работы ему хватало: вопреки советам родных и друзей Ника распахнула двери замка для тянувшихся мимо беженцев, и вскоре в роскошных спальнях, где еще недавно Кенигсвартеры селили знатных гостей, ютилось шестьдесят человек. Прежде радиоприемник был для Ники источником любимой музыки, радиоволны доносили до нее из Америки джаз, но теперь стрелка постоянно оставалась на частоте международного канала Би-би-си. Ника слушала выступления старого друга Уинстона Черчилля, который почтил своим присутствием ее первый бал и частенько гостил в Тринге. Его клич: «Мне нечего посулить вам, лишь кровь, муки, слезы и пот… Вы спрашиваете, в чем наша политика? Победа – победа любой ценой». В какой мере принятое Никой решение остаться проистекало из отваги и гордости, в какой было попросту глупостью? Задним числом легко осуждать. Чего бы проще – бросить свой дом и бежать с детьми и теми пожитками, которые успеешь захватить! Элементарная предосторожность.
До Ники донеслась весть о том, как ее кузина Мари де Ротшильд едва успела выбраться из шато Лафит. Беременная вторым ребенком, Эриком, с двухлетней дочерью Беатрис на руках, Мари отбыла из Бордо на последнем корабле, и почти сразу же в ее имение вошли и захватили его нацисты[4].
Жюль передал Нике приказ уходить. Немцы приближались, она, еврейка, обречена. Тогда она быстро подготовилась к бегству, но уже не осталось кораблей, на которых можно было бы отбыть, прекратились коммерческие рейсы самолетов, бензин стал дороже золота – свой частный самолет Нике нечем было заправить.
Чтобы выбраться из Франции, требовалось получить выездные визы для себя, двоих детей, пасынка Луи, швейцарской горничной и французской няни. Чтобы лишний раз не тревожить мать, Ника дала телеграмму в Англию сестре Либерти. Но вся семья узнала об этом и ждала: доберется ли? Было известно, что немцы приближаются к замку, что дороги забиты отчаявшимися беженцами и шансы получить место хотя бы на палубе (не говоря уж о каюте) ничтожны. Розика описывала эти «дни агонии». В письме к сестре в Венгрию она рассказала об этом путешествии своей дочери:
«Жюль не мог покинуть свой пост под непрерывным огнем, но она прекрасно справилась сама: выехала в субботу на рассвете, в потоке беженцев из Бельгии и Северной Франции. Считалось, что до порта они доберутся за десять часов, а на самом деле понадобилось двое суток, и еда кончилась в первый же день: они поделились с изголодавшимися спутниками. Во вторник они были уже в Лондоне, а вчера, в среду, – здесь. Ника свежа, как ромашка, и все трое детей нисколько не утомились в пути. Рассказ Пики стоило бы записать: во всех перипетиях ей не изменяет чувство юмора. По дороге ей попадались англичане, которые рыцарски ей помогали, а в особенности она благословляет Армию спасения, которая поила тысячи беженцев горячим чаем. И так она это подает, словно вернулась с пикника».
Отчасти и этот рассказ помогает понять, почему Ника медлила с отбытием из замка. Ее с детства приучали не суетиться, растили эдакую невинную, не от мира сего девочку, овечку из сказки, которая прогуливается себе с корзинкой для пикника и знать не знает про козни серого волка-нациста. На документальных кадрах тех дней запечатлены пробки на дорогах – десятки тысяч людей пытаются добраться до порта, и сами гавани в состоянии хаоса, отбывающие суда переполнены беженцами, неприкрытый ужас на всех лицах. Но Ника знала, чего ждет от нее старинный мир Эштона: явиться домой «свежей ромашкой» и ждать дальнейших указаний от Жюля.
Через три дня после бегства Ники шато заняли немцы. Свекровь отказалась бежать вместе с Никой и внуками – ее схватили и отправили в Аушвиц на смерть. Та же участь постигла первую жену Филиппа де Ротшильда: ее арестовали на глазах у дочери и отправили в Равенсбрюк, где она и умерла.
Двое молодых Ротшильдов из французского клана ушли в 1939 году в армию, а в 1940 году попали в плен. Ален был ранен и захвачен уже в госпитале, а Эли, который отправился на фронт верхом, сдался с основной частью своего полка поблизости от бельгийской границы. Оба они пытались бежать. Эли перевели в Колдиц, а затем в Любек, в лагерь военнопленных. К счастью, их принимали за пленных офицеров, а не за евреев. Их кузен Ги пытался на корабле добраться до Англии, чтобы присоединиться к «Свободной Франции». Корабль был торпедирован, Ги ранило. Его спасли и отправили поправляться в Эштон-Уолд.
Усадьба трещала по швам. Сюда вернулся и кое-кто из бывших работников, чудом спасшихся из Дюнкерка. «Два брата горничной Айви вплавь добрались до середины Ла-Манша, шофер Виктор спасся вместе с нашим другом, ныне полковником, в утлой шлюпке», – отчитывалась Розика сестре. Хороших новостей было мало. Многие друзья, любимые с детства, погибли.
Дома, принадлежавшие Ротшильдам в Англии, были реквизированы для нужд армии или под приют для беженцев. В Уэддесдоне в гостевые спальни рядами составили кровати для эвакуированных детей. Принадлежавший Альфреду дом в Холтоне превратился в офицерскую столовую. Мириам посмеивалась: никогда не знаешь, кто нагрянет завтра. Один солдат оказался Кларком Гейблом («красивый», прокомментировала Мириам), за другого, Джорджа Лейна, она вышла замуж.
В 1940 году Виктор возглавил крошечный отдел в MI5 и занялся диверсиями и разминированием. Годы игры на пианино и разделывания лягушек наградили его ловкими пальцами. «Когда разбираешь зарядное устройство, – писал он, – пугаться нет времени. К тому же поглощает красота этого механизма с деталями швейцарских часов». Позднее Виктор признавался, что последний провод выдергивал, встав за стул: «Если потеряю руку или даже обе, не беда, но только не зрение». После войны он был награжден медалью Георга «за опасную работу в трудных условиях».
Мириам работала в Блетчи-Парк, в набранной Аланом Тюрингом команде дешифровалыциков. Однажды Мириам арестовали в ее уединенном домике на берегу в Уэльсе, заподозрив в ней вражеского агента: в коттедже обнаружились почтовые голуби, целый чемодан с кодами и мешок зерна. Тут же выяснилось, что голубей Мириам разводит по семейной традиции, а коды – всего лишь математические задачи, с помощью которых и она, и брат оттачивали свой ум.
Либерти после возвращения из Америки все худела, и с нервами у нее становилось все хуже, несмотря на лечение, предложенное доктором Фройденбергером. «Доктор Ф. сообщил по телефону, что с Либерти все благополучно. Она не слишком переживает по пустякам, у нее неплохое настроение», – писала сестре Розика.
Почта все еще работала, как в мирное время, письма кузенов благополучно доставлялись с континента в Англию и обратно. Судя по семейной корреспонденции, в 1940 году вновь настала дивная весна, за ней прекрасное лето, сады Эштона цвели лилиями и золотым дождем, в живых оградах гудели бабочки и стрекозы. Французские кузены останавливались в поместье по дороге в эмиграцию, в Америку. Сестре, которая так и не смогла выбраться из Венгрии, Розика писала:
«Если бы ковер-самолет перенес тебя сюда, ты бы порадовалась теплым солнечным дням, миллионам роз и огромной вкуснейшей клубнике. Овощи в изобилии, хотя часть наших садовников и призвали. Нет недостатка ни в какой еде, мы получаем вволю мяса и рыбы, получили и сахар, чтобы варить из фруктов повидло. Я купила морозильник, который производит в день 18 фунтов льда, и еще остается достаточно места для хранения продуктов».
Но остаться в Эштоне Нике не разрешили. Ее дети Патрик и Джанка играли там с моим отцом и тетей – в безопасном убежище, с бабушкой. Розика писала о них: «Детям дали тележку с пони. Коричневые, словно каштаны, бегают целый день почти без одежды».
Жюль получил известие, что немецкая армия разорила шато д'Абондан, уцелели только принадлежавшие Нике собаки. «Увы, в прошлый вторник Ника с детьми уехала в Канаду, – писала Розика. – Так распорядился Жюль: ради него, ради его спокойствия она должна увезти детей за море. Она бы предпочла оставить их со мной и быть подле Жюля, однако, я полагаю, в первую очередь нужно считаться с Жюлем, он сражается с первого дня войны. Ника выглядит прекрасно, повидалась со всеми друзьями в Лондоне, и Мириам ее проводила».
Читаю и перечитываю это письмо, недоумеваю: что ж такое происходит? Опять принимаются в расчет только пожелания Жюля. Ника против воли покидает родную страну и близких – «ради его спокойствия». Она покорно выполняет обязанности жены – прекрасно выглядеть и во всем подчиняться. Плавание через Атлантику было нелегким, судно едва ускользнуло от воздушного налета. Американская писательница Вирджиния Каулз, совершившая подобный «круиз» вместе с кузинами Ники, жаловалась, что кормили исключительно икрой и фуа-гра – не слишком-то сытно.
Нике исполнилось двадцать семь лет, но она привычно выполняла указания мужа. Едва прибыв в Америку, она получила телеграмму: Розика скончалась 30 июня от инфаркта. Оказавшись на другом берегу Атлантического океана, Ника не смогла присутствовать на похоронах матери. Тем не менее она оставила детей с друзьями в Нью-Йорке (штате, не городе) и вернулась в Англию. То не было по тем временам необычным: мою мать с сестрой, в возрасте соответственно четырех лет и двух, отправили в 1940 году в Америку к знакомым – жить до конца войны. Сейчас это может показаться бессердечным, тогда же было разумно. Одно время Ника работала волонтером, но без привычной поддержки мужа или матери, вдали от Виктора и Мириам, трудившихся на войну, отделенная тысячами миль от детей, она не находила себе места.
Нику, жену француза с подозрительно «немецкой» фамилией, вряд ли приняли бы на военную службу в британскую армию. Она могла, как многие ее родственники, задержаться в Америке, могла подыскать себе работу в Англии и утешаться мыслью, что таким образом тоже приближает победу. Но она хотела играть активную роль в этом противостоянии и вступила в армию «Свободная Франция». Это давало ей шанс сражаться бок о бок с супругом.
12 Мамочка с пистолетом
Ника – не единственная из женщин семейства Ротшильд, выбравшая «Свободную Францию». На призыв де Голля откликнулись и ее кузины Моник и Надин, добрались до Лондона и записались добровольцами. «Атмосфера в этой столице меня покорила, – записывала в дневнике (впоследствии он был издан за частный счет) Моник. – Невероятное множество военных всех рангов и всех национальностей. По ночам метро преображается в огромный спальный зал. Англичане осторожны, решительны и удивительно терпеливы».
Жизнь военнослужащей, судя по свидетельству Моник де Ротшильд, заметно отличалась от привычной для хозяйки замка.
06.30. Подъем, умывание, прическа, застлать постель, надеть форму
07.30. Завтрак
08.30. Тренировка
09.30. Строевая подготовка
12.30. Обед и свободное время
14.30. Строевая подготовка
16.00. Тренировка
17.00. Обучение вождению
18.30. Ужин
21.00. Отбой
Молодые дамы Ротшильд явились к генералу Коёнигу на Гросвенор-сквер. Генерал обошелся с ними круто: их к нему приставили в качестве личных водителей, а он терпеть не мог женщин за рулем. Узнав, что Жюль сражается с немцами в Африке, Ника просила отправить ее туда – к мужу, на поле боя, но получила решительный отказ. Всех завербовавшихся дам так и оставят в Лондоне. Ника решила любой ценой пробраться в Африку. Ни генеральский приказ, ни полное отсутствие военной подготовки не помешают ей урвать свою долю приключений. До сих пор она училась лишь танцевать да отважно скакать за преследуемым зверем. Не владея никакими средствами самозащиты, не имея понятия о том, как выжить в тропиках, она всерьез рисковала погибнуть, так и не добравшись до Жюля.
Среди воинов «Свободной Франции» числились тогда Марсель Марсо, Антуан де Сент-Экзюпери и некий молодой человек по имени Гастон Ив, чей дневник 1941–1943 годов дает весьма внятное представление о службе в Африке в ту пору. Он описывает условия во французской казарме: «Я даже не мог себе представить такую грязь. Через два дня после прибытия я уже подхватил дизентерию, хотя по ночам делал, как мне посоветовали: нам сказали обматывать себе живот длинной полоской ткани. Дизентерия – самая обычная вещь в Африке».
Гастон Ив подробно описывает путь французского добровольца по Африке. В Банги по улицам свободно разгуливают львы. В Браззавиле, благо там многочисленное европейское население, можно было получить хорошую пищу, а так жили на тушенке. В форте Аршамбо, когда купаешься в реке, смотри, не подплывает ли крокодил. По ночам кусают комары и свирепые черные муравьи. В Кано их встретил эмир, чьи зубы были сточены в острые гвоздики, устроил парад – танцы на лошадях.
К предостережениям Ника не прислушивалась и за несколько недель пребывания в Африке успела подхватить малярию, получить солнечный удар и чуть не погибла в аварии, в которой сама же полностью и была виновата. После этого ей пришлось несколько недель проваляться в полевом госпитале. Но Жюля она все-таки нашла. Оправившись от шока, вызванного ее внезапным появлением, ее невероятной дерзостью, муж подобрал Нике работу – водителя и шифровальщика. Но ходили слухи, будто она летала и на бомбардировщике «ланкастер».
Супружеских пар в армии было мало, и, хотя Нику и Жюля расселили по отдельности, у них была возможность видеться днем. Нику старались уберечь от непосредственного участия в боях, но в условиях военного хаоса правила уже гораздо меньше стесняли ее.
Проследить перемещения Ники в этот период довольно затруднительно. В New York Times промелькнула статья о том, как Ника едва не погибла от торпед во время морского путешествия из Лагоса в Нью-Йорк в январе 1943 года. Очевидно, она навещала детей, которые по-прежнему жили под Нью-Йорком. В это самое время (23 января) состоялась премьера джазовой симфонии Дюка Эллингтона «Черный, коричневый, беж» в Карнеги-Холл. Эта музыка, говорила впоследствии Ника, однажды прозвучит для нее как призыв.
Нью-Йорк будоражил, но она скучала по мужу и хотела следовать за ним даже на поле боя. На самолете снабжения она вновь добралась до Африки. В записках Жюля, порой превращающихся в настоящий травелог, рассказывается, как они раздобыли старенький самолетик и летали с одной базы «Свободной Франции» на другую, повидав те регионы Африки, которые обычно остаются недоступны туристам, – взлетно-посадочной полосой им служила пустошь или даже приземистый кустарник. По пути между Браззавилем и Банги они опустились в гуще леса, познакомились с пигмеями и от них услышали, что настоящий охотник, мужчина, должен убить слона, скользнуть ему под брюхо, распороть кишки длинным ножом и проворно увернуться, прежде чем серая махина обрушится на своего губителя. В другой раз их занесло в форт Лэми в Чаде, и там их подвез очередной случайный знакомец, который ехал на рынок поменять свою жену на собак.
В сентябре 1943 года супруги оказались в Каире. Жюля немедленно отрядили в Тунис: битва за Тунис продолжалась с 17 ноября 1942 года по 13 мая 1943 года. Державы Оси потерпели поражение, но и союзникам требовалось укрепить свое положение в Африке. Жюль сыграл во всем этом ключевую роль, провел своих людей через «линию Марет» и присоединился к союзникам в Триаге. Немецкая 90-я дивизия легкой пехоты застряла в массиве Загуана. После ожесточенного сражения 13 мая союзники одержали победу, но Жюль потерял в бою половину своих людей. Уцелевшие триста человек должны были охранять тысячи немецких и итальянских военнопленных.
Ника оставалась в Каире, оттуда в армию снаряжались обозы с провиантом и боеприпасами. Каир был в ту пору подобием Нью-Йорка в Африке: многонациональный город с богатой культурной жизнью; каждый отмеченный наградой солдат, все любимые киноактеры наведывались сюда – все эти роковые красавицы и красавцы. В 1943 году на сцене каирского театра выступали Вивьен Ли и Ноэл Кауард, появился и Гэвин Астор вместе с Джозефиной Бейкер, наведался в город старинный друг Ники Уинстон Черчилль, по ночам король Египта устраивал пиры, в двух клубах играли джаз, а в кино шел новый фильм «Мышьяк и старые кружева».
Трое современников, которых я расспрашивала о тех событиях, и в том числе писатель и критик Стэнли Крауч, поведали мне такую историю. Чернокожий американский солдат, размещенный в каирской гостинице, услышал, как в соседнем номере играет граммофон. Солдат и сам был музыкантом и, привлеченный знакомой мелодий, решился постучать в чужую дверь. Ему открыла прекрасная женщина с длинными темными волосами и пригласила войти. То была Ника – по-видимому, она соблазнила этого солдата. В этом все три версии сходились, только имя соблазненного они называли по-разному. Участники этих событий давно мертвы, и нет возможности что-то доказать или опровергнуть. Война породила новые правила, нормальное поведение было забыто, люди вели себя вовсе не так, как прежде было им свойственно. Кто-то может сказать, что Ника открыла истинное свое лицо, что она была распутна, – я же подозреваю, что романтическая сторона любви привлекала ее больше, чем плотская.
Как изменились в ту пору отношения Ники с мужем? Те его личные качества, которые в мирной жизни раздражали супругу, во время войны оказались востребованы. Он был решителен, храбр и добивался беспрекословного послушания – что и требуется командиру. В Африке Жюль был счастлив, он полностью реализовался, он был на высоте – и таким Ника увидела своего мужа.
Правда, в записках Жюля предстает иная сторона его характера и образа действий – пострашнее. Если кто-то из подчиненных допускал серьезный промах, Жюль вытаскивал его перед строем и отдавал на избиение солдату, который до войны был профессиональным боксером. Он считал это более эффективным и честным способом удержать солдат под контролем, нежели передавать дело в трибунал. Наказывал их, говоря его же словами, «отечески, но строго».
Едва Ника нагнала мужа в Тунисе, как его подразделение вновь переместили – сначала вернули в Триполи, а оттуда – в Алжир. Ежедневный рацион воды урезали до четырех с половиной литров на человека – достаточно, чтобы не опасаться обезвоживания, но слишком мало для комфорта. Из соображений безопасности воду кипятили и употребляли только в виде чая, тем не менее большинство солдат маялись дизентерией и болями в животе. Собаки повадились пить воду после бритья, и уже в мирное время их невозможно было отучить от вкуса мыльной воды.
В апреле 1944 года полк Жюля, а с ним и Ника, перебрались из Бизерта в Неаполь, а оттуда в Казерту, где Ника была включена в Комитет военных захоронений. В ее обязанности входило опознавать тела погибших солдат, оставшихся лежать на полях сражений. Она выполняла эту тяжкую повинность, следуя за полком мужа, который пролагал себе путь через Европу, к окончательной победе. В ожесточенном сражении под Гарильяно, где немцы занимали позицию на холмах и на шоссе и едва не разбили его батальон, Жюль чудом избежал гибели: снаряд разорвался в нескольких сантиметрах от его головы, и на время барон де Кенигсвартер оглох и ослеп. Союзники упорно продвигались вперед, одерживая одну маленькую победу за другой. Перешли «линию Густава», 23 мая овладели Понтекорво – немцы отступали на север. Жюль со своим батальоном добрался до Бриндизи, и оттуда они переправились на корабле на юг Франции, чтобы продолжить дело освобождения родины. В сентябре немцев изгнали из Лиона, в октябре – из Роншампа. Затем солдаты «Свободной Франции» двинулись на север, перевалили через заснеженные Альпы и в начале 1945 года вышли к Турину.
Как только в августе 1944 года был освобожден Париж, Ника обосновалась там и жила то в семейном особняке Кенигсвартеров, то у Ротшильдов на авеню Мариньи – там же останавливался и ее брат Виктор, когда прибыл в Париж по поручению MI5. Малькольм Маггеридж рисует нелицеприятный портрет Виктора в своих мемуарах «Хроника растраченного времени». Отчасти и это описание помогает понять, почему со временем Ника пожелала дистанцироваться от Ротшильдов.
«Для Ротшильда этот особняк на авеню Мариньи был и „домом вдали от дома“ – и в то же время тюрьмой. Поселившись там, он сделался пусть не де-юре, но де-факто главой семьи. Время от времени в особняке появлялись «младшие» Ротшильды, изъявляли свое почтение. Виктору вроде бы и нравилось, что они заглядывают ему в глаза, и вместе с тем он тяготился их присутствием: в его характере заносчивость причудливо смешивалась с застенчивостью. Между клубом «Уайт» и Ковчегом, между Ветхим Заветом и Новым, между Кремлем и палатой лордов – где-то между он потерялся и с тех пор метался, не находя пути. Глубоко в нем прятался ранимый, восприимчивый, трогательный, подчас достойный любви человек, но поверх наросло столько слоев и самоуверенности ученого, верящего в непреложность фактов, и столь же нелепой уверенности, что все должны поклоняться его богатству и славному имени, что эта глубина открывалась крайне редко».
В интервью историку джаза Нату Хентоффу Ника свела воспоминания военной поры к минимуму: «Я прошла с боями от Браззавиля до Каира, от Туниса до Турции и даже поспела в Германию увидеть последние дни рейха». Один из моих собеседников, американец Фрэнк Ричардсон, водитель джипа и музыкант в стиле буги-виги, смог пролить кое-какой свет на этот последний период войны. Его полк был расквартирован в Париже, Фрэнка вместе с тремя другими солдатами разместили в особняке Кенигсвартеров. Так он познакомился с Никой и Одиль – младшей сестрой Жюля, у них была большая разница в возрасте.
«В нашей комнате разместилось четверо – и еще пианино, – рассказывал мне Фрэнк. – Однажды вечером я наигрывал что-то, и тут раздался стук в дверь, вошла Ника, представилась, попросила сойти вниз и поиграть для нее. У нее там, разумеется, имелся концертный рояль». В тот момент Ника не состояла на службе, а Жюль все еще был на войне. Со снабжением в Париже по-прежнему были трудности, но дом Кенигсвартеров отапливался, и две его хозяйки с помощью остановившихся у них солдат могли раздобыть практически любые припасы. Ричардсону явно приглянулась Одиль, она была ему ближе по возрасту, чем Ника. Девица тоже из передовых: белые перчатки до локтя, а на дне рождения у нее играл Джанго Рейнхардт.
Ричардсон вспомнил и другой случай, под конец 1944 года, когда баронесса так же постучалась к нему и попросила сыграть для нее и для друга. «Мужчину мне представили как адъютанта де Голля. Нас было всего трое; я играл, они вроде как обжимались и заходили все дальше и дальше, пока я не понял, что мне пора возвращаться наверх».
Я спросила Фрэнка, шокировало ли его такое поведение.
– Еще бы! Я вырос в маленьком городке, мне всего-то был двадцать один год, я еще не пообтесался, – конечно, меня это шокировало. – И после паузы добавил им в оправдание: – Но ведь шла война…
Шла война, спокойные, счастливые моменты выдавались нечасто. Приходили известия о гибели близких и друзей. А потом союзники победили, и злодеяния нацистов были разоблачены полностью – оказалось, что родство и богатство мало кого спасло.
После войны родные получили душераздирающее свидетельство об участи тети Ники по матери, Аранки фон Вертхаймштайн. Подруге в Венгрии пришло письмо от некоего господина Раца, который был отправлен в лагерь уничтожения тем же поездом, что и Аранка, старуха без малого восьмидесяти лет, полуслепая, насмерть перепуганная. Она в отличие от сестры так и не вышла замуж и всю жизнь провела на ферме поблизости от родительского дома.
«1 мая [1944] всех евреев, в том числе и фройляйн Вертхаймштайн, согнали в гетто. Их продержали там в ужасных условиях до 28 мая 1944, а затем втиснули в железнодорожные вагоны, по семьдесят пять человек в каждый. Мы ехали четыре мучительных дня. Ни воды, ни пищи. Женщины падали в обморок, кто-то умер, кто-то сошел с ума. На четвертый день мне удалось добыть немного воды, я поделился с фройляйн Вертхаймштайн, которая была в плохом состоянии. Выпив воды и придя в себя, она сказала мне, что вряд ли долго еще протянет, и просила попытаться как-нибудь передать это письмо в Лондон, семье Ротшильд. Поезд прибыл в лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау, эсэсовцы поджидали нас с палками и тростями. Я видел, как эсэсовец крюком своей трости вытащил фройляйн В. из вагона. Она рухнула на рельсы, и ее забили до смерти».
8 мая 1945 года Уинстон Черчилль объявил конец войны. Боевые действия закончились, но только теперь стали очевидны последствия войны. Страны, семьи, человеческие жизни, мечты, будущее – все в руинах. Тем, кто выжил, приходилось заново строить свое существование среди обломков и потерь. Первая мировая война сотрясла привычный европейцам уклад, Вторая его уничтожила.
Вклад Ники и Жюля в победу был достойно отмечен. Жюль получил орден Освобождения, второй по рангу орден, которым награждали героев борьбы за независимость Франции. Среди немногих иностранцев, почтенных этой наградой, – Черчилль и Эйзенхауэр. Ника закончила войну в звании лейтенанта.
Однако и эти двое с тревогой вглядывались в неясное будущее. Дети все еще оставались в Америке. Дом разрушен немцами. Жюль не мог найти работу. Мать Ники умерла. Рушился и брак Виктора. Состояние здоровья Либерти ухудшилось. Одна лишь Мириам, только что вышедшая замуж и обосновавшаяся в Эштон-Уолд, вроде бы знала свой путь и была счастлива.
Для Ники настал поворотный момент: в тридцать два года она почувствовала себя свободной, узнала, что жизнь можно прожить и по-другому.
13 «Сядь на маршрут А»
На двух послевоенных фотографиях Ника выглядит печальной и отчужденной. Первая сделана в Норвегии: Ника за рулем большого «роллс-ройса» равнодушно взирает на фотографа. Она очень хороша в белом льняном платье, безупречны прическа и макияж, но если ребенок и служанка рядом с ней улыбаются в камеру, то моя двоюродная бабушка смотрит сурово и отстраненно. Другой снимок, сделанный несколько лет спустя на галечном пляже, должен был бы, как большинство фотографий в этом жанре, лучиться радостью отпуска, выходного дня у моря… На заднем плане кабинки, на переднем – Ника в дорогом брючном костюме, с двумя детьми, элегантная, холеная. Но энергия и внутренняя сила, радость жизни, столь очевидная на ранних фотографиях Ники, пропали бесследно.
Война вернула Нике и многим ее современницам личную свободу, предоставила шанс принести пользу и вне рамок семьи. Многие впервые начали работать. В отсутствие мужа супруге приходилось самой вести и дом, и семейный бизнес, и бюджет. Ника не просто справилась без слуг, родных и иных помощников – она достойно проявила себя на войне. С детства ее приучали к мысли, что всю работу за нее должны исполнять другие, – воспитание, которое не столько балует, сколько превращает женщину в инвалида. Ника, ее сестры и брат обречены были всю жизнь оставаться несмышлеными младенцами. Как сформулировала Мириам: «Мы понятия не имели, как о самих-то себе позаботиться».
В мирное время супружеская жизнь Ники была точным продолжением этого детства. Замужней женщине полагалось развлекать гостей и рожать детей. Война позволила ей на время отвлечься от «главного долга», но теперь от Ники требовалось вернуться в прежнюю роль покорной супруги. Давно, еще до брака, кузина предупреждала ее: «Полагаю, скоро ты выйдешь замуж, так что усвой поскорее: ты – червь. Чтобы стать хорошей женой, нужно сделаться червем»[5].
Ника была не из той материи, из какой лепят червей. Война придала ей уверенности в себе, научила думать, действовать, быть собой. Она самостоятельно вывезла детей из Франции в Америку, обеспечила их безопасность, ее не убили ни торпеды, ни малярия, она ухитрялась перебираться с континента на континент. «Свободная Франция» поручала ей работу шифровальщика и водителя, она вела радиопередачи, под конец войны была награждена орденом иностранного государства. Вернуться к мирной жизни – пусть к самой привилегированной и комфортабельной – было после этого нелегко.
Для Жюля мирное время тоже обернулось утратой смысла. В армии он обрел себя, а после победы внезапно оказался безработным. Шато д'Абондан немцы разрушили так, что жить в замке было нельзя, да и денег на прежний образ жизни теперь не хватало. Огромный покореженный дом в провинции никому не требовался, долгое время он торчал в Нормандии эдаким белым слоном, а семья перебралась в Париж. Там Жюля назначили генеральным секретарем ассоциации «Свободная Франция», он должен был проводить мероприятия для поднятия духа и укрепления морали. Однажды он пригласил выступить французскую певицу-сопрано Лили Пон, в другой раз согнал к зданию Оперы танки, и бойцы Сопротивления прошли парадным шагом. Узнав, что муж организует в столице музыкальный гала-фестиваль, Ника возликовала – и тут же сникла: допускались только военные оркестры. Военные ансамбли Ника терпеть не могла, по ее мнению, они играли чересчур механически. «Мой брак рухнул, – заявила Ника в интервью журналу Esquire, – потому что мой муж обожал барабан и разбивал мои пластинки, когда я опаздывала к ужину. Я всегда опаздывала к ужину». В интервью филиппинской газете сын Ники Патрик подтверждает: «Мой отец не интересовался ничем из того, чем она жила – искусством и музыкой. Это все ерунда, твердил он».
Ника получала доход от трастового фонда в Англии. В стабильной экономике положенный на ее имя капитал приносил хороший доход, но после войны налоги поднялись до 83 %, и Ника впервые в жизни столкнулась с финансовыми затруднениями. Даже Ротшильдам не удалось вернуться к довоенному образу жизни. Разумеется, они не рассчитывали на сочувствие, да и сами себя не оплакивали, понимая, что по сравнению с большинством окружающих они – счастливчики. Тем не менее такая перемена судьбы нелегко далась женщине, которая вовсе не была подготовлена к ней ни семейными традициями, ни образованием, – она не могла найти себе работу вне дома, но и дома не имела полезных в новой ситуации функций.
Достояние французских Ротшильдов захватили немцы, а что осталось, конфисковало правительство Виши под тем предлогом, что любой беженец является изменником родины и утрачивает право на свой дом и землю. Вот перечень предметов искусства[6], захваченных в 203 еврейских домах на 13 июля 1943 года:
1. Ротшильды – 3978 единиц хранения
2. Кан – 1202 единицы хранения
3. Давид Вайль – 1121 единица хранения
4. Леви де Вензионн – 989 единиц хранения
5. Братья Зелигман – 556 единиц хранения.
Семье понадобились годы, чтобы вернуть хотя бы часть своего достояния. К тому времени рынок предметов искусства переполнился и бесценные сокровища заметно подешевели. Да и не все удалось возвратить: что-то так и не нашли, что-то было уничтожено.
Одна картина уцелела благодаря удивительному, безоглядному подвигу преданности. Когда нацисты захватили в Бордо принадлежавший Ротшильдам замок Мутон, имущество они конфисковали, а семейные портреты использовали в качестве мишеней для стрельбы. В разгар этого состязания кухарка, проработавшая у Филиппа де Ротшильда много лет, прошла прямо перед дулами автоматов, сняла со стены портрет своего хозяина, сунула под мышку и покинула замок. Она вернулась (и принесла портрет), лишь когда в 1946 году возвратился в свой замок и сам Филипп.
В Англии огромное состояние Ротшильдов уменьшилось во много раз и из-за войны, и потому, что семейные связи распадались. Халтон-Хауз продали Би-би-си, Эштон-Клинтон превратился в отель, Ганнерсбери – в общедоступный парк. В Тринг-Парке обосновалась школа театрального искусства. Уэддесдон вернулся к Ротшильдам, но тринадцать лет спустя его, как Аскотт-Хауз, передали Фонду охраны исторических памятников. Лишь в Ментмор-Таурс, доме моей тезки Ханны Ротшильд, ее потомки Роузбери жили до 1970-х. Когда Ника появилась на свет, Ротшильды владели сорока с лишним особняками и усадьбами в Британии и на континенте. Ныне только в Уэддесдоне, под охраной Исторического фонда, сохранилась первоначальная обстановка.
Расправилась война и с привычным Ротшильдам образом жизни. Не стало их твердыни в долине Эйлсбери; забылся обычай проводить выходные друг у друга, распалась система семейных связей. Виктор, номинальный глава семьи, принадлежал к новому поколению – он пренебрег своим наследием, избавился от сокровищ, накопленных предками. Для Виктора все было просто: если вещь его не привлекает, тем паче если не вписывается в его образ жизни, с ней надо расстаться.
Он говаривал, что на каждого Ротшильда, который делает деньги, приходятся десятки тех, кто их тратит, – себя он относил ко второй категории. Ему досталось наследство в 2,5 миллиона фунтов, дома на Пиккадилли и в Тринге, огромная коллекция произведений искусства. После него осталось всего 270 410 фунтов – большую часть состояния Виктор истратил. Он не имел ни способностей, ни желания отвоевывать прежнее положение Британского банка, зато в 1949 году принял по поручению лейбористского правительства должность председателя Агрономического совета и занимал ее на протяжении десяти лет. Он также продолжал научные исследования на кафедре зоологии в Кембридже, занимаясь гаметологией – исследованием спермы, яйцеклеток и процесса оплодотворения. К прошлому он не питал ни капли почтения и бестрепетно снес коттеджи в Рашбруке (Саффолк), чтобы построить на их месте образцовую экодеревню из совершенно одинаковых домов.
Жюль тем временем, которому прискучили парады победы, раздобыл себе пост в министерстве иностранных дел. По пути к первому месту назначения, в Норвегию, к нему и Нике присоединились двое старших детей и сын Жюля от первого брака Луи. Жюль не видел детей пять лет, Ника – три с лишним года.
Хотя денег у них поубавилось, супруги Кенигсвартер не могли так сразу отказаться от жизни на широкую ногу и подыскивали себе соответствующее жилье. И все же решение поселиться в Осло в замке Гимле могло показаться экстравагантным: здесь жил ненавистный коллаборационист Видкун Квислинг, «норвежский Гитлер». В октябре 1945 года он был расстрелян за осуществленный им в апреле 1940 года государственный переворот и за ряд других преступлений: Квислинг поощрял норвежцев вступать в эсэсовскую дивизию «Нордик», отправлял евреев в концентрационные лагеря. С какой стати Кенигсвартер поселились в этом месте, самый воздух которого был пропитан страшными воспоминаниями?[7] Жюль похвалялся, что роскошный фасад доминирует над всем заливом, в гостиной размещается сотня посетителей, шестьдесят человек усаживаются за обеденный стол.
Должность посла Франции в Норвегии позволяла Жюлю содержать семью и вместе с тем представлять свою страну. Нику от всего этого тошнило.
Подруга детства старшего из детей, Патрика де Кенигсвартера, вспоминала, как мальчишка, напевая «Не запирай меня», то вбегал в спальню к матери, то выбегал из нее, а Ника допоздна лежала в постели, такая красивая, с длинными темными волосами[8].
Должность посла осчастливила Жюля четкими правилами, расписанным протоколом. Он главенствовал над служащими посольства и мог влиять на политику в регионе. Идеальное положение для «Главнокомандующего». Конечно, Осло был отнюдь не столь лакомым кусочком, как Вашингтон, Лондон или Берлин, но после войны каждое посольство играло в дипломатии существенную роль, к тому же с этой должности Жюль мог несколько лет спустя подняться к новым высотам.
Жене посла отводилась особая роль, ее лучше всего определила несколько лет назад в своем интервью Мэрилин Пайфер, супруга посла США в Украине Стивена Пайфера: «Я думала, что роль "жены" представляет собой золотую середину между двумя крайностями: моральным авторитетом, который задает тон в посольстве, и самой ненавистной персоной, которая требует от всех послушания, не обладая реальной властью, и вечно настаивает на какой-нибудь глупости». Главным образом в ведении жены посла находился протокол: рассадить гостей за столом по чину и званию, проверить, что эти самые чины и звания верно обозначены на карточках, что всех правильно кормят, правильно титулуют при обращении. Жена посла представляла собой неяркое, но крупное полотно, на котором запечатлевались добрые дела ее супруга и идеалы ее страны. Разумеется, жены дипломатов часто и в самом деле творили много добра, вот только Ника в подобного рода консорты не годилась.
Некоторые аспекты их брака продолжали исправно функционировать – так, у супругов появилось после войны еще трое детей: Берит в 1946-м, Шон в 1948-м и Кари в 1950-м. Кенигсвартеры продолжали путешествовать, осваивать иноземные города. Любовь к светской жизни была у обоих в крови. Да и браки не рушатся из-за какого-то одного неприятного инцидента, но когда взаимное отталкивание накапливается, усугубляется индивидуальная несовместимость и отношения становятся хрупкими, тогда достаточно лишь толчка.
Одна такая деталь, запечатленная в дневнике Жюля, отражает и особенности его личности, и сделавшееся невыносимым напряжение в их браке. Посол часто устраивал парадные ужины, принимая за длинным обеденным столом в банкетной зале до шестидесяти человек. Согласно общепринятому тогда правилу, после десерта дамы немедленно покидали столовую, предоставляя мужчинам возможность свободно поговорить и покурить. Хозяйка дома обязана была подать пример. Ника, по словам Жюля, частенько об этом забывала, и вот, чтобы ей напоминать, он вмонтировал в стену напротив ее стула электрическую лампочку, которую мог включать со своего места. Как только уносили последнюю тарелку, Жюль принимался включать и выключать лампочку; свет бил Нике в глаза, и она, спохватившись, поднималась и выходила из зала.
Их сын Патрик признает: «Отец все контролировал. Для моей матери он стал очередным воплощением ее доминирующей матери. Пунктуальность была его божеством, а Ника органически не способна была прийти куда-либо вовремя. Она пропускала назначенные встречи, порой спохватываясь лишь спустя несколько дней, она вечно опаздывала на самолет».
Зато она была упряма и своевольна. В детстве она редко слышала слово «нет», она ослушалась свою мать и соединилась с Жюлем до оформления брака, она пропустила мимо ушей приказ генерала Кёнига оставаться в Англии, а теперь ей предлагали жить так, как она не хотела и не могла. Отрезанная от друзей, родичей, любимой музыки, Ника оказалась в темнице правил и протоколов. Родив пятерых детей, она так и не прониклась радостями материнства, – быть может, и не старалась или же сочла, что воспитание детей следует предоставить профессионалам. «Няня лучше знает». Но если бы не война, если б не тот пьянящий глоток свободы, она бы, скорее всего, осталась с мужем, хотя и страдала.
Вероятно, была и еще одна причина, способствовавшая развалу этого брака. Ника знала, как опасно застревать в невыносимой для человека ситуации, выполняя то, чего от тебя требуют и ожидают. Она видела, как сломали ее отца, как он жил не своей жизнью, вопреки своим вкусам и пристрастиям, – и видела трагический исход.
Вслед за Жюлем Ника перебралась из Лондона в Париж, потом из Парижа в Африку, теперь в Норвегию. Через два года после назначения в Осло Жюлю пришлось переехать в Мексику. Ника надеялась, что в Латинской Америке она окажется ближе к интересной ей культуре. Оттуда она часто летала в Нью-Йорк. И все же она чувствовала себя несчастной – и начала искать выход.
14 «Черный, коричневый, беж»
В 2004 году я обратилась к продюсеру Брюсу Рикеру с вопросом, не сохранились ли у него записи разговоров с Никой для документального фильма о Телониусе Монке «Неразбавленный виски». Прошло почти сорок лет с тех пор, как братья Блэквуд сняли фильм с Монком и Никой, двадцать лет – с тех пор, как Рикер, Клинт Иствуд и Шарлотта Зверин представили римейк этой картины. Я не надеялась, что отснятые материалы уцелели, но однажды вечером, вернувшись с концерта в свой нью-йоркский отель, обнаружила на стойке регистратора CD, завернутый в бумагу с криво надписанным именем «Ника». Я вставила диск в плеер и услышала голос Ники. Это было так неожиданно – ее голос так близко, казалось, вот-вот ее призрак похлопает меня по плечу. Такой знакомый голос, низкий и хрипловатый от постоянного курения, вместо знаков препинания – неподражаемый горловой смех.
Интервью записывалось в 1988 году. Рикер приехал к Нике в Уихокен, чтобы записать ее воспоминания о Монке. Желая развязать ей язык, он откупорил бутылку вина, потом вторую, однако Ника пила только чай, а Рикер напился до такой степени, что под конец разговора уже плел какую-то чепуху – и сам потом об этом со смехом рассказывал. Ника же в этом разговоре точна и последовательна. В интонациях ее слышна грусть, когда она вспоминает прошлое, да и голос уже ослаб, но слова подобраны верно, и Ника сразу же одергивает собеседника, если замечает малейшую его ошибку.
– Нет, Брюс, это было не так, – говорит она. – О чем это ты? – Посмеивается. – Неправда! – Уже с возмущением.
Я не могла уснуть, я слушала запись, возвращалась к началу разговора, слушала снова, выясняя даты, исправляя свои неверные представления. Сидела до рассвета, и моя затея – написать о Нике – тут-то и поглотила меня целиком. Наконец-то пришли ответы на некоторые важнейшие вопросы. Смутная картинка оживала, фрагмент за фрагментом.
– Сказать по правде, в определенный момент я услышала призыв, – разносился по гостиничному номеру голос Ники. Она расхохоталась – не опровергая сказанное, скорее подкрепляя. В ее поколении смех нередко означал, что человека несколько смущает то, что он собирается сказать, но это для него очень важно. – Призыв. Призвание. – Она так и сяк пробовала слово на вкус. – Я его услышала. Можете себе вообразить?
Обычно это случается со святыми – они слышат призыв свыше, получают знак, ощущают необоримое желание посвятить свою жизнь Богу. Какое еще призвание – у Ники, выросшей без веры?
– Я жила в Мексике, все эти правила поведения в посольстве и прочая хрень, и у меня был друг, который разбирался в музыке. Он покупал для меня пластинки, я ходила к нему их слушать. Дома у себя я их слушать не могла, не та атмосфера.
И дальше Ника рассказала о том, как этот ее друг приобрел пластинку (78 оборотов) с симфонией Дюка Эллингтона «Черный, коричневый, беж», той самой, которая впервые прозвучала в Нью-Йорке в 1943 году. Эллингтон называл ее «параллелью к истории негров в Америке».
Кто-то воспринял симфонию как политический манифест, кто-то – просто как замечательный джаз, Ника же услышала призыв.
– Я поняла: мне следует быть там, где эта музыка. Вот что мне суждено. Я должна как-то быть к ней причастна. Призыв был отчетливый и недвусмысленный. И вскоре я убралась из Мексики. Да, самый что ни на есть настоящий призыв. Странная штука.
Я пыталась осмыслить это заявление в свете семейной истории. У прежних поколений Ротшильдов призвание безусловно было – финансовое. Вся семья объединилась в усилии выстроить огромный банк. Их обвиняли также в распространении «культа материального». У брата Ники и у сестры Мириам тоже обнаружилось призвание – к науке. Возможно, думала я порой, и жизнь Либерти сложилась бы счастливо, обрети она эту великую страсть. И если бы Чарлзу позволили следовать призванию, быть может, его жизнь не завершилась бы так страшно? Слова Ники о призвании могли обозначать эту наследственную склонность зацикливаться до степени одержимости. Я видела, как Ротшильды – в том числе моего поколения – способны «фиксироваться» на чем-то и следовать за этой мечтой решительно, целенаправленно и неумолимо.
Ника не сразу поняла, как ей откликнуться на призыв. Она все еще жила в Мексике, Жюль по-прежнему был погружен в эту «идиотскую» жизнь дипломата. «Атмосфера» в доме становилась все хуже, Ника изобретала предлоги, чтобы вновь и вновь отлучаться, ездить в Нью-Йорк. В одну из таких поездок она случайно услышала обрывок музыки – и тогда ее жизнь изменилась раз и навсегда.
– Я собиралась обратно в Мехико, мы там жили – году в 1948-м или 1949-м, – повествовала Ника, – и я заскочила по пути в аэропорт к Тедди Уилсону попрощаться.
Тедди был одним из тех друзей, кто посылал Нике пластинки. На этот раз он спросил, слыхала ли она о молодом человеке, Телониусе Монке, – только что вышла его первая пластинка.
– Я понятия не имела, кто такой этот Телониус. Тедди галопом умчался добывать пластинку, потом вернулся и поставил ее мне. Я ушам своим не поверила. Никогда ничего подобного не слышала. Наверное, раз двадцать подряд ее прослушала. На самолет опоздала. И вообще не вернулась домой.
С годами эта история вошла в джазовый фольклор: «Слыхал про безумную баронессу, которую околдовала песенка?» К примеру, Стэнли Крауч первым делом выдал мне именно этот анекдот, когда мы жарким майским днем начали в Нью-Йорке «разговор» (скорее, монолог), затянувшийся на четыре с половиной часа. Крауч порой прерывался лишь затем, чтобы большим белым платком промокнуть лоб, – и продолжал выкладывать свои неисчерпаемые, так мне казалось, сведения.
– Она сказала мне, что у Тедди Уилсона была эта пластинка и он предложил ей послушать. – Крауч в изумлении покачал головой, припоминая подробности. – Сказал, что она услышит уникальную вещь. Поставил ей «Около полуночи», а она, как она говорила, никогда не слышала подобного звука, такого звука и чувства, и она просила его ставить пластинку снова и снова, это, как она утверждает, было похоже на колдовство, наложенное винилом заклятие, только заклятие само по себе не действовало, ты сам должен был ему помочь. Сам. Только ты – и никто другой. Она все глубже в это погружалась с каждым разом, слушая эту пластинку. Музыку объяснить невозможно, никто не скажет, в какие края эта песня ее перенесла, но одно она знала твердо: ей нужно познакомиться с парнем, который написал эту песню.
Вдруг за окном гостиничного номера вспыхнул свет. Грузовики, вывозящие мусор, прогрохотали по мостовой, звенели пустые баки. Полицейский автомобиль пронесся по направлению к центру, сирена завывала, точно настойчивый, бессовестный комар. А я, не замечая ничего вокруг, проигрывала тот диск снова и снова, пыталась понять, что в нем удивляет больше: та простота, с какой Ника рассказывает, – будто нет ничего естественнее, чем опоздать на самолет, бросить мужа и детей лишь потому, что ты услышала песенку, – или ее спокойная уверенность, словно она указывает незнакомцу дорогу к ближайшей достопримечательности.
Я закачала «Около полуночи» в свой айпод и стала слушать – слушать по-настоящему, как в первый раз. Не самая типичная для Монка композиция, но в этом человеке и в его музыке мало что назовешь типичным. Печальная, медленная, с сексуальным звучанием баллада, приправленная капелькой блюза и даже страйда. В начале дивное соло на трубе, затем вступает пианино, какое-то время играет на пару с рожком, мелодия перелетает от духовых к ударным и обратно, пока труба не отступит на второй план и до конца будет подыгрывать основной теме – и она, и струнные, и барабаны. Трое из четырех участников квартета прохлаждаются, лениво вторя мелодии фортепиано, – а пианист безоглядно мчится, пальцы захватывают по две, по три клавиши разом, то взмывают к высоким нотам, восходящее арпеджио, а потом будто вслепую приземляются на другом конце клавиатуры, своевольные, ошеломляющие, покоряющие. Потом на эту музыку сочинили стихи, но когда Ника слушала ее первые двадцать раз, то ее чувства захватила мелодия в чистом виде.
Монк никогда не пояснял, какой человек или какое событие побудили его сочинить эту песню. Он создал ее в девятнадцать, но записать смог лишь в 1947 году. С тех пор «Около полуночи» сделалась одной из самых знаменитых джазовых композиций, она включена по меньшей мере в 1165 альбомов. Один критик назвал ее «гимном джаза», многие считают, что она приносит удачу. Но, когда Ника слушала эту музыку, песню еще даже не крутили по радио. Эта песня была так похожа на саму Нику: красавица, которую никто не знает.
Ника слушала эту мелодию, а услышала нечто неуловимое. Ее друг, фотограф и писатель Вэл Уилмер поясняла: «Для фана музыка становится чем-то глубоко личным, она словно обращена только к нему одному. Она раскрывает человеку его историю, его жизненный опыт. Ребята не просто играют – они свидетельствуют».
Ника росла вместе с джазом. Это был саундтрек всей ее жизни. Ее отец покупал ранние записи Скотта Джоплина, Джорджа Гершвина и Луи Армстронга. В юность Ника вплыла на волне Томми Дорси, Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона. А те, кто не играл в бальных залах Лондона, те окликали ее по радио.
Даже в недрах Африки, сражаясь за «Свободную Францию», Ника не расставалась с радиоприемником, Цирцеей, манившей в иной мир, иную жизнь. Брак обернулся разочарованием, послевоенное общество, слетевшее с катушек, тщетно пыталось восстановить прежний свой облик, а радиоволны доносили в Европу бибоп. Взрывная, анархичная, диссидентская музыка – в самый раз Нике под настроение. Эти ребята выкинули все правила в форточку, плевать хотели на правильную последовательность нот, отменили структуру во имя проворства и натиска. Под бибоп уже не споешь, не станцуешь. Многим он казался антимузыкой – словно кошки скребут по школьной доске, и смысла не больше, чем в дальнем гудке грузового поезда. Эта музыка заявляла: «Мне наплевать на условности, на то, кто что подумает, – я буду только собой, не прогибаясь, и вы ничего со мной не сделаете». Такое противоядие и требовалось Нике. Для таких, как она, отчаявшихся, на грани капитуляции, джаз – спасение.
– Прежде всего меня захватила именно музыка, – вспоминала она. – Никого из музыкантов я тогда не знала. Потом стала думать: если музыка так прекрасна, хороши и те, кто ее пишет. Теперь я знаю: так не бывает, чтобы человек играл с Птицей [Чарли Паркер], сэром Чарлзом Томпсоном и Тедди Уилсоном и при этом ничего собой не представлял. Нет, они очень похожи на свою музыку.
Друг Ники, музыкант и продюсер Квинси Джоунс, сказал мне:
– Джаз через смех преобразует тьму в свет, снимает боль от любовного разочарования и от чего угодно – превращает в потеху или помогает выразить и тем самым облегчить… Вот почему он был так востребован, охватил всю планету, каждую страну в мире.
Джоунс получил множество премий, его альбомы расходились многомиллионными тиражами, но он все еще помнил, как под конец 1940-х явился в Нью-Йорк с трубой под мышкой. «Я попал в страну чудес». Я словно увидела город его глазами.
В ту пору Монк, Квинси Джоунс и многие другие знаменитые в будущем джазмены никому не были известны: ребята, пришедшие в Нью-Йорк каждый своим путем. «Она же не знала заранее, что их ждет слава. Никто не мог это предсказать, тем более что они были, скорее, отщепенцами», – заметил в одном из интервью сын Ники Патрик. А Феба Джейкобс, подруга и современница Ники, напоминала: «Приличные девочки, вроде Баронессы, не водились с джазменами, ведь все знали, что джаз вылез из наркопритонов и борделей, что все эти музыканты – наркоши. Героинщики». Но Нике было плевать на чужое мнение.
Я старалась осмыслить, чем был тогда джаз, и поняла, что его символика, его культурное значение выходят далеко за рамки музыки как таковой – и его культурный смысл, и его эмоциональное воздействие. Джаз – это борьба чернокожих за свободу и равные права. Музыка стала голосом целого поколения, надеждой для миллионов. Рабы, лишенные не только имущества, но и традиции, культурного наследия, смогли захватить с собой на новую родину только музыку. Все у них отобрали надсмотрщики, а музыку не смогли отнять[9]. Блюз и джаз зародились на хлопковых плантациях, где звенели песни работников. Их отчаяние и их вера в лучшее стали музыкой, объединив несчастных на чужбине.
Сперва джаз даровал чернокожим изгнанникам надежду, позднее сделался для них источником существования. После освобождения для бывших рабов имелось не так уж много вакансий, но как раз в сфере «низкопробного развлечения» нашелся спрос. Под конец Гражданской войны обе армии избавлялись от лишних музыкальных инструментов, горнов и труб. Негры подбирали их, переделывали по своему вкусу – и получалось нечто, на удивление схожее с образцами, которые и сегодня обнаруживаются на Западном побережье Африки. В 1895 году впервые был записан на нотном листе регтайм, в 1899 году мир покорил «Рэг кленового листа» молодого, получившего классическую подготовку афроамериканского пианиста Скотта Джоплина. С тех пор джазом восхищались и его ниспровергали, любили и ненавидели, изучали и в упор не видели – не одно уже, несколько поколений. Он ускользает от лобовых определений, впитывает разнообразные ритмы, гаммы, синкопы и стили, от новоорлеанского Дикси и вальсов в духе регтайма до фьюжн.
Было бы натяжкой сравнивать внутренний опыт Ники с опытом афроамериканцев, но некоторое сходство все же есть. Гетто для нее было уже далеким прошлым, но именно эта память – память чужаков, изгоев среди чужого народа – побуждала ее и других Ротшильдов жертвовать во время войны всем, в том числе и собственной жизнью.
Ника чувствовала страсть и горечь, которыми пропитана эта музыка. Она знала, что женщины, как и чернокожие музыканты, ведут давнюю, ожесточенную борьбу во имя свободы, – и обе эти группы сталкиваются с глухим равнодушием общества, не желающим ничего менять. Роберт Крафт, музыкант и продюсер студии звукозаписи, знакомый Ники, сформулировал ситуацию весьма выразительно: «Америка только что победила в борьбе за свободу. Солдаты – черные и белые – спасли целые народы от фашистского, неандертальского, людоедского режима. А потом они вернулись в Америку, и их не пускают в ресторан с парадного входа – только со служебного, когда приглашают развлекать гостей. Они играли в отелях для белых, но не могли остановиться там на ночь – спать они отправлялись в другие гостиницы. Представьте себе, как накапливались напряжение, ярость, ненависть. Обязанность творческого человека – дать всему этому выход».
И творческие люди старались исполнить эту обязанность. Легенда джаза, друг Ники Сонни Роллинз говорил мне: «Люди, играющие бибоп, хотели, чтобы их признавали за полноправных людей, а не просто музыкантов. Чарли Паркер был человек в высшей степени достойный, и он хотел играть музыку с достоинством. Когда он играл, он не дергался, не трогался с места. Стоял очень прямо и играл. Никакой клоунады, никаких развлечений». О том же свидетельствует и Квинси Джоунс: «Музыканты заявляли: я не хочу развлекать публику, я хочу быть композитором вроде Стравинского, чистое искусство, без плясок, закатываний глаз и размахиваний руками».
– Музыка – мы-то с вами понимаем – преодолевает социальные и национальные границы, – продолжал свое рассуждение Роллинз. – Она объединяет людей разного происхождения. Можно себе представить, как это кружило голову Нике, выросшей в скованном, одержимом сословными предрассудками обществе.
– Мятежная музыка, сексуальная, возбуждающая. Баронесса в нее влюбилась, – рассказывал агент Монка Гарри Коломби.
Что важнее: джаз избавлял Нику от одиночества. Она обретала связь с другими людьми. Вспомним Пруста: «Музыка помогала мне погружаться в себя, открывать новое – то разнообразие, которого я тщетно искал в жизни, в путешествиях, вдруг вновь с острой тоской представилось мне, когда нахлынул поток звуков и его залитые солнцем волны подкатили к моим ногам». Для Пруста – вероятно, и для Ники – музыка была «средством сообщения душ». Музыка утешала ее, примиряла, возвращала гармонию. И вместе с тем вызывала резкие перепады настроения: то вознесет, то низвергнет. Музыка уводила ее прочь из этой «атмосферы», от всей этой «ерунды».
Я доехала на метро до авеню Рузвельта в Квинсе, где жил Тедди Уилсон, пристроилась за угловым столиком в кофейне. Можете смеяться – я взяла кока-колу, снова включила на айподе «Около полуночи» и попыталась вообразить себя Никой без малого шестьдесят лет назад. Несколько часов до отлета из Нью-Йорка – города, ставшего для нее символом свободы и самостояния. И вдруг она поняла, что не в силах вернуться в семью, за пятнадцать лет превратившуюся для нее в темницу. В квартире Тедди на этой самой авеню Ротшильда она расслышала в «Около полуночи» что-то, вновь придавшее ее жизни смысл. В тот момент она была незнакома с Монком, ничего не знала о нем – сто ему лет или пятнадцать. Конечно, она и представить себе не могла, к чему приведет их знакомство, какое место он займет в ее жизни. Придется мне, вопреки привычному скептицизму, просто поверить: мелодия – всего-то звучания три минуты и одиннадцать секунд – раз и навсегда изменила жизнь Ники.
Решение было принято: остаться в Нью-Йорке. И еще одно: познакомиться с человеком, сочинившим эту музыку.
15 Взрыв
Ушла Ника довольно вызывающе. Она могла бы снять скромную квартирку в Лондоне или поселиться в коттедже при одной из родовых усадеб – но нет, ей понадобился сьют в отеле «Стэнхоуп», импозантной гостинице с видом на музей Метрополитен, подле Центрального парка Нью-Йорка. Отель, построенный в 1927 году, был схож со многими особняками Ротшильдов: все та же подделка под европейское шато. Сквозь неоитальянский подъезд гости попадали в обширный холл (Франция, XVIII век) с мраморными полами, статуями, ручной работы стенными панелями, с отделкой двадцатичетырехкаратным золотым листом. Мужчинам полагалось носить костюмы с галстуками, женщины редко выходили без шляп и длинных перчаток. Политика сегрегации здесь строго соблюдалась: чернокожие пользовались исключительно служебным входом. Разумеется, им не сдавали апартаменты, не допускали в номера или туда, где собирались гости.
Случались, конечно, и неприятности. В 1946 году дама из американского высшего общества Кики Престон выбросилась с верхнего этажа отеля. Отцом ее ребенка называли английского принца Георга, она приходилась племянницей Глории Вандербильт, родилась с серебряной ложкой во рту – но сменила ее на серебряный шприц, как писали в прессе, намекая на ее наркозависимость. Самоубийство мисс Престон вызвало, конечно, вопросы о том, что же таится за тяжелыми шторами «Стэнхоупа», и новый скандал владельцам отеля вовсе не требовался. Но едва Ника въехала, как начала причинять беспокойство.
«Я слыхал, что она упражнялась в стрельбе из пистолета по лампочкам, – рассказывал мне мой отец Джейкоб. – Боялась утратить обретенную на войне меткость. Время от времени отцу [Виктору, брату Ники] приходилось мотаться в Нью-Йорк и уговаривать владельцев отеля не выселять ее». Ника подтвердила эту историю, но с некоторым уточнением: «Управляющий сказал мне: можете стрелять в портье, лишь бы не по канделябрам».
Первым делом Ника приобрела новехонький «роллс-ройс». Она держала его перед входом в «Стэнхоуп» с работающим мотором – вдруг внезапно куда-нибудь соберется. Позднее она перешла на «бентли», но и с ними обращалась с той же веселой небрежностью. «Водила, словно на гонках в Ле-Мане, правилами дорожного движения пренебрегала напрочь, – вспоминал ее сын Патрик. – При разводе среди прочих условий отец внес пункт: всем детям строжайше запрещается садиться в машину, когда Ника за рулем. Разумеется, этот запрет постоянно нарушался».
Однажды вечером на Манхэттене, когда она притормозила у светофора, рядом с ее «бентли континенталь конвертибл» остановился броский спортивный автомобиль. Элегантный водитель жестом попросил Нику опустить окно:
– Мадам, стыдитесь! У вас редкий, замечательный автомобиль, а вы так дурно с ним обращаетесь.
Ника глянула на советчика и буркнула:
– Иди нах!
На следующем светофоре джентльмен снова ее нагнал и снова посигналил опустить окно. Несмотря на только что произошедший обмен репликами, Ника послушалась. Джентльмен сказал ей:
– При всем уважении, мадам, – и вы туда же!
«Красавчик!» – восклицала Ника.
Над такими рассказами я смеялась, но и задумывалась. Эти роскошные отели, дорогие автомобили – больше похоже на гедонизм, чем на «призвание». Мне казалось, она и с прежней жизнью рассталась в той же манере, в какой водила «бентли», – и посольская жизнь, и дорогой автомобиль считались редкой и ценной привилегией, а ей было попросту наплевать. И нет ли сходства между тем, как Виктор пренебрег наследством, которое мешало ему следовать своей страсти, и тем, как легко ушла от своих обязанностей Ника?
Конечно, Жюль и тут пытался все контролировать, но ведь он всего лишь хотел защитить детей. Как доверить их женщине, которая не раз уже садилась за руль пьяной, вдребезги разбивала машину? Мне бы хотелось верить, что Ника билась за право опеки над детьми, я искала подробности об их разводе, прочесывала старые газеты в поисках хоть каких-то упоминаний о споре из-за детей, заглядывала и в семейную переписку. Ничего. И тогда авторитет Ники пошатнулся в моих глазах. А что, если она всего лишь богатый и безответственный трутень?
В моей голове бушевала гражданская война мнений. Хорошей Ника была или плохой? Наивной или же эгоистичной? Я тратила многие часы на бесплодные размышления и в итоге заключила сама с собой перемирие. Хватит судить Нику, лучше попытаться понять ее поступки с точки зрения ее личного опыта и принципов того времени. Начнем с детства: родителей толком не было, отец погиб внезапной и страшной смертью, мать – фигура скорее условная, воспитывать детей она предоставляла слугам. Они выросли, так и не узнав близости, даже боясь ее. Виктор не останавливался перед жестокостью, лишь бы удерживать всех на расстоянии вытянутой руки. Он запугивал и только что не пытал детей и обеих жен. Либерти вообще не была способна вступать в отношения. Мириам работала как одержимая. Ника, чтобы ни с кем чересчур не сближаться, распределяла свою любовь как можно шире. На всех фотографиях она окружена автомобилями, детьми, взрослыми.
В браке Нике столько пришлось странствовать, что она то и дело теряла контакт с одними знакомыми и обрастала новыми. В отзыве одной из родственниц о Нике грусть смешивалась с изумлением. Они были ровесницами, жили по соседству. В детстве они вместе играли, потом вместе охотились – и на диких животных, и на женихов. Их дружба сохранилась и тогда, когда Ника с Жюлем поселились во Франции. Однако, уйдя от Жюля, Ника больше не звонила своей кузине, не отвечала на ее звонки и письма. «Она вдруг утратила ко мне всякий интерес».
Среди излюбленных выражений Ники одно происходило из сферы охоты и скачек. «Перебрось свое сердце через забор, и голова последует за ним», – советовала она. Вероятно, стоило бы добавить: «Только не оглядывайся». Она переехала в США, уверенная, что все у нее получится: о ней позаботятся, а детей как следует вырастит Жюль. По поводу ее финансового положения Патрик говорил: «Моя мама была состоятельной, получала доход от трастового фонда, но у нее вечно случались денежные затруднения». Ника тратила деньги без оглядки, справедливо полагая, что семья не даст ей пропасть. Наша родственница Ивлин де Ротшильд припоминает, что старший менеджер банка мистер Хоббс постоянно снаряжался в Нью-Йорк, чтобы проверить расходы и попросить Нику вести себя поаккуратнее. Мистер Хоббс представлялся мне в виде жителя пригорода в шляпе-цилиндре, совершенно не готового к поездке в Америку на поиски заблудшей овечки. «Нет, ты ошибаешься! – поправила меня очередная родственница. – Хоббс был дамским угодником. Он присматривал за всеми женщинами в нашей семье, и ему это нравилось».
Невыгодные для Ники условия развода объяснялись и законами того времени. Вплоть до парламентского акта 1969 года – к тому времени брак Ники давно завершился – при разводе женам обычно не оставляли детей и не назначали содержание. В 1967 году Франсис Кидд, мать принцессы Дианы, ушла от мужа к Другому человеку и тут же лишилась и права воспитывать детей, и возможности претендовать на какую-либо финансовую поддержку. Вплоть до развода принцессы Маргарет в 1969 году в королевскую ложу на скачках не допускались две группы людей: отбывавшие срок и разведенки. Ника не стала бороться за право опеки над младшими детьми еще и потому, что это было заведомо бесполезно. И возможно, она была достаточно честна сама с собой и понимала, что с отцом детей ждет более стабильная жизнь.
Старшая дочь, Джанка, в 16 лет переехала к матери в Нью-Йорк. В письмах к ней Ника обращается словно к сестренке, а не к дочери: радуется ее любви к джазу, хвалит ее познания о музыке и музыкантах. Позднее попробовал пожить с Никой и Патрик, но, по его словам, еженощные концерты мешали ему заниматься. Трое младших, Шон, Берит и Кари, жили в Нью-Йорке с 1953 года по 1957 год вместе с отцом, исполнявшим тогда обязанности уполномоченного представителя Франции в США и Канаде. Позднее они вместе с Жюлем перебрались в Перу, куда он был назначен послом.
Для стремящихся к новой жизни послевоенный Нью-Йорк был желанной гаванью. Там бурлила энергия, экономика переживала рассвет, и в этом городе нормально чувствовал себя любой иностранец – на каждой улице смешивались самые разные языки. Китайский квартал примыкал к итальянскому, а дальше корейский, афроамериканский, вест-индский, русский, польский, еврейский, мусульманский, латиноамериканский. Никто не тяготился таким соседством. Где могла бы лучше устроиться Ника, с ее венгерско-англо-немецко-еврейскими корнями, мужем – французом из австрийцев, имевшая опыт жизни в Европе, Африке и Латинской Америке?
Стоимость жизни в ту пору была там невысока, и Нью-Йорк словно магнитом притягивал к себе деятелей искусства и литературы, танцоров, поэтов, философов и психоаналитиков. Идеи, образы и мысли вызревали в кафе, барах и джаз-клубах. Подруга Ники Феба Джейкобc убедительно объясняет, чем этот город соблазнил Нику: «Она приехала сюда, где есть свобода, какой нигде больше не найдешь. Мы послали к черту хороший вкус и манеры. Это возбуждало, она хотела войти в тусовку, стать своим парнем».
Сал Парадайз, герой романа Джека Керуака «В дороге», тоже попал в Нью-Йорк 1950-х годов.
«Вдруг я оказался на Таймс-сквер, прямо в час пик, и смотрел непривычными к большому движению глазами на бешеное безумие и совершенное сумасшествие Нью-Йорка: миллионы несутся куда-то в погоне за зеленью, за мечтой маньяка – брать, хватать, тащить, отдавать, стонать, умирать и упокоиться на ужасном городе-кладбище по ту сторону Лонг-Айленда. А там, у края земли, – высокие башни, где родилась Бумажная Америка».
Джазовые клубы на Пятьдесят второй стрит были невелики, в них каждый вечер наведывалась одна и та же публика. Ника общалась с Керуаком, Уильямом Берроузом, Алленом Гинсбергом и художниками-абстракционистами – Джексоном Поллоком, Виллемом де Кунингом, Францем Клайном и Фрэнком Стелла, она слушала Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Джона Колтрейна и Майлза Дэвиса. Появлялись и представители нового поколения американских писателей – Сол Беллоу, Норман Мейлер, Том Вулф. Всех зазывал джаз. Музыка перетекала в иные формы искусства, вдохновляла поэтов Черной горы отказаться от контроля и разрушить структуры. Художники вроде Роберта Раушенберга работали в технике коллажа, а Берроуз выхватывал фразы из газет и строил коллажи из слов и смыслов.
Джон Дэнкворт, друживший с Никой английский саксофонист, в то время жил в Нью-Йорке, слушал ту же музыку. «Фантастический мир, особенно для того, кто явился из разоренной войной Европы, где продукты все еще выдавали по карточкам и вдобавок наступила худшая за полвека погода. Нью-Йорк был для меня раем. Прекрасно понимаю, почему Ника мечтала слиться с ним».
С тех пор как в 1920-х годах открылся «Коттон», многие белые наведывались в джаз-клубы. Но Ника не собиралась уходить домой и когда клубы закрывались. Клинт Иствуд, режиссер, познакомился с Никой, когда снимал фильм «Птица», посвященный Чарли Паркеру. Он рассказывал мне: «Люди заглядывали послушать свинг или джазовый ансамбль, потом шли себе дальше, а Ника приняла культуру джаза и бибопа целиком и полностью, восторгалась этой мятежной стихией».
Робин Келли, биограф Монка, добавил к образу Ники еще один штрих: «Насколько я понимаю, в детстве она жила словно в банке с ватой. А потом, уже взрослой, заболела корью и чуть не умерла. Когда человек растет изолированно, когда его со всех сторон ограждают и защищают, он, став взрослым, может и вразнос пойти».
На тридцать лет установилась даже своего рода рутина. Ника ведь не просто слушала джаз – теперь она жила им. Жизнь начиналась с наступлением темноты, светлое время суток Ника пренебрежительно растрачивала.
Прошло лишь несколько месяцев после переселения в Нью-Йорк, и плотно переплетенная сеть семейных связей сменилась не менее сложным и тесным кругом музыкантов. Вместо британской аристократии – «джазократия». Ника выяснила, кто на кого влиял, кто кого любил, предал, кого воспитал, кому подражал. Она усвоила их жаргон, их распорядок дня, их привычки. Сделалась своей в стране джаза.
Когда она явилась к ним – на сверкающем белом «роллс-ройсе», с толстой чековой книжкой и бьющим через край энтузиазмом, – музыканты ошалели от такого везения. Эта женщина восхищалась ими, с готовностью брала на себя расходы, самим своим присутствием повышала их реноме. «Однажды мы поужинали у нее, – пишет в автобиографии Хорейс Сильвер, – а потом надумали съездить в "Бердленд"[10]. Уселись в ее «роллс-ройс» – она за рулем – и понеслись по Бродвею. А прохожие, белые, таращились: как, мол, ниггерам позволили кататься в «роллс-ройсе» да еще и с белой леди?»
Перед расходами Ника не останавливалась: деньги на то и нужны, чтобы их тратить. Она хотела войти в эту новую жизнь, а музыканты стали ее проводниками. Внук Ники Стивен говорил мне: «Для нее музыка была символом свободы, того, чего она никогда не знала, пока не попала в Нью-Йорк. В этом все дело. Афроамериканская музыка сумела выразить ее страсть к свободе. Если б это удалось сделать китайцам, она бы обратилась к ним. Музыканты стали в ее глазах воплощением жизни и свободы».
В своем интервью Нату Хентоффу для Esquire Ника говорит почти то же самое: «Я отзываюсь на музыку. Иногда этот звук я ловлю в переборе венгерских гитар – очень красиво, очень печально. Страстное желание свободы. И за всю мою жизнь у меня не было других таких друзей, которые так согрели бы меня своей дружбой, как эти джазмены».
Ника последовала своему призванию, нашла свой рай. Никто теперь не указывал ей, когда вставать и когда ложиться, как одеваться, что есть, с кем разговаривать, чего не пить. Никаких поваров, горничных, нянь, никаких указаний от сурового мужа. Захотелось есть – закажет еду в номер, захотелось куда-то съездить – «роллс-ройс» наготове. Она могла сохранить фамилию мужа или вернуть себе девичью, но предпочла называть себя «Баронессой».
Многие подозревали в дружбе Ники с джазменами сексуальный подтекст. «Черный мужчина, белая женщина – что их может связывать, кроме постели? Старый, подлый, всем известный предрассудок, – с горечью вспоминал друг Ники тромбонист Кертис Фуллер. Кертис с конца 1940-х годов много общался с Никой. – Но я никогда не видел, чтобы она обжималась с кем-то или что. Пятеро детей – женщине, может, уже охота и отдохнуть от всего этого».
Первым романтическим увлечением Ники стал барабанщик и дамский угодник Арт Блэки. Она купила ему «кадиллак», всем членам его ансамбля – по костюму. Говорили, он, мол, ее использует, но для Ники Арт был талантливым, интересным человеком, который ввел ее в клубы, знакомил с музыкантами, учил слушать музыку. Нике также приписывали связь с Элом Тимоти, саксофонистом с Тринидада, который в 1948 году приехал в Англию, – их познакомил Тедди Уилсон. По-видимому, Ника любила Тимоти, или его музыку, или и Тимоти, и его музыку. Вернувшись ненадолго в Лондон в 1954 году, она вдохнула новую жизнь в захиревший клуб «Студио 51» и пригласила Тимоти с его ансамблем. Потом Тимоти навещал Нику в Нью-Йорке, и она фотографировала его вместе с Монком и Сонни Роллинзом.
Слухи и сплетни преследовали Нику, однако никаких доказательств «физической связи» с приписываемыми ей любовниками нет. Среди самых ее близких друзей был и Тедди Уилсон, некогда учивший Виктора играть на пианино. В 1953 году он приехал на гастроли в Шотландию, и Ника повезла его на автомобиле из Лондона в Эдинбург. Вновь разорались газеты: «Блюзмен в "роллс-ройсе"». Уилсон наслаждался пейзажами Англии, катя в «четырехдверном седане, с открытым верхом, на максимальной скорости». Ника теперь была хозяйка своему времени, у нее своя машина – она свободна.
Но ей никак не удавалось найти того, кто написал «Около полуночи». В поисках своего «принца джаза» Ника прочесывала клубы – но тщетно. Телониус Монк из-за наркотиков угодил в тюрьму, а когда вышел, оказался никому не нужным. Без работы, без денег, он заперся у себя в квартире, точно в тюрьме.
16 Одинокий Монк
Всего в двадцати кварталах к юго-западу от отеля «Стэнхоуп», по другую сторону от Центрального парка, в доме без лифта в квартале Сан-Хуан, в крошечной двухкомнатной квартире томился Телониус Сфир Монк. В 1951 году его арестовали за хранение героина, он на семь лет лишился лицензии[11], то есть большинство клубов Манхэттена были для него закрыты. Сверстники уже выбирались на большую дорогу, Монк остался на обочине. Изредка его приглашали в Бруклин или еще в какое-нибудь место подальше от центра, но по большей части он бренчал на пианино в одиночестве у себя на кухне – разве что жена Нелли и двое детишек, Тут и Барбара, послушают. По ночам Монк слушал по радио современную музыку – если мог это вынести, – а чаще в те «негоды» (так он потом называл это бесплодное время) Монк часами лежал на спине и глядел на приколотый к потолку портрет Билли Холидей.
Вся семья жила на скудный заработок Нелли. Она работала то лифтером, то продавщицей мороженого, то швеей, но часто болела и сидела дома, и тогда супругам оставалось рассчитывать лишь на подачки родственников. Они жили в постоянном страхе перед нуждой. Даже в хорошие времена, во время мирового турне, Нелли собирала бутылки из-под выпитой кока-колы, чтобы по возвращении домой сдать их. Боялся Монк и нового ареста, постоянно носил при себе тысячу долларов, чтобы сразу внести залог. Кто-то на его месте попытался бы устроиться на работу, но Монк не умел подчиняться и соблюдать правила, да и какой работодатель стал бы терпеть его опоздания и неуважение к старшим. Но и то правда, что многие на месте Монка сломались бы – не хватило бы веры в себя.
На первый взгляд трудно представить себе более несхожих людей, чем Монк и Ника. Казалось бы, их характеры, происхождение, жизненный опыт – противоположности, общего у них только любовь к музыке. Даже если б Нике удалось разыскать Телониуса, вряд ли у них сложилось бы общение. Скептически был настроен и их общий друг Стэнли Крауч: «Монк – деревенский ниггер, он вырос не в Нью-Йорке, а в Северной Каролине. Они с Баронессой во всем разные – и по социальному положению, и по экономическому».
Я поняла наконец, что, принимаясь за эту книгу, искала в первую очередь ответа на вопрос: что притягивает людей друг к другу? Почему мы влюбляемся в этого человека, а не в того? Монк – черный, Баронесса – белая, он беден, а она богата, он христианин, она иудейка – список можно продолжать без конца, но все это лежит на поверхности. Имелась ли между ними более глубокая связь, незаметная стороннему наблюдателю? Удастся ли отвлечься от внешнего и найти другие связи между ними? Неужели правы те, кто полагал, что эта дружба – яркий пример притяжения противоположностей?
Телониус появился на свет в Роки-Маунт, Северная Каролина, в 1917 году, он был почти на четыре года моложе Ники. Его прадеда привезли из Западной Африки на невольничьем корабле, фамилию он получил от владельца плантации, Арчибальда Монка. Телониус, как и его отец Телониус-старший, был назван в честь монаха-бенедиктинца VII века. Позднее музыкант добавил второе имя – Сфир, чтобы отличаться от отца. Это имя образовано от девичьей фамилии матери – Спир.
А вот и сходство: отец Монка, как и Чарлз Ротшильд, страдал телесными и душевными недугами. У него тоже бывали периоды неадекватного поведения и депрессии. Барбара, мать Монка, кое-как справлялась с чудовищным характером мужа, его запоями, перепадами настроения, а в итоге он отгородился и от семейной жизни, и от общественной. То ли пытаясь убежать от этого брака, то ли в поисках лучшей жизни Барбара с четырехлетним Телониусом, его братом Томасом и сестрой Марион переехала в 1921 году в Нью-Йорк – отважный и неординарный по тем временам поступок: обычно женщины не решались расстаться с мужем и тем более с семейной поддержкой. Но Барбара понимала, что на Юге у нее и ее детей особых шансов нет: законы Джима Кроу все еще действовали, если не де-юре, то де-факто.
Тремя или четырьмя годами позже Телониус-старший воссоединился со своей семьей. Барбара успела к тому времени освоить квартал Сан-Хуан – район, который приютит тысячи беглецов из южных штатов и с Карибских островов. Недолгое время Монки наслаждались воссоединением, но в тесной и сырой квартире у Телониуса-старшего обострилась астма, а с ней вернулись и проблемы с душевным здоровьем.
Можно ли в этом совпадении видеть некое сходство судьбы Монка и Ники? Они росли в непредсказуемой обстановке – душевная болезнь отца могла в любой момент обостриться из-за перенесенной инфекции. Так, собственно, и вышло: Чарлз провалился в депрессию после испанки, Монку-старшему стало хуже, когда начались проблемы с бронхами. Да, финансовые условия существования у них были в детстве очень разными, но в доме Монков, как и в доме Ротшильдов, царила особая атмосфера, которая сильно влияла на них обоих в детстве и сказалась на их мировоззрении. Оба они не знали, кем и в каком настроении предстанет в следующий момент отец: Телониус-старший исчезал где-то в баре, Чарлз запирался у себя в комнате.
Через несколько лет такой жизни отец Монка вернулся на Юг и поселился у своего брата. Вскоре родные перестали справляться с его болезнью и поместили его в сумасшедший дом, где он и оставался до конца жизни. Опять же, между комфортабельным швейцарским санаторием, куда Чарлз мог привозить с собой и помощника, и работу, и государственным сумасшедшим домом для цветных в Голдсборо, Северная Каролина, куда был заточен Телониус-старший, разница очень велика. Телониус попал в жуткое место, практически без удобств и без надежды на освобождение.
Также у них обоих – у Монка и у Ники – были исключительно сильного характера матери, и на них-то и держалась семья. Розика Ротшильд командовала штатом слуг из сорока человек, а Барбара Монк трудилась уборщицей в суде по семейным делам. Зато сына она отдала в престижную школу имени Питера Стайвесанта, так что образование он получил лучшее, чем Ника. Поначалу он подавал большие надежды, но к старшим классам сделался заурядным середнячком. Он даже не играл в школьном оркестре, хотя больше всего на свете интересовался музыкой. Он, как и Ника, с ранних лет слушал удивительную смесь классической музыки и джаза. Ника имела возможность слушать лучшие классические пьесы в бальных залах своего семейства, а потом танцевала на светских вечеринках под джаз самых известных в ту пору ансамблей, а Барбара водила детей в Центральный парк слушать классические концерты Голдмена: профессиональные, прославленные музыканты играли там Шуберта, Чайковского, Вагнера, Шопена и Штрауса. Сын Монка Тут рассказывал мне: «В доме у моего отца вы бы увидели целые горы пластинок – Шопена, Листа, Гайдна, Генделя, Бетховена, Вагнера. Его музыка не из вакуума явилась».
Ника, женщина, обречена была на пожизненную безработицу – но такая же участь грозила и Монку. У молодого негра выбор профессии был невелик. Я спросила современника и сверстника Монка, легендарного барабанщика Чико Гамильтона, какие ему виделись в 1930-х годах перспективы.
– Либо музыкантом стать, либо сутенером, – ответил Гамильтон.
Я приняла это за шутку, улыбнулась – и тут же получила по голове:
– Смейся-смейся, – заговорил он, подаваясь ближе ко мне и тыча в меня барабанной палочкой. Глаза его зажглись яростным огнем. – Когда мне было девять лет, десять, одиннадцать, я чистил людям ботинки и так заработал себе на первый барабан – никель с пары ботинок. Знаешь – никель, пятицентовик? Я выходил на работу по средам и субботам, в субботу на целый день, трудился, пока доллар не наберется, и только тогда возвращался домой. Заработал на чистке обуви достаточно денег, говорю тебе, чтобы купить себе первый барабан. И с тех пор я всегда сам себя обеспечивал. Мне повезло.
В 1932 году дебютантка Ника открыла сезон охоты на женихов – реверанс перед тортом королевы Шарлотты и бальные карточки с именами приемлемых партнеров, – а Монк собрал свой первый оркестрик, бросил школу и обзавелся подружкой. Он был уже знаком с Нелли, младшей сестрой своего приятеля Сонни Смита, но не обращал внимания на тощую десятилетнюю девочку, которой предстояло стать его женой и матерью его детей.
В тот год, 1935-й, когда Ника вышла замуж, Монк отправился в турне в свите женщины-проповедника. Нату Хентоффу он рассказывал: «Мальчишкой я снарядился в путь с группой, игравшей церковную музыку под проповеди. Играли рок-н-ролл и блюз, обычную нашу музыку, только на другие слова. Эта женщина проповедовала и исцеляла, а мы играли. Так мы ездили без малого два года». Больше у него никогда не будет такой стабильной работы.
По возвращении в Нью-Йорк Монк пытался участвовать в различных крупных оркестрах, играл с Лаки Миллиндером, Скиппи Уильямсом и Диззи Гиллеспи. «Никто из них от меня не отказывался. Но я хотел играть свою собственную музыку», – рассказывал Монк Джорджу Саймону. Его сын Тут подчеркивал: может, в то время его отец и не был звездой эстрады, но «в своем квартале он стал звездой задолго до того, как получил международную известность. Проигрыватели имелись далеко не у всех, чуть ли не на каждую вечеринку звали музыкантов».
В Гарлеме имелся клуб «Минтонз Плейхауз» – здесь сбывались мечты многих начинающих музыкантов. Это маленькое, невзрачное заведение изменило историю джаза. Каждый понедельник здесь проходили джем-сейшн, музыканты забывали о правилах и принципах и всей душой отдавались неистовству джаза. Здесь Монк свел знакомство с гигантами – Коулменом Хокинсом, Беном Уэбстером и Лестером Янгом.
В этом клубе четыре молодых человека – Телониус Монк, Чарли Паркер, Макс Роуч и Диззи Гиллеспи – закладывали основы новой формы джаза, бибопа. «Многие называют бибоп революцией, но это скорее эволюция, – сказал мне писатель и критик Айра Джитлер. – Бибоп соответствовал эре быстрого транспорта, тревог военного времени, надеждам на будущее. Он покорил всех молодых музыкантов – огромная, огромная сила».
Я побывала у Джитлера в квартире на первом этаже в Верхнем Ист-Сайде, где он обитал вместе со своей женой Мэри-Джой. Здесь его навещала и Ника. Джитлер, как и Ника, влюбился в музыку Нью-Йорка и всю жизнь писал о джазе. В его доме каждый сантиметр пространства, любой уголок, вся открытая поверхность мебели были заставлены памятками джаза: музыкальные инструменты, фотографии, собранные за семьдесят лет пластинки. Джитлер оказался одним из немногих людей, кто помог мне по-настоящему понять Нику и джаз той эпохи.
– Я познакомился с Никой почти сразу, как она переехала в город. Люди из джаза заговорили о баронессе, которая разъезжает на «роллс-ройсе». Впервые я увидел ее в клубе «Открытая дверь» в Гринич-Виллидж, как-то в воскресенье, на джем-сейшн, после полудня и до глубокой ночи, – там играл Чарли Паркер и, понятное дело, собралось много народу.
Тяжело было Монку сидеть дома в одиночестве, сказала я, когда вокруг разворачивались такие события. Джитлер кивнул и добавил, что Монку вообще жилось нелегко.
Ника была с мужем в Африке, потом вернулась во Францию – а в эти годы зародился бибоп. Музыку она слушала чаще по радио, чем на пластинках. В начале 1940-х годов музыку вообще не записывали, звукозаписывающие компании вели переговоры, добиваясь более выгодных для себя условий, поэтому ранний бибоп вовсе не был записан. Лишь к 1945 году появились маленькие студии звукозаписи, и тогда новая музыка попала на шеллак и начала распространяться[12]. Писатель Гэри Гиддинс говорил: «Джаз – музыка, сближающая людей, нечто вроде оазиса в нашем болоте».
Сочинения Монка не укладывались в один какой-либо жанр. В них слышны и госпел, и страйд, и блюз, ощущается влияние того проповеднического тура и вместе с тем радио. Звук совершенно неповторимый: достаточно услышать два-три аккорда – и неважно, понравилось вам или нет, но «подпись» Монка вы уже узнали. И я хотела понять, каков именно вклад Монка в историю музыки.
– Телониус – основоположник современного джаза. Те гармонические возможности, которые он первым открыл, освободили и Чарли Паркера, и Джона Колтрейна, и Диззи Гиллеспи от оков тогдашней популярной музыки, – настаивал Тут. – Прежде музыка состояла в основном из простых аккордов, но бибоп выбросил старые правила в окошко или, как думали многие, разбил дивный витраж молотком: бибоп как будто распадался на тысячи осколков.
Монк зашел в своем гармоническом бунте дальше большинства современников. Те сочетали ноты в странные последовательности, пренебрегая мелодическими законами, извращая аккорд, но Монк добавил к этому нечто особенное. Больше всего мне нравится, как об этом говорил Чико Гамильтон: «Я играл с пианистами, которые лупили только на белых клавишах, играл с пианистами, которые признавали только черные, но этот сукин сын ухитрялся играть на стыках между клавишами».
В глазах музыкантов Монк, возможно, был героем, но в ту пору, когда Ника впервые услышала «Около полуночи», критики не находили добрых слов для Монка и его музыки. Влиятельный промоутер Джордж Вейн говорил мне: «Впервые я слушал его в конце 1940-х и решил, что он просто не умеет толком играть». Ведущий музыкальный журнал той эпохи, Downbeat, отзывался о нем как о «пианисте, который НЕ изобрел бибоп и в целом играет плохую, пусть местами и интересную, музыку».
Если б не одна молодая женщина-промоутер, Нике, возможно, и не довелось бы услышать ту песню. Лорейн Лайон Гордон[13] влюбилась в музыку Монка и решила, что эту музыку должны услышать все. Она отправилась к Монку домой. «У него дома стояло пианино – комната была узкая, словно у Ван Гога в Арле, только кровать и комод с зеркалом». Пока Монк играл, гостья вынуждена была сидеть на кровати. «Он сидел спиной к нам и играл композиции, каких мы никогда прежде не слышали. Я подумала: это великий блюз! Вот почему он мне так понравился».
Лорейн разъезжала по стране словно коммивояжер – с чемоданом, набитым пластинками. «Ездила в Филли, в Балтимор, и в Кливленд, и в Чикаго. Я была тогда девчонкой и пыталась продавать Монка и других, кого мы записывали в "Блю Ноутс". И в Гарлеме тоже. Ребята из магазинов говорили мне о Монке: "Он не умеет играть. У него обе руки левые". Приходилось попотеть, чтобы заставить их купить пластинку и послушать». По словам Лорейн, она скоро сделалась у Монка девочкой на побегушках: «Он вызывал меня и просил: "Отвези меня туда. Сделай то-то", и я возилась с ним, потому что даже тогда понимала, что он особенный. Сделалась его странствующим рыцарем женского пола».
Умел Монк находить женщин, которые брали на себя все заботы о нем, – сперва мать, потом жена Нелли, Лорейн, Ника. В 1930-х годах он лишь один раз добыл себе работу, и то на короткое время, а так вполне счастливо сочинял музыку, болтался с ребятами, лабал и окончательно уверился в том, что работа по расписанию – не для него. В те времена гениям разрешалось чудить и даже нарушать общепринятые правила, как будто принадлежностью к миру искусства оправдывалась и безответственность, и вполне эгоистический образ жизни. Лорейн Лайон Гордон подала пример, сравнив комнату Монка с обителью Ван Гога, и другие агенты Монка и авторы, писавшие о нем, подхватили тему, заговорили о его плясках, о его шляпах, о его необычном поведении.
В конце марта 1943 года, когда Ника в Африке сражалась за «Свободную Францию», Монк явился на призывной пункт и, как гласит семейное предание, заявил, что отказывается сражаться за страну, которая держала его предков в рабстве и до сих пор ничего толком не сделала для искоренения расизма. Ему выдали белый билет по форме 4F, как страдающему психическим расстройством. Вообще-то Монк редко высказывал какие-либо политические убеждения. В отличие от многих сверстников он не присоединился к Исламским братьям, не участвовал в маршах во имя равенства: делом его жизни была музыка. «Я вам что, соцработник? – накинулся он на одного интервьюера. – Мне плевать, что будет с тем чуваком или с этим. Мне есть чем заняться: сочинять музыку и заботиться о семье».
Он прекрасно знал себе цену. «Полагаю, я сделал для современного джаза больше, чем все остальные музыканты вместе взятые, – заявил он корреспонденту французского джазового журнала. – Поэтому мне противно слышать, как говорят: "Гиллеспи и Паркер совершили революцию в джазе". Большинство новых идей принадлежит мне. Я у Диззи и Птицы ничего не заимствовал, они ничему меня не научили. Они то и дело обращались ко мне, а в итоге вся слава досталась им».
Тем не менее знатоки уже признавали Монка верховным жрецом джаза. Он стал наставником молодых музыкантов – саксофониста Теодора «Сонни» Роллинза, трубача Майлза Дэвиса. «Монк научил меня большему, чем все остальные. По сути дела, всему научил», – говорил Дэвис.
Но это было признание лишь среди знатоков, оно не материализовалось в виде популярности и денег. Монк злился, глядя на то, как Диззи Гиллеспи и Чарли Паркер, что ни день, выступают, окружены славой. В середине сороковых годов Диззи зарабатывал по несколько тысяч долларов в неделю, а у Монка – ни работы, ни стабильного дохода. На исходе 1946 года Монк даже перестал платить взносы в профсоюз музыкантов. «Они играли со мной, повторяли мои мелодии, спрашивали совета, как добиться настоящего звука, как писать аранжировку, просили разбирать и исправлять их композиции, они пользовались моими темами… А меня даже в клубы не приглашали. Порой я даже не мог сходить в "Бердленд". Можете себе представить, каково музыканту слышать с улицы, как играют его темы, и не иметь возможности зайти в клуб?»
Первую пластинку Монк записал в 1948 году. На одной стороне – «Телониус», на обороте – «Пригородные глаза». Вскоре после этого он был арестован за хранение марихуаны и провел месяц в тюрьме. Сидел в тесной камере душным летом и думал о том, что после отсидки его как минимум на год лишат лицензии, дававшей право выступать в кабаре и большинстве клубов. Тут еще и Лионард Физерс опубликовал «Бибоп изнутри» (Inside Bebop) и одним абзацем расправился с Монком: «Он написал несколько неплохих мелодий, но едва ли достигнет успеха как пианист – техника у него слабая и непоследовательная». Зимой 1949 года, случайно столкнувшись с писателем, Монк ухватил его за грудки и наорал на него: «Ты вырвал у меня последний кус хлеба».
Монк и Нелли поженились в 1948 году. Собственное жилье было молодым не по карману, они жили то с сестрой Нелли, у которой уже имелись свои дети, то с матерью Монка Барбарой. Большую часть жизни Нелли страдала от боли в желудке, однако Монк не считал нужным снять с жены часть ее обязанностей по дому или обеспечивать семью: он музыкант, и в этом – его миссия.
Наркотики были неотъемлемой частью джаза. Монк употреблял дьявольский коктейль из спиртного, бензедрина, марихуаны, героина, кислоты и некоторых сильнодействующих лекарств. Здоровье у него было на зависть, но такое количество психотропных средств никто не мог бы принимать безнаказанно. Друзья оправдывали Монка, дескать, он всего лишь расслабляется. Но в ту ночь, когда должен был появиться на свет его сын, Монк расслабился так, что Нелли пришлось самостоятельно добираться до городской больницы на «острове Велфера», он же «ад посреди канала» (поблизости от тюрем и сумасшедших домов). В местном секонд-хенде купили вещички для новорожденного, и, едва оправившись после родов, Нелли снова вышла на работу – устроилась портнихой в «Марвел Клинерз» за 45 долларов в неделю.
Музыку Монк ценил превыше всего, но дорожил и дружбой – даже больше, чем свободой. 9 августа 1951 года он вез своего подопечного Бада Пауэлла в Нью-Йорк. Полицейские остановили их автомобиль. Пауэлл, наркоман со стажем, держал при себе в кармане пакетик героина. Запаниковав, он выбросил пакетик в окно – прямо к ногам полисмена. Обоих музыкантов выволокли из машины, воткнули лицом в капот, стукнули пару раз для вразумления и заковали в наручники. Монк знал – пусть копы и сам Пауэлл об этом не догадывались, – что Баду не выдержать еще одного срока в тюрьме. Психическое расстройство молодого музыканта, покушение на самоубийство, постоянные нервные срывы многие связывали с избиением, которому он подвергся в полиции в 1945 году. Затем его поместили в психиатрический центр Кридмур и провели интенсивный курс электрошоковой терапии. По словам друзей, в результате у музыканта ослабла память и усилились перепады настроения.
Итак, Монк заявил, что наркотики принадлежат ему. Более того, он просил отпустить Бада, а сам получил три месяца заключения в печально прославленной тюрьме на Рикерс-Айленд – тяжелейший травмирующий опыт. Не он первый, не он и последний: в 1998 году, почти полвека спустя, вопреки заметному прогрессу в области прав человека и прав заключенных в том числе, New York Times писала, что «заключенные тюремного корпуса на Рикерс-Айленд годами систематически подвергаются как спонтанным избиениям, так и спланированным нападениям охранников, о чем свидетельствуют судебные протоколы. За последние десять лет многие заключенные были жестоко избиты, отмечены переломы костей, разрывы барабанной перепонки, тяжелые черепно-мозговые травмы». Тут особо не драматизирует: «Телониуса жизнь полюбому не баловала. Он не умел ходить по струнке и играть по правилам». По крайней мере, когда после освобождения Монк вынужден был сидеть дома, то написал несколько песен, ставших классикой джаза и образцом для подражания.
Так я начала обнаруживать черты сходства между Монком и Никой. Обоим хватало безответственности, повседневные бытовые заботы они умели сваливать на других. Расписание, установленный распорядок дня, разумные траты и прочее мещанство – все это не для них. И оба без колебаний выбирали верный, даже героический путь в тот момент, когда речь шла о принципе и преданности, оба прекрасно отличали добро от зла. Ника сражалась на войне во имя свободы; Монк ради свободы и жизни друга сел в тюрьму.
Так и не отыскав в тот раз Монка, Ника в 1954 году вернулась в Англию, чтобы на родине спокойно поразмыслить о дальнейшем своем пути. Она виделась с семьей и обсуждала с Жюлем условия развода. Ближайшие родственники давно уже поселились в разных уголках Англии: Виктор делил свое время между Кембриджем и образцовой экодеревней, которую он строил в Саффолке; Мириам рожала детей и занималась наукой; Либерти продолжала лечиться от шизофрении в частной больнице.
Ника не имела ни дома, ни работы. Да и кем она могла бы работать? В сорок один год, с пятью детьми и ее биографией едва ли она могла рассчитывать и на замужество. В английском обществе ей не представлялось, по сути дела, никаких возможностей, хотя само общество заметно изменилось («Давно пора», – комментировала Мириам). Шелковые нити, скреплявшие воедино этот пестрый космополитический мир, после Второй мировой войны порвались. Нике хватало и способностей, и желания что-то делать, но не к чему было применить свою энергию. Пока она сражалась за «Свободную Францию», училась управлять самолетом и заставляла своего коня прыгать через самые высокие препятствия, Ника еще справлялась с собой. Но в 1954 году она уперлась в пустоту. Первоначальное возбуждение от переезда в Нью-Йорк и погружения в мир джаза успело схлынуть. Позднее она признавалась, что, оказавшись в вакууме, начала попивать. Ее все время видели в клубе «Сторк» – слегка подшофе, напряженно высматривающую очередную знаменитость. Мне кажется, Монк появился в ее жизни как раз вовремя.
Узнав, что ее герой выступает в Париже, Ника села на первый же самолет. Две столь несхожие жизни вот-вот сольются воедино.
17 Черная сучка, белая сучка
Париж как нельзя лучше подходил для первого свидания Ники и Монка. Отчасти город утратил свой довоенный шик, но Париж по-прежнему оставался столицей моды и вкуса. В 1954 году Шанель вновь открыла свой модный Дом и одевала женщин в короткие пиджачки и узкие юбки. Под влиянием кино француженки коротко стриглись, носили штаны в обтяжку и серьги – крупные кольца. Многонациональная, толерантная культура. Друг Ники Кении Кларк, бибоп-барабанщик, впервые увидел Париж в 1947 году: «Там царила иная ментальность. Люди не боялись соседей, легко сходились, никто не чувствовал себя изгоем. Как негр, как музыкант, да просто как человек я почувствовал себя счастливчиком, попав туда». Здесь не бросались в глаза расово смешанные пары. Жан-Поль Сартр спросил страстно влюбленного в Джульетту Греко Майлза Дэвиса, почему он не женится на ней и не увезет ее в Нью-Йорк. «Я слишком люблю ее, а там ей житья не будет», – ответил трубач. В Америке, пояснил он, цвет кожи все еще имеет огромное значение.
Ника вылетела в Париж с новой подругой, Мэри Лу Уильямс, с которой только что познакомилась через Тедди Уилсона. Мэри Лу (урожденная Мэри Эльфрида Скраггз из Атланты, штат Джорджия) самоучкой освоила ноты и с шести лет подыгрывала сводным братьям и сестрам на вечеринках. В 1925 году – ей было всего пятнадцать – она была принята в Большой оркестр Дюка Эллингтона. «Маленькая пианисточка из Ист-Либерти» писала мелодии и аранжировку для многих прославленных музыкантов, выпустила более ста альбомов. Очень немногим женщинам удавалось заявить о себе в сугубо мужском мире джаза, – естественно, что Ника и Мэри Лу сразу же сблизились. Их дружба продлилась до конца жизни. В архиве Мэри Лу в университете Рутгерса в Нью-Джерси хранится множество писем Ники, ее рисунки и дневниковые записи. Добрая католичка Мэри Лу всегда служила своей европейской подруге не только наперсницей, но и моральной наставницей. И она охотно познакомила Нику со своим другом Телониусом Монком.
Монк вышел на сцену в Париже, хорошенько зарядившись коньяком и косячком. Публика собралась послушать Диксиленд-джаз Клода Лютера и что-нибудь в таком духе. Никто не ожидал увидеть бормочущего и ворчащего пианиста; кустарное, несыгранное сопровождение ударников чудовищно отставало от неистового полета пальцев Монка. Посреди выступления Монк ушел за кулисы пропустить еще стаканчик, а затем вернулся и сыграл еще одну мелодию в том же неподражаемом стиле – раздрызганном, неблагозвучном. Критики, что французские, что английские, исходили желчью. «Дикая и банальная музыка», твердили они, а Монка называли «шутом при современном джазе».
Нике же тот вечер запомнился совсем по-другому. Она была в восторге – Монк превзошел самые смелые ее ожидания. Она была уверена, что он покорил и публику. «Он сыграл всего две вещи, только и всего, но он зацепил публику, – повествовал голос Ники с диска. – Все кричали: "Монк, Монк", но он не вернулся. Джерри Маллигэн рвался на сцену, так что Монка мы больше не дождались».
И жизнь Ники изменилась окончательно и бесповоротно. Фитиль загорелся, когда она прослушала пластинку с записью «Около полуночи», – теперь, когда она увидела самого композитора, произошел взрыв. Когда-то мелодия Дюка Эллингтона намекнула Нике на ее призвание, теперь же она знала свою миссию: Монк. Следующие двадцать восемь лет своей жизни она целиком посвятит Телониусу Монку, отдаст ему все свое время и всю любовь, ковром расстелет их у него под ногами.
На первой личной встрече, признавалась Ника, «требовался переводчик, чтобы растолковать мне его слова. С ним было нелегко. Я не понимала английский язык в версии Телониуса. Но нам это не помешало: до конца его пребывания в Париже мы не расставались. Веселились на всю катушку». Никто не знает, какого рода было это веселье, оставались ли их отношения платоническими или перешли на другой уровень. Для Ники Монк был «самым красивым мужчиной, какого я видела в жизни. Огромный, его присутствие ощущалось повсюду. Стоило ему войти в комнату, и он затмевал всех. Он мог сидеть на стуле, валяться на кровати, говорить, молчать – все равно он привлекал все взгляды, где бы ни находился».
Тут, сын Телониуса, был уверен, что без физического притяжения тут не обошлось.
– Ваша бабушка влюбилась в моего отца, – говорил он мне. – В этом я совершенно уверен. Именно из-за него она переехала в Америку. Разыскала его здесь. Тогда она еще ничего о нем не знала, но его музыка и его личность уже произвели неотразимое впечатление.
Что, так все просто? Тут с улыбкой пояснил мне:
– Он был красавчик-кобель, она тоже горячая штучка.
Стэнли Крауч полагал, что Нику привлекла в первую очередь музыка. «Музыке Монка присущ своего рода аристократизм. Соединенные Штаты находятся на расстоянии трех тысяч миль от Парижа, и, да, человек из совершенно иной среды мог плениться музыкой Монка. Существует особого рода притяжение между людьми, волшебство – поверх социальных барьеров, вопреки всему, что мы знаем о "нормальных" отношениях. У этих двоих такое было».
Через неделю после их знакомства Монк вернулся из Парижа в Нью-Йорк. Все восемь килограммов веса его багажа составляли береты, а по карманам Монк рассовал бесчисленные бутылки коньяка. Он возвращался домой, к семье и привычной жизни, а Ника отправилась в Лондон. Она хотела представить Монка широкой публике и с этой целью арендовала Альберт-Холл, стариннейший, а в ту пору все еще самый крупный концертный зал столицы. Этот зал был построен по воле принца Альберта именно с целью просвещения широких масс. Ника арендовала зал на шесть воскресений подряд и просила Монка отобрать музыкантов для сопровождения. «Я назвала этот абонемент „Джаз Променад“, – рассказывала Ника без малого двадцать лет спустя. – Предполагалось, что можно будет ходить вокруг музыкантов, садиться, да хоть укладываться».
Но Ника чересчур поспешила. Пусть в Лондоне с Монка и не требовали лицензии, виза ему и его спутникам была все-таки нужна. Ника умоляла иммиграционных чиновников не применять в данном случае обычные строгие требования, она обзвонила всех своих высокопоставленных знакомых, но тщетно: для Монка исключения делать не стали, а без рабочей визы он не мог выступать в Великобритании. Власти готовы были рассмотреть этот вопрос, но в обычный срок и с соблюдением всех процедур. «Я заплатила за все это кучу денег, и ничего не вышло. Телониус тоже был очень разочарован», – флегматично подытожила Ника.
Она тут же собралась и уехала обратно в Нью-Йорк. Больше она не станет и пытаться жить в Англии. Неизвестно, предупредил ли Монк жену о том, что у него появилась новая подруга, но вскоре жители района Сан-Хуан, выглянув из окна, с изумлением увидели посреди своего нищего квартала огромный «роллс-ройс», а за рулем – белую женщину в меховой шубе. Туту было тогда всего пять лет, однако он запомнил эту сцену на всю жизнь.
«Район у нас был не из богатых, так что когда она въехала на нашу улочку, это было то еще зрелище, – вся округа только на нее и таращилась. Она вела себя так, словно автомобиль – это в порядке вещей. Но такой автомобиль? В других машинах все внутри было пластиковое, а у нее – сплошь дерево и кожа, аж запах от них шел. И это чудное пальто из леопарда. Дa, наверное, не обычного там леопарда, а оцелота – ей подавай самое крутое».
Как Нелли восприняла это явление на «роллс-ройсе»? Не видела ли она в этой белой женщине угрозу? Нелли на все вопросы неизменно отвечала: «Она стала нам добрым другом, а мы нуждались в друзьях». Слова матери пояснил Тут:
– Каким-то образом мать и Ника поняли друг друга. Не знаю, потребовались им для этого слова или нет, но они решили заботиться о Телониусе вместе. Разделили бремя на двоих. Годам к восьми-девяти я твердо знал, что моя семья – это я, мама, папа, сестра и Ника.
Лорейн Лайон Гордон вспоминала: «Нелли по левую руку от него, а по правую – баронесса Панноника де Кенигсвартер с мундштуком в руке, выдыхает дым прямо в лицо. Самый настоящий брак втроем – я всегда дивилась им».
Музыкант и близкий друг Хэмптон Хоуз вспоминал, как ехал вместе с Монком, Никой и Нелли в «бентли» по Седьмой авеню:
– Монк был в отличном настроении, он повернулся ко мне и сказал: «Гляди, чувак, у меня тут и черная сучка, и белая сучка», и тут подъехал Майлз на «мерседесе» и крикнул в окошко своим слабым хриплым голосом – он перенес операцию на горле: «Погоняем?» Ника кивнула и с эдаким аристократическим британским прононсом заявила нам: «На этот раз я уделаю засранца».
Ника распорядилась поставить у себя в сьюте рояль, и Монк проводил там день за днем, репетируя и сочиняя новые песни. Ей нравилось смотреть на него за работой. «Поразительная сосредоточенность. Удивительно: мелодия являлась ему как озарение, но он сидел за инструментом часами, порой дни напролет. Внутренний Телониус, подлинный Телониус, создатель этой небывалой музыки существовал на ином уровне, чем все мы».
Пока Монк сочинял, Ника рисовала, делала коллажи, по большей части абстракции. Работала она чернильными ручками или красками, смешивая их со всем, что найдется под рукой. Монк посоветовал ей принять участие в ежегодном конкурсе, проводимом в галерее АСА в Нью-Йорке. «Я подала заявку только потому… что Телониус меня раздразнил. Они приняли мои работы всерьез, спросили, откуда эти своеобразные краски. Я ответила, это, мол, секретная формула, хотя на самом деле чего я только не подмешивала, и скотч, и молоко, и одеколон. Любую жидкость». Картины быстро разошлись, но, по словам сына Ники Патрика, потом Ника пыталась их выкупить.
С наступлением темноты Ника и Монк садились в «роллс-ройс» и объезжали город. Обычно они успевали побывать во многих клубах за одну ночь. Монк служил Нике проводником и наставником, знакомил ее со своими друзьями, помогал ей разобраться в музыке. Бросавшаяся в глаза пара: Телониус и Панноника, Верховный Жрец и Баронесса, красавчик-кобель и горячая штучка.
В мире джаза все знали всех, почти все клубы теснились на Пятьдесят второй стрит. Сара Воэн, Чарли Паркер, Билли Холидей, Арт Татум, Монк, Диззи и Дюк играли бок о бок. Тромбонист Кертис Фуллер вспоминал, как, стоя на сцене, высматривал оттуда Нику.
«Огромных лимузинов и важных шишек хватало – Ава Гарднер, Фрэнк Синатра и так далее. Они посылали записочки, просили подсаживаться к ним за стол. Но вошла Баронесса, проследовала за свой столик – и все переменилось. Она царила над ними всеми. Ника входила – это было как удар гонга, „бууум“, – проносился шепот, что явилась Баронесса. Играйте, черти, Баронесса слушает. Она прекрасно исполняла свою роль. Сидела перед сценой, в руке мундштук стометровой длины, на плечах меховая шуба, и сразу видно, что когда-то она была красавицей, затмевавшей всех».
Под утро, когда концерты заканчивались, Ника приглашала музыкантов на ужин в «Стэнхоуп». «Мы приезжали туда после закрытия клубов, – вспоминал кто-то из музыкантов. – Нам подавали все чего душа пожелает – и шампанское, и стейки». Для Ники посещение клубов было лишь прелюдией, самое интересное начиналось потом. По словам Кертиса Фуллера, «свободолюбка» Ника укладывалась нагой в ванну, курила и слушала музыку. Монка не пускали в клубы, но в сьюте Ники он превращался в центр притяжения для сменявших друг друга знаменитых гостей. «Все тут перебывали», – говорила Ника, перебирая легендарные имена: Сонни Роллинз, Оскар Петтифорд, Арт Блэйки, Бад Пауэлл, Чарли Паркер.
Музыканту Хэмптону Хоузу запомнилось, как однажды, заглянув к Нике, он обратил внимание на «множество картин, странного вида портьеры, канделябр, словно в киношном замке, и концертный рояль в углу. Я подумал: так живет человек, которому принадлежит Мавзолей Гранта или банк на Манхэттене». В этот момент из спальни раздался чудовищной силы звук. Хоуз сунул голову в дверную щель и увидел нечто невероятное: «Тело, распростертое на шитых золотом простынях, грязные ботинки торчат из-под норковой шубы ценой в несколько тысяч долларов». И лишь когда Ника жестом – поднеся палец к губам – попросила его вести себя потише, гость сообразил, что она оберегает послеполуденный отдых Телониуса.
Монку не привыкать было к женскому обожанию. Богатство Ники и цвет ее кожи льстили Монку, но гораздо важнее было, что она влюблена в его музыку. Говоря словами Тута, «Ника оценила его музыку, когда критики только плевались и половина музыкантов ничего не понимала, а она поняла, и это было самое главное и для нее, и для него. За это он ее и любил». Монк отзывался о своей новой подруге так: «Она меня не судит, она всегда рядом, у нее есть деньги, а они порой нужны. Да, она нас выручает, но не в этом суть. У нее отличная хаза, она возит меня повсюду в своем "бентли" и позволяет мне водить, и она классная леди». Позднее он уточнял: «Она Ротшильд, и я этим горжусь».
И Ника столь же откровенно говорила о своем восхищении Монком в интервью Брюсу Рикеру:
«Он был уникален не только как музыкант, он – замечательный человек. Когда я думаю о нем, на ум приходит необычное слово: целомудрие. И это слово подходит ему идеально. Он был бескомпромиссно честен. Он избегал лжецов и сам никогда не лгал. Если честный ответ мог задеть чьи-то чувства, он предпочитал промолчать, а молчал Телониус так, что его порой принимали за немого. Но под настроение он мог болтать сутками напролет без умолку. Его разум был остер как бритва, его интересовало все, от полета бабочки до политики и высшей математики. А как с ним был весело! Я хохотала до слез».
Ника продолжала играть традиционную роль женщины из рода Ротшильд, помощницы и невидимой поддержки героя-мужчины. Как и ее бабушки и прабабушки, она могла позаботиться о комфорте для Монка и взамен получить право купаться в лучах его славы. «Телониус был артистом, и, чтобы поддерживать его в функционирующем состоянии, требовались преданность, самоотверженность, а порой и капелька гения, – пояснял Гарри Коломби. – У каждого чемпиона есть своя команда, вот мы и были его командой: я – официальный менеджер, Нелли – жена, Ника – друг».
Тромбонист Кертис Фуллер, много общавшийся с Никой и Монком в 1950-х и 1960-х годах, рассказывал мне: «Я не видел никаких проявлений близости, кроме, знаешь, поцелуя в щечку». Когда приятель спросил Монка, спал ли он с Баронессой, Монк с негодованием ответил: «Неужто я бы так обошелся с моим лучшим другом?» Саксофонист Сонни Роллинз сказал мне, что, хотя Ника и Монк почти не расставались, наедине они почти не бывали: «Мы тусовались все вместе, Монк с Никой приходили ко мне, мы куда-нибудь снаряжались вместе и гоняли из клуба в клуб до утра».
Документальный фильм Майкла и Кристиана Блэквудов запечатлел роли обеих женщин Монка на пленке. Нелли, миниатюрная, изящная, как птичка, суетится вокруг Монка, а тот если не вовсе отключился от реальности, то уж во всяком случае не погружен в текущий момент. В одной сцене он лежит на кровати, голый, но в шляпе, а Нелли приводит в порядок его одежду. Заходит официант, предлагает принести обед, но Монк, голый и в шляпе, не реагирует. Наконец он встает, медленно прохаживается по комнате, а жена пытается надеть на него пальто. Она такая маленькая, что ей приходится для этого подпрыгивать. Монк и пальцем не пошевелит, чтобы ей помочь. В другой сцене Нелли в аэропорту пытается разобраться с билетами, а Монк дурачится за ее спиной, то на ее плечо обопрется, то гримасу другим пассажирам состроит. Потом он кружится на месте посреди главного зала аэропорта. Нелли терпит его выходки, хотя ей трудно скрывать раздражение. Один эпизод наглядно раскрывает их отношения: Монк танцует в комнате и черт знает зачем смахивает с журнального стола пепельницу. Тут же в приоткрытой двери появляется встревоженное личико Нелли. «Что такое опять? – так и написано на нем. – Что он еще натворил?»
Отношения Ники и Монка в этом фильме предстают отнюдь не столь напряженными. Ей-то хорошо – не жена, не сотрудница. В некоторых эпизодах они болтают в клубе, обсуждают историю, музыку, которую он играл тем вечером. Ника смотрит на Монка с глубокой нежностью, не сводит с него глаз. «Он был человек своеобычный, – рассказывала она о привычках Монка. – Мог несколько суток напролет обходиться без сна, тут за ним было не угнаться, и он делал все, как хотел. Пойдет, бывало, задом наперед или вдруг остановится и закружится посреди улицы». Брак Монка Ника уважала: по ее словам, он и Нелли «обожали» друг друга.
Нелли даже радовалась, что у Монка появилась возможность куда-то сходить. Три года они теснились в крошечной квартире, и у Монка замечались несколько пугающие особенности поведения: он, как и говорила Ника, то не спал несколько суток подряд, то засыпал прямо на ходу или же сосредотачивался на какой-то идее. Перепадам настроения способствовал коктейль из сильнодействующих средств – и купленных по рецепту, и нелегальных. Нелли – измученная, часто болеющая, тревожащаяся за мужа, беспокоящаяся о детях – была довольна тем, что новая подруга мужа возит его повсюду и создает ему условия для работы. Порой Нелли сама звонила Нике и просила: «Приезжай скорее, Телониус напился и все громит, я вызову полицию». Ника мчалась на помощь, но заставала Телониуса уже угомонившимся. Ехала домой – но, едва переступив порог, вновь звонок телефона: «Телониус залез на дерево возле Линкольн-Тауэрс. В одной пижаме».
На диске Ника, рассказывая эти истории, не сердится и не досадует – она хохочет. «Знаешь, в скольких сумасшедших домах я побывала? [Смех.] Приезжаю, а он всегда – тише воды. И говорит: "Я псих, но всякий раз, как они меня обследуют, они говорят, что придется меня выпустить, значит, не такой уж я псих, точно?"» Ника считала, что врачи больше вредят Монку, чем помогают. «Что они делали? Накачивали его наркотиками, а какая в этом польза?» В ту пору никто не считал Монка больным – эксцентричный гений, злоупотребляющий сильнодействующими средствами.
Иногда, когда Монк ездил играть за город, Ника и Нелли сопровождали его вместе и даже подшучивали над его выходками.
«Однажды мы летели в Сан-Франциско и он всю дорогу расхаживал из конца в конец салона. Начали показывать фильм, он своей тенью заслонял кадр, пришлось ему наклоняться, чтобы проскочить под экраном. Мы с Нелли притворялись, будто с ним незнакомы. Примерно за час до прибытия он подошел к нам и говорит:
– Пошли на выход!.
Нелли перепугалась:
– Телониус, мы еще не приземлились!.
– Ладно, считай, я заткнулся!
И опять давай расхаживать».
Организатор концертов Джордж Вейн ездил в турне вместе с Монками и Никой, он хорошо знал всех троих и разбирался в их отношениях – кто у Монка был на первом месте, кто на втором.
«Телониус любил Нелли. Однажды мы сидели в вагоне-ресторане в поезде из Лондона в Бристоль, было примерно три часа дня. Солнечный свет упал на лицо Нелли. Телониус обернулся, поглядел на нее и сказал: „Ты похожа на ангела“. Какие прекрасные слова! Нелли не была красавицей, но для Монка она делала все и со всем мирилась, и он это ценил».
А какое место в этом раскладе отводилось Нике? – спросила я.
«Телониус уважал качество и класс. Ему нравился „роллс-ройс“. Он всегда покупал лучшие костюмы, на какие хватало денег. Аюбил похвастать. „Эй, со мной – Ротшильд. Баронесса!“ Это ему льстило, тем более что она любила его и уважала Нелли. И Нелли любила Баронессу, то есть позволяла ей делать все, что она хотела, для Телониуса. Оба они были в восторге от ее титула. Титулы и звания для них много значили».
Гарри Коломби считал, что и Ника в этой дружбе обрела новый статус.
– Телониус сделал ее своей в этом кругу. Он уважал ее, понимал, кем она была и кем стала и как она разбирается в искусстве. Он говорил: «Она клевая», и все парни начинали относиться к ней иначе. Не как к обычной фанатке, понимаете? Она стала частью джаза и этим была счастлива.
Не преуспев с гастролями в Альберт-Холле, Ника сосредоточилась на задаче вернуть Монку лицензию, чтобы он мог выступать в Нью-Йорке. Со времени введения сухого закона и до отмены его в 1967 году установленные мэром Ла Гуардии лицензии использовались как средство давления на пьяниц и наркоманов. «А еще вернее, полиция, угрожая лишить лицензии, вымогала взятки», – вспоминал Чико Гамильтон. У музыкантов с утратой лицензии рушилась и карьера. Билли Холидей, как и Монк, то и дело оставалась без лицензии и в эти периоды не могла толком заработать денег, выступить перед большой аудиторией. Иногда с помощью хорошего адвоката и изрядной суммы удавалось досрочно восстановить лицензию. Это Ника и пыталась сделать в 1954, 1955 и 1956 годах, но все напрасно.
– Я не собиралась превращаться в борца за гражданские права, – признавалась она мне, – но когда я попала сюда [в Нью-Йорк], то увидела, что им срочно требуется помощь.
Достаточно было одного визита в крошечную квартиру Монка. Нелли нечем было угостить Нику, она и семью-то кормила с трудом. И пусть Ника не получила подготовку в качестве адвоката или менеджера – она справится. В жены и матери она не слишком годилась, но теперь она нашла место, где в ней нуждались, жизнь обрела смысл.
18 Птица
На несколько месяцев, в конце 1954 – начале 1955 года, соединились разные стороны жизни Ники и наступило что-то, похожее на душевное равновесие: Жюль получил назначение полномочным представителем Франции в Северной Америке и переехал вместе с детьми из Мехико в Нью-Йорк. Хотя Берит, Шон и Кари продолжали жить с отцом, по крайней мере, вся семья оказалась в одном городе.
Отель «Стэнхоуп» был готов мириться с образом жизни Баронессы, лишь бы та соблюдала осторожность, однако Ника, по словам легендарного продюсера Оррина Кипньюса, «была весьма яркой леди, которой плевать, кто что подумает. Она делала то, что хотела, прекрасно сознавала, какую власть и какие возможности дает ей богатство, и соответственно вела себя».
«Стэнхоуп» отнюдь не отказывался от сегрегации: чернокожие могли быть здесь слугами, но никак не гостями. Ника же не собиралась доставлять к себе своих чернокожих друзей контрабандой, на лифте для прислуги. Она проводила их в номер открыто, настаивала на их праве заказывать все что вздумается – как в баре, так и в номер. «Управляющие пытались меня выжить, повышая плату за номер вдвое и втрое, потом перевели меня в апартаменты поменьше», – рассказывала Ника. Но она не поддавалась.
Еще одна головная боль для менеджеров гостиницы: многие музыканты по совместительству были наркоманами. Наркотики стали неотъемлемым элементом джаза. Некоторые историки возлагают вину на владельцев плантаций, которые некогда приучали рабов к кокаину, чтобы те меньше ели и больше работали. Другие считают главным виновником организованную преступность. С конца 1940-х годов мафия всерьез взялась за распространение наркотиков в «черных» кварталах. «В пятидесятые годы в Гарлеме выйдешь в три часа дня из школы – и двух кварталов не пройдешь, как уже кто-нибудь толкнет тебе наркотики», – рассказывал мне историк джаза Гэри Гиддинс. Во всех интервью с музыкантами, в том числе с Монком и другими представителями старшего поколения, звучит одна и та же жалоба: в ту пору никто не понимал, что наркотики убивают.
Более всех употреблял Птица, Чарли Паркер. Они с Никой были скорее хорошими знакомыми, чем друзьями, но, к несчастью, обстоятельства сложились так, что его смерть навлекла беду и на Нику.
Паркер родился в 1920 году в Канзас-Сити, штат Миссури. Отец, никогда толком не занимавшийся сыном, был многообещающим пианистом и танцором, но алкоголизм быстро оборвал его карьеру, и Паркеру-старшему пришлось служить официантом на железной дороге, в то время как его жена по ночам работала в местном отделении «Вестерн Юнион». Чарли научился играть на саксофоне – инструмент ему выдали в школе, но затем выгнали из оркестра, не обнаружив у мальчика достаточного таланта. Неудача раззадорила паренька, следующие три или четыре года он репетировал по пятнадцать часов в день, чтобы никогда больше не подвергаться подобному унижению. Красивый, харизматичный, загадочный, до безумия гениальный Чарли Птица вдохновлял целое поколение джазменов. Британский саксофонист Джон Дэнкворт попытался объяснить, что именно сделал для джаза Паркер: «Он брал популярную песенку, анализировал каждую ноту и создавал из того совершенно новые аккорды. Математическая точность – но он обращался разом и к уму, и к сердцу».
В восемнадцать лет Паркер попал в аварию, сильно покалечился, и ему давали морфин в качестве обезболивающего. С тех пор Чарли сделался наркоманом – это сказалось на его здоровье, на отношениях и на самой музыке. К несчастью, молодежь вообразила, будто героин – источник вдохновения и ему Чарли обязан своими гениальными открытиями. Сонни Роллинз признавался: «Чарли Паркер был нашим кумиром, и в первую очередь из-за него мы начали употреблять».
Квинси Джоунс был совсем юнцом, когда познакомился с Чарли, перед которым с детства преклонялся.
– Птица сказал: Купим травки. Я сказал: годится. С Птицей я был на все готов. Пойми: на все. Он был моим героем, – рассказывал мне Джоунс, качая головой, посмеиваясь над собственной тогдашней наивностью. – Мы отправились на такси в Гарлем, он спросил, сколько денег у меня при себе. Я отдал ему все до последнего цента. Он велел мне ждать на углу – дескать, сейчас вернется. Я торчал под дождем полчаса, сорок пять минут, два часа, покуда осмыслил, что произошло. Ужасно, когда ты мальчишка, а твой кумир выкидывает с тобой такую шутку. Пришлось тащиться пешком со Сто тридцать восьмой стрит обратно на Сорок четвертую.
Подобных историй я наслушалась немало. Ника понимала, что Паркер – гений, но знала также о том, как он умеет выманивать деньги и стаскивать кольца прямо с пальцев и часы с запястья.
В отличие от многих друзей и сотоварищей Паркера, Ника умела сострадать одиночеству Птицы, его терзаниям. Годы спустя она написала несколько страниц для книги Росса Рассела «Птица жив!» (Bird Lives!) – сборника воспоминаний, подготовленного друзьями и близкими Паркера. Ника писала: «Фанаты и коллеги окружали его лестью, но Птица был одинок. Я увидела однажды, как он стоит перед „Бердлендом“ под проливным дождем, испугалась и спросила его, почему он не идет домой, а он ответил, что идти ему некуда. С ним часто такое случалось, и тогда он ночь напролет катался в метро. Доезжал до конечной станции, ему велели освободить вагон, он выходил, пересаживался и ехал в обратном направлении».
Вот почему, когда ночью 12 марта 1955 года Паркер постучал в дверь ее номера, Ника открыла ему. Потом по этому поводу будут высказывать различные подозрения, сложатся теории заговора, о Нике будут сплетничать и писать в газетах. А было так. В тот вечер Паркер должен был выехать в Бостон на концерт, но он был в ужасном состоянии. Незадолго до того дня он пытался покончить с собой, выпив йод, после того как его дочь При умерла, а жена его покинула.
Друг Ники критик и продюсер Айра Джитлер видел Паркера тем вечером в «Бердленде». «Я приехал в клуб рано и видел, как он принимал маленькие белые таблетки – вероятно, кодеин. Я заметил, что он в тапочках: ноги распухли». По дороге на вокзал Паркер решил заехать в «Стэнхоуп» в расчете выпросить у Ники еду, выпивку, а то и деньги. Ника, против своего обыкновения, проводила тот вечер у себя вместе со своей дочерью Джанкой[14].
Некоторые знакомые думали, что Чарли наконецто завязал с наркотиками, но его друг, барабанщик Фредди Грубер, которого я разыскала в пригороде Лос-Анджелеса, категорически отверг это мнение: «Дня за три-четыре до смерти Птицы я столкнулся с ним на Шеридан-сквер. Я стоял возле сигаретного киоска, ждал "друга" Джорджа Уоллингтона, с которым мы оба были знакомы. То есть ждал его по тому же поводу, что и Птица». Чтобы избежать недопонимания, я переспросила, подразумевается ли под «другом» наркодилер и употребляли ли они оба героин. Грубер ответил утвердительно.
В фильме Клинта Иствуда «Птица», который излагает эти события согласно версии Ники, Паркер является к ней насквозь промокший, присмиревший. Он укладывается на диван, смотрит телевизор, не отказывается от разговора с вызванным к нему врачом. Здравый смысл подсказывает, что на самом деле все происходило иначе. Если Паркер сидел на наркотиках, за три часа он должен был пройти через все муки абстиненции. Кроме того, он страдал циррозом печени и язвой желудка, то есть в любом случае испытывал сильную боль.
У Ники тоже ситуация была непростая. Ее всячески пытались выдворить из отеля. Продолжались переговоры с Жюлем об условиях развода и возможности видеться с детьми. Семья позволила ей жить так, как ей хотелось, но требовала соблюдать внешние приличия. Чрезвычайно беспардонный и назойливый журналист Уолтер Уинчелл уже писал о «Баронессе» в своей колонке. Его перо, можно сказать, нацеливалось на нее в ожидании очередного скандала. Ника не могла не понимать, как опасно укрывать у себя больного музыканта-наркомана. Она пыталась сохранить его пребывание в номере в тайне, поэтому обратилась не к гостиничным врачам, а вызвала своего личного врача доктора Фреймана. Доктор принял Паркера за шестидесятилетнего старика (на самом деле ему было тридцать четыре) и спросил, как у него обстоит дело с выпивкой. «Иногда стаканчик хереса перед обедом», – ответил Паркер. Здоровья он лишился, но чувство юмора все еще было при нем. Какое именно лекарство и лечение прописал Фрейман – неизвестно.
В ту субботнюю ночь Ника и Джанка устроили Паркера перед телевизором. Они все время наливали ему воду, чтобы утолить сжигавшую Чарли жажду. Началось «Шоу братьев Дорси», и, глядя на их трюки, Паркер сперва рассмеялся, затем начал задыхаться и вдруг умер. «В час ночи приехала "скорая" и забрала тело. Можете себе представить, каково оставаться в одной комнате с трупом. Вполне драматично и без спецэффектов, – рассказывала впоследствии Ника. – Но мне показалось, что, когда Птица отходил, послышался раскат грома. Я постаралась убедить себя, что сама это выдумала, но потом поговорила с дочерью, и оказалось, что она тоже это слышала». Этот раскат грома вошел в предания джаза.
Ника мгновенно приобрела не лучшего рода известность: ее имя отныне и навсегда оказалось связано с именем гениального и несчастного саксофониста, который не был даже ее близким другом. Размышляя об этом, Тут сказал: «Чарли Паркеру повезло, что Ника пожалела его и впустила, – он умер в постели, а иначе упал бы на улице, потому что никто другой не открыл бы дверь Чарли Паркеру».
Двое суток о смерти Чарли Паркера не сообщалось. Ника утверждала, что скрывала его смерть, чтобы сначала разыскать и предупредить бывшую жену Чарли Чэн. Но ее промедление объясняли и более темными, преступными побуждениями. Возможно, она заметала следы? Выносила наркотики из своего сьюта? Предоставила кому-то время сфабриковать алиби? Почему, спрашивали бдительные, судебно-медицинский эксперт явился, против обыкновения, в гостиничный номер? Почему труп отвезли в морг и оставили там лежать на столе под чужим именем? Почему возраст Чарлза указали 53 года? «Чарлз сам так мне сказал, – оправдывалась Ника. – Я же не знала, что он меня разыгрывает. Он с таким серьезным видом назвал свой возраст».
Появилась, разумеется, теория, будто отсрочка понадобилась Нике, чтобы спасти «любовника», Арта Блэйки, который якобы подрался с Паркером из-за нее и выстрелил – или нанес удар – сопернику в живот. Слухи не умолкают и по сей день. Недавно я получила по электронной почте письмо от известного американского ученого, чья знакомая уверяла, что оказалась на месте преступления сразу же после смерти Птицы и ей, дескать, известно, что Паркера застрелила Ника. Так что же, спросила я в ответном письме, ключевая свидетельница не выступила на разбирательстве? И с какой стати Ника стреляла в Птицу? На первый вопрос мне так и не ответили, а вот ответ на второй: «Ника недолюбливала наркоманов». После смерти Чарли Паркера прошло полвека с лишним, а сплетни о Баронессе и ее роли в этой истории все еще множатся.
Айра Джитлер видел Нику и Арта Блэйки в клубе на следующий день после смерти Паркера, но до того, как о его смерти стало известно. «Вошла Баронесса с Артом Блэйки. Отчетливо помню, что у нее при себе была небольшая кожаная сумка через плечо, а в ней – две пластиковые бутылки, наверное, с джином и виски». Ника и Арт в тот раз задержались в клубе ненадолго, а наутро Джитлер проснулся и увидел заголовки: «Чарли Паркер умер в апартаментах Баронессы в отеле "Стэнхоуп"». «Я подумал: ни фига себе, как она здорово держалась, а ведь только что прошла через такое!»
Весть о смерти Паркера разгласил репортер, по долгу службы регулярно наведывавшийся в городские морги. Тело с неверной биркой было опознано, кусочки мозаики сложились воедино, таблоиды чуть глотки себе не надорвали. «Птица в будуаре Баронессы», – вопил один заголовок. «Король бибопа умер в апартаментах миллионерши», – надрывался другой. New York Times в подзаголовке сообщала: «Жестокая смерть настигла основателя бибопа и знаменитого саксофониста в сьюте Баронессы». В большинстве статьей Нику выставляли женщиной-вамп, а то и просто вампиром: «Перед этой роскошной, черноволосой, с глазами цвета сажи Цирцеей Птица, ослепленный, ошеломленный, был обречен пасть ворохом перьев».
Наконец-то Уолтер Уинчелл мог дать волю своему перу. «Мы писали об этой Баронессе, формально все еще замужней женщине, и о ее старомодном "роллс-ройсе", который постоянно видят перед клубами, где выступают чернокожие знаменитости. Теперь же в ее гостиничном номере умер известный джазмен – также состоявший в браке». С этого момента Уинчелл вцепился в Нику и не выпускал. Гарри Коломби говорил мне: «Он ее буквально преследовал. Вывел ее в своей колонке наркодилершей. Изобразил вавилонской блудницей. Он этим тешился: создавал и уничтожал репутации».
А вот слова Тута Монка:
– Ее жизнь превратилась в ад. Чернокожие копы останавливали ее, придирались, ведь она – белая шлюха, уморившая Чарли Паркера. Белые копы видели в ней белую женщину, которая таскается с черными. Что в лоб, что по лбу. Нью-Йорк пятьдесят лет назад был маленьким городом. Баронесса в «роллс-ройсе» – какие у нее были шансы проскочить незамеченной? Дорого же Ника поплатилась за свою доброту!
Один из самых загадочных персонажей этой истории – промелькнувший и скрывшийся доктор Роберт Фрейман. Кое-что рассказать о нем смогла другая двоюродная бабушка, на этот раз со стороны моей матери, художница Энн Данн. В 1950-х годах она подолгу жила в Нью-Йорке и часто наведывалась в лечебницу доктора Фреймана в Верхнем Ист-Сайде.
– Богатые дамы с Парк-авеню сидели в очереди по одну сторону приемной, а напротив них – музыканты, и все они ждали укола, «счастливой иголочки».
Что это был за укол?
– Официально – витамин В, но стоили эти уколы целое состояние, а чувствовала ты себя после них на миллион долларов. Так что включи воображение.
В шприцах был героин?
– Да, и другие наркотики.
Видела ли она в этой приемной Нику и Монка?
– Частенько.
Лорейн Лайон Гордон тоже видела, как Ника и Монк входили в приемную Фреймана.
В переписке с Мэри Лу Уильямс Ника упоминала о том, как заразилась гепатитом из-за грязных игл доктора Фреймана.
После ареста в 1958 году Монку задавали в полиции вопрос, почему у него исколоты вены, и Ника заявила, что это от витаминных уколов.
Доктор Фрейман в итоге лишился лицензии за то, что поставлял наркоманам героин.
Была ли моя двоюродная бабушка наркоманкой? Помогала ли своим друзьям добывать наркотики? Эти вопросы преследовали меня, когда я собирала материал для своей книги.
Переселившись в Нью-Йорк в начале 1950-х годов, Ника поначалу не понимала последствий наркомании. Смерть Паркера ее не только напугала, но и отрезвила, и с тех пор она пыталась как-то вытаскивать из этой болезни своих друзей. «Я думала, что смогу их спасти, – говорила она впоследствии. – Но не смогла. Тут все зависит только от самого человека».
Месяцы после смерти Паркера дались ей тяжело. «Меня допрашивали и в отделе убийств, и в отделе по борьбе с наркотиками, – не теряя привычной беззаботности, рассказывала Ника. – Хлопотливое выдалось времечко».
Жюль, оскорбленный, негодующий, теперь уже всерьез взялся за бракоразводный процесс и добился полной опеки над детьми. Виктор Ротшильд снова прилетел в Нью-Йорк и пытался сохранить номер в «Стэнхоупе» за Никой, но на этот раз тщетно. «После смерти Птицы они меня выставили», – подытожила Баронесса. Для Телониуса смерть Паркера тоже имела неприятные личные последствия – прекратились джем-сейшны, – но Нику эта катастрофа оставила без мужа, хотя бы номинального, без крыши над головой, и вся пресса с воем гналась за ней по пятам.
19 Панноника
Ника перебралась в отель «Боливар» и по совету Монка приобрела для новых апартаментов роскошный рояль «Стейнвей». Здесь Монк сочинил «Brilliant Corners», «Боливар блюз» и «Паннонику». «Он целыми днями сидел за роялем», – вспоминала Ника.
Альбом «Brilliant Corners» включал и приношение новому другу – композицию «Панноника». Весьма немногие женщины удостаивались такой чести – мелодии, особо посвященной им Монком. «Дорогая Руби» обращена к первой любви, Руби Ричардсон; «Сумерки с Нелли» – любовная песнь жене; «Бубу» написана в честь дочери, Барбары.
Впервые Ника участвовала в создании альбома, видела все этапы – от сочинения музыки до чистовой записи. Она уже тогда фиксировала все: фотографировала Монка за работой, записывала репетиции на переносной магнитофон. На одном из сделанных ею снимков Монк, Сонни Роллинз и Эл Тимоти[15] репетируют «Brilliant Corners». Возбуждение ощущается даже на фотографии. Монк стоит в центре – сигарета прилипла к губе – и пристально глядит на клавиши. По бокам два друга. Все трое пытаются уловить песню или нечто больше – музыкальную мечту. Композитор Дэвид Амрам присутствовал на этой репетиции, но не попал в кадр:
– Это было самое поразительное, что я слышал в жизни. Они то играли, то останавливались, возвращались к началу, двигались дальше – и так, пока не добрались до конца. Сам Монк уже знал песню наизусть, но так он учил Сонни.
Монк требовал, чтобы музыканты заучивали ноты наизусть. Структура была не совсем обычной – тридцать тактов вместо тридцати двух, – но уже в студии Монк решил изменить ритм и темп. Продюсер Оррин Кипньюс рассказывал, что надеялся уже только на чудо. Сонни Роллинз держался, но Оскар Петтифорд и Макс Роуч поминутно грозились бросить все и уйти.
Ника играла ключевую роль: она оплачивала репетиции, порой чуть ли не силой сгоняла на них музыкантов. «Лично меня притащила туда Ника, – рассказывал Сонни. – Приехала и отвезла меня». Она официально зарегистрировалась в качестве агента и получила лицензию Американской федерации музыкантов. Среди ее клиентов значились Хорейс Сильвер, Хэнк Мобли, сэр Чарлз Томпсон и Jazz Messengers. «По мне, – рассуждала Ника, – агент – это мальчик на побегушках при музыкантах. Вся грязная работа на нем. Не фиг музыканту торчать в офисах „искателей талантов“ и пытаться продать себя».
А вдали, за океаном, Мириам смотрела в свой микроскоп, изучала деятельность бабочек и блох. Обе сестры нашли свое призвание или объект одержимости, мир, который они могли улучшить. Боюсь, правда, Мириам не порадовало бы сопоставление с Никой. Для нее ничто не могло сравниться с чудом научного открытия, с восторгом ученого, видящего и осмысляющего связи внутри природы. Ей пришлось выдержать нелегкую борьбу, чтобы получить академическую подготовку, без которой нечего было и пытаться пролагать новые пути в этой области. Ей пришлось преодолевать и другой предрассудок – мол, Ротшильд не нуждается в работе, денег у нее и так хватает, зачем вообще полезла в науку? Затем появилось новое препятствие: как можно совмещать биологические исследования с заботой о детях? Чтобы заткнуть критикам рот, понадобилось много времени и упорного, терпеливого труда.
В отличие от сестры Ника предавалась своему увлечению без анализа и без дисциплины, смешивая в равных пропорциях энтузиазм и страсть. Но изучение генеалогического древа джаза, тысяч и десятков тысяч взаимоотношений, влияний, передаваемых, словно дирижерская палочка, от поколения к поколению, через океаны, поверх расовых барьеров, поглощало ее точно так же, как сестру – изучение жизненного цикла мухи или блохи. Обе сестры ставили себе в жизни цель: сохранить и опубликовать эти открытия. Обе стремились к схожим результатам, пусть и на разных поприщах.
В отеле «Боливар» Ника пребывала недолго – прочим гостям изрядно досаждали ночные джем-сейшн. Нику такое отношение до крайности удивляло. «Они жаловались на шум и не понимали, что слышат фантастическую музыку, что им никогда в жизни не доведется больше услышать такое. И меня вышвырнули», – сказала она и вновь расхохоталась, диктуя свои воспоминания магнитофону.
Теперь она поселилась в небольшой гостинице, славившейся литературным салоном. Этот «круглый стол» основала Дороти Паркер с друзьями. «Сначала я сунулась в "Алгонкин", поскольку этот отель был известен широтой взглядов, зазывал к себе таланты, – вспоминала Ника, – но Телониус оказался для них чересчур талантлив». К тому моменту Ника уже организовала для Нелли лечение в частной больнице в Уэстчестере, детей Монка, Тута и Барбару, отправили к родственникам, а сам Монк пребывал то в своей квартире, то в сьюте Ники в «Алгонкине».
«Телониус повадился бродить по всем этажам в красных шортах, темных очках и с белой тростью в руках. Он распахивал первую попавшуюся дверь, заглядывал внутрь и окликал: „Нелли?“ Старухи, прожившие в „Алгонкине“ полвека, прослышали о таком безобразии… и велели нести им чемоданы с чердака – они выезжают!»
Ника, смеясь, вспоминала шалости своего друга:
«Управляющий позвонил мне, такой любезный, просим прощения, госпожа баронесса, но мы не можем впредь принимать мистера Монка в „Алгонкине“. Какое-то время мы обходились, пробирались тайком, когда ночной портье отвернется, поднимались на второй этаж, а уже оттуда вызывали лифт. Но однажды вечером ночной портье оказался в лифте и поднялся вместе с нами, и после этого нам пришлось прекратить свои фокусы, и я, понятное дело, не могла там остаться, раз Телониуса не пускали».
Ведь Телониуса – это становилось все более очевидным – нельзя было оставлять без присмотра. Те его поступки и свойства характера, которые раньше списывались на «эксцентричность», становились все более заметными. Трудно было отделить психическую нестабильность от последствий употребления наркотиков. Когда его мать, Барбара, умирала от рака в больнице Святой Клары, Телониус отказывался посетить ее, мотивируя свое упорство тем, что матери это не поможет, а он расстроится. 14 декабря 1955 года она умерла, а Монк, надиравшийся с такими же пропащими дружками, пропустил даже похороны и поспел только под конец заупокойной службы.
Еще более пошатнулось его равновесие, когда в квартире Монков вспыхнул пожар. Никто из членов семьи не пострадал, но пропало все имущество: одежда, книги, мебель, нотные рукописи и пианино Монка. В особенности его подкосила утрата музыкальных сочинений, и с тех пор Монк всегда носил их при себе.
Чтобы Монку удобнее было перемещаться по городу, Ника подарила ему черно-белый «бьюик». Он целыми часами праздно раскатывал по улицам на первом в своей жизни (и последнем) автомобиле. Сама же Ника променяла «роллс-ройс» на серебряный «бентли» «S1 континентал конвертибл», который вскоре прозвали «Бибоп бентли».
В начале 1956 года Монк играл в ратуше – одном из немногих залов, где он мог выступать без лицензии. Концерт прошел удачно, хорошо приняла критика и альбом «Brilliant Corners». Монк нанял пусть и неопытного, но всей душой преданного ему менеджера Гарри Коломби – школьного учителя, который никогда не работал в музыкальном бизнесе, но был честный человек и готов был всячески поддерживать Монка. Коломби не гнался за вознаграждением, ему хватило благоразумия сохранить работу в школе, а в свободное время он совершал ради своего эксцентричного подопечного истинные подвиги.
Но даже совместными усилиями Нике и Коломби не удалось вернуть Монку лицензию, так что он продолжал сутки напролет сочинять да болтаться по клубам. Наконец пострадавшую от пожара квартиру отремонтировали и Монк смог вернуться к себе. По такому случаю Ника подарила ему рояль «Стейнвей» – как только вместился инструмент в крошечную квартирку!
Вскоре после Рождества 1956 года у Монка впервые случился нервный срыв. Он ехал на подаренном Никой «бьюике» по Манхэттену, не справился с управлением на обледеневшей дороге и врезался в другой автомобиль. После этого он вышел из машины и молча застыл посреди дороги. Пострадавший водитель вызвал полицейских, и те забрали Монка, оставив на машине записку: «Психа увезли в Бельвью».
Психиатрическая больница Бельвью была окружена высокой стеной и строго охранялась. Пациентов здесь порой набиралось больше, чем свободных коек, и все же попасть сюда было проще, чем выбраться. Пришлось потрудиться всем – Нелли, Нике, доктору Фрейману и Гарри Коломби, да еще получить для Монка характеристику от ведущих продюсеров, чтобы он все же вышел на свободу.
Вскоре после того, как Монк вышел (даже без диагноза), вновь свалилась Нелли. На этот раз потребовалась операция по удалению щитовидной железы. Монк, глуша тоску, день и ночь работал над песней «Сумерки с Нелли». Название подсказала Ника.
Виктору Ротшильду до смерти надоели просьбы сестры о помощи, а еще более – иски гостиничных менеджеров, и он велел своим агентам подобрать Нике дом. К 1958 году идеальный вариант был найден. Джозеф фон Штернберг, режиссер Марлен Дитрих, перебирался в Калифорнию и продавал свое жилище.
Кингсвуд-роуд – ничем не примечательная пригородная улочка в Уихокене, штат Нью-Джерси, но из дома номер 63 открывается один из самых удивительных видов, о каком только может мечтать американский горожанин. Дом стоит на холме, и из его окон поверх реки Гудзон видна линия небоскребов манхэттенского Вест-Сайда, а если смотреть на юг, можно разглядеть и мост имени Джорджа Вашингтона. Потрясающее зрелище в любое время дня. Ранним утром солнце выкатывается из-за Уолл-стрит, его лучи запутываются в высоких и пушистых столбах дыма, играют на серебристых водонапорных башенках, обязательной принадлежности каждого квартала. Перед закатом, в излюбленный художниками час, низко висящее солнце окрашивает окна в золотистый цвет, река же словно течет кровью. Солнце заходит, и краски сменяются на льдисто-голубые, а стоит наступить ночи, как небо засветится мириадами новых огней. Высокая башня испускает матовое сияние, окна офисов мерцают не хуже звезд, красно-белые всполохи от автомобилей, проезжающих по Вестсайдскому шоссе, неоновые рекламные вывески наперебой зазывают, заманивают клиентов.
По сравнению с ротшильдовскими домами, в которых Ника росла, это было, конечно, скромное приобретение: три квадратных этажа один над другим. Самым большим помещением был гараж, из него проход в кухню камбузного типа, а дальше просторная гостиная с огромным, в пол, окном, за которым открывался вид на Манхэттен. Наверху – хозяйская спальня и комната поменьше. Когда дети приезжали погостить, «бентли» оставляли на улице, а в гараже ставили раскладушки.
Помню, как Ника везла меня к себе в 1986 году. Такое не забудешь. У нее была манера разговаривать с пассажиром и смотреть ему прямо в глаза, между делом одной рукой вертя руль, а в другой держа сигарету. И неважно, по какой стороне она едет, – пусть другие уступают дорогу! Оррин Кипньюс рассказывал мне, как сам пережил такую поездку: «Она считала, что общаться с человеком, не встречаясь с ним взглядами, – невежливо, даже если она ведет машину, а я сижу сзади. Всю дорогу у меня волосы стояли дыбом и не опускались, и, сколько помню, больше я к ней в машину не садился».
Но еще крепче врезались в мою память жившие в доме кошки. Кошки повсюду, а запах!
Кое в чем этот дом напоминал тот частный музей, который дядя Ники Уолтер Ротшильд обустроил в Тринге. Там, среди коллекций дядюшки Уолтера, маленькая Ника играла в прятки. Волшебное место: от пола до потолка стеклянные стеллажи с чучелами обитателей всех регионов Земли – тигры, львы, леопарды, гориллы, полярные медведи, норки, киты, слоны, колибри, страусы, антилопы, и тут же блохи и бабочки. В одном из флигелей весь верхний этаж целиком отводился различным породам собак, от тойтерьера до датского дога.
Ника же коллекционировала живых кошек. Я застала многочисленное потомство двух весьма породистых и ценных сиамок, которые самозабвенно отдавались всем бродячим котам Нью-Джерси. На сына Телониуса Тута это засилье кошек произвело неизгладимое впечатление:
– Она превратила дом в кошачий приют, в каждом шкафу по кошке. И в подвале кошки, и в гараже, и на крыше. Предложила мне считать кошек, а она, мол, заплатит мне по полдоллара за каждую сосчитанную. Один раз я дошел до 306 – это был мой рекорд.
С кошками Ника обращалась так же, как с людьми: терпела и принимала всех, но выделяла любимцев. Только фаворитам, числом не более сорока, был открыт доступ в спальню. От прочих Ника отгораживалась преградами из плексигласа.
– Она знала каждую кошку по имени, – рассказывал мне саксофонист Монка Пол Джеффри. – Называла их в честь музыкантов, очень о них заботилась. Одного из ее любимцев звали Кьюти, в честь Кьюти Уильямса, джазмена. Но там их были еще сотни, они только и делали, что размножались.
Телониус прозвал этот дом кошатником, «Кэтсвиль». Биограф Монка Робин Келли сказал мне, что Монк отнюдь не был любителем кошек:
– Он их терпеть не мог, просто на дух не переносил. Но ее он любил.
Я спросила Айру Джитлера, который часто наведывался в Уихокен, не потому ли Ника так привязалась к кошкам, что и музыкантов в то время именовали «котами». Айра посмеялся, но всерьез мой вопрос не воспринял:
– В Новом Орлеане бордели называли «Кошкин дом». Джаз начинался там, вот ребята и привыкли звать друг друга котами.
По словам Джитлера, единственное место, куда кошки (настоящие кошки) не допускались, был «бентли». Ника даже огородила машину внутри гаража заборчиком, чтобы коты не поцарапали краску или кожаные сиденья.
Ника заботилась не только о своих кошках. Однажды вечером я привезла своего отца и нескольких друзей в клуб повидаться с Никой, а выйдя из клуба, она открыла багажник «бентли», и я увидела там изрядный запас кошачьего корма.
– Я останавливаюсь по дороге домой и подкармливаю бродяжек, – пояснила Ника.
Многие относят Нику к тем британским эксцентрикам, которым животные дороже людей. Порой мне думается, не перенесла ли она на кошек свой нереализованный материнский инстинкт. Хотя младшие дети жили отдельно, в письмах Ники они часто упоминаются, она радуется каждому их приезду. Однажды перед Рождеством она делится планом выкрасить гараж в желтый и белый цвет и поставить там койки для всех детей. «Замечательно прошло», – писала она об этом Рождестве своей подруге Мэри Лу Уильямс. И Тут описывал чудеса большого общесемейного Рождества, на котором дети Монка веселились вместе с детьми Ники, кружили вокруг елки, скрипевшей под тяжестью подарков.
Весной 1957 года Монк наконец восстановил лицензию и получил право выступать в тех нью-йоркских клубах, где подавали спиртное. Почти сразу же его пригласили в кафе «Файв Спот». Об этом кафе подруга Керуака, Джойс Джонсон, писала:
«Лучшее место, чтобы завершить вечер, – «Файв Спот», клуб, словно чудом сложившийся за лето в баре на углу Второй стрит и Бауэри, где прежде торчали бродяги. Новые владельцы слегка почистили помещение, поставили в нем пианино и развесили на стенах афиши об открытии галереи на Десятой стрит. «Атмосфера» определилась с самого начала. Заплатив за кружку пива, здесь можно было послушать Колтрейна или Телониуса Монка».
Однако это пианино оказалось недостаточно хорошо для Монка – Ника приобрела другое. «Файв Спот» платил Монку вполне приличный гонорар – 600 долларов в неделю, из которых он забирал себе 225, а остальная сумма делилась между тремя членами его джаз-бэнда, в числе которых был и барабанщик Рой Хейнс.
Хейнс начал карьеру профессионального музыканта в 1945 году, но в 2004 году, когда мы встретились, этот восьмидесятилетний ветеран был все еще юношески бодр.
– Я начал играть с Монком в «Файв Спот» по приглашению Ники. Она умела договариваться, – рассказывал он. – Деньги были небольшие, но играть с Монком – чудесно. В тот раз мы получили ангажемент на восемнадцать недель.
Рой Хейнс запомнил, как Ника и Монк каждый вечер входили в клуб. О появлении Ники, чуть опережая, предупреждал аромат ее излюбленных духов от Жана Пату – «Джой». Этот запах был настолько силен, что ощущался даже в накуренном помещении.
«Телониус всегда приходил очень поздно. Нам полагалось начинать в девять. Они входили вместе и сразу на кухню, готовить гамбургеры. Иногда Монк прямо там укладывался на стол и засыпал. Он ни с кем не общался. Ника каждый раз доставляла его в клуб, однако оставалась проблема втащить его на сцену. Но когда он просыпался и ему хотелось играть, – он выходил и всю душу вкладывал в музыку».
Нику, в толстой меховой шубе, – не страшен зимний холод – окружали поклонники. Она усаживалась на одном и том же месте, у самой сцены, выкладывала на стол Библию (вместо Благой вести там пряталась бутылка виски). За исключением шубы и тройной нити отборного жемчуга наряд Ники был очень прост, она давно уже не обращалась ни к модисткам, ни к парикмахерам. Однако Роя Хейнса лицо Ники изумило больше, чем ее наряд: «Она все время улыбалась. Никогда не забуду эту улыбку».
Ника записала на магнитофон обычную ночь в клубе. Своим неподражаемым хрипловатым голосом она перекрывает шум и болтовню, представляя концерт: «Добрый вечер всем, передачу ведет Ника, сегодня – прямо из кафе "Файв Спот", вы услышите прекрасную музыку квартета Телониуса Монка, Чарли Роуз на саксофоне, Рой Хейнс за ударными и Ахмед Абдул-Малик – контрабас». Ника умолкла, и зазвучали первые аккорды посвященной ей «Панноники».
Затем голос Монка: «Привет всем, это Телониус Монк. Я сыграю песенку, которую недавно сочинил для вон той прекрасной леди. Отец назвал ее так в честь бабочки, которую пытался поймать. Не думаю, чтоб ему удалось поймать бабочку, зато я сочинил для нее песню – "Панноника"».
Звезда Монка наконец-то взошла. Записывались пластинки, появились хорошие отзывы. Гарри Коломби понимал, что тут есть за что побороться: «Альбом Телониуса Монка мог разойтись тиражом в 10 000. Не рассчитывали на миллион, не зарились на платиновый. Джаз был тогда маленьким мирком, аудитория неширокая. Телониус Монк позаботился о том, чтобы его имя внесли в телефонный справочник: „Монк, Телониус“. Сейчас люди такого уровня не упоминаются в справочнике. Но ребята были бедны и хотели, чтобы их легко могли разыскать работодатели».
Коломби выбил для Монка ангажемент в Балтиморе, но с приближением урочного дня ближний круг Монка занервничал: у музыканта опять «началось». Коломби пояснил мне, что Монк порой по пять дней сряду отказывался от сна. Он бродил по улицам или неподвижно замирал перед окном, переминался с ноги на ногу, что-то бормотал. Под конец падал и засыпал на сутки. Иногда в такой период Монк принимался крушить все вокруг, правда, только вещи, людей он не трогал. Однажды попытался разломать потолок в номере отеля. В другой раз сбрасывал с пианино пепельницы и опрокидывал мебель.
Полу Джеффри, последнему саксофонисту Монка, обычно поручалось присматривать за ним во время таких эпизодов. Я спросила его, не было ли ему страшно. Джеффри покачал головой:
– Баронесса сказала мне: «Он тебя не тронет». Она была в этом уверена, так что я и не беспокоился.
Один раз Монк все же зашиб Нику, но неумышленно: он свалился со сцены в «Виллидж Вангард» прямо на нее. «Упал со сцены прямо мне на голову, ведь я сидела за ближайшим столиком», – с рокочущим хохотом вспоминала она.
Перед выездом в Балтимор Монк трое суток не спал.
– Отменить концерт мы не могли, – сокрушался Коломби. – Теперь легко рассуждать, мол, как вы его отпустили? Но отказываться от работы нам было не по карману. Хочешь не хочешь – играй.
20 Чудовищный плод
В одиннадцать часов утра 15 октября 1958 года, в среду, Ника выехала из Нью-Йорка – навстречу большим неприятностям. Знакомые не раз отзывались о ней как о человеке, притягивающем к себе беду. Ребенком она чересчур высоко залезала на дерево, девицей ускользала от дуэньи, став супругой и матерью, не ценила размеренную жизнь, умирала от скуки. И вот настал момент, когда не помогло уже и счастливое сочетание везения, богатства и шарма, которое прежде позволяло Нике выпутаться, и впервые в жизни оказалось, что быть белой, богатой, красивой, быть англичанкой, женщиной, иметь связи и титул – все это ничего не значит, и даже виновна она или нет, в конечном счете безразлично. Баронесса покинула Нью-Йорк свободной и счастливой женщиной, но вскоре запуталась в сети событий и оказалась на грани не только личной катастрофы, но и опасности лишиться того самого образа жизни, ради которого стольким пожертвовала.
Выполнив с утра кое-какие дела, Ника направила свой «бентли» в сторону центра, выехала с Манхэттена через туннель имени Линкольна, поспешая в джаз-клуб в Делавере, штат Мэриленд, примерно в 500 километрах от Нью-Йорка. На заднем сиденье расположился молодой тенор и саксофонист Чарли Роуз, на переднем – Монк. В архивах Клинта Иствуда я обнаружила интервью с Роузом и Коломби по поводу этого инцидента. В архивах Балтимора сохранились судебные протоколы, и, опираясь на эти источники, я смогла восстановить картину происшествия.
Настроение в машине было напряженное. Они выехали слишком поздно, едва ли успевали хотя бы сыграться в Балтиморе перед выступлением, о репетиции уже говорить не приходилось. Ни Баронесса, ни Монк не умели подниматься до полудня, а Монк еще более задержал выезд, примеряя и меняя костюмы и шляпы. Нелли, которая обычно подбирала ему костюм и помогала одеться, слишком плохо себя чувствовала. Монк не спал уже пятьдесят два часа и теперь не раскрывал рта. Гарри Коломби даже подумывал, не отменить ли выступление, но все же отважился рискнуть – при условии, что Ника сама отвезет Монка в Балтимор и не будет сводить с него глаз.
Ника понимала, как важен этот концерт для Монка. С тех пор как в 1957 году он восстановил лицензию, каждое выступление, даже самое незначительное, приносило ему не только деньги, но и эмоциональное удовлетворение. Монк семь лет отсутствовал – пусть же теперь играет, вновь покоряет публику. Чтобы поддержать настроение Монка, Ника, зажав правым коленом руль, развернулась назад и включила стоявший там восьмидорожечный магнитофон. Она часто проигрывала Монку его мелодии, чтобы подбодрить музыканта. Сейчас она выбрала «Паннонику», которую почти каждый вечер исполняли в «Файв Спот».
«Добрый вечер всем», – разнесся по автомобилю ее неподражаемый голос.
Двадцать лет спустя, в интервью для «Неразбавленного виски», Чарли Роуз воспроизвел ту сцену во всех подробностях.
– Красиво, правда? – обратилась Ника к Роузу, который сидел в одиночестве на заднем сиденье.
Понимая, что кроме него никто за дорогой не следит, Роуз отчаянно шепнул в ответ:
– Баронесса!
– Что такое? – переспросила она, все так же перегибаясь назад и пытаясь отрегулировать громкость.
Роуз жестом указал на приближавшийся грузовик. Ника вывернула руль, «бентли» ушел на свою сторону шоссе, в последний миг избежав столкновения. Для успокоения нервов Ника отпила изрядный глоток из походной фляжки.
Через полчаса они миновали развязку в Нью-Джерси, свернули на шоссе номер 295 и понеслись на скорости 150 км/ч. Ника включила дневные новости. В тот день Си-би-си сообщала, что число жертв урагана Ида в Японии достигло 1200 человек. Президент Эйзенхауэр собирался выступить в сенате в связи с полученными сведениями об испытаниях ядерного оружия в СССР на Новой Земле, а за билетами на трансатлантический перелет – новинку от ВОАС – записывались в очередь. Тем утром популярный актер Джон Гамильтон, звезда «Супермена», скончался в возрасте 61 года. Четвертую неделю подряд первую строку в рейтингах занимал «Volare» Доменико Модунго.
Через два с небольшим часа после выезда Монк впервые открыл рот:
– Мне нужно выйти.
Простата уже сильно портила ему жизнь – не только долгая поездка в машине становилась затруднительной, но и за пианино он не мог усидеть.
– До Уилмингтона всего шесть миль. Там я знаю одно местечко, – подал с заднего сиденья голос Роуз.
– Останови! – потребовал Монк.
Ника и Роуз встретились взглядами в зеркале заднего вида. Оба понимали, что тут найти Монку место пописать будет непросто. Они ехали к западу от линии Мейсона – Диксона, юридически оставались на эмансипированном Севере, но этот штат в свое время богател за счет сельского хозяйства и рабского труда, так что в душе солидаризировался с Югом. Расовые предрассудки здесь все еще были не исключением, а нормой.
Со стороны Нью-Касл выглядел тихим, заурядным городком – красный кирпич, дощатые дома, раз в году ярмарка куроводства, фабрика, производящая тонкие шелковые чулки. Но здесь лишь недавно отменили публичную порку и раздельное обучение, а гостиницы и бары только для белых все еще существовали. Проезжая по главной улице, Ника тщетно высматривала заведение, которое позволило бы Монку воспользоваться туалетом. Жители Нью-Касла останавливались и таращились на проезжающих. «Бентли конвертибл» сам по себе был необычным зрелищем, а уж с женщиной-водителем в меховой шубе – и вовсе событие. Но «бентли» с женщиной-водителем в шубе и двумя неграми на пассажирских сиденьях – это уже сенсация.
Сразу было понятно, что в газировочную на углу Второй и Черри-стрит Монка не впустят. Оттуда в негодовании глядели на Нику и ее друзей враждебные белые лица. Столь же неприветливо смотрелся и «Устричный дом Комеги», и сосисочная «Дирхед» – опять же одни белые. В «Булочной Бена», «У Джино» и в «Угольной яме» на Мэриленд-авеню мелькали смуглые лица – но только уборщиков.
Ника свернула на шоссе 40, увидела «Плаза-мотель» и притормозила. На открытках того времени запечатлено низкое здание под оранжевой крышей, подковой охватывающее парковку. Вывеска гласила: «Рады всем». Ника проскочила мимо аккуратно размеченных мест для парковки к входу, взгромоздила «бентли» боком на тротуар, обеими руками дернула ручной тормоз и остановилась прямо перед дверью. «Она парковалась у перекрестка, под пожарным гидрантом, где угодно, на правила плевать», – рассказывал один из бестрепетных друзей, которому часто доводилось ездить с Никой. Монк, как всегда, отменно выглядел в фетровой шляпе, бежевом костюме с черной рубашкой и узким черным галстуком, но при росте за метр восемьдесят и весе в сто с лишним килограммов он мог показаться опасным. Он вышел из автомобиля и проследовал в мотель – мимо портье, в сторону гардеробной.
– Он всего лишь хотел воспользоваться туалетом, – свидетельствовал впоследствии Роуз. – Никому не угрожал. В Делавере все еще живы предрассудки, несколько отсталый городишко, и я вижу причину всего произошедшего в расизме.
– В ту пору, если коп видел черного парня с белой женщиной, у него в глазах темнело, – пояснил Коломби. – Даже в Гринич-Виллидж люди постарше при виде смешанной пары беситься начинали.
Ника и Роуз сидели в машине и ждали. Чем дольше ждали, тем больше тревожились.
Первым патрульный автомобиль заметил Роуз. Автомобиль несколько раз проехал мимо отеля, словно белая акула, высматривающая добычу, затем остановился метрах в двадцати позади. В зеркало Ника видела водителя – мужчину средних лет. Таких следовало остерегаться, объясняли мне музыканты: человек давно не получал повышения, он уже понял, что никогда не продвинется, и в этом, разумеется, винил изменившийся социальный уклад.
Монк сходил в туалет, но теперь ему понадобилась вода. Он сильно потел на дневной жаре, но был совершенно спокоен.
– Воды, – сказал он женщине, сидевшей за стойкой регистрации.
Она не разобрала. Монка мало кто из незнакомых мог понять.
– Воды! – повторил он погромче.
Женщина испугалась.
– Воды!
И она схватила трубку и позвонила в полицию.
Полвека спустя я читала рассказ моей двоюродной бабушки о том, что произошло, – в виде протокола допроса для заключительной апелляции.
В: Когда вы увидели, как патрульный Литтел подъехал к вам в полицейском автомобиле 15 октября 1958 года?
Ника: Около 1.15, полагаю, я увидела, как патрульный Литтел подъехал и припарковался поблизости от меня.
В: Что патрульный Литтел сделал после того, как подъехал, и что он говорил – если вы это слышали?
Ника: Он вышел из машины, подошел к моему автомобилю с той стороны, где сидел Монк, и велел ему выйти.
В: Что сделал Монк, когда патрульный велел ему выйти?
Ника: Он ничего не делал. Просто уставился на патрульного Литтела и не двигался с места.
В: О чем вы говорили в тот момент с патрульным Литтелом?
Ника: После того как патрульный Литтел во второй раз велел ему выйти, а Монк не шелохнулся, я вышла со своей стороны автомобиля, обошла его сзади, подошла к патрульному Литтелу и спросила его, в чем дело. Потому что я не видела никакого правонарушения, и я сказала патрульному, что Телониус Монк – очень известный музыкант, а я – его агент и имею лицензию Американской музыкальной ассоциации и мы едем на концерт в Балтимор.
В: Что ответил на это патрульный Литтел?
Ника: Он ответил: «Хорошо» – и вернулся в свой автомобиль.
Ника включила первую скорость, замигала поворотником и начала медленно выворачивать на шоссе. Указатель подсказал им расстояние до Нью-Йорка: они вернулись на шоссе, однако нос автомобиля смот рел не в ту сторону. Ника развернулась. Им пришлось снова проехать мимо патрульного Литтела, и все трое находившихся в машине заметили, что патрульный говорит по рации. Через несколько мгновений взвыла сирена. В зеркало заднего вида Ника увидела, как полицейский автомобиль тоже развернулся и погнался за ними. Поравнявшись с «бентли», Литтел пальцем указал на обочину и в мегафон также выкрикнул команду остановиться. В «бентли» никто не обмолвился ни словом. На этот раз патрульный автомобиль остановился прямо перед «бентли». Полицейский вышел, держа наготове наручники, и рывком распахнул переднюю дверь со стороны пассажира. Он попытался надеть наручники на Монка, но тот спрятал ладони под попу и всем своим крупным телом отодвинулся подальше.
В: Произнес ли музыкант непристойное ругательство в присутствии патрульного Литтела?
Ника: Возможно, он сказал «Какого черта» или что-нибудь в этом роде.
В: Какой разговор имел место между вами и патрульным Литтелом?
Ника: Я спросила: «Что вы делаете?» А он ответил: «Он арестован».
Литтел выпрямился и медленно обошел вокруг машины. «Водительские права и техпаспорт!» – приказал он и, прежде чем вернуться в свой автомобиль, выдернул ключи из зажигания «бентли». Роуз, Ника и Монк, все еще в оцепенении, смотрели, как Литтел берет рацию и вызывает подмогу.
В: Что вы сделали тогда?
Ника: Я вышла из машины, подошла к нему и просила его не заходить дальше. Я заверила его, что попрошу Монка выйти из машины, если это нужно.
В: Что ответил вам на это патрульный?
Ника: Ответил: «Выйдет, не сомневайтесь!»
В: Что вы сделали затем?
Ника: Я вернулась к своей машине, но к этому времени подъехало еще несколько патрульных автомобилей и из них вышли полицейские.
В: Опишите господину судье, что произошло между этими подъехавшими полицейскими и Монком возле вашего автомобиля.
Ника: Их было четверо, они пытались вытащить Монка из машины, а он сопротивлялся, и они начали избивать его дубинками, а я просила их перестать, просила, чтобы не повредили ему руки, ведь он музыкант.
Роуз потом рассказывал, что сначала Ника просила полицейских поберечь руки Монка, но они ее не слушали и лупили затянутым в кожу свинцом прямо по пальцам, и тогда она стала умолять их остановиться. «Она уже вопила, выла: “Руки, бога ради, пощадите его руки!”»
Ника: Они не обращали на меня внимания, выволокли его из машины, повалили наземь, избивали, потом сковали руки ему за спиной, потащили в машину патрульного Литтела и старались запихнуть на заднее сиденье… Я подошла к старшему и сказала: «Прошу вас, перестаньте его калечить». Затем я вернулась к своей машине, но тут патрульный Литтел преградил мне путь и сказал: «Вы тоже арестованы».
Монк потерял сознание (вероятно, один из полицейских ударил его по голове), и полицейские ухитрились впихнуть неподвижное тело в машину, закинули ему ноги чуть ли не на голову и с трудом захлопнули дверь. Детектив Экрич разрешил Нике самой доехать на «бентли» до местного суда. Роуза тоже арестовали и усадили в другой патрульный автомобиль.
Новости об аресте распространились быстрее, чем Баронесса и музыканты успели добраться до здания суда. Полицейские позвали своих родных полюбоваться небывалой добычей. Сопливые детишки прижимались носом к стеклу, чтобы разглядеть Монка: он очнулся и сильно страдал от боли. Баронесса ничем не могла ему помочь, она лишь настаивала, чтобы ей дали позвонить адвокату. На Роуза тоже надели наручники и увели его в другое помещение.
– В чем нас обвиняют? – твердила Ника.
– Разрешите ваш бумажник?
– Если хотите обыскать мою сумку, обыскивайте. Но вызовите врача для мистера Монка. Ему плохо. Вы же видите, что ему плохо! Мы признаем вину. Назначьте штраф и отпустите нас.
– Придется обыскать вашу машину.
– Обыскивайте.
Это было совсем скверно.
Ника вышла вслед за полицейскими на улицу и села на скамейку. Она достала блокнот и машинально что-то в нем чертила.
В: Почему у вас был с собой блокнот для рисования?
Ника: Я всегда беру его с собой. Когда я волнуюсь, нервничаю, я обычно делаю наброски. И в тот раз тоже.
В: Когда полицейские начали выгружать багаж из вашей машины, вы знали, что в чемодане находится каннабис?
Ника: Да.
В: Почему же, баронесса, вы не отказались от обыска? Или у вас не было выбора?
Ника: Меня со всех сторон окружали полицейские, патрульные, детективы. Я растерялась. Несколько раз просила связать меня с моим адвокатом, но мне сказали, что не разрешат позвонить. Я была очень напугана и не знала, как помешать им проводить обыск.
В: Вы считали, что у вас не было выбора – разрешать им проводить обыск или запретить?
Ника: Нет.
В: Не было выбора?
Ника: Нет.
В: После того как вас доставили к судье Хэттону, когда вы попросили разрешения воспользоваться телефоном – кроме того раза, когда вы хотели позвонить адвокату?
Ника: Я просила об этом несколько раз. Когда они обнаружили у Монка следы от уколов, я хотела позвонить врачу, чтобы он объяснил, что это следы от витаминных инъекций.
Мало того, что Монк обильно потел, – у него еще и следы от уколов на руках. Какие еще доказательства требовались полицейским, чтобы увериться: очередного наркошу поймали!
А тут еще и марихуана в автомобиле. В те времена марихуана тоже причислялась к наркотикам, за хранение полагался тюремный срок. Прекрасно сознавая, на что идет, Ника заявила: трава принадлежит ей.
Гарри Коломби вел урок, когда его срочно вызвали к телефону. «В обычных обстоятельствах я бы не стал прерываться, но тут…» Он навсегда запомнил этот телефонный звонок и охватившее его беспросветное отчаяние, понимание, как несправедлива система. «Они даже машину конфисковали: автомобиль превратился в вещественное доказательство».
Коломби рассказывал, как вернулся в класс, где его ученики обсуждали какое-то произведение литературы, а сам он мог думать только о том, что Монка вновь лишат лицензии, то есть источника существования. Всего пятнадцать месяцев прошло с тех пор, как Монк восстановил лицензию, и за это время он успел приобрести популярность.
– Аудитория росла, его прекрасно принимали, – утверждал Коломби, – слух о нем уже разнесся. Это было, я бы сказал, возрождение. Да, столько лет он не получал должного признания – и наконец-то свершилось. Телониус должен был получить компенсацию за все. И тут это!
– Но ведь Ника взяла наркотики на себя. Разве тем самым она не спасла Монка? – спросила я.
– Она вляпалась, но это ничего не изменило.
Для Ники это изменило все. Ей грозил страшный приговор: до десяти лет тюремного заключения, огромный штраф, а по отбытии срока – немедленная депортация. Семья еще как-то смирилась с тем, что в сьюте Ники нашел свой конец женатый, с дурной репутацией, наркоман, но как воспримут обвинение в хранении наркотиков? Не откажутся ли от нее близкие, не подвергнут ли остракизму? Жюль добился полной опеки над детьми, но до сих пор не препятствовал им видеться с матерью. Но если она будет осуждена – подпустит ли он вообще ее к детям? Многие ли из друзей и родственников не поленятся съездить в тюрьму, чтобы навестить заключенную? Проиграв дело, Ника теряла и ту жизнь, которую наладила вместе с Монком и его кругом. Она вновь оказалась промеж двух миров: тем, от которого она ушла, и тем, который выбрала по любви. Будущее ее зависело от адвокатов и судьи, и даже влиятельное семейство Ротшильд ничем тут не могло помочь.
Хотела бы я знать, почему Ника пошла на такой риск. Просто потому, что любила Монка и готова была на все, лишь бы спасти его от тюрьмы? Один из ее старейших друзей, историк Дэн Моргенштерн, сказал мне:
– Она была готова пожертвовать собой ради него. Она даже не задумывалась. Такой она была, так относилась к людям. Она просто была такой.
21 Кровь, пот и слезы
21 апреля 1959 года суд признал Нику виновной. Приговор: три года тюремного заключения, штраф 3000 долларов. Когда закончится срок заключения, двое полицейских должны сопроводить ее в аэропорт и посадить на самолет, отбывающий в Англию. Возвращаться в Америку ей запрещено.
Защитить Нику от скандала и суда Ротшильды не могли, однако наняли лучших адвокатов для подачи апелляции. Как только прозвучал приговор, адвокат Артур Дж. Кларк категорически потребовал отсрочки и повторного разбирательства. Судья нехотя согласился передать дело Ники в Верховный суд, а до тех пор она была отпущена на поруки. Виктор внес залог – 10 000 долларов. На время Ника обрела свободу, но следующие два года тень тюремного срока будет неотступно нависать над ней.
– Скука какая, о чем тут говорить! – отрезала Ника двадцать лет спустя, когда ей задали вопрос о делаверском инциденте.
Я не принимаю этот ответ за чистую монету. «Какая скука», – ворчала ее сестра Мириам, когда старость окончательно лишила ее зрения. «Какая скука», – сказала моя бабушка, узнав, что больна раком. «Скука» – самое сильное, что они могли сказать. Их из поколения в поколение отучали выражать свои чувства, и даже слов подходящих у них не было. Я столько раз слышала от них это слово, что понимала: слово «скука» подменяет гораздо более точное – «страх».
Родные не отвергли Нику, напротив, они изо всех сил старались ее поддержать. «Все они правильно поняли… все знали, что происходит и какое место занимает в моей жизни Телониус», – вспоминала Ника. Одной из первых ее навестила сестра Мириам, она приехала в Нью-Йорк вместе со своим сыном Чарли и уверяла, что ей «не терпится познакомиться» с Телониусом. Правда, встреча прошла не слишком гладко. «Я поехала за Телониусом на Шестьдесят третью стрит, а он уже был в поднебесье. Подготовился к встрече с Мириам, так сказать. Носился по комнате, ни разу не присел. Да и на землю так и не спустился».
По словам Ники, Мириам «не придиралась, сказала: "Не переживай, я все понимаю, это гений" – и так далее». В «Кошатник» Мириам больше почти не заглядывала, но сестры продолжали часто общаться. В следующие двадцать лет Ника и ее дети не раз побывают в Эштоне.
Виктор попытался произвести на Нику и ее друга впечатление собственными музыкальными талантами: он исполнил композицию Монка и послал им запись. Сам Виктор был чрезвычайно доволен собой, но Монк счел его игру до отвращения любительской и в ответ отправил пародию на это исполнение. Ника утверждала, что ее брат «так и не оклемался после этого: он чуть дух не испустил. Как Телониус его передразнивал, это было смешно до колик. Где-то у меня должна была сохраниться запись».
Два года, пока ожидалось разбирательство дела в Верховном суде, родные и друзья умоляли Нику уехать из Штатов и тем самым спастись от приговора. Чтобы не попасть в тюрьму, ей достаточно было вернуться в Англию и начать все сначала. Но не затем Ника сражалась за свободу во Второй мировой войне, чтобы теперь постыдно бежать. Она была твердо убеждена, что проблема тут не в щепотке марихуаны ценой в несколько долларов, а в том, что может случиться, если белый человек подружится с чернокожим.
В архиве Мэри Лу Уильямc в университете Рутгерса я нашла один из рисунков Ники. Это абстракция, но отчетливо угадываются две фигуры, свисающие с деревьев в кроваво-красном мареве. Композиция подсказана известной фотографией, на которой была запечатлена расправа над двумя молодыми чернокожими, Томасом Шиппом и Абрамом Смитом. Эта же история побудила школьного учителя, еврея Абеля Меерополя написать песню «Чудовищный плод». В рисунке Ники выразился протест против расовых предрассудков, против того, что произошло в Делавере. В углу листка она нацарапала слова «Чудовищный плод» и дату – октябрь 1958.
Я задумывалась о сходстве еврейского и афроамериканского опыта. Возможно ли, что благодаря семейной памяти и даже личному опыту Ника острее ощущала несправедливость, выпавшую на долю ее новых друзей? Этот вопрос я задала Мириам.
– Это для всех одинаково. Так уж люди устроены. Побитый мальчишка пинает кошку. Каждому требуется кто-то послабее, кого можно запугивать, бить и преследовать. Кому-то не повезло родиться евреем – еврея проще всего сбросить с лестницы. Но в следующий раз это будут негры, а потом кто-то еще. Людям всегда требуется кто-то, на ком можно выместить гнев.
Спрашивала я и Квинси Джоунса, откуда растут корни расизма и можно ли провести параллель между судьбой евреев и негров. Он сказал мне примерно то же, что и Мириам:
– Это проявления одного и того же психологического недуга. Топчи других людей ногами – и почувствуешь себя великаном.
Понимала ли Ника, как тяжело приходится ему и его соплеменникам?
– О, конечно же, она-то понимала.
После событий 1958 года Ника еще усерднее принялась помогать джазменам. Приезжала на своем «бентли» в самые опасные кварталы, оставляла машину стоять с включенным мотором и шла на поиски «кота в беде». Поразительная фигура в шубе и жемчугах среди этих трущоб и наркопритонов. Как-то раз она потратила несколько дней на поиски пианиста Бада Пауэлла: выхлебав все ее запасы вина (из ротшильдовских подвалов), Бад удрал в город ширяться героином. Наконец Ника отыскала его, всеми брошенного, на каком-то углу, однако спасти его уже не смогла: она обеспечила ему кров и пищу, но музыкант умер от смертельной комбинации туберкулеза и отказа печени – сказались алкоголизм и недостаток питания. Ника оплатила похороны в Гарлеме, сотни плакальщиков шли за оркестром, который играл «Я тебя увижу» и «Около полуночи». По крайней мере, на свои деньги Ника могла достойно похоронить своих друзей, в том числе пианиста Сонни Кларка и тенора Коулмена Хокинса. Иногда ей удавалось помочь и не деньгами, а делом: нескольких музыкантов, например Лайонела Хэмптона, Ника обучила грамоте.
Для спасения друзей она беззастенчиво пускала в ход свое высокое положение. Держала под рукой бумагу с гербом и пропечатанным титулом «баронесса де Кенигсвартер». Когда она писала друзьям, то обычно разрисовывала эти листы кошачьими следами, а для тех, кто разделял с ней любовь к джазу, рисовала клавиши. Когда некий критик заподозрил у Коулмена Хокинса свойственную алкоголикам тягу к смерти, Ника позвонила своему другу Дэну Моргенштерну, сотруднику журнала Downbeat, и потребовала опубликовать опровержение. В следующем номере появилось негодующее послание Ники: «Напротив… Его музыка способна мертвых поднять из могилы и заставить танцевать. Когда ее слушаешь, понимаешь, что был не вполне живым, пока ее не услышал».
В работе над статьей для журнала Esquire, вышедшей в 1960 году, Ника охотно и много сотрудничала с Натом Хентоффом – то ли потому, что нуждалась во внимании и признании, то ли хотела переломить по большей части негативное отношение прессы к ее истории.
– Она подбрасывала мне в почтовый ящик записки с предложением затронуть тот или иной вопрос, – рассказывал мне Хентофф.
Время выхода статьи пришлось как раз на промежуток между арестом в 1958 году и приговором Верховного суда в 1962 году. Там много личного – рассказана вся история Ники, описан брак и развод, ее отношения с Монком и другими музыкантами. Кое-какие нелицеприятные замечания в журнале прозвучали, но в целом статья сыграла Нике на руку: она представила ее совершенно в ином свете – наивной, даже «придурковатой», но отнюдь не испорченной.
Многие люди относились к Нике гораздо злее, чем автор этой статьи.
– Вслед ей кричали: «Поцелуйся со своими негритосами», – вспоминал ее друг тромбонист Кертис Фуллер. – Баронессе через многое пришлось пройти, и мы-то понимали, каково это. Мы готовы были драться за нее до конца, если кто-то пытался ее обидеть. Мы ею гордились, она дала нам надежду – она стояла намного выше нас, но пришла к нам.
Хотя в 1960-х годах межрасовые отношения упростились, была провозглашена «свободная любовь», все же романы между людьми с разным цветом кожи случались нечасто, и еще реже плодом такой любви были дети. Вплоть до принятия в 1968 году Акта о гражданских правах в некоторых южных штатах действовали законы, допускавшие расовую сегрегацию и запрещавшие межрасовые браки. В 1964 году у дочери Ники Джанки и барабанщика Клиффорда Джарвиса родился сын Стивен. Родители Стивена никогда не жили вместе, Стивен рос с матерью и бабушкой в «Кошатнике». Когда он пошел в школу, его, как рассказывал мне сам Стивен, дразнили и били именно потому, что он мулат. С другой стороны, чернокожая певица однажды в присутствии Стивена обозвала его бабушку «аристократической шлюхой-женоненавистницей». Стивен растерялся, он был глубоко задет.
– Она меня словно ножом ударила. С тех пор я стал острее сознавать – ну, знаешь, какая у моей бабушки репутация. Меня это больно задевало. Я понял, что многие отзываются о ней именно так.
Я спросила английского фотографа Вэл Уилмер, которая в 1960-х годах много времени проводила в Нью-Йорке, каков ее опыт – белой женщины в мире джаза.
– Когда я впервые приехала в Нью-Йорк в 1962 году, во многих барах женщину без сопровождения мужчины не обслуживали, принимали за проститутку. Особенно трудно приходилось белым женщинам, общавшимся с чернокожими мужчинами. Хотя мир джаза был свободнее, прогрессивнее других слоев общества, расизм и сексизм и там процветали вовсю.
Журнал для чернокожих The Liberator опубликовал статью, поносившую жадных агентов, владельцев клубов и таких женщин, как баронесса Панноника де Кенигсвартер, – они-де выжимают все соки из несчастных музыкантов. Ника послужила «печальным примером мифа о том, будто спасение черного мужчины – в богатой белой женщине». Пренебрежительно отзывался о Нике и поэт и гражданский активист Лерой Джоунс, предпочитавший именовать себя Амири Барака: «Богатая дилетантка, фанатка. Что о ней говорить? Она располагала средствами, чтобы лезть туда, где хотела находиться, и делать то, что ей вздумается». Одна из Ротшильдов, узнав, что я собираю материал о Нике, писала мне: «Ничего интересного в ней нет. Валялась в постели и слушала музыку».
Художественная литература тоже не щадила Нику. Хулио Кортасар выпустил сборник рассказов, в который вошел рассказ «Преследователь» – о саксофонисте по имени Джонни (угадывается Чарли Паркер) и группе досужих любителей джаза во главе с на редкость противной маркизой Тикой (баронессой Никой), которая пристроилась к джазменам, чтобы придать хоть какой-то интерес своей бездарной жизни. Рассказчик комментирует: «По существу, все мы банда эгоистов. Под предлогом заботы о Джонни мы оберегаем лишь свое собственное представление о нем, предвкушаем удовольствие, которое всякий раз доставляет нам Джонни, хотим придать блеск статуе, воздвигнутой нами, и беречь ее, чего бы это ни стоило». Подружка Джонни по имени Дэдэ особенно злобствует. «Тика – просто прелесть, – с горечью говорит Дэдэ. – Конечно, ей это легче легкого. Явиться под занавес, раскрыть кошелечек – и все улажено»[16]. Подруга Ники Мэри Лу настоятельно советовала:
«Будут говорить всякие гадости насчет ревности и так далее, но ты должна помнить, что от известности не избавиться. Люди хотят все знать о тебе, как о Дюке Эллингтоне или о том же Монке… Что тут поделаешь? Ничего не изменишь… Научись жить с этим и улыбаться, как ты умеешь. Ты – Ротшильд, это превращает тебя в мишень. Дюпоны, Форды, Роки [Рокфеллеры]… хватает алчных богачей, которые горло друг другу готовы перегрызть, лишь бы сохранить денежки в кармане. Таким ты покажешься странной, но только посмотри на них: это убийцы человеческих душ, а ты так добра к тем, кого любишь».
Саксофонист и борец за права человека Арчи Шепп воздавал должное отваге Баронессы:
«Эта женщина опередила свое время. Она занимала определенную позицию, совершенно тогда не популярную. Она могла бы многим послужить примером. Одна из первых феминисток, которая отстаивала не только собственные права, но и добивалась перемен в обществе, – перемен, которые могли исходить от ее класса. Она пришла туда, где никогда прежде не видели людей ее круга, она противостояла любой несправедливости и тем самым вдохновляла всех нас идеями демократии».
Ника руководствовалась скорее личным инстинктом, нежели политическим. Она не пыталась создать себе имидж, не примыкала к организованному сопротивлению, была импульсивна, подчас капризна. Если видела, что нуждаются в ее помощи, то вмешивалась безоглядно, не думая о последствиях. Но никакой системы, тем более стратегии в ее действиях не прослеживается.
Мир стремительно менялся, а Ника застряла в эпохе бибопа и словно не замечала происходившую вокруг музыкальную, социальную, политическую революцию. Музыка Монка уже не была на гребне волны, пожалуй, она устарела. На смену неслись рок, поп, кул. Монк считал, что Майлз Дэвис не прогрессирует, а просто научился себя продавать и что джаз прекрасно обошелся бы и без таких новичков, как Орнетт Коулмен. Ника не спорила: Монк был ее учителем, ее гуру. Но за стенами дома номер 63 по Кингсвуд-роуд и общество, и музыка были уже не те: соперничали Элвис и Чак Берри, вслед за битниками пришли битлы. Царили «Роллинг Стоунз» и Энди Уорхол, «Тамла Мотаун» и Фил Спектор завладели эфиром, Фрэнк Стелла и Джаспер Джонс потрясали музеи. Джон Кеннеди стал президентом, прозвучал трубный зов Мартина Лютера Кинга – казалось, вот-вот будет стерта стигма социальной несправедливости. Человек нацелился прогуляться по Луне.
Всего этого Ника словно не замечала. Привычные координаты ее жизни не изменились: спала допоздна, ночью каталась по клубам. Средоточием ее жизни оставался Монк, его музыка, его проблемы. Что бы ни творилось во внешнем мире, частная коллекция фотографий Ники не отражает никаких изменений в «Кошатнике». О ходе времени можно судить только по одежде, по прическам да появляющимся на лицах морщинам, но в целом дом номер 63 по Кингсвуд-роуд застыл в пятидесятых и никуда не двигался. Ника превратилась в мисс Хэвишем от бибопа.
Но одно «внешнее» событие она никак не могла проигнорировать: надвигавшиеся слушания в Верховном суде. Наконец была назначена дата, 15 января 1962 года. Накануне ночью она писала Мэри Лу Уильямс:
«От завтрашнего решения, возможно, зависит вся моя жизнь. Возможно, все решается прямо сейчас. Оправдание, чудесное избавление, шанс начать все заново с чистого листа – или же неотвратимая катастрофа, приближение конца. Я не обсуждаю это ни с Телониусом, ни с Нелли, ни с кем другим. Сейчас я сижу у Святого Мартина и думаю, понимают ли они, что я переживаю сегодня. Что касается Телониуса – что ж, ради его спасения все и было затеяно, так что с ним я никогда об этом не говорила. Думаю, он и не задумывается. У них с Нелли и без того хватает проблем. Я просидела тут почти два часа, сильно замерзла. Пройду поставлю свечу святому Мартину».
Вот как она воспринимала ситуацию: «катастрофа, приближение конца». Ника была смертельно напугана, и поговорить ей было не с кем. Она вернулась в Балтимор на суд, приговор ей предстояло выслушать в одиночестве: никто из родных и друзей не поехал с ней, и если бы прямо из зала суда ее повели в камеру, некому было бы даже махнуть на прощанье рукой. «Сейчас я сижу у Святого Мартина и думаю, понимают ли они, что я переживаю сегодня».
Как это странно, как щемяще странно: женщина, чей дом был открыт для всех – угощайтесь, веселитесь, сочиняйте музыку, – свой самый страшный час встречала в одиночестве. Где же, спрашивала я, где были все те, кому она столь щедро помогала? Если бы ее признали виновной, то прямо со скамьи подсудимых отправили бы в камеру, а по отбытии срока – депортировали. Никого рядом не было, свои чувства Ника могла поверить только бумаге. Она решила послать письмо Мэри Лу только в том случае, если ее приговорят, если же останется на свободе, то уничтожит его[17]. С ранних лет Нику приучали скрывать чувства, никогда не выставлять их напоказ. После того как она сумела выбраться вместе с детьми из разоренной войной Франции, ускользнула от нацистов, добралась до Англии, мать одобрила ее вид – «свежа, как ромашка».
Монку и Нелли в самом деле хватало своих проблем – оба тяжело болели. После балтиморского инцидента у Монка случился тяжелейший нервный срыв, и он несколько месяцев провел в сумасшедшем доме. У Нелли все чаще болел живот, она вынуждена была отсылать детей к родне мужа и как-то лечиться. Я пыталась понять, на чем же строились отношения Ники и Монков. Они эксплуатировали ее – или Ника сама с радостью подставлялась? В этот час злейшей нужды отношение к ней Монков казалось довольно-таки эгоистическим. Или она сама установила такие правила, не желала переступить заветную черту в близости? Я бы предпочла поверить в такое объяснение, ведь альтернатива чересчур грустна. Не хотелось бы думать, что Ника, наивная, готовая жертвовать собой, для Монков была лишь одной из фанаток, жалкой дурой.
Накануне того дня, когда Нике предстояло явиться в суд, она пережила еще одно разочарование: выдающийся адвокат мистер Беннет Уильямс не соизволил явиться самолично, представлять Нику на суде должны были двое его помощников, отнюдь не так досконально знавшие дело. Январь выдался необычайно холодный, сообщалось о снегопадах на юге вплоть до города Пенсаколы во Флориде и до Лонг-Бич в Калифорнии на западе, однако судебный зал был битком набит зрителями. Детей отпустили из школы, жены патрульных явились в лучших нарядах: им же обещали редкое зрелище – суд над английской аристократкой, которая курила сигарету в длинном мундштуке и разъезжала в дорогом европейском автомобиле. Поскольку она сразу же признала, что наркотики принадлежат ей, исход судебного заседания казался предрешенным и стоило потратить день, наслаждаясь унижением богачки.
Судья, его честь Эндрю Кристи, кое-как справлялся с присяжными и зрителями, то и дело грозя очистить зал. Хотя Ника признала вину, адвокаты нашли технические зацепки: обыск был проведен с нарушением процедуры. Арестовав Нику, полицейские обыскали ее личные вещи и автомобиль против ее воли. Судья вынужден был согласиться с этим аргументом. Зал взвыл от разочарования.
Дело было закрыто. Ника осталась на свободе.
Позднее она говорила Максу Гордону: «Дорогой, я и не подозревала, что Делавер такой мелочный и ханжеский штат!»
Но хотя Ника взяла всю вину за хранение наркотиков на себя, Монк все же лишился лицензии. Он вновь был изгнан из клубов. Ника наняла поверенного, который должен был представлять Монка и бороться, не жалея «крови, пота и слез», за справедливость, против полицейского произвола.
22 Ты сводишь меня с ума
Нике исполнилось пятьдесят лет. Монк посвятил ей «Паннонику», но этого было мало, она хотела бы полнее участвовать в его работе. Ради него она едва не села в тюрьму, но официально ей не отводилось никакой роли: у Монка имелась жена, имелся и агент. Ника жаждала признания, не желала считаться всего лишь одной из поклонниц. Порой, по словам Гарри Коломби, она сильно осложняла его работу. «Иногда она превращалась в занозу в заднице, – вспоминал он. – Мы пытались что-то сделать, а она пристраивалась к Монку и нашептывала ему свою теорию заговора, кто, мол, на что нацелился».
«Я хочу сама нарисовать обложку для альбома, – писала она продюсеру Теду Мацеро. – Это послужит компенсацией за тот рисунок, который Чарли Паркер выбрал для пластинки, которая так и не была записана». Мацеро предложил встретиться и вместе посмотреть работы Ники, но она не явилась на встречу, и вместо рисунка Мацеро взял ее фотографию.
Ника не отступилась – она написала и отослала продюсеру многословную, сбивчивую хвалебную песнь, и продюсер, слегка отредактировав текст, разместил его в качестве аннотации на альбоме Монка 1963 года («Крест-накрест»). В начале этого текста Ника сравнивает Телониуса с Бартоком: «Имя Монка – синоним "гения". Здесь Телониус на высоте величия. Одно только трудно – удержаться и не притоптывать в такт. Его величие выходит за рамки всех формул, изношенных эпитетов и клише, тут сгодился бы лишь новый словарь. Музыка Телониуса точна и математически выверена, и в то же время это – волшебство в чистом виде».
Я видела и другие отзывы Ники о Монке. «Меня всегда поражало, как Телониус слышит музыку сверх музыки, – говорила она в 1988 году продюсеру Брюсу Рикеру. – Он мог взять мелодию и сделать ее в сто раз более прекрасной, он исследовал все возможности, о которых другие и не думали». Она сравнивает Монка с Бетховеном, потому что он обладал таким же талантом, даром воображения и умением импровизировать и сочинять вариации. «Он брал любую музыку и исследовал такие ее глубины, в которые никто прежде не заглядывал. Телониус делал это с любой музыкой, которую он играл».
Ника полагала, что, играя чужую музыку, Монк «находил в ней гораздо больше, чем видел даже автор». Она также говорила, что он «слышал музыку во всем. Воздух как будто наполнялся вариациями, а Телониус словно вылавливал их из воздуха».
После многих лет непризнания критикой и финансовых трудностей, когда ему редко выпадал заработок и еще реже похвала, к Монку наконец пришел успех. «Настало время Монка, – писала Вэл Уилмор в 1965 году. – Эксцентричный гений пережил тяжкие времена, он практически не имел работы. Но теперь он знаменит. Он разъезжает в турне, одетый в костюм ценой в 150 долларов, останавливается в лучших гостиницах». Но успех не изменил «эксцентричного гения»: просто мир наконец-то разглядел, кто он такой, многолетние усилия Ники и других его сторонников принесли плоды. «Я делаю это уже двадцать лет, – заявил Монк в интервью для Bazaar. – Может быть, я что-то изменил в джазе. Оказал огромное влияние. Почем знать. Моя музыка – это моя музыка, я играю ее на моем пианино. Это что-то значит. Джаз для меня – открытие. Я ищу новые аккорды, новые виды синкоп, новые вариации и рулады. По-другому использовать ноты. Вот именно. Просто взять ноты – и использовать по-другому».
Но слава не принесла ни больших аудиторий, ни больших денег. И в лучшие свои дни Монку не удавалось собирать полные клубы и получать серьезные гонорары. В 1963 году его заработки достигли пика. Доходы от концертов брутто равнялись 53 832, отчисления от записей – 22 850. После вычета гонораров другим музыкантам и расходов на поездки и отдых окончательная сумма составила всего 33 055 долларов. Бывали особо удачные концерты, например когда большой оркестр Монка выступал вместе с Хэлом Овертоном в филармоническом зале Центра Линкольна, разошлось 1500 билетов, – но что это по сравнению с четырьмя тысячами вопящих фанатов, которые встречали битлов в аэропорту? К тому же у воспитанника Монка Майлза Дэвиса пластинки расходились впятеро большими тиражами, чем у Мастера.
Сильный эмоциональный отклик вызвало появление Монка на обложке журнала Time. Он оказался четвертым джазменом и одним из очень немногих чернокожих, удостоенных такой чести. Журнал поместил также большую статью о Монке, с фотографиями. Один раздел статьи был посвящен отношениям музыканта с Никой: автор именовал ее «другом, талисманом и поборницей» Монка. Автор этой публикации утверждает, что Монк не замечает других женщин, кроме Нелли, а Ника для него «словно вторая мать. Она возит его, предоставляет помещение для работы и репетиций, а в 1957 году сумела вернуть ему лицензию». На фотографии – Ника, глядящая на Монка с обожанием.
Корреспондент Time Барри Фаррел несколько месяцев ходил за Монком по пятам, но хотя пианист не отказывался от общения с ним и у них состоялось «тридцать бесед», в тексте Фаррел приводит лишь несколько малоинтересных цитат. На вопрос, что он почувствовал при виде бурлящей энтузиазмом толпы, собравшейся на его концерт в Германии, Монк буркнул: «Наши коты явились». Фаррел спрашивал, много ли у Монка друзей в мире джаза, и Монк ответил: «Я многим музыкантам был другом, а вот мне они, видать, друзьями не были». Порой цитата сводится к одному слову: «крепко» или «ол-райт».
Общее впечатление от статьи – Монк почти никогда не бывал трезв, всегда под кайфом. «Каждый день, – писал Фаррел, – очередное фармацевтическое приключение: алкоголь, декседрин, снотворное, все, что под руку попадется, в самых поразительных комбинациях вводится в его организм». Иногда, по словам Фаррела, Монк казался счастливейшим человеком, в другие минуты – «безумцем. У него бывают периоды полной отрешенности, когда он глух и нем. Он сутками не спит, безутешно бродит по дому, теребит друзей и играет на пианино так, словно джаз – отнимающее все силы проклятие».
Фотографию для обложки делал Борис Шаляпин. «Строгий такой старичина, – вспоминала Ника. – Телониус каждый день являлся к нему, садился на стул и тут же засыпал». Ника признавалась, что такое поведение ее «доводило». Однажды она так обозлилась, что схватила своего приятеля за плечо и хорошенько встряхнула. Монк приоткрыл глаза, и в этот момент Шаляпин успел щелкнуть «Поляроидом».
Монку столько доставалось от журналистов и критиков, что к прессе у него сложилось неоднозначное отношение. Говоря словами Ники, «он не хотел в это лезть, но его удавалось уговорить». Когда же его удавалось уговорить, общался Монк преимущественно афоризмами. Как-то раз он заявил критику: ему, мол, плевать, почему народ собирается на концерт, главное, чтоб людей приходило побольше.
– Как-то это холодно и деловито для гения? – усомнился интервьюер.
– Не будешь деловитым – денег не заработаешь, – отрезал Монк.
На вопрос Франсис Постиф, не из семьи ли идет его любовь к музыке, Монк ответил:
– Конечно, из семьи: моя семья – весь мир, а мир музыкален, что, нет?
Лионард Физерс попросил Монка дать отзыв о пластинке Арта Пеппера.
– Ее спросите, – ткнул Монк пальцем в Нелли.
– Меня интересует ваше мнение, – возразил Физерс.
– Мое мнение вы уже слышали.
В последнем интервью, которое взяла у него Перл Гонзалес в Мехико в 1971 году, прозвучал вопрос, в чем главная цель жизни.
– В смерти, – ответил Монк.
– Но между жизнью и смертью много других дел, – заметила Перл и попросила Монка ответить подробнее.
– Я ответил на ваш вопрос.
На том интервью и закончилось.
Подрастая, дети Ники все больше времени проводили с матерью. Она радовалась, видя, как они хорошо разбираются в музыке, которую она любила, говорила, что «все они нутром чуют джаз, их учить не приходится». В особенности близкой подругой Нике стала ее старшая дочь Джанка. «Однажды мы ездили с музыкантами в Исландию, и там проводили конкурс – ставили пластинки, нужно было опознать тех, кто играет. Мы с Джанкой выиграли, а там были сотни, – с гордостью рассказывала Ника. – Джанка знала всех членов любой группы».
Джанка с шестнадцати лет жила с матерью, ее друзьями стали джазмены, и, как и мать, она порой попадала из-за них в беду. В 1956 году Джанка ехала в машине с Артом Блэйки, Хорейсом Сильвером и парнем из подпевки Ахмедом. Возвращались в Нью-Йорк из Филадельфии после концерта. «Мы сели в машину, Арт был за рулем», – писал в автобиографии Сильвер.
«Мы еще не выехали из Филадельфии, как нас остановил коп на мотоцикле. Мы не гнали, не нарушили никаких правил. Коп увидел троих негров с белой женщиной, этого ему было достаточно. Если бы Арт вел себя спокойно, может, нас и отпустили бы. Но Арт был под кайфом, он стал возмущаться, развоевался. Коп велел Арту ехать следом за ним к участку. В бардачке у нас нашли заряженную пушку, коробку с патронами и пачку бензедрина. У Арта не было разрешения на оружие. Бензендрин принадлежал Джанке, дочери баронессы. А у Ахмеда на руках были следы инъекций».
Все четвертых арестовали и рассадили по камерам. Арт позвонил Нике, и та отыскала адвоката, попросила его вытащить ребят, но «как только адвокат увидел, что мы трое – черные, он не захотел связываться. Джанку вытащил, а нас оставил в тюрьме». В конце концов освободили всех. «Видимо, судье заплатили», – подытоживает Хорейс Сильвер. Под обобщенным «заплатили» скрывается, я подозреваю, Ника. Эпизод в Уилмингтоне научил ее по возможности избегать официального разбирательства в суде.
Для джазмена успех оборачивается почти невыносимым графиком турне. Порой оркестру приходилось за сутки проезжать тысячу двести километров, чтобы сэкономить на ночевке в гостинице. В городах, особенно на Юге, трудно было найти место, где согласились бы обслужить чернокожих. Квинси Джоунс поведал мне об одном эпизоде в Техасе: «Мы закончили примерно в полпервого дня и ехали до шести утра, пока нашли где поесть. В одном месте послали белого водителя спросить, но тут кто-то крикнул: „Гляньте на церковь“. Со шпиля самой большой в городе церкви свисало на веревке чучело негра. Поехали отсюда, сказали мы».
Рой Хейнс, барабанщик, часто выступавший с Монком, рассказывал мне: «В те времена для нас, как правило, место находилось только в гетто. Больше нигде по дороге невозможно было ни поесть, ни заночевать. Никаких гостиниц, мы спали на вокзалах или притормаживали на обочине. А если и удавалось добыть номер, то спали по очереди, чтоб сэкономить».
«В дороге платишь и за свою квартиру, и за съемную, – рассуждал Пол Джеффри, близкий друг Монка и его последний саксофонист. – Никаких льгот, никаких налоговых вычетов. Платят тебе ровно столько, сколько заработаешь, а работа у тебя не каждый день. И эти гостиницы… Право, сейчас, когда оглядываюсь, уже и сам не понимаю, как вынес все это. Безнадега, никакой возможности сохранить достоинство».
В 1969 году промоутер Джордж Вейн, тот самый, который организовал фестиваль джаза в Ньюпорте, повез Монка с оркестром в международное турне. Монк фигурировал в теле– и радиопередачах, успел сделать несколько записей, играл в Париже, Кане, Лионе, Нанте и Амьене во Франции, затем в Швейцарии – в Женеве, Берне, Цюрихе, Лугано и Базеле, на итальянском курорте Лекко, в Брюсселе, в Варшаве, в скандинавских столицах, во Франкфурте и Амстердаме, в Лондоне (дважды), Манчестере и Бирмингеме – и все это за считанные недели. Затем он вылетел в Токио и дал девять концертов в Японии, а вернувшись в США, играл на Западном побережье, потом в Миннеаполисе, затем на двух джазовых фестивалях и снова получил ангажемент в клубе «Виллидж Вангард».
Даже человеку помоложе и поздоровее такие разъезды обходились бы дорого, но Монку перевалило за пятьдесят, он был в плохой форме, и характер у него для подобной жизни был неподходящий. Он терпеть не мог выбираться из Нью-Йорка, и покровителям Монка было сложнее присматривать за ним на расстоянии. Однажды, оставшись один в Сан-Франциско, Монк разгромил свой номер. Управляющий мотелем не позволил ему съехать, пока Ника не прилетела на Западное побережье и не уплатила за причиненный ущерб. В другой раз владелец клуба не желал отдавать Монку гонорар, потому что Монк вздумал играть на пианино локтями. На вопрос, зачем он это сделал, Монк ответил, что его стиль игры в точности соответствовал кошмарному перелету в этот город.
По мнению Ники[18], один эпизод в особенности повлиял на психическое состояние Монка. Он играл в клубе в Миннеаполисе в 1965 году, и кто-то из молодых фанатов подсунул ему кислоту. «У Монка были свои странности, но прежде он никогда не исчезал, – говорила Ника своему старому другу Дэну Моргенштерну. – А в тот раз он пропал и обнаружился в Детройте [более чем в тысяче километров от Миннеаполиса] без малого неделю спустя. Это был еще один шаг на пути к окончательному разрушению».
Многие не связанные друг с другом печальные события также подрывали душевные силы музыканта: умер от передоза любимый племянник Ронни, умерли многие друзья – Коулмен Хокинс, Элмо Хоуп и Бад Пауэлл; «Коламбия» разорвала контракт; давние товарищи, Бен Райли и Чарли Роуз, ушли из команды; в квартире Монков снова вспыхнул пожар, а простата все увеличивалась и мешала ему во всем, даже выступать.
Однажды вечером, в мае 1968 года, накануне поездки в Сан-Франциско, Монк провалился в кому – сказались стресс, усталость и очередная комбинация сильнодействующих средств. Через несколько дней он очнулся и в типичном для него стиле заявил: «Вы уж думали, я копыта откинул. Я тоже решил – хана. Лежи-остывай. Вот сцуко».
Ника и Нелли пытались найти какое-то средство лечения. Цель у них была одна, но стратегии диаметрально противоположные. Эти женщины в свое время не схватились в борьбе за любовь Монка, но борьба за его здоровье сделала их врагами.
Нелли нашла выход в том, чтобы кормить Монка исключительно овощными и фруктовыми соками. Пол Джеффри рассказывал, как это было: «Она купила соковыжималку в уверенности, что если Монк будет все время пить соки, то это его исцелит. По утрам я ездил с Нелли на рынок в Бронксе, закупал ящиками морковь и сельдерей, грузил в багажник моей машины, отвозил к ним домой, распаковывал, и она принималась гнать сок». Монк сидел на такой диете месяцами, не выздоравливал, а только худел. Нику такая потеря веса напугала, и она принялась контрабандой доставлять Монку пропитание. Дожидалась, пока Нелли уйдет, и являлась с тарелками стейков и жареной картошки – Монк с благодарностью заглатывал все подчистую.
Из-за соков семью чуть не выселили: соседи жаловались, что шум соковыжималки всю ночь не дает им спать. Но Нелли была уверена в правильности избранного курса и подумывала даже начать небольшой бизнес: готовить соки и лечить других музыкантов. Регулярного дохода в семье так и не появилось, и Нелли очень сердилась на мужа за то, что он столько лет принимал наркотики. «Она понимала, что он смолоду подорвал свое здоровье. Думала, он бы дожил лет до девяноста пяти, если б не заглотал десять миллионов тонн таблеток», – пояснял Тут Монк в интервью.
И вновь я задумалась о том, какую роль в этой истории с наркотиками играла Ника. Поставляла их Монку или сама употребляла? Была в этом смысле дилетантом или фанаткой? Мне кажется, хотя Ника порой могла побаловать себя «счастливой иголочкой» или косячком, никаких признаков наркомании у нее не обнаруживалось. Многих ее друзей сгубили опиаты. Монк, очевидно, был наркозависимым: он продолжал употреблять наркотики, даже понимая, что этим причиняет боль близким, что уничтожает свое здоровье и свою музыку. Ника же проявляла классические симптомы созависимости: с одержимостью ставила потребности Монка и его нужды на первое место в ущерб себе и своей семье; его свобода и его безопасность оказались для нее важнее и собственного благополучия, и долга перед другими людьми. Монк подсел на наркотики, для Ники наркотиком был сам Монк.
Еще одна поездка в Сан-Франциско – и снова катастрофа, Монка увозят в больницу имени Лэнгли Портера. Нелли, не зная уж, что и делать, подписала согласие на новомодное лечение электрошоком. Ника страстно возражала против этой жестокой процедуры, однако Нелли убедила себя, что современные технологии помогут ее мужу. Я разыскала Эдди Хендерсона, который в то время проходил интернатуру по психиатрии и был назначен лечащим врачом Монка. В свободное время Эдди играл на трубе и ездил в турне с Майлзом Дэвисом.
Хендерсон теперь бросил медицину, но все еще занимается музыкой. Он много рассказывал мне о детстве и о путешествиях с Майлзом Дэвисом, так что я могла убедиться в сохранности его памяти.
«В конце 1969 года я проходил интернатуру по психиатрии и больнице имени Лэнгли Портера при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, – рассказывал он. – Поздно ночью меня разбудили и позвали вниз, принимать пациента». В пациенте Хендерсон узнал Монка (больше никто из персонала больницы его не узнал) и, оформляя карту, записал, что музыканта доставила в больницу жена после длительного периода упорного молчания и странных поступков.
На следующий день доктор Янг, психолог, предложил Монку тест Роршаха: по реакции пациента на чернильные пятна разной формой врачи судили о его личностных особенностях и эмоциональном состоянии. Монк, по словам Хендерсона, отказался комментировать чернильные пятна, он крутил на пальцах свои перстни, тупо уставившись в пол. Врач подсунул ему очередную картинку и спросил, не видит ли он тут мальчика, играющего на скрипке перед родителями. Монк покачал головой: кажется, он принял врача за сумасшедшего. «Ничего не вижу, это просто клякса», – сказал он. Врач продолжал подсовывать Монку разнообразные рисунки и добивался хоть какого-то отзыва. Наконец Монк, подмигнув Хендерсону, повернулся к врачу и сказал:
– А, вижу малыша: он напился.
– С чего бы, мистер Монк? – удивился доктор Янг.
– Его мамаша больше не позволяет себя трахать, вот с чего. – Доктор Янг уронил папку с тестом, и Монк великодушно добавил: – Встряхнуть и перемешать.
Речь Монка, отмечает Хендерсон, часто была вполне разумной и ироничной, но порой он становился «недоступным, неконтролируемым, представьте, как будто вы в лифте и пол уходит из-под ног. Он где-то витал». Монка обследовали, сделали энцефалографию, проверяли спонтанную активность мозга за короткие периоды от двадцати до сорока минут. Энцефалография обнаружила последствия многолетнего приема наркотиков. «Пики зашкаливали» – то есть, как поясняет Хендерсон, мозг был поврежден.
Монку поставили диагноз «неспецифическая шизофрения», назначили сильнодействующее антипсихотическое средство торазин, которое ему неоднократно выписывали и раньше. Эдди Хендерсон уточнил: даже небольшая доза, 100 миллиграммов, вызывает у обычного человека дремоту, а они доводили дозу до 350 миллиграммов, но и после недели такой терапии изменений в состоянии Монка не отмечалось. Поскольку электрошок усиливал действие лекарства, на Монка надели смирительную рубашку и привязали его к столу. Ему сунули в рот зонд, он закрыл глаза, на висках музыканта закрепили электроды и пропустили через его мозг электрический разряд. Как именно действует этот метод, тогда не было до конца известно, однако во многих случаях он вроде бы помогал преодолеть депрессию. Впрочем, электрошоковая терапия и поныне признана далеко не всеми. А тогда о том, как она воздействует на неврологический баланс, почти ничего не было известно. По словам Хендерсона, «мозговые клетки взбалтываются» и во многих случаях пациент «уже никогда не будет самим собой».
Пока Монк лечился в «Лэнгли», ему разрешили однажды сходить на концерт под присмотром Хендерсона. Интерн умолял своего подопечного не пить и тем более не принимать наркотики, ведь он и так сидел на тяжелых лекарствах. Едва переступив порог клуба, Монк заказал тройной «Джек Дэниэлс» и отполировал его парой пива. Затем он ухитрился раздобыть грамм кокаина, тут же разорвал пакетик и обеими ноздрями засосал белый порошок. «Он уже начал потеть, пиджак промок насквозь, словно Монк в нем купался. Пот тек ручьями, – вспоминал Хендерсон. – Потом он вылез на сцену, плясал, крутил кольца на пальцах. Сел за пианино и стал нажимать клавиши, но не сильно, так, чтоб не издать ни звука. За весь вечер не сыграл ни единой ноты». Но когда Хендерсон доставил Монка обратно в больницу, музыкант сказал ему: «Отличный был вечер».
Когда Монк вышел наконец из больницы, Нелли с Гарри Коломби решили, что всей семье пойдет на пользу отдых на теплом Западном побережье, и попытались раздобыть Монку контракт – записать несколько мелодий для рекламы. Монк же рвался обратно в любимый Нью-Йорк. К несчастью, после пожара Нелли отдала мебель на хранение, а квартиру еще не отремонтировали. С помощью Ники они сняли на время квартиру в Линкольн-Тауэрз, в районе, который Монк терпеть не мог. Он скучал по прежней квартире, в особенности по своему письменному столу. Ворвался к Чарли Роузу, отпихнув его жену, и спросил: «Где моя мебель? Моя мебель тут, у вас?»
На пленке, отснятой Майклом и Кристианом Блэквудами в 1968 году, возникает порой моя двоюродная бабушка. В одном эпизоде они с Монком едут по Нью-Йорку на клубный концерт своего друга Лайонела Хэмптона. Ника ведет автомобиль в обычной своей безбашенной манере, оборачивается поболтать с оператором на заднем сиденье, заговаривает с сидящим на переднем пассажирском кресле Монком.
Дальше – возможно, это тот же вечер – парочка прохлаждается за сценой в другом клубе. Я много раз прокручивала эти кадры, пытаясь угадать, что Ника думает, что чувствует. Ей пятьдесят четыре года, и она не выглядит ни на день моложе. Лицо одутловатое, исчезли прежние тонкие черты. Она отпустила длинные волосы, концы подстрижены неровно. Полосатая блузка поверх черной юбки нисколько не льстит ее фигуре. Под конец вечера Ника уже пьяна в стельку, ей приходится с силой прикусывать мундштук, иначе он выпадет изо рта. Она снова и снова переспрашивает Монка, что он будет играть, а он односложно бурчит в ответ и то спляшет, то перекинется репликой со знакомыми. Ника тяжело опускается на ступеньку лестницы, снизу вверх с обожанием смотрит на Монка. Она всегда смотрит на него с обожанием.
У нее есть для него подарок, говорит Ника.
– Миллион долларов? – с надеждой уточняет Монк.
– Нет, ручка – для автографов.
– Ты же знаешь, я не люблю носить при себе ручку, – говорит Монк, но колпачок все же снимает.
Ника тщетно ищет бумагу. Монк пробует новую самописку на салфетке и рвет ее в клочья. Ника хохочет.
– Серебряная? – спрашивает Монк, разглядывая ручку.
– Да. Вот бумага. – Ника подталкивает к нему блокнот.
Монк наклоняется и что-то в нем царапает.
– Знаешь, что тут написано? – спрашивает он. – Если уговорить кого-нибудь это подписать, у тебя крыша съедет. Навсегда съедет.
Они обсуждают семью Ники, какие Ротшильды богатые, Ника напоминает, что она – бедная родственница. По сравнению с Ротшильдами бедная, хотя, конечно, по сравнению с большинством гостей в клубе – богатая.
Монк оборачивается к камере.
– Я больше не желаю обходиться без денег. С этим покончено, – пресерьезно говорит он, вытаскивая из кармана скомканные купюры и потрясая ими.
Кто-то из свиты указывает на тяжелые перстни Монка, говорит: такие сокровища ценнее денег. Монк соглашается, трогает пальцем черный опал – камень, соответствующий его знаку зодиака, ценой не менее тысячи долларов, а вокруг ограненные бриллианты. Подавшись вперед, Ника легонько касается пальцами лба Монка.
– Тут все, что тебе нужно, – ласково говорит она.
– Ха! – Похоже, Монк не слишком ей верит.
Ника вынимает фотографии своих кошек и поясняет, что давно сбилась со счета – прекратила их пересчитывать, как только перевалило за сто. Монк выразительно закатывает глаза: мол, кто из нас сумасшедший?
23 С любовью
Психическое состояние Монка в 1970-х годах стремительно ухудшалось. В 1971 году у него случился приступ кататонической депрессии, его увезли в больницу «Бет Израэль». Закончив лечение, он вместе с «Джайнтс оф Джаз» Джорджа Вейна отправился в 1972 году в турне. Снова чудовищное напряжение: по два концерта за вечер в шестнадцати городах за три недели. Редкие бутлегерские кадры в берлинском клубе: Монк – тощий, вспотевший, козлиная бородка поседела и поредела – склонился над пианино и бренчит явно без удовольствия. Его некогда громадная туша словно съежилась, пиджак обвисает. Крупные золотые перстни свободно болтаются на пальцах, с висков на клавиши все время капает пот.
Помимо других осложнений увеличенная простата вызывала недержание. «У него были проблемы с недержанием, порой не удавалось сохранить контроль над мочевым пузырем, это было ужасно, Монк чувствовал себя осрамленным, – вздыхал Джордж Уэйн, вспоминая то турне. – Телониус был гордый человек. Он всегда одевался безупречно, никогда не допускал ни малейшей небрежности». Дома с этой проблемой еще как-то удавалось справляться, но в дороге никогда нельзя было заранее знать, где остановится автобус, будет ли там пригодный туалет, – и трудная ситуация превращалась в безвыходную.
Пол Джеффри встречал Монка в аэропорту Нью-Йорка. Монк еле спустился по трапу. «Идти почти не мог, так ослаб». Последние дни декабря и весь январь 1972 года Монк приходил в себя, прежде чем снова приняться за работу. Друзьям он признавался, что ищет другое жилье: Нелли со своей постоянно гудящей соковыжималкой доводила его до исступления.
Осознала наконец серьезность ситуации и Ника. «Мы ехали домой, и вдруг он сказал мне: "Я тяжело болен"». Эти слова подхлестнули Нику действовать, и действовать срочно. «Я кинулась искать врачей, пыталась как-то его спасти». Десять лет она будет упорно искать панацею. На записи, когда разговор заходит о болезни Монка, я различаю отчаяние Ники – отчаяние тихое, сдержанное. Она обращалась к врачам и в Европе, и в Америке, но не могла добиться ни окончательного диагноза, ни эффективного лечения. «Не могу передать, каково это было», – поникшим голосом признается она. Монк был «ужасно болен. Совершенно обессилел. Вероятно, страдал и от боли, в этом он никогда бы не признался. В этом смысле с ним было очень трудно. Я уверена, он сильно страдал, – говорит Ника, и ее голос прерывается вопреки британской сдержанности. – У него начались судороги. Цирроз печени… высокое давление… угроза диабета. Стопка медицинских заключений высотой до потолка».
В январе 1972 года Ника устроила Монка в больницу на Грейси-сквер. Новые врачи внесли существенное изменение в программу лечения. Ника взяла руководство в свои руки и решительно отвергла новомодные «собеседования», которые считала «нелепыми: в результате их психиатру пришлось самому лечиться у психиатра. Он их в клочья рвал, психиатров». Столь же непреклонно она запретила электрошок и сильнодействующие транквилизаторы, требовала более мягкого подхода, лечить больного, а не болезнь.
Полезные советы Ника получала от Мириам, которая также пыталась подобрать курс лечения для их сестры Либерти. У Либерти, как у ее отца Чарлза и у самого Монка, тоже диагностировали шизофрению. Детство Ники и Мириам прошло в присутствии человека, страдавшего душевным расстройством и резкими перепадами настроения. И вновь обеим сестрам приходилось иметь дело с тем же недугом. На этот раз они надеялись победить, а не проиграть. Их брат Виктор, не выносивший любых проявлений душевной уязвимости и тем более неуравновешенности, предпочитал не обращать внимания на эту беду, но Мириам и Ника все силы клали на поиски решения. Мириам даже основала фонд для поощрения исследований шизофрении – эта организация функционирует и поныне и ставит себе основной целью выяснить физиологические причины заболевания.
По настоянию Мириам Либерти сделали анализы клеточного обмена и установили, что она больна также целиакией; чтобы облегчить ее состояние, следовало исключить из питания растительные белки. По совету Мириам Ника также распорядилась сделать Монку целый ряд биохимических анализов, выявить отклонения на клеточном уровне, установить баланс витаминов, минералов, аминокислот и жирных кислот. Она рассчитывала таким образом найти метод лечения, который снимет тревожные симптомы. Новые врачи первым делом отменили торазин и вместо этого стали давать Монку литий. Нужно было точно определить дозу: печень отказывала и не справилась бы с излишком солей. Ему также строго запретили наркотики и алкоголь, но, по свидетельству друга и товарища-музыканта Пола Джеффри, Монк не мог устоять перед понюшкой кокаина и запивал ее неразбавленным скотчем.
Анализы обнаружили в организме Монка излишек меди и недостаток цинка. Врачи попытались восстановить баланс, кормя Монка витаминами и усиленными дозами цинка, однако до нормального уровня содержание цинка так и не поднялось. В моче Монка нашли также грибок плесени. Мириам посоветовала Нике призвать на помощь восточную медицину, в которой особое внимание уделяется излишку влажности в организме человека, в его энергии. Ника пригласила китайских специалистов по иглоукалыванию и акупунктуре.
Обе сестры Ротшильд были убеждены, что их подопечных следует лечить дома, избавить от всякого стресса и строжайше соблюдать специфический режим. Хотя поведение Либерти зачастую становилось непредсказуемым, Мириам разрешала ей делать все что вздумается. Последние годы жизни Либерти провела в Эштоне – порой бродила вокруг дома, порой садилась за пианино или вмешивалась в общий разговор. Никогда ей не давали понять, что она тут не к месту.
Однажды, незадолго до смерти, Нику спросили, о каких упущениях в своей жизни она сожалеет. Я думала, она скажет: о том, что позволила разлучить себя с детьми. «Сожалею? – переспросила Ника. – Да, об одном я не перестаю сожалеть: что так и не смогла найти Телониусу хорошего врача. Только об этом, а больше ни о чем».
В январе 1972 года Монку предложили дать несколько концертов в «Виллидж Гейт». Помогал ему саксофонист Пол Джеффри.
– Я приезжал к Монку домой, помогал ему собраться, вез его в клуб. После концерта снова доставлял его домой. Как-то выдался чудовищно холодный вечер, и Ника – она сидела возле сцены и слушала Монка – предложила завезти его домой, а потом меня на станцию.
Джеффри запомнилось, как они ехали в «бентли» к дому Монка, падал снег, укутывая Нью-Йорк глухим белым молчанием.
– Мы подъехали, но Монк отказался выходить. Ника докрутила обогреватель до максимума, потом пришлось убавить, чтобы мы не перегрелись. Так мы сидели, было часов шесть утра. Я жил тогда в Кони-Айленд, на конечной станции метро, так что я сказал: «Ладно, мне пора домой» – и оставил их там.
Монк все же вышел из машины и пошел к себе. Но там его ждала завывающая соковыжималка, и утром Монк позвонил Нике и попросил забрать его вместе со всем добром. Ника приехала, у Нелли началась истерика, она не могла поверить, что муж уходит от нее к другой женщине. И ведь в чем-то она была права. Но в конце концов Ника взяла решение на себя. Подхватила Монка под руку и сказала: «Пошли, Телониус, пошли отсюда к черту».
Назавтра Ника позвонила Полу Джеффри.
– Баронесса сказала: «Можете больше не ездить за Монком к Нелли. Он теперь живет у меня, и я сама привезу его».
На том Монк и расстался с Нелли.
В первые годы Нелли регулярно ездила в Уихокен, готовить мужу и общаться с ним, но постепенно эти визиты сошли на нет. Когда в 1976 году Мэри Лу Уильям попросила прислать ей официальные фотографии Монка, Ника в ответном письме спрашивает: «Давно ли ты видела Нелли (у нее нет телефона)? Она бывает у нас крайне редко». Сама Ника готовить так и не научилась. Ее хозяйство кое-как вела мисс Д., имелась также уборщица Грейси, но в кухне редко удавалось найти что-нибудь кроме кошачьего корма, так что Ника питалась по клубам. Монк устроился в спальне наверху, и какое-то время казалось, что он сможет вести приятную, почти пенсионерскую жизнь.
Монк сыграл на юбилейном концерте в Ньюпорте в июле 1975 года и дважды выступил в 1976 году – в марте в Карнеги-Холле, а 4 июля в «Брэдли». Ника говорила, что начиная с 1972 года Монк редко садился за пианино, хотя мог сыграть в пинг-понг или в шашки с ее внуком Стивеном. Последняя запись, поступившая в продажу, – «Ньюпорт, штат Нью-Йорк» – была сделана 3 июля 1975 года в зале филармонии, а последняя запись на магнитофоне Ники – «Около полуночи».
Одна из тайн в истории джаза: почему Монк перестал играть и улегся в постель. О последних годах своего друга Ника отзывалась как о «сплошном разочаровании». «Он был тут, и в то же время его не было. Представьте себе, человек просто лежит в постели, и все. Он как будто приготовился умирать, принял ту позу, которую покойникам обычно придают в гробу. И он целыми днями молчал. Я приносила ему еду, давала таблетки. Обычно мне удавалось добиться какой-то реакции, но больше ни у кого не получалось».
Пол Джеффри, друживший с Монком вплоть до его смерти в 1982 году, рассказывал:
– Когда Монка спрашивали [почему он лежит], он отвечал: «Я на пенсии». Полагаю, это вполне разумно. Бейсболисты выходят из игры, а от музыкантов требуют, чтобы они играли, даже когда силы на исходе. Музыканты не уходят на пенсию. Но если проживешь достаточно долго, может случиться так, что уже не сумеешь играть, как прежде. И Монк попросту решил, что больше он играть не будет.
Сын Монка Тут предпочитал медицинское объяснение:
– Моему отцу прооперировали простату, удалили предстательную железу. Не скажу точно, примерно в 1973 или 1974 году. В результате возникли проблемы с мочеиспусканием. Говорили, что он перестал играть, потому что в нем не было больше прежнего огня, или он потерял интерес, или после стольких курсов лечения в сумасшедшем доме утратил связь с реальностью, но дело не в том, не в другом и не в третьем. Ему просто было плохо, неудобно.
От таких теорий Ника – что для нее необычно – впадала в неистовый гнев. «Телониус перестал играть только потому, что физически не мог. Иначе его бы ничто не остановило. Все дело в нарушении биохимического баланса, в последние годы он был тяжело болен. Он очень хотел выздороветь, он слушался врачей на все сто процентов, и они все перепробовали, но не помогло».
Ника не сдавалась. В 1977 году она пишет Мэри Лу: «Меня связали с новым врачом для Т… Лучший специалист в стране по биохимическому балансу, то есть как раз по тому, чем страдает Т. Я НИКОМУ (даже Т) пока об этом не говорю, но прошу ТЕБЯ, ПОЖАЛУЙСТА, помолись за нас, чтобы это СРАБОТАЛО. С любовью». Два года спустя она вновь пишет Мэри Лу о враче из Принстона и о сеансах шиацу: «Т просто золото, строго соблюдает диету, каждый день принимает все предписанные таблетки». В письме кузине в 1981 году Ника все еще с энтузиазмом повествует об очередном искуснике, который, быть может, сумеет помочь.
Как-то раз Ника и Пол Джеффри попытались пробудить у Монка интерес к жизни: попросили молодых музыкантов прийти и сыграть у него под окном. Никакой реакции. В другой раз Ника позвала пианиста Джоэля Форрестера играть перед открытой дверью в комнату Монка. Монк поднялся и захлопнул дверь.
Старый друг и продюсер Монка Оррин Кипньюс навестил его в Уихокене в конце 1970-х.
– Монк, ты к пианино хотя бы подходишь?
А он ответил:
– Нет.
Я спросил:
– И не хочешь снова играть?
И Монк сказал:
– Нет, не хочу.
Я предложил:
– Хочешь, я буду приезжать к тебе, будем вспоминать былые дни?
И на это он тоже ответил:
– Не хочу.
Барри Харрис, пианист, одно время живший вместе с Никой и Монком, прокомментировал: Оррину, мол, еще «повезло получить в ответ от Монка целую фразу. Обычно он буркал "нет" или вовсе молчал».
Когда мой дядя Амшель приехал на денек в Нью-Йорк повидаться с Никой, он видел, как Монк растянулся на постели, словно покойник, руки сложены на груди. Он молчал и не двигался, предоставляя миру вращаться вокруг него. Кто-то из родных Ники время от времени появлялся, но в основном она оставалась наедине с Монком и кошками. «Я ставила ему пластинки, ему это нравилось, – начала она рассказывать, но тут припомнила один осенний день: – Я видела, как он поднялся. Я сидела в большой комнате, слушала записи и видела, как он пошел с постели в ванную, услышала страшный грохот, прибежала – он упал в ванной, а дверь открывалась вовнутрь, ванная тесная. Ногами он прижал дверь, и я не могла ее открыть. Никак не могла к нему подобраться. Я вызвала "скорую", и они его как-то извлекли».
В ту пору Эдди Хендерсон навещал Монка и Нику.
«Баронесса сидела в гостиной, в руке мундштук с сигаретой, вокруг семьдесят пять кошек. Она сказала: „Привет, доктор, мистер Монк наверху“. Мистер Монк сидел в большой комнате, где пианино, и смотрел вдаль на линию небоскребов Нью-Йорка – полностью одетый, при галстуке-шнурке и шляпе с узкими полями. Не глядя на меня, он произнес: „Привет, док, как дела?“ Я сказал: „Чем занимаетесь, мистер Монк?“ Он ответил: „Жду телефонного звонка“. Он смотрел в потолок, но несколько секунд спустя телефон и в самом деле зазвонил. Он взял трубку. Стал слушать – молча, даже не сказал „алло“. Секунд через двадцать, максимум двадцать пять положил трубку и сказал: „Не тот звонок“».
Навещал Монка и старый друг Амири Барака. Он, как и Ника, считал Монка по-прежнему вполне дееспособным. На вопрос, что нового в жизни, Монк ответил ему: «Полно всего, чувак. Каждую милипусекунду». Ника рассказывала, что Монк любил стоять перед большим окном с видом на линию небоскребов Манхэттена. Иногда ему удавалось управлять погодой.
– Он мог заставить тучу двинуться в другую сторону. Или вот там, по соседству, голубятники выпускают птиц. Телониус вставал у окна и заставлял их лететь в другую сторону. Я видела, как он это делал. И тучу он тоже мог заставить свернуть.
Восемь лет подряд, с 1972 года, Ника не отлучалась от Монка. В 1980 году старому другу семьи исполнилось 90 лет, и Ника собралась в Европу на празднование юбилея. Описывая момент прощания с Монком, Ника признавалась:
«Я не плакса. Могу по пальцам сосчитать все случаи в жизни, когда я плакала. Но когда я подошла к Телониусу, чтобы попрощаться, он так расстроился, что я заплакала и не могла остановиться. Помню, как он сказал мне: все в порядке, ты вернешься, я буду тут. Я никуда не денусь, я буду тут. Я впервые летела на „конкорде“ и всю дорогу до Англии плакала. Наверное, сотню платков промочила. Мне казалось, мы простились навеки».
Но Телониус оказался прав: Ника вернулась и застала его на месте, и он прожил еще два года. 5 февраля 1982 года, в Уихокене, его настиг обширный инфаркт. Ника вызвала «скорую», поехала вместе с Монком в больницу Инглвуд, и там он пролежал в коме двенадцать дней. Ника, Нелли и родственники сменяли друг друга у его ложа. 17 февраля шестидесятичетырехлетний музыкант умер на руках у Нелли. Ника была в тот момент у себя дома, на другом берегу реки.
На похоронах Монка Ника и Нелли сидели в церкви бок о бок, в переднем ряду. Мимо них проходили музыканты, друзья, родственники – выразить соболезнование двум матриархам – и направлялись к Телониусу, который лежал в открытом гробу с белой обивкой. Он был, как всегда, одет в безупречный костюм – серый, с жилеткой под пиджаком, с узким галстуком и носовым платком в тон, выглядывавшим из нагрудного кармана. Крупные ладони были сложены, как на молитве, лицо, ставшее слегка одутловатым и восковым, казалось спокойным и умиротворенным. Непривычный вид: Телониус без шляпы. Ника, все та же – тяжелая шуба, жемчуга, розовая помада, – неподвижно смотрела прямо перед собой, лицо бесстрастно.
Однако сдержанность мгновенно покинула ее, как только выяснилось, что «бентли» не отвели почетное место во главе кортежа. После того как она много лет заботилась о великом музыканте, ее задвигают! Ника расшумелась так, что Нелли, Тут и Бу-Бу (Барбара) Монк вылезли из предоставленного родственникам лимузина и пересели в «Бибоп бентли». Погребальная процессия объехала все любимые Монком места, а затем двинулась к кладбищу Фернклифф в Хартсдейле, примерно за 40 километров.
В километре от Хартсдейла автомобиль Ники сломался. Монки вернулись в наемный лимузин, а Нику вместе с «бентли» оставили на обочине. До кладбища Ника не добралась – так бесславно, унизительно и печально закончилась эта глава ее жизни.
24 Около полуночи
Нике исполнилось 69 лет, ей вскоре предстояло стать прабабушкой, и теперь, когда ее жизнь не наполнялась заботами о Монке, Баронесса вновь оказалась на распутье: вернуться в Эштон, к сестрам, где в ее распоряжение предоставили бы коттедж, или уехать в Израиль вслед за дочерью Джанкой. Но она не выбрала ни то ни другое, а оставалась в Уихокене, деля свой дом с пианистом Барри Харрисом и тремя сотнями кошек.
Ход жизни практически не изменился. Большую часть дня Ника проводила в постели с бумагами, книгами, журналами и кошками. Каждый день непременно разгадывала кроссворд в The Times. Она оставалась ночной птахой, с наступлением темноты чувствовала себя живее и радостнее. Однажды мы с ней договорились встретиться.
– В двенадцать, – предложила она.
– Перед ланчем? – уточнила я. Ну да, она ведь уже немолода…
– Нет! В полночь! – рявкнула она.
Я спросила ее внука Стивена, как он ее называл – «бабушка» или каким-то прозвищем.
– «Бай-бай», – ответил он.
– Почему?
– Потому что, когда я вбегал к ней в комнату, шумел, она усмехалась и выпроваживала меня: «Бай-бай».
В 1984 году Ника проходила облучение от рака, однако более надежным лекарством называла музыку. Видимо, и правда: она победила рак, как в свое время – гепатит, причиной которого считала плохо стерилизованные иглы. Мы с ней свели знакомство несколькими годами позже. За тридцать лет в течении ее жизни мало что изменилось: не стало Монка, но Ника все так же страстно следила за событиями в мире музыки. Стоило мне позвонить ей, приехав в Нью-Йорк, и Ника, рассмеявшись, поприветствовав меня, тут же начинала сообщать новости – не личные и не какие-либо свои размышления, только радостный отчет о том, что где играют, что происходит в таком-то и таком-то клубе. «Это будет хит. Встретимся там». И, как все мои родственники, она бросала трубку, не попрощавшись.
С английскими Ротшильдами она не порывала связи, ездила повидаться с ними в 1968, 1969 и 1973 годах, и они в свою очередь наведывались в Нью-Йорк. Читая письма из архивов Уэддесдона, я часто натыкалась на упоминания Ники. Сама я запомнила большой семейный слет 6 мая 1986 года: Мириам пригласила на ланч Нику с детьми, раввина Джулию Нойбергер и меня. Знакомить гостей Мириам никогда не удосуживалась, полагая, видимо, что общность происхождения поможет найти и общий язык.
В письме к родственнице от 21 июня 1986 года Мириам извиняется за то, что прихватила Нику с собой на другое семейное мероприятие: «Надеюсь, обед в обществе моего брата и Ники не обернулся катастрофой. Ника очень хотела тебя видеть, после смерти Телониуса она так одинока, болеет и стремится повидать всех родных прежде, чем вернется в Штаты». Ника написала той же кузине и попросила прощения за то, что явилась «на четвереньках»: она упала и сильно ушиблась. Вернувшись на «Королеве Елизавете Второй» в Нью-Йорк вместе с дочерью Берит, она снова упала и сломала ребро – полезла на крышу смотреть регату.
В 1986 году вышло два фильма с участием Ники: «Птица» Клинта Иствуда – художественное повествование о судьбе Чарлза Паркера, где отчасти использован рассказ Ники, и «Неразбавленный виски» – документальный фильм, в котором архивные съемки Монка и Ники смонтированы с кадрами Кингсвуд-роуд и сценой похорон Монка. Клинт Иствуд и Ника в сопровождении детей встретились в отеле «Стэнхоуп» – в баре «Ника». Иронию судьбы Ника оценила: из этого отеля ее в свое время выжили, теперь же увековечили ее память. После встречи она писала в Париж Виктору Метцу: «Клинт Иствуд ПОТРЯСАЮЩЕ уверен в себе, а я вот сомневаюсь, понравлюсь ли "я" себе. Он показал мне фотографию актрисы – выглядит, словно лошадь, страдающая запором!!»
Куинси Джонс видел Нику на премьере:
– Она была с Барри Харрисом, и после просмотра мы вместе приятно поужинали. Когда вышли, за нами по Мэдисон-авеню погнался лимузин и еще две машины, двадцать человек. Сумасшедший дом!
А как отнеслась к этому Ника?
– Она-то? Она клевая, она крутая.
В ноябре 1988 года Ника легла в больницу, готовилась к операции на сердце. Операция сама по себе простая, ожидалось, что через несколько дней Нику выпишут. Одним из последних ее гостей был пианист Джоэль Форрестер.
– Ника была белее бумаги. Ее укутали до подбородка, а рядом никого. Мне она сказала, что не может читать и не очень хорошо меня видит, но была в ясном сознании. В палате даже телевизора не имелось, чтобы развлечься, если бы ей захотелось. Я спросил: «Ника, чем же ты весь день занимаешься?» Она ответила: «Перебираю воспоминания».
Врачи рассчитывали на скорое выздоровление, но организм, подорванный возрастом, нелегкой жизнью, гепатитом, несколькими авариями, раком и облучением, сдал. 30 ноября 1988 года в 5.03 вечера Ника умерла. Ей было семьдесят четыре года. Причина смерти – сердечная недостаточность после тройного шунтирования аорты.
Своим наследникам Ника оставила 750 000 долларов. Она всегда жаловалась на бедность, но, видимо, бедность – понятие относительное. Ее старая, поношенная одежда, обтрепанные ковры, отсутствие в доме еды и пристойной выпивки – все это, значит, не было вызвано нуждой, это был ее выбор. Нике требовалось всего лишь три предмета роскоши: машина, пианино и стол для пинг-понга, прочее – лишь бы функционировало. И только ее «бентли» и впрямь бросался в глаза – и вряд ли случайность, что единственная вещь, на которую Ника не жалела денег, был этот дорогущий автомобиль, средство не только передвижения, но и бегства. Однажды она предложила Телониусу выкупить у нее «бентли» за 19 000 долларов.
– Девятнадцать тысяч! – взвыл музыкант. – Да за такие деньги можно купить дом с четырьмя спальнями, гостиной, кухней и гаражом.
– Разумеется, – возразила Ника, – только там ты и застрянешь.
Последняя воля Ники: ее тело кремировать, нанять лодку и развеять прах над Гудзоном, поблизости от «Кошатника», причем главное – в точное время. Около полуночи.
Эпилог
В 2008 году, через двадцать лет после смерти Ники, я снова приехала в Тринг-Парк, былое семейное гнездо. Поезд от станции Юстон набит жителями пригородов, все уткнулись носами в газеты, на коленях балансируют кейсы – совсем не так Ника путешествовала в детстве в частном пульмановском вагоне. Семья жила под Трингом с 1872 года по 1935 год – незначительный период в долгой истории города, но, прогуливаясь по Хай-стрит, я замечала следы присутствия Ротшильдов: герб из пяти стрел на иных зданиях, столовую Ротшильдов в местной гостинице. Кроткий дух Уолтера увековечен в музее. В войну в семейный дом переселился банк Ротшильдов, а с 1945 года помещение предоставлено театральной школе.
В качестве родового имущества уцелел только парк. Шоссе А41 разрезало его надвое, но основная часть остается заповедником на тех самых принципах, что были заложены Чарлзом Ротшильдом. Чарлз страстно отставивал сохранение естественных мест обитания полевых цветов, диких животных, бабочек и мотыльков. Распоряжения, сделанные им в завещании, легли в основу общебританского движения охраны окружающей среды.
Правда, здесь уже не увидишь кенгуру, зебр, эму и казуаров. Много гуляющих, с собаками, с детьми. Из диких животных самые интересные – косули. В ту пору, когда Ника была маленькой, местные детишки, бывало, толпились у ворот, пытаясь поймать золотой соверен, который дедушка Натти Ротшильд бросал из кареты. Теперь даже в Тринге мало кто помнит те времена и то семейство. Даже частный музей Уолтера превратился в филиал Музея естественной истории.
Неузнаваем и парадный холл Тринг-Парка. Великолепная мебель распродана, исчезли и пальмы в горшках, и картины. У стены закреплен балетный станок, упражняются девушки. Нике бы понравилось, как преобразилось это место, как стремительно вращаются белые пачки. В бывшей курительной танцоры помоложе репетировали рождественский балет «Щелкунчик». Одетые мышами, игрушками, оловянными солдатиками, они с визгом и смехом нападали друг на друга. Корты накрыты навесом. Я имела возможность полюбоваться уроком современного джаза: девочки-подростки в трико отрабатывали номера под музыку, написанную уже после смерти и Монка, и Ники.
Войдя в дом, поднявшись по широкой лестнице, в самом конце коридора я обнаружила детскую, где выросла Ника. Небольшая, обшитая деревянными панелями. Камин заколотили, на стенах – следы, оставленные девчушкой современной эпохи: плакаты с любимыми ансамблями, моделями и пушистыми зверюшками. Из этого окна Ника и ее сестры, заслышав хруст гравия под копытами лошадей, высматривали отцовскую карету. Отсюда они впервые увидели полет аэроплана – небывалое зрелище. Я стояла посреди комнаты и пыталась представить себе, как ранним утром девочек будил шум воды – няня наполняла ванну – и горничная принималась растапливать камин.
Пронзительный сигнал, сзывающий на ланч, прервал мои размышления. Дом содрогнулся: четыреста голодных учеников ринулись по коридорам и лестницам в столовую первого этажа. Многое в меню удивило бы Нику: карри, спагетти, сэндвичи, жаркое, экзотические овощи и фрукты, – а ее-то в детстве кормили сплошь рыбой и яйцами.
Единственное напоминание о прежней жизни я нашла на первом этаже, перед прежней каморкой дворецкого, ныне учительской. Там все еще висит ряд колокольчиков с подписями: «Спальня леди Ротшильд», «Гостиная леди Ротшильд», «Спальня лорда Ротшильда», «Детская», «Курительная».
Я попросила одну из учениц спеть в холле «Паннонику» в память моей двоюродной бабушки. Из классов и спален выглянули другие ученики, прислушались к музыке и словам. Хотелось бы мне верить, что Нику это порадовало – такое музыкальное возвращение в родные пенаты.
Выйдя из школы, я прошлась по дорожке к музею Уолтера. Тут почти ничего не изменилось: каждый уголок по-прежнему забит чучелами из его коллекции. Образцы открытых им новых видов и видов, названных в его честь. При жизни Уолтера не высоко ценили, особенно в родной семье, где считали эксцентричным транжирой. Лишь после того, как Мириам написала биографию своего дяди, «Дорогой лорд Ротшильд», к его заслугам присмотрелись и огромный вклад Уолтера в изучение естественной истории был наконец оценен по заслугам.
Войдет ли и Ника в пантеон Ротшильдов – «только для достигших успеха»? Ее наследие, как и наследие Уолтера, сводится к именам. Не галапагосский зяблик и не малоизвестная муха, но перечень песен. Среди них, кроме знаменитой «Панноники», – «Мечта Ники», «В темпе Ники», «Ника выходит», «Телоника», «Боливар-блюз», «Коты на колокольне», «Блюз для Ники», «Нике» и многие песни с посвящениями от друзей, которых она выручала.
Свой статус и свои деньги Ника использовала, чтобы поддержать целое поколение голодных музыкантов. Доставшийся ей осколок огромного состояния принес немалую пользу. Ника действительно что-то изменила в этом мире. И наградой ей стало то единственное, чего она была лишена в детстве, о чем тосковала. Дружба.
Только одного хотела Ника – быть рядом с «восьмым чудом света», Телониусом Монком. Он бы и без нее сочинял свои песни, но Ника более всего гордилась тем, как она помогла Монку, создала условия, в которых он мог работать. Не в ее силах было спасти отца от недуга, одноплеменников – от Холокоста, друзей – от расовой несправедливости, но, по крайней мере, она смогла предоставить любимому музыканту надежное убежище, обеспечить хотя бы одному человеку достойную и спокойную старость.
Недавно приятель поддразнил меня:
– Ты никогда не закончишь эту книгу, ты не можешь отпустить ее.
Он, в общем-то, прав. Мои книжные полки и ящики письменного стола свидетельствуют о многолетних усилиях понять Нику, ближе ее узнать. Семнадцать коробок и толстенных папок; документальный фильм; записи радиопередач; книги, на страницах которых она мелькнула беглой тенью; еще книги – о родственниках и друзьях Ники, где ее по каким-то таинственным причинам не упомянули; посвященные ей песни; любимые альбомы; вырезки из газет, фотографии, переписка; изображение семейного древа; крошечный мотылек, стопки нот, электронные письма от посторонних людей – бумажный след в кильватере необычно прожитой жизни.
Тот вопрос, который я задавала себе в юности, все еще требовал ответа: удалось ли Нике доказать, что человек может освободиться от собственного прошлого? Ведь Ника сменила все: веру и страну, социальный слой и культуру. Она вырвалась за пределы семьи и прожила иную жизнь в мире, который мало кто из ее прежних знакомых мог понять. Она осмелилась стать другой. Но теперь, двадцать лет спустя, я видела, что полного разрыва нет и быть не может. Права Мириам: наши судьбы формируются задолго до рождения, цепочки ДНК, история предков и наследственные склонности дают о себе знать каждый миг. Ника сохраняла связь с Ротшильдами – и финансовую, денежная пуповина так и не была перерезана, и эмоциональную – общее прошлое, общие переживания. Нельзя уйти от тех немногих людей, кто по-настоящему тебя понимает. И не думаю, чтобы ей хотелось от них уйти. «Я из чудно́й мешпухи, но семья у нас дружная, верь не верь». Это правда, я знаю.
И все же я закончила книгу и отпускаю ее. В воображении я пускаю по ветру все эти материалы – столь тщательно собранные и проанализированные, тысячи листов бумаги. И мне видится, как прихотливыми зигзагами мотылек-Панноника летит куда вздумается: бесшабашная, своевольная, не подчиняющаяся никому. Бабочка Монка, мой Мотылек – ты свободна.
Будь она сейчас здесь, она бы прикинулась, будто ей скучна вся эта суета вокруг нее, все эти размышления. Так и слышу, как моя двоюродная бабушка говорит мне: выпей и не занудствуй.
– Ш-ш! Слушай музыку, Ханна. Слушай!
Песни, вдохновленные Никой и посвященные Нике
Кении Дрю – «Blues for Nica»
Телониус Монк – «Bolivar Blues»
Барри Харрис – «Cats in My Belfry»
Телониус Монк – «Coming on the Hudson»
Барри Харрис – «Inca»
Телониус Монк и Джон Хендрикс – «Little Butterfly»
Сонни Кларк – «Nica»
Уэйн Хорвиц – «Nica's Day»
Хорейс Сильвер – «Nica's Dream»
Ди Ди Бриджуотер – «Nica's Dream» (Ди написал слова на музыку Сильвера)
Фредди Редд – «Nica Steps Out»
Гиги Грайс – «Nica's Tempo»
Дональд Берд – «Pannonica»
Дуг Уоткинс – «Pannonica»
Телониус Монк – «Pannonica»
Сонни Роллинз – «Poor Butterfly»
Томми Фланаган – «Thelonica»
Эдди Томпсон – «Theme for Nica»
Кении Дорхем – «Tonica»
Арт Блейки – «Weehawken Mad Pad»
Благодарности
За двадцать лет, пока этот замысел преображался из расплывчатой идеи в радиопередачу, затем в документально-игровой фильм, а теперь в книгу, мне помогало множество коллег, друзей и родственников. Я очень благодарна им за разделенные со мной мысли и знания.
Там, где это было возможно, я обращалась к современникам и свидетелям событий, просила их рассказать и объяснить, что и как произошло. Сама я не специалист по джазу и не историк, не социолог и вообще не ученый. Я писала эту книгу с неизбывным чувством удивления, желая подлинно передать чужие истории и через них понять свою. Меня гораздо больше трогает сходство между людьми, чем различия.
Особенно щедрыми и свободными в оценках оказались музыканты, друзья Ники: они охотно делились со мной и основами джаза, и правилами жизни и творчества в их замкнутой культуре. Пообщавшись с этими умными, красноречивыми людьми, я окончательно поняла, почему Ника чувствовала, как ее «греет» их дружба, почему так приникала к их музыке. Более всего я почерпнула у Тута Монка, Сонни Роллинза, Пола Джеффри и Квинси Джонса.
Большую поддержку мне оказала семья. Двоюродная бабушка Мириам всегда была вдохновляющим примером. Мой отец Джейкоб учил нас усердно работать, не упускать возможности и исследовать каждую тропку. Моя мать Серена, книжный червь, привила мне любовь к книгам. Каждый день наполнен любовью и дружбой моей сестры Эмми. От кузины Ивлин я знаю, как проявляется шизофрения, а кое-кто из младших родственников просил меня провести обряд изгнания преследующих семью духов.
Глубокая благодарность внуку Ники, Стивену де Кенигсвартеру, унаследовавшему от бабушки и доброту, и бодрость духа.
Операторов, продюсеров, фотографов, работников архива часто забывают назвать и поблагодарить. Но без братьев Блэквуд, Би-би-си, Шарлотты Зверин, Брюса Рикера, Клинта Иствуда, Мелани Эспи и Джил Гербер многие подробности ушли бы в песок, а без них провисает и сюжет.
На каждом этапе работы ее проверяли благосклонные ко мне, но требовательные критики. Я благодарю моего друга, который предпочитает остаться неназванным, за советы и поощрение, Рудита Буэнконсехо – за то, что не дал угаснуть огню в очаге; Линду Дрю, которая не допустила, чтобы рухнули стены. И тех, с кем вместе готовила программы на радио и телевидении: Ника Фрейзера, Роберта Макнаба, Уолтера Стабба, Дэвида Перри, Энтони Уолла, Люси Гуно, Натали Хоув и Изабеллу Стил.
Рози Бойкот, Мейрид Левин, Руперт Смит, Лора Битти, Филипп Астор, Дэвид Миллер и Уильям Сейгарт были самыми внимательными и мудрыми читателями. Белла Поллен и Джастин Пикарди вместе со мной выстраивали структуру этой книги, издательство «Virago» прекрасно ее приняло, а Ленни Гулингз блестяще отредактировал.
И наконец, хочу сказать спасибо моим дочерям – моим помощницам, подругам и подсказчикам Нелл, Клеменси и Роуз, которые прошли вместе со мной через каждый этап этого проекта и которые каждый день напоминают мне, что в этой жизни главное.
Интервью
Большое спасибо тем, кто позволил мне использовать в этой книге свои рассказы, мысли и воспоминания.
Семья
Ника де Кенигсвартер
Стивен де Кенигсвартер
Мириам Ротшильд
Виктор Ротшильд
Джейкоб Ротшильд
Миранда Ротшильд
Эмми Фримен-Этвуд
Розмари Серис
Ивлин де Ротшильд
Амшель Ротшильд
Барбара Гика (урожденная Хатчинсон, первая жена Виктора Ротшильда)
Музыканты
Джон Олтмен
Джимми Кобб
Джон Дэнкворт
Фэб Файв Фредди
Джоэль Форрестер
Кертис Фуллер
Бенни Голсон
Фредди Грубер
Чико Гамильтон
Херби Хэнкок
Рой Хейнс
Эдди Хендерсон
Расc Хендерсон
Джон Хендрикс
Джулс Холланд
Пол Джеффри
Куинси Джонс
Хамфри Литтлтон
Мэрион МакПартленд
Тут Монк
Кэлвин Ньюборн
Бен Райли
Сонни Роллинз
Сидар Уолтон
Батч Уоррен
Продюсеры
Джин Бах
Майкл Блэквуд
Клинт Иствуд
Ахмет Эртеган
Айра Джитлер
Оррин Кипньюс
Брюс Рикер
Джордж Вейн
Шарлотта Зверин
Критики, историки, писатели
Амири Барака
Стэнли Крауч
Гэри Гиддинс
Нат Хентофф
Дэвид Кэстин
Робин Келли
Джимми Мортон
Дэн Моргенштерн
Тед Пэнкин
Росс Рассел
Фил Шепп
Кит Шедуик
Пиппа Шерли
Ричард Уильямс
Вэл Уилмер
Другие
Гарри Коломби
Миссис Гаттеридж
Фиба Джейкобе
Роберт Крафт
Виктор Метц
Гейден Робинсон
Фрэнк Ричардсон
Фильмография
Джаз
Квартет Телониуса Монка, Jazz 625 (ВВС, 1965)
Квартет Телониуса Монка, Jazz 625 (ВВС, 1966)
Монк в Осло (реж. Харальд Хейде-Стин Младший, 1966)
Монк (реж. Майкл Блэквуд, 1968)
Монк в Европе (реж. Майкл Блэквуд, 1968)
Монк в Берлине (1973)
Телониус Монк:
Иконы джаза: концерт Телониуса Монка, 1966 (TdK, 2006)
Мэтры американской музыки: Телониус Монк – американский композитор (реж. Мэтью Сиг, 2009)
Фортепианное соло в Берлине, 69 (DVD Jazz Shots, 2010)
Мэтры американской музыки: Телониус Монк – американский композитор (реж. Мэтью Сиг, 2010)
Голос джаза, Seven Lively Arts (CBS, 1957)
Ястреб в «Таун Холл», Jazz 625 (ВВС, 1964)
Концерт Дюка Эллингтона Jazz 625 (ВВС, 1965)
Эллингтон в Европе (ВВС, 1965)
Эллингтон в Европе 2 (ВВС, 1965)
Тедди Уилсон, Jazz at the Philharmonic (BBC, 1967)
Квинтет Майлза Дэвиса, Jazz Scene at Ronnie Scott's (BBC, 1969)
Джонни Дэнкворт, Jazz Scene at Ronnie Scott's (BBC, 1969)
Джаз из Монтрё (ВВС, 1977)
Последний из «Синих Дьяволов»: джазовые истории Канзас-Сити (реж. Брюс Рикер, 1979)
Давай заблудимся (реж. Брюс Вебер, 1988)
Вселенная Слима Гайяра (реж. Энтони Уолл, 1988)
Диззи Гиллеспи, Jazz 625 (ВВС, восстановленная запись 1990)
Джаз (реж. Кен Бёрн, 2000)
Норман Гранц представляет: Импровизации, Чарли Паркер, Элла Фитцджеральд и остальные (DVD Eagle Rock, 2007)
Семья Ротшильд
Дом Ротшильдов (реж. Альфред Л. Веркер, 1934)
Ротшильды: курсом на Ватерлоо (реж. Эрих Васчнек, 1940)
Дебютанты, Tonight (BBC, 1962)
Ротшильд и его золото (ВВС, 1974)
Дэвид Димблеби беседует с Мириам Ротшильд (ВВС, 1982)
Лорд Ротшильд, The Levin Interviews (ВВС, 1984)
Мириам Ротшильд, Women of Our Centure (ВВС,?)
Вдохновитель (ВВС, 21 мая 1989)
Современная история
Панорама 161: курс Карнеги (ВВС)
Самые долгие романы: Марджори Прупс, One Pair of Eyes (ВВС)
Южная Калифорния: неравенство в образовании (National Records and Records Adminictration, 1936)
Мир в войне (FDR Presidential Library, 1942)
Солдаты-негры (National Records and Records Adminictration, 1945)
Плантационная система в жизни Юга (Coronet Instructional Films, 1950)
Истории домашней экономики (Iowa State Teachers' College, 1951)
Наши города будут сражаться (US Federal Civil Defense Administration, 1951)
Третья авеню (Карсон Дэвидсон, 1955)
Динамичные американские города (Chamber of Commerce of the United States, 1956)
Палмор-стрит (Georgia Department of Public Health, 1957)
Глаза в глаза: от Лондона до Нью-Йорка, A tale of Two Cities (ВВС, 1957)
В пригородах (Redbook Magazine, 1957)
Шоу черных и белых менестрелей (ВВС, 28 января 1961)
Кое-кто из моих друзей – белые, Man Alive (ВВС, 1975)
Дружеское вторжение, части 1–3, Omnibus (ВВС, 1975)
Британия тридцатых (ВВС, 1983)
Избранные фильмы, в которых звучит музыка Телониуса Монка
Джаз летним днем (реж. Арам Авакян и Берт Стерн, 1959)
Опасные связи (реж. Роже Вадим, 1959)
Головы (реж. Питер Гидэл, 1969)
Возвращение (реж. Питер Холл, 1973)
Ленни (реж. Боб Фосс, 1974)
Месть марсельца (реж. Роберт Пэрриш, 1974)
Квинтет Свена Клангса (реж. Стеллан Ольссон, 1976)
Около полуночи (реж. Бернар Тавернье, 1986)
Великий день в Гарлеме (реж. Джин Бах, 1994)
Примечания
1
Фильм о джазовой легенде, саксофонисте Чарли Паркере по прозвищу Птица (примеч. перев).
(обратно)2
Дочь Чарлза, моя двоюродная бабушка Мириам, имела обыкновение рассылать рождественские открытки с ошеломляющей радугой цветов и с наслаждением исправляла заблуждение тех, кто принимал это изображение за неизвестную картину какого-нибудь знаменитого импрессиониста. «Нет, это репродуктивный орган бабочки под мощным увеличительным стеклом», – насмешливо просвещала она государей и государственных деятелей (примеч. авт.).
(обратно)3
Детали этого эпизода, к сожалению, отсутствуют (примеч. авт.).
(обратно)4
Эрик де Ротшильд поныне отказывается убрать из шато ряд душевых кабинок, установленных для немецких офицеров, – пусть стоят как памятник (примеч. авт.).
(обратно)5
Эти слова принадлежат хозяйке усадьбы Уэддесдон, писательнице, филантропу, неутомимой благотворительнице, супруге Джеймса де Ротшильда (примеч. авт.).
(обратно)6
В документах фельдмаршала Кейтеля, командующего германскими вооруженными силами, и Альфреда Розенберга, непосредственно отвечавшего за конфискацию (примеч. авт.).
(обратно)7
Позднее замок был переименован, и ныне в «Гранд Вилле» находится норвежский музей Холокоста (примеч. авт.).
(обратно)8
Мэри Онслоу, дочь военного атташе британского посольства в Осло (примеч. авт.).
(обратно)9
Существует множество убедительных доказательств происхождения джаза из Африки. В этой музыке сохраняется форма «призыва и ответа», характерная для африканской традиции и речевых структур, используется африканский пентатонный звукоряд (примеч. авт.).
(обратно)10
«Бердленд», знаменитый джаз-клуб на Бродвее, открыт в 1949 году и назван в честь Чарли Паркера, чье прозвище – «Птица», «Берд» (примеч. перев).
(обратно)11
С момента введения сухого закона и до 1967 года для выступления в клубах и кабаре Нью-Йорка требовалась особая лицензия, которая могла быть отозвана за неподобающее поведение или внешний вид и в особенности за пьянство и употребление наркотиков (примеч. перев).
(обратно)12
До 1948 года пластинки делали из хрупкой смеси шеллака, ламповой сажи и известняка, с примесями золота, стекла, меди, воска, никеля, иногда хрома. Опытные мастера специальными станками наносили хранящие звук борозды. Процесс был настолько сложен, что более половины пластинок уходило в брак. В помещениях студии поддерживали высокую температуру, чтобы воск не застыл. Мастера, глядя в микроскоп, наносили от 88 до 136 борозд на каждый дюйм радиуса, а затем покрывали эти борозды тончайшим слоем двадцатичетырехкаратного золота (примеч. перев).
(обратно)13
Лорейн сперва состояла в браке с одним из основателей студии звукозаписи «Блю Ноутс» Альфредом Лайоном, а затем вышла замуж за Макса Гордона и с ним вместе заправляла легендарным клубом «Виллидж Вангард» (примеч. перев).
(обратно)14
Джанка никогда не рассказывала о том вечере, ее не упоминали в связи с этой историей, и она не фигурирует в фильме «Неразбавленный виски» (примеч. авт.).
(обратно)15
Эл Тимоти, еще один гипотетический любовник Ники, приехал из Лондона в Нью-Йорк в поисках работы. Ника выручала его, но никаких доказательств их близости в ту пору не существует (примеч. авт.).
(обратно)16
Перевод с испанского М. Былинкиной (примеч. ред.).
(обратно)17
Письмо она сохранила и отправила Мэри Лу уже в восьмидесятые годы «просто так» (примеч. авт.).
(обратно)18
Это мнение разделяет Лесли Курс, один из биографов Монка (примеч. авт.).
(обратно)


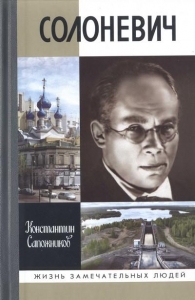
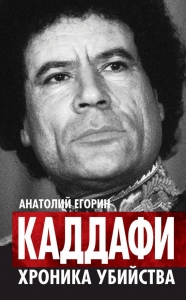


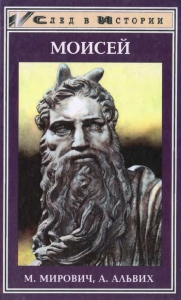


Комментарии к книге «Баронесса. В поисках Ники, мятежницы из рода Ротшильдов», Ханна Ротшильд
Всего 0 комментариев