Ивлин Во И побольше флагов
Evelyn Waugh
PUT OUT MORE FLAGS
© Evelyn Waugh, 1942
© Перевод. Е.В. Осенева, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Рэндольфу Черчиллю
Предисловие
Это единственная книга, написанная мной исключительно для удовольствия. Что, если и не улучшило ее качество, позволяет мне теперь с теплым чувством вспоминать время и счастливые обстоятельства ее создания… Стояло лето 1941 года. В течение двух лет я, находясь в армии, был полностью лишен возможности писать. Но после падения Крита десантно-диверсионные части на Среднем Востоке были расформированы, и офицеры, как и рядовые, возвращались в свои полки. Я очутился на комфортабельном лайнере, трюм которого был набит пленными итальянцами и который шел домой в Соединенное Королевство долгим кружным путем через Кейп-Код – опасность атак со стороны противника заставляла идти курсом на запад. Я возвращался к жене и детям, наслаждаясь комфортом и досугом. Необременительные обязанности мои были малочисленны, в моем распоряжении имелась большая каюта со столом и украшенными армейской символикой письменными принадлежностями. Я писал весь день, с утра до вечера, и за один месяц закончил эту книгу.
В ней ожили и действуют персонажи романов, созданных мной в предыдущее десятилетие. Мне не терпелось узнать, что с ними сталось за годы, прошедшие с нашего первого знакомства, и я принялся это выяснять без какого-либо предварительного плана, не зная, что с ними случится на следующей странице.
Могу добавить, что личного опыта знакомства с деятельностью Министерства информации я не имел и, рисуя этот шарж, опирался на слухи и сплетни. В первые недели войны, когда я был призван, меня сильно мучили так называемые evacuees[1].
И.В.Ком-Флори, 1966Мужу, захмелевшему на прощальном пиру, пристало ударить по струнам, дабы подбодрить дух свой, но если муж сей – воин, то пусть испросит он еще вина и побольше флагов, дабы ознаменована была его воинская доблесть.
Китайская мудрость, приводится Лин Ютанем в книге «Важность жизни»Сердце, уязвленное малой обидой, топит печаль в вине, но если обида велика, печаль от нее утолит лишь меч.
Из изречений Чжан Чао, приводится Лин Ютанем в книге «Важность жизни»Часть первая. Осень
Глава 1
Всю неделю перед тем, как разразилась Вторая мировая война, в это полное предчувствий, догадок и опасений время, которое лишь в насмешку может именоваться последними мирными днями, и в то воскресное утро, когда все сомнения, наконец, рассеялись, а ложные умозаключения были выправлены и обрели новый вид, мысли трех состоятельных дам в основном и в первую очередь устремлялись к Бэзилу Силу. Тремя упомянутыми дамами были его сестра, его мать и его любовница.
Барбара Сотхил находилась в Мэлфри. Еще недавно о брате она вспоминала лишь от случая к случаю, но в это историческое октябрьское утро, когда она пешком направлялась в деревню, главнейшей из одолевавших ее тревог был он.
Они с Фредди только что прослушали радиообращение премьер-министра. «Наша борьба, – сказал он, – это борьба со злом», – и выходя из дома, в котором провела почти весь восьмилетний срок своей супружеской жизни, Барбара чувствовала себя так, словно бросили вызов и угрожают лично ей, словно ясное осеннее небо затмили полчища стервятников и тени их уже вторглись на залитые солнцем лужайки.
Было что-то сладостно-женственное в красоте Мэлфри. Если другие порядочные усадьбы хранили девственную скромность или же отличались мужественной внушительностью облика, то Мэлфри ничего не таила от мироздания: построенная более двух столетий назад, в дни побед и горделивой пышности, она вольно раскинулась – легкая, роскошная, откровенно манящая и беззащитная в своей соблазнительности, эдакая Клеопатра среди усадеб. А за морем, как это представлялось Барбаре, злобный завистник-пигмей вылез из-под темной ели и жалким умишком своим додумался, как сровнять с землей ее дом. А ведь это из-за Мэлфри она полюбила своего прозаичного и немного нелепого мужа, из-за Мэлфри в том числе рассталась с Бэзилом и с тем в себе, чему в состоянии особой атрофии чувств – болезни лишь удачных браков – она позволила истощиться и умереть.
Идти в деревню предстояло пешком – полмили по липовой аллее, пешком, потому что, уже садясь в машину, Барбара услышала, как Фредди бросил ей: «Для столь коротких маршрутов сейчас бензина нет».
Фредди был в военной форме, и десятилетней давности брюки ему явно жали. Накануне он явился в местный добровольческий штаб и был на два дня отпущен домой для сбора амуниции, которую за два года, прошедшие со времени его последних лагерных учений, как только не трепали во всевозможных шарадах и на пикниках и которая была теперь разбросана где ни попадя по всему дому, оказываясь подчас в местах самых невероятных. Особенно много волнений вызвал пистолет. Искать последний Фредди заставлял всех и каждого. Он метался, сокрушенно бормоча: «Все это, конечно, прекрасно, но угодить под трибунал за него не хотелось бы», – до тех пор, пока младшая нянька не отрыла в шкафу для игрушек это грозное оружие. Сейчас Барбара шла к начальнику бойскаутского отряда, смутно припоминая, что бинокль, кажется, одолжила ему.
Липовая аллея вела прямиком в деревню. Затейливая кованая решетка парковых ворот на каменных рустиковой кладки столбах и два флигеля образовывали одну из сторон зеленого деревенского пятачка. На противоположной стороне располагались церковь, две гостиницы по бокам от нее, приходской дом, магазин и ряд сереньких коттеджей. Поросший травой прямоугольник в центре венчали три толстых каштана. Место это по праву, хотя и не сразу, признано было живописным, а с недавних пор стало, пожалуй, даже излишне привлекать к себе людей – правда, от экскурсантов Бог миловал: благодаря авторитету Фредди у местных властей экскурсионные автобусы здесь не останавливались; рейсовый же автобус на пятачке останавливался трижды в день всю неделю и четырежды по вторникам, когда в соседском городке бывала ярмарка. Для удобства пассажиров Фредди установил в том году под каштанами дубовую скамью.
И именно тут внимание Барбары зацепило необычное зрелище: шесть женщин сидели рядком, не спуская глаз с закрытых дверей «Герба Сотхилов». Поначалу Барбара была озадачена, но тут же поняла, в чем дело. Это были приезжие из Бирмингема. Пятьдесят семейств прибыли в Мэлфри поздно вечером в пятницу – мучимые жарой и жаждой, растерянные, сердитые после дня, проведенного в поезде или автобусе, матери с детьми. Барбара отобрала себе пять самых несчастных семейств, остальных же устроила в деревне или распределила по фермам.
На следующий же день старшая горничная, вымуштрованная еще старой миссис Сотхил, объявила, что уходит.
– Не представляю, как мы станем без вас обходиться, – сказала Барбара.
– Это все мои ноги, мадам. Не по силам мне эта работа. Раньше я как-то справлялась, но теперь, когда в доме столько детей…
– Вы должны понимать, что нельзя ожидать легкой жизни в военное время. Надо быть готовыми к жертвам. Это наш боевой вклад.
Но женщина проявила стойкость.
– У меня в Бристоле сестра замужняя, а муж у нее был в запасе. Так сейчас его призвали, и я должна ехать туда, чтобы ей помочь.
Спустя час к Барбаре заявились остальные три служанки. Лица их были суровы.
– Эдит и я с Олив всё обсудили и решили уволиться, чтобы делать аэропланы. Говорят, у Брейкмора набирают для этого девушек.
– Вы скоро убедитесь, что работа эта крайне тяжелая.
– О, работы мы не боимся. Но эти бирмингемки… Во что они превращают дом!
– Им поначалу все у нас непривычно. Надо постараться им помочь. Как только они устроятся, пообвыкнут…
Но, произнося всё это, она понимала, что даром тратит слова.
– Говорят, у Брейкмора требуются девушки, – твердили служанки.
Работавшая на кухне миссис Элфинстоун осталась верна своим хозяевам.
– Но за девочек я отвечать не могу, – сказала она. – Они, кажется, считают, что война – это повод всласть повеселиться.
Да, но всеми этими дополнительными обедами-ужинами занимается не миссис Элфинстоун, подумала Барбара. Лишняя нагрузка падает на плечи ее помощниц.
Бенсон сохранил здравомыслие. Присутствие бирмингемок хлопот ему не доставляло. Джеймс же через неделю-другую отправлялся в армию. Зима нам предстоит нелегкая, думала Барбара.
Притулившиеся на скамье женщины к гостьям Барбары не принадлежали. Но на их лицах она прочла то же выражение тревоги и вызова. Движимая более чувством долга, нежели рассудительностью, Барбара приблизилась к группе и осведомилась, удобно ли они устроились. Обратилась она ко всем сразу, и каждая из женщин, постеснявшись ответить, хмуро устремила взгляд в сторону гостиницы. О Господи, мелькнула догадка у Барбары, они, должно быть, думают, какое мне дело…
– Я вон там живу, – сказала она, указывая в сторону ворот. – Я вас размещала.
– А-а, так это вы, – откликнулась одна из мамаш. – Тогда, может, вы скажете, надолго ли мы здесь?
– Вот именно! – поддакнула другая.
– По-моему, об этом пока никто толком не задумывался. Главной заботой было вывезти вас сюда.
– Это противозаконно, – заявила первая мамаша. – Нельзя держать нас здесь насильно.
– Вы же не хотите, чтобы ваши дети погибли под бомбами, не правда ли?
– Мы не хотим оставаться там, где нам не рады.
– Но вам рады, рады!
– Да, рады… Как кишечной колике…
– Вот именно!
Еще несколько минут Барбара продолжала увещевать беженок, пока не почувствовала, что преуспела лишь в том, что ненависть, которой вполне заслуживал Гитлер, теперь перенаправлена на нее. Тогда она продолжила свой путь к скаутскому начальнику, но прежде чем забрать у него бинокль, вынуждена была выслушать рассказ о помещенной к нему в дом школьной учительнице из Бирмингема, которая, видите ли, не желает мыть посуду.
На обратном пути, проходя мимо бирмингемок, она заметила, что те отводят взгляды.
– Надеюсь, что хоть детям вашим тут у нас хорошо, – сказала она, решив, что не станет оскорбляться, находясь на собственной территории.
– Они в школе. Учительница развлекает их играми.
– Если кто-нибудь из вас захочет погулять в парке, милости просим. Он всегда открыт.
– Там, откуда мы, тоже есть парк. С оркестром по воскресеньям.
– Ну, боюсь, что оркестра я вам обещать не могу, но парк наш считается довольно красивым, особенно у озера… Сводите туда детей, если будет охота…
Когда Барбара отошла, главная из мамаш сказала:
– Что это она? Инспекторша какая-то, а ведет себя, ну, прямо, фу-ты ну-ты… В парк приглашает… Словно она тут полная хозяйка!
Вскоре гостиничные бары распахнули двери, и пораженные обитатели деревни стали свидетелями того, как собравшиеся из усадьбы, коттеджей и с фермы мамаши вереницей потянулись к барным стойкам.
Второй завтрак положил конец сомнениям. Едва выйдя из-за стола, Фредди поднялся наверх и переоделся в штатское. «Думаю попросить горничную приготовить мне платье посвободнее», – сказал он своим особым, предназначенным для шуток тоном. За восемь счастливых лет, проведенных в обществе мужа, Барбара научилась распознавать его шутки.
Фредди был плотным, мужественным, рано облысевшим и на вид жизнерадостным; на самом деле это был мизантроп, наделенный острым и изворотливым инстинктом самосохранения, который солидные люди нередко почитают за мудрость. Свойственная ему лень уравновешивалась характером, достаточно тяжелым, чтобы внушать окружающим уважение. Большинство заблуждалось на его счет, лишь жена и родственники жены знали правду.
Лицо его принимало особое выражение не только когда он шутил. Он имел в запасе еще одно, появлявшееся, когда речь заходила о его шурине Бэзиле. Это выражение должно было обозначать надменное неодобрение, умеряемое лишь уважением к стойкой верности Барбары, но на деле в нем читалась лишь угрюмая виноватость. Отпрыски Силов по причине, не совсем ясной всему остальному миру, этот остальной мир всегда глубоко презирали. Со своей стороны Фредди недолюбливал Тони, считая его спесивым и изнеженным, однако был готов признать за ним и ряд положительных свойств, ибо не подлежало сомнению, что перед Тони открывалась блестящая дипломатическая карьера. Придет время, и все они станут гордиться Тони. Но вот Бэзил, тот с самых ранних лет служил для всего семейства постоянным источником конфуза, средоточием вечных упреков. Фредди не прочь был даже на свой лад приветить эту заблудшую овцу, парию, одного из тех, «о ком не принято говорить», и даже великодушно протянуть ему разок-другой руку помощи, конечно, тайно, неведомо для всех, кроме Барбары, постараться увидеть в нем больше доброго, чем видят остальные. Такой родственник мог бы даже подбросить лишнюю гирьку на весы Фредди, добавив ему толику самоуважения. Но, как это выяснилось, едва Фредди узнал Силов поближе, оставаясь парией и одним из тех, «о ком не принято говорить», Бэзил служил темой чуть ли не половины всех семейных пересудов. Так, в период знакомства с ними Силы с жаром обсуждали очередное вопиющее преступление Бэзила, однако, презирая, как всегда, мнение окружающих, не теряли надежды на уготованный ему в самом недалеком будущем блистательный успех. Бэзил же судил Фредди строго и без всякой жалости, глядя на него с выражением, которое Фредди часто ловил на лице Барбары в дни своего жениховства и в первое время их брака. Потому что между Бэзилом и Барбарой существовало смущающее сходство: она тоже была farouche[2] в более мягком, но разящем наповал обличье, а прелесть, от которой у Фредди перехватывало дыхание, в более грубой и дерзкой форме порой проглядывала и в Бэзиле. Материнство и мирное великолепие Мэлфри изменили Барбару, в ней теперь крайне редко пробуждался и подымал голову дикий зверек, но он таился в ней, и Фредди знал об этом. Время от времени зверек вылезал наружу, и после долгого и ровного пути на каком-нибудь крутом повороте Фредди замечал пару горящих глаз, которые следили за ним, точно за врагом.
Сама Барбара не тешила себя иллюзиями относительно Бэзила. Годы разочарований убедили ее в том, что Бэзил никуда не годится. В детстве они вместе играли в пиратов, но игра окончена, а Бэзил все играет, теперь в одиночку. От своей веры в него она отстранилась чуть ли не публично, но все же, как это бывает с иными культами, когда все мифы уже развеяны, источники веры осквернены и мутны, а культ все живет и живет веками, в душе Барбары, в самой ее глубине, сохранилось это детское почитание брата – маленький, едва различимый пережиток въевшегося в кровь суеверия, и в это утро, когда весь ее мир, казалось, зашатался, душой она устремилась назад, к Бэзилу, как если бы современный город вдруг поразило землетрясение, тротуары разверзлись, водостоки вздыбились, небоскребы задрожали и рухнули, и мужчины в котелках и элегантных, купленных в магазинах готового платья костюмах, выросшие в семьях, где ученость и рационализм передаются из поколения в поколение, внезапно обратились к верованиям в лесных духов, колдовским обрядам и стали бы скрещивать пальцы в надежде отвести от себя град из камней и кусков бетона.
Трижды на протяжении завтрака Барбара заводила речь о Бэзиле, и теперь, прогуливаясь под ручку с мужем по террасе, заметила:
– Мне кажется, этого-то он и ждал всю жизнь.
– Кто ждал и чего?
– Бэзил. Войны.
– А-а… Ну, по-моему, все мы в известном смысле… С садами беда. Полагаю, нескольких человек нам удастся отстоять, освободив от призыва на том основании, что они заняты в сельском хозяйстве, но это капля в море.
Это был последний день Фредди в Мэлфри, и он не желал портить его разговорами о Бэзиле. Правда, лагерь их находился всего в нескольких милях от дома и, вероятнее всего, оставаться им там предстояло долгое время, не так давно их стали механизировать, в том смысле, что лошадей упразднили, а танк из призывников мало кто видел. В ближайшие месяцы Фредди планировал наезжать домой и вообще намеревался пострелять фазанов, но хотя о расставании пока говорить не приходилось, он чувствовал, что вправе рассчитывать на бо́льшую нежность со стороны жены, чем та, что проявляла сейчас Барбара.
– Не будь сволочью, Фредди. – И Барбара резким движением пнула мужа в щиколотку, так как еще в первые годы уяснила, что Фредди нравится, когда она ругается и даже может пнуть или дать тумака, когда никто не видит. – Ты отлично понимаешь, что я имею в виду. Бэзилу требуется война. Не для мирной жизни он создан.
– В общем, это так. Странно только, что он не в тюрьме. Принадлежи он к другому общественному классу, он бы так легко не отделался.
Внезапно Барбара фыркнула:
– Помнишь, как он прихватил мамины изумруды, отправляясь в южноафриканскую Азанию? Но, уверяю тебя, на нашей войне он бы себе такого не позволил. Он вечно лез в горячие точки.
– Если горячая точка это попивать джин в Ла-Пасе, наблюдая, как генералы дерутся друг с другом.
– Ну а Испания?
– Занимался там журналистикой и контрабандой оружия.
– Да, он всегда был солдат manqué[3].
– Не очень-то он и хотел состояться как солдат! А еще издевался над нашими сборами йоменских и территориальных войск.
– Ох, уж эти ваши сборы! Можно подумать, что ты пропадал на них!
– Если бы было побольше таких, как мы, и поменьше таких, как Бэзил, войны и вовсе бы не случилось. Когда видишь людей вроде Бэзила, начинаешь понимать Риббентропа, считающего, что мы прогнили. И не думаю, что Бэзилу в армии найдется применение. Ему тридцать шесть лет. Ну, может, что-нибудь связанное с цензурой. Он, кажется, знает много языков…
– Вот увидишь, – сказала Барбара, – Бэзил успеет вернуться, вся грудь в медалях, пока ты со своими идиотскими йоменскими добровольцами будешь еще болтаться в Траст-Хаусе в ожидании танков!
На озере были утки, и Барбара позволила Фредди пуститься в рассуждения на этот счет. Она вела мужа по его любимым тропкам к павильону в готическом стиле, где по давней привычке Фредди часто настраивался на романтический лад. Что и произошло. А она все думала о Бэзиле, представляя его в ситуациях, вычитанных из книг о войне, сопоставляла его с теми, кто в ней участвовал. Она видела его Зигфридом Сассуном[4] – вот он в болотистой окопной жиже встречает рассвет, глядя на часы в ожидании атаки. Она видела его Комптоном Макензи[5], как паук, плетущим нити Балканского заговора, среди олив и мраморных статуй подрывающим устои монархии. Она видела его Лоуренсом Аравийским и Рупертом Бруком[6].
Фредди, умиротворенный, обратился к теме развлечений. «Конечно, к началу сезона я друзей на охоту пригласить не смогу, – рассуждал он. – Но поближе к Рождеству не вижу причины отказать кому-нибудь из полка в удовольствии пострелять вальдшнепов».
Глава 2
Леди Сил оставалась в своем лондонском доме. К воздушным налетам она подготовилась не так тщательно, как большинство ее друзей. Ее маленький Карпаччо был отослан и надежно упрятан в Мэлфри, миниатюры и лиможские эмали находились в банке, севрский фарфор запакован в ящики и отправлен в подпол. Прочее же все осталось на своих местах в гостиной. Старинные тяжелые шторы вполне заменяли неприглядную черную бумагу на окнах, чтобы можно было включать свет.
Сейчас выходящие на балкон окна были открыты. Леди Сил сидела в элегантном кресле розового дерева и любовалась видом на площадь. Только что она выслушала речь премьер-министра. Из глубины комнаты возник и приблизился к ней ее дворецкий.
– Убрать радио, миледи?
– Да, разумеется. Он хорошо говорил. На самом деле, очень, очень, хорошо.
– Как это печально, миледи.
– Печально для немцев, Андерсон.
И это чистая правда, думала леди Сил. Невилл Чемберлен говорил на удивление хорошо.
Он никогда ей не нравился – ни он, ни его брат, который, если выбирать, все-таки лучше, но оба они до неловкости нудные ребята. Однако в это утро речь премьер-министра была выше всяких похвал, словно он наконец-то осознал всю меру своей ответственности. Она пригласит его на завтрак. Хотя, возможно, он будет занят; помнится, в военное время кто только не ссылается на занятость. Мысли леди Сил перенеслись в прошлое, к другой войне, которая до этого утра именовалась Большой войной. Из самых близких ей людей никто не воевал: Кристофер был слишком стар, а Тони – слишком молод. Ее брат Эдвард начинал службу младшим бригадным генералом; в колледже, готовящем штабных офицеров, его на руках носили, а вот карьера у него непонятным образом не задалась. В 1918 году в Дар-эс-Саламе он был по прежнему младшим бригадным генералом. Невеселым временем была та война: многие из ее друзей облачились в траур, и Кристофера так огорчала коалиция. Сколько горечи все они испытали, признав Ллойд Джорджа, но Кристофер как патриот принес эту жертву – наверно, только она одна знала, чего это ему стоило. Тяжелее всего пришлось после перемирия – звание пэра продавалось, как картошка, условия договора оказались ошибкой. Кристофер всегда говорил, что в перспективе они еще заплатят за это.
Над Лондоном разнесся отвратительный, все еще непривычный вой сирен воздушной тревоги.
– Тревога, миледи.
– Да, Андерсон, я слышала.
– Вы спуститесь вниз?
– Нет. Пока во всяком случае. Проследите, чтобы вся прислуга спустилась и чтобы люди не особенно волновались.
– Вам понадобится ваш противогаз, миледи?
– Нет, не думаю. Из того, что говорил мне сэр Джозеф, я заключила, что опасность газовой атаки минимальная. Смею предположить, что тревога эта учебная. Оставьте его на столе.
– Это все, миледи?
– И постарайтесь успокоить девушек.
Леди Сил вышла на балкон и, посмотрев вверх, оглядела чистое небо. Попробуй они только атаковать нас и получат то, на что явно не рассчитывали, подумала она. Пора проучить этого человека. Одни неприятности от него все эти годы. Задумчивая, она вернулась к своему креслу. И уж по крайней мере поклонницей этого вульгарного Риббентропа она никогда не была. И на порог к себе не пускала, даже когда эта гусыня Эмма Гранчестер нам всем плешь проела, умоляя быть с ним поласковее. То-то сидит теперь в дурах!
Леди Сил хладнокровно ждала начала бомбовых ударов. Андерсону она сказала, что тревога, вероятно, учебная, но сказано это было для слуг – иначе они могли бы запаниковать – не Андерсон, конечно, а девушки. Но в глубине души леди Сил была уверена, что бомбы вот-вот посыплются. В этом все немцы: вечно пыжатся и надувают щеки, пускают пыль в глаза, делая вид, что они лучше всех. История, которую леди Сил изучала в школьные годы, была проста и сводилась к рассказу о стойкости добра в борьбе с превосходящими его силами зла, и отзвуки славных боевых побед ее страны еще звенели музыкой в ушах – Креси, Азенкур, Кадис, Бленхейм, Гибралтар, Инкерман, Ипр. Англия вела многочисленные и разнообразные войны с противником самым разнообразным, вступала в те или иные союзы, воевала по причинам иной раз самым темным и непонятным, но всегда действия ее были справедливы, рыцарски доблестны и крайне успешны. Нередко, будучи в Париже, леди Сил преисполнялась гордостью за то, что в ее народе так никогда и не привился обычай называть улицы в память о военных подвигах. Оставим эту привычку французам, чьи победы недолговечны и имеют значение лишь узкоспециальное, но использовать великие свидетельства священной правоты и справедливости, проставляя их на почтовых конвертах, украшая ими вывески шляпниц и педикюрш, было бы позором и низостью, до которой не додумались даже радикалы.
Подобно живым картинам на благотворительном балу, в ней ожили надписи, выгравированные на стальных табличках в ее классной комнате: «Сидни при Зютфене», «Вулф при Квебеке», «Нельсон при Трафальгаре». (Только Веллингтон не удостоился места на этом празднестве: на него наехал Блюхер, оттолкнув, вылез вперед с типичной прусской наглостью, чтоб урвать от плодов победы, завоеванной не им!) И к этому гордому списку имен (мешавшихся в сознании леди Сил с сонмом тех воплощений богатства и респектабельности, что представлены на Сквадрон-Лоун в Коусе и толкутся со своими первостепенной важности замыслами по всем приемным, холлам и бильярдным) присоединилось в это утро новое имя – лица, дотоле здесь вряд ли уместного, – Бэзила Сила.
Ущерб, нанесенный ей последней войной, был невелик, можно сказать, никакого ущерба она не потерпела, если не считать потерями солидные иностранные вложения и репутацию ее брата Эдварда как стратега. Но вот теперь ей есть что принести на алтарь отечества – сына. У Тони слабое сердце и замечательная карьера, Фредди ей не кровный родственник, и склад характера у него не героический. А вот Бэзил, ее непутевый, так некрасиво, так грубо заставлявший мать разочаровываться, Бэзил, кого непостижная склонность к дурному обществу так часто за последние десять лет приводила к досадным ссорам и потасовкам, чья веселая жизнь так не соответствовала тому, что понимал под веселой жизнью его дядя Эдвард; Бэзил, похитивший ее изумруды и сделавший миссис Лайн столь печально знаменитой, Бэзил с его особенностями характера, поглощенными теперь зрелым английским мужеством, наконец-то вспомнил о наследии предков! Надо будет попросить Джо, чтобы подобрал ему полк поприличнее. Наконец, все еще погруженная в размышления, она услышала сигнал отбоя.
Сэр Джозеф Мейнверинг завтракал в тот день с леди Сил согласно договоренности, достигнутой заранее на предыдущей неделе, когда ни он, ни она не знали, что выбранный ими день войдет в календари всего мира и останется там до скончания времен. Прибыл он к назначенному часу, прибыл точно, как всегда, как в каждую их встречу, которых за долгие годы их дружбы было не сосчитать.
Сэр Джозеф не слыл усердным богомольцем и церковь посещал, лишь когда гостил в каком-нибудь из тех редкостных и в высшей степени достойных домов, где подобная практика еще существовала. Однако в это воскресенье он испытывал состояние, которое без преувеличения можно было бы характеризовать как родственное трепетному религиозному экстазу. Назвать это очищением не подымется рука, но, безусловно, события этого утра несли в себе нечто очистительное, и во всей повадке сэра Джозефа и поступи его заметна была необычная живость, словно, хлебнув винца на дружеской пирушке, он ощутил себя лет на десять моложе.
Леди Сил питала глубокую личную привязанность к старому дуралею – чувство, подобное которому не вызывал никто другой из многочисленных ее друзей. Она во всем полагалась на него с доверчивостью непостижимой, хотя и весьма распространенной.
– Будем только мы вдвоем, Джо, – предупредила она, обменявшись с ним приветствиями. – Гранчестеры обещали быть, но ему пришлось поспешить на аудиенцию к королю.
– Так это же просто прекрасно! Да, полагаю, все мы сейчас вновь окажемся страшно заняты. Правда, не знаю пока, чем именно стану заниматься, но это прояснится завтра утром, когда я побываю на Даунинг-стрит. Рискну предположить, что меня назначат кем-то вроде консультанта при Военном министерстве. Приятно вновь чувствовать себя в центре событий, будто перенесся на десять лет вспять. Волнующее время, Синтия… Волнующее время!
– Это одна из причин, по которой я хотела повидаться с Эммой Гранчестер. Придется организовать множество комитетов. В прошлую войну мы занимались бельгийскими беженцами, на этот раз, думаю, это будут польские. Жаль только, что это народ, языка которого мы не знаем.
– Нет, нет, на этот раз никаких бельгийцев! Война будет совсем другой во многих отношениях. Экономическая война на истощение, вот как я это вижу. Кстати, замечу, что и система военных сводок, и убежища – все это у нас уже существовало… Радикалы лишь копируют нас, как по нотам. Надо думать, авианалетов не предвидится, на Лондон во всяком случае. Возможно, они попытаются бомбить морские порты… О, вчера в «Бифштексе» у меня был интересный разговор с Эдди Бесте-Бингемом. У нас в запасе имеется ценнейшая штука, новшество, так называемые СБР[7], это их удержит.
– Дорогой Джо, вы всегда в курсе самых обнадеживающих известий! А что такое СБР?
– Тут для меня нет полной ясности, ведь это военная тайна.
– Бедняжка Барбара принимает в Мэлфри эвакуированных.
– Какая ужасающая новость! Милый сонный Мэлфри… Как представишь себе детей из Бирмингемской школы-интерната в изысканом резном антураже Гринлинга Гиббонса… Что за ерунда, Синтия! Вам известно, что я менее всего склонен делать скоропалительные прогнозы, но думаю, что как аксиому можно принять одно: авианалетов на Лондон не будет. Немцы не посмеют перейти линию Мажино, а случись это, Франция все равно выстоит. Что же касается нас, то немецкие авиабазы расположены слишком далеко, чтобы с них атаковать нашу территорию. Но если это все же произойдет, СБР в два счета очистят от них небо.
– Джо, – сказала леди Сил, когда они, оставшись одни, сидели за кофе. – Я хочу поговорить с вами о Бэзиле.
Как часто за прошедшие двадцать лет слышал сэр Джозеф эти веские слова, произнесенные с самыми различными модуляциями голоса в зависимости от настроения, но всегда и неизменно служащие прелюдией не то чтобы к скуке, а скорее к понижению градуса и содержательности разговора. Лишь во время этих исполненных материнской заботы консультаций Синтия утрачивала статус отличной собеседницы, лишь тогда она, переставая давать и дарить, требовала, как казалось, определенной налоговой платы за сокровища своей дружбы.
При желании сэр Джозеф мог бы вычертить график частоты и накала их бесед на эту тему. На графике этом отобразился бы уверенный подъем, начинавшийся где-то в детской и проходивший через все школьные годы и вплоть до университета, когда сэр Джозеф призывался в качестве аплодирующего свидетеля замечательных плодов раннего развития Бэзила.
В те дни он воспринимал Бэзила таким, каким тот и выглядел, – блестящим и во всех отношениях прекрасным юношей, которому грозит опасность порчи. Затем, к концу второго года пребывания Бэзила в Баллиол-колледже, произошел ряд сейсмических толчков, вызвавших у Синтии Сил либо немое недоумение, либо вспышки горести. Далее разразилась первая катастрофа, а непосредственно за ней умер Кристофер. Начиная с этого времени и в течение пятнадцати лет, линия графика то, ныряя, опускалась вниз, то вздымалась на головокружительную высоту в зависимости от количества совершенных Бэзилом беззаконий, то достигавших предела, то падавших в трясину обыденности; при этом со временем наметилась обнадеживающая тенденция к сокращению количества падений, о чем свидетельствовал тот факт, что вот уже полгода о мальчике ничего слышно не было.
– А-а, – произнес сэр Джозеф. – О Бэзиле… – По выражению лица хозяйки дома он старался угадать, что от него потребуется: проявить критичность, сострадание или рассыпаться в поздравлениях.
– Раньше вы так часто помогали нам.
– Пытался помочь, – сказал сэр Джозеф, тут же воскресив в памяти длинный перечень неудачных попыток повлиять на судьбу Бэзила. – У мальчика столько славных качеств.
– С утра я так воодушевилась, думая о нем. А то в последнее время меня стали терзать сомнения, удастся ли вообще куда-нибудь пристроить Бэзила.
Он ведь такой особенный и ни на кого не похожий. Но эта война, как кажется, снимет с нас груз ответственности. В войне каждому найдется место, каждому, если он мужчина. Непохожесть Бэзила, его индивидуальность – вот в чем всегда была загвоздка. Вы это сами часто повторяли, Джо. А во время войны непохожесть, индивидуальность роли не играют. На фронте все просто мужчины, не так ли?
– Да, – неуверенно подтвердил сэр Джозеф. – Да. Индивидуальности Бэзилу не занимать, это уж точно. Ему ведь уже тридцать пять или тридцать шесть, да? Не многовато ли для новобранца?
– Глупости какие! В прошлую войну и сорокапяти-, и пятидесятилетние шли рядовыми на фронт и воевали ничуть не менее храбро, чем все прочие. Кстати, я хотела попросить вас переговорить с высшими чинами гвардейской пехоты и подобрать полк, наиболее ему…
За эти годы Синтия не раз подступалась к нему с трудновыполнимыми просьбами относительно Бэзила. Но эта просьба, прозвучавшая так легко и как бы вскользь, показалась сэру Джозефу одной из самых неприятных.
Но он был старым верным другом, человеком действия и – более того – тертым, жизнь, посвященная общественному служению, хорошо научила его различным уловкам и способам уходить от выполнения долга. «Конечно, дорогая Синтия, обещать я пока ничего не могу…»
Глава 3
Анджела Лайн возвращалась поездом с юга Франции. Обычно в это время она отправлялась в Венецию, но в этом году, когда только и разговоров было, что об этой нудной международной политике, она застряла в Каннах и оставалась там до последнего и даже позже. Знакомые французы и итальянцы утверждали, что война невозможна, утверждали уверенно до заключения пакта русских с Гитлером и уверенно вдвойне после заключения пакта. Англичане же говорили, что война будет, но не теперь. Одни только американцы чувствовали, что назревало, и знали точно, когда это разразится.
Сейчас она ехала в непривычно некомфортных условиях по бурлящей, сдвинувшейся с места, пришедшей в движение стране, готовой действовать, руководствуясь суровыми заповедями: «Il faut en finir»[8] и «Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts»[9].
Это было утомительное путешествие, поезд опаздывал уже на восемь часов, вагон-ресторан отцепили во время ночной стоянки в Авиньоне. Анджеле пришлось делить двухместное купе со служанкой и считать, что ей еще повезло, так как некоторые из ее знакомых вообще выехать не смогли, – остались ждать, пока дела хоть как-то наладятся и им выпадет случай, потому что пока никакие предварительные заказы, никакое бронирование ничего гарантировать не могли, а французы, похоже, отбросили всякую галантность, засунули ее в долгий ящик и перешли к откровенным выражениям вековечной враждебности.
На столике перед Анджелой стоял стакан воды «виши». Она потягивала из стакана, глядя на проплывавший за окном пейзаж, каждая миля которого говорила о том, что жизнь здесь меняется бесповоротно.
Голод и бессонная ночь делали Анджелу слегка рассеянной, отстраненной, словно уводя прочь от реальности, и ум ее, обычно такой быстрый и упорядоченный, теперь работал как бы в такт движению поезда, который то начинал трястись и качаться, поспешно наращивая скорость, то еле плелся, словно вслепую нащупывая путь от станции к станции.
Проходивший мимо открытой двери купе незнакомец мог беспрепятственно разглядывать Анджелу на предмет ее национальности, прикидывая, кто она такая и кем является в этом мире, и заключить в конце концов, что, должно быть, она американка, приехавшая закупать готовое платье для какого-нибудь модного торгового дома, рассеянность же ее вызвана тревогой за закупленные модели, беспокойством о том, как перенесут они тяготы пути по военным дорогам.
Одета дама в традициях высокой моды, но скорее напоказ, чем для того, чтобы прельщать, и, похоже, ни одна часть ее туалета, ни один предмет, который может содержаться в несессере из свиной кожи над ее головой, не являются выбором мужчины и не предназначены для его глаз. Ее красота была совершенно индивидуальной, Анджела явно не принадлежала к тому типу женщин, что станут гоняться за модной новинкой, желая приобрести ее в те безумные недели, что отделяют первое появление модели от того момента, когда дешевые копии заполняют рынок. Ее личность являлась как отражением, так и отрицанием последовательной череды модных тенденций. И все это было стянуто в ней в тугой узел, с годами становившийся все крепче и все яснее и четче ее характеризовавший.
Задержи любопытный пассажир свой взгляд на ней подольше, что было нетрудно сделать, ничуть не оскорбив ее, погруженную в себя и свои мысли, он был бы остановлен в своих изысканиях, начав изучать ее лицо. Если все, принадлежавшее ей, – вещи, громоздившиеся на верхней полке и вокруг нее, прическа, обувь, ногти, облачком овевавший ее еле ощутимый аромат духов, бутылка «виши» на столике и томик Бальзака в бумажной обложке рядом с бутылкой – красноречиво обозначали то, что сама американка, будь она и вправду, как это казалось, американкой, назвала бы личностью. Но лицо ее молчало. Оно могло быть вытесано из драгоценного камня, такое гладкое, спокойно холодноватое, светски отстраненное от всего человеческого. Незнакомец мог следить за ней милю за милей, как шпион, как любовник или как газетный репортер, что околачивается на улице возле запертого дома и не видит ни проблеска света в щели, не слышит ни шороха, ни шепота, ни движения за опущенными жалюзи фасада; и пропорционально его проницательности, в нем росло бы недоумение, и он проследовал бы дальше по коридору, раздосадованный и сбитый с толку.
Узнай он голые факты биографии этой женщины, на вид столь космополитичной, бесстрастной, пустой и светской, и он мог бы совершенно разувериться в своей способности судить о людях и зарекся бы делать это впредь, ибо Анджела была шотландкой и являлась единственным отпрыском миллионера из Глазго, веселого и жуликоватого, начинавшего как гангстер, а также женой архитектора-дилетанта и матерью крепко сбитого малопривлекательного сына, точной копии, как утверждали, деда, и жизнь ее так кипела в горниле страсти, что о богатой этой наследнице ее друзья отзывались не иначе как с эпитетом «бедная»: бедная Анджела Лайн.
Лишь в одном отношении досужий наблюдатель попал бы в точку: внешностью своей Анджела занималась без оглядки на мужчину. Иногда вспыхивают споры – и популярные газеты подхватывают их, силясь решить этот вопрос – станет ли женщина, оставшись на необитаемом острове, заботиться о том, что ей надеть. Что до Анджелы, то вопрос этот она решила, по крайней мере для себя, бесповоротно и окончательно. Находясь вот уже семь лет на необитаемом острове, она пеклась о своей внешности, делая это занятие единственным хобби, развлечением и отвлечением; это были усилия во имя себя одной, ради результата, получаемого также и только для собственного удовольствия. Она наблюдала за своим отражением, мелькавшим в зеркалах иного, цивилизованного мира, как наблюдает заключенный в темнице за проделками крысы, которую он приручил. (Ее мужу таким развлечением вместо моды служили гроты. Он скупал их по всей Европе, находя то в Южной Германии, то в Неаполе, и с большими трудностями перевозил в Гэмпшир.)
Вот уже семь лет, начиная с двадцати пяти, когда она уже два года как была замужем за своим эстетствующим денди, «бедная Анджела Лайн» любила Бэзила Сила. Это был один из тех романов, который, начавшись легко, как увлекательное приключение, так же легко, как забавный скандал, поначалу воспринятый друзьями, затем застыл и окаменел, словно под взглядом горгоны, приобретя невыносимое постоянство, как если бы насмешливые парни решили преподать всем страшный урок – дескать, вот к чему приводит естественная способность мужчины и женщины проникаться друг другом. Так приклеивают к контейнерам табличку «Осторожно, яд!»; так подчас выставляют в назидание на опасном повороте дороги разбитую вдребезги машину.
И, восприняв подобный урок, даже самый снисходительный отшатнется в ужасе и скажет: «Нет, как хотите, а что-то жалкое есть в этой паре».
Их отношения друзья считали «нездоровыми», понимая под этим малую степень сексуальности, действительно, не игравшую тут главной роли, ибо сексуально Бэзил тяготел к дурочкам, с Анджелой же его связывали совсем другие узы.
Седрик Лайн, бесцельно и безнадежно блуждая в вычурном своем одиночестве, лишь смущенно наблюдал, как растет и мужает его неукротимый отпрыск, и все повторял, что это beguin[10] уж, конечно, долго не продлится, чем проявлял минимальную степень прозорливости, ибо Анджела явно не имела шансов на избавление. Ничто, в отчаянии думала она, не способно разлучить нас, только смерть!
Даже вкус воды «виши» воскрешал в памяти образ Бэзила, и она вспоминала бессчетные за эти семь лет вечера, когда они засиживались допоздна, и он, напиваясь, говорил все яростнее, а она, потягивая воду, ждала момента, когда можно будет нанести удар, сильный и жестокий, прямо под дых его тщеславию, и так до тех пор, пока, совсем опьянев, он не становился недосягаемым для ее выпадов и, заставив ее замолчать, в конце концов, по-дурацки не ретировался.
Поезд тащился теперь со скоростью пешехода, и она отвернулась к окошку, за которым вереницей двигались грузовики с солдатами. Il faut en finir. Nous gagnerons parce que nous sommes les plus fort. Крутые ребята, эти французы. Позапрошлым вечером в Каннах один американец вспоминал, как в последнюю войну были расстреляны взбунтовавшиеся французские полки. «Жаль, что нет у них теперь командиров, равных старине Петену, чтобы возглавить борьбу», – сказал он.
Вилла в Каннах теперь заперта, ключ Анджела отдала садовнику. Может быть, вернуться туда ей уже не суждено. В этом году вилла вспоминалась лишь как место, где она так долго и тщетно ждала Бэзила. Он прислал телеграмму: «Международная обстановка исключает увеселительные вояжи». Она послала ему денег на дорогу. Ответа не последовало. Садовник найдет, что делать с овощами. Крутые ребята… И почему считается хорошо быть крутым, недоумевала Анджела. Сама она яйца вкрутую терпеть не могла, как не терпела и эти детские пикники с ними; сварены вкрутую, переварены, перехвалены за варку; признаваясь в любви к Франции, обычно подразумевают еду; древние самые сокровенные человеческие чувства помещали в кишки. Она была свидетельницей тому, как радовался один коммивояжер приближению их судна к Дувру и английской еде: «С души воротит от этой французской мешанины!» Обычное критическое высказывание, думала Анджела, применяемое многими и к французской культуре последних двух столетий: «мешанина», несвежие затхлые кусочки продуктов, вывезенных из Испании, Америки, России, Германии, под соусом на белом вине из Алжира. Франция погибла вместе с падением монархии. Сейчас там поесть как следует можно разве что в провинции. И опять все сводится к еде. «Что вас гложет?» Бэзил божился, что однажды в Африке ел местную девушку. А теперь вот уже семь лет, как он пожирает ее, Анджелу… Как лиса, пожиравшая того спартанского мальчишку… Спартанцы в Фермопилах перед боем расчесывали волосы.
Никогда Анджела не могла этого понять… Вот Алкивиад, тот, наоборот, остригся, чтобы выглядеть поблагообразнее… Что для спартанцев вообще означали волосы? Бэзилу перед армией придется постричься. Афинянин Бэзил за общим спартанским столом с выбритым затылком вместо темных волос, небрежно ниспадающих на воротник. Бэзил в Фермопильском ущелье…
Вернулась болтавшая с кондуктором служанка Анджелы.
Он говорит, что спальные вагоны, по его мнению, в Дижоне отцепят. Нам придется пересесть в сидячий. Ну не свинство ли это, мадам, если уплачено за спальный!
– Что ж, ведь теперь война. Думаю, со многим еще придется мириться.
– Мистер Сил пойдет в армию?
– Не удивлюсь, если так.
– Он и выглядеть будет по-другому, правда, мадам?
– Совершенно по-другому.
Они обе погрузились в молчание, и Анджела интуитивно, с исключающей все сомнения ясностью понимала, о чем думает служанка. Та думала: а что если мистера Сила убьют? Может, это и лучший выход для всех, кого это касается.
Греки Флаксман, падающие наземь среди фермопильских скал; страшные искореженные трупы, брошенные на проволоку нейтральной полосы… Пока смерть нас не разлучит. И в потоке случайных слов и ассоциаций настойчиво и монотонно, как патрульные посты у железнодорожного полотна, в мозгу Анджелы возникал универсальный, все объединяющий образ Смерти. «Добрая подруга Смерть» с гравюр шестнадцатого века; Смерть, дарующая свободу пленнику и омывающая израненные тела павшему; Смерть во фраке и с баками, подобно гробовщику, участливо и скромно укрывающая темным покрывалом неприглядную картину гниения и распада; Смерть, зловещая любовница, в чьих объятиях забываются все земные Любови. Смерть заберет Бэзила, чтобы она, Анджела, могла возродиться…
Вот о чем думала Анджела, потягивая свою «виши». Но при взгляде на ее задумчивое, спокойное, застывшее, как маска, лицо никто не догадался бы об этом.
Глава 4
Руперт Брук, Рубака Билл[11]. Неизвестный солдат – вот каким видели его три любящие женщины, но, сидя за поздним завтраком в мастерской Поппет Грин, Бэзил катастрофически не дотягивал до этих идеальных образов. В это утро ему было сильно не по себе по двум причинам, первой из которых был переизбыток спиртного, выпитого им накануне в компании друзей Поппет; второй же являлась унизительная потеря лица сейчас, когда Бэзил пытался оправдаться и объяснить Поппет, как он мог утверждать, что войны не будет. Накануне он говорил об этом не гадательно, а как о факте, известном только ему и еще двум-трем главнейшим немецким военачальникам, ведущим представителям прусской военщины; он сообщил им вчера, что военные позволяют нацистам играть в свою игру до тех пор, пока не раскрыты карты, добавив, что узнал это непосредственно от фон Фриша. В июльской чистке 1936 года военные сломали хребет нацистской партии и теперь позволяют этим марионеткам – Гитлеру, Геббельсу и Герингу – действовать лишь постольку поскольку, если считают их действия эффективными. Но немецкая армия, как и прочие армии, настроена пацифистски, и как только выяснится, что Гитлер замышляет войну, он будет убит. Бэзил распространялся на эту тему, возвращаясь к ней вновь и вновь за столиком ресторана на Шарлотт-стрит, и так как друзья Поппет Бэзила не знали и не привыкли общаться с людьми, ссылающимися на знакомство с сильными мира сего, Поппет наслаждалась почетом и уважением, косвенно распространявшимися и на нее. Бэзил тоже не привык к тому, чтобы ему почтительно внимали, и, соответственно, был раздосадован теперь, когда сказанное им вызывало упреки.
– Ну так что? – сердито подала от плиты голос Поппет. – Когда армия вмешается и убьет Гитлера?
Она была замечательно глупа и именно поэтому привлекла внимание Бэзила сразу же, как только их три недели назад познакомил Амброуз Силк. С Поппет Бэзил провел все то время, которое обещал Анджеле провести в Каннах, на нее потратил те двадцать фунтов, что Анджела прислала ему на дорогу. Даже теперь, когда ее туповатое лицо искажала насмешка, сердце Бэзила таяло при взгляде на него.
Доказательствами глупости изобиловали и картины Поппет, завершенные и неоконченные, загромождавшие мастерскую. Восемьдесят лет назад она писала бы рыцарей в доспехах и печальных дам в мантильях, пятьдесят лет назад это были бы ночные пейзажи, двадцать лет назад – многочисленные Пьеро и плакучие ивы, теперь же, в 1939-м, на картинах ее красовались отрубленные головы, зеленые лошади на лиловой траве, морские водоросли, раковины, мох и лишайники, тщательно выписанные и разбросанные по полотну в манере Дали. Сейчас на мольберте Поппет была огромных размеров, детально написанная, но почему-то канареечно-желтая на леденцово-карамельном фоне голова Афродиты Милосской. «Дорогой мой, – сказал ему Амброуз, – в ее работах так и слышится скрип. Это скрипит ее воображение, скрипит в буквальном смысле, как корсет на какой-нибудь старой грымзе».
– Они разбомбят Лондон! Что мне делать? – жалобно вопрошала Поппет. – Куда податься? Кончена моя живопись! Может, стоит поступить, как Петруша с Цветиком? (Два великих поэта, ее знакомые, незадолго перед тем перебравшиеся в Нью-Йорк.)
– Пересекать Атлантику сейчас еще опаснее, чем оставаться в Лондоне, – заметил Бэзил. – Авианалетов на Лондон не будет.
– Заткнись ты, ради бога! И тут как раз раздался вой сирен. Поппет замерла от ужаса. – О боже! Это все ты! Ты накликал! Прилетели!
– Очень кстати! Безошибочный временной расчет всегда был сильной стороной Гитлера, – рассмеялся Бэзил.
Поппет принялась лихорадочно одеваться, продолжая осыпать его бессильными упреками:
– Ты говорил, что войны не будет! Что бомбардировщики не прилетят! Вот теперь нас всех поубивают, а ты тут расселся и только языком треплешь!
– Знаешь, я думаю, что для сюрреалиста авианалет это просто находка: сколько возможностей для композиций: оторванные руки-ноги, вещи, разбросанные как попало… всякое такое…
– И зачем только я с тобой встретилась! Зачем не посвятила себя церкви! Ведь я выросла в монастыре и даже хотела принять монашество. А вот теперь меня убьют! Где мой противогаз? Я с ума сойду, если не найду его!
Бэзил вновь опустился на диван и принялся увлеченно за ней наблюдать. Вот такими он любил женщин, любил видеть их в панике. Он всегда внутренне ликовал, наблюдая женщину в нелепой ситуации, когда, например, в сезон спаржи растопленное масло пачкало подбородок собеседницы, уродуя и делая ее смешной, в то время как она продолжала беседу и поворачивала к нему головку, не догадываясь о том, как выглядит в его глазах.
– Ну реши же, наконец, чего ты боишься! – увещевал он девушку. – Боишься бомб и мощной взрывной волны – спустись в бомбоубежище. Боишься газов – задрай слуховой люк в потолке и оставайся здесь. Так или иначе, о противогазе беспокоиться я бы не стал. Если они чем-то и воспользуются, это будут пары мышьяка, а противогаз в таком случае бессилен. Сначала ты этот мышьяк и вовсе не почувствуешь. Дня два и догадываться не будешь, что к тебе применили газ, а потом станет поздно. Вообще, похоже, что и сейчас газ уже пущен. Если они достаточно высоко, а ветер в нашу сторону, то штуку эту разносит миль на двадцать. Вот симптомы, когда они проявляются, действительно ужасны…
Но Поппет уже не слышала его: тихонько постанывая, она мчалась вниз по лестнице.
Бэзил оделся и, задержавшись лишь затем, чтобы пририсовать голове Афродиты на мольберте рыжие усы, не спеша вышел на улицу.
Обычную пустынность воскресного утра в Южном Кенсингтоне предельно усугубил страх перед налетом. Человек в жестяном шлеме крикнул Бэзилу через улицу:
– Топай в убежище! Ты! Тебе, тебе говорю!
Бэзил перешел к нему на противоположный тротуар и негромко проговорил:
– Эм-один-тринадцать.
– Чего?
– Эм-один-тринадцать.
– Я что-то не врубаюсь…
– А врубиться бы стоило, – сурово произнес Бэзил. – Вы обязаны знать, что работники Эм-один-тринадцать свободны в своих передвижениях в любое время суток.
– Я, конечно, извиняюсь, – сказал патрульный, – но я только вчера заступил. Повезло мне – две тревоги подряд. Здорово!
Не успел он это договорить, как прозвучал сигнал отбоя.
– Ах, вот незадача…
Бэзил посчитал, что этот представитель власти как-то слишком лучезарно весел для первых часов войны и что страшные картины газовой атаки, которые он живописал для Поппет, пропали впустую, – в паническом состоянии Поппет оказалась неспособна даже выслушать его. Стоило обратиться к более восприимчивой аудитории.
– Мужайтесь, – проговорил он. – Возможно, в эту самую минуту вы вдыхаете пары мышьяка. Последите за своей мочой пару дней.
– Да? Послушайте, а откуда вы, вы сказали?..
– Из Эм-один-тринадцать.
– Это что, как-то связано с газами?
– Это, могу вас заверить, считай, со всем связано. Удачного утра!
Он повернулся, чтобы уйти, но патрульный не отставал:
– А унюхать-то его можно?
– Нет.
– Кашляешь от него или как?
– Нет.
– И вы думаете, они вот прямо сейчас сбросили на нас эту гадость? Сами тю-тю, а мы тут подыхай?
– Я ничего не думаю, дорогой мой. Выяснить, что к чему, это ваша работа как дежурного патруля.
– Да?
Будет знать, как орать на меня через улицу, подумал Бэзил.
* * *
После сигнала отбоя в мастерской Поппет собралась разношерстная компания ее друзей.
– А я ни капельки не испугалась. И так поразилась собственной храбрости, что прямо голова пошла кругом!
– А я не то чтобы испугался. Просто настроение испортилось.
– А я даже порадовался. Ведь который год мы все твердим, что общественное устройство наше из рук вон плохо и обречено, правда же? Иными словами, какой нам предоставляют выбор – концлагерь или взлететь на воздух к чертовой матери, правда же? Я сидел и думал, насколько же предпочтительнее для меня взлететь на воздух, чем торчать в концлагере, где тебя бьют резиновыми дубинками!
– А я испугалась, – сказала Поппет.
– Милая Поппет, ты отличаешься здоровыми реакциями. Эрхман тебя просто преобразил.
– Ну, не уверена, что на этот раз мои реакции были такими уж здоровыми. Знаете, я поймала себя на том, что молюсь в прямом смысле слова!
– Что ты говоришь! Серьезно? Это никуда не годится. Обратись-ка ты опять к Эрхману…
– Если только он не в концлагере.
– Все там будем.
– Если кто-нибудь еще раз скажет слово «концлагерь», я, ей-богу, на стенку полезу, – вспылил Амброуз Силк. («У него в Мюнхене, – несчастная любовь, – шепнул один из друзей Поппет другому. – А потом просочилось, что эта коричневая скотина наполовину еврей, так его и убрали куда подальше».) – Давайте-ка лучше забудем про войну и полюбуемся картинами Поппет. Вот эта, – продолжал Амброуз, останавливаясь перед Афродитой, – мне нравится! Это хорошо! Слышишь, Поппет, хорошо! Эти усы… Они свидетельствуют о том, что как художник ты перешла некий Рубикон и чувствуешь в себе достаточно сил, чтобы иронизировать. Вспоминаются эти чудесные, исполненные драматизма старые каштаны в Петрушиной «Вариации на тему “Герники”»! Ты растешь, Поппет, милая! Уж не влияние ли это старого греховодника, а? Бедняга Бэзил, мало того, что быть enfant terrible[12] в тридцать шесть лет – участь незавидная, так еще и молодежь видит в тебе эдакого дряхлого Бульдога Драммонда[13].
Амброуз Силк был старше Поппет и ее друзей. Строго говоря, он был одних лет с Бэзилом, с которым со студенческих лет сохранял не совсем ясные, полные взаимных подкалываний приятельские отношения. В Оксфорде в те дни, в середине двадцатых, когда последние из ветеранов-фронтовиков сошли со сцены, а молодое, пуритански настроенное и политически ориентированное поколение либо еще не сколотилось, либо в должной мере не проявило себя, в те дни широких брюк и свитеров с высоким воротом, когда что ни вечер машины припарковывались возле «Орла с распростертыми крыльями» в Тейме – клубов и кружков тогда было мало, и лишь изысканная экстравагантность друзей, которых в последующие годы жизнь разбросала так далеко – не докричишься, разводила в разные стороны, открывая иные, более широкие горизонты. Амброуз в те дни отметился комическим и позорным выступлением на скачках с препятствиями, проходивших в колледже Крайст-Черч, а Питер Пастмастер посещал Palais de Danse[14] в Рединге, переодевшись в женское платье. Аластер Диби-Вейн-Трампингтон, поглощенный по-юношески незрелыми изысканиями насчет того, насколько далеко в отношениях с ним готова зайти та или иная из похотливых дебютанток, находил все же время, чтобы, сидя в Миклхемае за стаканчиком портвейна, без малейших признаков неодобрения выслушивать стенания Амброуза по поводу неразделенности его любви к некоему члену команды гребцов. Теперь же Амброуз из всех старых друзей мало с кем виделся, кроме Бэзила. Ему казалось, что все его бросили, и в минуты, когда в нем взыгрывало тщеславие, а аудитория представлялась подходящей, он примерял на себя роль мученика святого искусства, ни в чем и никогда не делавшего уступок Маммоне. «Нет, с вами, можно сказать, мне не совсем по пути», – заявил он однажды Петруше и Цветику, когда те принялись втолковывать ему, что, лишь став пролетарием (понятие это в их представлении никак не было связано с педантской идеей продолжения рода, а подразумевало лишь необходимость неквалифицированного и плохо оплачиваемого труда), он, Бэзил, может рассчитывать, что станет когда-нибудь стоящим писателем. «Нет, с вами, можно сказать, мне не совсем по пути, дорогие мои Петруша и Цветик, но одно по крайней мере вам должно быть известно: я никогда не продавался и не продамся сильным мира сего!»
Охваченный подобным настроением, он воображал себя призрачной тенью, бредущей по нескончаемой шикарной улице, встречающей его распахнутыми дверями, откуда несутся возгласы лакеев: «Заходи, стань одним из нас, польсти нашим хозяевам, и ты получишь свой кусок!» Но Амброуз гордо и храбро продолжает свой путь. «Я безнадежно застрял во времени, осененном башней из слоновой кости», – говорил он.
Несчастье его состояло в том, что как писатель он был признан всеми, кроме тех, с кем общался особенно тесно. Поппет с друзьями видели в нем лишь какой-то чудом сохранившийся раритет, персонаж со страниц «Желтой книги»[15]. Чем усерднее старался Амброуз оказаться в струе, быть заодно с жесткими молодыми пролетариями нового десятилетия, тем более старомодным он им казался. Сама его внешность, весь этот щеголеватый блеск юного Дизраэли выделяли и отдаляли его от них. Вечно потертый и обтрепанный Бэзил был не столь нелеп и неуместен.
Зная это, Амброуз с особым удовольствием называл последнего старым греховодником.
Глава 5
Аластер и Соня Трампингтоны меняли адреса в среднем ежегодно, делая это, по видимости, из экономии, и сейчас обретались на Честер-стрит. Куда бы супруги ни подались, они всюду тащили за собой свойственный им особый, неотчуждаемый и неповторимый беспорядок. Десять лет назад они без всякого усилия и даже желания, из одного лишь потворства самим себе и тому, что оба считали прихотью, жили в средоточии моды и навязшей в зубах известности; в настоящее же время они без сожаления и даже как бы бессознательно обустроили Богом забытый уголок, пещеру, где занесенные приливом останки бурливых двадцатых валялись побитые, искореженные, пригодные разве что самому усердному из пляжных мусорщиков. Порой Соня вздыхала при мысли о том, как странно исчезли со страниц газет даже упоминания тех, о ком некогда только и говорили, и разговоры эти набивали оскомину – дескать, вот, кажется, никогда не оставят в покое!
Бэзил, будучи в Англии, в их дом наведывался постоянно. Аластер обронил как-то, что живут они в такой тесноте на самом-то деле из-за Бэзила, чтобы тот не вздумал у них останавливаться.
Но где бы они ни обитали, Бэзила так и тянуло к ним, как тянет в собственный дом, и инстинкт этот, учитывая их способность к быстрым перемещениям, нередко вызывал ужас у следующих съемщиков: они цепенели в страхе, когда среди ночи не имевший времени сформировать новую маршрутную привычку Бэзил, вскарабкавшись по водосточной трубе, возникал колеблющейся пьяной тенью в окне их спальни или же утром бывал найден дрыхнущим, бесчувственным, как камень, где-нибудь возле их дома.
Теперь же, в это утро катастрофы, Бэзил был нацелен идти к Аластеру и Соне так же уверенно, как если бы его манила бутылка, и появился у них на пороге, проделав весь путь совершенно бессознательно. Не мешкая, он поднялся наверх, ибо где бы они ни жили, пульс дома неизменно бился в спальне у Сони, как если бы эта спальня была обиталищем вековечно выздоравливающей.
Приемы Сони для присутствующих при вставании (а за день таких приемов насчитывалось три-четыре, ибо, находясь дома, Соня чаще всего лежала) Бэзил посещал без малого десять лет, еще со времени ее юной ослепительной миловидности, когда Соня, чуть ли не единственная среди непорочных и отважных лондонских невест, взяла в привычку принимать гостей обоего пола в ванной. Это было новшеством, а вернее, возрождением старинного ритуала, присущего некогда векам более благословенным, ритуала, который Соня подхватила, делая это, как всегда, без всякой мысли о славе – просто она любила гостей и любила принимать ванну. Обычно на таких приемах можно было видеть троих или четверых юношей, задыхавшихся и еле стоявших на ногах от волнения, но делавших вид, что подобное им вовсе не в диковинку.
Сейчас Бэзил не заметил никаких изменений ни в красивой внешности Сони, ни в богатом разнообразии предметов – писем, газет, полуоткрытых свертков, недопитых бутылок, щенков, цветов и фруктов, валявшихся как попало вокруг постели, на которой восседала Соня с иголкой в руке (ибо одной из свойственных ей причуд была склонность ежегодно покрывать целые акры шелковой материи изысканными узорами вышивок).
– Бэзил, милый, ты пришел, чтобы взлететь на воздух вместе с нами? А где же эта твоя кошмарная девица?
– Испугалась.
– Она паршивка, милый, и самая худшая из твоих подружек. Взгляни на Питера. Потрясающе, правда? – Питер Пастмастер сидел в изножье ее кровати в военной форме. Некогда он недолгое время прослужил в кавалерии. Те давние посевы внезапно, за одну ночь, взошли и принесли свои плоды. – Разве не комично опять начинать все сначала и завтракать с юными патрульными!
– Вовсе не юными. Ты бы нас видела! Средний возраст младших офицеров – лет сорок, наш полковник ту войну окончил бригадиром, а рядовые у нас – либо побитые жизнью швейцары и посыльные из бывших военных, либо разжиревшие лакеи.
Из ванной вышел Аластер.
– Ну как там твоя потаскушка-художница? – Он откупорил бутылки и стал смешивать в глубокой посудине темный портер с шампанским. – Как насчет «Черного бархата»? – Они всегда отдавали предпочтение этому кислому бодрящему пойлу.
– Поговорим о войне! – воскликнула Соня.
– Ну… – начал было Бэзил.
– Нет, дорогой, не надо длинных речей, всех этих кто победит и за что воюем… Ты скажи, что делать каждому из нас. Из слов Марго я поняла, что прошлая война была захватывающе увлекательна. Аластер хочет идти простым солдатом.
– Мобилизация стерла некоторое количество позолоты с этого пряника, – сказал Бэзил. – А кроме того, в этой войне простые солдаты не будут играть особой роли.
– Бедняжка Питер, – проворковала Соня, словно сюсюкая со щенком. – Ты не будешь играть особой роли!
– А меня это устраивает, – откликнулся Питер.
– Наверно, Бэзила ждут невероятные приключения. С ним и в мирное-то время приключалось бог знает что, ну а на войне даже трудно представить, что с ним будет!
– Ну, задать шороху народа там найдется, – сказал Бэзил.
– Бедолага ты мой милый! По-моему, взбудоражена из-за всего этого больше всех вас я!
Вскользь упомянутое имя поэта Петруши вновь приоткрыло тему серьезного конфликта Петруши и Цветика, так мучившего Поппет Грин и ее друзей. Эта была проблема, которая, подобно так занимавшему предыдущее столетие шлезвиг-гольштейнскому вопросу, логического решения не имела, ибо, говоря проще, в самих постулатах таилось противоречие. Как друзья и соратники Петруша и Цветик были неразлучны. На этом сходились все их почитатели. Однако искусству Петруши требовалось английское окружение, в нем оно крепло и расцветало, в то время как Цветик тяготел к мирной и плодоносной почве Соединенных Штатов. Взаимно дополнявшие друг друга свойства, которые, как считали многие, делали их, обоих вместе, равными одному поэту, сейчас могли снивелироваться, что грозило прекращением партнерства.
– Я не утверждаю, что Цветик сильнее как поэт, – сказал Амброуз. – Но лично мне он кажется более насыщенным, он питает, и лично я считаю, что, уехав, они поступили правильно.
– Но мне всегда казалось, что Петруша так связан с землей, с тем, что вокруг.
– Понимаю, что ты имеешь в виду, Поппет, но я с тобой не согласен. Ты вспоминаешь «Вариацию на тему “Герники”» и забываешь почему-то о «Секвенции Христофора»…
Подобная эстетическая перепалка шла бы обычным ходом, если бы не присутствие в мастерской в то утро рыжеволосой девицы в очках, аспирантки Лондонской школы экономики. Эту решительную, не ведавшую жалости девицу, поборницу Всеохватной и общенародной борьбы, все недолюбливали, подозревая в троцкизме.
– Вот чего я никак не пойму, – встряла в разговор она (а все, чего обычно девушка эта не понимала, приводило друзей Поппет в явное и ничем не прикрытое замешательство), – вот чего я никак не пойму: каким образом эти двое могут претендовать на наименование современный, убегая от участия в важнейшем событии современной истории. Да, во время испанских событий они проявили себя достаточно современными, но там никто не угрожал нашествием и не подвергал бомбардировкам лично их!
Вопрос вызвал неловкую паузу. Это был неудобный вопрос, из тех, что на военном языке можно было бы назвать снайперским попаданием в цель. В любой момент, как это ощутили все присутствующие в мастерской, непристойная девица могла прибегнуть и к слову «эскапизм». В наступившей после темпераментного высказывания тишине, пока каждый обдумывал и отвергал возможные варианты ответа, девица действительно позволила себе непростительный выпад.
– Это же чистой воды эскапизм, – заявила она.
Произнесенное слово вызвало всеобщую оторопь, подобную той, что в игорном зале вызывает возглас: «Шулерство!»
– Но зачем говорить такую гадость, Джулия…
– Нет, вы ответьте!
Ответить, думал Амброуз, он бы мог. Один или два возможных ответа у него в запасе имелись: общение с новыми друзьями научило его многому из того, что он сейчас готов был предъявить. Он сказал бы, что война в Испании была современной, потому что была классовой, теперешняя же война, учитывая объявленный Россией нейтралитет, является всего лишь определенным этапом глобального распада капиталистического порядка. Такой ответ удовлетворил бы рыжеволосую или по крайней мере заставил бы ее замолчать. Но, строго говоря, это не было бы ответом. Обратившись к помощи исторических аналогий, он порылся в памяти, ища подходящие примеры, но каждый приходивший в голову пример из истории играл на руку рыжеволосой. Она ведь тоже все это знает, думал Амброуз, и с аспирантской велеречивостью мгновенно и использует, упомянув и Сократа, учившего Ксенофонта[16], и оправдывавшего римский милитаризм Вергилия, и Горация, чья муза воспевала сладость гибели за отечество; не забудет она и о скачущих на войну всадниках-трубадурах, вспомнит Сервантеса на галерах в Лепанто, Мильтона, которого служение общественному благу довело до слепоты. Даже Георг IV, к которому Амброуз питал почтение, приберегаемое иными скорее для Карла I, мнил себя участником сражения при Ватерлоо. Все эти образы, как и множество других – храбрых его современников, – теснились в голове Амброуза. Сезанн, правда, в 1870 году дезертировал, но в практических жизненных делах этот художник, чье искусство, кстати сказать, Амброуз считал невыносимо унылым, проявлял себя крайне непривлекательно. Нет, на исторических примерах защиты не построишь.
– Просто ты сентиментальна, – сказала Поппет, – как старая дева, проливающая слезы при звуках военного оркестра.
– Ну, у русских же есть военные оркестры, правда? Представляю, сколько старых дев будут проливать слезы на Красной площади, когда мимо Мавзолея Ленина пойдут военные оркестры!
Упомянув Россию, противника всегда можно поставить в тупик, подумал Амброуз, заткнуть ему рот, что они и делают в своих спорах. На этом всякая дискуссия прекращается.
– Проблема в том, станут ли они лучше писать, оказавшись в опасности, – сказал один из собеседников.
– И помогут ли они Всенародной борьбе, – заметил другой.
Старый спор, грубо прерванный вмешательством неукротимой девицы, возобновился и наращивал обороты. Амброуз с грустью глядел на желтушную усатую Афродиту. Что я здесь делаю, внутренне задавал он себе вопрос, зачем мне эта галера?
Соня звонила Марго, пытаясь добиться приглашения на завтрак для всей компании.
– Этот мерзавец утверждает, что сегодня утром принимаются только служебные звонки!
– Скажи, что ты из Эм-один-тринадцать, – подсказал Бэзил.
– Я из Эм-один-тринадцать… А что это такое? Милый, по-моему, это должно подействовать… Подействовало! Марго, это Соня! Я тоже смертельно хочу тебя видеть…
Афродита в свой черед глядела на него – слепая, желтая, как будто вылепленная из масла… Петруша… Цветик… Красная площадь… Желтый дом… Спор накалялся. Какое ему до всего этого дело! Сюда, в эту неприветливую комнату, его завели искусство и любовь.
Любовь к длинной череде сменявшихся персонажей, разного рода оболтусов – оксфордских регбистов, чемпионов по боям без правил, военных моряков – рядовых и старшин; любовь нежная и безнадежная, единственной наградой которой, и это в лучшем случае, бывал какой-нибудь грубо сексуальный эпизод, за которым и следовало то, что в трезвом свете утра представало как презрение, обида и насилие.
Голубой. Старый педераст. Стиль одежды, интонации, элегантная ироничность манер, так восхищавшая, так часто находившая подражателей, бесполый летучий блеск острот, искусство ослеплять и повергать в смущение тех, кого он презирал – все, чем он владел в совершенстве, теперь сделалось разменной монетой комедиантов; осталось лишь несколько ресторанов, где он мог появляться, не опасаясь насмешек, и даже и там он чувствовал себя словно окруженным со всех сторон кривыми зеркалами, грубо, карикатурно искажающими его облик. Неужели до такой степени выдохлись, сдулись великие страсти, которыми жили Греция, Арабский Восток, культура Ренессанса? Разве провожали ухмылками проходившего мимо Леонардо, передразнивали, нелепо семеня, поступь спартанских воинов? Разве мыслимо было хихиканье возле шатров Саладина? Тамплиеров сжигали, привязав к столбу, но любовные страсти тогда были по крайней мере грандиозны, чудовищны в своей сокрушительной силе и требовали кары небесной, если мужчина забывал о необходимости быть жестоким и подавлять в себе чувства. Беддоуз[17] умер в одиночестве, наложив на себя руки. Уайльд, отторгнутый и преданный забвению, был обречен пить и кормиться застольной болтовней, но до самого конца в закатном сумраке его сознания проглядывала фигура значительная, истинно трагический персонаж. Ну, а Амброуз, думал Амброуз, что он такое? Явившись в этот мир с опозданием, он принадлежит веку, сделавшему из него имя нарицательное, персонаж столь же фарсовый, как образ тещи, столь же пошлый, как обычай есть копчушки за завтраком; он – вклад, внесенный современностью в общенациональную копилку комических тем и типов, он в хоре юнцов из массовки, хихикающих под юпитерами коммерческих театриков на Шафтсбери-авеню. И Ганс, который после долгого странствия, казалось, обещал Амброузу тихую гавань, Ганс, такой простодушный, чистый, любящий, крепкий, как молодой терьер, брошен в неведомый ад нацистского концентрационного лагеря!
Огромное желтое лицо с небрежно пририсованными усами ничем утешить Амброуза не могло.
В числе прочих в мастерской находился и молодой человек призывного возраста, которому в ближайшее время предстояло пополнить собой ряды армии.
– Не знаю, как быть, – пожаловался он. – Конечно, я мог бы отказаться, сославшись на религиозные убеждения, но таких убеждений у меня нет. Если б я сказал, что они у меня есть, это было бы предательством всего, за что мы выступаем!
– Конечно, Том, – утешали его присутствующие. – Мы отлично знаем, что убеждений у тебя нет.
– Но если их у меня нет, – продолжал озадаченно молодой человек, – почему, ради всего святого, мне так неловко заявлять, что они есть?
– … здесь Питер и Бэзил. Мы веселимся и чувствуем себя очень бодрыми и воинственными. Можно мы придем на завтрак? Бэзил говорит, что к вечеру обязательно будет массированный налет, так что может случиться, что это последний наш шанс повидаться… Что? Я же сказала вам, откуда я. (Откуда я, Бэзил?) Я из Эм-один-тринадцать. (Эта забавная девушка на линии утверждает, что мой звонок – частный!) …Ну, Марго, тогда мы уже собираемся к тебе. Будет здорово!.. Алло, алло! Послушай, эта мерзавка на линии прервала связь!
Природу я любил, и лишь потом искусство. Природа в естественном своем состоянии редко бывает доброй и благодушной, она груба и кровожадна, подобно матросам в порту Тулона: от каждого несет вином и чесноком, шея черная от загара, к нижней губе прилипла папироска, каждый изъясняется на непонятном арго, то и дело пересыпая речь похабщиной. Ну а искусство… Вот куда привело его искусство, в эту мастерскую, в общество неотесанных и занудливых недорослей, к этому идиотскому желтому лицу на конфетном фоне!
Во времена Дягилева это было сплошным наслаждением, путь, усыпанный розами. В Итоне он заучивал рифмы по Ловату-Фрейзеру. В Оксфорде читал в микрофон «In Memoriam» Теннисона под аккомпанемент оркестра завернутых в папиросную бумагу гребенок. В Париже бывал у Кокто и Гертруды Стайн, там же им была написана и издана первая его книга, исследование того, как живут на Монпарнасе изгнанные из Англии сэром Уильямом Джойнсон-Хиксом чернокожие. Именно тогда усыпанный розами путь пошел слегка под уклон – в мир модных фотохудожников, декораций для постановок Кокрена и к Седрику Лайну с его неаполитанскими гротами.
И Амброуз принял осознанное решение – сменить путь, предпочесть наслаждениям суровость и героизм. Это был год экономического спада в Америке, время героических решений, когда Пол чуть было не постригся в монахи, а Давид преуспел в попытке броситься под поезд.
Амброуз уехал в Германию, где жил в рабочем квартале, где познакомился с Гансом, где начал писать книгу, серьезную, заумную, бесконечно длинную книгу, своего рода искупление былого легкомыслия. Так и не законченная рукопись лежала теперь в старом чемодане где-то в Центральной Европе, а Ганс брошен за колючую проволоку или, еще того хуже, сдался, и это весьма вероятно, учитывая свойственные его характеру покладистость и простодушное принятие жизни как она есть, сдался, вернулся к бывшим своим дружкам – коричневорубашечникам, став для них, правда, человеком с червоточиной, с отметинкой напротив своей фамилии в списке, не достойным полного доверия, но годным для передовой, чтобы сделаться пушечным мясом.
А рыжеволосая все задавала и задавала неудобные вопросы.
– Но позволь, Том, – говорила она, – если жить жизнью рабочего и трудиться рядом с рабочими на какой-нибудь консервной фабрике, ты одобряешь то, что имеешь против того, чтобы воевать в одном строю с рабочими?
– Такие, как Джулия, готовы всех вокруг обвинять в трусости.
– Ну а почему бы и нет, черт возьми! – вскричала Джулия.
Ars longa[18], думал Амброуз, а жизнь коротка, что не мешает ей утопать в безнадежной скуке.
Аластер включил электробритву в розетку лампы на письменном столе Сони и побрился в спальне, чтобы не упустить ничего из разговора. Питера в полном обмундировании он видел и раньше – на придворном балу – и пожалел его тогда за то, что тот не сможет прямиком после бала закатиться в ночной клуб, но в полевой форме он увидел Питера впервые и взревновал, как мальчишка. В Аластере сохранилось много мальчишеского: он любил зимний спорт и ходить на яхте, любил играть в сквош и болтать в баре Брэтт-клуба. Он соблюдал некоторые молодежные табу в одежде, например, не носить в городе котелок, пока не окончится неделя скачек на ипподроме в Гудвуде; он имел твердые, усвоенные еще в школе представления о чести, но, считая их личными своими предрассудками, никоим образом не осуждал тех, кто их не имел. Возмутительное пренебрежение ими со стороны Бэзила он тому прощал. Он берег свое чувство чести, как берег бы дорогое и редкостное домашнее животное, какое однажды и вправду поселилось в его доме, – Соня тогда купила маленького кенгуру, который пробыл у них целый месяц, став для домашнего уклада настоящей катастрофой. Он знал за собой эксцентричность, не меньшую, чем у Амброуза Силка, но другую. В двадцать один год он стал любовником Марго Метроленд. То был период ученичества, через который прошли многие его друзья, о чем они сейчас забыли, но в свое время это было широко известно, хотя Аластер никогда и никому, в том числе и Соне, ни словом не упомянул об этом факте. Начиная с самой свадьбы, он ежегодно в течение недели, пока в Ле-Туке длился чемпионат Брэтт-клуба по гольфу, изменял Соне, обычно делая это с женой кого-нибудь из членов клуба, и не испытывал никаких угрызений совести, так как считал неделю чемпионата как бы исключением в череде нормальных дней в году, требующих соблюдения верности и принятых на себя обязательств. Неделя эта становилась своего рода Сатурналиями, когда отменяется действие обычных законов. Все остальное время он был верным и преданным мужем.
К чему-то наподобие военной службы он имел касательство лишь будучи старшиной Корпорации учащихся Итона; во время всеобщей стачки он разъезжал по бедным районам Лондона в закрытом фургоне, разгоняя митинги бунтовщиков и награждая ударами дубинки отдельных совершенно безобидных граждан, что стало единственным его вкладом во внутреннюю политику государства, ибо, несмотря на частые переезды, жил он всегда в округах, где никаких соперников единственный кандидат в депутаты не имел. Однако Аластер всегда полагал аксиомой, что случись какая-нибудь старомодная глупость вроде большой войны, и он примет в ней скромное, но весомое участие. Он не строил иллюзий относительно собственных сил, но верил, что для врагов короля явится мишенью ничуть не менее достойной, чем иные прочие. Поэтому осознание того, что сейчас, когда страна его находится в состоянии войны, он сидит дома в пижаме, попивая «Черный бархат» в компании каких-то случайных людей, оказалось для него настоящим шоком. Военная форма Питера усугубляла неловкость. Аластер чувствовал себя словно уличенный в адюльтере на Рождество или застигнутый в середине июня на ступенях Брэтт-клуба в мягкой шляпе.
Он разглядывал Питера внимательно и по-мальчишески жадно, как бы вбирая в сознание каждую деталь его формы – офицерский поясной ремень, эмалевые звезды – знаки отличия, ботфорты, – и испытывал разочарование, но в то же время и облегчение от отсутствия на Питере шпаги: если бы еще и шпага, он бы не выдержал!
– Я знаю, что выгляжу нелепо, – сказал Питер. – Адъютант не оставил мне на этот счет сомнений.
– Ты выглядишь прелестно, – сказала Соня.
– Я слышал, что перевязь на офицерских ремнях теперь не носят, – сказал Аластер.
– Да, но формально мы все еще при шпаге.
Формально на Питере все еще шпага, формально.
– Дорогой, думаешь, если мы пройдем мимо Букингемского дворца, гвардейцы отдадут нам честь?
– Вполне возможно. По-моему, отменить это Белише[19] еще не удалось.
– Тогда идем. И поскорее. Я сейчас оденусь. Не терпится посмотреть, как это будет.
Они прошли пешком от Честер-стрит к Букингемскому дворцу – Соня и Питер впереди, Аластер с Бэзилом на шаг за ними. Стража приветствовала их, и Соня ущипнула Питера, когда тот ответил на приветствие.
– Наверное, и нам вскоре предстоит отдавать честь, – сказал Бэзилу Аластер.
– В этой войне им добровольцы не нужны, Аластер. Когда люди понадобятся, их призовут без всякой шумихи, всех этих патриотических песен и маршей. А сейчас они не могут обеспечить амуницией даже тех, кого уже тренируют в лагерях.
– Про каких это «они» ты говоришь?
– Про Хор-Белишу.
– Какое значение имеет, что ему нужно или не нужно, что он может обеспечить, а чего не может, – вскипел Аластер. Никаких «они» для него не существовало. Англия воюет, значит, воюет он, Аластер Трампингтон. И никакой политик не может указывать, когда и каким образом он должен это делать. Однако облечь свою мысль в слова, по крайней мере такие, которые не высмеял бы Бэзил, он не умел и потому плелся вслед за молодцеватой фигурой одетого в военную форму Питера молча, пока Соня не решила взять такси.
– Я знаю, чего мне хочется, – сказал Бэзил. – Хочется быть среди тех толстокожих и бессовестных, о которых в девятнадцатом году говорили, что они обратили войну себе на пользу.
Глава 6
Вопреки тому, что Фредди Сотхилу, сэру Джозефу Мейнверингу и множеству других, кого время от времени рекрутировали помогать в решении постоянно возникавших проблем с обеспечением будущности Бэзила, было привычно говорить о нем в терминологии, обычно привлекаемой для характеристики шахтеров Южного Уэльса, как то: «ненадежный», «не способный работать», – получение разного рода должностей играло в жизни Бэзила немалую роль, так как объяснением и извиняющим обстоятельством многих его причуд служил тот факт, что собственных денег он никогда не имел. По завещанию отца Тони и Барбара получили солидное состояние, однако кончина постигла сэра Кристофера Сила вскоре после первого из наиболее позорных деяний Бэзила, и если мыслимо допущение, что человека, более четверти века возглавлявшего организационный сектор парламентской партии, может до такой степени поразить то или иное доказательство порочности человеческой натуры, то следует признать, что кончину сэра Кристофера ускорил стыд, так быстро одно последовало за другим. Как бы там ни было, на смертном одре сэр Кристофер мелодраматически лишил наследства младшего своего сына, отдав его будущее всецело на усмотрение матери.
Так как даже самый преданный из друзей леди Сил – а друзей у нее было немало – считал ее не более чем рассудительной, первые шаги Бэзила во взрослой жизни были сопряжены со сверхъестественными усилиями его матери и требовали от нее многого. Выбранная ею в конце концов тактика, которую лучше всего характеризировало бы определение «незамысловатая» и которая, как и множество подобных тактик, была подсказана ей сэром Джозефом Мейнверингом, состояла, по словам последнего, в том, чтобы «давать мальчику хлеб с маслом, а уж джем пусть сам добывает». Переведенное с языка метафорического на простой английский это означало получение Бэзилом четырехсот фунтов в год при условии хорошего поведения, а при желании жить на более широкую ногу – предоставленное ему право собственными усилиями изыскивать для этого средства.
С самого начала план показал полную свою несостоятельность. За последние десять лет леди Сил пришлось четырежды заплатить за Бэзила его долги, в первый раз на условиях, что он останется жить с ней в ее доме, во второй – что он будет жить где угодно, только не дома, лучше за границей; в следующий раз с него было взято обещание жениться и, наконец, в последний раз – обещание, что жениться он не будет; дважды его лишали содержания почти полностью, дважды милостиво прощали, возвратив родительскую благосклонность; был случай, когда он получил место в адвокатской конторе Темпла с жалованьем тысяча фунтов в год; в другой раз его поманили порядочным кушем, помахав перед носом деньгами, для получения которых требовалось лишь обещание всерьез заняться коммерцией, а однажды в его распоряжении чуть было не оказалась ферма с сизалевой плантацией в Кении. На всех этих крутых жизненных поворотах сэр Джозеф Мейнверинг выступал в роли визиря при дворе некого самовластного и неохотно дарующего милость султана и действовал от его имени таким образом, что всякий приносимый им дар оказывался сопряженным с горьким унижением, чем умалялась ценность дара.
В периоды опалы, предоставленный самому себе, Бэзил, как мог, отражал удары судьбы, живя своим трудом и берясь за любую работу, доступную юношам его квалификации и степени подготовки. В получении работы он никогда не испытывал трудностей, трудность заключалась в возможностях эту работу сохранить, так как каждого потенциального работодателя Бэзил воспринимал как противника в хитрой игре. Все силы и энергию Бэзил тратил на то, чтобы заставить противника сдаться, но, завоевав его расположение и даже доверие, тут же терял к нему всякий интерес. Так юные англичанки из кожи вон лезут, дабы заполучить себе мужа, но, добившись брака, полагают, что дело сделано и более от них ничего не требуется.
Бэзил писал передовицы для «Ежедневного негодяя», нанимался в свиту лорда Имярек, продавал шампанское по доверенности, сочинял диалоги в кинофильмах и был автором первой передачи Би-би-си, которой впоследствии предстояло преобразоваться в серию бесед. Опустившись на несколько ступеней ниже по социальной лестнице, он выступал как пресс-атташе цирковой акробатки и однажды свозил группу туристов на итальянские озера (некоторое время он развлекал собравшихся за столом рассказом об этом путешествии, которое после ряда возраставших крещендо неприятностей достигло кульминации, когда Бэзил, сгребя в кучу билеты и паспорта туристов, утопил все это добро в озере Гарда). Домой он возвратился в одиночестве утренним поездом, бросив без гроша в кармане пятьдесят британцев, ни один из которых не знал ни слова на каком-либо иностранном языке, и предоставив их заботам того из божеств, которое отвечает за брошенных на произвол судьбы иностранцев. Насколько было известно Бэзилу, группа эта домой пока еще не вернулась.
Время от времени он исчезал из мира цивилизации, после чего возвращался с рассказами, которым никто особенно не верил, – о том, например, как он выполнял задания секретной полиции в Боливии, как давал советы императору Азании относительно необходимости модернизировать его страну. Бэзил взял в привычку как бы вести самостоятельные кампании, выпуская собственные ультиматумы, распространяя собственные пропагандистские листки, окружал себя и свои действия собственноручно изготовленной темной завесой. В мире пассивных и ленивых гражданских лиц он являлся шумным меньшинством численностью в одного человека. Частная же его жизнь протекала внутри системы, не брезгующей методами давления и умиротворения, агитации и шантажа, к чему он привык и приспособился, и хотя никаких дальних целей, кроме цели поразвлечься, он не имел в виду, жизнь его развивалась в направлении, как бы параллельном нацистской дипломатии: как и в последней, успех его обеспечивала мирная, упорядоченная и полная достоинства жизнь вокруг. В новом, скрытном, напряженно-деловом и хаотичном мире первых дней войны Бэзил впервые почувствовал себя неуютно. Все равно как находиться в Латинской Америке во время переворота, будучи не англичанином, а латиноамериканцем.
К концу сентября беспокойство Бэзила усилилось. Страх перед налетами, казалось, на время отступил, и те, кто по собственной воле бежал из Лондона, начали возвращаться, делая вид, что отправлялись в загородные свои дома лишь затем, чтобы проверить, все ли там в порядке. Жены и дети бедноты также возвращались стайками на свои опустошенные эвакуацией улицы. Газеты писали, что поляки держатся, что их кавалерийские части проникают в глубь германской территории, что враг уже сейчас ощущает нехватку моторного масла, что Саарбрюккен через день-другой будет занят французами; дежурные патрули добирались до самых глухих деревенек королевства и бродили там, проверяя, не закуривают ли трубки мужчины, выходя из пивных; те из лондонцев, которые не так быстро обрели новые привычки домоседства, все еще передвигались в темноте из одного увеселительного заведения в другое, делая это на ощупь, узнавая, туда ли попали, по пуговицам швейцара; вращающиеся темные двери открывали вход в волшебную сказочную страну, и они вновь ощущали себя детьми, которых с завязанными глазами ведут к сияющей рождественской елке. Список уличных происшествий угрожающе пополнился; ходили слухи о разбойниках, набрасывающихся на пожилых джентльменов чуть ли не при входе в клуб или избивающих их до полусмерти на Хей-Хилл.
Все приятели Бэзила были заняты поисками работы. Некоторые, сознательно или бессознательно желая подстраховаться, пытались вновь, как встарь, пристроиться к какому-нибудь военизированному объединению; были такие, как Питер, которые в ранней юности, повинуясь прихоти отца, убили несколько драгоценных лет на службе в регулярных частях; другие, как Фредди, приписанные к йоменским добровольцам, которые в обычное время судействовали или заседали в совете графства, считая это непременными обязанностями сельского жителя, теперь надели военную форму и тем, казалось, решили все проблемы. В последующие месяцы, бездействуя и тоскуя на Ближнем Востоке, они преисполнятся завистью к тем, чей выбор службы оказался более разумным и взвешенным, в настоящий же момент они испытывали завидное спокойствие и удовлетворение. Остальные были обуреваемы жаждой хоть какой-то деятельности на благо общества, пусть даже самой им не подходящей. Одни формировали санитарные отряды и просиживали долгие часы в ожидании жертв воздушных налетов, другие заделывались пожарными или брали на себя работу мелких клерков. Ни одно из этих достойных занятий не прельщало Бэзила.
Он принадлежал к тому типу мужчин, который, будь жизнь в Англии такой, как рисуют нам приключенческие романы, был бы на этом историческом этапе международных отношений наиболее востребован. Бэзил был бы препровожден по неприметному адресу в Мейда-Вейл и представлен худощавому человеку с изборожденным шрамами лицом и пристальным взглядом серых глаз – одному из тех, чья жизнь и работа покрыты тайной, а имя неизвестно публике и не фигурирует в газетах, чье появление на улице остается никем не замеченным и о существовании которых знают только правительство и главы секретных служб иностранных государств…
«Присаживайтесь, Сил. Мы с интересом следим за вами давно, еще со времени той истории в Ла-Пасе в тридцать втором. Вы, конечно, мерзавец, но я склонен считать, что в настоящий момент страна нуждается в таких мерзавцах. Полагаю, вы готовы на все?» «Да, я готов на все». «Я так и думал. Вот что вам поручено выполнить. Сегодня в четыре тридцать вы должны прибыть на Аксбриджский аэродром. Там вас встретит человек и даст вам паспорт, после чего вы продолжите путешествие уже под именем Бленкинсопа, владельца табачной плантации в Латакии. На пассажирском аэроплане вы в несколько этапов доберетесь до Смирны, где остановитесь в “Мирамар-отеле” и станете ждать дальнейших распоряжений…»
Приказ был бы ясен и четок, и Бэзил, чья жизнь до этого времени имела большее сходство с приключенческим романом, чем у большинства людей, подсознательно и ожидал чего-то в этом роде. Но ничего подобного он не дождался. Вместо этого поступило приглашение от сэра Джозефа Мейнверинга позавтракать с ним в Клубе путешественников.
Такие завтраки с сэром Джозефом в Клубе путешественников за годы и годы составили некую серию памятных вех на шедшем под уклон тернистом пути Бэзила. Там числились завтраки, посвященные выплате четырех крупнейших его долгов, завтрак по поводу его вступления на политическое поприще, завтрак, на котором рассматривались возможности двух достойнейших профессий, завтрак, когда обсуждалась угроза разрыва с Анджелой Лайн, Завтрак украденных изумрудов, Завтрак кастетов, Завтрак последнего чека Фредди – каждый из этих завтраков мог бы стать как темой, так и заголовком предназначенного широкой публике романа.
До сих пор пиршества эти проводились в уединенном уголке и à deux[20]. Завтрак поступления в гвардию был событием куда более значительным, и целью его являлось знакомство Бэзила с неким подполковником Ударного гвардейского пехотного полка бригады, который, как ошибочно полагал сэр Джозеф, ему, сэру Джозефу, симпатизировал.
Сэра Джозефа подполковник знал довольно плохо и приглашением на завтрак был удивлен и слегка встревожен, ибо исток испытываемого им недоверия коренился не в беспристрастной оценке тех или иных качеств сэра Джозефа, чего можно было ожидать, а, как это ни парадоксально, в страхе подполковника перед политиками и дельцами. Всех политиков подполковник считал не то чтобы олухами, а скорее хитрецами. Каждый из них, включая даже сэра Джозефа, виделся ему эдаким ренессансным титаном тонкого интриганства. Дружба и согласие с такими людьми обеспечивают успех и продвижение по службе, но малейшая размолвка – и вот вы уже никто, не оберешься позора и поношения. Для простого солдата – а уж кто как не подполковник имел право на это почетное звание – единственно верной и безопасной тактикой было избегать людей типа сэра Джозефа. А сталкиваясь с ними, следовало держаться с неизменной и откровенной сдержанностью. Таким образом, верность дружбе с Синтией Сил создала для сэра Джозефа двусмысленную ситуацию, в которой он сейчас и пребывал: человека, вызывавшего у сэра Джозефа глубокий и давний ужас, надлежало представить (с видами на протекцию) человеку, который и сам сейчас испытывал подобие страха.
Такое очевидное совпадение не внушало надежд на благоприятный результат. Подобно лорду Монмуту, Бэзил никогда не снисходил до щепетильности в вопросах выбора одежды, не признавая искусственных ограничений, и подполковник оглядывал его сейчас с некоторой брезгливостью. Неудачно подобранная троица направилась к столику.
Солдат и государственный деятель разложили на коленях салфетки и, захваченные увлекательным делом заказывания завтрака, позволили себе погрузиться в молчание, куда весело нырнул и Бэзил.
– Нам надо что-то делать с Либерией, полковник, – сказал он.
Подполковник смерил его оскорбленным взглядом. Так всегда смотрят простые солдаты, когда при них речь заходит о войне в ее широких аспектах.
– Полагаю, те, кто этим занимается, знают, что делать, – заметил он.
– Вы так думаете? – возразил Бэзил. – А я считаю, что у них и мысли нет на этот счет.
И минут двадцать он развивал тему, объясняя, почему Либерию необходимо срочно аннексировать.
Старшие молча ели. Наконец случайное упоминание России дало возможность сэру Джозефу вклиниться со своим мнением.
– Я с недоверием отношусь к разного рода пророчествам, – сказал он. – Однако есть нечто, в чем я совершенно уверен. Еще до Нового года Россия выступит против нас, чем заставит Италию и Японию перейти на нашу сторону. А мы тогда организуем блокаду, результаты которой все ощутят очень скоро. Войну для нас выиграют вещи, о которых ни вы, ни я ранее не слыхивали, такие как марганец или бокситы.
– И пехота.
– И к тому же пехота.
– Научите рядового шагать в строю и стрелять, дайте ему в командиры хорошего офицера, а остальное он сделает сам.
Бэзилу момент показался подходящим для того, чтобы обратить разговор к собственным проблемам.
– Какого офицера вы называете «хорошим»?
– Если он таков, каким надлежит быть офицеру.
– Удивительная вещь, – начал Бэзил. – Почему-то считается, что аристократы способны руководить людьми, вести их за собой. Так было в старину, когда они росли на принадлежащих им землях и в них воспитывалось умение об этих землях заботиться. Но теперь-то три четверти ваших офицеров живут в городах. Вот у меня земли нет.
Подполковник бросил на Бэзила исполненный отвращения взгляд.
– Да-да, понятно.
– А у вас как? Есть земля?
– У меня? Нет. Брат вот уж сколько лет как продал имение.
– Ну вот, видите!
Как было кристально ясно сэру Джозефу и как начал смутно подозревать Бэзил, подполковнику сказанное не понравилось.
– Сил был одно время кандидатом от консерваторов западных областей, – сказал сэр Джозеф, отчаянно желая удалить возможный источник предвзятого отношения.
– Кто только не объявлял себя консерватором за последние год-два. По мне, так половина всех несчастий отсюда и идет. – И, чувствуя, что, может быть, повел себя недостаточно корректно, подполковник милостиво добавил: – Не в обиду вам будь сказано. Надо думать, с вами все было в порядке.
Кандидатство Бэзила не было темой, о которой стоило особо распространяться, и сэр Джозеф повернул беседу в другую сторону:
– Конечно, чтобы перетянуть Италию на нашу сторону, французам потребуется пойти на ряд уступок – отдать Джибути, например, или что-нибудь в этом роде.
– Какого черта им это делать? – раздраженно вопросил подполковник. – Зачем нужна эта Италия?
– Чтоб послужить противовесом России.
– Каким образом? Почему? На каком участке? Совершенно не вижу смысла!
– И я не вижу, – поддержал Бэзил.
Угроза поддержки со столь нежелательной стороны заставила подполковника мгновенно перестроиться.
– Вот как? – сказал он. – Ну, не сомневаюсь, что Мейнверингу виднее. Знать такого рода вещи – его работа.
Ободренный этими словами сэр Джозеф на протяжении всего завтрака продолжал развивать план разумных уступок, которые Франции надлежало бы сделать Италии, называя в частности Тунис, Французское Сомали и Суэцкий канал.
– Корсику, Ниццу и Савойю, – предложил Бэзил.
Сэр Джозеф предложение отклонил.
Не солидаризируясь с Бэзилом, подполковник молча слушал предложения по расчленению союзника. Соглашаться на этот завтрак он не хотел. Ссылаться на занятость было бы глупо, но он на самом деле был чрезвычайно занят, занят больше, чем когда-либо, и два эти часа в середине дня нужны были ему для отдыха и восстановления сил. Он привык тратить их на общение с людьми, которым можно было поведать о своих делах, о том, чем он занимался утром, с людьми, которые оценили бы важность его деятельности, ну а если не это, то он мог бы провести эти часы с красивой женщиной. Клуб путешественников подполковник покинул так рано, как только позволяли приличия. Он был встревожен и раздосадован всем, что услышал, и в особенности подозрительным явлением этого юного радикала, чью фамилию он не запомнил. Уж от такого знакомства по крайней мере, думал он, сэр Джозеф мог бы его избавить!
– Ну как, Джо, все устроилось?
– Ничего пока не устроилось, Синтия, но начало положено, я запустил это дело.
– Надеюсь, Бэзил произвел хорошее впечатление.
– И я надеюсь. Боюсь, некоторые его высказывания были не слишком удачны.
– О господи… Ну и каков будет следующий шаг?
Сэру Джозефу хотелось сказать, что никакого следующего шага в этом направлении не будет, что самое большее, на что может надеяться Бэзил, это быть преданным забвению – через месяц-другой, когда улетучится воспоминание о злополучном завтраке…
– Ну, теперь все зависит от Бэзила, Синтия. Я его представил, а дальше он должен действовать сам, если и вправду хочет попасть в этот полк. Но я все думаю с тех самых пор, как вы впервые заговорили об этом, неужели вы считаете подходящим…
– Меня уверяли, что на большее он вряд ли способен.
– Да, это так. В известном смысле для него это предел.
– И значит, он продолжит знакомство, – подытожила железная женщина.
Подполковник тихо бурлил в своем кабинете, мало-помалу снижая градус кипения: офицер, не молодой, а матерый резервист, только что заявился к нему без перчаток и в замшевых ботинках; последовавший взрыв послужил отличной разрядкой, и теперешнее тихое бурление было скорее выражением удовольствия, разновидностью потаенного мурлыканья; такое настроение подполковника его подчиненные расценивали как хорошее. Он был преисполнен уверенности, что пока полк возглавляет он, ничего дурного случиться не может (и чувство это, как ни парадоксально, разделял с ним и проштрафившийся офицер). И вот, когда подполковник пребывал в таком относительно благоприятном расположении духа, ему доложили, что его хочет видеть некий мистер Сил, гражданский джентльмен. Фамилия эта подполковнику показалась незнакомой, как в первую минуту и внешность вошедшего Бэзила, которую Анджела, не жалея усилий и средств, постаралась видоизменить, сделав приемлемой для беседы с подполковником. Голову Бэзила украшала свежая стрижка, он был в крахмальном белом воротничке и котелке, снабжен тонкой золотой цепочкой от часов и прочими атрибутами респектабельности, при нем был новый зонтик. Анджела научила его и первым словам, которыми следовало начинать беседу: «Я знаю, полковник, что вы очень заняты, но надеюсь, вы сможете уделить мне несколько минут, чтобы я мог спросить у вас совета».
Начало прошло благополучно.
– Хотите в армию, – сказал подполковник. – Я думаю, в ближайшее время нам стоит ожидать наплыва людей со стороны. Даже в Бригаде формируются новые батальоны. Полагаю, вам следует поступить в пехоту. Поступать в кавалерию в наши дни бессмысленно. Все эти машины… С тем же успехом можно паровозы водить, если так уж хочется. Сейчас болтают много глупостей, что эта война – война механизированная, война в воздухе, война экономическая. Все войны ведутся пехотой. Так было испокон веков.
– Да, я как раз подумывал о пехоте.
– Верно подумывали. Говорят, в строевых частях большая нехватка офицеров. Не думаю, что вы собираетесь идти в рядовые, хе-хе! А то в последнее время с этим тоже немало глупостей происходит. Конечно, некоторым молодым джентльменам, которых я встречал, это не повредило бы, но в вашем возрасте самое разумное – это быть зачисленным в дополнительный резерв. Выберите название полка, куда вам желательно поступить. Есть несколько строевых подразделений, которые делают работу по-своему очень полезную, – и пусть командир напишет прошение о вашем зачислении.
– Строго говоря, я за этим и пришел. Я надеялся, что вы…
– Что я?..
Далеко не сразу медлительный ум подполковника осознал тот факт, что этот беспутного вида малый, так кардинально испортивший ему вчерашний завтрак, этот радикал, не знающий доподлинно, что значит «хороший офицер», на самом деле метит в Ударный гвардейский пехотный полк!
– Меня всегда тянуло в гвардейскую пехоту, – продолжал Бэзил, – и больше всего в ваш полк. Вы не такие надутые ханжи, как гренадеры, и у вас нет этих идиотских объединений по регионам – шотландцы, ирландцы, уэльсцы…
Не будь у полковника даже никакой иной причины оскорбиться, явись к нему Бэзил в обличье самом неотразимом, с впечатляющим списком спортивных побед, умей он самым естественным образом сочетать в своих манерах признание социального равенства с собеседником и уважение к его возрасту, являйся он законным владельцем тысячи арендованных у него земельных участков или даже будь он родным племянником его, подполковника, непосредственного командира, употребление гражданским лицом таких слов, как «надутые» и «идиотские» по отношению к гвардейским частям бригады уничтожило бы Бэзила в глазах подполковника окончательно и бесповоротно.
– И вот я что предлагаю, – продолжал Бэзил. – Записаться в дополнительный резерв и указать в качестве выбранного ваш полк. Так годится?
Когда подполковник смог заговорить, обретя голос, то контролировать его ему не удалось – из горла вырвались звуки, больше всего похожие на те, что издает висельник, успевший провисеть на веревке несколько секунд, прежде чем веревку перерезали. Он ощупывал ворот, как если бы там и вправду могла находиться петля.
– Нет, так не годится. Мы не берем офицеров из дополнительного резерва.
– Ну а как бы я мог поступить к вам?
– Боюсь, что я невольно ввел вас в заблуждение. В моем полку вакансий для вас нет. Мне нужны командиры взводов. В настоящее время у меня в полку имеются шесть или семь прапорщиков старше тридцати лет. Можете вы представить себя во главе взвода?
– Вообще-то могу, хотя такого мне бы хотелось меньше всего, почему я и не собираюсь в строевые подразделения. В конце концов, разве мало в гвардии чисто штабной работы, правда же? На самом деле я собирался записаться к вам, а потом присмотреть что-нибудь поинтереснее. Знаете, я думаю, что полковая жизнь покажется мне крайне унылой, но все уверяют меня, что для начала приличный полк – это самое лучшее.
Петля на шее подполковника стянула ему горло. Он не мог произнести ни звука, а потому издал некое подобие не человеческой речи, но вороньего карканья, сопроводив это красноречивым жестом, которым дал понять, что беседа окончена.
Среди подчиненных мгновенно разнеслась весть, что подполковник опять не в духе.
Бэзил поплелся назад к Анджеле.
– Ну, как все прошло, милый?
– Плохо. Очень плохо.
– О господи, а ведь ты так импозантно выглядел!
– Да дело было не в этом. Я и держался безукоризненно, и не сказал ничего лишнего. Наверно, этот старый хрыч опять что-то тут напутал.
Глава 7
Утверждая, что Петруша не может писать в охваченной войной Европе, мы хотим сказать, что он не может писать так, как писал раньше, верно? Так, может быть, ему лучше остаться здесь и замолчать эдак на годик, дав себе время для развития?
– О, не думаю, что Петруша с Цветиком способны развиваться. Я имею в виду, что вот шарманка, например, она же не развивается, а просто воспроизводит разные музыкальные мелодии, оставаясь все той же шарманкой. По-моему, Петруша с Цветиком как музыкальный инструмент достигли совершенства.
– В таком случае представь себе, что Петруша сумел бы развиться, а Цветик нет, или же что оба они развились, но в разных направлениях. Что тогда произойдет?
– Да, что тогда произойдет?
– Зачем им для написания стихотворения требуются двое? – спросила рыжеволосая девица.
– Ну, не мешай, Джулия, не уводи дискуссию в сторону!
– Я всегда считала, что стихи писать – это работа индивидуальная. И сдельная.
– Но согласись, Джулия, что ты не слишком-то искушена в вопросах поэзии.
– Потому и спрашиваю!
– Не кипятись, Том. На самом деле ей все это неинтересно. Ей просто нравится злить нас своим занудством.
Они завтракали в ресторане на Шарлотт-стрит, и за столом их было так много, что если рука одного тянулась к стакану, а одновременно с этим его сосед пытался своим ножом взять себе кусок масла, то манжет первого оказывался в масле; слишком много желающих было заполучить меню – один-единственный листок, написанный от руки на сероватой бумаге, листок передавали друг другу и изучали – с нерешительностью и безразличием; слишком много клиентов приходилось на одного официанта, и он путал и забывал заказы. За столиком их было всего шестеро, но для Амброуза это было слишком много. Беседа состояла из безапелляционных утверждений, перемежаемых восклицаниями. Жизнь Амброуза протекала в разговорах и для разговора. Он наслаждался этим хитроумным искусством – умением к месту добавить неотразимое, как удар, сравнение или комментарий, внезапно брызнуть фонтаном остроумных пародий, аллюзий, ясных для одних, непонятых другими, сверканием переменчивых мнений и непрочностью временных союзов; его забавляла дипломатическая тактика отступлений и преобразований, рост или ослабление первенства, укрепление или сведение на нет диктаторских полномочий. Все это могло происходить за один час застольной беседы. Но сохранялось ли это теперь? Не кануло ли безвозвратно изысканное и трудное искусство беседы вместе с прочими приметами погребенного навек мира Дягилева?
Вот уже который месяц он общался лишь с Поппет и ее друзьями, а с возвращением Анджелы Лайн и Бэзил откололся от группы, так же неожиданно, как и примкнул к ней, оставив Амброуза в странном ощущении покинутости.
Почему, недоумевал он, подлинные интеллектуалы обществу себе подобных всегда предпочитают прохвостов? Бэзил – филистер и плут, временами вызывающий скуку, временами – неловкость; таким, как он, в грядущем государстве рабочих не будет места, так почему же, думал Амброуз, мне так не хватает общения с ним? Странное дело, продолжал размышлять он, каким непригодным для обитания видится человеку цивилизованному, с развитым вкусом, тот рай, который рисует ему каждое из вероучений. Няня рассказывала мне о рае небесном с играющими на арфах ангелами, коммунисты манят меня описаниями мира всем довольных и праздных рабочих. Бэзил не вписывается ни в ту, ни в другую картину, его туда не пустят. Религия приемлема лишь в своей разрушительной фазе – монахи-пустынники, уничтожившие Ипатию Александрийскую с ее обманом; анархисты, сжигавшие на кострах монахов, в Испании; пламенные проповеди в часовнях, импровизированные выступления уличных ораторов, полных ненависти и зависти к богатым. С адом все ясно. Человеческий ум достаточно развит, чтоб создать вдохновенные описания всевозможных ужасов, но когда требуется изобрести рай, тут он демонстрирует лишь тупость и беспомощность. Вот чистилище – это то, что надо. Только чистилище способно даровать естественное счастье без благословенных пророческих видений, никаких тебе арф, никакого общеустановленного порядка, лишь вино, беседа и человечность в ее разнообразных проявлениях. Чистилище – место для некрещеного, для набожного язычника, для откровенного скептика. Удостоился ли я крещения современностью? По крайней мере имя мне оставили прежнее. Прочие писатели-леваки согласились на плебейскую односложность. Амброуз непростительно буржуазен. Так нередко повторяет Петруша. К черту Петрушу, к черту Цветика! Неужели у этих кошмарных молодых людей нет других тем для разговора!
Сейчас они спорили насчет счета, позабыв, что съел каждый или каждая из них, и передавали друг другу меню, сверяя цены.
– Когда ты решишь, сколько, скажи.
– У Амброуза счет, как всегда, самый крупный, – заметила рыжеволосая девица.
– Дорогая Джулия, только не говори мне, что на эту сумму семья рабочего могла бы кормиться целую неделю. Я чувствую, что не наелся и охотно поклевал бы еще, милочка моя. И я уверен, что рабочие едят гораздо больше.
– Да известен ли тебе прожиточный минимум для семьи из четырех человек?
– Нет, – печально согласился Амброуз, – он мне не известен. И не сообщай мне его. Цифра эта ни в малейшей степени меня не удивит. Я склонен предположить, что она трагически мала. (Зачем я говорю все это? К чему эти ужимки, эти подмигивания, дрожание ресниц, как если бы я сдерживался, чтобы фыркнуть от смеха? Почему я не говорю прямо, как подобает мужчине? Я похож на Апулеева осла, чей наглый голос все обращает в насмешку.)
Компания вышла из ресторана и нестройной кучкой встала на тротуаре, не в силах решить, куда и с кем кому идти, в какую сторону и зачем… Амброуз попрощался с ними и поспешил прочь странно легким шагом, но с тяжелым сердцем. Возле какого-то паба его грубо освистали два солдата. «Я пожалуюсь на вас вашему старшине», – весело, чуть ли не светски-любезно бросил им он и торопливо продолжил путь. Хотел бы я быть одним из них, думал он, быть с ними заодно, пить с ними пиво, провожать грубыми шутками проходящих мимо эстетов. Что сулит мне грядущая революция? Приблизит ли она меня к ним? Изменит ли мою походку, мою речь, станет ли мне менее скучно в обществе Поппет Грин и ее друзей? В начавшейся войне всем найдется дело. Один я тащу на себе груз своей непохожести.
Он пересек Тоттенхем-Корт-роуд и Гоуэр-стрит, идя без определенной цели, а просто желая глотнуть свежего воздуха. Лишь при виде застившего осеннее небо массива Лондонского университета и очутившись в его тени, он вспомнил, что здесь находится Министерство информации и что его издатель, мистер Джеффри Бентли, служит здесь, возглавляя один из недавно организованных подотделов министерства. Амброуз решил навестить его.
Пройти в здание оказалось делом чрезвычайно трудным. Лишь однажды Амброузу случилось столкнуться с подобными трудностями, когда ему необходимо было пройти на территорию расположенной за городом киностудии, где у него была намечена деловая встреча. Казалось, все тайны секретных служб всего мира собраны здесь, в этом солидном здании. Лишь после того, как в проходную был вызван мистер Бентли, который подтвердил личность Амброуза, его пропустили.
– Нам приходится проявлять бдительность, – пояснил мистер Бентли.
– Почему?
– Слишком много людей сюда проходит. Вы даже не представляете, насколько это осложняет работу.
– А в чем заключается ваша работа, Джеффри?
– Ну, главным образом, в том, чтоб отсылать желающих видеть меня к кому-нибудь, кого они вовсе не желают видеть. Я никогда не любил авторов, кроме, – добавил он, – моих личных друзей, конечно. Но я и понятия не имел, какое громадное количество людей считают себя авторами. Вот теперь и приходится с этим разбираться. Потому и книг так много. Книги я тоже никогда особенно не любил, кроме, конечно, тех, что написаны друзьями.
Поднявшись с мистером Бентли в лифте и проходя с ним по широкому коридору, Амброуз вдруг заметил Бэзила, беседовавшего с человеком в феске на каком-то иностранном языке, звучание которого походило на харканье.
– Этот человек к моим друзьям не принадлежит, – решительно заявил мистер Бентли.
– Он здесь работает?
– Не думаю. В отделе Ближнего Востока никто не работает, а только слоняются и болтают.
– Это в традициях восточного базара.
– Это в традициях государственной службы. Вот и моя каморка.
Они подошли к двери бывшей химической лаборатории и вошли. В углу примостилась белая фаянсовая раковина с монотонно капающим краном. В центре комнаты, пол которой был покрыт линолеумом, стояли ломберный столик и два складных стула. Личный уголок мистера Бентли был увенчан потолком, расписанным Анджелой Кауфман, и украшен тщательно отобранной мебелью в стиле ампир.
– Приходится ужиматься, знаете ли, – сказал мистер Бентли. – Я притащил сюда вот это, чтобы хоть как-то очеловечить обстановку.
«Вот это» относилось к двум мраморным статуям работы Ноллекенса, которым, по мнению Амброуза, очеловечить обстановку явно не удалось.
– Вам они не нравятся? А вы помните их на Бедфорд-сквер?
– Отлично помню, и мне они очень нравятся, но вам не кажется, Джеффри, что здесь они выглядят несколько устрашающе?
– Да, – печально согласился мистер Бентли. – Я понимаю, что вы имеете в виду. На самом-то деле они здесь для того, чтоб раздражать администрацию.
– Ну и как? Раздражают?
– До безумия.
И он продемонстрировал Амброузу длинный напечатанный на машинке текст меморандума с заголовком «Мебель, дополнительная по отношению к официально принятой и нежелательная».
– Я им на это… – И мистер Бентли показал еще более длинный текст ответного меморандума, озаглавленного: «Предметы искусства, способствующие душевному комфорту и отдохновению, отсутствующие в кабинетах штатных сотрудников». – А сегодня я вот что получил: «Цветы, фотографии в рамках и прочие мелкие декоративные элементы. Мраморные статуи крупного размера и мебель красного дерева. Декоративные функции последних и их отличия от функционального смысла первых». Видно, пришли в такую ярость, что даже изъясниться толком не могут! Ну, на время вроде затихло, но сколько усилий требуется, чтоб хоть как-то уломать их!
– Должно быть, даже одна из интереснейших во всей английской истории биография Ноллекенса их не убедит.
– Никоим образом.
– С какими же ужасными людьми вам приходится работать! Вы храбрец, Джеффри. Я бы так не сумел.
– Но ради бога, Амброуз, разве не за работой вы и пришли ко мне?
– Нет, я просто хотел повидать вас.
– Да все приходят меня повидать, но втайне надеясь устроиться на работу в министерство.
– Нет-нет!
– Бывает занятия и похуже, знаете ли. Мы привыкли честить почем зря наше доброе старое министерство, но тут у нас уже и сейчас работает ряд очень милых приличных людей, а с каждым днем мы пропихиваем сюда все больше и больше таких людей. Нет, бывают занятия гораздо хуже.
– Но я не ищу здесь никаких занятий. Я всю эту войну считаю безумием.
– Вы могли бы написать для нас книгу. Я задумал небольшую серию книг «За что мы воюем». У меня имеется договор с одним адмиралом в отставке, а также со священнослужителем англиканской церкви, с безработным докером, чернокожим адвокатом с Золотого берега и с врачом-ларингологом, практикующим на Харли-стрит. Первоначально это виделось как сборник, собрание разных мнений, но впоследствии идею пришлось видоизменить, как бы расширив. Взгляды наших авторов столь различны, что выпускать произведения под одной обложкой было бы неловко. Ваш труд прекрасно вписался бы в серию. Мы назвали бы его «Раньше я считал войну безумием».
– Но я и сейчас так считаю.
– Да, – произнес мистер Бентли, чей мгновенно вспыхнувший энтузиазм заметно ослабел, – я понимаю, что вы имеете в виду.
Открылась дверь, впустив в кабинет неприметного и аккуратного небольшого роста мужчину.
– Простите, – сдержанно сказал он. – Не ожидал, что вы работаете.
– Это Амброуз Силк. Мы обсуждаем возможность включения его книги в серию «За что мы воюем». А это сэр Филип Хескет-Смитерс, заместитель заведующего.
– Простите, я на минутку. По поводу меморандума RQ/1082/В4. Заведующий очень обеспокоен.
– Это касается записки «Документы, конфиденциальная информация, подвергнуть сожжению»?
– Нет, нет. Имеются в виду мраморные декоративные элементы.
– Мраморные статуи крупного размера и мебель красного дерева?
– Да. Красное дерево к вашему подразделению отношения не имеет. Это касается молельной скамеечки в отделе религии. Там исповедовал куратор из англиканской церкви. Заведующий очень беспокоится. Нет, это по поводу скульптурных изображений.
– Вы говорите о работах Ноллекенса?
– Да, об этих огромных статуях. Знаете, Бентли, они не годятся. Никоим образом.
– Не годятся для чего? – воинственно встрепенулся мистер Бентли.
– Заведующий считает, что они не годятся. Он говорит, и очень справедливо, что они порождают сентиментальные ассоциации…
– Да, у меня они рождают массу сентиментальных ассоциаций.
– С портретами членов семьи.
– Это и есть семейные портреты.
– Послушайте, Бентли… Там же статуя Георга Третьего.
– Мой дальний родственник, – вкрадчиво произнес мистер Бентли. – По материнской линии.
– … и миссис Сиддонс.
– Тоже родственница, и даже более близкая. С отцовской стороны.
– О! – воскликнул сэр Филип Хескет-Смитерс. – Вот как! А я и не знал. Объясню это заведующему. Надо думать, – с подозрением добавил он, – что такое совпадение заведующему и в голову не приходило.
– Уничтожен, – сказал сэр Бентли, когда дверь за заместителем закрылась. – Убит наповал. Рад, что вы стали свидетелем этой стычки. Теперь вы видите, чему нам приходиться противостоять. А теперь обратимся к нашим делам. Я все думаю, куда бы вас в нашем хозяйстве приспособить…
– Я вовсе не хочу, чтоб меня приспосабливали!
– Вы стали бы для нас огромным приобретением. Может быть, в отдел религии. По-моему, атеизм там представлен недостаточно.
В дверь опять просунулась голова сэра Филипа Хескет-Смитерса:
– Не могли бы вы разъяснить, каким именно образом вас связывают родственные узы с Георгом Третьим? Простите, что задаю такой вопрос, но заведующий наверняка спросит об этом.
– Родная дочь герцога Кларенса Генриетта сочеталась браком с Джервисом Уилбрахемом Эктонским. Нет нужды напоминать вам, что Эктон тогда был сельской местностью. А дочь ее Гертруда вышла замуж за моего деда с материнской стороны, который, хотя это к делу и не относится, трижды был мэром Чиппенхема. Он имел солидное состояние, которое в настоящее время, увы, растрачено и испарилось… Еще раз убит наповал, как мне кажется, – добавил он, когда дверь опять закрылась.
– Это правда?
– Что дед был мэром Чиппенхема? Совершеннейшая правда.
– А насчет Генриетты?
– В семье верили в эту легенду, – ответил мистер Бентли.
В другой ячейке этого огромного улья Бэзил излагал свой план аннексии Либерии. Немецких колонистов там в четырнадцать раз больше, чем британских. Они составляют сплоченный воинский контингент нацистов; через Японию они снабжаются оружием и только и ждут сигнала из Берлина, чтобы свергнуть правительство. Стоит им захватить Монровию, разместить там базу своих подводных лодок, и наш торговый путь вдоль Западного побережья окажется перерезанным. Тогда немцам останется только закрыть Суэцкий канал, что вполне возможно сделать из Массауа, как только им придет охота, и мы потеряем Средиземное море. Либерия – наше слабое место в Западной Африке, и мы должны в первую очередь войти туда. Неужели вы этого не видите?
– Да, да, но я не понимаю, почему вы с этим пришли ко мне.
– На вас ложится задача всей предварительной пропаганды и впоследствии объяснений с американцами.
– Но почему на меня? Существует же отдел Ближнего Востока. Вам следует обратиться к мистеру Полингу.
– Мистер Полинг направил меня к вам.
– Неужели? Интересно, почему. Я спрошу его! – Незадачливый чиновник взял телефонную трубку и после серии неверных соединений – с отделом кинематографии, теневым кабинетом министров Чехословакии – произнес: – Полинг, у меня тут некто Сил. Утверждает, что ко мне его направил ты.
– Да.
– Почему?
– Ну ты же утром отфутболил мне этого кошмарного турка.
– Турок – это детский сад по сравнению с тем, что получил я.
– Что ж, это будет тебе наукой не посылать ко мне новых турков.
– Только подожди, увидишь, кого я к тебе пошлю.
– Да. – Чиновник повернулся к Бэзилу: – Полинг ошибся. На самом деле ваше дело целиком в его компетенции. План крайне интересный, и мне хотелось бы оказать вам большее содействие. Скажу вам, кто, по моему мнению, готов будет вникнуть в ваш план – Дигби-Смит. Он занимается пропагандой и подрывной деятельностью на вражеской территории, а, как вы утверждаете, Либерию с полным правом можно отнести к потенциально вражеской территории.
Дверь открылась, впустив лучезарно улыбавшегося бородатого и губастого человека в длинной черной рясе. Достойную внешность вошедшего венчала шляпа без полей.
– Я – архимандрит Антониос, – представился он. – Можно войти?
– Входите, ваше блаженство, присаживайтесь, пожалуйста.
– Я пришел с рассказом о том, как был изгнан из Софии. Мне сказали, что следует рассказать об этом вам.
– Вы были в отделе религии?
– Я поведал историю моего изгнания вашим штатным священнослужителям. Болгарский клир утверждает, что я виновен в прелюбодеяниях, но на самом деле причина тут политическая. За прелюбодеяния в Софии не наказывают, если к делу не примешана политика. Вот почему я теперь в союзе с британцами, коль скоро болгары объявили меня прелюбодеем.
– Да, да, я вас понимаю, но наш отдел не имеет касательства к такого рода делам.
– Вас не касается то, что происходит в Болгарии?
– В какой-то степени касается, но ваш случай заслуживает рассмотрения в более широком контексте. Вам надо обратиться к мистеру Полингу. Я дам вам провожатого. Мистер Полинг занимается именно такими делами, как ваше.
– Серьезно? У вас здесь имеется особый отдел прелюбодеяний?
– Ну, можно и так сказать.
– Похвально. В Софии нет подобных отделов.
Его блаженство был препровожден куда следует.
– Ну а вы, желаете пообщаться с Дигби-Смитом, не так ли?
– Желаю?
– Да, он, несомненно, заинтересуется Либерией.
Прибыл еще один провожатый и увел Бэзила. В коридоре их остановил маленький, плохо выбритый человек с чемоданом.
– Простите, не скажете, как пройти в отдел Ближнего Востока?
– Вам вот сюда, – указал Бэзил. – Но там вам мало чем помогут.
– О, они заинтересуются тем, что у меня здесь в чемодане. Все заинтересовывались. У меня здесь бомбы, и ими можно снести крышу со всего этого здания, – пояснил безумец. – Я таскаю их из кабинета в кабинет с самого начала этой чертовой войны, иногда мне кажется, что взорвать их всех было бы самое милое дело.
– Кто направил вас в отдел Ближнего Востока?
– Парень по фамилии Смит. Дигби-Смит. Очень заинтересовался моими бомбами.
– Вы уже были у Полинга, да?
– Полинга? Был. Я вчера у него был. Он тоже очень заинтересовался. Я же говорю, что все заинтересовываются. Он-то и посоветовал показать бомбы Дигби-Смиту.
Мистер Бентли пространно рассуждал о трудностях и малых возможностях служащих министерства:
– Если бы не журналисты и не чиновники, – говорил он, – все было бы гораздо проще. Они считают, что министерство и существует-то единственно для их удобства. Строго говоря, я вообще не должен иметь дело с журналистами, я ведь здесь книгами занимаюсь, но они вечно спихивают на меня посетителей, когда те очень уж им докучают. Да что журналисты! Утром ко мне заявился человек с чемоданом бомб!
– Джеффри, – наконец перебил его Амброуз, – скажите мне, известен я как писатель левого направления?
– Конечно, мой дорогой, очень известен.
– Именно левого направления?
– Конечно, очень левого.
– И известен, я имею в виду, не только в левых кругах?
– Разумеется. А почему вы спрашиваете?
– Мне просто интересно.
Их разговор был прерван на несколько минут вторжением американского военного корреспондента, добивавшегося от мистера Бентли подтверждения слухов о прибытии в Скапу польской подводной лодки, а также о его аккредитации туда с поручением разузнать все это самолично; вдобавок мистер Бентли должен был прикомандировать к нему польского переводчика и объяснить, какого черта информацию о польской подводной лодке предоставили этому недоноску Паппенхакеру из Херстовского концерна, а не ему.
– О господи, – вздохнул мистер Бентли, – почему же вас направили ко мне?
– Я, кажется, числюсь у вас, а не в пресс-бюро.
Выяснилось, что это действительно так: как автор «Судьбы нацизма», книги, шедшей нарасхват по обеим сторонам Атлантики, этот человек был записан не журналистом, а литератором.
– Для вас это только лучше, – сказал мистер Бентли. – В нашей стране звание литератора гораздо выше, чем звание журналиста.
– Поможет ли мне это звание попасть в Скапу?
– Мм, нет…
– Получить польского переводчика?
– Нет.
– Так на черта мне звание литератора?
– Я переведу вас в другой отдел, – пообещал мистер Бентли. – Ваше место – это пресс-бюро.
– Там сидит какой-то юный сноб, который разговаривал со мной так, будто я дохлая мышь, которую притащила кошка! – пожаловался автор «Судьбы нацизма».
– Он больше не будет так с вами разговаривать, если вы официально станете там числиться. Но раз уж вы сейчас здесь, то как вы отнесетесь к предложению написать для нас книгу?
– Нет.
– Нет? Ну, надеюсь, что в Скапу вы так или иначе попадете… Никогда ему туда не попасть, – добавил мистер Бентли, когда дверь закрылась, – никогда и ни за что, будьте уверены. Вы его книгу читали? Удивительно глупая книга. Он пишет там, что Гитлер тайно женат на еврейке. Один Бог знает, что он напишет, если пустить его в Скапу.
– А если все-таки ему удастся туда попасть, что, по-вашему, он способен написать?!
– Что-нибудь крайне скандальное, не сомневаюсь, но ответственность за это мы нести не будем. Или будем? Как вам кажется?
– Джеффри, вы сказали, что я широко известен как левый писатель. Подразумевает ли это, что, если фашисты придут к власти у нас, я буду у них в черных списках?
– Несомненно, мой дорогой.
– Они творили ужасные вещи с левой интеллигенцией в Испании.
– Да.
– И это же творят сейчас в Польше.
– Да.
– Ясно.
На несколько секунд их разговор прервало появление архимандрита. Тот выразил огромную готовность написать книгу об интригах нацистской коалиции в Софии.
– Вы полагаете, что сможете помочь перетянуть Болгарию на нашу сторону?
– Это будет плевок в лицо болгарам, – заявил его блаженство.
– Думаю, он способен написать отличную автобиографию, – сказал мистер Бентли, когда священник покинул их. – В мирное время я бы заключил с ним договор.
– Джеффри, вы всерьез считаете, что я мог бы попасть в черные списки левой интеллигенции?
– Конечно, всерьез. В первую же строку списков. И вы, и Петруша с Цветиком.
От упоминания этих двух знакомых имен Амброуза слегка передернуло.
– С ними все в порядке, – сказал он. – Они в Штатах.
Бэзил и Амброуз встретились на выходе из министерства. Они задержались на минутку, наблюдая короткую стычку автора «Судьбы нацизма» с полицейским охранником. Судя по всему, американец в припадке раздражения порвал клочок бумаги, являвшийся пропуском, и теперь охрана его не выпускала.
– В каком-то смысле мне даже жаль его, – заметил Амброуз. – Это не то место, где хочется пробыть до самого конца войны.
– Мне предложили здесь работу, – соврал Бэзил.
– И мне тоже, – сказал Амброуз.
Они вместе шагали по сумрачным улицам Блумсбери.
– Как Поппет? – наконец нарушил молчание Бэзил.
– Взбодрилась после твоего ухода. Пишет и пишет. Безостановочно, как сенокосилка.
– Надо будет выбрать время и заглянуть к ней. С тех пор как вернулась Анджела, я так занят. Куда мы идем?
– Не знаю. Мне некуда идти.
– И мне идти некуда.
На улице повеяло вечерней прохладой.
– Я чуть было не вступил в Ударный гвардейский пехотный полк, – сказал Бэзил.
– У меня когда-то был там дружок капрал.
– Давай-ка лучше навестим Соню с Аластером.
– Я сто лет там не был.
– Так идем! – Бэзилу требовался кто-то, чтобы оплатить такси.
Но, приехав в домик на Честер-стрит, они застали там одну Соню, которая запаковывала вещи.
– Аластер уехал, – сообщила она. – Он теперь в армии – рядовым. Ему сказали, что для командного состава он слишком стар.
– Господи, совсем как в четырнадцатом…
– И я уезжаю – еду к нему. Он возле Бруквуда.
– Тебе понравится там, около некрополя, – сказал Амброуз. – Чудесное местечко. На кладбище целых три паба, прямо среди могил. Я спросил девушку в баре, сильно ли напиваются скорбящие на похоронах. «Нет, – отвечает, – напиваются потом, когда приходят на могилы. Тогда им надо как-то утешиться». А ты знаешь, что у ветеранов есть свое кладбище? Может быть, если Аластер окажется хорошим солдатом, он удостоится принятия в почетные члены Союза…
Амброуз все болтал и болтал. Соня паковалась. Бэзил рыскал в поисках бутылок.
– Нечего выпить.
– Все упаковано, милый, извини. Надо будет куда-нибудь пойти.
Позже, когда все вещи были уложены, они вышли в затемнение и дошли до бара. Там к ним присоединились друзья.
– По-видимому, мой план аннексии Либерии никого не заинтересовал.
– Сволочи.
– Они начисто лишены воображения и отвергают все, что им предлагается со стороны. Все равно как огороженные места для членов того или иного клуба на скачках. Нет на тебе нужного значка – не пустят.
– Думаю, Аластер это тоже ощутил.
– Война будет долгой. Подожду, пока не подвернется какая-нибудь забавная работенка для меня.
– Не верю я, что все так и будет.
Все разговоры вертятся вокруг одного, думал Амброуз, вокруг работы и какая война предстоит. Война в воздухе, война на истощение, танковая война, война нервов, война пропагандистская, война в тылу противника, маневренная война, народная война, мировая война, простая война, война бесконечная, война непостижимая, война скрытая, без определенных признаков и проявлений, война метафизическая, война во времени и пространстве, вечная война… Всякая война бессмысленна, думал Амброуз, и плевать я хотел на их войну, ко мне она не имеет отношения. Однако, думал он, если я один из них, если я не космополит, не еврейский гомик, не из тех, кого нацисты называют дегенератами, если я не одиночка, не единственный сохранивший здравомыслие индивид, если я принадлежу к этому стаду, являюсь частью народа, если я как нормальный человек несу ответственность за благополучие всего стада, то, клянусь всем святым, думал Амброуз, не стану я сидеть и рассуждать о том, какая война нам предстоит, а сделаю эту войну своей войной, я примусь убивать и обращать в бегство чужое стадо так живо и рьяно, как только смогу. И можете быть уверены, в моем стаде не будет скотов, вынюхивающих для себя подходящую работу!
– Берти надеется получить должность в топливном управлении на Шетлландских островах.
– Элджернон отправлен в Сирию с очень важным секретным заданием.
– Бедный Джон все никак не устроится.
Бесконечное толчение воды в ступе, думал Амброуз, ну и стадо…
А между тем деревья оголились, и затемнение делали все раньше, и осень сменилась зимой.
Часть вторая. Зима
Глава 1
Зима принялась за дело не на шутку. Польша потерпела поражение, на запад и восток потекли потоки пленных, отправляемых в рабство; английские пехотинцы валили лес и рыли окопы на бельгийской границе; почетные гости приезжали на осмотр линии Мажино и возвращались оттуда, как после паломничества в святые места, с памятными медалями. Белиша был изгнан, и радикальные газеты уже начали шумную кампанию за его возвращение. Россия вторглась в Финляндию, и газеты на все лады расписывали армии солдат в белых маскхалатах, рыскающие по лесам. Английские солдаты-отпускники привозили рассказы о дерзости и хитрости нацистских патрулей и о том, насколько лучше устроено затемнение в Париже. Многие утвердились во мнении, что Чемберлену следует уйти. Французы упрекали англичан в легкомысленном отношении к войне, а Министерство информации в свой черед ставило в вину французам излишне серьезное к ней отношение. Сержанты-инструкторы жаловались на нехватку амуниции на лагерных складах. Как прикажете обучать солдат трем правилам взятия на мушку, если нет мишеней?
Аллеи в Мэлфри утопали в сухой листве, и если раньше листья убирала дюжина мужчин, то в этом году уборкой занимались четверо взрослых и двое мальчишек. Фредди пришлось, по собственному его выражению, «учиться слегка втягивать рожки».
Гостиная Гринлинга Гиббонса и прочие парадные комнаты и галереи были заперты и заколочены, ковры свернуты, мебель убрана в чехлы, люстры укутаны тканью, окна занавешены и закрыты ставнями и щеколдами; холл и лестница пустовали, погруженные во мрак. Барбара перебралась в маленькую восьмигранную гостиную с выходом в цветник, детей она перевела в комнаты рядом; так называемое «холостяцкое крыло», где в Викторианскую эпоху жили крепкие юноши, привыкшие к суровой обстановке колледжа и солдатского барака, было отдано эвакуированным. Фредди навестил усадьбу, отдав дань сезону охоты на четыре вида промысловых птиц, обитавших окрест. Но гостей своих на этот раз он разместил вне дома – одного на ферме, трех – в доме у пристава и двух – в «Гербе Сотхилов». Под конец сезона он вместе с несколькими своими полковыми приятелями отправился пострелять еще тетеревов – добыча была скудной, и все больше курочки.
Когда Фредди бывал дома, включали паровое отопление, в другое время в доме стоял холод – система был устроена так, что отапливался весь дом целиком, а включать его лишь в уголке, занимаемом Барбарой, было невозможно; включенное отопление шумело и булькало в трубах и пожирало несметное количество угля. «Счастье еще, что у нас дров много», – говорил Фредди. Принесенные из парка неотесанные чурки слабо и дымно горели в каминах. Барбара, чтобы согреться, частенько спасалась в оранжерее. «Тут необходимо поддерживать тепло, – говорил Фредди. – Ведь у нас много редких растений. Человек из Кью[21] утверждал, что таких во всем графстве не найдешь…» В конце концов Барбара перенесла в оранжерею свой письменный стол и стала коротать дни среди тропической зелени, в то время как снаружи леденела земля и деревья стояли белые на фоне свинцово-серого неба.
За два дня до Рождества полк Фредди перебросили в другой конец страны. Там у него оказались друзья, жившие поблизости в просторном доме, где он и стал проводить уикенды, в связи с чем отопление в усадьбе включать и вовсе перестали, и холод, казавшийся ранее лишь недостатком тепла, сделался полным и воцарился в доме окончательно. Вскоре после Рождества навалило снега, и вместе со снегопадом явился Бэзил.
Прибыл он, как всегда, неожиданно. Осененная пальмовыми листьями и папоротниками, Барбара подняла глаза от письма и увидела его в стеклянной двери. Она бросилась к брату с поцелуями и криками радости.
– Милый, как чудесно! Ты побудешь здесь?
– Да, мама сказала, что ты одна.
– Не знаю, где тебя разместить. Жизнь у нас пошла такая странная. Ты ведь никого с собой не привез, нет?
Одним из постоянных поводов к недовольству у Фредди была привычка Бэзила не только не предупреждать о своем приезде, но и притаскивать с собой незваных гостей.
– Нет, никого. Да и кого сейчас пригласишь… Я приехал, чтобы книгу писать.
– О Бэзил… Прости, но неужели дела так плохи?
Многое из того, что существовало между сестрой и братом, не нуждалось в словах. Вот уже который год, если невезение достигало предела, Бэзил принимался за писание какой-нибудь книги. Это означало как бы капитуляцию, а тот факт, что каждая из этих книг – два романа, путевые заметки, биография, труд по новейшей истории – не продвигалась далее десяти тысяч слов, служил доказательством удивительной жизнеспособности Бэзила и его умения восстанавливаться после полученного удара.
– Книга моя будет посвящена вопросам стратегии, – поведал Бэзил. – Я устал от попыток пропихнуть свои идеи в головы властей предержащих. Остается только одно: обратиться поверх их голов к мыслящей аудитории. Основная тема – это аннексия Либерии, но попутно я затрону и другие животрепещущие вопросы. Трудность заключается в необходимости выпустить книгу вовремя, иначе влияние ее будет сведено к нулю.
– Мама говорила, что ты поступаешь в Ударный гвардейский полк.
– Да. Не вышло. Говорят, им нужны люди помоложе. Типичный армейский парадокс – утверждать, что в настоящее время мы слишком стары, а вот через год-другой нас призовут. Я напишу об этом в книге. Разве не логичнее было бы отправить на бойню в первую очередь стариков, пока они еще шевелятся? Я собираюсь писать не только о стратегии, это будет очерк общей политики страны.
– Ну, я, так или иначе, рада тебя видеть. Мне было так одиноко.
– И мне.
– А куда все подевались?
– Ты имеешь в виду Анджелу. Отправилась домой.
– Домой?
– В дом, который мы называли «Седриковы руины». На самом деле это, конечно, ее дом. А Седрик опять в армии. Этому трудно поверить, но когда-то он был лихим младшим офицером. Таким образом, есть дом и есть этот бандит Лайн, и есть власти, которые превратили дом в лазарет. Анджеле пришлось вернуться, чтобы самой все проконтролировать. Дом уставлен койками и полон врачей и медсестер, ожидающих прибытия пострадавших от бомбардировок, а тем временем у жительницы окрестной деревни случился аппендицит, и ее пришлось везти за сорок миль на операцию, потому что она не являлась жертвой бомбардировки. По дороге женщина умерла. Анджела подняла шум и возглавила целую кампанию, которая, не удивлюсь, если не увенчается успехом. Она, кажется, решила, что для меня лучше всего быть убитым. Мама тоже так считает. Смешно. Раньше меня время от времени принимались преследовать, и всем было наплевать. Теперь же, когда я не по своей воле пребываю в безопасном бездействии, они, по-видимому, полагают это позорным.
– Как насчет новых девушек?
– Была одна. Некая Поппет Грин. Тебе бы она не понравилась. Тоска. Аластер служит рядовым в Бруквуде. Я навестил их там. Они с Соней снимают жуткую виллу возле полей для гольфа, и Аластер проводит там время, когда получает увольнительную. Он говорит, что самое неприятное для него – это увеселения. На них солдат отряжают дважды в неделю, и сержант неизменно выбирает Аластера, повторяя одну и ту же шутку: «Пошлем туда нашего гольфиста». Но в другое время никаких особых строгостей, и обстановка самая дружеская. Питер принят в часть, которую отправляют воевать в Арктике. Перед этим им всем дали отпуск, и они проводят его в Альпах, занимаясь зимними видами спорта. Амброуза Силка, думаю, ты не помнишь. Он создает новый журнал, чтобы не дать умереть культуре.
– Бедный Бэзил. Ну, надеюсь, тебе не придется работать над книгой слишком долго. – Многое из того, что существовало между сестрой и братом, не нуждалось в словах.
В тот же вечер Бэзил начал свою книгу, иными словами, он разложил ковер перед столбом дыма, шедшим от каминной решетки в восьмиугольной гостиной, и напечатал на машинке список возможных названий:
Слово к неразумным
Введение в разруху
Берлин или Челнем, выбор военачальников
Политика или военное руководство. Несколько вопросов штатского к профессиональным военным
Политика или профессионализм
Негромкое искусство побеждать
Утерянное искусство побеждать
Как выиграть войну за полгода. Простое пособие для честолюбивых военных
Каждое название ему нравилось и казалось подходящим, и, глядя на список, он в который раз за последние четыре месяца поражался тому, как может в такое время оставаться невостребованным человек его способностей.
Поневоле усомнишься в победе, думал он.
Барбара читала, сидя возле брата. Услышав тяжкий вздох, она коснулась ласковой сестринской рукой его волос. «Ужасный холод, – произнесла она. – Я думаю, может быть, стоит попробовать затемнить стекла оранжереи. Тогда мы смогли бы проводить там вечера».
Неожиданно раздался стук в дверь, и вошла закутанная женщина средних лет, в меховых рукавицах и с электрическим фонариком, послушно закамуфлированным оберточной бумагой. Нос женщины был красен, глаза слезились, она топала ногами, стряхивая снег с резиновых бот. Это была миссис Фремлин из Падубов. Выманить ее из дома в такое время и такую погоду могла только дурная весть.
– Я прямо к вам, – пояснила она самоочевидное. – Не стала ждать снаружи. Плохо дело. Конноли вернулись.
Дело было и вправду плохо. За несколько часов, что он провел в Мэлфри, Бэзил успел многое услышать о Конноли.
– О господи! – воскликнула Барбара. – Где они?
– Здесь, в прихожей.
Эвакуация шла в Мэлфри тем же порядком, как и в других частях страны, превратив за эти четыре месяца Барбару, одну из самых известных обитательниц округи, ныне отвечавшую за размещение эвакуированных, не только в вечную хлопотунью, но и в пугало для окрестных жителей. Завидев приближавшуюся машину Барбары, люди бросались в бегство по тайным тропам, через черный ход и скотный двор, в снег и метель, куда угодно, лишь бы избежать ее уговоров:
– Но вы ведь сможете принять еще одного. На этот раз это мальчик и очень воспитанный!
Дело в том, что направляемый городскими властями в деревню поток беженцев постоянно превышал количество недовольных, возвращающихся обратно в город. Из первых эвакуированных, тех, кто в первый день войны в угрюмом молчании сидел на деревенском пятачке, выдержали пребывание здесь совсем немногие. Одни вернулись сразу же, другие сделали это вынужденно, в ответ на слухи о безобразиях, учиненных их мужьями.
Одна эвакуированная, как выяснилось, оказалась мошенницей: она так впечатлилась пропагандой властей, что, будучи бездетной, но желая поскорее очутиться в безопасности, выкрала младенца из оставленной без присмотра коляски. Теперь эвакуированными в основном оказывались дети – сгрудившиеся на пятачке, они казались не такими угрюмыми и наглядно демонстрировали членам сельской общины, каково приходится обитателям других частей страны. Их терпели как неизбежное и временное зло. К некоторым из них их хозяева даже привязывались, но какие бы то ни было выводы и обобщения по молчаливому уговору не касались семейства Конноли.
Явились они, по-видимому, непосредственно как кара Господня без какого бы то ни было человеческого посредничества: фамилии этой в списках не значилось, документов у них тоже не было, как не было и ответственных за них. Их обнаружили прятавшимися под скамейками в поезде, когда вагон чистили в вечер прибытия первого потока. Детей извлекли из-под скамеек, они стояли на платформе, и никто не знал, кто они и откуда взялись. Так как оставить их на платформе было невозможно, Конноли включили в группу, отправлявшуюся на автобусе в Мэлфри. Внесенные в список, они обрели официальное существование, и с тех пор их судьба неразрывно сплелась с судьбой Мэлфри.
Узнать что-либо о родителях Конноли не удалось. Когда лаской или угрозами детей пытались заставить раскрыть свое происхождение, они нехотя упоминали некую «тетушку». Для этой женщины, судя по всему, война оказалась долгожданным освобождением. Она привела опекаемых на железнодорожный вокзал, пихнула их в толпу гужевавшихся на перроне подростков, после чего поспешно скрылась и замела все следы, съехав из дома неизвестно куда. Поиски полиции и расспросы жителей окрестных кварталов свелись к единственному результату – информации о том, что женщина здесь жила, но больше не живет. Она осталась должна некоторую малую сумму за молоко – это все, что о ней помнили ее невозмутимые соседи.
Одной из Конноли была Дорис, половозрелая девушка лет, как следовало из ее разнообразных ответов, от десяти до восемнадцати. Мгновенно возникшие и хитрые попытки записать Дорис во взрослые были пресечены осмотревшим ее доктором, который определил возраст девушки как «около пятнадцати лет». У Дорис были черные, коротко остриженные волосы, большой рот и темные свинячьи глазки. В ее внешности было что-то эскимосское, но лицо у нее было румяно, а в манерах наблюдалась живость, обычно не присущая представителям этой достойной народности. Она была коренаста, с распиравшей платье грудью и позаимствованной у звезд кинематографа походкой, видимо, должной обозначать соблазн.
Мики, чей возраст, если судить по сроку его довольно сурового приговора за кражу со взломом, был меньше возраста сестры, а фигура – худее, отличался хилостью и хмуростью. Он был молчалив, а если и произносил что-то, то все слова были непечатными.
Марлин была признана на год младшей, чем брат, поскольку яростные его возражения помешали посчитать ее и Мики близнецами. Явившись плодом более длительного, нежели обычный, совместного загула ее родителей, она родилась умственно отсталой. Но документировать это не позволил доктор, выразивший мнение, что жизнь на вольном воздухе порой творит чудеса.
Такими они и предстали в самый канун войны в помещении приходского совета Мэлфри: одна с плотоядной ухмылкой, другой понуро, третья – пуская слюни, – более неприглядное семейство, наверное, трудно было бы сыскать во всем королевстве. Барбара окинула их взглядом, потом взглянула еще раз, дабы удостовериться, что глаза ее не лгут, и определила Конноли к Маджам из Лэмстока, крепкого фермерского хозяйства, находившегося в отдалении от Мэлфри.
Не прошло и недели, как возле парковой ограды возник молочный фургон мистера Маджа, в котором находились и трое детей.
– Я не из-за себя, миссис Сотхил, меня целый день дома нет, кручусь-верчусь, а вечерами такой замотанный, что только бы до постели добраться, так что мне это еще куда ни шло. Дело тут в моей старухе. Все это на ее шею, и терпеть больше она не желает. Заперлась на чердаке и сказала, что не спустится, пока они в доме. А если она что сказала, миссис Сотхил, то значит, так тому и быть. Мы всей душой хотим помочь, когда война и все такое, но вытерпеть этих огольцов нет никакой возможности, это точно.
– О господи… Кто же из них, мистер Мадж, доставляет вам неприятности?
– Да все они. Сперва казалось, что парнишка еще ничего, хотя и понимать, что он говорит, трудно было, ведь в тех местах, откуда он, и говорят-то по-особому. Дикий, нелюдимый, ладно, но вроде вреда от него особого нет, так думали до истории с гусем, когда он увидел, как я гуся режу. Я нарочно ему показал, думал развлечь, ну и пусть приучается к сельской жизни, может, фермером станет. Дал ему голову поиграть, и он вроде рад был. Я ушел работать на свекольное поле, и, разрази меня гром, если вру, он раздобыл где-то нож. А когда я вернулся к ужину, шесть моих уток уже без голов валялись и старый наш кот вместе с ними. Да, мэм, истинная правда, разрази меня гром, если он и коту нашему рыжему голову не отхватил. Младшая их девчонка – от нее грязь одна. Не только в постель мочится каждую ночь, но и всюду – и на пол, и на стулья, да и не только мочится. Видно, там, откуда она, не научили ее, как в доме вести себя следует.
– Но старшая девочка хоть как-то помогает?
– По мне, мэм, так старшая – это самое зло и есть. Моя старуха, может, и терпела бы, если бы не старшая. Из-за Дорис этой она и взбеленилась. Слаба эта Дорис на передок, вот в чем дело. Истинно так, мэм. Она даже ко мне подкатывалась, хотя я ей в деды гожусь. И Вилли нашему она прохода не дает, ни на минуту не оставляет его в покое. А он скромный парень, Вилли, стеснительный, не может работать, когда она к нему лезет, лезет и не отстает никак. Вот такие дела, мэм. Вы уж простите, что не выдержали, но я обещал моей старухе, что вернусь один, без них, и от слова своего отступать никак не могу.
Мистер Мадж был первым в череде принимающих сторон. Самый долгий срок пребывания Конноли у тех или иных хозяев составлял десять дней, самый короткий – час с четвертью. За полтора месяца слух о них разнесся далеко за пределы прихода. Влиятельные люди в Лондоне, собираясь в «Терфе»[22], втихомолку обсуждали эту тему: «Весь план с самого начала был ошибкой. Вчера я узнал о некоторых примерах поведения этих эвакуированных…» – и весьма вероятно, что причиной скандала послужили именно Конноли. Речь о них шла и в палате общин, им посвящались параграфы официальных документов.
Барбара попыталась разделить детей, но в первую же ночь разлученная с братом и сестрой Дорис вылезла в окно и пропала; по прошествии двух дней ее обнаружили в сарае, находившемся в восьми милях от дома, упившуюся сидром и неспособную внятно рассказать о том, где она была и что делала все это время. В тот же вечер Мики искусал жену дорожного рабочего, в дом которого был определен, да так сильно, что пришлось обратиться к окрестной фельдшерице. С Марлин же случился сильный припадок, породивший не воплотившуюся в жизнь надежду на возможность летального исхода. Все пришли к единому мнению, что единственным подходящим местом для Конноли является «спецучреждение», и перед самым Рождеством после выполнения ряда формальных процедур, осложненных неясностью происхождения Конноли, они наконец-то были в такое учреждение отправлены, и Мэлфри вернулась к своим обязанностям по приему гостей и увеселению их с помощью елки и фокусника, сопровождая все это вздохами облегчения, слышными далеко окрест. Подобное испытывают люди, когда после ужасов ночного авианалета слышат сигнал отбоя.
– Что случилось, миссис Фремлин? Ведь не мог же приют отправить их обратно!
– Учреждение эвакуировали, и всех детей разослали по местам, откуда они прибыли. Единственный адрес, который имели Конноли, это Мэлфри, и вот они здесь. Инспекторша по делам несовершеннолетних привезла их в приходской совет. Я находилась там с девочками-скаутами и вызвалась проводить их к вам.
– Они могли бы и предупредить нас.
– Наверно, побоялись дать нам время опомниться, чтобы мы не воспротивились их плану.
– Очень верная тактика с их стороны. Конноли накормлены?
– Должно быть. Во всяком случае, Марлин в машине сильно рвало.
– Мне не терпится увидеть этих Конноли, – сказал Бэзил.
– Увидишь, – сурово пообещала сестра.
Однако в прихожей, где их оставили, детей не оказалось. Барбара позвонила в колокольчик.
– Бенсон, вы помните детей Конноли?
– Прекрасно помню, мадам.
– Они вернулись.
– Сюда, мадам?
– Сюда. Они где-то в доме. Вам лучше сразу же организовать поиски.
– Очень хорошо, мадам. А когда мы их отыщем, их тут же заберут?
– Не тут же. На ночь их придется оставить здесь. А завтра я подыщу для них место в деревне.
Бенсон помялся.
– Это будет нелегко, мадам.
– Да, Бенсон, это будет нелегко.
Бенсон опять помялся в нерешительности, а затем счел за лучшее сказать лишь:
– Ну так я начинаю поиски.
– Я его понимаю, – сказала Барбара, когда Бенсон вышел. – Он трусит.
В конце концов Конноли разыскали и собрали вместе. Дорис была обнаружена в спальне Барбары, где пробовала на себе ее косметику. Мики застигли в библиотеке раздирающим ценный фолиант, Марлин нашли под раковиной в судомойке, где она поедала остатки из собачьих мисок. Когда Конноли, собрав, опять водворили в прихожую, Бэзил смог разглядеть детей. Вид их произвел на него впечатление большее, чем можно было ожидать. Детей увели в холостяцкое крыло и поместили там в большую комнату.
– Дверь запереть?
– Не поможет. Если захотят уйти, уйдут.
– Можно вас на пару слов, мадам? – попросил Бенсон.
Вернувшись, Барбара сказала:
– Бенсон трусит. Отказывается с ними оставаться.
– Хочет уйти?
– Говорит, либо он, либо Конноли. Не могу его винить. Фредди никогда не простит мне его уход.
– Бэбс, ты хлюпаешь носом.
– И кто бы не хлюпал на моем месте! – воскликнула Барбара, вытаскивая платок и плача теперь уже в открытую. – Скажи, кто?
– Не будь дурой, – сказал Бэзил, переходя, как это часто бывало в их с Барбарой разговорах, на школьный жаргон. – Я все устрою.
– Бахвал. Сам дурак. Дурак в квадрате.
– Дурак в квадрате и с нашлепкой на носу.
– Милый Бэзил, как чудесно, что ты вернулся. Я уверена, что, если кто-то может все устроить, так это ты.
– Фредди бы не смог, правда?
– Фредди нет дома.
– Я умнее Фредди. Бэбс, скажи, что я умнее Фредди.
– Я умнее Фредди. Один-ноль.
– Бэбс, скажи, что меня ты любишь больше, чем Фредди.
– Меня ты любишь больше, чем Фредди. Два-ноль.
– Скажи: я, Барбара, люблю тебя, Бэзил, больше, чем Фредди.
– Нет. Это не так. Зараза, ты мне больно делаешь!
– Скажи!
– Бэзил, прекрати сейчас же или я позову мисс Пенфилд!
Они вернулись на двадцать лет вспять, к школьным своим годам: «Мисс Пенфилд! Мисс Пенфилд! Бэзил меня за волосы дергает!»
Брат с сестрой возились на диване. Внезапно раздался голос: «Эй, миссис… – Это была Дорис. – Миссис…»
Барбара вскочила растрепанная, запыхавшаяся:
– В чем дело, Дорис?
– Марлин опять тошнит.
– О боже… Сейчас иду. Беги.
Дорис бросила на Бэзила томный взгляд.
– Проказничаете, а? – поинтересовалась она. – Я люблю проказничать.
– Беги, Дорис. Простудишься.
– Мне не холодно. Подергай меня за волосы, мистер, если хочется.
– Не скажу, что мечтал об этом.
– А я скажу. Я много о чем мечтаю. Давайте, мистер, потяните. И посильнее. Я не против. – Она склонила к Бэзилу коротко стриженную голову и тут же с хихиканьем выбежала из комнаты.
– Вот видишь, – сказала Барбара. – Проблемный ребенок.
Убрав за Марлин ее рвоту, Барбара вернулась, чтобы попрощаться на ночь.
– Я пока еще не стану ложиться, над книгой поработаю.
– Ладно, милый. Спокойной ночи.
Перегнувшись через спинку дивана, она поцеловала Бэзила в макушку.
– Больше не хлюпаешь?
– Нет, не хлюпаю.
Он поднял на нее глаза и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Улыбнулась такой же улыбкой. Оба видели себя отраженными в глазах друг друга. Никто не сравнится с Бэзилом, думала Барбара, глядя на свое отражение, никто, когда он такой.
Глава 2
Наутро к Бэзилу зашел Бенсон, оставшийся в доме, с тех пор как Фредди «слегка втянул рожки», единственным слугой мужского пола. (Своего лакея Фредди взял с собой в отряд йоменских добровольцев и содержал его теперь на более экономном уровне за счет короны.) Глядя из постели, как слуга раскладывает его одежду, Бэзил размышлял о некой небольшой сумме, которую он оставался должен Бенсону с предыдущего своего визита.
– Бенсон, что это за слух о том, что вы уходите?
– Я погорячился вчера, мистер Бэзил. Я никогда не оставил бы Мэлфри, и миссис Сотхил это знает. Тем более когда капитан в отъезде.
– Миссис Сотхил была очень расстроена.
– Я тоже, мистер Бэзил. Вы не знаете, что такое эти Конноли. Это не люди!
– Мы найдем, у кого их поселить.
– В наших краях никто не возьмет их. Даже за сто фунтов.
– Мне кажется, я должен вам денег.
– Да, мистер Бэзил. Двенадцать фунтов десять шиллингов.
– Там много? Со временем я отдам.
– Да, мистер Бэзил.
– Отдам непременно, Бенсон.
– Надеюсь, сэр. Я уверен в этом.
Бэзил задумчиво погрузился в ванну. Никто в наших краях не возьмет Конноли. Даже за сто фунтов. Даже за сто фунтов.
С начала войны Барбара пристрастилась завтракать внизу, ошибочно полагая, что так проще. Плетеный поднос для завтраков в постели заменил накрытый стол в маленькой столовой, где за два часа до трапезы приходилось зажигать камин, чистить серебряные блюда и подставлять под них плетеные коврики. Всех огорчало подобное новшество.
Бэзил застал сестру свернувшейся клубочком возле камина, с чашкой кофе в руках. Она повернула к нему кудрявую черноволосую головку и улыбнулась. У обоих было одинаковое сочетание темных волос и ясных голубых глаз. Нарцисс приветствовал Нарцисса, глянув на него из водной глуби, когда Бэзил поцеловал сестру.
– Какие нежности, – сказала она.
– Я уломал Бенсона ради тебя.
– Милый, ты просто фокусник.
– Пришлось подкупить старика, дав ему пятерку.
– Врешь.
– Ладно, не верь, если не веришь.
– Не верю, зная Бенсона и зная тебя. Помнится, в прошлый твой приезд я заплатила ему больше десяти фунтов, которые ты взял у него в долг.
– Ты заплатила?
– Да. Побоялась, что он попросит их у Фредди.
– Вот старый лис! Так или иначе, никуда он не уходит.
– Да, по зрелом размышлении я поняла, что он бы и не ушел. Не знаю, почему я вечером разволновалась, наверно, так подействовала на меня встреча с Конноли.
– Мы должны сегодня же их устроить.
– Это дело безнадежное. Никто их не возьмет.
– Но у тебя есть возможности принудить взять их.
– Да, но воспользоваться этими возможностями я не могу.
– А я смогу, – сказал Бэзил. – И сделаю это с удовольствием.
После завтрака из маленькой столовой они перешли в маленькую гостиную. Коридор, несмотря на местоположение в уединенной части дома, мог похвастаться роскошным карнизом и высоким сводчатым потолком; дверные коробки были украшены классическими фронтонами с бюстами философов и композиторов в антаблементах. Вдоль коридора выстроились еще бюсты – в точно отмеренной последовательности, на мраморных постаментах. Все в Мэлфри дышало роскошью и гармонией, нарушенных в то утро лишь явлением на их пути Дорис. Она жалась к стенке и терлась о пилястр, как корова о пень.
– Привет, – сказала она.
– Привет, Дорис. А где Мики с Марлин?
– На дворе. Они в порядке. Там слепили снеговика, так они его ломают.
– Беги к ним, присоединяйся.
– Я хочу остаться здесь с вами – и с ним.
– Понятно, хочешь, – сказал Бэзил. – Но не будет тебе такого счастья. Я намерен устроить тебя в хорошем месте подальше отсюда.
– Я хочу остаться здесь.
– Давай иди и помоги им ломать снеговика.
– Это детская игра. А я не ребенок. Почему вы вечером не захотели подергать меня за волосы? Побоялись, что у меня гниды? Их теперь нет. Нянька в приюте вычесала их и смазала мне голову маслом. Вот почему голова у меня еще блестит.
– Я не дергаю девчонок за волосы.
– Дергаете. Я видела. Ее-то вы дергали… Он ваш парень, верно? – обратилась она к Барбаре.
– Он мой брат, Дорис.
– Ага, – сказала девица, и в свинячьих глазках мелькнула темная мудрость трущоб: – Но он вам приглянулся, ведь так? Я видела.
– Вот уж поистине кошмарный ребенок, – вздохнула Барбара.
Глава 3
Бэзил вплотную занялся устройством Конноли, принявшись за дело с азартом и методичной серьезностью. Он разложил на столе картографическую военную карту, местную газету и маленькую в красном сафьяновом переплете адресную книжицу, полученную Барбарой вместе с прочим наследством от миссис Сотхил. В книжке этой были помещены все ее богатые соседи в радиусе двадцати миль. Возле имен большинства было проставлено: ТДПС, что означало – только для приемов в саду. Барбара всячески старалась содержать данное ценное пособие в порядке, обновляя его, вычеркивая время от времени имена умерших или уехавших и внося новичков.
Спустя какое-то время Бэзил спросил:
– Что скажешь насчет Харкнессов из Старой Мельницы в Норт-Граплинге?
– Пожилая пара. Он вернулся, выйдя на пенсию, работал где-то за границей. Она, если не ошибаюсь, музыкантша. Почему ты интересуешься?
– Они дали объявление, что ищут жильцов с пансионом. – Бэзил подвинул к сестре газету, и она прочла: «Квартиры и комнаты. Перестроенная с учетом современных требований живописная мельница XV века приглашает постояльцев. Идеальное место для пожилых, как и для любителей искусства, желающих укрыться от тягот и тревог военного времени. Свое подсобное хозяйство. Уединенный парк в старинном стиле. Шесть гиней в неделю. Наилучшие рекомендации предоставляются и требуются. Старая Мельница, Норт-Граплинг».
– Как тебе это применительно к Конноли?
– Бэзил, это невозможно.
– Ты хочешь сказать, для меня? Да я сейчас же примусь за это дело. Тебе выдают добавочный бензин для работы?
– Да, но…
– Это прекрасно. Я утром же отвезу туда Конноли. Знаешь, это будет первой моей серьезной работой в помощь фронту.
Обычно как только машина выезжала из гаража, к ней устремлялись эвакуированные дети с просьбами покатать. Но в это утро при виде трех неприкасаемых Конноли на заднем сиденье дети попятились: матери запрещали им водиться с этими детьми.
– Мистер, почему я не могу сесть рядом с вами вперед?
– Тебе надо приглядывать за другими двумя.
– Они будут хорошо себя вести.
– Это ты так думаешь.
– Будут, если я им велю, мистер.
– Почему же до сих пор этого не случалось?
– Потому как я им велела плохо себя вести. Для смеха. Куда мы поедем?
– Искать для вас новое жилье, Дорис.
– Далеко от вас?
– Очень далеко.
– Послушайте, мистер. Мики, если взаправду, вовсе не плохой. И Марлин не глупенькая. Ты ведь не глупенькая, Марлин?
– Не очень глупенькая.
– И она может не пачкаться, если захочет, если я ей велю. Вот что, мистер, давайте договоримся: вы нас оставляете, а я прослежу, чтобы ребята хорошо себя вели.
– Ну а ты сама, Дорис?
– А я не должна хорошо себя вести. Я же не ребенок. Ну как, по рукам?
– Нет, не по рукам.
– Вы нас увезете?
– Непременно.
– Тогда подождите, увидите, что мы устроим там, куда вы нас определите.
– Ждать и видеть не собираюсь, – сказал Бэзил, – но, несомненно, в свое время услышу об этом.
Норт-Граплинг находилась в десяти милях; вытесанные из грубого камня и крытые дранкой дома изобличали возраст никак не меньший столетия. Расположилась деревенька в стороне от шоссе в расщелине между холмами, вдоль главной улицы протекал ручей, проходя под двумя каменными старинной постройки мостами. В дальнем конце улицы высилась церковь, размеры и пышность архитектуры которой доказывали тот факт, что за время, прошедшее с ее основания, когда весь остальной мир рос и развивался, Норт-Граплинг сокращалась и приходила в упадок.
На другом конце деревни под мостом и находилась усадьба «Старая Мельница». Это была именно такая – тихая, старинная, исполненная мирной тишины обитель, которая предстает в мечтах человеку, уставшему от тягостной необходимости зарабатывать хлеб насущный в жестоком тропическом климате. Мистер Харкнесс и мечтал об этом, год за годом трудясь в своей сингапурской конторе или отдыхая после работы на террасе клуба среди буйной зелени и грубой пестроты Юга. Он купил эту усадьбу еще молодым человеком на деньги, завещанные отцом, купил, приехав в отпуск, с намерением поселиться здесь когда-нибудь, выйдя в отставку, и годы ожидания омрачал ему лишь страх перед возможностью, вернувшись, найти это место «осовремененным»: с пятнами новеньких красных крыш на сером фоне и гудроновым покрытием извилистой деревенской улицы. Но современная жизнь пощадила Норт-Граплинг: вернувшись сюда, он застал это место точно таким же, каким увидел его впервые, когда шел здесь пешком поздним вечером, а камни кругом еще хранили тепло солнечных лучей, а легкий ветерок дышал свежестью и ароматом мирта.
Этим утром припорошенный снегом камень казался не серым, как летом, а золотисто-коричневым, а ветви лип, чьи сплетающиеся зеленые ветви скрывали летом низкий фасад, теперь обнажали причудливую каменную вязь и циферблат солнечных часов над стрельчатым центральным окном, и каменный навес в форме раковины над входом.
– Господи! – охнула Дорис. – Это вы здесь нас устроить хотите?
– Пригнись, – велел Бэзил. – Скоро узнаешь.
Прикрыв тряпкой радиатор машины, он открыл маленькую железную калитку и зашагал по выложенной плитняком дорожке – суровый, неумолимый, как судьба. Низкое зимнее небо, отбрасывая его тень впереди, накрыло ею входную дверь, покрашенную мистером Харкнессом в яблочно-зеленый цвет. Узловатые ветви глицинии, росшей у входа, тянули голые плети к окнам, скрывая их очертания.
Бэзил оглянулся напоследок, проверяя, не видны ли из дома его юные пассажиры, и потянулся к железному дверному колокольчику. Он услышал его мелодичное звяканье совсем неподалеку, и вскоре дверь отворила горничная в яблочно-зеленом платье с узорным фартучком и в накрахмаленном белом чепчике, похожем не то на голландский, не то на монашеский головной убор, что имело эффект, несомненно, комический. Фантастический сей персонаж повел Бэзила, то вверх, то вниз, держа путь в гостиную, где и оставил на довольно продолжительное время в одиночестве созерцать обстановку комнаты. Пол был покрыт тростниковыми циновками с вкраплениями кое-где балканских домотканых ковров. На стенах висели цветные литографии – изображения цветов и растений работы Торнтона (за исключением его шедевра – «Ночного эхиноцереуса»), вышивки и старинные карты. Из мебели самыми примечательными предметами были рояль и арфа. Остальное место занимали столики и стулья из плохо выделанного бука. Из открытого камина время от времени в комнату вплывали волны торфяного дыма, отчего у Бэзила слезились глаза. Гостиная была именно такой, какую Бэзил мог представить себе из объявления.
Чета Харкнессов тоже не обманула его ожиданий. На миссис Харкнесс было платье ручной вязки, ее отличали поэтически большие глаза, длинный, красный от холода нос и небрежно уложенные неопределенного цвета волосы. Супруг ее сделал для себя все, что только может сделать мужчина, дабы скрыть следы двадцатилетия, проведенного на Востоке между клубом и бунгало. Он отрастил остроконечную бородку и облачился в бриджи из грубой ткани, подобные тем, что носили первые энтузиасты велосипедного спорта. Шелковый шейный платок был стянут красивой булавкой, и все же его облик сохранил в себе черты щеголеватого молодца в парусиновых панталонах, вечер за вечером распивающего розовый джин в компании таких же щеголеватых молодцов, а дважды в год получающего приглашения на обед у губернатора.
Вошли они из сада. Бэзил не удивился бы, если бы мистер Харкнесс, бросив ему «присаживайтесь-ка», хлопнул в ладоши, чтобы принесли ужин. Но супруги стояли, глядя на него вопросительно и с легкой неприязнью.
– Моя фамилия Сил. Я по поводу вашего объявления, которое вы поместили в «Курьере».
– По поводу нашего объявления… Ах, да… – рассеянно проговорил мистер Харкнесс. – Была у нас такая идея… Мы посчитали неловким жить так просторно и в такой красоте; в эти дни, когда потребности наши не столь велики, такой большой дом нам показался излишним. Мы подумали, что если найдутся люди, вроде нас, такие же неприхотливые, то мы могли бы, учитывая трудные времена, как говорится, скооперироваться… Но в общем-то один такой человек у нас уже поселился. Не думаю, что нам действительно необходимо принять еще кого-нибудь, как ты считаешь, Агнес?
– Это была просто абстрактная идея, – сказала миссис Харкнесс. – Красивая мысль в красивом месте.
– Это, видите ли, не пансион в строгом смысле слова… Просто мы за некоторую плату принимаем гостей. Разница существенная.
Как никогда ясно Бэзил улавливал суть их заблуждений.
– Я не себя вам предлагаю, – сказал он.
– Ну, это меняет дело. Думаю, мы могли бы принять еще одного-двух квартирантов, если бы они и вправду…
Миссис Харкнесс пришла к нему на помощь:
– Если бы мы могли быть уверены, что люди эти будут здесь счастливы.
– Именно! Ведь в сущности дом этот предназначен для счастья.
Слова эти напомнили Бэзилу его школьного учителя, который говорил: «В сущности, школа наша предназначена для того, чтоб развивать ум ученика. Может быть, мы еще и не снискали лавров на этом пути, но мы стараемся».
– Я это вижу, – галантно поддакнул Бэзил.
– Должно быть, вы желаете осмотреть здесь все. С дороги дом выглядит небольшим, но вы удивитесь его вместительности, когда посчитаете количество комнат.
Сто лет назад пастбища вокруг Норт-Граплинга были полями и давали зерно, а мельница обслуживала большой район окрест. Задолго до появления здесь Харкнессов мельницей перестали пользоваться, и в восьмидесятых годах ученик и последователь Уильяма Морриса[23] превратил ее в жилой дом. Ручей отвели в сторону, мельничный пруд осушили, дно выровняли и превратили в парк, куда надо было спускаться по ступенькам. Помещения, где находились машины, жернова и зернохранилища были тактично преобразованы – установлены перегородки, настланы полы, оштукатурены стены. Миссис Харкнесс с материнской гордостью демонстрировала все особенности дома.
– Ваши друзья, которые собираются здесь жить, как-то связаны с искусством?
– Нет, вряд ли.
– Они не пишут?
– Нет, полагаю, что нет.
– Я всегда считала, что место это идеально для тех, кто хочет писать. А можно спросить, кто они такие, ваши друзья?
– Наверно, точнее всего будет назвать их эвакуированными.
Мистер и миссис Харкнесс рассмеялись, расценив это как шутку.
– Горожане в поисках тихого убежища, да?
– Именно.
– Что ж, здесь они обретут его, правда, Агнес?
Они вернулись в гостиную. Миссис Харкнесс, положив руку на позолоченный изгиб арфы, устремила взгляд вдаль, куда-то за парк, и ее большие серые глаза подернулись мечтательной дымкой.
– Мне приятно, что этот прекрасный старинный дом возвращается к своему служению людям. Ведь и создан он был, чтобы служить людям. Сотни лет назад он давал людям хлеб, а потом времена переменились, дом пришел в запустение, был заброшен. Потом он стал жилым, но служение свое людям прекратил, для мира он был закрыт, отгорожен от людей, от их забот. И вот теперь наконец дом вновь становится самим собой: он вновь кому-то нужен. Вы, может быть, сочтете меня фантазеркой, – добавила она рассеянно и капризно, – но в последние несколько недель я ощущала иногда, что дом этот словно улыбается потаенной улыбкой, и слышала, как шепчут старые стропила: «Нас считают никчемными, грязными балками. Но на самом деле все эти деловые предприимчивые люди не могут без нас обойтись. И в горестную минуту они возвращаются под нашу сень».
– Агнес всегда остается поэтом, – сказал мистер Харкнесс. – А мне приходится играть роль домохозяйки и все практические вопросы брать на себя. Вы помните указанные в объявлении условия?
– Да.
– Они могут показаться чересчур жесткими, но вам следует учесть, что квартиранты полностью разделяют с нами нашу жизнь, а живем мы просто, но ценим комфорт. Огонь в камине, – произнес мистер Харкнесс, удерживая пахнущую хорошей сигарой отрыжку. – Парк, – добавил он, очеркивая пальцем застывшую, заваленную снегом растительность за окном. – Летом мы имеем привычку устраивать трапезу под старой шелковицей. Музыка. Каждую неделю у нас бывают вечера камерной музыки. Старая Мельница обладает существенными преимуществами, которые, оставаясь чем-то imponderabilia[24], имеют все же, если говорить грубо, рыночную стоимость. И я никак не могу считать, – застенчиво заключил мистер Харкнесс, – принимая во внимание все указанные обстоятельства – обстоятельства, которые имелись в виду, включали в себя, как это чувствовал Бэзил, и изрядную толику проявлений поэтических наклонностей миссис Харкнесс, – что шесть гиней запрашиваемой суммы являются слишком высокой платой.
Момент, которого ждал Бэзил, наконец, настал. Вот когда следует метнуть гранату, которую он сжимал в руке с того самого мгновения, когда открыл резную калитку и потянулся к резному колокольчику у входа.
– Мы готовы заплатить восемь шиллингов и шесть пенсов в неделю.
Вот чека, планка прижата, запал на месте, детонатор сработает, и невидимое пламя поползет по маленькому, длиной с палец, фитильку. Медленно досчитать до семи, а затем… Раз, два, три, четыре…
– Восемь шиллингов и шесть пенсов, – выговорил мистер Харкнесс. – Боюсь, что это недоразумение!
Пять, шесть, семь. Бах!
– Наверно, я должен был сразу сказать. Я ответственный за размещение эвакуированных. Там, снаружи, в моей машине трое детей.
Это было блестяще. Война, начатая с ошеломительного удара, мастерски произведенного Бэзилом. Лучшего на его памяти и не бывало.
После первого звенящего молчания в реакции Харкнессов наметились три стадии – негодующее обращение к разуму и справедливости, затем смиренная мольба о пощаде, затем ледяное и полное достоинства принятие неизбежного.
Стадия первая:
– Я позвоню миссис Сотхил… Я обращусь к властям графства… Я напишу в Министерство образования и лорду-наместнику… Это просто смешно. Найдутся сотни домовладельцев, которые с радостью приняли бы этих детей.
– Не этих детей, – заметил Бэзил. – А, кроме того, мы стоим на страже демократических принципов. Если богатые станут уходить от возложенной на них ответственности, это будет выглядеть некрасиво.
– Богатые… Только необходимость как-то сводить концы с концами заставляет нас брать квартирантов…
– А потом, место это совершенно не подходит детям. Они могут упасть в ручей и утонуть… Ближайшая школа – в четырех милях…
Стадия вторая:
– Мы уже немолоды. После долгого пребывания на Востоке английскую зиму переносить нелегко. Любая дополнительная нагрузка…
– Мистер Сил, вы собственными глазами видели наш милый старый дом, вы поняли, какой образ жизни мы ведем. Разве вы не ощутили наличия здесь чего-то редкостного, драгоценного, что так легко разрушить.
– Это как раз то влияние, которое и необходимо детям, – весело возразил Бэзил. – В настоящий момент они остро нуждаются в культуре.
Стадия третья:
Враждебность, холодная, как заснеженный холм, возвышавшийся над деревней. Бэзил провел Конноли по плитняку дорожки к яблочно-зеленой двери и ввел в пахнувший торфяным дымом и тушеным мясом коридор.
– Боюсь, что вещей у них нет, – сказал он. – Это Дорис, это Мики, а это… это малышка Марлин. Думаю, через день-два вы будете удивляться, как раньше могли обходиться без этих детишек. В нашей работе мы сплошь и рядом сталкиваемся с подобной ситуацией: люди, поначалу непривычные к общению с детьми, желали взять их насовсем. До свидания, дети, удачи вам и всего хорошего. До свидания, миссис Харкнесс. Мы будем навещать вас время от времени, чтоб проверить, все ли в порядке.
И Бэзил покатил обратно по пустынным дорогам, и теплое чувство в груди бросало вызов начавшейся метели.
Ночью навалило снега, связь прервалась, дорога в Норт-Граплинг сделалась непролазной, на восемь дней Старая Мельница оказалась отрезанной от современного мира не только духовно, как ранее, но и физически.
Глава 4
После завтрака Барбара и Бэзил засели в оранжерее. Дым от сигары Бэзила, поднявшись до уровня груди, висел во влажном воздухе синим неподвижным облачком, застывшим между плиточным полом и экзотической зеленью наверху. Бэзил читал сестре вслух.
– Это все о службе снабжения, – сказал он, откладывая последний лист рукописи. За прошедшую неделю книга его значительно продвинулась.
Барбара проснулась так плавно, словно и не спала вовсе.
– Очень хорошо, – похвалила она. – Первоклассная работа.
– Это должно их встряхнуть, – сказал Бэзил.
– Очень может быть, – отозвалась Барбара, на которую услышанное произвело обратное действие. И без всякой связи с предыдущим добавила: – Я слышала, дорогу в Норт-Граплинг утром расчистили.
– Снегопад этот был провиденциальным. Он заставил Конноли и Харкнессов притереться друг к другу. Не будь его и, как мне кажется, либо одна, либо другая сторона могла бы отчаяться.
– Рискну предположить, что вскоре мы получим известие от Харкнессов.
И в это мгновение, как в кино, в дверях возник Бенсон, объявивший, что в гостиной находится мистер Харкнесс.
– Придется мне к нему выйти, – сказала Барбара.
– Ни в коем случае, – сказал Бэзил. – Эта работа – мой вклад в победу. И вслед за Бенсоном он проследовал в дом.
Он ожидал увидеть изменения в облике мистера Харкнесса, но не думал, что они будут столь разительными. Мужчину трудно было узнать. Казалось, что твердая корка тропической респектабельности, спрятанная под всей этой пестрой домотканностью, рассыпалась в пух и прах – и вид у мужчины был теперь жалок. Одет он был так же, и если бородка его выглядела взъерошенной, то, видимо, это была лишь игра воображения, воспламененного тем, как затравленно он озирался вокруг.
В одном из путешествий Бэзилу случилось посетить тюрьму в Иордании, где практиковалась изощренная система наказаний. Учреждение это совмещало в себе функции тюрьмы и сумасшедшего дома. Одним из умалишенных был старик-араб, прославившийся как особо буйный. Усмирить его могло лишь одно средство – направленный на него немигающий человеческий взгляд. Но стоило моргнуть – и он на тебя кидался.
Непокорных арестантов отправляли к нему в камеру и запирали в ней на срок до двух суток, в зависимости от тяжести преступления. День и ночь сумасшедший стерег провинившегося из своего угла, пригвожденный к месту и зачарованный его упорным взглядом. На помощь сумасшедшему приходил полдневный зной – под влиянием жары даже у самого осторожного начинали слипаться веки, и едва это происходило, сумасшедший в ту же секунду прыжком набрасывался на свою жертву и вцеплялся в нее ногтями и зубами. Бэзил видел одного здоровенного арестанта после подобного, длившегося два дня наказания.
Что-то во взгляде мистера Харкнесса заставило его ясно вспомнить эту сцену.
– К сожалению, сестры моей нет дома, – сказал Бэзил.
Остаток надежды, если он еще теплился в душе мистера Харкнесса, мгновенно испарился, когда он увидел перед собой своего врага.
– Вы брат миссис Сотхил?
– Да, считается, что мы очень похожи. Я помогаю ей здесь в отсутствие ее супруга. Могу я чем-нибудь помочь вам?
– Нет, – отрывисто произнес посетитель. – Нет. Неважно. Я рассчитывал повидать миссис Сотхил. Когда она вернется?
– Трудно сказать, – ответил Бэзил. – Сроки бывают самые неопределенные. Иногда отлучка длится месяцами. На этот раз она перепоручила все дела мне. Вы хотели ее видеть по поводу эвакуированных? Сестра была так рада известию, что они хорошо устроены. Она смогла уехать с чистой совестью. Ведь семейство это вызывало у нее, если можно так выразиться, особое беспокойство.
Мистер Харкнесс без приглашения опустился на стул. Он сидел на позолоченном стуле в уютной светлой маленькой гостиной как мрачная тень из преисподней. Казалось, у него пропало всякое желание двигаться и говорить.
– Миссис Харкнесс здорова? – любезно осведомился Бэзил.
– Она не встает с постели.
– А ваш квартирант?
– Уехала сегодня утром – как только расчистили дорогу. И две служанки тоже уехали вместе с ней.
– Надеюсь, Дорис помогает вам по дому.
При упоминании этого имени мистер Харкнесс не выдержал и стал изливать душу.
– Мистер Сил, я больше не могу терпеть такое. Никто из нас не может. Мы дошли до точки. Вы должны забрать этих детей.
– Но вы же не хотите, конечно, отправить их назад в Бирмингем, чтобы они там погибли под бомбами!
Это был довод, к которому часто и с хорошим результатом прибегала Барбара. Но едва произнесся это, Бэзил понял, что совершил ложный шаг. Страдание очистило душу мистера Харкнесса, уничтожив в ней всякое лицемерие. Впервые губы его искривило некое подобие улыбки.
– Я был бы счастлив этому сверх всякой меры! – заявил он.
– Т-т-т… Не надо наговаривать на себя. Впрочем, так или иначе это было бы противозаконно. Мне хотелось бы вам помочь. Ваши предложения?
– Я подумывал было отравить их жидкостью от сорняков, – мечтательно произнес мистер Харкнесс.
– Что ж, – сказал Бэзил, – это был бы выход. Но, вы считаете, Марлин смогла бы удержать это в желудке?
– Или повесить…
– Ну перестаньте, мистер Харкнесс, это ведь просто пустые мечты. Надо быть реалистом.
– Все, что приходит мне на ум, так или иначе, сводится к смерти – либо их, либо нашей.
– Не сомневаюсь, что выход может быть найден, – обронил Бэзил. Украдкой поглядывая на мистера Харкнесса, не выразит ли его лицо недоверие или негодование, он принялся излагать план, явившийся ему, вначале смутно, при первом знакомстве с Конноли, а затем, уже более четко, в последнюю неделю.
– Трудность размещения эвакуированных в бедных семьях, – говорил он, – вызвана тем, что пособие едва покрывает траты на еду для этих несчастных. Конечно, если речь идет о милых, ласковых детях, то их примет с радостью кто угодно. Но Конноли никто не назвал бы милыми и ласковыми. – Мистер Харкнесс застонал. – К тому же им свойствен инстинкт разрушения. Следует признать, что содержание их в доме сопряжено с большими трудностями. Однако если скудное пособие, выплачиваемое государством, было бы дополнено…
– То есть вы хотите сказать, что я мог бы заплатить тому, кто их возьмет. Я готов заплатить, готов чуть ли не все отдать, только бы их от меня убрали! Сколько я должен? Как это организовать?
– Предоставьте это мне, – сказал Бэзил, внезапно отбрасывая все светские околичности. – В какую сумму вы оцениваете возможность избавиться от детей?
Мистер Харкнесс заколебался. Пробудившаяся надежда прорывала маску невозмутимости. Но трудно работать на Востоке, не приобретя острого нюха на возможность сделки.
– Полагаю, фунт в неделю для бедной семьи явился бы существенной добавкой, – сказал он.
– Как насчет единовременной суммы? Людей – то есть бедняков – нередко может ошеломить единовременная сумма, в то время как на пособие они и внимания не обратят.
– Двадцать пять фунтов.
– Полно, мистер Харкнесс. Предложенная вами сумма явится платой только за шесть месяцев. Война продлится дольше этого срока.
– Тридцать. Больше не могу.
Он небогат, размышлял Бэзил, весьма вероятно, тридцать – это большее, что он может себе позволить.
– Осмелюсь заверить вас, что смогу найти кого-нибудь, кто согласится принять их за эту сумму, – сказал он. – Вы понимаете, конечно, что все это в высшей степени противозаконно.
– О да, я это понимаю.
Так ли это? – задался вопросом Бэзил, ну, может, и вправду понимает.
– Вы сможете забрать их сегодня?
– Сегодня?
– Непременно. – Похоже, мистер Харкнесс хочет теперь диктовать условия. – Чек будет вас ждать. Я выпишу его на предъявителя.
– Как долго тебя не было! – сказала Барбара. – Ну, удалось тебе его усмирить?
– Мне предстоит подыскать для Конноли новый дом.
– Ты помиловал его?
– Он был так жалок. Вот я и размяк.
– Это совсем не похоже на тебя, Бэзил.
– Придется опять засесть за адресную книгу. А Конноли надо будет приютить на ночь. К утру я найду для них новый дом.
В Норт-Граплинг он отправился, когда уже смеркалось. По обеим сторонам дороги высились сугробы срытого снега, превращая проезжую часть в узкую колею.
Троица Конноли стояла во дворе под яблоней, ожидая его.
– Бородач велел вам вот это передать, – сказала Дорис.
Внутри конверта оказался только чек без какой-либо записки. Проводить детей Харкнессы не вышли.
– Я так рада видеть вас снова, мистер, – сказала Дорис.
– Запрыгивай, – велел Бэзил.
– Можно я спереди сяду, рядом с вами?
– Да, давай лезь.
– Правда? Вы не шутите?
– Давай же, холодно. – Дорис уселась рядом. – Ты здесь постольку-поскольку.
– Как это?
– Тебе позволено здесь сидеть, пока ты хорошо себя ведешь. И пока Мики с Марлин тоже хорошо себя ведут. Поняла?
– Слыхали, огольцы? – бросила Дорис с внезапной властностью в голосе: – Ведите себя как следует, а не то задницы начищу. Они будут как шелковые, мистер, если я им велю.
Дети были как шелковые.
– Дорис, я оценил игру, которую ты затеяла, заставляя детей безобразничать, а теперь давай поиграем по моим правилам. Когда мы приедем в дом, где я живу, вы будете вести себя как положено. Постоянно. Ясно? Я буду время от времени поселять вас то в одном месте, то в другом. Там вы сможете иногда расслабиться и вести себя как вам нравится, но только с моего разрешения. Поняла?
– О’кей, дружище. Угостите папиросочкой.
– Ты начинаешь мне нравиться, Дорис…
– Я люблю вас, – заявила Дорис с непередаваемой нежностью в голосе. Откинувшись на спинку кресла, она выдохнула облако дыма, застилавшего торжественно-серьезные лица младших детей. – Люблю больше всех, кого я знаю.
– Неделя у Харкнессов, кажется, оказала на этих детей потрясающее воздействие, – заметила Барбара вечером после ужина. – Я не могу это объяснить.
– Мистер Харкнесс говорил об imponderabilia их имения. Может, причина в этом.
– Ты что-то задумал, Бэзил. Хотелось бы знать, что.
Бэзил обратил к ней взгляд своих глаз, таких же голубых и невинных, как у нее. В них не было и намека на какую-либо шалость.
– Это просто мой вклад в будущую победу, – сказал он.
– Скользкий змей!
– Вовсе нет.
– Гад ползучий!
Они вновь вернулись в классную комнату, в мир, где когда-то играли в пиратов.
– Хитрюга-обезьянка, – ласково проговорила Барбара.
Глава 5
Смотр начинался в восемь пятнадцать утра. Сразу же после его окончания людей распустили, пока в ротной канцелярии разбирались с рапортами, решали, что делать с мелкими нарушениями, обсуждали список штрафников и готовили докладную начальству, вписывая в нее имена.
– Рядовой Таттон по рассеянности потерял противогаз стоимостью восемнадцать с половиной шиллингов.
Рядовой пустился в невнятные объяснения, рассказывая о том, что забыл противогаз в войсковой лавке и, вернувшись за ним через десять минут, не нашел его на месте.
– Случай будет передан на рассмотрение командованию. – Капитан Мейфилд не имел права самолично назначать денежные штрафы. – Итак, на рассмотрение командованию. Кругом. Я не давал команды отдавать честь, а сказал «кругом». Шагом марш. Живо!
Капитан Мейфилд обратился к лежащим на столе рапортам.
– Кандидаты в школу прапорщиков, – доложил старшина.
– Кого же мы тут имеем? Нулевой результат командованием не приветствуется.
– Есть Броуди, сэр.
Броуди был хилый адвокат последнего призыва.
– Сказать по правде, старшина, я не очень вижу в Броуди офицера.
– Со службой у него не все ладно, сэр, но образование куда лучше, чем у прочих.
– Что ж, запишите его, пусть учится дальше. Насчет сержанта Гарриса что скажете?
– Не подходит, сэр.
– Он отличный парень, очень дисциплинирован, знает своих подчиненных как облупленных. За ним ребята пойдут в огонь и в воду.
– Да, сэр.
– Ну так чем он вам не угодил?
– Всем угодил, сэр… Только без него наша футбольная команда играть не сможет.
– Понятно. Кого же вы предложите вместо него?
– Можно нашего баронета, сэр.
Сказано это было с улыбкой. Положение Аластера в качестве рядового несколько смущало капитана Мейфилда и очень веселило старшину.
– Трампингтона? Ладно. Я сейчас же переговорю с ним и с Броуди.
Ординарец доставил обоих. Старшина вызывал каждого по одиночке:
– Шагом марш. Стой. Отдать честь. Броуди, сэр!
– Броуди, требуются два кандидата в школу прапорщиков. Я предлагаю вас. Конечно, решение принимает командование, и я не могу гарантировать вам, что вы будете приняты. Полагаю, в случае одобрения командованием вашей кандидатуры у вас возражений не будет.
– Никак нет, сэр. Если вы и вправду считаете, что из меня выйдет хороший офицер.
– Я не считаю, что из вас выйдет хороший офицер. Хорошие офицеры – редкость. Но смею надеяться, что так или иначе офицером вы стать сможете.
– Спасибо, сэр.
– И до тех пор, пока вы у меня в роте, не входите ко мне с торчащей из кармана авторучкой!
– Простите, сэр.
– И болтать поменьше, – добавил старшина.
– Хорошо. Это все, старшина.
– Кругом. Шагом марш. Между прочим, выходя, шагать надо с правой ноги.
– Наверно, стоит дать ему пару нашивок, прежде чем от него отделаться.
Впустили Аластера. С момента вступления в ряды он мало изменился, если не считать легкого потолстения в районе талии и выше, но свободная форма почти скрывала этот недостаток.
Капитан Мейфилд адресовал ему те же самые слова, что и Броуди.
– Да, сэр.
– Вы не желаете становиться офицером?
– Так точно, сэр.
– Это очень странно, Трампингтон. У вас есть на то особые причины?
– По-моему, и в прошлую войну многие испытывали те же чувства.
– Я слышал об этом. Что и увеличило число жертв. Ну, если вы не желаете, заставить вас я не могу. Боитесь ответственности, да?
Аластер молчал. Капитан Мейфилд кивнул, и старшина скомандовал Аластеру выйти.
– Ну, и как это понимать? – спросил капитан Мейфилд.
– Мне попадались люди, считавшие, что быть рядовым на войне не так опасно.
– Не думаю, что с Трампингтоном дело в этом. Он доброволец, и по возрасту не подлежит призыву.
– Чудно́, ей-богу, сэр!
– И даже очень, старшина.
Аластер не спешил возвращаться в свой взвод. Утром в это время они занимались физподготовкой, а именно эта часть их каждодневного расписания вызывала у него особую ненависть. Он прятался за кухонным блоком до тех пор, пока часы не подсказали ему, что физподготовка окончена. Когда он присоединился к товарищам, те, потные и запыхавшиеся, натягивали гимнастерки. Встав в строй, он вместе с другими промаршировал в столовую, где в относительном тепле и духоте прослушал лекцию военного врача о соблюдении правил гигиены. Речь шла об опасности, которую представляют мухи. Военврач в ужасающих подробностях описывал путь мухи – от сортирного очка к сахарнице, рассказывал о микробах дизентерии, которые она переносит на своих мохнатых лапках, о вредоносной слюне, которой смачивает пищу, прежде чем приняться за еду, о том, как испражняется она тут же, пока ест. Эта лекция всегда производила должное впечатление. «Разумеется, – помявшись, добавил врач, – теперь, когда все вокруг покрыто снегом, опасность может показаться не столь существенной, но если нас отправят на Восток…»
По окончании лекции солдат на двадцать минут распустили, они курили, ели шоколад и сплетничали, сопровождая каждое имя существительное, прилагательное и каждый глагол одним и тем же неизменным непристойным словечком, что превращало речь в подобие икоты. Они топали ногами и потирали ладони.
– Чего хотел этот… ротный?
– Послать меня, на… в школу прапорщиков, – ответил Аластер.
– Везет же…! Когда отбываешь?
– Я остаюсь.
– Не хочешь стать… офицером?
– Да уж… наверно!
Когда Аластера спрашивали, а случалось это нередко, почему он отказался от производства в офицеры, он говорил: «Из снобизма, не захотел якшаться с офицерьем», а порою отвечал: «Из-за лени, ведь в военное время им много работать приходится». Бывало, ответ звучал и так: «Кругом все с ума посходили, так что можно и без этого по полной хлебнуть, разницы не будет».
Соне он сказал: «Мы слишком легко жили до этого времени. Перемена для нас может оказаться и к лучшему».
Последний ответ точнее всего передавал смутное удовлетворение, которое он в глубине души испытывал.
Соня поняла мужа, и лишних объяснений не потребовалось. Позднее она как-то сказала Бэзилу: «Я понимаю, что чувствовал Аластер в первую военную зиму. Это кажется таким странным для него, но он человек гораздо более сложный, чем думают окружающие. Помнишь того парня, который записался рядовым в военно-воздушные силы и явился туда, одевшись, как араб, в качестве протеста против дискриминации, которой, по его мнению, подвергались арабы? Забыла, как его зовут, про него еще книги написаны. Мне кажется, Аластер чувствует нечто подобное. Понимаешь, он никогда ничем не поступился ради страны, и, хотя мы и разорены, но денег у нас все же достаточно, и жили мы всегда весело. Наверно, он решил, что, живи мы не так весело, может быть, и войны-то и не было бы. Хотя как он может винить себя за появление Гитлера, я понять никогда не смогу… По крайней мере сейчас я этого не понимаю, – поправилась она. – Он пошел рядовым в качестве искупления, что ли, ну, как верующим вроде бы полагается.
Суровость искупления, впрочем, иногда ослабевала. После перерыва взвод опять собрали на учения. Командир взвода отсутствовал, так как заседал в следственной комиссии. В течение трех часов он и два других офицера слушали показания свидетелей и протоколировали их, обсуждая пропажу помойного ведра из штаба пехоты. В результате стало ясно, что либо свидетели договорились сообщить ложные сведения, либо ведро похищено какой-то сверхъестественной силой без содействия людей. Таким образом, комиссией был вынесен вердикт, что обвинить кого-либо в халатности и небрежении обязанностями нет оснований, новое же ведро следует приобрести на средства из общественного фонда. Председатель комиссии заявил, что, по его мнению, начальство такой вердикт не одобрит и вернет документ для вторичного рассмотрения.
Взвод, на время отданный под начало старшине, был разбит на команды, изучавшие действие ручного пулемета.
– Пулемет выпустил две очереди и замолк. Что следует проверить в первую очередь, Трампингтон?
– Затвор… Снять магазин. Нажать, отвести затвор, опять нажать. Пулемет в порядке.
– Что упущено?
Хор голосов:
– Ударник!
Одинокий голос:
– Спусковой крючок.
Однажды ответив так, солдат этот попал в точку, когда все другие ответить не смогли, его похвалили. И с тех пор он повторял этот ответ, подобно игроку, в долгой череде проигрышей раз за разом упрямо ставящему на одну и ту же масть. Должна же когда-нибудь масть эта выиграть!
Старшина проигнорировал его ответ.
– Совершенно верно. Упущен ударник. Опять ты пальцем в небо, Трампингтон!
Была суббота. Занятия оканчивались в двенадцать. В отсутствие взводного командира они закруглились на десять минут раньше и, поспешно убрав всю амуницию, были готовы по первому сигналу горниста броситься в казармы. У Аластера была увольнительная до утренней переклички понедельника. Идти за вещами ему не было нужды – все необходимое он держал дома. Соня ждала его в машине возле будки охраны. Конец недели они предпочитали отмечать не выходами в свет, а валяясь в постели в доме, который снимали неподалеку.
– Я утром довольно успешно разобрался с ручным пулеметом, – сказал Аластер. – Всего одну ошибку сделал.
– Ты умница, милый.
– И ухитрился пропустить физподготовку.
До дома они добрались тоже на десять минут раньше, и в целом утро оказалось удачным. Теперь Аластер предвкушал полтора дня уединения и ленивого безделья.
– Я съездила за покупками в Уокинг, – сказала Соня, – и в доме полно всяких вкусностей и газет за неделю. В кино идет хороший фильм, можно посмотреть.
– Можно, – с сомнением произнес Аластер. – Там, наверно, будут толпы этих… солдат.
– Милый, я раньше никогда не слышала подобных слов. Считала, что их можно встретить только в тексте, в романах.
Аластер принял ванну и облачился в твид. (Именно ради возможности переодеться в штатское он и любил проводить выходные дома, в тепле и без всех этих военных вокруг.) Он выпил виски с содовой, наблюдая, как Соня готовит завтрак, состоявший из яичницы с колбасой и беконом и холодного пудинга с изюмом. После завтрака он закурил толстую сигару. Опять пошел снег, запорошив оконные переплеты и укрыв вид на поле для гольфа. В камине ярко горело пламя, и к чаю они нажарили пышек.
– У нас впереди еще целый вечер и весь завтрашний день, – сказала Соня. – Ну разве же это не восхитительно! Знаешь, Аластер, мы с тобой всегда как-то умеем получать от жизни радость, в любых обстоятельствах.
Стоял февраль 1940 года, этот странно тихий и уютный промежуток между миром и войной, когда в конце каждой недели давали увольнительную и было полно еды, питья и курева, когда Францию твердо защищала линия Мажино, а финны стойко оборонялись, и все только и говорили о том, как трудно приходится этой зимой немцам в Германии. Во время одной из таких увольнительных в конце недели Соня зачала ребенка.
Глава 6
Как и предсказывал мистер Бентли, Амброуз довольно быстро был зачислен в штат Министерства информации, что явилось одним из результатов реформ, начатых в ходе первой из многочисленных чисток аппарата. У Палаты общин возникли вопросы относительно деятельности министерства. Пресса, не имевшая возможности обсуждать многое другое, принялась нещадно эксплуатировать эту тему, изливая собственные обиды. Были обещаны перемены и коренное исправление ситуации, и после недели ожесточенных интриг последовали новые назначения. Сэр Филип Хескет-Смитерс был отправлен в отдел народных танцев, мистер Полинг занялся резьбой по дереву и ткачеством, мистеру Дигби-Смиту была поручена Арктика, сам же мистер Бентли после периода некоторой неопределенности, когда он то курировал фильм о почтальонах, то разбирал прессу из Стамбула, а под конец был перекинут на вопросы обеспечения продуктами столовой для сотрудников, все же утвердился в прежней должности и продолжил общение с писателями среди своих статуй в отделе литературы. Тридцать или сорок чиновников, благополучно выйдя на пенсию, были подхвачены водоворотом коммерции, а их кресла заняли сорок – пятьдесят лиц обоего пола, в числе которых неизвестно каким образом очутился и Амброуз. Пресса, хотя и сохранявшая скептицизм в отношении результатов реформы, все же поздравила общественность с успехом системы правления, при которой воля народа была услышана столь быстро. «Урок, полученный нами в этой суматохе – ибо происходившее в Министерстве информации и впрямь можно уподобить суматохе, заключается не в том, что такого рода трансформирование есть признак победившей демократии, но в том, что болезнь, как оказалось, поддается лечению, – писали газеты. – Ветер демократии, свежий и очистительный, подул в кулуарах министерства, и открыто были выдвинуты требования, на которые, так же открыто, был дан ответ. А недруги наши пусть теперь размышляют над прогнозами».
Должность Амброуза, единственного представителя атеизма в отделе религии, на этой стадии войны не являлась особо значимой. Он не мог, даже если бы и пожелал, украшать свое рабочее место скульптурами. В его распоряжении находились лишь один стол и один стул. Кабинет и секретаря он делил с фанатичным молодым католиком, увлеченно занятым выявлением несоответствий между «Майн кампф» и папской энцикликой «В сороковой год», вежливым проповедником-нонконформистом и священником англиканской церкви, взятым на смену любителю скамеечек из красного дерева для коленопреклонения молящихся. «Мы должны переориентировать наше отношение к Женеве, – утверждал этот клирик. – Первым ложным шагом стало невнимание к докладу Литтона». Он пускался в длинные вежливые дискуссии, католик возражал ему, тоже длинно, но яростно, в то время как нонконформист хранил задумчивое молчание, сидя между ними, как третейский судья. Задачей Амброуза было продемонстрировать британским атеистам и атеистам колоний, что нацизм, по существу, является философией агностицизма с сильным вкраплением религиозных суеверий. Он завидовал своим коллегам, располагавшим обширным материалом по ограничению деятельности воскресных школ, преследованиям монахов и отправлению языческих нордических ритуалов. Его работа, предназначенная небольшой, критически настроенной аудитории, требовала больших усилий, и, находя среди иностранных газет, циркулировавших между столами, что-либо относящееся к религиозной жизни Германии, он спешил немедленно отослать это в два-три журнала, посвященных его проблематике. Он подсчитывал, сколько раз в речах Гитлера упоминается Бог, и удивлялся количеству этих упоминаний: он написал острую статью, доказывая, что антиеврейская риторика есть производное религиозности. Амброуз старался как мог, но время делало свое дело, зима казалась нескончаемой, и он ловил себя на том, что все чаще старается ускользнуть от фанатичных своих коллег, укрывшись в дружелюбной атмосфере кабинета мистера Бентли.
Наплыв талантливых соискателей места, осаждавший двери министерства в первые недели, теперь иссяк – толпы сменились горстками, и швейцаров обучили вылавливать соискателей и отваживать их. Никто не обнаруживал желания в ближайшее время что-либо реформировать. Кабинет мистера Бентли оказался хранилищем культуры в варварском окружающем мире. Именно здесь впервые они обсудили проблемы Башни из слоновой кости.
– Искусство для искусства, Джеффри. Бегом назад, к лилиям и лотосу, прочь от этих юных, но пыльных иммортелей, от этих одуванчиков на свалках!
– То есть к своего рода «Желтой книге», – сочувственно заметил мистер Бентли.
Амброуз резко обернулся, оторвавшись от созерцания миссис Сиддонс.
– Джеффри, как вы можете делать столь злобные выпады!
– Мой дорогой Амброуз…
– Это ведь они так говорят!
– Кто «они»?
– Петруша, – язвительно проговорил Амброуз, – и Цветик, Поппет и Том. Все они вопят, что мы предаем дело рабочего класса.
– Не знал, что я, оказывается, их соратник, – сказал мистер Бентли. – Всегда полагал, что являюсь одним из немногих оставшихся теперь либералов.
– Мы позволили одержать верх экономистам!
– Я не позволял.
– Долгие годы мы только и думали, что о тракторах и бетономешалках!
– Только не я, – решительно возразил мистер Бентли. – Я много размышлял о Ноллекенсе.
– С меня довольно. Il faut en finir! – вскричал Амброуз и добавил: – Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts.
После паузы он произнес:
– Я никогда не состоял в партии.
– В партии?
– В коммунистической партии. Я был, если воспользоваться этим их ужасным жаргоном, «попутчиком».
– А-а…
– Джеффри, они ведь ужасно поступают с теми коммунистами, которые пытаются оставить их ряды, правда?
– Так говорят.
– Джеффри, вы не думаете, что так же они расправляются и с попутчиками?
– Думаю, это не так.
– Но такое возможно?
– О да, возможно.
– Ах, господи…
Помолчав, он сказал:
– Знаете, Джеффри, даже в фашистских странах существуют подпольные организации. Думаете, они и до нас смогут добраться?
– До кого «до нас»?
– До попутчиков.
– Ну это же просто смешно каким-то образом связывать попутчиков и подпольные организации! Такая же нелепость, как вешалки для ремней на железнодорожной ветке Бейкерлоо!
– Вам хорошо смеяться. Вас-то это никоим боком не касается.
– Но дорогой мой Амброуз, чем вы можете прогневить ваших политических единомышленников, сотрудничая в чисто художественном издании!
– Я слышал, что рассказывают об одном американском виолончелисте. Будучи членом партии, он принял приглашение выступить на юбилейном завтраке дам-колонисток. А тогда шли процессы в Скоттсборо, и градус противостояния в обществе зашкаливал, страсти кипели. Его привязали к фонарному столбу, вымазали дегтем и подожгли.
– Дамы-колонистки?
– Нет-нет, коммунисты!
После долгой паузы он произнес:
– Однако русским в Финляндии туго приходится.
– Да.
– Если бы только знать, во что все это выльется…
В отдел религии он вернулся в глубокой задумчивости.
– Это больше по вашей части, – сказал представитель католиков, протянув ему вырезку из швейцарской газеты.
Там сообщалось о том, что в Зальцбурге штурмовики присутствовали на заупокойной службе. Амброуз пришпилил вырезку к листу бумаги и, надписав: «Отослать в “Свободную мысль”, “Вестник атеиста” и “Безбожное воскресенье”, – сунул лист в папку «Исходящее». В двух метрах от него нонконформистский деятель проверял статистические данные о посещаемости пивных нацистскими официальными лицами. Англиканский священник корпел над довольно невнятной информацией из Голландии, касающейся проявлений жестокости по отношению к животным в Бремене. Нет, фундамента для Башни из слоновой кости здесь не заложить, думал Амброуз, не найти здесь и облачка, чтоб увенчать его вершину, и он беззаботно воспарил мыслью в раскрашенные темперой небеса XIV века, в их плоскую пустынность, нарушаемую лишь голубыми и белыми облачками с солнечно-золотистыми бликами по краям. Среди безбрежных ляпис-лазурных просторов и кудрявящихся мыльной пеной облаков он стоял на сахарно-белой вершине новой Вавилонской башни, как муэдзин, призывающий верных в мир высоких куполов и облаков, а внизу под ним и между ним и всеми этими копошащимися и склоненными в молитве на полосатых своих ковриках фигурками простерлись необозримые дали, напоенная свежестью синева, где летают горлинки и порхают мотыльки.
Глава 7
Список гостей, приглашаемых миссис Сотхил лишь на праздники в саду, состоял в основном из лиц пожилых, вышедших на пенсию после работы в городе или за границей и приобретших себе небольшие загородные дома или бывшие имения, которые некогда кормились рентой с тысяч акров земли и десятков коттеджей, а теперь сократились, сохранив лишь небольшой луг и огороженный сад; жизнь обитателей этих имений поддерживали пенсии и накопленные сбережения.
Сохранение сельского характера окружающей местности было предметом особой заботы лишь этих мелких землевладельцев; магнаты покрупнее, вроде Фредди, охотно распродали все близлежащие фермы под освоение и строительство. Страдало и протестовало при этом одно только почтовое ведомство, но нельзя было ни расчистить узкую просеку, ни срубить дерево, ветвями касавшееся проводов, чтобы это не было замечено и не вызвало бы сокрушенных сетований в какой-нибудь из залитых утренним светом гостиных. Однако в целом люди эти были доброжелательные и общительные, их тщательно ограниченное в своем количестве потомство «разлетелось» и навещало родителей лишь изредка. Дочери жили в лондонских квартирах, работая в столице, сыновья тоже обеспечивали себя сами, служа государству или занимаясь бизнесом. Империя и ее вкусы мало-помалу утверждались, преобразовывая патриархальный уклад, превращая допотопные амбары в сельские клубы и залы для собраний, сооружая круглые палатки для скаутов; местная медицинская сестра приобрела автомобиль, в церкви ликвидировали хоры и огороженные места для молящихся, а гербы и десять заповедей алтарной преграды сменила завеса из голубой камки, поддерживаемая по углам позолоченными солсберийскими ангелами; лужайки были подстрижены, прополоты и удобрены, и безукоризненную гладкость поверхности нарушали теперь лишь живописные островки пампасной травы и юкки; руки в перчатках неустанно копались в садах камней, ровняли бордюры; в холлах на столиках рядом с подносами для визиток появились лубяные корзиночки. Теперь, в мертвенной глуби зимы, когда пруды сковало толстым льдом, а огороды по ночам превращались в беспорядочное нагромождение мешковины, милосердные местные жители взяли себе за правило ежедневно подкармливать птиц крошками со стола и следить, чтобы никто из деревенских стариков не испытывал недостатка в угле.
Мир, представавший перед Бэзилом со страниц переплетенной в кожу адресной книги миссис Сотхил, был ему незнаком. Он разглядывал его, как разглядывал бы тучные пастбища внизу разбойник-горец, стоя на перевале, так глядели вниз с заснеженных вершин Ганнибаловы пехотинцы, наблюдая, как ищут опоры ноги первых слонов, прокладывая долгий путь к ломбардским равнинам, слушая, как трубят слоны, оскальзываясь, теряя равновесие.
После удачного заключения сделки в Норт-Граплинге Бэзил отвез Дорис в ближайший городок и, щедро накормив жареной рыбой с картошкой, отвел в кино, где позволил тискать свою руку в липком пожатии на протяжении двух невыносимо сентиментальных фильмов, после чего привез ее обратно в Мэлфри, восхищенную и покорную.
– Вы не любите блондинок, правда? – пытала она его в машине.
– Не люблю. Очень.
– Брюнетки лучше, верно?
– Да мне все равно.
– Говорят, любят похожих. Она брюнетка.
– Кто?
– Та, кого вы сестрой называете.
– Дорис, выбрось эту глупость из головы. Миссис Сотхил – моя сестра.
– Так вы не втюрились в нее?
– Конечно, нет.
– Значит, вы все-таки блондинок любите, – горестно заключила Дорис.
На следующий день она в одиночестве отправилась в деревню и вернулась с таинственным видом, неся в руках какой-то сверточек. Все утро она пряталась в холостяцком крыле, а перед вторым завтраком явилась в оранжерею с головой, обмотанной полотенцем.
– Хочу вам вот что показать, – сказала она, приоткрывая мокрую прядь волос, частично светло-желтую, частично прежнего темного цвета, а частично переливающуюся всеми оттенками промежуточных цветов.
– Господи, детка! – воскликнула Барбара. – Что ты с собой сделала?
Но Дорис смотрела лишь на Бэзила.
– Вам нравится? Я днем еще раз прокрашу.
– Не советовал бы, – сказал Бэзил. – Мне кажется, надо оставить как есть.
– Вам нравится?
– По-моему, красиво.
– Не очень пестро?
– Ни чуточки не пестро.
Если что-нибудь могло сделать внешность Дорис еще более пугающей, то утром средство это было найдено.
Бэзил тщательно изучал адресную книгу.
– Ищу новое пристанище для Конноли, – сказал он.
– Бэзил, нам следует что-то сделать с головой этого несчастного ребенка, прежде чем передавать ее.
– Вовсе нет. Ей так идет. Что скажешь о Грейсах из бывшего приходского дома в Аддерфорде?
– Дом у них небольшой. Он художник.
– Богема?
– Совершенно нет. Очень благовоспитан. Пишет детские портреты. Акварелью и пастелью.
– Пастелью? Подходит.
– Жена его, по-моему, женщина болезненная.
– Чудесно.
В бывшем приходском доме Конноли пробыли два дня, заработав для Бэзила двадцать фунтов.
Глава 8
Лондон вновь полнился людьми. Те, кто спешно покинул его, возвратились. Те, кто собирался уехать после первого авианалета, остались. Марго Метроленд, то запиравшая дом и переселявшаяся в отель «Ритц», то вновь возвращавшаяся домой, в конце концов решив, что предпочитает оставаться в «Ритце», на этот раз заперла дом окончательно и, хотя она об этом не догадывалась, навсегда. Никто из слуг теперь не раздвигал штор на окнах, и они стояли занавешенные, с запертыми ставнями до тех пор, пока в этом же году не вылетели от взрыва, усеяв Керзон-стрит осколками стекла, а мебель оставалась в чехлах, пока не сгорела, искореженная и разбитая в щепки.
Сэру Джозефу Мейнверингу был доверен ответственный и достойный пост. Нередко теперь его можно было видеть в обществе генералов, а изредка – и с адмиралом. «Первейшей нашей тактической задачей, – говорил он, – является удержание Италии от вступления в войну до тех пор, пока она не нарастит мускулов для перехода на нашу сторону». Внутреннее же положение страны он выразил в следующем афоризме: «Противогазы берем с собой на службу, но в клубы ходим без них».
По поводу Бэзила леди Сил больше его не тревожила. «Сейчас он в Мэлфри, помогает Барбаре с эвакуированными, – говорила она. – Армия в данный момент полностью укомплектована. Вот когда начнутся потери, возможностей для вступления в ряды будет куда больше».
Сэр Джозеф кивал, но в глубине души относился к такому мнению скептически. Больших потерь, как он считал, ожидать не стоило – в «Бифштексе» ему случилось побеседовать с одним занятным типом, хорошим знакомым одного немецкого профессора истории; так вот, этот профессор, который сейчас в Англии и которого очень ценят в Министерстве иностранных дел, утверждал, что пятьдесят миллионов немцев готовы хоть завтра же согласиться на мир на наших условиях. Надо только разогнать правительство. Сэр Джозеф не раз видел, как это происходит, а во время войны сделать это пара пустяков. Выгнали же Асквита, а ведь он был куда лучше сменившего его Ллойд Джорджа. Потом сместили Макдональда. Кристофер Сил был мастак по этой части. Он бы и Гитлера сместил, будь он жив и немцем.
Поппет Грин была в Лондоне с друзьями.
– Амброуз заделался фашистом, – сказала она.
– Не может быть!
– Работает на правительство в Министерстве информации. Его подкупили, дав возможность издавать новый журнал.
– Фашистский журнал?
– Наверняка.
– Я слышал, журнал будет называться «Башня из слоновой кости».
– Он эскапист!
– Троцкист!
– Амброуз никогда не обладал пролетарским мировоззрением. Не понимаю, как мы могли с ним общаться. Петруша всегда говорил…
Питер Пастмастер явился в Брэтт-клуб в полевой форме и с нашивкой на рукаве, где значилось наименование полка, к которому он раньше не принадлежал.
– Привет. Чего это ты так вырядился?
Питер ухмыльнулся той особой ухмылкой, какой ухмыляется солдат, допущенный к некой военной тайне.
– Да так просто.
– Тебя что, из полка выперли?
– Я временно откомандирован на выполнение особого задания.
– Ты шестой человек в это утро, которого я вижу переодетым.
– Так надо. В целях конспирации, понимаешь ли.
– А по какому поводу?
– В свое время, полагаю, узнаешь, – с глубочайшим самодовольством отвечал Питер.
Отправились в бар.
– Доброе утро, милорд, – поздоровался Макдугал, бармен. – Как вижу, вас тоже в Финляндию направили. Многие джентльмены туда сегодня вечером отбывают.
Анджела Лайн снова находилась в Лондоне. Дела в госпитале шли как положено, ее сын вместе с его частной школой в первые же дни войны с восточного побережья был эвакуирован в глубинку Дартмура. Анджела сидела перед радиоприемником, слушая новости из Германии, в месте, которое она называла домом.
Это была квартира с гостиничным обслуживанием, такая же изящная и холодно недоступная, как она сама, – пять больших комнат в мансардном этаже новостройки на Гросвенор-сквер. Декораторы потрудились здесь, пока она была во Франции, и стиль обстановки склонялся теперь к «имперскому» в его современном модном выражении. В следующем году, если войны не будет, за август она должна все это переделать.
В это утро она имела часовую беседу со своими агентами и получила от них четкие, продуманные рекомендации по размещению денежных средств, после чего позавтракала в одиночестве, слушая по радио вести из Европы. После завтрака она, также в одиночестве, отправилась в кино на Керзон-стрит. Когда выходила из кино, уже темнело, а сейчас снаружи, за тяжелыми пунцовыми гардинами, падавшими тяжелыми складками, перетянутыми золотым шнуром, с золотой бахромой по нижнему краю, было совсем темно. Гардинами прикрывались новые черные шторы затемнения. Вечером она выйдет, чтобы поужинать в «Ритце» с Марго. Питера командируют куда-то, и Марго в его честь устраивает вечеринку. Анджела смешала себе большой коктейль, главными ингредиентами которого были водка и кальвадос. На приставном столике декораторы оставили электрошейкер. Они нередко оставляли в домах, где работали, разного рода дорогостоящие пустяки. Экономные хозяева возвращали их обратно, более рассеянные или же беспечные, посчитав этот оставленный предмет подарком, забывали за него поблагодарить, но пользовались им, затем ломали и платили по счету, приходившему год спустя. Анджеле нравились такие хозяйственные приспособления. Она включила шейкер, а когда коктейль был готов, взяла стакан с собой в ванну и лежала в ней, медленно потягивая напиток.
Коктейли Анджела пила не иначе как в одиночестве. В таком времяпрепровождении ей виделось нечто понятное лишь ей одной, но в то же время неуловимо-компанейское, легкая шалость, возможно, родившаяся во времена сухого закона, когда джин, перестав считаться напитком забулдыг, сделался атрибутом шикарного застолья, имевшим к тому же криминальный оттенок. Для Анджелы это была еще и память об отце и его друзьях, их празднествах, на которых они порою возглашали тосты и за нее, а также воспоминание о мужчине на корабле и о том, как пил он à tes beaux yeux[25].
Анджела, признававшая любые человеческие контакты лишь на ее условиях, пила коктейли исключительно в одиночестве. Но в последнее время все дни, похоже, были для нее сплошным одиночеством.
Пар от ванны, поднимаясь туманным облачком, оседал капельками на стакане. Она прикончила свой коктейль, чувствуя легкий туман внутри, и продолжала лежать в ванне, ни о чем не думая, ощущая лишь тепло от воды и выпитого алкоголя. Она позвонила служанке, попросила принести сигарету, неспешно выкурила ее до самого конца, попросила пепельницу, затем полотенце. Вот теперь она была готова к встрече с темнотой и холодом. Внимательно вглядываясь в зеркало, она заметила, что уголки губ немного опустились – не в гримасе недовольства, какую она часто замечала на лицах своих подруг, а в застылой маске смерти, которую наблюдают родные, сгрудившись у смертного одра близкого человека, читая в его чертах, что воля к жизни оставила его и он готов принять неизбежное.
За ужином она пила «виши» и рассуждала, как мужчина. Она говорила, что Франция не может сопротивляться, и Питер прибегнул к модному доводу, назвав ее «пятой колонной». Они пошли танцевать в «Сюиви». Она танцевала, пила «виши» и вела беседу по-мужски остроумно и тонко. В ушах у нее были новые сережки, выполненные в форме стрел с рубиновыми наконечниками. Тонкие изумрудные стрелы серег, казалось, пронзали мочки ушей. Серьги были сделаны по ее рисунку, и забрала она их у ювелира утром, возвращаясь от агентов. Женщины на вечеринке отметили эти серьги, как отметили и ее наряд во всех подробностях. Их всех присутствовавших женщин одета она была лучше всех, как это всегда и бывало, куда бы она ни шла.
На вечеринке Анджела оставалась до самого конца и к себе на Гросвенор-сквер возвратилась в одиночестве. Лифтера с начала войны после полуночи не бывало, и она, сама войдя в лифт, нажала кнопку и поднялась на свой мансардный этаж, в пустую молчаливую квартиру. Ворошить пепел в камине не было нужды – электрические угли в элегантной стальной корзинке светились ровно и всегда одинаково, пепла они не давали, и температура в комнате не менялась ни зимой, ни летом, ни днем, ни ночью. Анджела сделала себе большое виски с содовой и включила радио.
Звучали голоса – неустанно, на языках всего мира. Она слушала, крутила ручку настройки; иногда в хор голосов врывалась музыка, иногда слышалась молитва. Она налила себе еще виски с содовой.
Служанка ее жила отдельно, ей было велено Анджелу не дожидаться. Придя утром, она застала миссис Лайн в постели, но бодрствующей; платье, в котором та была накануне вечером, было аккуратно развешено, а не брошено в беспорядке на ковер, как это нередко бывало. «Я утро проведу в постели, Грейнджер, – сказала Анджела. – Принесите мне сюда радио и газеты тоже».
Позднее, приняв ванну, она вернулась в постель и, проглотив две таблетки снотворного, заснула и спала до тех пор, пока не пришло время вставлять в окна рамы с темными шторами, маскируя их темными гардинами.
Глава 9
– Как насчет мистера и миссис Приттимен-Партридж и их усадьбы. «Пивоварня» в Грентли-Грин?
Бэзил выискивал подходящие данные, рассматривая теперь самые отдаленные от Мэлфри усадьбы. Восточную и западную стороны он уже проработал, Грентли-Грин же лежала на южной окраине, там, где холмистый ландшафт уплощался в долину, изобилующую огородами и яблоневыми садами, снабжавшими округу сидром.
– Они, должно быть, очень старые, – сказала Барбара. – Я с ними едва знакома. Кажется, недавно я что-то слышала про мистера Приттимен-Партриджа, но не помню, что именно.
– Дом у них красивый? Мебель хорошая?
– Насколько мне известно, да.
– Люди добропорядочные? Любители мирной тихой жизни?
– Наверно.
– Подходит!
Бэзил склонился над картой, изучая путь до Грентли-Грин, который назавтра ему предстояло проделать.
Усадьбу «Пивоварня» он нашел без труда. В семнадцатом веке здесь варили пиво, позже дом преобразовали для жилья. Своим широким, привычной формы фасадом из тесаного камня дом был обращен к общинному выгону. Шторы и фарфоровые вазы на окнах показывали, что «дом поддерживается в хорошем состоянии». Бэзил одобрил вазы – большие, темного веджвудского фарфора – ценные, хрупкие, без сомнения, заботливо хранимые. В открывшуюся дверь Бэзил увидел шедший через весь дом прямой коридор и заснеженную лужайку с заваленным снегом можжевеловым кустом за домом.
Дверь открыла девушка, крупная и миловидная. Она была белолицей, с огромными голубыми глазами, белокурые волосы ее кудрявились, большой рот застенчиво сжат. Одета девушка была в твидовый костюм и вязаный джемпер, словно собралась на прогулку, но теплые тапочки на меху свидетельствовали, что утро она проводила дома. Все в девушке казалось большим, полновесным, мягким и круглым. На вывеску дома моды она не годилась, но назвать ее толстой тоже было бы неверно. С годами формы ее должны были стать восхитительно пропорциональными. Буше охотно изображал таких девиц полуодетыми, окутанными розово-голубым облачком тонкого батиста и с бабочкой, порхающей над бело-розовыми округлостями грудей.
– Мисс Приттимен-Партридж?
– Нет. Только не говорите, что собираетесь предложить мне что-то купить. Стоять здесь в дверях жутко холодно, а если я приглашу вас в дом, мне придется купить ваш товар.
– Я хотел бы повидать мистера и миссис Партридж.
– Они скончались. По крайней мере один из супругов. Другой же прошлым летом продал дом. Если это все, то, пожалуйста… Мне неприятно быть с вами столь неучтивой, но я должна закрыть дверь, а не то закоченею.
Так вот что слышала Барбара о владельцах «Пивоварни»!
– Могу я войти?
– О боже мой, – говорила полнотелая девица, ведя его в гостиную с веджвудскими вазами. – Вы хотите, чтобы я что-то купила или заполнила анкету? Или это по поводу подписки? Если дело касается первых двух вопросов, то ничем помочь не могу, – муж в отъезде, в йоменских войсках, а если это подписка, то наверху кое-какие деньги у меня есть. Мне сказали сдать такую же сумму, какую сдаст миссис Эндрюс, жена доктора. Если вы у нее еще не были, то вернитесь ко мне после того как выясните, сколько готова сдать она.
В гостиной все было новым – и краска, и ковры, и гардины. И, видно, совсем недавно расставленная мебель. Напротив камина стоял широкий вместительный диван, чьи обитые набивной тканью подушки еще хранили вмятины от тела этой милой юной женщины: она лежала тут, когда Бэзил позвонил в дверной колокольчик. Он знал, что стоит провести рукой по круглой впадине, где только что находилось ее бедро, и она окажется теплой и что другими подушками хозяйка подпирала плечо. Книга, которую она читала, лежала на шерстяном каминном коврике. Бэзил мог в точности вообразить позу, в которой это тело в ленивой юношеской истоме распростерлось на диване.
Девушка, казалось, уловила дерзость, с которой он изучал ее, и спросила:
– А почему вы не в армии?
– Моя работа имеет важное общенациональное значение, – ответил Бэзил. – Я окружной уполномоченный по распределению эвакуированных и сейчас ищу подходящий дом для трех эвакуированных детей.
– Искренне надеюсь, что мой дом вам не подойдет. Очень надеюсь. Я даже и за овчаркой Билла ухаживать не могу. И за собой – в достаточной мере. Куда мне еще троих детей!
– Это совершенно особые дети.
– Вполне вероятно. Но я их не приму, спасибо. Вчера ко мне нагрянула одна смешная женщина по фамилии Харкнесс. Мне кажется, война не слишком подходящее время для неожиданных визитов, согласны? И она рассказывала мне ужасные вещи про детей, которых к ней поселили. Им пришлось в буквальном смысле откупиться, дать взятку, чтобы этих монстров от них забрали.
– Речь идет об этих детях.
– Господи, ну почему выбор пал на меня!
Она ошеломленно уставила на него взгляд огромных испуганных глаз. Так застывает кролик в луче автомобильных фар.
– Ну, на самом-то деле, выбрал я Приттимен-Партриджей… А что касается вас, то я даже имени вашего не знаю.
– Как и я вашего.
– Бэзил Сил.
– Бэзил Сил? – переспросила она с неожиданным интересом. – Как забавно…
– Чем же забавно?
– Только тем, что в свое время я много про вас слышала. Дружили вы с девушкой по имени Мэри Николс?
– Дружил? – Дружил с Мэри Николс? Мэри Николс…
– Она часто рассказывала про вас. Она была гораздо старше меня, а мне тогда было шестнадцать, и я восхищалась ею. Вы познакомились с ней на пароходе, следовавшем из Копенгагена.
– Признаться, в Копенгагене я был.
Девушка теперь глазела на него пристально и с некоторым неодобрением.
– Так вы и есть тот Бэзил Сил… Никогда бы не подумала…
Четыре года назад в маленькой гостиной на втором этаже дома в Южном Кенсингтоне, в комнате, которую и занимала Мэри Николс и где она принимала своих подруг, они с ней нередко пили чай. День за днем она приходила туда посидеть перед газовым камином и, жуя ореховый пирог, послушать подробности пережитого Мэри приключения. «Но неужели ты не хочешь с ним увидеться?» – спрашивала она. «Нет, это было так прекрасно и так ценно само по себе в своей завершенности. – Со времени того приключения Мэри увлеклась чтением романтической литературы. – Я не хочу ничего испортить». «Мне кажется, он и вполовину не стоит тебя, дорогая». «Он совершенно особенный… Не надо считать его обычным ухажером на танцульках…» Девушка тогда еще не посещала танцулек, и Мэри это знала. Рассказы Мэри об ухажерах на танцульках производили на девушку сильное впечатление, но куда больше действовала на нее история с Бэзилом Силом. Имя это накрепко врезалось ей в память.
А Бэзил все еще стоял, силясь вспомнить… Мэри Николс? Копенгаген? Нет. Он не помнил ничего. Отрадно, думал он, что доброта и симпатия, проявленные когда-то, с течением времени могут возвратиться как благословение проявившему их. Мужчина поухаживал за девушкой на пароходе, и пути их разошлись. Он забыл об этом, ведь в его жизни было столько подобных историй. А она не забыла, и вот однажды нежданно-негаданно Судьба дарит ему в награду зрелый плод: в «Пивоварне» Грентли-Грин, сама того не ведая, его ждет прелестная и соблазнительная незнакомка.
– Не угостите меня рюмочкой в память о Мэри Николс?
– В доме вряд ли найдется спиртное. Ведь Билл в отъезде. Внизу в погребе у него есть бутылки, но дверь заперта.
– Полагаю, мы сможем ее вскрыть.
– О, я не посмею. Билл ужасно разозлится.
– Ну, не думаю, что ему особенно понравится, когда он приедет из отпуска, увидеть дом разгромленным семейкой Конноли. Кстати, вы ведь их еще не видели. Они возле дома в машине. Я приведу их.
Волоокая голубизна ее глаз теперь светилась истинной печалью и мольбой.
– Ну, взгляните на них через окно.
Девушка пошла взглянуть.
– Боже милостивый, – сказала она. – Миссис Харкнесс была недалека от истины. Я-то считала, что это выдумки.
– Чтобы избавиться от них, она заплатила тридцать фунтов.
– О, такой суммы у меня и близко нет. – И опять эти печаль и мольба в больших голубых глазах. – Билл выдает мне деньги из своего жалованья. Ежемесячно. А других денег у нас нет.
– Я взял бы плату и чем-нибудь другим, – заявил Бэзил.
– Вы имеете в виду шерри?
– С удовольствием выпил бы стаканчик.
Когда с помощью лома они вскрывали дверь погреба, было ясно, что отважная девушка делает это не без удовольствия.
Запас в погребе оказался довольно жалким – бережно хранимое сокровище бедняка: бутылок шесть рейнвейна, ящик портвейна, дюжины две кларета. «По большей части это свадебные подарки», – пояснила девушка. Бэзил отыскал шерри, и они отнесли бутылку наверх.
– У меня теперь нет служанки, – сказала девушка. – Раз в неделю поденщица приходит.
В буфетной они нашли стаканы, в столовой – штопор.
– Как вам шерри? – заботливо спросила она, когда Бэзил пригубил напиток.
– Восхитительно!
– Я так рада. Билл в винах разбирается, я – нет.
Таким образом, беседа их переключилась на Билла – чудесного парня, за которого она вышла в июле. Получив хорошую работу в архитектурной мастерской в ближайшем городке, он в августе поселился в Грентли-Грин, а в сентябре оказался в мотострелковой части йоменских добровольцев.
Двумя часами позже Бэзил, покинув «Пивоварню», вернулся к своей машине.
Дети Конноли смирно сидели на местах, являясь живым доказательством несокрушимой силы, которой обладает любовь.
– Господи, мистер, вы не очень-то торопитесь, – заметила Дорис. – Мы чуть не окочурились от холода. Нам вылезать?
– Нет.
– Так что, мы не попремся в этот дом?
– Нет, Дорис, на этот раз – нет. Вы едете со мной обратно.
Дорис блаженно перевела дух.
– Плевать, что мы закоченели, раз мы едем с вами обратно!
Когда они вернулись в Мэлфри и Барбара опять увидела в холостяцком крыле детей, лицо ее вытянулось.
– О Бэзил, – пробормотала она, – ты промахнулся!
– Не совсем. Приттимен-Партриджи скончались.
– Я, помнится, знала, что что-то с ними не так. Но тебя не было целую вечность.
– Я встретил приятельницу. Вернее, приятельницу приятельницы. Очень милую девушку. Думаю, ты должна ей как-то помочь.
– Как ее зовут?
– Знаешь, я не спросил. Но ее мужа зовут Билл. Он служит в полку Фредди, в мотострелковой части.
– А чья она приятельница?
– Мэри Николс.
– Никогда о такой не слышала.
– Это моя старинная приятельница. Правда, Бэбс, тебе понравится эта девушка.
– Что ж, пригласи ее на ужин. – Барбара произнесла это без особого энтузиазма – слишком часто ей приходилось знакомиться с девушками Бэзила.
– Я и пригласил. Но беда в том, что у нее нет машины. Ничего, если я съезжу за ней?
– Милый, у нас так туго с бензином…
– Мы можем воспользоваться тем бензином, что ты получаешь по талонам.
– Но, милый, я этого сделать не могу. Такая поездка не имеет никакого отношения к размещению эвакуированных.
– Хочешь верь, хочешь нет, Бэбс, но отношение она имеет.
Глава 10
Заморозки кончились, снег стаял; Колони-Баг, Бэгшот-Хит, Чобхем-Коммон и маленькие, поросшие утесником и можжевельником клочки земли и болотистые, лежащие между автострадами низины Суррея, помеченные особым значком на картах и пронумерованные как полигоны и места тренировочных маневров на схемах военачальников, после краткого периода благообразия вновь обрели привычный неприглядный облик.
– Можем продолжить тактические учения, – сказал командир.
Три недели составлялись схемы действий каждого взвода и всей роты в целом. Капитан Мейфилд тратил часы досуга, разрабатывая планы превращения нескольких акров отведенной ему раскисшей земли в поля сражений. Для солдат поля эти отличались лишь расстоянием их от лагеря и дистанцией, которую предстояло пройти, прежде чем прозвучит команда «огонь прекратить». Затем три дня кряду командир со своим адъютантом отправлялись к снайперскому укрытию на Хамбере, прихватив с собой планшеты. «Мы готовим батальонные учения, – объявил капитан Мейфилд. – Солдат сообщение никак не взволновало. – Для нас это будет первым опытом. Необходимо, чтоб каждый солдат был вписан в общую картину».
Аластер мало-помалу усваивал новый для него язык. Существовал примитивный язык его товарищей-солдат, состоявший из сыпавшихся друг за другом скабрезностей. Овладеть этим языком не представляло труда. Был и другой язык – офицеров, на котором они время от времени обращались к нему.
В первый раз, когда капитан Мейфилд спросил его: «Вписываетесь в картину, Трампингтон?» – он подумал, что речь идет о том, виден ли он в полный рост. А он к тому времени как раз скорчился в канаве, где, мокрый по колени, прилаживал по совету мистера Смоллвуда сухие ветки на каску, маскируя голову. «Нет, сэр», – решительно ответил он.
Такое признание, казалось, даже понравилось капитану. «Впиши своих в картину, Смоллвуд», – сказал он взводному. И затем последовало глубочайшее изложение малоубедительной фантазии относительно неспровоцированного нападения Южной стороны на Северную (не выполняющую, к тому же, условия Женевской конвенции о неприменении газов) и необходимости поддержать огнем батареи боевые бронированные машины и передовые опорные пункты.
Аластер узнал также, что все маневры кончаются «неразберихой», что вовсе не означает, как он поначалу опасался, бойни и кровопролития, а значило лишь возвращение каждому права на свободу передвижения: когда солдаты идут как попало, мистер Смоллвуд свистит в свисток, а капитан Мейфилд орет: «Не угодно ли вам, мистер Смоллвуд, убрать ваш взвод отсюда к чертовой матери и вести его строем по дороге!»
В день батальных учений они вышли из лагеря, изображая батальон. Аластера назначили минометчиком взвода мистера Смоллвуда. Это была игра на весьма сомнительных условиях. К моменту учений никаких минометов у них еще не было, и вместо соответствующего оружия Аластеру был выдан муляж – деревянный и легкий, болтавшийся на его ранце на спине, для чего у него было отнято ружье. Пока средств хватило лишь на это да на ветхую веревку, но придет день, как говорили, «и нам вручат новенькие десять-девяносто восемь». Аластер догадывался, что с приходом этой суровой поры он еще позавидует солдатам с простыми ружьями. Двух других солдат взвода впопыхах назначили ответственными за противотанковую оборону и сверх всяких ожиданий выдали прибывшим противотанковые ружья. Один из них предусмотрительно заболел накануне, второй заболел после учений.
Фляги были наполнены водой, сухой паек уложен в коробки для завтраков, и ввиду упрямого нежелания северян поддержать Женевскую конвенцию, пришлось, к разочарованию любителей легкой жизни, еще и навесить на грудь противогаз. В таком виде они вышли из лагеря и, когда прозвучала команда «вольно», запели «Выкатывай стволы», «На линии Зигфрида портянки ты развесь» и «У маркитантки в уголке». Вскоре порядок был восстановлен, и они пошли «как положено», то есть без песен и спотыкаясь в канаве. Солдат с противотанковым ружьем монотонно ругался. Затем послышалось: «Газы!» – каждый нацепил противогаз, а солдат с противотанковым ружьем задыхался теперь в молчании.
– Отставить газы! Противогаз в ранец не убирать! Дать ему минутку просохнуть!
Пройдя миль восемь, они свернули с шоссе на проселочную дорогу и вскоре остановились. Было одиннадцать часов.
– Это место сбора батальона, – объявил капитан Мейфилд. – Командир ушел вперед с разведывательной группой для проведения разведки.
Сказано это было так, словно, обращаясь к толпе пилигримов, он возгласил: «Это Ватикан. Папа удалился в Сикстинскую капеллу».
– Если постараться понять что к чему, все выглядит интереснее, – сказал мистер Смоллвуд как бы оправдываясь. – Да, курите, курите!
Рота расположилась на обочине и принялась за сухой паек.
– У вас в запасе еще будут полчаса, – сообщил мистер Смоллвуд. – Обеденный перерыв предусмотрен.
Они ели почти молча.
– Скоро командир затребует свою О-группу, – объявил капитан Мейфилд.
Через некоторое время появился вестовой, он не бежал, а шел не спеша. Вестовой вел за собой капитана Мейфилда.
– Командир таки затребовал свою О-группу, – сказал мистер Смоллвуд. – Командование передано капитану Брауну.
– Поступил приказ командира, – объявил капитан Браун. – Сейчас формируется ударный батальон HQ. Ротные готовят убежище. Вскоре будут задействованы О-группы.
– Не пойму, зачем для всего этого мы им понадобились, – произнес человек с противотанковым ружьем.
По прошествии сорока пяти минут прибыл связной с письменным распоряжением капитану Брауну. Трем взводным командирам он сказал: «Приказано прибыть к командиру роты в квадрат “три Е” Пасеки. Я поведу роту до квадрата «В» Пасеки».
Мистер Смоллвуд со связным и вестовым оставили расположение взвода и неуверенно побрели в кусты.
– Постройте роту, старшина!
Капитану Брауну его положение командира удовольствия не доставляло. Солдаты медленно тащились вслед за ним по луговине. Иногда они останавливались, ожидая, пока он разберется с картой. Наконец он произнес:
– Вот место дислокации роты. Командир роты сейчас отдаст приказ О-группе.
Едва солдаты начали располагаться, как появился капитан Мейфилд.
– Куда, черт возьми, подевались взводные? – вскричал он. – И как рота очутилась здесь? Я приказывал прибыть в квадрат «В» Пасеки, а это квадрат «Е»!
Последовал спор, из которого до Аластера долетали лишь обрывки, упоминались «окружность», «развязка» и многократно повторенное «карта врет». Капитану Брауну, судя по всему, удалось отбиться, и капитан Мейфилд отправился на поиски О-группы, оставив за ротой право находиться там, где она находилась.
Прошло полчаса, и капитан Браун ощутил настоятельную потребность как-то объяснить задержку.
– Командиры взводов делают рекогносцировку, – сказал он.
И тут появился командир.
– Это рота «С»?
– Да, сэр.
– Ну так что происходит? Вы должны были уже находиться на рубеже атаки!
Так как было совершенно ясно, что требовать объяснения от капитана Брауна бессмысленно, командир ограничился лишь тем, что тоном, от которого капитана привычно бросило в дрожь, произнес:
– Должно быть, ваших передовых постов я не заметил. Введите меня в курс того, как идет оборона на этой позиции.
– Мы, сэр, только передохнуть здесь хотели чуток…
Командир удалился вместе с капитаном Брауном.
– Сейчас он ему задаст перцу, – сказал ответственный за противотанковую оборону. Первый раз за весь день он испытал некое удовлетворение.
Капитан Браун вернулся с видом человека, перенесшего хорошую взбучку, и принялся с лихорадочной энергией назначать посты противовоздушной и противогазовой обороны. Всплеск активности прервало возвращение взводных, получивших приказ вести своих людей к местам дислокации взводов. Аластер прошел со своим взводом еще полмили, после чего они встали. Появившийся мистер Смоллвуд собрал вокруг себя старшин. К слушавшим его распоряжения присоединился и командир роты. Когда мистер Смоллвуд замолчал, тот спросил:
– Вы, кажется, не упомянули полковой медпункт, не так ли, сэр?
– Полковой медпункт, сэр? Нет, сэр. Боюсь, я не знаю, где он находится.
Командир отвел мистера Смоллвуда на несколько шагов в сторону, так чтобы взвод не слышал, о чем они говорят.
– Вот теперь и этому зададут перцу! – со злорадством произнес солдат с противотанковым ружьем.
Старшины вернулись к свом подразделениям. Приказы мистера Смоллвуда были очень подробны: «рубеж атаки», «час зеро», «разграничительная линия – внутренняя и внешняя», «цели», «огонь прикрытия». «Это вот так будет, – объяснил капрал Дикон, – они наверху, а мы здесь, внизу. И мы лезем туда, на них».
Прошло еще полчаса. Появился капитан Мейфилд.
– Бог мой, Смоллвуд, вы к этому времени уже полсклона должны были одолеть!
– О, – сказал мистер Смоллвуд, – простите! Вперед! Пошли!
Взвод собрал амуницию и пополз вверх по склону. Перед ними возник майор Буш, помощник командира. Они увлеченно принялись обстреливать его холостыми.
– Готов, – произнес солдат, стоявший рядом с Аластером.
– Вы попали под массированный огонь, – заявил майор. – Большинство из вас стало жертвой обстрела.
– Сам он жертва обстрела.
– Что будете делать, Смоллвуд?
– Спускаться, сэр.
– Так спускайтесь же?
– Спускаемся! – скомандовал мистер Смоллвуд.
– Ну а теперь что будете делать?
Мистер Смоллвуд растерянно озирался в отчаянных поисках вдохновения.
– Дымовую завесу, сэр.
– Ну так делайте же завесу!
– Делайте завесу, – бросил Аластеру мистер Смоллвуд.
Майор продолжил инспекцию, слушая теперь людей на фланге.
– Идем, – приказал мистер Смоллвуд. – Нам так или иначе надо будет брать эту чертову высоту. С тем же успехом можно сделать это сейчас.
Путь наверх оказался короче, чем представлялось. На вершине последовала некоторая неразбериха. Но постепенно со всех квадратов подтянулись люди, батальон был собран и построен, после чего распущен на обед. Сухой паек у всех был уже съеден, поэтому солдаты развалились на земле, покуривая.
На обратном пути командир заметил:
– Для первого раза не так уж плохо.
– Да, не так уж плохо, полковник, – согласился майор Буш.
– Дислоцировались довольно-таки медленно.
– Да, действовали нерешительно.
– Смоллвуд не слишком хорошо себя показал.
– Дислоцировался крайне медленно.
– И все же, думаю, все извлекли некоторые уроки. Люди проявили интерес. Это было очевидно.
До лагеря добрались, когда уже стемнело. Пройдя строем мимо караулки, разбились на роты и встали на ротном плацу.
– До ужина вычистить винтовки, – приказал капитан Мейфилд. – Взводный, собрать все, подлежащее возврату. Ноги проверяем повзводно.
После этих слов рота была распущена.
Аластеру удалось прошмыгнуть к телефонной будке и позвонить Соне до того, как мистер Мейфилд явился в казарму осматривать с фонариком ноги солдат. Аластер надел чистые носки, засунул под соломенной тюфяк свои бутсы и переобулся в туфли. Теперь он был готов – Соня ждала его в машине возле караулки.
– Милый, от тебя так потом пахнет, – сказала она. – Чем ты занимался?
– Обеспечивал дымовую завесу, – с гордостью произнес Аластер. – Наступление задерживали, пока я не обеспечил дымовую завесу.
– Ты молодец, милый. У нас на ужин мясные консервы и пудинг с почками.
После ужина Аластер уселся в кресло.
– Не давай мне уснуть, – попросил он. – К полуночи я должен быть на месте.
– Я разбужу тебя.
– Интересно, неужели и в настоящем сражении все происходит именно так, – пробормотал Аластер, прежде чем погрузиться в сон.
Командировка Питера Пастмастера так и не состоялась. Он переоделся в прежнюю свою форму и вернулся к прежним привычкам. Его полк находился в Лондонских казармах, мать по-прежнему жила в «Ритце», друзья по большей части собирались в баре Брэтт-клуба. Так как времени у него было в избытке, а угрожающая перспектива скорого участия в прямых военных действиях несколько отодвинулась, оставаясь основополагающей для всех его планов на будущее, Питера стало мучительно одолевать желание продолжить свой род. Ему было тридцать три года, и каждый день мог стать для него последним.
– Мама, – сказал он, – ты не считаешь, что мне следует жениться?
– На ком?
– На ком угодно.
– Не вижу причины просить кого угодно выйти замуж за кого угодно.
– Милая, не путай меня. Я имею в виду мою возможную гибель.
– Не понимаю, почему это должно прельстить бедняжку.
– Я хочу сказать, что хотел бы оставить сына.
– Ну, в таком случае тебе стоит жениться, дорогой. У тебя есть на примете какие-нибудь девушки?
– Да вроде бы нет.
– Как, пожалуй, и у меня. Впрочем, вторая дочь Эммы Гранчестер, на мой взгляд, очень хорошенькая. Попробуем ее. Хотя, возможно, есть толпы других. Я наведу справки.
И Питер, не привыкший к обществу молодых девушек, стал, поначалу неуклюже, ухаживать за ними и появляться с ними в свете; он быстро обрел уверенность – оказалось, нет ничего проще. Вскоре уже с дюжину мамаш демонстрировали старомодность своих взглядов, с энтузиазмом встречая перспективу видеть своим зятем молодого человека, обладающего всеми викторианскими добродетелями. То есть имеющего старинный титул, новенькое состояние и представительную облаченную в синий мундир фигуру.
– Питер, – сказала ему однажды Марго. – Не стоит ли тебе иногда отрываться от дебютанток, чтобы уделить время старым друзьям? Как поживает Анджела? Что-то ее не видно в последнее время.
– Наверно, вернулась в деревню.
– Неужели с Бэзилом?
– Нет, не с Бэзилом.
Но Анджела по-прежнему жила на Гросвенор-сквер на своей верхотуре. Внизу под ней сновали туда-сюда по своим делам толпы состоятельных мужчин и женщин, копошась на всех этажах, до самого тротуара, а ниже уровня тротуара был подвал, переделенный в бомбоубежище. Анджела редко выходила из дома, лишь один-два раза в неделю отправлялась в кино, всегда одна. Она взяла в привычку носить очки из дымчатого стекла, как на улице, так и в полумраке собственной гостиной, где она просиживала час за часом возле радиоприемника с графином и стаканом под боком; она и в зеркало гляделась, не снимая очков. Одна Грейнджер, ее служанка, знала о том, что происходит с миссис Лайн, но оценить могла лишь внешнюю сторону процесса. Ей было ведомо количество бутылок – полных и пустых – в кухонной кладовке; снимая по утрам с окон шторы затемнения, она могла видеть лицо миссис Лайн. (Теперь ей не приходилось будить хозяйку: когда она входила, глаза миссис Лайн были широко открыты, она тихо лежала в постели, ожидая, когда служанка ее окликнет, или ждала ее, уже сидя в кресле.) Грейнджер знала и о подносах с едой из ресторана, которые часто возвращались нетронутыми. Все это было ей известно, но, будучи девушкой разумной, хотя и туповатой, она предпочитала помалкивать. При этом туповатость разумной девушки лишала ее возможности проникновения в то, что творилось в душе у миссис Лайн.
А между тем стаял снег, унося с собой холод зимы, и знать не знавшие о превратностях войны ласточки потянулись к родным своим гнездовьям.
Часть третья. Весна
Глава 1
Возвратиться в Лондон Бэзила заставили два события. Во-первых, йоменских добровольцев вместе со всеми их палатками отправили обратно в деревню. Фредди позвонил Барбаре.
– Хорошие новости, – сказал он. – Мы возвращаемся домой.
– Чудесно, Фредди, – откликнулась Барбара, слегка похолодев. – Когда?
– Я прибуду завтра. И привезу с собой Джека Каллигана, которого теперь сделали заместителем командующего. Мы организуем лагерь, а пока остановимся в Мэлфри.
– Прекрасно, – отвечала Барбара.
– Прислугу мы везем с собой, так что обслуживать нас никому другому не придется. Этим займутся сержанты, а Бенсон сможет за ними присмотреть. И послушай, Барбара, как ты отнесешься к тому, чтобы мы встали лагерем в парке.
– О нет, Фредди, ради бога!..
– Мы могли бы открыть гостиную и устроить там столовую для офицеров. Тогда и я расположился бы в гостиной, а тебе пришлось бы только дать приют Спроггину и, возможно, Кэткарту. Ты ведь не станешь возражать, правда?
– Пожалуйста, Фредди, только не решай ничего впопыхах!
– Ну, строго говоря, я уже все решил. До завтра. Кстати, Бэзил еще у тебя?
– Да.
– Не думаю, чтобы он поладил с Кэткартом. Ты бы не могла ему мягко намекнуть?
Расстроенная Барбара повесила трубку и пошла готовиться к прибытию Фредди и майора Кэткарта.
Бэзил находился в Грентли-Грин. В Мэлфри он вернулся, пропустив ужин, поздним вечером и застал Барбару еще на ногах.
– Милый, тебе придется уехать.
– Да. Как ты узнала?
– Фредди возвращается домой.
– К черту Фредди, при чем тут он! Билл возвращается!
– И что она говорит?
– Хочешь верь, хочешь нет, она рада. Весела, как птичка.
– Вот скотина неблагодарная! – И после паузы: – И книгу ты тоже не написал…
– Не написал, но мы хорошо провели время, правда, Бэбс? Совсем как раньше.
– Наверно, тебе нужны деньги.
– Денег всегда не хватает. Но, как ни странно, сейчас я разбогател.
– Каким образом, Бэзил?
– Да произвел кое-какие действия… Перед тем как уехать, я вновь освобожу тебя от Конноли. Боюсь, что в последние недели я уделял им мало внимания.
Так было подготовлено второе решающее событие.
По пути в Грентли-Грин и обратно Бэзил присмотрел хорошенький оштукатуренной домик с огороженным лугом и фруктовым садом, показавшийся ему весьма подходящим для того, чтобы поместить туда Конноли. Он справился о доме у Барбары, но она ничем не смогла ему помочь.
В последнее время Бэзил несколько распустился: уверовав в непогрешимость своих методов, он пренебрегал теперь тщательным расследованием, прежде чем выбрать жертву. На этот раз выбор пал на оштукатуренный домик, и наутро он, погрузив Конноли в машину, покатил совершать сделку.
Было десять часов утра, но хозяина он застал за завтраком. Внешне тот отличался от привычного Бэзилу для его дел типа. По возрасту он явно не дотягивал до включения в список клиентов, получающих пенсию по почте, но неуклюже отставленная нога объясняла отсутствие на нем военной формы. Как выяснилось позднее, ногу он покалечил на мотогонках. У него были рыжие усы, рыжая шевелюра и недобрые красноватые глазки. Звали его мистер Тодхантер.
Он уплетал почки, яичницу, сосиски, бекон и пережаренную отбивную. Чайник подогревался на каминной полке. Точь-в-точь иллюстрация Лича в книге Сертиса[26].
– Ну, произнес хозяин, – с видом любезным, но настороженным. – Я знаю, кто вы. Вы брат миссис Сотхил из Мэлфри. С миссис Сотхил я незнаком, но все о ней знаю. С капитаном Сотхилом я тоже незнаком, но и о нем все знаю. Чем могу быть вам полезен?
– Я уполномоченный по размещению эвакуированных в этом районе, – сказал Бэзил.
– Понятно, любопытно познакомиться с вами. Продолжайте. Думаю, вы не против того, что я завтракаю.
Чувствуя себя менее уверенно, нежели обычно, Бэзил начал вступительную часть своего стереотипного монолога… Какая трудная работа размещать людей, особенно с тех пор, как зенитную батарею перевели в Саут-Граплинг и военные теперь квартируют в тамошних коттеджах… И как важно остановить обратный отток людей в города… нехорошо будет, если сложится впечатление, что состоятельная часть общества не желает вносить свою лепту… и как не хочется использовать насильственные методы, но в случае необходимости ведь имеются и они… Трое детей, чье размещение уже вызвало некоторые трудности…
Мистер Тодхантер доел свой завтрак и, встав спиной к огню, принялся набивать трубку.
– А что, если я не захочу принять этих ваших трудных детей? – спросил он. – Что, если я предпочту уплатить штраф?
Бэзил перешел ко второй части монолога… Предусмотренная плата едва покрывает стоимость питания… Семьи менее обеспеченные испытывают серьезные трудности… А ведь бедняки ценят свой домашний очаг и его хранителей даже больше, чем иные богатеи… Если представится возможность отыскать дом, где несколько добавочных фунтов в хозяйстве были бы весьма не лишними, хозяева смогут приобрести даже некоторый доход…
Мистер Тодхантер слушал его молча. Наконец он сказал:
– Вот как, оказывается, вы это делаете. Спасибо. Это было поучительно. Весьма, весьма поучительно. Особенно мне понравилось насчет хранителей домашнего очага.
Бэзил заподозрил, что имеет дело с человеком довольно широких взглядов и опасных наклонностей, в чем-то похожим на него самого.
– Обсуждая это в кругу более изысканном, я употребил бы выражение «лары и пенаты».
– «Хранители домашнего очага» тоже сгодятся… Чрезвычайно удачное выражение. И сколько, в среднем, рассчитываете вы так получать?
– Пять фунтов – в самом худшем случае, тридцать пять – в лучшем. Пока что.
– Пока что? И вы надеетесь продолжить ваш бизнес?
– Почему бы и нет.
– Вот как? Скажу вам вот какую вещь. Знаете, кто уполномочен размещать беженцев в этом районе? Я. За развилкой это уже моя территория, и вы вторглись на нее. Что скажете в свое оправдание?
– Иными словами, Грентли-Грин ваше?
– Естественно.
– Забавно, черт возьми!
– Чем же забавно?
– Не могу объяснить, – ответил Бэзил, – но забавно. Исключительно забавно!
– Так что попрошу вас впредь держаться вашей территории. Хотя за визит я вам даже благодарен. Он натолкнул меня на кое-какие идеи. Я всегда подозревал, что дельце это прибыльное, но не четко понимал, каким образом можно его обтяпать. Теперь же я получил об этом ясное представление. А насчет хранителей домашнего очага я запомню.
– Погодите-ка, – сказал Бэзил. – Одного ясного представления тут недостаточно. Вам придется получить представление и о Конноли. Никто не в силах понять, и я этого тоже не понимаю, но факт остается фактом: масса людей, в других отношениях вполне здравомыслящая, по неизвестной причине демонстрирует абсолютную готовность иметь в своем доме детей, они любят детей, и это чувство делает их добродетельными в собственных глазах. Им нравится топот детских ножек по дому. Понимаю, это выглядит чистым безумием, но это правда. Я наблюдал подобное не раз.
– Как и я, – согласился мистер Тодхантер, – глупо, но это так – из них делают домашних божков.
– Однако Конноли – это случай особый, делать из них домашних божков никому и в голову не придет. Давайте пойдем, и вы взглянете на них.
Вдвоем они вышли из дома на гравиевую площадку перед крыльцом, где Бэзил поставил машину.
– Дорис, – сказал он, – вылезай и познакомься с мистером Тодхантером. И Мики с Марлин вели тоже вылезти.
Троица испуганно выстроилась перед машиной для осмотра.
– Сними с головы косынку, Дорис. Покажи свои волосы.
Несмотря на все усилия, мистер Тодхантер не смог скрыть глубокого впечатления от увиденного.
– Да, – сказал он. – Признаю вашу правоту. Это действительно случай особый. Не сочтите нескромным мой вопрос, но сколько вы за них заплатили?
– Мне они достались даром. Но за время их пребывания у меня я вложил в них кучу денег – все эти кино и рыба с картошкой…
– Как вам удалось сотворить такое с ее волосами?
– Она сама это сотворила, – ответил Бэзил. – Движимая любовью.
– Да, случай поистине особый, – повторил Тодхантер с чувством, похожим на благоговение.
– Вы еще ничего не знаете. Их надо видеть в деле.
– Могу вообразить, – произнес мистер Тодхантер. – Ну так сколько вы за них просите?
– Пять фунтов с носа, продаю за бесценок, так как собираюсь закрывать лавочку.
Мистер Тодхантер не привык торговаться, если дело представлялось выгодным.
– Идет, – согласился он.
И Бэзил обратился к Конноли:
– Итак, дети, вот ваш новый дом.
– Мы должны устроить разгром? – спросила Дорис.
– Это на усмотрение мистера Тодхантера. Теперь я передаю вас в его руки. С этого времени вы станете работать на него.
– Значит, с вами мы больше не будем? – спросила Дорис.
– Никогда в жизни, Дорис. Но ты и мистера Тодхантера полюбишь не меньше. Он же такой красивый, правда?
– Не такой красивый, как вы.
– Может быть, и так, зато у него чудесные рыжие усики. Правда же?
– Да, усы красивые, – задумчиво произнесла Дорис. Она перевела взгляд на своего нового хозяина и оглядела его критически: – Но он меньше вас ростом.
– Черт возьми, девчонка! – нетерпеливо вскричал Бэзил. – Ты что, не понимаешь, что идет война? Все мы должны чем-то жертвовать! Сколько девочек еще спасибо сказали бы, окажись они рядом с мистером Тодхантером. Взгляни только на его рыжую голову.
– Да, волосы у него рыжие.
Утомленный этим сопоставлением, мистер Тодхантер пошел в дом за чековой книжкой.
– Что, нельзя будет устроить в этом доме разгром, совсем маленький, а? – грустно спросил Мики.
– Если маленький, не вижу причины отказать.
– Мистер, – сказала Дорис, едва сдерживая слезы, – поцелуйте меня разок на прощание.
– Нет. Мистеру Тодхантеру это не понравится. Он ужасно ревнив.
– Да? – просияла Дорис. – Ревнивых мужчин я люблю!
Когда Бэзил расстался с ней, ее пылкое, но непостоянное сердце уже полностью принадлежало новому хозяину. Марлин на протяжении всего разговора оставалась безучастной. Бедняжка была одарена лишь немногими талантами, да и те ей разрешалось демонстрировать только в редких случаях.
– Нельзя мне здесь рвоту устроить, а, Дорис? Разочек?
– Не здесь, киска. Подожди, пока джентльмен определит вас.
– А долго ждать?
– Нет, – решительно заявил мистер Тодхантер. – Не долго.
Таким образом проклятие было снято с Мэлфри, и меч карающий переместился южнее – в яблоневые сады и огороды, а в парке Мэлфри, под старыми вязами возникла беспорядочная россыпь палаток, офицерский состав йоменских добровольцев оккупировал гостиную Гринлинга Гиббонса, и в доме у Барбары поселились полковник Спроггин и майор Кэткарт. Фредди такое устройство принесло некую солидную сумму, а Билл провел немало счастливых часов супружества в «Пивоварне» Грентли-Грин (объяснение, данное по поводу взломанной двери погреба, его полностью удовлетворило). Бэзил же вернулся в Лондон.
Глава 2
Решив нанести матери один из своих редких и, как всегда, кратких визитов, Бэзил застал ее в бодром расположении духа и очень занятой участием в полудюжине благотворительных комитетов, связанных с жизнеобеспечением военных, для чего ей приходилось регулярно навещать своих друзей. Поражение Финляндии явилось для нее ударом, однако то обстоятельство, что Россия предстала, наконец, в истинном своем свете, она восприняла как компенсацию.
Радушно встретив сына, леди Сил выслушала его новости о Барбаре и передала ему новость о Тони.
– Мне надо будет выбрать время кое о чем поболтать с тобой, – сказала она после получаса болтовни.
Не имей Бэзил навыка разгадывать значение материнских эвфемизмов, он мог бы предположить, что речь и вправду идет о чем-то незначительном. Однако он точно знал, что мать намеревается обсудить с ним его будущее.
– У тебя что-нибудь уже назначено на сегодняшний вечер?
– Нет, мама, пока что нет.
– Тогда поужинаем дома. Вдвоем – только ты да я.
И после ужина леди Сил сказала:
– Бэзил, я никогда не думала, что мне придется тебе об этом говорить. Я, конечно, рада, что ты смог помочь Барбаре с эвакуированными, но теперь, когда ты вернулся в Лондон, обязана признаться тебе в том, что не считаю эту работу достойной мужчины. В такое время, как сейчас, ты должен воевать.
– Но, мама, насколько мне известно, в настоящий момент никаких особенных военных действий не ведется.
– Не увиливай, милый. Ты понимаешь, о чем я говорю.
– Но я же встретился с полковником, когда ты меня попросила.
– Да. Сэр Джозеф мне все объяснил. В гвардии они желают видеть только очень молодых офицеров, но он сказал, что существует и ряд других превосходных частей, где можно сделать карьеру даже лучшую. Генерал Гордон был в саперных войсках, и, как мне помнится, ряд генералов прошлую войну начинали простыми артиллеристами. Я не хочу, чтобы ты просто слонялся по Лондону в военной форме, как твой дружок Питер Пастмастер. Он, кажется, все свое время тратит на девушек. Эта глупая гусыня Эмма Гранчестер всерьез вознамерилась женить его на Молли. И Этти Флинтшир, и бедная миссис Ван Атробус тоже нацелилась на него как на жениха для своих дочерей. О чем они только думают! Ведь у него был безумный роман с Марго, до того как она выскочила за Метроленда, который тогда, правда, еще не назывался Метролендом. Нет, – заявила леди Сил, резко прервав поток воспоминаний, – я хочу видеть тебя занятым каким-нибудь действительно важным делом. Сэр Джозеф дал мне бланк, который надо заполнить, чтобы стать офицером. Это называется «Дополнительный резерв». Прежде чем ляжешь, подпиши бланк. А там посмотрим, в какое подразделение лучше всего его отправить. Я уверена, что теперь со снятием этого кошмарного мистера Белиши все станет гораздо проще.
– Но знаешь, мама, мне как-то не слишком улыбается чин младшего офицера.
– Конечно, милый, – решительно согласилась с ним леди Сил, – и если бы, окончив Оксфорд, ты выбрал службу в армии, то сейчас был бы уже майором. Но во время войны карьеры делаются быстрее, так как многие погибают. Уверена, что с первых твоих шагов они поймут, как ты им полезен. Но надо с чего-то начинать. Лорд Китченер признавался мне, что даже он начинал младшим офицером.
Таким образом, перед Бэзилом вновь замаячила опасность службы. «Не волнуйся, – сказал ему Питер. – Из дополнительного резерва еще никого никуда не посылали», – но Бэзил все-таки, волновался. В нем глубоко укоренилось недоверие ко всяческим официальным документам. Он подозревал, что в любую минуту какой-нибудь телеграммой его могут отправить в дальние казармы, где он, подобно Аластерову мистеру Смоллвуду, всю войну будет муштровать ополченцев. Это расходилось с его пониманием войны как некой перспективы для неудачника. Проведя три дня в беспокойстве, Бэзил решил наведаться в Военное министерство.
Он пошел туда, не имея в виду определенной цели, движимый лишь верой в то, что где-то в недрах этой огромной организации найдется курица, несущая яйца непосредственно для него. В первые дни войны, когда он старался заинтересовать властей предержащих своим проектом аннексии Либерии, он не раз штурмовал министерство. Возможно, расуждал Бэзил, тогда он метил слишком высоко.
Начальник генерального штаба был человек занятой. На этот раз Бэзил будет вести себя скромнее.
Людской водоворот в вестибюле министерства с начала сентября не убавился. Толпа была не меньше и, как с грустью констатировал Бэзил, имела тот же состав – это были офицеры всех рангов, желавшие проникнуть внутрь здания. Среди них он заметил одну-единственную фигуру в штатском, знакомую ему по визиту в Министерство информации.
– Привет, – сказал Бэзил. – Все еще бомбы носите?
Низкорослый безумец с чемоданом приветствовал его с большой теплотой и дружелюбием.
– Они не уделяют мне внимания. Негодная организация, – пожаловался он. – Не желают меня впустить. А ведь меня сюда из Адмиралтейства направили.
– А обратиться в Министерство воздушного флота не пробовали?
– Господи, так они-то меня в Министерство информации и отослали. Должен признать, что в Министерстве информации люди любезнее, чем где бы то ни было. Там не ссылаются на занятость, с ними можно поговорить. Только толку, чувствую, никакого.
– Пойдем, – сказал Бэзил. – Сейчас они нас впустят.
Вход охраняли ветераны – зулусы и ашанти. Бэзил наблюдал, как они остановили человека в генеральской форме:
– Если вы заполните этот лист, сэр, один из охранников сопроводит вас в отдел.
То же самое говорили и другим людям в форме. Но ни Бэзил, ни его знакомый бродячий торговец на такое обращение рассчитывать не могли. Генерал – это генерал, а что такое человек в штатском, еще неизвестно.
– Ваши пропуска, джентльмены, будьте любезны.
– Все в порядке, сержант, – сказал Бэзил. – За этого человека я ручаюсь.
– Да, сэр, но кто вы, сэр?
– Вам следовало бы уже это знать. Эм-один-тринадцать. В нашем отделе мы не носим с собой пропусков и не обязаны называть свою фамилию.
– Очень хорошо, сэр. Простите, сэр. Вы знаете, как пройти, или вас нужно проводить?
– Разумеется, я знаю, как пройти, – резко бросил Бэзил. – И запомните этого человека. Называть себя он не будет и предъявлять пропуск тоже, но видеть его здесь, надо думать, вам предстоит нередко.
– Очень хорошо, сэр.
И двое штатских, прорезав бурлящую толпу одетых в форму людей, очутились внутри в тишине коридоров.
– Ей-богу, я вам так признателен! – воскликнул человек с чемоданом. – А теперь куда?
– Для вас теперь открыты все пути, – сказал Бэзил. – Не торопитесь. Идите, куда пожелаете. На вашем месте я начал бы с генерал-капеллана.
– А где его кабинет?
– Да там, вверх по лестнице. – Бэзил неопределенным жестом махнул рукой. – Вверх, а потом прямо.
Коротышка серьезнейшим образом его поблагодарил и затрусил по коридору неровной, плохо скоординированной походкой сумасшедшего, после чего скрылся за лестничным пролетом. Не желая далее рисковать собственным благополучием ради благотворительности, Бэзил свернул в противоположную сторону. Перед ним открывалась заманчивая картина из двадцати или более закрытых дверей, каждая из которых, возможно, вела к процветанию и захватывающим приключениям. Он шел по коридору походкой ленивой, но в то же время целеустремленной, какой, по его мнению, и должен был идти на деловую встречу важный агент; именно так мог двигаться Соупи Спонж по галерее особняка Джолифорд-корт.
Этому изобиловавшему возможностями коридору явно не хватало украшающих его деталей – сплошной линолеум и унылая панельная обшивка; освещался он только в дальнем конце, так что приближавшаяся фигура появилась сперва в виде силуэта, и силуэта к тому же неясного; лишь когда она очутилась от Бэзила в нескольких метрах, он осознал, что суровой обстановке вокруг не хватало именно такого украшения – это была девушка в форме с нашивкой младшего капрала на рукаве и с лицом, ничем не прикрытая божественная глупость которого проникла Бзэилу в самое сердце. Классический образ, видимо, можно было счесть реальностью, таким молниеносным и острым, как стрела, было испытанное им чувство удовольствия. Он повернулся, изменив направление движения, и последовал за младшим капралом по линолеуму коридора, мгновенно преобразившемуся для него в яркий и веселый ковер театрального или кинозала.
Младший капрал вела его довольно долго; время от времени она останавливалась, здороваясь со встречными, проявляя к каждому, от генерала до самого распоследнего младшего чина, равную меру веселой доброжелательности. Судя по всему, она была здесь всем известна. В конце концов она направилась к двери с табличкой «ПЗНВБ». Бэзил вслед за ней вошел внутрь. Там он увидал другого младшего капрала – мужчину.
Этот младший капрал сидел за пишущей машинкой; на бледном прыщавом лице выделялись очки, в углу рта была зажата сигарета. Глаз он не поднял.
Младший капрал-девушка с улыбкой обратилась к Бэзилу:
– Ну, теперь ты знаешь, где я живу. Забегай в любое время, если случишься рядом.
– Что такое ПЗНВБ? – осведомился Бэзил.
– Это полковник Плам.
– А что такое полковник Плам?
– Он душка. Поглядите на него, если хотите, сами увидите. Он там.
И она указала подбородком на стеклянную дверь с надписью: «Не входить».
– Помощник заместителя начальника внутренней безопасности, – произнес младший капрал-мужчина, не отрываясь от печатания.
– По-моему, мне стоит войти, чтобы поработать в его подразделении, – сказал Бэзил.
– Да, так все говорят. Когда я работал в пенсионном отделе, было то же самое.
– Я мог бы получить у него работу.
– Добро пожаловать, – кисло заметил младший капрал-мужчина. – Подозреваемый, подозреваемый – весь день одни подозреваемые, все с иностранными именами, и все оканчивается пшиком.
Разговор был прерван громким криком из-за стеклянной двери:
– Сюзи, озорница, зайди-ка!
– Это он, лапочка. Поглядите на него хорошенько, когда дверь откроется. У него такие милые усики!
Бэзил украдкой заглянул в дверь и успел разглядеть худое лицо типичного военного и действительно, как и сказала Сюзи, очень милые усики.
– Кто это еще, черт возьми?
– Не знаю, – беспечно бросила Сюзи. – Он просто шел сюда за мной.
– Войдите, вы, – распорядился полковник. – Кто вы такой и как очутились здесь, в моем отделе?
– Ну, – отвечал Бэзил, – то, что сказала младший капрал, чистая правда. Я очутился здесь, идя следом за ней. Но если уж так вышло, то могу сообщить вам ценную информацию.
– В таком случае вы будете единственным в своем роде штатским. Что за информация?
До сего момента слово «полковник» у Бэзила ассоциировалось с пожилым садовником, фигурировавшим у Барбары в списках пенсионеров. Но этот грозный мужчина его возраста был явно птицей иного полета. Бэзил наткнулся на второго Тодхантера. Какую же, бога ради, информацию ему сообщить?
– Могу я свободно говорить в присутствии капрала?
– Да, конечно. Все равно она ни слова не понимает ни на одном языке.
И тут Бэзила осенило:
– По Военному министерству без присмотра бродит умалишенный.
– Конечно. Они здесь сотнями бродят. И вы пришли, чтобы сказать мне только это?
– У него полный чемодан бомб.
– Что ж, надеюсь он найдет дорогу в разведывательный отдел. Ведь фамилии его вы не знаете, так? Ну, тогда подготовь для него карточку, Сюзи, с серийным номером и сунь ее в раздел подозреваемых. Если его бомбы взорвутся, мы будем знать, где он числится, а если не взорвутся, тогда это неважно. Такие ребята приносят больше вреда себе самим, чем кому-нибудь еще. Беги, Сюзи, действуй и закрой за собой дверь. Мне надо поговорить с мистером Силом.
Бэзил был ошарашен. Когда дверь закрылась, он спросил:
– Разве мы когда-нибудь встречались?
– Встречались, могу поручиться… В Джибути в тридцать шестом, в Сен-Жан-де-Люз в тридцать седьмом, в Праге в тридцать восьмом. Вы меня не помните. Я был тогда по-другому одет.
– Вы тогда были журналистом?
В мозгу Бэзила возникло смутное воспоминание о скромном человеке с неприметным лицом, ничем не выделяющимся среди сотен других таких же лиц, время от времени появлявшихся поблизости и вновь исчезавших. В последнее десятилетие Бэзилу удавалось под тем или иным предлогом держаться на обочине того круга, где творилась современная история, в том сомнительном полусвете, где вращались, то и дело пересекаясь орбитами, все эти многочисленные и слегка зловещие фигуры обоего пола, вездесущие прихвостни дипломатии и прессы; среди этих теней он неясно различил и фигуру полковника Плама.
– Бывал и журналистом. Однажды мы выпивали с вами в баре «Баскский». Вы еще тогда затеяли драку с американским корреспондентом.
– Насколько мне помнится, победителем вышел он.
– Точно! Я еще доставил вас в отель. А что вы поделываете сейчас, кроме того, что строите куры Сюзи?
– Я хотел бы послужить контрразведке.
– Угу, – произнес полковник Плам. – Большинство наших посетителей, кажется, разделяют с вами такое желание. Вот оно, – добавил он, когда помещение слегка тряхнуло от глухого звука. – Похоже, ваш клиент с бомбами преуспел. Однако наводка оказалась, так или иначе, правильной и, смею думать, для работы вы подойдете не хуже прочих.
Вот она, наконец-то: сцена, которую Бэзил так долго репетировал, сцена, лишь слегка подправленная новой рукой, с тем чтобы ее осовременить, отделив от юношеских его приключений. Худощавый и властный мужчина внял предсказанию о будущем успехе Бэзила, согласно которому «наступит день, и они поймут, как ты полезен стране».
– С кем вы контактируете?
С кем он контактирует? С Аластером Дигби-Вейн-Трампингтоном, Анджелой Лайн, Марго Метроленд, Питером Пастмастером, Барбарой, с новобрачной из Грентли-Грин, мистером Тодхантером, с Поппет Грин – с Поппет, бывшей некогда его девушкой.
– Я знаю несколько опасных коммунистов, – сообщил Бэзил.
– Интересно, числятся ли они в наших списках. В ближайшее время мы это проверим. В настоящий момент мы вплотную коммунистами не занимаемся. По какой-то причине политики проявляют сдержанность в этом вопросе. Но наблюдение за ними мы ведем, попутно, конечно. За коммунистов я вам много не заплачу.
– Строго говоря, – с достоинством заметил Бэзил, – я пришел сюда, чтобы служить своей стране. Деньги же меня особенно не привлекают.
– Черта с два! Что же вас привлекает, в таком случае? Сюзи вам не светит. Я дрался, как черт, чтобы отбить ее у мужлана, который ведает пенсиями.
– Ну, отбивать – это потом. Что меня действительно в данный момент привлекает больше всего – так это военная форма.
– Господи Боже! Это еще почему?
– Моя мать грозится заставить меня командовать взводом.
Такое удивительное признание, казалось, было воспринято полковником с полным пониманием.
– Да, – сказал он. – Ношение военной формы, несомненно, дает много преимуществ. Однако вам придется, обращаясь ко мне, говорить «сэр», и если вы заведете шашни с сотрудницами, я вправе буду принять дисциплинарные меры. Другое дело, что для умного разведчика это наилучшая маскировка. Никто не заподозрит солдата в том, что его всерьез занимает война. Я могу это устроить.
– А на какой чин я могу рассчитывать?
– Второго лейтенанта в полку Кросса и Блэквелла.
– Кросса и Блэквелла?
– В войсках общего назначения.
– Послушайте, а что-нибудь получше вы для меня устроить не можете?
– За слежку за коммунистами – нет. Поймаете фашиста, и я, так и быть, подумаю о том, чтобы сделать из вас капитана морской пехоты.
Тут раздался телефонный звонок.
– Да. ПЗНВБ слушает. Да, бомба… Да, мы абсолютно в курсе… Генерал-капеллан? О, это… Ах, так только заместитель помощника, и вы считаете, что поправится… Тогда почему такой шум? Да, мы знаем все об этом члене группы. Он давно у нас в списках. Он сумасшедший. Сара, утка, Мария… су-ма… Да, вы правильно поняли. Нет, ко мне его не надо. Держите его под замком. Ну, найдется же в здании камера с мягкими стенами и, думаю, не одна.
Новость о покушении на генерал-капеллана дошла до отдела религии Министерства информации только к вечеру, когда сотрудники уже собирались по домам. Она ввергла их в приступ лихорадочной активности.
– Вам-то, ребята, это одно развлечение, – сетовал Амброуз, – а мне каково будет объяснить этот случай редактору «Безбожного воскресенья».
Леди Сил была потрясена.
– Бедняжка, – сказала она. – Я так понимаю, он полностью лишился бровей. Наверняка это русские.
Глава 3
Третий раз после возвращения в Лондон Бэзил попытался дозвониться до Анджелы Лайн. Послушав повторяющиеся гудки – пять, шесть, семь гудков, – он повесил трубку. Опять нет дома, подумал он. А хотелось бы показаться ей в форме.
Анджела считала звонки – пять, шесть, семь. Потом в квартире наступила тишина, в которой звучал лишь радиоголос, говоривший:
– …подлая попытка убийства потрясла весь цивилизованный мир. В ведомство генерал-капеллана продолжают поступить выражения сочувствия от глав церквей со всех четырех континентов…
Она переключилась на немецкое радио, где хриплый голос возмущался попыткой Черчилля вторично устроить потопление судна «Атения», подорвав военного иерарха.
Она нашла французскую волну – там какой-то литератор делился впечатлениями о своей поездке на линию Мажино. Анджела наполнила стакан, плеснув в него из стоявшей под боком бутылки. Ее недоверие к Франции в последнее время превратилось в манию, не дававшую ей спать по ночам и преследовавшую ее сны наяву – долгие томительные сны, порожденные барбитуратами, сны, лишенные всякой причудливости и фантастичности, сны совершенно правдоподобные и унылые, как и реальная жизнь, не сулившая ничего приятного. Теперь она часто говорила вслух сама с собой, остро ощущая свое одиночество, как одинокая старуха-нищенка, бредущая по улице с узлами, – вот она остановилась в дверях, присела на корточки, перебирает добытое за день барахло и что-то бормочет. Анджела не раз слышала бормотание таких старух вечерами в закоулках возле кинотеатров.
И она сказала себе громко, словно обращаясь к сидящему напротив на белой имперского стиля кушетке собеседнику: «Линия Мажино – линия Анджелы – обе линии уязвимы», – и засмеялась собственной шутке. Она все смеялась и смеялась до слез, пока не поняла, что уже не смеется, а плачет по-настоящему.
Потом она взяла себя в руки. Нет, так не годится. Лучше пойти в кино.
Питер Пастмастер этим вечером пригласил девушку на свидание. В синем мундире офицера конной гвардии и узких форменных брюках на каждый день он выглядел по-старомодному элегантным. Ужинали они в новом ресторане на Джермин-стрит.
Девушка его звалась леди Мэри Медоуз, вторая дочь лорда Гранчестера. В поисках невесты Питер ограничил поле деятельности, остановившись на трех кандидатурах – Молли Медоуз, дочери лорда Флинтшира, Саре и Бетти, дочери герцогини Стейлской. Так как жениться он собрался по причинам старомодно-династическим, то и избранницы его, по правилам старомодно-династических браков, должны были принадлежать к кругам вигской олигархии. Строго говоря, большой разницы между тремя претендентками он не видел и даже иногда обижал их, по рассеянности путая имена. Каждая из них не имела ни фунта лишнего веса, каждая обожала произведения мистера Эрнеста Хемингуэя, у каждой были собачки одинакового вида и сходных наклонностей. Каждая в свой черед обнаружила, что лучший способ привлечь Питера – это дать ему возможность беспрепятственно хвастать, рассказывая о былых своих беззакониях.
За ужином он всячески расписывал Молли время, когда Бэзил баллотировался в парламент, а он с Соней и Аластером хулиганили в его округе. Молли принужденно смеялась, слушая рассказ о том, как Соня запустила в мэра картофелиной.
– Некоторые газеты переврали факты, написав о том, что это была булочка.
– Как чудесно вы тогда проводили время! – мечтательно заметила леди Мэри.
– Это все в прошлом, с которым покончено, – строгим голосом объявил Питер.
– Неужели? А я все-таки надеюсь, что нет.
Питер взглянул на нее с внезапным интересом. Сара и Бетти отнеслись к этому рассказу, как если бы то была какая-нибудь байка о разбойниках с большой дороги – что-то бесконечно стародавнее, хотя и полное красочных подробностей.
После ужина они отправились в ближайший кинотеатр.
В вестибюле было темно, светился лишь слабый синеватый огонек кассы. Из темноты раздавался голос служителя:
– За три и шесть мест нет. За пять и девять – сколько угодно. За пять и девять – сюда, будьте любезны. И не загораживайте проход, пожалуйста.
Возле кассы происходила заминка. Какая-то женщина, тупо уставившись на синий огонек, твердила:
– Но я не хочу за пять и девять. Мне надо один билет за три и шесть пенсов.
– Нет за три и шесть. Только за пять и девять остались.
– Нет, вы не понимаете… Дело не в цене. За пять и девять места очень далеко. А я хочу сидеть близко, за три и шесть пенсов.
– Нет за три и шесть, – повторила девушка в освещенном синем светом окошечке. – Только за пять и девять.
– Ну, давайте, леди, решайтесь же! – повторил ожидавший своей очереди солдат.
– Она похожа на миссис Седрик Лайн, – сказала Молли.
– Боже! – воскликнул Питер. – Так это же Анджела! Что с ней такое?
Анджела успела купить билет и, отойдя от кассы, силилась прочесть в полумраке, что на нем написано, сварливо бормоча:
– Ведь говорила им, что это далеко… Когда далеко, я ничего не вижу. Я же просила за три и шесть…
Уткнувшись в билет, который держала у самых глаз, она не заметила ступеньки, споткнулась и опустилась на пол. Питер ринулся к ней:
– Анджела, все хорошо? Ты не ушиблась?
– Все отлично, – сидя на полу, отвечала Анджела. – Я вовсе не ушиблась. Большое спасибо.
– Вставай же, бога ради!
Анджела покосилась на него со своей ступеньки.
– Питер, – сказала она. – Я тебя не узнала. Слишком далеко эти места за пять и девять, чтобы кого-то разглядеть.
– Анджела, ну вставай же!
Он дал ей руку, желая помочь встать. Она ласково отвела руку.
– Как Марго? – любезно осведомилась она. – Я давно ее не видела. В последнее время я так занята. Нет, неправду говорю… Признаться, я не совсем здорова.
В полутьме стала собираться толпа. Из темноты послышался голос служителя:
– Что здесь происходит?
– Подними ее, дурачок, – сказала Молли Медоуз.
Встав за спиной Анджелы, Питер обнял ее сзади и поднял с пола. Она была легкой.
– Встаем на ножки, – пробормотала Анджела, норовя снова сесть.
Питер крепко держал ее. Он был рад темноте вокруг: негоже офицеру Королевской конной гвардии, да еще в мундире, очутиться в такой ситуации.
– Леди дурно, – четко и властно произнесла Молли. – Пожалуйста, не толпитесь вокруг нее. А вы, – обратилась она к служителю, – вызовите такси.
В такси Анджела молчала.
– Послушай, – обратился Питер к леди Мэри Медоуз. – Я тысячу раз прошу простить меня за то, что втянул тебя в эту историю.
– Не смеши, мальчик мой, – ответила Молли. – Мне это только в удовольствие.
– Не пойму, что с ней такое, – пробурчал Питер.
– Серьезно?
Когда они доехали до Гросвенор-сквер, Анджела вылезла из такси и недоуменно огляделась:
– Я думала, мы в кино идем, – сказала она. – Чем это плохо?
– Билетов не было.
– Да, помню. – Анджела решительно кивнула. – Пять и девять!
И уселась на тротуар.
– Послушай, – предложил Питер леди Мэри Медоуз, – поезжай на этом такси обратно в кино и оставь мой билет в кассе. Через полчаса я к тебе приеду. Думаю, мне стоит проводить Анджелу домой и вызвать ей доктора.
– Дудки, – заявила Молли. – Я поднимусь к ней вместе с тобой.
Возле двери Анджела внезапно взяла себя в руки – нашла ключ, открыла дверь и твердой походкой вошла в квартиру. Грейнджер все еще находилась там.
– Вам ни к чему было задерживаться, – сказала Анджела. – Я же предупредила, что вы не понадобитесь.
– Я волновалась. Вы не должны вот так вот уходить. – Служанка заметила Питера. – О, добрый вечер, милорд!
Анджела обернулась и тоже как будто впервые увидела Питера.
– Привет, Питер, – поздоровалась она. – Входи.
Она перевела взгляд на Молли, казалось, с трудом его сфокусировав.
– Знаете, – заметила она, – я, несомненно, знаю вас, но не могу вспомнить вашего имени.
– Молли Медоуз, – сказал Питер. – Мы просто проводили тебя домой, а сейчас нам надо бежать. Миссис Лайн очень плохо себя чувствует, Грейнджер. Мне кажется, ей надо вызвать доктора.
– Молли Медоуз! Господи, я гостила у Гранчестеров, когда вы были еще малюткой. Кажется, какой-то старинной сказкой… А вы очень хорошенькая, Молли, и платье на вас такое миленькое. Пройдите же, вы оба.
Питер, нахмурившись, сделал Молли отрицательный знак, но она прошла в глубь квартиры.
– Налей себе что-нибудь выпить, Питер, – предложила Анджела, усаживаясь в кресло возле радиоприемника. – Наверно, милочка, вы у меня в доме впервые, – обратилась она к Молли. – Квартиру эту перед самой войной декорировал Дэвид Леннокс. Про него люди много чего нехорошего говорят… Что ж, винить их за это нельзя… – Мысли у нее опять стали путаться, и она сделала решительную попытку собраться и взять над ними контроль. – А это меня Джон рисовал. Десять лет назад, он уже почти закончил портрет, когда я замуж вышла. А здесь мои книги… Боюсь, я сегодня какая-то рассеянная, милочка, вы уж простите. И с этими словами она погрузилась в глубокий сон.
Питер растерянно озирался. Молли же сказала Грейнджер:
– Не лучше ли уложить ее в постель?
– Когда она проснется, я буду здесь. Я справлюсь.
– Точно?
– Совершенно точно.
– Ну, тогда, Питер, мы можем вернуться и посмотреть картину.
– Да, – сказал Питер. – Я страшно виноват, что притащил тебя сюда.
– Да я ни за что на свете не хотела бы пропустить такое удовольствие.
Питер все еще никак не мог взять в толк произошедшее.
– Грейнджер, – сказал он. – Что, миссис Лайн развлекалась где-нибудь сегодня вечером? Была в гостях или еще где?
– О нет, милорд, она все время оставалась дома.
– Одна?
– Совершенно одна, милорд.
– Удивительно. Ну, пойдем, Молли. Спокойной ночи, Грейнджер. И позаботьтесь о миссис Лайн. Мне кажется, ей стоит обратиться к врачу.
– Я позабочусь о ней, – заверила его Грейнджер.
Вместе они прошли к лифту, погруженные в размышления. Внизу, в холле, Питер проговорил:
– Странная история.
– Очень странная.
– Знаешь, – сказал Питер, – если бы это была не Анджела, а кто-нибудь другой, я решил бы, что человек пьян.
– Милый, она и была пьяной в стельку.
– Ты уверена?
– Дорогой мой, она же лыка не вязала!
– Ну, не знаю, что и думать. По всей видимости, ты права. Но Анджела… К тому же ее прислуга сказала, что весь вечер она провела дома. По-моему, невозможно напиться в одиночку…
Внезапно Молли обвила руками шею Питера и нежно его поцеловала.
– Благослови тебя Господь, – сказала она. – А теперь айда в кино!
До сих пор Питера никто так не целовал. Он был так удивлен, что в такси не делал попыток продолжить поцелуи, но пока длился фильм, не мог думать ни о чем другом. «Боже, храни короля» резким толчком вернуло его к действительности. Ведя Молли на поздний ужин, он был задумчив. Это истерия, думал он, просто пережитая сцена взбудоражила девушку. Наверно, она жутко стесняется теперь того, что произошло, и лучше никак об этом не упоминать.
Но Молли не была готова все забыть и оставить без последствий.
– Устриц, – заказала она. – Дюжину. И больше ничего. – И хотя официант еще не отошел от нее, добавила: – Ты удивился, когда я тебя поцеловала?
– Нет, – поспешно ответил Питер, – конечно же нет. Вовсе не удивился.
– Вовсе не удивился? Ты хочешь сказать, что ожидал от меня этого?
– Нет, нет. Разумеется, нет. Ты же понимаешь, что я имею в виду.
– Совершенно не понимаю. И думаю, что не удивиться тебя заставляет лишь тщеславие. Ты всегда так на девушек действуешь или это из-за формы?
– Молли, не говори глупостей. Если хочешь знать, я был удивлен.
– И шокирован?
– Нет. Только удивлен.
– Ну да, – кивнула Молли, поняв, что дразнить его далее было бы жестоко… – Я и сама удивилась. И все время думала об этом в кино.
– Как и я, – подхватил Питер.
– Вот таким ты мне нравишься, – сказала Молли, словно фотограф, поймавший удачное выражение на лице модели.
– Ей-богу, Молли, сегодня вечером я просто отказываюсь тебя понимать.
– Нет, ты должен, должен меня понять! Я уверена, что в детстве ты был замечательным мальчиком.
– Ну, если порыться в памяти, наверно.
– И не надо больше пытаться разыгрывать из себя старого развратника, Питер. Передо мной, во всяком случае. И не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. Мне нравится видеть тебя озадаченным, но не до степени кретинизма. Знаешь, сегодня вечером я была на грани отчаяния. Ты нес всю эту жеребятину, хвастался тем, каким повесой был, а я все думала, что не получится у меня это.
– Что «не получится»?
– Выйти за тебя замуж. Мама так безумно этого хочет, считает, что я должна это сделать, неизвестно почему. С ее точки зрения, все уже близится к счастливому финалу. Ни о чем другом она и слышать не хочет: брак с тобой – и точка. Вот и сегодня я старалась быть послушной и прощала тебе все эти рассказы о веселых прошедших деньках, пока не почувствовала желание окатить тебя водой из графина. Я решила, что дольше терпеть у меня нет сил и пора объявить маме, что брак не состоится. Но потом нам встретилась миссис Лайн, и это все изменило.
– Мне было жутко неловко.
– Конечно, неловко. Ты выглядел учеником младшего класса привилегированной школы, отец которого явился на показательный матч не в той шляпе, как полагается. Чудный малыш!
– Ну, – сказал Питер, – думаю, если тебя это устраивает…
– Да, по-моему, «устраивает» это именно то слово. Ты мне подходишь. И пусть Сара и Бетти кусают себе локти!
– Как же ты решился? – спросила Марго, когда Питер рассказал ей о помолвке.
– Строго говоря, не думаю, что так можно сказать. Все решила Молли.
– Да, так обычно и происходит. Теперь, полагаю, я должна сделать некий дружеский жест по отношению к этой ослице Эмме Гранчестер.
– С леди Метроленд я знакома мало, – рассуждала леди Гранчестер, – но думаю, что должна теперь пригласить ее на завтрак. Боюсь, для нас она слишком умна. Слово «умна» Гранчестер употребила вовсе не в качестве похвалы.
Тем не менее матери встретились и договорились о безотлагательном браке.
Глава 4
Новость о помолвке Питера не стала неожиданностью, а если бы и стала, то ее все равно затмил тот интерес, что вызвала история удивительного и не характерного для нее поведения Анджелы Лайн в кинотеатре. Расставаясь в тот вечер, Питер и Молли условились никому не рассказывать об этом инциденте – решение, принятое каждым с некоторыми само собой разумеющимися оговорками. Питер рассказал об этом Марго, так как счел, что той необходимо принять на этот счет какие-то меры, и еще рассказал Бэзилу, потому что подлинная причина произошедшего была все еще не совсем ему ясна, представляясь некой тайной, пролить свет на которую если кто и мог, то только Бэзил; к тому же, будучи, как и они, членом Брэтт-клуба, он и столкнулся с ними обоими там в баре на следующее утро, когда был все еще под впечатлением от инцидента. Молли же рассказала двум своим сестрам и леди Саре – рассказала по давней привычке, так как, даже обещая кому-нибудь полную конфиденциальность, она мысленно делала исключение для этих троих. Троица посвященных, в свою очередь, рассказала ближайшим друзьям, в результате чего сдержанная, циничная, всегда соблюдающая дистанцию и безукоризненно одетая, в высшей степени достойная миссис Лайн, чуравшаяся развлечений в обычном смысле этого слова и вращавшаяся лишь в очень узком и до завидного изысканном кругу, миссис Лайн, отличавшаяся умением вести по-мужски умную беседу, благоразумно избегавшая всего, что могло потом фигурировать в скандальной хронике и «желтой» прессе, миссис Лайн, которая за пятнадцать лет сумела стать своеобразным эталоном того, что американцы называют уравновешенностью, эта почти легендарная леди была найдена Питером в сточной канаве, куда ее бросили вышибалы после учиненного ею пьяного дебоша в кинотеатре.
Окажись в таком положении миссис Ститч, это вряд ли стало бы меньшей сенсацией. Новость казалась невероятной, и многие отказывались ей верить. Возможно, это действие каких-то лекарств, решили они, но алкоголь – нет, алкоголь исключался. Чем для интеллигенции служили Цветик и Петруша, тем для высшего света стали миссис Лайн и бутылка – темой номер один.
Таковой тема эта оставалась и три месяца спустя на свадьбе Питера. Бэзил убедил Анджелу пойти на маленький прием, которым леди Гранчестер отмечала это событие.
Он пришел к Анджеле, когда Питер сообщил ему новость, пришел не сразу, но в пределах суток. Она уже встала и оделась, но во всем ее облике присутствовала некая распущенность, накрашена она была небрежно и довольно вульгарно – эдакий поздний Утрилло.
– Ты ужасно выглядишь, Анджела.
– Да, дорогой. Я ужасно себя и чувствую. Ты в армии.
– Нет, я в Военном министерстве.
Она начала рассуждать о французах – горячо и довольно бессвязно. Потом сказала:
– Мне надо оставить тебя на минутку. – И удалилась в спальню. Не прошло и минуты, как она вернулась, с неопределенной улыбкой на лице, счастливой и усталой улыбкой монахини – почти такой улыбкой. Существенная разница.
– Анджела, – сказал Бэзил, – если хочется выпить, могла бы выпить в открытую со своим парнем.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – ответила она.
Бэзил был поражен. Раньше в Анджеле не было ни капли притворства, во всяком случае там, где это касалось его.
– Ой, брось это! – сказал он.
Анджела бросила. И заплакала.
– Перестань, ради бога, – взмолился Бэзил.
Войдя к ней в спальню, он налил себе виски из стоявшей возле кровати бутылки.
– Питер был у меня здесь вчера с девушкой. Наверно, они всем рассказали.
– Он рассказал мне. Почему ты не перейдешь на ром? Это было бы для тебя лучше.
– Да? Кажется, я никогда его не пробовала. Думаешь, он пришелся бы мне по вкусу?
– Я пришлю тебе его. Давно у тебя этот загул?
Притворяться Анджела не стала.
– О, уже несколько недель.
– Это так на тебя непохоже.
– Непохоже, Бэзил? Правда, непохоже?
– Когда я пускался в загул, ты всегда так меня ругала.
– Да, наверно. Прости. Я, видишь ли, была влюблена в тебя тогда.
– Была?
– Ну, не знаю. Налей в оба стакана, Бэзил.
– Вот и умница.
– «Была» – это не то слово. Я люблю тебя, Бэзил.
– Конечно, любишь. Ты так виски пьешь? – учтиво поинтересовался он.
– Я пью так.
– Чистый и неразбавленный?
– Чистый и неразбавленный.
– Но, думаю, нам больше подошел бы ром.
– Разве он не пахнет?
– По-моему, это неважно.
– Я не хочу пахнуть.
– А виски пахнет.
– Ну, какая разница. Приятно пить с тобой, Бэзил.
– Конечно, приятно. Вот пить без меня, как ты делала, довольно-таки гадко.
– Я не гадкая.
– Раньше не была. А в последнее время стала, правда же? Пить в одиночку – это как?
– Да, это было гадко.
– А теперь слушай: когда в следующий раз захочется пуститься в загул, дай знать мне. Просто позвони, и я приеду. Чтобы мы могли пить вместе.
– Но мне так часто хочется этого, Бэзил.
– Что ж, я стану приезжать часто. Обещай мне.
– Обещаю.
– Вот и умница.
Ром успеха не возымел, но в целом новый договор стал действовать. Анджела теперь пила гораздо меньше, а Бэзил – гораздо больше, чем в последние недели, и оба в результате повеселели.
Марго осаждала Бэзила расспросами об инциденте.
– Что с ней такое? – спрашивала она.
– Ей не нравится война.
– Никому не нравится.
– Серьезно? Не вижу причины так считать.
А, впрочем, что, девушка и выпить не может?
– Ты не думаешь, что нам стоит поместить ее в приют?
– О господи, нет, конечно!
– Но она ни с кем не видится.
– Она видится со мной.
– Да, но…
– Честное слово, Марго. Анджела прекрасно себя чувствует. Небольшая встряска вроде этой была необходима ей все эти годы. Я уговорю ее прийти на свадьбу, если захочешь, чтобы ты сама могла во всем убедиться.
Таким образом Анджела и явилась на свадьбу. В церкви они с Бэзилом не присутствовали, но на маленьком домашнем приеме, устроенном потом леди Гранчестер, она вызвала сенсацию. Гвоздем церемонии, конечно, была Молли, когда проходила под скрещенными кавалерийскими саблями выстроившихся двойной шеренгой солдат; на Молли была фата из старинного кружева, и, хотя время было военное, свадьба получилась красивая, но в доме матери невесты взгляды всех присутствующих приковала к себе миссис Лайн. Даже леди Анкоридж и герцогиня Стейлская не смогли скрыть своего интереса.
– Господи, это она…
Это была она, потрясающе одетая; стоя рядом с Бэзилом, Анджела беседовала с Соней о чем-то серьезном; на ней были темные очки, но за исключением этой детали она выглядела как обычно.
При приближении к ней лакея с подносом шампанского она спросила: «А нельзя ли мне чашечку чая? Без сливок и сахара».
Молли и Питер стояли в одном конце длинной гостиной, Анджела – в другом. Когда гости, длинной вереницей пройдя мимо жениха и невесты, оказывались напротив Анджелы, можно было заметить, как они цепенели и как перешептывались, привлекая к ней внимание друг друга. Вокруг Анджелы образовался ее собственный кружок, где она вела беседу по-мужски умно и рассудительно. Когда последний из гостей – которых было сравнительно мало – обменялся с новобрачными рукопожатиями, Молли и Питер присоединились к группе в дальнем конце зала.
– Молли, вы самая прелестная девушка из всех, каких я видела, – сказала Анджела. – Боюсь, вы сильно намучились со мной в тот вечер.
Глупенькая девушка, услышав такое, смутилась бы и стала бы уверять: «Нет, нет, ничего, подобного», но Молли сказала:
– Нет, не намучились, но вели вы себя довольно необычно.
– Да, – согласилась Анджела. – «Необычно» – это именно то слово. Но я не всегда, знаете ли, веду себя подобным образом.
– Можно нам с Питером зайти к вам еще раз когда-нибудь? Сейчас в его распоряжении только неделя, но потом мы будем в Лондоне.
– Удивительно приятную девушку выбрал Питер, – сказала Бэзилу Анджела, когда после приема они очутились вдвоем в ее квартире. – Тебе хорошо бы жениться на ком-нибудь, вроде нее.
– Я не смог бы жениться ни на ком, кроме разве тебя.
– Нет, не верю, что это так, Бэзил.
Когда стаканы вновь наполнились, она сказала:
– Мне кажется, я приближаюсь к возрасту, когда начинают нравиться свадьбы. Сегодня мне очень понравилась эта девушка. Знаешь, кто заходил ко мне утром? Седрик.
– Как странно!
– Скорее трогательно. Пришел попрощаться. Их отправляют завтра. Куда – сказать он не может, но я думаю, это Норвегия. Я как-то никогда не представляла его себе солдатом, хотя до женитьбы на мне он и был солдатом. Плохим, как я думаю. Бедный Седрик. Туго ему пришлось.
– Не так уж туго. Радовался этим своим гротам… И у него был Найджел.
– Он привел ко мне утром и Найджела. Мальчика отпустили из школы на день, разрешили попрощаться с отцом. Когда я выходила за Седрика, он был таким, что не поверишь. Он был романтиком – настоящим романтиком; людей вроде него я тогда не встречала. Друзья отца, все как один, были люди богатые и жесткие, ну, типа Метроленда или Коппера. А о других я и понятия не имела. И тут вдруг знакомлюсь с Седриком, бедным и очень-очень мягким, тонким как жердь, и таким несчастным в этом омерзевшим ему привилегированном полку, потому что его интересы тогда – это русский балет и барочная архитектура. Он был так мил в обращении и так обаятелен и всегда посмеивался над людьми вроде моего отца или офицеров в полку. Бедный Седрик, было так забавно и приятно дарить ему разные вещи. Однажды я купила ему спрута, а створки витрины, за которую мы поместили аквариум, украшали резные фигурки дельфинов и посеребренный орнамент.
– Даже не появись я, это не продлилось бы долго.
– Да, не продлилось бы. Боюсь, что сегодняшний визит разочаровал его. Он предвкушал его как сцену высокой трагедии, а я, Господи, прости, была с такого перепоя, что почти все время, пока он находился здесь, глаз открыть не могла. Он беспокоился о том, что станет с домом, если его убьют.
– Почему это его должны убить?
– Действительно, почему? Если не считать того, что он всегда был плохим солдатом! Знаешь, когда началась война, я была вполне уверена, что ты просто создан для нее.
– Так считала и моя мать. Я кое-что предпринимаю в этом отношении. Кстати, вспомнил: надо пойти навестить полковника Плама. Чтобы он не волновался. Я сделаю это прямо сейчас.
– Он будет на месте?
– Он всегда на месте. Исключительно добросовестный офицер.
Сюзи тоже была на месте, ожидая, когда полковник освободится и поведет ее ужинать. По мере приближения к кабинету энтузиазм Бэзила начал заметно угасать. Работа его в Военном министерстве выглядела вполне рутинной, ничем не отличающейся от того, чем занимались все прочие офицеры; едва заполучив место, он стал скучать на нем. Отношения с Сюзи тоже разочаровывали: несмотря на все уговоры, она, казалось, предпочитала полковника Плама.
– Добрый вечер, красавчик, – сказала она. – Пламчик спрашивал о тебе.
Бэзил шагнул в дверь с табличкой «Не входить».
– Добрый вечер, полковник.
– Могли бы сказать мне «сэр».
– Офицеры отборных частей не обращаются так к своим командирам.
– Вы не в отборных частях. И вы не офицер.
– Но вы же не считаете, что климат в отделе изменится в лучшую сторону, если я стану говорить вам «сэр», полковник?
– Не считаю. Где вы пропадали и чем занимались весь день?
– Вы думаете, что я пил, не так ли?
– Я знаю, что это так, черт подери!
– Но вы не знаете причины. И не оцените, если я скажу, что пить меня заставляли рыцарские чувства. Такой ответ покажется вам абсурдом, не так ли?
– Так.
– Я это предвидел. Как это грубо, сэр! Если на моем надгробии высекут: «Он пил из рыцарских чувств», – то это будет лишь чистой правдой. Более того, вы полагаете, что я бездельничал, не так ли?
– Полагаю.
– И вот тут, сэр, вы ошибаетесь. Я прослеживал одну очень интересную нить и надеюсь в скором времени представить вам ценную информацию.
– Чем вы располагаете в настоящее время?
– Вы не хотели бы подождать до тех пор, пока я не выложу вам на стол все дело целиком, полностью раскрытым, с фактами и доказательствами?
– Нет, не хотел бы.
– Ну тогда… Я сконцентрировал внимание на одной весьма опасной особе, представляющейся как «Грин». В своем кругу она зовется «Поппет». Особа выдает себя за художницу, но стоит только взглянуть на ее полотна, чтобы стало ясно: живопись – лишь прикрытие для деятельности совсем другого рода. Ее мастерская – это место для собраний коммунистической ячейки. У нее имеется агент в США, некто Петруша, он же – Цветик. Агент распространяет слух, что он – поэт, вернее – два поэта, но и в этом случае произведения выдают его с головой. Хотите я процитирую вам что-нибудь из стихов Петруши?
– Нет.
– У меня есть основания полагать, что эта Грин стоит во главе подпольной организации, подкупом выманивающей из страны молодых людей призывного возраста. Вот эту нить я и взял сейчас в разработку. Ваше к этому отношение?
– Чушь собачья.
– Я боялся, что вы так скажете. Но вы глубоко ошибаетесь. Дайте мне только время, и мой рассказ покажется вам более убедительным.
– Ну а пока для вас есть работа. Вот список адресов тридцати трех предполагаемых фашистов. Проверьте их.
– Сейчас же?
– Сейчас.
– А слежку за Грин мне продолжать?
– В нерабочее время.
– Ума не приложу, чем тебе приглянулся этот Плам, – проворчал Бэзил, выбравшись из кабинета в приемную. – Должно быть, с твоей стороны это просто снобизм.
– Вовсе нет: это любовь? Тот офицер из пенсионного отдела был полный полковник!
– Предрекаю, что ты скатишься до младших офицеров. Между прочим, младший капрал, вы могли бы обращаться ко мне «сэр».
Сюзи прыснула:
– По-моему, ты пьян.
– Пьян рыцарским благородством, – заявил Бэзил.
В этот вечер Седрику Лайну надлежало прибыть в полк. Сорокавосьмичасовое увольнение перед погрузкой истекало, и, хотя Седрик и предпочел отправиться на час раньше, только бы не ехать специальным составом, он с трудом отыскал вагон без собратьев-офицеров, сделавших точно такой же выбор. Они следовали на север, где утром на рассвете должны были, погрузившись, отправляться прямо на фронт.
Вагон первого класса был переполнен: в каждом купе по обеим сторонам сидело четверо, на полках громоздился багаж. Черные маскировочные щиты позволяли падавшим сверху столбам света освещать лишь колени сидящих, лица же их, оставаясь во тьме, были неразличимы.
В углу мирно спал морской офицер хозяйственной службы, двое штатских напрягали зрение над листами вечерней газеты. Остальные четверо были солдаты. Седрик сидел между двумя солдатами и, уставясь в неясные тени багажа над головами штатских, прокручивал в голове горький осадок всего произошедшего за два последних дня.
Так как ему было тридцать пять лет, он говорил по-французски и создан был скорее для любезной беседы, чем для ловких и энергичных действий, его сделали батальонным офицером разведки. Он вел боевой журнал, а в непогоду его часто командировали в роты на лекции по чтению карт, безопасности и боевому уставу германской пехоты. Таких лекций у Седрика было три. Когда ротные командиры исчерпали свою фантазию, его послали на курсы противогазовой защиты, а затем на курсы чтения аэрофотоснимков. На учениях он размечал карту флажками и отвечал за регистрацию донесений.
– Вам мало что можно поручить, пока нас на фронт не отправили, – заявил командир. – Ну, позвоните в Олдершот фотографам, договоритесь о том, чтобы приняли группу из полка.
Его сделали ответственным за офицерскую столовую, и каждый раз во время визитов туда мучили бесконечными жалобами:
– Опять тмин кончился, Седрик!
– Неужели трудно сделать так, чтоб суп был горячим, Лайн!
– Если офицеры повадились таскать газеты из столовой, то значит, надо заказывать их побольше!
– Опять стилтонский сыр засох!
Таковы были его будни, но Найджел и понятия об этом не имел. Для него, восьмилетнего мальчишки, папа был боевым офицером, героем. Когда до отправки им дали двое суток увольнения, Седрик позвонил директору сына, и мальчик встретился с ним на их станции за городом. Гордость за отца и удовольствие от неожиданных каникул превратили для Найджела их вечер дома в увлекательное приключение. Сама усадьба была отдана под лазарет, где в пустых больничных палатах томился скучающий персонал. Найджела распирало от любопытства: почему пуговицы на мундире Седрика расположены не так, как у братьев и отцов других мальчиков; чем отличается ручной пулемет «Брен» от станкового пулемета «Викерс»; насколько скорость наших бомбардировщиков больше скорости немецких; правду ли говорил один парень, что Гитлер – припадочный, и если да, то бывает ли у него пена изо рта и закатываются ли глаза во время припадка, как однажды это было с той девочкой в привратницкой.
Вечером Седрик долго прощался со своим парком у воды. Главным образом обилие воды и побудило их с Анджелой выбрать это место десять лет назад, как только они обручились. Вода била родником, чистым и обильным, стекала естественными каскадами со склона холма за домом, сливаясь потом в довольно широкий ручей, уверенно стремивший свой бег через парк. Они с Анджелой позавтракали у родника, любуясь прямоугольной симметрией дома внизу.
– Подходит, – сказала Анджела. – Я предложу им пятнадцать тысяч.
Женитьба на богатой женщине никогда не смущала Седрика. Примитивное выражение «женился на деньгах» к нему не относилось, но он любил те редкие и прекрасные вещи, которые можно было приобрести, обладая деньгами, и большое состояние Анджелы делало ее в глазах Седрика втройне более редкостной и прекрасной.
Удивительно было, что они вообще встретились. Седрик тогда не первый год находился в полку, удерживаемый деньгами, которые выделял ему отец, позволяя сорить ими лишь на том условии, что он не бросит службу. Для Седрика единственным выбором был либо полк, либо контора, и хотя общение с товарищами по оружию его и утомляло, пышная торжественность военных церемоний воспламеняла воображение достаточно, чтобы мириться с пребыванием в полку в мирное время. Седрик получил хорошее воспитание, отлично держался в седле, но строгие правила охоты на лис его не привлекали. Стрелял он очень метко, и, поскольку, как выяснилось, это было единственным, что связывало его с товарищами, а также потому, что отличиться в чем-то всегда приятно, он принимал приглашение пострелять фазанов от владельцев усадеб, в которых, если их не окружала лесная чащоба, чувствовал себя одиноким и потерянным. Норфолкская усадьба отца Анджелы славилась своими охотничьими угодьями, к тому же, как слышал Седрик, у этого господина была отличная коллекция французских импрессионистов. Погостив у него в ту осень десять лет назад, Седрик счел картины банальными, дичь – слишком покорной и прирученной, а общество – сверх всякой меры унылым. Единственным исключением оказалась Анджела. Уже не дебютантка, она держала дистанцию, пребывая в холодноватом и таинственном, созданном ею самой одиночестве. Поначалу каждую его попытку прорвать стену, которую она воздвигла, обороняясь от назойливого, шумного мира вокруг, Анджела встречала в штыки, но потом неожиданно приняла Седрика, как и она, чуждого окружающему, однако в отличие от нее знавшего и понимавшего другой мир, манивший и ее своим богатством и великолепием.
Отец Анджелы, жалея бедного парня, щедро снабжал их деньгами и разрешал жить, как им хочется.
Так они и жили. Сейчас Седрик стоял возле родника, превращенного в маленький храм с архитравом, поросшим сталактитами, сводом, усеянным красными раковинами, и чистой струей воды, пенящейся возле ног Тритона. Храм этот они с Анджелой купили во время медового месяца на заброшенной вилле в горах возле Неаполя.
А ниже по склону была пещера – ее Седрик приобрел в то лето, когда Анджела отказалась ехать с ним в Зальцбург, в то лето, когда она встретила Бэзила. С тех пор потянулись годы унижения и одиночества, каждый из которых был отмечен собственным памятником.
– Папа, что ты ждешь?
– Просто гляжу на гроты.
– Но ты же видел их сотни раз. Они всё такие же!
Всё такие же и приносят всё ту же радость, не то что люди с разнообразием их любовей и ненавистей.
– Папа, вон самолет! Это истребитель «харрикейн»?
– Нет, Найджел. Это истребитель «спитфайр».
– Как ты их различаешь?
Потом, повинуясь внезапному порыву, Сердик вдруг предложил:
– Найджел, может, поедем в Лондон маму повидать?
– И еще посмотрим «У льва есть крылья»! Ребята говорили, это так здорово!
– Хорошо, Найджел. Повидаем и маму, и «Льва».
Они поехали в Лондон ранним утренним поездом. «Давай это будет сюрприз!» – предложил Найджел, но Седрик все-таки предварительно позвонил, с мрачной ухмылкой вспомнив анекдот о педантичном изменнике-муже, застигнутом на месте преступления: «Нет, милая моя, это я удивлен, ты же должна сказать: потрясена до глубины души».
– Я приехал, чтобы повидать миссис Лайн.
– Она с утра плохо себя чувствует.
– Грустно это слышать. Но она в состоянии принять гостей?
– Да, думаю, да, сэр. Я спрошу… Да, мадам с радостью встретится с вами и молодым мистером Найджелом.
Они не виделись три года, с тех пор как обсудили вопрос о разводе. Седрик отлично понимал, что чувствует Анджела и что определило ее позицию. Забавно, размышлял он, как некоторые стесняются развода из-за того, что слишком ценят мнение общества и свое место в этом обществе. Они боятся дать людям повод смутиться при виде них и всеми силами стараются сохранить свое право посещать скачки в Аскоте. Что до Анджелы, то она не желала разводиться по совершенно иным, прямо противоположным причинам: развод бы лишил ее возможности сдерживать поток вторжений в частную жизнь; она не желала отвечать на вопросы в суде или допустить появление информации о себе в ежедневной газете.
– Но это же не потому, что ты собираешься жениться на другой, Седрик?
– А ты не считаешь, что нынешняя ситуация выставляет меня в довольно-таки глупом виде?
– Что это на тебя нашло, Седрик? Раньше ты никогда не говорил такие вещи!
И он сдался и в тот год перекинул через ручей мост в китайском стиле, как его понял Бэтти Лэнгли[27].
В те пять минут, пока он ждал, когда Грейнджер впустит его в спальню Анджелы, Седрик с неприязнью разглядывал гризайли Дэвида Ленокса.
– Это старые картины, папа?
– Нет, Найджел, не старые.
– Но они жутко бледные…
– Да, действительно. – Регентство – это было время Ватерлоо и разбойников, и дуэлей, рабства и проповедей сектантов-«возрожденцев», время, когда Нельсону ампутировали руку без наркоза, а только напоив его ромом, время Ботани-Бей[28] – и вот как его здесь представили!
– Мне больше нравятся картины у нас дома, хотя они и старые. А это мама?
– Да.
– А эта картина старая?
– Старше, чем ты, Найджел.
Седрик отвернулся от портрета Анджелы. Как мучил ее тогда Джон позированием! Это отец Анджелы настоял, чтобы они к нему обратились.
– А она законченная?
– Да. Но заставить художника закончить этот портрет было очень нелегко.
– А кажется, что она и не закончена вовсе, правда, папа? Вся в пятнах и брызгах!
Тут Грейнджер распахнула дверь.
– Входи, Седрик, – подала из постели голос Анджела.
На Анджеле были темные очки, а на одеяле рядом с ней лежала косметика, которой она спешно пыталась подкраситься. Найджел мог бы спросить, закончено ли ее лицо, которое тоже все было в пятнах, как портрет работы Джона.
– Не знал, что ты больна, – сухо произнес Седрик.
– Да я и не то чтобы больна… Найджел, ты не хочешь подойти поцеловать маму?
– Почему ты в этих очках?
– Глаза устали, милый.
– Устали от чего?
– Седрик, – капризно бросила Анджела, – ради бога, не позволяй ему занудствовать! Пройди с мисс Грейнджер в соседнюю комнату, милый.
– О, хорошо, – обрадовался Найджел. – Давай недолго, папа!
– Ты с ним, кажется, подружился в последнее время.
– Да. Это все военная форма делает.
– Забавно, что ты опять в армии.
– Нас отправляют вечером. За границу.
– Во Францию?
– Не думаю, рассказывать об этом я не должен. Вот поэтому и приехал повидаться с тобой.
– Чтобы сказать, что не должен рассказывать о том, что вас отправляют не во Францию? – спросила Анджела, подразнивая его, как в старые времена.
Седрик заговорил о доме, о том, как надеется, что Анджела сохранит дом, даже если с ним, Седриком, что-нибудь случится. Сказал, что в Найджеле, как ему кажется, проглядывают зачатки художественного вкуса, которые впоследствии смогут развиться, и мальчик оценит дом. Анджела слушала его невнимательно и отвечала невпопад.
– Боюсь, я утомил тебя.
– Ну, сегодня я, знаешь ли, не очень хорошо себя чувствую. Ты хотел меня видеть по какому-нибудь делу?
– Да нет, ничего особенного. Просто попрощаться хотел.
– Папа, – раздалось из соседней комнаты, – ты идешь?
– Господи, я должна была бы как-то вас принять. Чувствую, что это надо было бы сделать… Такой редкий случай, правда же? Я не хотела вести себя по-свински, ей-богу. Очень мило, что ты пришел, и жаль, что я не смогла как-то принять вас.
– Папа, ну давай же! Нам надо еще успеть в магазин Бассет-Лоукиса до обеда!
– Береги себя, – сказала Анджела.
– Зачем?
– О, не знаю… Почему ты все время задаешь вопросы?
И это было завершением визита. У Бассет-Лоукиса Найджел выбрал себе модель бомбардировщика «бленхейм». «Ребята умрут от зависти», – сказал он.
После обеда они отправились смотреть «У льва есть крылья», а затем пришло время посадить Найджела в поезд, чтобы ему возвратиться в школу.
– Это было обалденно, папа, – сказал мальчик.
– Серьезно?
– Самые обалденные два дня из всех, что у меня когда-нибудь были!
Обалденные дни прошли, и Седрик сидел теперь в полумраке и, держа на коленях в кружке света книгу, которую читал, ехал вновь исполнять свой долг.
Бэзил направился в «Кафе Роял», чтобы продолжить слежку за «этой Грин». Он нашел девушку за столиком в окружении ее приятелей и был встречен со сдержанной теплотой.
– Значит, ты сейчас в строю.
– Нет, лишь в военной администрации. Как поживают твои красные?
– Спасибо, хорошо. Смотрят, как твои империалисты превращают войну в бардак.
– Часто бываешь на собраниях коммунистов в последнее время?
– Почему ты спрашиваешь?
– Просто так. Интересуюсь.
– Ты как будто шпионишь.
– Меньше всего мне хотелось бы выглядеть шпионом! – И, поспешно меняя тему, Бэзил добавил: – Давно виделась с Амброузом?
– Да вот же он, фашист проклятый.
Бэзил взглянул, куда она показывала, и увидел за столиком у балюстрады галереи напротив Амброуза, а с ним невысокого мужчину средних лет и непримечательной наружности.
– Ты сказала «фашист»?
– Разве не слышал? Он поступил в Министерство информации и со следующего месяца будет издавать фашистский журнал.
– Это крайне интересно, – произнес Бэзил. – Расскажи об этом поподробнее.
Амброуз сидел прямо и спокойно, придерживая одной рукой ножку рюмки и элегантно положив другую руку на перила. Ни одну деталь его одежды нельзя было счесть вызывающей: на нем был темный облегающий костюм, чуть-чуть тесный в талии и обшлагах, простая кремового цвета шелковая рубашка, темная в белую крапинку бабочка; черные гладкие волосы были умеренной длины (стригся он у того же парикмахера, что и Аластер с Питером); бледное семитского типа лицо не изобличало чрезмерного за ним ухода, и тем не менее мистер Бентли всегда чувствовал неловкость, оказываясь с ним рядом в общественных местах. Своими скупыми жестами, покачиванием головы, внезапными повышениями голоса на каком-нибудь неожиданном эпитете или жаргонном словце, внезапно ворвавшемся в его точную и строго литературную речь, смешками, которыми он пересыпал ее, меняя интонацию или отпуская вдруг остроту, Амброуз ухитрялся повернуть время вспять, возвращая собеседника в век более ранний, чем появление на свет его самого или мистера Бентли, в век более пышного убранства этого кафе, когда среди красного плюша и позолоченных кариатид fin de siècle[29] молодые поклонники теснились к столу, где восседали Оскар Уайльд или Обри Бердслей.
Мистер Бентли пригладил жидкие седоватые волосы, нервно тронул галстук и с беспокойством огляделся, опасаясь, чужих взглядов.
«Кафе Роял», возможно, из-за смутных ассоциаций с Оскаром и Обри, было одних из тех мест, где Амброуз чувствовал себя на коне, где он прихорашивался, чистил перышки и мог пуститься в полет. Манию преследования он оставлял внизу, вместе со шляпой и зонтиком. Здесь он бросал вызов мирозданию.
– Закат Англии, дорогой мой Джеффри, – говорил он, – ведет свое начало с того времени, когда мы перестали отапливать дома углем. Нет, я не о разоренных угольных районах пекусь, а о разоренных душах, дорогой. У нас выработалась привычка жить в тумане, восхитительном, светозарном мраке нашего туманного детства. Золотая дымка Золотого века. Только подумайте, Джеффри, ведь сейчас подросли дети, никогда не видевшие лондонского тумана! А город и задуман так, чтобы проглядывать из тумана. Весь наш жизненный уклад определялся туманом, он же породил роскошь нашей туманной, удушающе восхитительной литературы. Увлекательность английской лирической поэзии, ее поразительная, берущая за душу сила – именно в ее туманности, туманности, переложенной в звуки. И из этого тумана мы могли править миром, мы были Гласом, подобно Гласу с Синая, даровавшему улыбку из-за облаков. Первобытные народы всегда выбирают себе Бога, говорящего с ними из облака. А потом, дорогой мой Джеффри, – продолжал Амброуз, грозно поводя указательным пальцем и сверля мистера Бентли мрачным взглядом черных глаз, как будто злополучный издатель был лично виновен во всем вышесказанном, – а потом какой-то прощелыга изобретает электричество или какие-нибудь масляные радиаторы, или чем там еще сегодня пользуются. Туман рассеивается, и мир видит нас такими, какие мы есть, и, что еще хуже, мы сами видим себя такими, какие мы есть на самом деле. Как будто маскарад окончен, гости в полночь снимают маски, и вдруг обнаруживается, что в зале – сплошные самозванцы. Вот такой компот, дорогой мой.
Амброуз горделивым жестом опорожнил рюмку, высокомерным взглядом окинул кафе и увидел направлявшегося к ним Бэзила.
– Мы о туманах говорим, – поведал мистер Бентли.
– Европу разъедает бацилла коммунизма, – отозвался Бэзил, примеряя на себя роль agent provocateur[30]. – Гниль, которая распространяется вот уже двадцать лет, невозможно искоренить, посадив за решетку горсточку зараженных. Половина мыслящего населения Франции начинает видеть в Германии своего реального союзника.
– Пожалуйста, Бэзил, не заводи разговора о политике! Мы говорили о туманах и ни о чем и ни о ком другом. Меньше всего – о лягушатниках.
– Ах, о туманах…
Бэзил попытался рассказать какую-то туманную историю о том, что приключилось с ним, когда он огибал на ялике остров Медвежий, но Амброуз, будучи в тот вечер в ударе, вовсе не желал, чтобы в его вдохновенный порыв вторглись отголоски Джозефа Конрада.
– Нам следует вернуться в настоящее, – назидательно произнес он.
– О господи, – вздохнул мистер Бентли, – зачем это?
– Взгляд каждого из нас обращен либо вперед, либо назад. Люди с развитым вкусом и почтением к традиции, такие, как вы, милый мой Джеффри, смотрят назад, устремляясь к классической древности, другие же – щедрые сердцем, со здоровыми инстинктами и вкусом ко всякой чертовщине, похожие на Поппет Грин, что вон там сидит, смотрят вперед, мечтая о марксистском небесном Иерусалиме. А надо принять современное настоящее.
– Ты же не будешь отрицать, что фигура Гитлера принадлежит настоящему, не так ли? – продолжал гнуть свое Бэзил.
– Для меня это персонаж со страниц «Панча», – сказал Амброуз. – Для ученого китайца воин-герой был самым презренным из человеческих типов, персонажем скабрезных анекдотов. Нам следует вернуться к китайской учености.
– Но, мне кажется, их язык слишком труден, – заметил мистер Бентли.
– Знавал я в Вальпараисо одного китаезу… – начал Бэзил, но Амброуза было уже не удержать.
– Ученость европейская все еще сохраняет следы своего монастырского происхождения, – продолжал он, – а ученость китайская исполнена вкуса и мудрости и зиждется отнюдь не на запоминании фактов. В старом Китае человек, которого мы возводим в ранг ученого, сидел бы еще за школьной партой, сдавая экзамены за право стать государственным чиновником. А ученые их были людьми одинокими, имевшими мало книг и еще меньше – учеников, и довольствовались одной-единственной наложницей и бесконечным созерцанием одной-единственной сосны, одного пейзажа – какого-нибудь ручья. Европейская культура превратилась в банальность, ей надо вернуть герметичность, отшельническую замкнутость.
– Однажды в пустыне Огаден мне встретился отшельник…
– Вторжения иноземцев опустошали страну, империя распадалась на враждующие княжества. А ученые продолжали жить своей скудной и идиллической жизнью, спокойные, невозмутимые, изредка позволяя себе шутить шутками, изысканными и непонятными для непосвященных; они записывали шутку на листок, который пускали вниз по течению.
– В свое время я много читал китайских поэтов, – сказал мистер Бентли, – в переводе, разумеется. И восторгался их стихами. Читал и о мудреце, который жил, как вы выразились, жизнью скудной и идиллической. У него был домик с садом и прекрасным видом. Каждый цветок в его саду отвечал тому или иному настроению и характеру погоды. Когда у него утихала зубная боль, он нюхал жасмин и вдыхал аромат лотоса, вкушая чай с другом-монахом. В саду была полянка, где в полнолуние луна не отбрасывала тени, там наложница пела ему песни, когда он напивался допьяна. Каждый уголок сада вторил его чувствам – нежным и изысканным. Все это производило впечатление.
– И производит.
– У мудреца не было собаки, но был кот и была мать. Каждое утро он приветствовал мать, стоя на коленях, а зимними вечерами прогревал древесным углем ее матрас и каждый вечер собственноручно задергивал полог над ее ложем. Вот жизнь, достойная восхищения!
– Да, действительно.
– И вот в железнодорожном вагоне мне случайно попадается экземпляр «Дейли миррор» со статьей Годфри Уинна, где он расписывает свой коттедж, свои цветы и свои чувства, и честное слово, Амброуз, я не могу усмотреть ни малейшей разницы между этим молодым джентльменом и Юань Цзесуном!
Со стороны мистера Бентли было жестокостью проводить подобную параллель, но его мог извинить тот факт, что он слушал Амброуза целых три часа, и теперь, когда к ним присоединился Бэзил, в нем вспыхнуло желание пойти домой и прилечь.
Прерванный в своем монологе Амброуз несколько сник, что позволило Бэзилу сказать:
– Эти твои ученые, Амброуз, неужели им дела не было, когда в империю вторгались враги?
– Ни малейшего, мой дорогой! И плевать они хотели с высокой колокольни.
– И ты будешь издавать журнал, пропагандируя такого рода ученость?
Бэзил откинулся на спинку кресла, заказал выпивку и с видом киногероя-адвоката, показанного в момент отдыха после удачного выступления в суде, торжествующе воскликнул:
– Ну а теперь, господин окружной прокурор, давайте сюда вашего свидетеля!
Когда Седрик прибыл в порт, откуда отправлялось судно, до открытия оставалось еще четыре часа темноты. Свет слабо мерцал лишь в некоторых административных зданиях в порту, причал же и само судно были погружены во тьму. Верхний рангоут был еле различим – какая-то масса, чья темнота была еще гуще темного неба вокруг. Офицер, ответственный за погрузку, велел Седрику оставить вещи на причале. Багажом занималась команда специально выделенных грузчиков. Седрик оставил свой чемодан, а второй, поменьше, потащил вверх по сходням. Наверху кто-то невидимый направил его в помещения первого класса. В кают-компании он нашел своего командира:
– Привет, Лайн. Вы уже здесь. Это хорошо. Вот Билли Олгуд в увольнении сломал себе ключицу и с нами не едет. Вам стоит проследить за погрузкой. Там сам черт ногу сломит. Идиоты шотландцы из Хайлендского полка[31] перепутали суда и заняли все наши палубы. Вы ужинали?
– Проглотил несколько устриц в Лондоне, перед тем как в поезд садиться.
– Очень предусмотрительно. Я попытался добиться от них горячего ужина. Говорил, что все прибывшие будут голодными как волки, но они тут еще не перестроились на военный лад. Вот все, что удалось достать.
И он указал на большой посеребренный поднос с разложенной на салфетке дюжиной ромбовидных тостов с сардинами, кусочками сыра и заветренными ломтиками языка. Это был поднос с закусками, обычно подаваемыми в кают-компанию первого класса в десять часов вечера.
– Отыщите свою каюту и возвращайтесь сюда.
Седрик отыскал свою каюту, безукоризненно прибранную, снабженную тремя разных размеров полотенцами и фотографией правильно надевающего спасательный жилет усатого мужчины. Седрик поставил свой чемоданчик и вернулся к командиру.
– Наши прибудут на борт через полтора часа. Не знаю, что эти хайлендцы о себе думают. Разузнайте и гоните их с палуб.
– Слушаюсь, полковник.
Опять нырнув в темноту, Седрик разыскал судового офицера, ответственного за погрузку. В неверном свете ручного фонарика они принялись изучать документы с распоряжениями о погрузке. Сомнений не оставалось: хайлендцы погрузились не на то судно. Им надлежало прибыть на «Герцогиню Кларенс», они же оказались на «Герцогине Камберлендской».
– Но «Кларенс» – то не пришла, – сказал офицер, ответственный за погрузку. – Рискну предположить, что им поступил приказ садиться на «Камберленд».
– Чей приказ?
– Ну не мой же, старина!
Седрик отправился искать командира хайлендцев и в конце концов нашел его в его каюте спящим в полевой форме.
– У меня имеется предписание, – сказал полковник хайлендцев, вытаскивая из брючного кармана кипу рваных и замусоленных частым проглядыванием документов – отпечатанных на машинке листков – и отделяя от них один. – Вот. «Герцогиня Камберлендская». Погрузка в двадцать три ноль-ноль. Тысяча девяносто восемь килограммов груза. Кажется, ясно. Черным по белому.
– Но через час на судно прибудут наши люди!
– Боюсь, ничем вам помочь не могу. Действую согласно предписанию.
Обсуждать выход из положения с младшим чином полковник явно не намеревался. Седрик отправил к полковнику своего командира, тоже полковника, и те вдвоем пришли к соглашению очистить кормовую часть палуб. Седрика послали разбудить дежурного офицера хайлендцев. Он отыскал дежурного сержанта. Вместе они прошли в кормовую часть.
Там горел тусклый свет электрических лампочек на потолке, лампочки были свежевыкрашены синей краской – солдаты еще не успели краску отколупать. На палубе грудами громоздились вещмешки и амуниция, стояли ящики с боеприпасами, ручными пулеметами «брен» и похожие на гробы гигантские контейнеры с противотанковыми ружьями.
– Разве это не в особом отсеке полагается держать? – осведомился Седрик.
– Но вы же пока не собираетесь это стибрить.
Посреди всех этих груд лежали закутанные в одеяла солдаты – добрая половина батальона. Очень немногие из них в эту первую ночь на корабле расположились в гамаках. Гамаки валялись тут же, довершая общий беспорядок.
– До утра мы их переместить не сможем.
– Но надо попробовать, – сказал Седрик.
Очень медленно вялая людская масса приходила в движение. Уныло и однообразно ругаясь, люди начинали складывать пожитки. Грузчики принялись перетаскивать боеприпасы. Им надо было подняться по трапам на главную палубу, а потом, пройдя в кромешной тьме, спуститься вниз через передние люки.
Внезапно сверху послышался голос:
– Что, Лайн внизу?
– Да.
– Мне приказано вести мою роту на палубу.
– Роте придется обождать.
– Но они уже поднимаются на борт!
– Ради бога, остановите их!
– Но это же палуба «Д»?
– Да.
– Нам сюда и надо. Какого черта здесь все эти люди делают?
Седрик поднялся по трапу и прошел к сходням. На борт поднимались цепочкой тяжело нагруженные люди – солдаты его полка.
– Назад! – приказал он.
– Кто это, черт возьми? – раздалось из темноты.
– Лайн. Заберите ваших людей обратно на причал. Подниматься на борт рано.
– О, но им невтерпеж! Вы хоть понимаете, что у половины солдат с полудня крошки во рту не было!
– Ох…
– Весь распорядок погрузки к черту пойдет, если их не пустить!
– О-о…
Подбежал ординарец:
– Мистер Лайн, пройдите к командиру, пожалуйста.
Седрик отправился к командиру.
– Послушайте, Лайн, что, эти идиоты шотландцы еще не убрались? Я же два часа назад приказал очистить палубу! Я надеялся, вы за этим проследите!
– Простите, полковник. Сейчас дело сдвинулось.
– Весьма рассчитываю, черт подери! Да, и еще – половина наших людей провели весь день без пищи. Идите к начальнику интендантской службы и раздобудьте что-нибудь для них. И выясните на мостике, что точно значится в приказе о выходе в море. А когда люди поднимутся на борт, пусть каждый будет в курсе, где что лежит. Чтобы ничего не пропало. Нас могут задействовать уже к концу недели. Я слышал, шотландцы, пока добирались, много чего потеряли. Не хватало еще, чтобы они за наш счет возместили потери.
– Есть, сэр!
Когда Седрик вышел на палубу, мимо, едва не задев его, проскользнула тень, в темноте показавшаяся ему тенью из другого, еще более безнадежного мира. Тень бормотала: «Списки личного состава в трех экземплярах… Списки личного состава в трех экземплярах…»
В семь часов полковник сказал:
– Ради всего святого, пусть кто-нибудь заменит Лайна! Похоже, он спит на ходу.
– До завтрака поесть будет нечего.
– О Боже, что за бред… На Юстонском вокзале мне обещали телеграфировать, чтобы по прибытии нас ожидал горячий ужин!
Цепочка солдат на сходнях развернулась и начала спуск вниз. Когда замыкающий солдат оказался на причале и его поглотил мрак, на борт поднялся их офицер.
– Ну и неразбериху вы устроили! – сказал он.
Палубу заполнял чужой полк с чужими ящиками и мешками.
– Кто это курит? – крикнул с мостика судовой офицер. – Потушить папиросу немедленно!
На причале зачиркали спичками.
– Гасите папиросы, там, внизу!
– Ничего себе! Едешь весь… день напролет… Никакого тебе… ужина, торчишь, как… на причале. А теперь этот… папиросу… курить не дает! Да пошел он… мне эти суки… уже вот как!
Темная фигура опять проскользнула мимо Седрика, бормоча в полном отчаянии: «Списки личного состава в трех экземплярах… Списки личного состава в трех экземплярах… Почему, черт возьми, раньше трудно было сказать, что в трех экземплярах!»
Рядом с Седриком возникла другая темная фигура, и Седрик узнал офицера, ответственного за погрузку.
– Послушайте, люди перед погрузкой должны были снять амуницию и запаковать ее в брезентовые мешки!
– О-о! – вздохнул Седрик.
– Похоже, они этого не сделали.
Седрик отправился к себе в каюту. Он чувствовал бесконечную усталость, все события предыдущих двух суток, все эмоции, им испытанные, поглотило единственное желание – спать. Он снял ремень, скинул ботинки и повалился на койку. Не прошло и четверти минуты, как он провалился в мертвецкий сон, но через пять минут его разбудил приход стюарда с подносом, который тот поставил возле него. На подносе были чай, яблоко и тонкий ломтик серого хлеба с маслом. Так обычно начинался день на этом судне, когда оно совершало рейс куда-нибудь в страны незакатного солнца или в Вест-Индию. Через час мимо двери в каюту прошел другой стюард, мелодично ударявший молоточком в гонг. Таков был второй утренний ритуал, ежедневно совершаемый на этом судне. Стюард прошел по отсеку первого класса, приятно позванивая в гонг и лавируя между грудами вещмешков. Злые, небритые, не спавшие всю ночь офицеры угрюмо косились ему вслед. За девять месяцев перед тем судно ходило в Средиземное море, и сотне интеллигентных старых дев эта утренняя музыка очень нравилась. Однако отношение к его музыке стюарду было решительно безразлично.
После завтрака полковник собрал офицеров в курительной.
– Нам надо вынести на берег весь груз, – сказал он, – и разместить все заново – разумно и тактически верно. Так или иначе, до вечера нам предстоит оставаться здесь. Я только что виделся с капитаном, и он сказал, что еще не заправился топливом. А еще у нас перегруз, и он настаивает, чтобы мы ссадили на берег человек двести. Утром судно примет на борт полевой госпиталь, так что нам придется потесниться и отыскать для него место. С нами еще поплывут полевая жандармерия, Военно-полевой институт, Институт сухопутных, морских и военно-воздушных сил, два офицера-контрактника, четыре капеллана, врач-ветеринар, фотожурналист, группа береговой охраны, несколько морских зенитчиков, вспомогательное военно-воздушное соединение – уж не знаю, что это такое, – и отряд саперов. Всех их надо как-то разместить. Рядовым корабль не покидать. С берегом не общаться. Возле телефонных будок и почтовых ящиков на причале будет выставлен караул. Это все, джентльмены.
И все сказали:
– Ну и погрузку Лайн нам устроил!
Глава 5
Когда мистер Бентли в первом порыве патриотического восторга оставил издательскую деятельность, он договорился со своим старшим партнером, что тот сохранит за ним его кабинет, чтобы мистер Бентли мог приходить туда и проверять бухгалтерию и финансы. Повседневной же, рутинной работой отныне должен был заниматься старший партнер, мистер Рэмпол.
Фирма Рэмпола и Бентли не была ни слишком крупной, ни слишком процветающей; держалась она на плаву главным образом за счет того, что оба партнера имели существенные доходы из других источников. Мистер Бентли заделался издателем, потому что сызмальства, с самого детства, полюбил книги, которые считал благом тем большим, чем больше этих книг. Правда, близкое знакомство с их авторами никак не улучшило его мнения о писателях как классе: они представлялись ему людьми жадными, эгоистичными, ревнивыми и неблагодарными. Однако он хранил надежду, что в один прекрасный день кто-нибудь из этих малоприятных людей окажется мессией и гением. Но сами по себе книги он любил. Ему нравилось любоваться яркими обложками новинок, выставленных в витрине его офиса и радоваться своему косвенному авторству и причастности к этому зрелищу. Иное дело Рэмпол. Мистер Бентли не уставал удивляться, как его старшего партнера занесло в книгоиздательство и почему, разочаровавшись, он упорно в нем оставался. К тому, что книга раскупится, старина Рэмпол всегда относился скептически. «Не пойдет, – говорил он, когда мистер Бентли предлагал нового автора. – Первых романов никто не читает».
Пару раз в год Рэмпол сам приводил в издательство автора, неизменно предрекая и хорошо аргументируя его неизбежный провал. «Ужасная вещь случилась, – говорил он, – встретил в клубе старинного знакомого такого-то. Взял меня в оборот, замучил совсем. Парень только что из Малайи вернулся. Написал мемуары. Придется издать. Ничего не поделаешь. Утешает только то, что второй книги он не напишет».
Единственным его преимуществом перед мистером Бентли, преимуществом, которое он любил выставлять напоказ, было то, что выбранные им авторы второй раз в издательство не показывались, что и отличало их от молодых креатур мистера Бентли.
Идея «Башни из слоновой кости» мистеру Рэмполу естественным образом, претила. «Еще ни один литературный журнал никогда не добивался успеха», – говорил он.
Амброуза мастер Рэмпол, хотя и с неохотой, но признавал, включая в число тех немногих авторов из списка, чьи произведения приносили несомненный доход. Прочие имена у партнеров всегда вызывали споры. Мистер Бентли, владея хитрым искусством обосновывать непомерные авансовые выплаты, расходы и издержки, всегда умел представить очевидную неудачу как успех. Напротив, книги Амброуза выдерживали тираж в пятнадцать тысяч экземпляров. Как человека Рэмпол Амброуза не любил, при этом не отказывая ему в обладании определенной писательской сноровкой. Его глубоко поразила слепота Амброуза, родившего идею, столь невыгодную для него самого.
– Что, у парня деньги имеются? – спросил он мистера Бентли, оставшись с ним один на один.
– Если и есть, то, думаю, немного.
– В таком случае, на что он надеется? И чего, собственно, хочет?
Амброузу он сказал так:
– Литературный журнал… в такое время…
– Как раз сейчас для этого самое время – ответил Амброуз. – Неужели не видите?
– Нет, не вижу. Цены взлетели вверх, а будут еще выше. Бумагу не достать. И вообще, кто будет читать этот журнал? Адресат его – не женщины и, как мне представляется, не мужчины. Он даже и не тематичен. Кто станет помещать туда рекламу?
– Я и не собирался печатать в нем рекламу. Я замысливал что-то наподобие доброй старой «Желтой книги».
– Но она-то провалилась! – торжествующе воскликнул добрый старый мистер Рэмпол. – В конце концов!
Тем не менее потом он дал согласие. Он всегда в итоге соглашался на все предложения мистера Бентли. В этом и заключался секрет их долгого партнерства. Протест он выразил и был услышан. А дальше – не его вина, и упрекнуть его будет не в чем. Это все Бентли затеял. Нередко он возражал Бентли просто по привычке на том достаточно абстрактном основании, что всякая публикация, в общем-то, нежелательна. В случае же с «Башней из слоновой кости» основания возражать у него были самые веские, и он это знал. Ему доставляло истинное удовольствие наблюдать, как его партнер проявляет совершенно очевидную глупость, потакая чьей-то прихоти. В результате кабинет мистера Бентли, самое нарядное помещение в старинном красивом здании, которое они занимали, превратился в редакцию издаваемого Амброузом журнала.
На этом этапе редакционной работы было немного.
– Я предвижу критику, – сказал мистер Бентли, изучая корректуру. – Видно, что все статьи в номере сочинили вы.
– Никто не догадается, – возразил Амброуз. – Но, если хотите, можно придумать псевдонимы.
В прошлом Амброуз считался докой по части написания манифестов. Первый манифест он написал еще в школе; в университете он написал их целую дюжину; в конце двадцатых он вместе с друзьями, выступавшими под псевдонимами «Шляпа» и «Злоумышленник», сочинили приглашение на вечеринку в форме манифеста. Коммунистов Амброуз чурался в числе многих причин еще и потому, что манифест у них уже был, и написал его не он. Окруженный со всех сторон и теснимый, как он считал, разного рода врагами, Амброуз веселился, подхлестывая себя тем, что время от времени громогласно бросал им вызов. Первый номер «Башни из слоновой кости» совершенно не соответствовал провозглашенным издателем принципам невозмутимости и отрешенной от суеты мирской уединенности, ибо в нем Амброуз заготовил удары по каждой из возможных ветряных мельниц.
«Менестрели, или «Башня из слоновой кости» против манхэттенских небоскребов» раз и навсегда определила отношение Амброуза к великой дихотомии Петруши и Цветика. «Отшельник, или Хормейстер» явилась расширенным толкованием тезисов, высказанных Амброузом в «Кафе Роял»: «Культуре из монастырской надлежит превратиться в отшельническую». Он наносил яростные, ничем не спровоцированные удары, громя тех, кто считал литературу общественно значимой. Тут очень кстати пришелся мистер Дж. Б. Пристли, подвергшийся на этих страницах многочисленным оскорблениям. Далее следовала статья, озаглавленная «Бакелитовая башня», – атака на Дэвида Ленокса и модный декоративный стиль художников этой школы. Следующая статья, «Военные бонзы и мандарины», содержала в достаточной мере уничижительные филиппики, полные отвращения ко всему военному, а к военным Амброуз относил также и государственных деятелей, проявлявших решительность или же воинственность.
– Все это очень спорно, – сокрушенно заметил мистер Бентли. – Когда вы впервые поделились со мной вашим замыслом, я посчитал, что журнал будет посвящен искусству, что вы собираетесь делать чисто художественный журнал.
– Мы обязаны донести до масс нашу позицию, – заявил Амброуз. – Искусство – потом. Впрочем, тут имеется еще и «Памятник спартанцу».
– Да, – сказал мистер Бентли. – Вот этот материал.
– Целых пятьдесят полос. Искусство в чистом виде!
Амброуз произнес это иронически, но тон его слов чем-то напоминал интонацию приказчика в лавке, когда тот расхваливает свой товар: «Чистый шелк!» Он подчеркивал, что шутит, но в глубине души верил – и знал, что мистер Бентли ему в этом сочувствует, – что сказанное им – истинная правда: искусство в чистом виде.
Он написал «Памятник…» три года назад по возвращении из Мюнхена, когда расстался с Гансом. Это был рассказ о Гансе. Прошло уже два года, но и сейчас он не мог читать его без слез. Опубликование рассказа было действием символическим – он как бы сбрасывал с себя груз эмоций, который тяготил его слишком долго.
В «Памятнике спартанцу» Амброуз представил Ганса таким, каким любил, – Ганса на разных стадиях и во всем разнообразии его настроений; Ганса, незрелого провинциального petit-bourgeios[32], кое-как пробирающегося, то и дело оступаясь, сквозь мрак тевтонского отрочества, заваливающего экзамены, усталого, разочарованного окружающим миром, примеряющего на себя возможность самоубийства, некритичного по отношению к непосредственным властям, не примиренного с общим миропорядком; Ганса любящего, сентиментального, грубо чувственного, виноватого, прежде всего, виноватого, мучимого запретами, явлениями призраков из мрачной лесной чащобы, Ганса доверчивого, простодушно и щедро принявшего всю ту белиберду, что несут нацистские главари, Ганса, благоговевшего перед идиотами-инструкторами с их зажигательными речами в лагерях для молодежи, Ганса, возмущенного творимыми людьми несправедливостями и хитростями злокозненных евреев, внешними врагами его страны, ее блокадой и разоружением; Ганса, так привязанного к своим товарищам, убегавшего в эту первобытную племенную стадность от стыда и чувства вины за обособленность личной своей любви; Ганса, поющего в дружных рядах гитлерюгенда, валящего лес вместе с товарищами, строящего дороги вместе с ними и все еще любящего старого своего друга; Ганса растерянного и озадаченного, так и не сумевшего вписать старую свою любовь в новый уклад жизни, совместить одно с другим; он описал и Ганса чуть повзрослевшего, уже ставшего коричневорубашечником, барахтавшегося в волнах запоздалого рыцарства, ошеломленного мрачным сумраком, из которого выступали во всем своем вагнеровско-героическом блеске фигуры демагогов и партийных деятелей; Ганса, верного своему старому другу и возвращавшегося к нему, подобно мальчику-дровосеку из сказки, который, увидев в лесу призрачные тени великанов, пришельцев из иного мира, и протерев глаза, возвращается вечером в свою хижину, к своему очагу. Вагнеровские герои в рассказе Амброуза представали в блеске не меньшем, нежели в воображении Ганса. Амброуз строго запретил себе делать из них фигуры даже отдаленно сатирические.
Буйные, психически нездоровые и умственно ограниченные партийные бонзы под его пером превращались в истинных рыцарей и интеллектуалов, и все это он описывал с точностью и тактом в то время, как в душе его разыгрывался последний акт трагедии. Товарищам Ганса, штурмовикам, стало известно, что друг Ганса – еврей; их и раньше возмущала эта дружба – с человеком, которого они тупыми и неповоротливыми мозгами своими воспринимали как нечто индивидуальное, особое, тогда как право на жизнь, по их мнению, имели только толпа и стая.
И вот, наконец, всей толпой и стаей можно наброситься и разорвать эту дружбу. С милосердием, ими самими не понятым, они лишили Ганса возможности сполна пережить все последствия этого открытия. А ведь для Ганса высшей точкой, кульминацией его затянувшегося отрочества могло бы стать осознание того, до какой степени собственные его убеждения противоречат искусственным идеям, вдолбленным в него пройдохами и мошенниками, которых он принял за вождей. Но толпа и стая не дали Гансу времени собственноручно придумать для себя страшное наказание, и по крайней мере тут они его пощадили, избавили от этого быстрой и яростной своей атакой. Но Амброузу, когда он возвращался поездом обратно в Англию, досталось пережить сполна все те муки, когда человек казнит себя сам.
Это была история, которую популярный писатель растянул бы на сто пятьдесят тысяч слов. Амброуз не упустил ничего, все было тут, изложенное точно и тактично, втиснутое в пятьдесят страниц журнала «Башня из слоновой кости».
– Если откровенно, Джеффри, я считаю этот рассказ большим произведением искусства.
– Да, Амброуз, я понимаю вас. Я и сам так считаю. Я бы только хотел издать его без всей этой спорной дребедени.
– Ничуть не спорной, Джеффри. Мы хотим не спора, а принятия. Мы предъявляем документы и, пожалуйста, laissez-passer[33]. Вот и все.
– Старине Рэмполу это не понравится, – вздохнул мистер Бентли.
– А мы ему не покажем, – сказал Амброуз.
– Я напал на очень ценный след, полковник.
– Не будете ли вы любезны обращаться ко мне «сэр»?
– Может, вы предпочли бы обращение «шеф»?
– Вы будете называть меня «сэр», если не хотите расстаться с формой.
– Это смешно, – сказал Бэзил. – По мне, так «шеф» звучит гораздо лучше. Кстати, Сюзи так меня и называет. Однако, сэр, могу я доложить вам подробности моего открытия?
Когда Бэзил завершил доклад, полковник Плам сказал:
– Ну, пока вроде неплохо. Конечно, о действиях с нашей стороны речи быть не может. Этот ваш Силк – известный писатель и работает в Министерстве информации.
– Он крайне опасный тип. Я его хорошо знаю. До войны он жил в Мюнхене, от коричневорубашечников не вылезал.
– Очень может быть, но мы не в Испании. Мы не можем арестовывать людей за частный разговор в кафе. Не сомневаюсь, что в свое время дело дойдет и до этого, но на теперешнем этапе нашей борьбы за свободу это попросту исключается.
– Но этот журнал, который он начинает…
– Да, это дело другое. Однако маленькое издательство Рэмпола и Бентли – фирма вполне уважаемая, и я не могу просить разрешения на обыск, не имея достаточных оснований. Полномочия наши велики, но пользоваться ими надо с осторожностью. За журналом мы приглядим, и если сочтем его опасным, – прикроем. А пока – за работу. Вот анонимный донос на живущего в Южном Кенсингтоне адмирала в отставке. Не думаю, что мы тут что-нибудь нароем, но выясните, что известно полиции об этом человеке.
– Будем мы когда-нибудь проникать в ночные клубы? Уверен, что вражеские агенты там так и кишат.
– Я буду, – встряла Сюзи. – Без тебя.
В Министерстве информации в этот день было тихо. Наиболее энергичные корреспонденты нейтральных стран к этому времени по большей части покинули Англию, посчитав, что, опираясь на источники из стран Оси[34], они вернее попадут на первые полосы газет со своими корреспонденциями. Министерство могло продолжать работу, никем не тревожимое. Этим днем в министерском кинотеатре демонстрировался фильм. Речь в нем шла об охоте на выдр. Создатели фильма намеревались увлечь нейтральные страны пасторальными красотами английской действительности. Сотрудники отдела религии, все как один, были заядлыми киноманами. Бэзил застал помещение пустым. На столе Амброуза лежали две копии корректуры нового журнала. Одну копию Бэзил сунул в карман. Там же лежал и паспорт. Бэзил с интересом взял его со стола. Ему еще никогда не попадался на глаза ирландский паспорт. Паспорт был на имя преподобного Флэнагана С. Дж., профессора Дублинского университета. Фотография запечатлела бледное, как у покойника, лицо человека неопределенного возраста.
Время, свободное от служения высшему образованию, преподобный посвящал работе корреспондентом ирландских газет. Во время каникул он собирался совершить поездку на линию Мажино и после многочисленных разочарований добрался до Министерства информации, глава которого, будучи католиком, пообещал ему содействие в получении визы. Бэзил прихватил и паспорт. Лишний документ никогда не помешает. Затем неспешным шагом он покинул помещение.
Корректуру он забрал домой и читал до ужина, помечая отдельные абзацы, которые намеревался использовать в докладной. Стиль письма был всюду одинаков, а имена авторов – разные. Похоже было, что Амброуз решил прибегнуть к псевдонимам: «Гекльберри Хлоп», «Том Скелет-Абрахам», «Бартоломью Грасс». Только «Памятник спартанцу» Амброуз подписал собственным именем.
Тем же вечером попозже Бэзил отыскал Амброуза там, где его всегда можно было найти, – в «Кафе Роял».
– Читал твой журнал, – сказал он ему.
– Так это был ты? А я грешил на кого-нибудь из этих треклятых иезуитов. Вечно шебуршат бумажками, носятся с ними туда-сюда, прямо как галки. Джеффри Бентли был в большой панике. Он не хочет показывать номер старине Рэмполу до выхода.
– С какой стати иезуитам показывать старине Рэмполу твой журнал?
– Да они на любую гадость способны. И что же ты думаешь о журнале?
– Ну, – сказал Бэзил, – мне кажется, не мешало бы придать ему побольше хлесткости. Знаешь, публику надо слегка ошарашить. Так легче запустить новый проект. Секс в наши дни в этом смысле, конечно, уже не работает. Его я и не имею в виду. Но вот, предположим, поместить бы туда стишок, где восхвалялся бы Гиммлер – что-нибудь в этом роде. Как тебе такая идея?
– Не думаю, что идея удачная. А кроме того, насколько мне известно, таких стихов еще не написано.
– Рискну предложить тебе помощь и раздобыть для журнала подобное стихотворение.
– Нет, – отрезал Амброуз. – А что скажешь насчет «Памятника спартанцу»?
– Вся первая часть – просто блеск. Но финал… наверно, это они тебя заставили, да?
– Кто «они»?
– Министерство информации.
– Министерство тут совершенно ни при чем.
– Да? Ну, тебе, конечно, лучше знать. Я лишь про то, как это выглядит со стороны. Вот читаешь и думаешь: «Первоклассное произведение искусства, настоящий шедевр, никто другой не смог бы такое создать». И вдруг шедевр оборачивается чистейшей пропагандой, пропагандой мастерской, конечно – половине сотрудников вашего министерства и не снилось такое умение работать, но все-таки это пропаганда. Страшилка. Американские журналисты пекут подобные истории, как блины. Грубовато как-то, Амброуз. Конечно, военное время и все такое, всем приходится чем-то жертвовать. Не думай, что я стану меньше уважать тебя за это… Но с точки зрения художественности, Амброуз, это шокирует.
– Серьезно? – встревожился Амброуз. – Неужели все выглядит именно так?
– Бросается в глаза, старина. Впрочем, продвинуться по службе это тебе явно поможет.
– Бэзил, – серьезно и торжественно произнес Амброуз, – если бы я знал, что мой рассказ может производить такое впечатление, то снял бы его!
– Ну, зачем снимать… Первые сорок страниц превосходны, ими бы и ограничиться. Окончить рассказ на том, как Ганс, все еще в плену иллюзий, вторгается в Польшу. И добавить туда еще и Гиммлера в самом конце – эдакий апофеоз нацизма.
– Нет.
– Ну хорошо, не надо Гиммлера, необязательно. Просто расстанься с Гансом, когда он еще в упоении от первой победы.
– Я подумаю об этом, но ты и вправду считаешь, что умный читатель решит, что я докатился до пропаганды?
– А что другое он может решить? Как иначе?
Спустя неделю, зайдя как бы невзначай к Рэмполу и Бентли, Бэзил поинтересовался сигнальным экземпляром нового журнала и получил его в руки. Жадно пролистав журнал, он нашел «Памятник спартанцу», с финалом, переделанным по его рекомендации. Для тех, кто не знал ни Амброуза, ни деталей его жизни рассказ мог означать лишь одно: автор превозносит гитлерюгенд. Сам доктор Лей[35] мог бы подписаться под таким панегириком. Бэзил отнес журнал в Военное министерство и прежде чем показать его полковнику Пламу, пометил красным «Памятник спартанцу» и те места в прочих публикациях, где содержались насмешки над армией и британским Военным кабинетом, а также утверждение, что долг художника – не сопротивляться насилию. После чего и положил журнал Пламу на стол.
– Помнится, сэр, вы обещали, сделать меня капитаном морпехов, если я поймаю фашиста.
– В фигуральном смысле.
– Как это?
– То есть если сделаете что-то, что оправдает ваше присутствие в моем отделе. Что у вас там?
– Документальное свидетельство. Вот. Пятая колонна. Целое гнездо.
– Ладно. Оставьте. Взгляну, когда будет время.
Не в привычках полковника Плама было выказывать энтузиазм перед подчиненными, но едва Бэзил вышел, Плам внимательнейшим образом принялся читать помеченные места. Потом он вызвал Бэзила.
– Похоже, вы кое-что нарыли, – сказал он. – Я представлю это в Скотленд-Ярд. Кто эти люди – Хлоп, Грасс и Скелет-Абрахам?
– Вам не кажется, что эти фамилии похожи на псевдонимы?
– Чушь! Когда берут псевдоним, предпочитают называться Смитом или Брауном.
– Пусть так. Не стану спорить. Мне важнее увидеть их на скамье подсудимых.
– Скамьи не будет. Дело будет рассматриваться в особом порядке.
– Мне сопровождать вас в Скотленд-Ярд?
– Нет.
– Уже за одно это не стану знакомить его со Скелет-Абрахамом! – сказал Бэзил, когда полковник ушел.
– Что, мы действительно поймали, наконец, пятую колонну? – спросила Сюзи.
– За «мы» не скажу, а я поймал.
– Их расстреляют?
– Не всех, я думаю.
– Кошмар какой-то, – сказала Сюзи. – Наверно, они немножко мозгами тронулись.
Наслаждаясь тем, как он ловко подстроил ловушку, Бэзил не предвидел возможных последствий. Когда через два часа полковник Плам вернулся к себе в кабинет, дело закрутилось не на шутку, совершенно выйдя из-под контроля Бэзила.
– Они были счастливы там, в Скотленд-Ярде, – сообщил полковник. – Щерились, рот до ушей… Поздравляли. Дело засекречено, и нам даны особые полномочия в отношении авторов, издателей и печатников, но не думаю, однако, что печатники нам тут так уж важны. Завтра утром в Министерстве информации арестуют этого Силка, одновременно с этим окружат фирму Рэмола и Бентли, проникнут в нее и изымут все экземпляры журнала и всю корреспонденцию. Каждый сотрудник непременно будет допрошен. Но в первую очередь надлежит выяснить личности этих Грасса, Хлопа и Скелет-Абрахама. Вот этим и займитесь. Я же тороплюсь на встречу с министром внутренних дел.
Слова эти сразу же, как только Бэзил их услышал, сильно ему не понравились, потом – когда он стал прокручивать их у себя в голове, они понравились ему еще меньше. Во-первых, все лавры, славу и удовольствие заграбастал полковник Плам. А ведь это он, Бэзил, должен был бы явиться в Скотленд-Ярд, организовывать завтрашнюю операцию, именно ему и никому другому должны были достаться похвалы и поздравления, о которых говорил Плам. Не для этого спланировал Бэзил сдать старого приятеля. Полковник Плам слишком много на себя берет.
Во-вторых, оказаться на стороне закона для Бэзила было внове – и новая эта ситуация его вовсе не радовала. В прошлом полицейские операции у Бэзила ассоциировались лишь с побегом – по крышам либо по тротуару через весь город; он испытал неловкость, услышав, как о подобной операции говорят спокойно, как о чем-то вполне привычном. В-третьих, его беспокоили показания, которые мог дать Амброуз. Хотя последнего и должны были лишить права на открытое судебное разбирательство, его, вероятнее всего, должны были подвергнуть допросам, в ходе которых ему пришлось бы объяснить свою позицию. А участию Бэзила в редактуре «Памятника спартанцу», как он подозревал, лучше было бы остаться забавным анекдотом, которым Бэзил мог повеселить избранных друзей в правильно выбранный для этого момент; видеть же это темой официального или полуофициального расследования ему вовсе не улыбалось.
И, наконец, в-четвертых, долгая история общения с Амброузом выработала у Бэзила некую к нему симпатию. При прочих равных условиях он желал бы Амброузу скорее добра, чем зла.
Вот эти соображения в указанной выше последовательности и тревожили сейчас сознание Бэзила.
Амброуз жил поблизости от Министерства информации, на верхнем этаже расположенного в Блумсбери большого особняка. Квартира его находилась там, где мрамор лестницы сменяется древесиной и где раньше располагались помещения для слуг. Карабканье на этот чердак отвечало стремлению к аскетизму, обуявшему Амброуза в год большого экономического спада. Впрочем, в самой квартире ничто не говорило о нужде либо нехватке средств.
Как и все его окружение, Амброуз тяготел к комфорту и завидному обладанию вещами хорошими и редкими. Среди прочего альбомы и книги по архитектуре, глубокие кресла и такое произведение искусства, как страусиное яйцо работы Бранкузи, а также граммофон с внушительных размеров трубой и целой коллекцией пластинок – все это вкупе с бесчисленным количеством других дорогих сердцу хозяина вещей и составляло убранство гостиной Амброуза. Правда, горячая вода в квартире нагревалась газовой колонкой и, наполняя ванну, то текла тонкой струйкой, а то вдруг, что было крайне неприятно, взрывалась фонтаном, испуская облака удушливого пара. Впрочем, такая распространенная повсеместно особенность, видимо, призвана считаться доказательством хорошего образования обитателей квартиры и их высоколобости. Однако спальня Амброуза вполне компенсировала недостатки и даже опасности его ванной. Прислуживала Амброузу старушка-кокни, временами поддразнивая его тем, что он никак не женится.
Сюда и явился Бэзил уже ночью. То, что он так затянул с визитом, объяснялось причиной чисто эстетической: полковник Плам сумел лишить Бэзила острого удовольствия от посещения Скотленд-Ярда и Министерства внутренних дел, но лишить мелодраматизма ситуацию со всеми ее деталями он был не вправе.
Бэзил стучал и звонил некоторое время, прежде чем его услышали. Амброуз появился в дверях в халате.
– Господи, – сказал он, – ты выпил наверно.
Сказал он так потому, что никто из друзей Бэзила, оставаясь в Лондоне, не мог считать себя в безопасности от его неожиданных ночных визитов.
– Впусти меня. Нельзя терять ни минуты. – Бэзил говорил шепотом. – В любой момент сюда может явиться полиция!
Еще не совсем проснувшийся Амброуз его впустил. Есть люди, которых не пугает слово «полиция». Однако Амброуз к ним не принадлежал. Всю свою жизнь он оставался вне закона, и в памяти его все еще были свежи мюнхенские дни, когда друзья исчезали среди ночи бесследно и безадресно.
– Я вот что тебе принес, – сказал Бэзил. – И еще это. И это. – И он передал Амброузу пасторский воротник, черное священническое облачение и ирландский паспорт. – Ты отец Флэнаган и возвращаешься в Дублин, в университет. Оказавшись в Ирландии, ты избежишь опасности.
– Но я уверен, что поезда сейчас не ходят.
– Поезд будет в восемь часов. Оставаться здесь ты не можешь – схватят. Посиди на Юстонском вокзале в зале ожидания, дождись там поезда. У тебя требник есть?
– Нет, конечно.
– Тогда будешь читать бюллетень о скачках. Надеюсь, у тебя найдется темный костюм.
Примечательно, что торопливая решительность Бэзила вкупе с природной склонностью Амброуза заранее чувствовать себя виноватым привели к тому, что поинтересовался он, в чем его вина, только когда уже переоделся в священника:
– Но что я такого сделал? Почему меня ищут?
– Из-за твоего журнала. Он запрещен. И устроена облава на всех, кто с ним связан.
Дальнейших расспросов не последовало. Амброуз принял известие, как это делает нищий, привыкший к тому, что его постоянно гонят. Такое положение диктовалось статусом Амброуза и было неотъемлемым от его звания человека искусства, полученного им по праву рождения.
– А как ты узнал об этом?
– Услышал в Военном министерстве.
– А что мне со всем этим делать? – растерянно спросил Амброуз. – С квартирой, мебелью, книгами, с миссис Карвер?
– Я вот что тебе скажу. Если хочешь, я перееду сюда и буду смотреть за квартирой до тех пор, пока ты не сможешь вернуться.
– Серьезно, Бэзил? – спросил растроганный Амброуз. – Ты очень добр ко мне.
Уже некоторое время до этого момента Бэзил чувствовал себя несправедливо ущемленным в ухаживаниях за Сюзи из-за того, что жил вместе с матерью. Случай, представившийся со стремительностью, доселе в его жизни небывалой, казался провиденциальным и вполне им заслуженным. Добро должно быть вознаграждено, но вознаграждения столь щедрого он все же не ждал.
– Боюсь, с водой ты намучаешься, – сказал Амброуз, как бы извиняясь.
Юстонский вокзал находился недалеко. Собрать вещи было делом пятнадцати минут.
– Но, Бэзил, хоть что-то из одежды я же должен взять!
– Ты ирландский священник. Что подумает таможня, если, открыв твой дорожный сундук, найдет там кучу галстуков от Шарве и крепдешиновые пижамы? Как ты считаешь?
Амброузу был разрешен лишь один чемодан.
– Я и за этим тоже пригляжу, – сказал Бэзил, оглядывая восточную роскошь нижнего белья из многочисленных ящиков и из-под прессов в спальне Амброуза. – Имей в виду, что идти придется пешком.
– Господи, это еще почему?
– Такси можно выследить. Рисковать я не хочу.
Маленький чемодан, который Бэзил отыскал в чулане, выбрав из множества более элегантных его собратьев за его приличествующий духовному лицу вид, казался чудовищно громоздким и тяжелым, пока они волокли его по темным улицам Блумсбери, плетясь в северном направлении. Наконец, показались классические колонны железнодорожного терминала. Место это не из веселых и даже в лучшие времена способно нагнать мрак на самого жизнерадостного отпускника. Но в военное время в предрассветный час зябкого весеннего утра войти под его своды значило опуститься в гробницу.
– Здесь я тебя оставлю, – сказал Бэзил. – Старайся меньше привлекать к себе внимание и жди прихода поезда. Если к тебе обратятся, перебирай четки.
– У меня нет четок.
– Тогда погрузись в размышления. Или в экстаз. Но не раскрывай рта, иначе все пропало.
– Я напишу тебе из Ирландии.
– Лучше не надо, – бодро заметил Бэзил, повернулся и тут же исчез во мраке. Амброуз вошел в здание вокзала. На скамейках в окружении своих вещей спали несколько солдат. Амброуз отыскал угол еще темнее темноты вокруг. Здесь, сидя на каком-то ящике, содержащем, судя по запаху, рыбу, он стал дожидался рассвета – черную шляпу он надвинул на глаза, черным пальто укутал колени, черные глаза широко раскрыты и устремлены в темноту. Из ящика с рыбой на пол тонкой струйкой вытекала жидкость, образуя лужу, как будто из слез.
В отличие от мнения многих его знакомых по клубу, причислявших мистера Рэмпола к холостякам, он уже много лет являлся вдовцом и жил в небольшом, но солидном доме в Хэмпстеде, властвуя там над дочерью, старой девой. В судьбоносное это утро, ровно в восемь сорок пять его дочь, стоя в дверях, провожала отца на работу, как привычно делала это бесчисленное множество лет.
Мистер Рэмпол приостановился на выложенной плитняком дорожке, чтобы высказаться насчет проклюнувшихся в его маленьком садике там и сям саду почек.
Полюбуйся этими почками, старина Рэмпол, распустившихся листьев ты уже не увидишь.
– Вернусь в шесть, – сказал он.
Какая самонадеянность, Рэмпол, считать, что знаешь, чем обернется день и что он тебе готовит!
Нет, этого не может знать никто и уж во всяком случае ни дочь Рэмпола, в безмятежном спокойствии расставшаяся с отцом, чтобы вернуться в столовую и съесть еще один ломтик поджаренного хлеба, ни сам Рэмпол, бодрым шагом направлявшийся к Хэмпстедской станции метро.
Предъявив у подъемника сезонный билет дежурному, он любезно сообщил ему:
– Пора его продлить. Сделаю послезавтра. – И завязал на память в узелок край своего большого белоснежного носового платка.
Ни к чему тебе этот узелок, старина Рэмпол, не ездить тебе больше с этой станции!
Он раскрыл утреннюю газету, как делал пять дней в неделю бесчисленное множество лет. Ознакомился сперва с разделом объявлений о смерти, затем с разделом писем, после чего с неохотой обратился к последним новостям.
Никогда больше, старина Рэмпол, никогда!
Полицейский рейд в Министерство информации, как и множество ему подобных, прошел неудачно. Во-первых, людей, переодетых в штатское, охранник у входа поначалу наотрез отказался впустить:
– Мистер Силк вас ждет?
– Вряд ли.
– В таком случае пройти вам нельзя.
Когда наконец личности были установлены и полицейских пропустили, случился новый казус: в отделе религии они застали лишь одного человека – священника-нонконформиста, которому в рвении своем тут же и поспешили надеть наручники. Не сразу выяснилось, что Амброуз по неизвестной причине в этот день на работе отсутствует. Два констебля остались ждать его прибытия и просидели так весь день, нагоняя тоску и повергая во мрак сотрудников отдела религии. Люди в штатском проследовали в кабинет мистера Бентли, где были встречены с искренним радушием и большой открытостью.
Мистер Бентли отвечал на все их вопросы так, как и подобает честному и законопослушному гражданину. Да, Амброуза он знает как коллегу по работе в министерстве, знал и раньше как одного из авторов их с Рэмполом издательства. Нет, сейчас он, Бентли, к издательским делам почти не имеет отношения – слишком занят вот этим (и в пояснение широкий жест, которым он обвел прохудившуюся раковину, статуи Ноллекенса и листок с какими-то каракулями возле телефона). Сейчас издательство целиком в ведении мистера Рэмпола. Да, о том, что Силк, кажется, начинает издавать какой-то журнал, он слышал. «Башня из слоновой кости»? Так он называется? Очень может быть.
Нет, экземпляра у него нет. А что, разве журнал уже вышел? У мистера Бентли сложилось впечатление, что он только готовится к печати. Кто в него пишет? Гекльберри Хлоп, Бартоломью Грасс, Том Скелет-Абрахам? Да, имена эти ему знакомы. Похоже, он встречал когда-то этих людей, вращаясь в литературных кругах. Но… Давненько дело было… Скелет-Абрахам, помнится, был роста значительно ниже среднего, плотный такой и… да, лысый. Точно! Лысый! Голова совершенно голая. Как яйцо. Когда говорил, заикался и левую ногу подволакивал при ходьбе. А Гекльберри Хлоп, напротив, юноша очень высокий; у него примечательная особенность имелась: левое ухо порвано, не хватает мочки, он лишился ее, когда плыл на яхте, а тут шторм, мачта обломилась, и вот… А еще у него не было переднего зуба и он носил золотую серьгу в ухе…
Люди в штатском аккуратно застенографировали все сказанное. Вот такие показания записывать одно удовольствие – обстоятельные, точные, уверенно изложенные.
Когда дошло до Бартоломью Грасса, мистер Бентли сник: нет, он не помнит этого господина, и у него сильное подозрение, что это вообще псевдоним, за которым может скрываться женщина.
– Благодарю вас, мистер Бентли, – сказал главный из людей в штатском. – Думаю, вы нам больше не понадобитесь. Ну а если понадобитесь, полагаю, мы сможем вас здесь найти.
– Всегда к вашим услугам, – любезно согласился мистер Бентли. – Знаете, я в шутку прозвал этот небольшой рабочий стол своим точилом – точишь-точишь, чуть ли не носом в него упершись, а он точит и точит тебя! В трудное время нам выпало жить, инспектор!
Полицейский наряд был отправлен к Амброузу на квартиру, где единственное, что удалось этим слугам законопорядка, это побеседовать с его домоправительницей и услышать от нее все, что она о них думает.
– Упорхнула наша птичка! – Так доложили они начальству.
Позднее в тот же день полковника Плама, инспектора полиции и Бэзила вызвал к себе начальник Особого отдела.
– Поздравить вас с тем, как проводится операция, я никак не могу, – сказал он. – И виноваты тут не вы, инспектор, и не вы, Сил. – Он с омерзением покосился на Плама. – Совершенно ясно, что мы напали на след весьма опасной шайки, но четырем ее членам из пяти была дана возможность ускользнуть, уйти прямо из рук. Не сомневаюсь, что сейчас они уже на какой-нибудь немецкой субмарине, сидят и потешаются над нами.
– Но мы задержали Рэмпола, сэр, – возразил полковник Плам. – Я склонен думать, что он их главарь.
– А я склонен думать, что он просто старый болван.
– При задержании он вел себя крайне агрессивно. И отказался сообщить что-либо о сообщниках.
– Он запустил в одного из наших телефонным справочником, – сказал инспектор, и позволял себе в отношении них такие оскорбительные выражения, как «зарвавшиеся чинуши» и «олухи царя небесного».
– Да, да, мне доложили. По-видимому, этот Рэмпол совершенно неуправляемый и буйный тип. Немного охладить пыл, пока идет война, будет ему только на пользу. Но он никакой не главарь. Скелет-Абрахам, вот кто мне нужен, а вы его упустили, ушел, след простыл.
– У нас имеется его словесный портрет.
– Большая радость, когда он уже на пути в Германию! Нет, операция проведена из рук вон плохо, и министр так это и расценивает. Кто-то проболтался, и я намерен выяснить кто.
Когда мучительно долгая беседа подошла к концу, начальник попросил Бэзила задержаться.
– Сил, – сказал он. – Я так понимаю, что именно вы первым вышли на эту банду. Как вы считаете, кто мог их предупредить?
– Вы ставите меня в очень неловкое положение, сэр.
– Прекратите, прекратите, мой мальчик. Сейчас не время для мелочного следования правилам чести и товарищества. На карту поставлена будущность страны!
– Что ж, сэр, меня уже не первый день заботит чрезмерное женское влияние, так явственно проявляющееся в работе нашего отдела. Видели вы секретаря полковника Плама?
– Девушка нестрогих правил?
– Можно и так сказать, сэр.
– Вражеский агент, а?
– О нет, сэр. Взгляните на нее.
Начальник послал за Сюзи. После ее ухода он сказал:
– Нет, она не вражеский агент.
– Разумеется, нет, сэр. Легкомысленная кокетка. Болтушка. Состоит в интимной связи с полковником Пламом.
– Да. Вполне вас понял. Правильно сделали, что сказали.
– Что он хотел, когда вызвал и только глазел на меня?
– Мне кажется, я поспособствовал твоему продвижению по службе.
– О-о, как это мило!
– Я сейчас на новую квартиру переезжаю.
– Повезло, – сказала Сюзи.
– Я был бы рад, если бы ты зашла и дала мне советы насчет убранства квартиры. Я не слишком-то разбираюсь в такого рода вещах.
– О нет, – протянула Сюзи с интонацией, почерпнутой в кинематографе. – Что скажет полковник Плам?
– Полковник Плам ничего не скажет. Теперь ему до тебя не дотянуться.
– О-о…
На следующее утро Сюзи получила официальное уведомление, что она переводится в приемную начальника Особого отдела.
– Повезло, – сказал Бэзил.
Убранство его новой квартиры восхитило Сюзи. Ей понравилось все, кроме скульптуры Бранкузи. Последнюю они убрали с глаз долой в чулан.
В Брикстонской тюрьме мистеру Рэмполу был дарован ряд привилегий, обычным заключенным недоступных. В его камере были стол и вполне приемлемый стул. Он получил разрешение покупать на свои средства кое-что вдобавок к тюремному рациону. Он мог курить. Каждое утро ему доставляли «Таймс», и впервые в жизни он собрал у себя маленькую библиотеку. Время от времени к нему приходил мистер Бентли, принося бумаги на подпись. По всем статьям жизнь у него была легче, чем если бы она протекала в любой другой стране при подобных обстоятельствах.
Но мистер Рэмпол был недоволен. В соседней от него камере сидел вредный молодой человек, который, встречаясь с ним на утренней зарядке, приветствовал его словами: «Доброго здоровья, Мосли[36]!» – а по ночам пытался передавать азбукой Морзе ободряющие сообщения. Кроме того, мистер Рэмпол скучал по своему клубу и своему дому в Хэмпстеде. Несмотря на множество привилегий, лето он встречал без энтузиазма.
В приветливой зеленой долине, где по упругой и влажной зелени луга тек ручей, а зеленая трава, спускаясь к самой воде, мешалась с водорослями, где дорога, виясь, бежала меж травянистых склонов и ветхих порушенных оград, а трава, мешаясь с мхом, ползла вверх по поваленным камням оград и расползалась вширь, покрывая неровную щебенку дороги и глубокие рытвины на ней; где развалины полицейского участка, построенного, чтобы контролировать дорогу, но пострадавшего в пожаре во время беспорядков, из белых стали сначала угольно-черными, а потом приняли тот же цвет, что и трава, и мох и водоросли; где из труб окрестных хижин тянет дымком от горящего торфа, и дым этот сливается с туманом, который поднимается от влажной, покрытой зеленой щетинкой земли, истоптанной копытами ослов и телят, свиней и лошадей, хранящей следы гусиных лап и босых ног ребятни – всего вперемешку; где невнятный ропот негодования, едва возникнув в хижинах и поднявшись вместе с дымом из труб, тут же тонет, поглощенный журчаньем ручья, топотом, перемещениями с места на место, мерным жеванием пасущейся на лугу скотины; где дымная пелена тумана никогда не рассеивается, а солнечный свет всегда приглушен, где вечер наступает не сразу, а приходит постепенно, в длинной череде различных степеней и оттенков темноты; куда священник добирается редко из-за плохой дороги и крутого подъема на обратном пути, а кроме священника, никто и не заглядывает, там стояла гостиница, некогда возлюбленная рыболовами. Окончив дневные труды, они засиживались здесь допоздна, сидели долгими летними вечерами за стаканчиком виски, попыхивая трубками – дублинская интеллигенция и отставные военные, приехавшие из Англии. Теперь ручей был заброшен, а немногие еще водившиеся в нем форели вылавливались коварно и безжалостно, без оглядки на сезонность и права владения. В гостинице больше никто не останавливался надолго – изредка переночует какая-нибудь парочка, путешествующая пешком, или заедет компания автомобилистов – поужинают, а потом, поколебавшись и посовещавшись друг с другом, с легким сожалением покидают гостиницу и продолжают путь.
Амброуз прибыл сюда на империале загородного автобуса и остановился в здешней гостинице, в деревне, находившейся в семи милях от железнодорожной станции, внизу под холмом.
Священническое облачение он сбросил, но меланхолический его вид, а также речь – ясная и четкая, побудили хозяина гостиницы, не имевшего опыта общения с еврейскими интеллигентами, записать его как «разжалованного священника».
Об этой гостинице Амброуз узнал от одного говорливого малого на пакетботе; хозяин гостиницы приходился родней его жене и, хотя сам он в этом месте никогда не бывал, упустить случай лишний раз удружить родственнику, прорекламировав его гостиницу, никак не мог.
Здесь Амброуз и обосновался, заняв единственный номер, где оконное стекло не было разбито, обосновался с намерением засесть за книгу и тем продолжить свою писательскую жизнь, кое-как подобрав и склеив обломки. На обеденный стол он водрузил стопку писчей бумаги. Туман, опустившись, мгновенно насытил собой бумагу, так что когда на третий день Амброуз собрался начать работу, чернила расплылись на листе, а строки слились, образовав пятно цвета индиго. Амброуз отложил ручку, и, поскольку пол в комнате был покатым из-за того, что дом осел и его перекосило, ручка соскользнула со стола и, покатившись по полу, оказалась под красного дерева буфетом, где и почила среди колец для салфеток, мелких монеток, пробок, пыли и мусора пятидесятилетний давности. Амброуз вышел побродить – в туман и сумрак. Он шагал, бесшумно ступая по мягкому зеленому дерну.
А между тем в Лондоне Бэзил, чтобы Сюзи не потащила его опять в какое-нибудь слишком дорогое злачное место, приспособил ее к делу, предложив поработать иголкой и ножницами для рукоделия. Сюзи спарывала монограмму «А» с крепдешинового белья Амброуза, заменяя ее монограммой «Б».
Как лошади в манеже в школе верховой езды, то, двигаясь цепочкой друг за другом к намеченному рубежу, вдруг меняют ход и, развернувшись и сделав круг, возвращаются назад, чтобы, вновь развернувшись и сменив ход, опять выстроиться в линию и устремиться вперед; так двигались, маневрируя в ослепительно солнечном небе, самолеты – стройно, размеренно, грациозно. Моторы мелодично выводили рулады, черные мелкие шарики бомб, кувыркнувшись из хвостовой части, на мгновение застывали в воздухе, чтобы, упав, беззвучно взметнуть вверх фонтаны пыли и скальных обломков, успевавших опасть, прежде чем звук взрыва сотрясал холм, где Седрик Лайн из своего укрытия наблюдал в бинокль за тем, куда угодила очередная бомба.
Весны здесь не чувствовалось совсем – мерзлую мертвую землю вокруг покрывал густой снег, долины стыли под тонкой наледью, кусты чертополоха чернели маленькими твердыми и жесткими кочками.
– По-моему, они вдарили по роте «А», полковник, – доложил Седрик.
Штаб батальона располагался на гористом склоне, в мелком углублении пещеры, образовавшейся там, где скалистый кряж подпирал собою камни помельче, а те, год за годом сползая и падая вниз, каменной россыпью окружали теперь вход в пещеру. Места в ней оказалось достаточно, чтобы Седрик, полковник и адъютант могли поместиться в ней сидя. Заняв плацдарм ночью, они видели, как над холмами занимается рассвет; прямо под ними, извиваясь бесчисленными поворотами, уходила вдаль дорога. Она то карабкалась вверх, взбираясь на холмы напротив, то прорезала их туннелями. Между занятой ими и соседней высотами земля была ровной и скованной льдом. Там притаилась резервная рота. Служба обеспечения защитным кольцом окружала штаб. В двадцати ярдах от них под другой скалой залегли два связиста с переносным передатчиком.
– Эй, Би, Си, Ди… Ак[37], Бэби, Сом, Дон… Алло, Лулу… Это Коко, подтвердите прием! Лулу, ответьте Коко! Конец связи.
Всю ночь они были на марше, а когда наконец забрались в пещеру, по телу Седрика тек горячий пот; на рассвете их пробрало морозцем, и пот тек уже холодный; теперь же, когда пригревало солнце, пот высох, телу стало тепло, и Седрика клонило в сон.
Противник был где-то за дальними холмами. Этим днем, попозже, они ожидали его появления.
– Нас вот что ждет, – сказал полковник, – атака начнется, когда почти стемнеет, так чтобы контратаковать мы не успели. Ну, удерживать плацдарм мы сможем сколько угодно долго. Хорошо бы, конечно, укрепить левый фланг…
– Туда опять ломширцы брошены. К этому часу должны уже занять позицию, – заметил адъютант.
– Знаю. Но где они? Им полагается доложить прибытие.
– Вся эта активность в воздухе, которую мы видим перед собой, означает, что ломширцы в пути и идут этой дорогой.
– Надеюсь.
Школа верховой езды в небе прекратила свои занятия, самолеты выстроились в прямой, как стрела, ряд и с пчелиным гудением скрылись за холмами. Вскоре появился самолет-разведчик и стал летать взад-вперед, обшаривая землю, как старушка, занятая поисками оброненной монетки.
– Скажи этим кретинам, чтобы пригнулись, – распорядился полковник.
Когда самолет убрался, полковник закурил трубку и, стоя у входа в пещеру, с жадным беспокойством принялся оглядывать расположение левого фланга.
– Видите что-нибудь, похожее на ломширцев?
– Никак нет, полковник.
– Противник мог отрезать их вчера вечером, – сказал полковник. – Вот чего я боюсь! Можешь связаться с бригадой? – обратился он к капралу-связисту.
– Бригада не отвечает, сэр. Но мы не оставляем попыток. Алло, Лулу, это Коко. Подтвердите прием. Коко вызывает Лулу. Конец связи.
– Меня сильно тянет бросить на левый фланг роту «Д».
– Она за нашей разграничительной линией.
– К черту разграничительную линию!
– Но если они двинутся прямо по дороге, мы останемся без резерва.
– Знаю. Потому и волнуюсь.
Прибыл вестовой с донесением. Прочтя текст, полковник передал его Седрику – подшить:
– Рота «С» на позиции. Это все, что докладывают наши передовые части. Надо пойти взглянуть, что у них там делается.
Взглянуть, что делается, отправились полковник с Седриком, оставив адъютанта в пещере. Добравшись до ротного командного пункта, они принялись выяснять что к чему, задавая обычные, рутинные вопросы. План обороны был прост: три роты выдвинуты вперед, одна – в резерве сзади. Если только у противника нет легких танков, а по всем донесениям судя, их у него нет, дорогу можно удерживать так долго, как только позволяют запасы еды и количество боеприпасов.
– Воду разведали?
– Да, полковник. На той стороне, за скалами, хороший источник. Мы наполняем фляги посменно.
– Правильно делаете.
Рота «А» подверглась атаке с воздуха, но потерь нет, лишь нескольких бойцов задело скальными обломками. Люди стойко перенесли бомбардировку и сейчас в ускоренном порядке роют траншеи поодаль от позиций, чтобы отвлечь туда огонь, когда самолеты вернутся.
Инспекционная вылазка приободрила полковника, и он повеселел: если фланги удержатся, оборона выстоит.
– Мы пробились к Лулу, сэр, – доложил капрал связистов.
Полковник доложил в штаб бригады, что удерживает позицию, про активность противника в воздухе при отсутствии потерь с нашей стороны и признаков движения со стороны противника.
– У меня нет связи с левым флангом… Да, знаю, что это за разграничительной линией бригады, что ломширцы должны были прибыть, тоже знаю… Но прибыли ли? Наши… Да, но с этого фланга нет известий, если они не дадут о себе знать…
Был уже полдень. В батальонном штабе устроили перекус – крекерами и шоколадом, у адъютанта нашлась фляжка с виски. Есть никому не хотелось, но фляги с водой они опустошили и послали ординарцев наполнить их вновь из источника, который обнаружила рота «В».
– Меня беспокоит левый фланг. Лайн, отправляйтесь туда и узнайте, куда эти треклятые ломширцы подевались!
Предстояло пройти две мили в обход к горловине соседнего ущелья, возле которой должны были держать оборону ломширцы. Своего ординарца Седрик оставил в штабе батальона. Это было нарушением, но Седрика тяготило постоянное присутствие подчиненных – то, что на протяжении всей операции они все время терлись рядом с ним, создавало неловкость и угнетало. Сейчас он шел один и радовался этому – он был в единственном числе: одна пара ног, пара глаз и один-единственный мозг, получивший одно внятное задание. Когда человек один, он волен направиться куда душе угодно, но умножь количество людей, поместив человека в стаю, и с каждым добавленным индивидом душа человеческая будет умаляться, терять толику самоценности, самого важного, что и делает человека личностью. Это безумная математика и составляет сущность войны. Над головой показался самолет. Седрик свернул на обочину, но укрытия искать не стал, не захотел искать укрытия или же, уткнувшись в землю лицом, как сделал бы в пещере, гадать, не видно ли стрелка в хвостовой части самолета.
Для разрушительных орудий современной войны отдельный человек – цель ничтожная. Чтобы вызвать на себя пулеметную очередь, надо быть в группе, бомбы же удостоиться может только взвод либо грузовик с солдатами. Против человека, коль скоро он один, никто ничего не имеет, тогда он свободен и в безопасности, опасности подвергаются лишь множества; отделившись от толпы, мы стоим, сбившись в кучу – падаем. Так думал Седрик, бодро шагая в сторону неприятеля, счастливый, что освободился от тягостного коллективного бытия. Хотя и неведомо для него самого, но мысли Седрика в точности совпадали с мыслями Амброуза, когда тот доказывал, как необходимо освободить культуру от пут монастырской кучности и традиционности, придав ей отшельническую исключительность.
Он вышел к месту, где должны были находиться ломширцы. Но никого там не обнаружил. Как не обнаружил и признаков жизни вообще. Кругом только скалы и лед, а дальше – укрытые снегом холмы. Долина убегала в горы, стелясь по краю дороги, с которой он свернул. Возможно, ломширцы укрепились повыше, там, где долина сужается, переходя в ущелье. И он пополз вверх по склону, по каменистой горной тропе.
Там он их и нашел – двадцать бойцов под командованием младшего офицера. Прикрывая дорогу, они выкатили пушки, поставив их у самой горловины ущелья, и залегли в ожидании того, чем им мог грозить вечер. Солдаты выглядели усталыми, обессилевшими.
– Простите, что не послал к вам вестового, – сказал младший офицер. – Мы прибыли на позицию, но я не знал в точности, где вы находитесь, и пожертвовать боевой единицей тоже не мог.
– Что произошло?
– Да ерунда какая-то, – сказал младший офицер, прибегая к принятой на войне практике скрывать за небрежностью тона истинный масштаб трагедии. – Вчера нас весь день поливали огнем, так что мы с земли подняться не могли. Прошли милю или две, когда стихало, но это был тот еще марш. А уже на закате они прямиком врезались в нас на бронемашинах. Мне удалось вывести вот эту группу. Наверное, есть и другие, бродят где-то, а может, и не осталось никого. По счастью, к ночи фрицы утихомирились, отдохнуть решили. Мы шли всю ночь и весь сегодняшний день. Пришли только час назад.
– Сможете удержать их здесь?
– А вы как думаете?
– Думаю, нет.
– Нет, не сможем удержать. Если только на полчасика… Чтоб подумали, что за нами целый батальон, и решили с атакой подождать до утра. Все зависит от того, когда прибудут наши. Вы-то нам оказать помощь сможете?
– Да. Немедленно отправлюсь назад и доложу.
– Нам хотя бы передышку, тогда продержимся.
Почти весь обратный путь Седрик проделал пешком. Полковник с мрачным видом выслушал его доклад.
– Бронемашины или танки?
– Бронемашины.
– Ну, тогда есть шанс. Прикажите роте «Д» выдвинуться, – велел он адъютанту.
Затем он сообщил в штаб бригады об услышанном и о том, что собирается делать. Через полчаса рота «Д» была на марше. Из пещеры они наблюдали, как рота движется тем же путем, каким только что так весело шагал Седрик. Наблюдая, они увидели, что, пройдя одну милю, колонна встала, затем сломалась и развернулась в другую сторону.
– Опоздали мы, – сказал полковник. – Вот они, бронемашины.
Смяв группу ломширцев, машины веером расползлись по долине. Седрик насчитал двадцать бронемашин, за которыми нескончаемым потоком шли грузовики с солдатами. С первым же выстрелом грузовики встали, и солдаты под прикрытием бронемашин повыпрыгивали на землю и, рассыпавшись, расчетливо и планомерно двинулись в атаку. Одновременно с машинами в небе появились бомбардировщики. Они летели низко вдоль дороги. Вскоре на расположение батальона посыпались бомбы, и всю местность внизу испещрили взрывы.
Полковник отдавал приказания немедленно отводить назад передовые части.
Седрик оставался в пещере. Его забавляла мысль, какую огромную часть жизни он отдал пещерам.
– Лайн, – сказал полковник. – Проберитесь в роту «А» и объясните им, что происходит. Если они ударят сейчас с тыла, машины могут начать уходить от огня, и это даст шанс другим ротам выбраться.
Седрик отправился туда, где развернулось сражение. Пока еще все происходящее казалось ему нереальным.
Бомбардировщики не преследовали какую-либо определенную цель. Они полосовали землю возле своих же машин, покрывая взрывами всю местность между высотой, где был штаб батальона, и краем долины, где окопалась рота «А». Грохот стоял оглушительный и непрерывный. А Седрик все еще не верил в реальность происходящего. Казалось, он вторгся в какой-то безумный мир, в котором не имел права находиться. В мир чуждый, не имевший с ним ничего общего. Со свистом пролетела бомба, казалось, прямо над головой. Седрик упал на землю ничком, и бомба разорвалась в пятидесяти шагах от него, осыпав и оцарапав его градом мелких камней.
– Думал, ему крышка, – сказал полковник, – а он встал.
– Он в порядке, – сказал адъютант.
Бронемашины и рота «Д» вели перестрелку. Пехота растянулась по всему пространству долины – от склона до склона – и медленно продвигалась вперед. Солдаты еще не стреляли, а только шли вслед за бронемашинами, стройными рядами, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Позади строились новые ряды, готовя новую волну атаки. Седрику надо было пересечь линию фронта. Прицельным выстрелам его было не достать, но опасность представляли шальные пули, рикошетившие от скал.
– Нет, не пройти ему, – сказал полковник.
Похоже, думал Седрик, я проявляю храбрость. Странная вещь: на самом-то деле я вовсе не храбрый, но просто это все такая отчаянная глупость…
Рота «А» выдвигалась вперед. Едва заслышав стрельбу, солдаты, не дожидаясь приказа, начали намеченный полковником маневр: крадучись между скал, пробираться по кромке склона к холму напротив, занимая позицию с тем расчетом, чтобы с фланга обойти передний фланг противника. Теперь уже не имело значения, сумеет ли Седрик пройти к ним или нет. Пройти он не сумел – шальная пуля настигла его, сразив наповал, когда пройти оставалось лишь четверть мили.
Эпилог. Лето
Лето прошло вместе с чередой следовавших друг за другом и почти невероятных исторических событий, повергших мир в смятение и ошеломивших всех, кроме сэра Джозефа Мейнверинга, чей учтиво благообразный, внушительный и солидный внешний облик скрывал натуру мелкотравчатую, легковесную и на удивление невпечатлительную, что и позволяло сэру Джозефу безмятежно барахтаться в грозных волнах истории, в щепки рушащих судьбы людей более цельных. При новой власти он был переведен в ту сферу общественной жизни, где деятельность его никому не могла нанести серьезного ущерба, и перемену эту воспринял как повышение, вполне им заслуженное. В тягостное и мрачное время германских побед у него всегда была наготове какая-нибудь веселая история; все ненароком услышанное он принимал на веру и тут же начинал распространять. Так, он рассказывал, ссылаясь на очень авторитетный источник, что вся германская пехота сплошь состоит из недозрелых юнцов, которых перед сражением одурманивают какой-нибудь опасной гадостью, и тех, кого не скосит пулемет, все равно жить остается не более недели. Он расписывал так живо, как будто видел это собственными глазами – голландское небо, черное от штурмующих его монахинь; он передавал россказни о рыночных торговках, стреляющих в британских офицеров из автоматов, которые они прячут под прилавками, о гостиничных официантах, пойманных на том, что они метили номера военачальников крестами, – картина, достойная святочной открытки.
Когда все вокруг давно перестали надеяться на линию Мажино, он упрямо продолжал верить в ее несокрушимость. «Линия эта теперь несколько вспучилась и искривилась, но все, что требуется, это слегка подщипнуть ее, чтоб выправить кривизну!» И он иллюстрировал сказанное движением большого и указательного пальцев. День за днем он без устали доказывал, что противник исчерпал свои ресурсы и движется к неминуемому поражению. Когда всем и даже самому сэру Джозефу стало окончательно ясно, что всего за несколько дней Англия растратила все ресурсы – как вооружения, так и обмундирования – для своей регулярной армии, что она потеряла единственного своего союзника, что враг находится теперь в двадцати пяти милях от британских берегов, что страна располагает лишь несколькими батальонами полностью экипированных и достаточно обученных солдат, что в Средиземноморье она должна сражаться с численно превосходящим ее противником, что английские города беззащитны перед авианалетами, осуществляемыми с аэродромов, расположенных теперь даже ближе, чем собственные ее, Англии, дальние острова, что морским ее путям грозят дюжины новых вражеских баз, сэр Джозеф выразился так: «С точки зрения перспективы и выбрав правильный угол зрения, можно расценить это как успех – большой и осязаемый. Германия вознамерилась уничтожить нашу армию – не удалось: мы явили миру нашу непобедимость. Более того, с уходом Франции с театра военных действий исчезла последняя препона к тому, чтобы нам наладить отношения взаимопонимания с Италией. Я не люблю пророчествовать, однако уверен, что еще до Нового года Италия заключит с нами прочный сепаратный мир. Германия истощена и возместить потери не в силах. Она бездарно загубила цвет своего воинства, безрассудно расширила свои пределы и владеет теперь территорией, которую не сможет сохранить. Война вступила в новую и более славную фазу».
Последней сентенцией сэр Джозеф, может быть, впервые на своем долгом пути велеречивого краснобая, приблизился к истине, но тем и ограничился.
«Новая и более славная фаза» выразилась и в том, что из части постигающих азы военной науки новобранцев батальон Аластера на одну ночь стал боевым подразделением.
Прибыло вооружение – громадное количество разнообразных железяк и в числе прочего, к великой гордости Аластера, его миномет. Правда, гордость эта уравновешивалась рядом неудобств. Так, совершая вместе с взводом учебный марш-бросок, Аластер должен был теперь таскать в сумках мины, а спину ему оттягивала немыслимо тяжелая и несуразно длинная стальная труба, что так потешало почему-то пехотинцев с ружьями.
Каждый час местность теперь осматривали на предмет обнаружения парашютного десанта. Вахтенные спали, не снимая ботинок, и заступали на вахту чуть свет и на вторую – когда темнело. Покидая пределы лагеря, солдаты брали с собой заряженное ружье, стальной шлем и противохимическую накидку. Увольнительные на конец недели были внезапно и резко отменены. Капитан Мейфилд придирчиво изучал содержимое мусорных баков. «Если обнаружится нерациональное расходование провизии, – пояснял он, – пайки будут сокращены». А командир, в свою очередь, объявил: «Такого понятия, как “свободное время”, для нас больше не существует» и в доказательство распорядился провести ряд смотров сразу же после чая. Поступила служебная записка, корректировавшая ход и содержание учений и, видимо, сильно впечатлившая мистера Смоллвуда, потому что теперь, когда солдаты, взмыленные и еле державшиеся на ногах после занятий на местности, подходили к своим казармам, он, вместо того чтобы немедленно распустить взвод, заставлял людей еще минут двадцать мучиться, отрабатывая ружейные приемы, что, по его мнению, отвечало поставленной задаче «усилить и расширить подготовку» и характеризовалось солдатами как «затрахали нас совсем».
Затем как гром среди ясного неба батальоном был получен приказ о передислокации неизвестно куда. Все посчитали, что их перебрасывают за границу, и лагерь охватило веселое возбуждение. Аластер встретился с Соней у проходной.
– Вечером выйти не смогу. Нас передислоцируют. Не знаю куда. Наверно, посылают на фронт…
Он распорядился насчет того, куда ей деться и что делать в его отсутствие. К тому времени оба знали, что Соня беременна.
Поступил особый приказ, запрещавший проводы солдат на вокзале, даже сам факт, что батальон перебрасывают, должен был оставаться тайной. Для соблюдения полной секретности в эшелон они грузились ночью, тревожа сон окрестных жителей топотом тяжелых солдатских ботинок и ревом грузовиков, сновавших туда-сюда между лагерем и вокзалом и перевозивших имущество.
В поезде солдаты удивительно быстро достигли предела раскрепощенности. Лагерь они покидали безукоризненно подтянутыми, на платформу вышли церемонно и строго, шагая, как на плацу, но едва разместились по вагонам, как произошла трансформация, и был запущен процесс, приведший к полному хаосу и упадку, – шинели тут же были сброшены, в руках появились чудовищного вида свертки с едой, через считаные минуты вагонные окна затянула плотная пелена папиросного дыма, вниз полетели окурки, хлебные корки, колбасные ошметки, клочки оберточной бумаги, и вскоре пол в вагонах покрылся толстым слоем мусора. Поев, солдаты отдыхали, застывая в позах самых вольных, и вид имели диковатый, одни походя на трупы, долго пролежавшие без погребения, другие – на едва очухавшихся участников пьяного загула. Почти всю ночь Аластер простоял в коридоре, впервые остро ощущая оторванность от всей своей прошлой жизни.
Уже на рассвете странным запутанным путем, каким на войне до рядовых доходят новости, пришло известие, что их отправляют не на фронт, а оборонять «береговую, так ее и растак, линию».
Поезд шел, как идут все военные эшелоны – стремительными рывками, перемежаемыми долгими периодами простоя. Наконец, уже к середине следующего дня, они прибыли к месту назначения и прошли строем через маленький приморский городок, мимо оштукатуренных, с круглыми фронтонами пансионов, выстроенных по канонам ранневикторианской архитектуры, мимо выдержанной в эдвардианском стиле эстрады для оркестра и современного бетонного бассейна три фута глубиной и с синим дном – сооружения, призванного уберечь детвору от романтических и опасных соблазнов пляжа. (Никаких тебе раковин и морских звезд, никаких выловленных и тающих на солнце медуз, никаких обточенных морем стеклышек и поисков бутылки с запиской от терпящих крушение моряков. Не попрыгать тебе на волнах, одна из которых, внезапно разрастаясь, может сбить тебя с ног. Ничто не мешает нянькам восседать по краям бассейна в абсолютном спокойствии за своих питомцев.) Двумя милями дальше, за пригородом с его одноэтажными домиками и превращенными в жилье железнодорожными вагонами их ждал новый лагерь, разбитый в парке при захудалом клубе выходного дня.
Тем же вечером Аластер позвонил по телефону Соне, и на следующий день она приехала и поселилась в здешней гостинице – простенькой, но уютной, куда Аластер стал захаживать вечерами, когда был свободен от службы. Они старались воскресить атмосферу той зимы и той весны в Суррее, когда солдатская жизнь была Аластеру внове и казалась неким эксцентричным развлечением, так забавно разнообразившим рутинное домашнее существование. Но теперь все изменилось. Война вступила в новую и более славную фазу. Ночь, проведенная в поезде, когда Аластер считал, что едет на фронт, навсегда отгородила его стеной от всего, что было в прошлом.
Батальону было поручено охранять семь миль живописного побережья, и солдаты с энтузиазмом принялись за дело разрушения местных красот. Они ограждали дюны рядами колючей проволоки и разбивали ступени спусков с набережной к морю; они рыли окопы и строили блиндажи в муниципальном парке, заслоняли мешками с песком эркеры частных домов и с помощью саперов сооружали надолбы и доты на дорогах; они останавливали и обыскивали проезжавшие по территории машины и донимали жителей требованиями предъявить удостоверение личности.
Целую неделю мистер Смоллвуд с заряженным револьвером просиживал ночи напролет на поле для гольфа, проверяя слух, что там мерцал какой-то огонек. Капитан Мейфилд обнаружил, что телеграфные столбы в городке пронумерованы цифрами, выложенными медными шляпками гвоздей, и посчитал это происками пятой колонны; а когда однажды вечером с моря пришел туман, капрал группы Аластера принял это за устроенную противником дымовую завесу, о чем и доложил начальству, после чего на мили вокруг от патруля к патрулю понеслась весть о вторжении.
– Мне кажется, армейская служба перестала тебя привлекать, – заметила Соня по прошествии трех недель обороны береговой линии.
– Это не так, но я чувствую, что мог бы приносить армии больше пользы.
– Но, дорогой, ты же утверждал, что твой миномет играет одну из ключевых ролей в обороне!
– Так оно и есть, – послушно согласился Аластер.
– Так в чем же дело?
– В чем? – И тут Аластер не выдержал: – Ты не станешь очень меня ругать, Соня, если я запишусь в войска особого назначения?
– Это опасно?
– Не думаю, что так уж опасно. Зато увлекательно. Там формируют группы для десанта. Десантников переправляют во Францию, а там они подбираются к немцам с тыла и, когда стемнеет, режут им глотки!
Он говорил взволнованно, радуясь возможности, перелистнув страницу, начать новую главу своей жизни; двадцать с лишним лет назад он с таким же радостным возбуждением, лежа на животе перед камином, листал переплетенные в единый том выпуски журнала «Чамс»[38], предвкушая знакомство с новыми приключениями.
– Не очень-то подходящий момент, чтобы оставлять жену, – сказала Соня, – но вижу, что тебе этого так хочется.
– У них особые ножи и пистолеты-пулеметы Томпсона, и кастеты, и туфли на веревочной подошве.
– Бог тебе в помощь.
– Я узнал это все от Питера Пастмастера. В его полку набирают туда людей. Питер стал командиром отряда. Он говорит, что мог бы доверить мне группу и что, по всей вероятности, меня бы утвердили в офицерском звании. Они обматывают себя вокруг пояса веревочной лестницей, а документы зашивают в складки шинели, чтобы не нашли. Ты не будешь очень против, если я соглашусь?
– Нет, дорогой. Лишить тебя удовольствия обвязываться веревочной лестницей я не могу. Уж это-то надо тебе предоставить! Я же понимаю.
Анджеле никогда не приходила в голову мысль, что Седрик может погибнуть. Когда о гибели мужа ее известили официальной телеграммой, она несколько дней не делилась этим ни с кем, даже с Бэзилом. Впервые упомянув об этом, она сделала это как бы вскользь, словно продолжая уже начатый разговор или отвечая собственным мыслям:
– Я знала, что потребуется смерть, но не думала, что это будет его смерть.
– Хочешь выйти за меня замуж? – спросил Бэзил.
– Да, наверно. Ведь ни я, ни ты не способны связать свою жизнь с кем-то другим.
– Ты права.
– Ты не прочь разбогатеть, да?
– Разве после войны кто-нибудь сможет быть богатым?
– Если некоторые и смогут, то я буду в их числе, а если нет – что ж, обеднеть не велика потеря.
– Не знаю, хочу ли я разбогатеть, – сказал Бэзил после паузы. – Знаешь, я ведь на самом деле до денег не жадный и люблю не сами деньги, а увлекательный процесс их приобретения.
– Да это не так уж важно. Важно, что теперь ничто нас не разлучит.
– И пусть смерть соединит нас навеки. Ты всегда мне пророчила смерть, ведь так?
– Да.
– Черта с два. Впрочем, сейчас не время думать о браке. Погляди на Питера. Полтора месяца как женат – и вступает в ряды головорезов! Какой смысл обзаводиться женой, когда кругом такое делается? Ведь единственный прок от брака, как я думаю, это спокойная старость.
– Во время войны самое главное это не заглядывать вперед. Все равно как идешь в затемнении, прикрыв фонарик, и видишь на шаг, не больше.
– Я буду ужасным мужем.
– Да, дорогой, мне ли этого не знать! Но, видишь ли, в наши дни ни в чем не следует искать совершенства. Раньше, бывало, что-то не так – и все, жизнь кончена, сплошной мрак, прах и пепел. Теперь же, ей-богу, порадует какая-нибудь мелочь – значит, день прошел не зря, жизнь удалась.
– Похоже на то, как рассуждает бедняга Амброуз, когда на него накатит и он начинает нести свою китайщину.
Бедняга Амброуз подался на запад. Только опасная ширь Атлантики простиралась теперь между ним и Петрушей. Амброуз обосновался в маленьком рыбацком поселке, где под самыми его окнами бились о скалы грозные валы океана. Дни шли за днями, а он оставался в совершенном бездействии. Пала Франция, но отзвуки этого события не достигли отдаленных ирландских берегов.
Край, давший миру Свифта и Берка, Шеридана и Веллингтона, Уайльда и Т. Э. Лоуренса, зарядивший огнем темперамента и воображения всех строителей великой империи, всех, чей гений, вспыхивая, озарял два века поразительных побед британцев в области культуры и предпринимательства, сейчас тихо отступает на задний план, растворяясь в дымке своих туманов, отворачивается от всего, что требует действия и усилий, думал Амброуз. Удачливо замкнувшись на острове, эти эскаписты довольствуются теперь унылым ничтожеством своего существования. Успев насладиться блеском кружев и ярким сиянием свечей в бальной зале, они предпочли покинуть пир, прежде чем рассвет явит всем заляпанные скатерти пиршественных столов и шута, упившегося вдрызг!
Но он понимал, что такая судьба – не для него, темная бродяжническая жилка – древнее наследие предков, странников и мыслителей – будоражила кровь, не давала покоя. За волнами Атлантики ему чудились иные картины, чудились верблюды, возмущенно мотающие головой при виде того, как светлеет небо в преддверии нового дня, когда надо просыпаться и вновь шагать, продолжая путь в караване.
Старина Рэмпол, сидя в своей удобной камере, держал книгу так, чтобы на нее падал меркнувший вечерний свет. Он был поглощен и очарован. В возрасте, когда большинство мужчин скорее озабочены сохранением для себя привычных радостей, чем обретением новых, а говоря точнее, в возрасте шестидесяти двух лет, он неожиданно обрел новую радость и стал находить удовольствие в чтении легкой литературы. В списке авторов его издательской фирмы значилось имя, всегда вызывавшее у мистера Бентли некоторое смущение. Под псевдонимом Рут Дрэгон писала некая миссис Паркер. В течение семнадцати лет она ежегодно представляла в издательство по роману, посвященному частной жизни того или иного семейства. Радикально отличаясь по названиям и значительно меньше по сюжетам и композиционно, романы эти, одинаковые, как куски древесины различных пород, были совершенно тождественны по своему духу и в равной мере обладали способностью «очаровывать», будь то семейная сага о полковнике, трех дочерей которого стесненные обстоятельства вынудили переселиться на ферму и заняться птицеводством, или же повествование о морском круизе в атлантических водах, предпринятом одним состоятельным семейством, или же жизнеописание некоего молодожена, а по совместительству – доктора из Хэмпстеда; действующими лицами романа и двигателями всех его сюжетных перипетий неизменно являлись представители высшего слоя среднего класса: их жизнь во всех ее деталях и подробностях скрупулезно, методично и неуклонно воспроизводилась автором на протяжении целых семнадцати лет и все эти годы все так же пленяла читателей атмосферой очарования.
Читательская аудитория миссис Паркер не отличалась широтой, но была довольно значительной. Что же до литературных предпочтений этой аудитории, то она занимала как бы серединное положение между той категорией читателей, которые, восхищаясь одними книгами, резко не приемлют других, и той, к которой принадлежат люди, увлекающиеся процессом чтения как таковым. К последнему читатели миссис Паркер имели, пожалуй, бóльшую склонность.
Мистер Рэмпол считал миссис Паркер автором наименее разорительным для его кошелька, и потому, когда новые жизненные обстоятельства и интерес к умственным занятиям, который эти обстоятельства стимулировали, заставили его обратиться к чтению романов, начал именно с нее. Книги эти переносили его в необыкновенный мир чудесных и в высшей степени достойных людей, в мир, который, как он справедливо полагал, на самом деле не существует. Он прочел уже десяток этих романов и с нетерпением ожидал приятного момента, когда, прикончив все семнадцать, заново примется все перечитывать. Он даже попросил мистера Бентли привести к нему миссис Паркер на свидание – когда-нибудь в будущем, дату он пока не уточнял. Тюремный капеллан тоже оказался большим поклонником творений миссис Паркер. Старина Рэмпол сильно поднялся в его глазах, когда раскрыл настоящее имя любимого автора. Мистер Рэмпол даже намекнул капеллану, что, видимо, сможет познакомить его с миссис Паркер. В общем, он чувствовал себя на коне и счастливее, чем когда-либо в прошлом.
Питер Пастмастер и абсурдно молодой полковник нового подразделения, сидя в «Брэтт-клубе» составляли окончательный список кандидатов на офицерское звание.
– В войну бо́льшую часть времени приходится просто бессмысленно болтаться, – заметил Питер. – А если так, то уж по крайней мере лучше делать это в хорошей компании, в кругу друзей.
– Я получил письмо от человека, утверждающего, что он ваш друг. Подпись – Бэзил Сил.
– Он просится к нам?
– Да. Подходит?
– Вполне, – сказал Питер. – Крепкий орешек.
– Хорошо. Я запишу его, как и Аластера Трампингтона, к вам, младшим офицером.
– О нет, ради бога, не надо! Лучше сделать его офицером связи.
– Знаешь, мне известно о тебе абсолютно все, – сказала Анджела.
– Есть кое-что, тебе неизвестное. Если ты всерьез снова хочешь стать вдовой, то со свадьбой следует поторопиться. Не помню, говорил ли я тебе, что собираюсь опять ввязаться в драку.
– В какую, Бэзил?
– Это не разглашается.
– Но зачем?
– Ну, знаешь, дела в министерстве в последнее время у меня не слишком складываются. Не знаю почему, но Плам стал смотреть на меня косо, переменился ко мне. Думаю, ревнует, что я так здорово сумел раскрутить это дело с «Башней из слоновой кости». Это и встало на пути нашей дружбы. К тому же, понимаешь, работа у него меня вполне устраивала зимой, когда война и на войну-то не была похожа, а сейчас оставаться там мне поперек горла. Для парня вроде меня единственное достойное занятие теперь – это бить немцев. Думаю, мне это придется по нраву.
– Бэзил оставил Военное министерство, – сказала леди Сил.
– Так, – сказал сэр Джозеф. Сердце у него упало. Вот оно – опять та же история! Новости внешней политики могли быть сколь угодно обнадеживающими – а он, дуралей несчастный, так их и расценивал, получи Англия в свои руки новое секретное оружие – а он, дуралей несчастный, действительно в это верил, будь даже ему доверен новый, и очень почетный, пост – а в этот день сэр Джозеф, дуралей несчастный, должен был присутствовать на заседании, где обсуждались хобби, рекомендуемые для служащих обоза – тень Бэзила, несмотря на все это, продолжала маячить где-то рядом, тревожа сэра Джозефа мрачным предчувствием.
– Так, – промолвил сэр Джозеф. – Понятно.
– Он записался в новое элитное подразделение, которое сейчас организуют. Они станут вершить великие дела.
– А он уже принят?
– О да!
– Могу я быть чем-нибудь ему полезным?
– Дорогой Джо, вы всегда так добры к нам… Нет. Бэзил все сделал сам. Наверно, тут сыграло роль то, как он блестяще проявил себя на работе в Военном министерстве. Далеко не каждый юноша согласится корпеть на скучной чиновничьей работе, когда все вокруг только и рвутся к захватывающим приключениям. Как эта глупышка дочь Эммы, заделавшаяся пожарницей! Нет, он исполнял свой долг, в чем бы этот долг ни состоял. И вот теперь это оценили, и он получил награду. Я в точности не знаю, что именно будет делать это подразделение, но уверена, что его действия потребуют необыкновенной смелости и окажут решающее влияние на ход войны.
Опасность миновала. Улыбка, не сходившая с лица сэра Джозефа все это время, сейчас засияла искренней радостью.
– Из-за границы веют новые ветры, – сказал он. – Во всем вокруг я улавливаю признаки перемен.
И, дуралей несчастный, как же он оказался прав!
Сноски
1
Эвакуированные (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Дикая, неукротимая (фр.).
(обратно)3
Неудавшийся, негодный (фр.).
(обратно)4
Сассун, Зигфрид (1886–1967) – английский поэт и писатель, участник Первой мировой войны.
(обратно)5
Макензи, Комптон (1883–1972) – шотландский писатель, выступал как шотландский националист.
(обратно)6
Брук, Руперт (1887–1915) – английский поэт.
(обратно)7
СБР – силы быстрого развертывания.
(обратно)8
Здесь: долг превыше всего (фр.).
(обратно)9
Мы победили, ибо мы сильнее (фр.).
(обратно)10
Увлечение (фр.).
(обратно)11
Рубака Билл – персонаж комиксов 1914–1915 гг.
(обратно)12
Ужасный ребенок (фр.).
(обратно)13
Бульдог Драммонд – персонаж известного английского фильма про полицейского (1929).
(обратно)14
Дворец танцев, данс-клуб (фр.).
(обратно)15
«Желтая книга» – литературно-художественный журнал декадентского направления, выходивший в Англии в 1894–1897 гг.
(обратно)16
Ксенофонт (ок. 430 – ок. 355 до н. э.) – ученик Сократа, философ и историк, принимал деятельное участие в военных походах.
(обратно)17
Беддоуз, Томас (1803–1849) – шотландский драматург.
(обратно)18
Часть латинского изречения «Жизнь коротка, а искусство вечно».
(обратно)19
Хор-Белиша, Лесли Исаак (1893–1957) – британский государственный деятель. В 1937–1940 гг. был военным министром.
(обратно)20
Вдвоем (фр.).
(обратно)21
Кью – имеется в виду Кью-Гарденс, известный ботанический сад в Лондоне.
(обратно)22
«Терф» – известный аристократический клуб любителей скачек в Лондоне.
(обратно)23
Моррис, Уильям (1834–1896) – английский поэт и художник, социалист.
(обратно)24
Неуловимое, невесомое (лат.).
(обратно)25
За твои прекрасные глаза (фр.).
(обратно)26
Сертис, Роберт Смит (1803–1864) – английский романист сатирического направления.
(обратно)27
Лэнгли, Бэтти – известный английский садовый дизайнер XVIII века.
(обратно)28
Ботани-Бей – здесь располагалась первая английская колония высланных в Австралию каторжников.
(обратно)29
Конца века (фр.).
(обратно)30
Провокатора (фр.).
(обратно)31
То есть солдаты шотландского Хайлендского полка.
(обратно)32
Мелкого буржуа (фр.).
(обратно)33
Пропуск (фр.).
(обратно)34
Страны Оси – Германия и Италия.
(обратно)35
Лей, Роберт (1898–1945) – рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА, зав. орготделом НСДАП, доктор философии.
(обратно)36
Мосли, Освальд Эрнальд (1896–1980) – основатель Британского союза фашистов.
(обратно)37
Ак – жаргонное обозначение зенитного орудия.
(обратно)38
Chums – закадычные друзья (англ.).
(обратно)

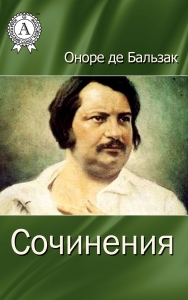


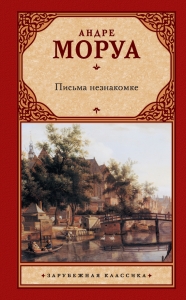
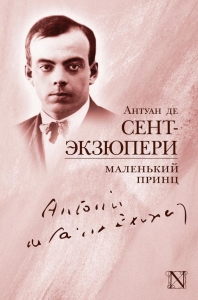
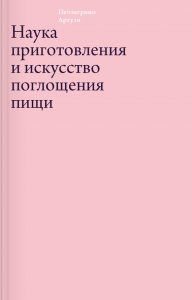


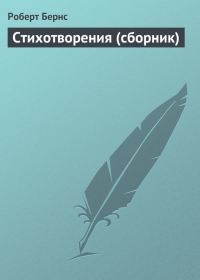
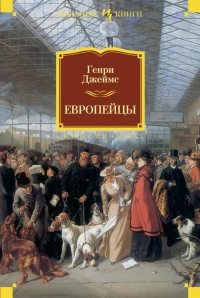
Комментарии к книге «И побольше флагов», Ивлин Во
Всего 0 комментариев