Шмараков Роман Львович родился в 1971 году в Туле. Окончил филологический факультет Тульского педагогического института (1994). Защитил кандидатскую (1999) и докторскую (2008) диссертации в Московском педагогическом государственном университете. Переводил с латыни Венанция Фортуната (М., 2009), Пруденция (М., 2012), Иосифа Эксетерского (М., 2013) и других. Автор книг «Овидий в изгнании» (Луганск, 2012), «Каллиопа, дерево, Кориск» (М., 2013). Живет в Санкт-Петербурге, работает в Высшей школе экономики.
Роман Шмараков
*
АВТОПОРТРЕТ С УСТРИЦЕЙ В КАРМАНЕ
Роман
От автора
Многие помогали мне, когда я, сочиняя этот роман, обращался за разъяснением самых разных вещей. Это в особенности Софья Багдасарова, Дмитрий Иванов, Елена Сафф, Артем Серебренников, Дильшат Харман, Юлия Штутина; пусть простят меня те, кого я не упомянул.
Особая благодарность — Екатерине Ракитиной, которой я обязан двусмысленностью, связанной с украденными книгами, а также фразой из Хроники Герарда Марша, обсуждаемой во второй главе: «And so they went back and forth for the battle it filled their hearts with woe» и «And so they went to Beckenford for the battle, it filled their hearts with woe»; эта фраза, в ее подлинном и искаженном виде, дала мне название Бэкинфорда и избавила от трудностей, с которыми я сам бы не справился.
* * *
...E saettо nel seno
De la misera Arcadia non veduti
Strali ed inevitabili di morte.
Giovanni Battista Guarini, «Il pastor fido»
Длинная комната с большими окнами, которую все живущие в доме называют галереей. Одна дверь из нее ведет в сад, другая — вглубь дома, а ближайшим образом — к короткому коридору на кухню. Близ двери, ведущей в дом, — столик, заставленный безделушками, в дальнем углу — дверь в чулан, задвинутая шкафом. На стене над столиком старинная картина. На ней пастушка, стоящая в раздумье, рядом на скамье ее кавалер с лютней, низко склонивший голову, позади в кустах — что-то похожее на гробницу. На заднем плане роща, из которой на опушку выходит еле заметный волк.
ВСТУПЛЕНИЕ
— Все-таки мне кажется, что одних тарталеток будет мало, — сказала Эмилия.
— Миссис Хислоп предлагает пару имбирных кексов, лепешки с девонширским кремом, мед и малину, — сказала Джейн. — Кроме того, она утверждает, что к твоим картинам пошли бы сэндвичи с кресс-салатом и креветками. Если хочешь, спроси ее, что она под этим понимает. Впрочем, креветок все равно нет, так что вопрос академический.
— Имбирные кексы, — задумчиво сказала Эмилия. — По-моему, это слишком хорошо для такого случая. Пойми меня правильно, я не думаю отказать моим знакомым в маленьком удовольствии, но мне не хотелось бы, чтобы потом говорили: «О да, там были замечательные имбирные кексы, миссис Хислоп выше всяких похвал, и еще виды аббатства в желтых рамках». Воспоминания так прихотливы.
— Да, понимаю, — кивнула Джейн. — Я однажды сидела в приемной у дантиста с одним из таких сборников, что издают в помощь девушкам, ведущим культурную жизнь; боюсь, это было опрометчиво. Потом один молодой человек, очень милый, но… в общем, он решил прочесть мне: «Наконец мы напились из Леты, мы лотос вкусили, там, где скорбь родилась и скончалась» и все, что там дальше, о чем я узнала, пока сидела у дантиста. Думаю, он был удивлен тем, как я к этому отнеслась. Не стоит брать в такие места вещи, которые собираешься потом использовать в лучшей жизни.
— Надеюсь, ты не была с ним слишком сурова. Все-таки он не виноват.
— Тогда это не пришло мне в голову. В общем, не тревожься зря. Я уверена, что ты пересилишь кексы.
— Вот еще что: писать приглашения или нет? Удивительное дело, нигде нет правил этикета на случай, если зовешь знакомых посмотреть на свои картины. Кто пишет пособия по этикету?.. Эти люди уверены, что мне чаще приходится принимать в гостях особ королевской крови или устраивать им после этого торжественные похороны.
— Напиши, — предложила Джейн.
— Пособие по этикету?
— Приглашения. По крайней мере это тебя займет.
— Боюсь, не показалось бы, что я придаю этой затее слишком много значения.
— А ты не придаешь? — осторожно спросила Джейн.
Эмилия покачала головой.
— Мне не хочется выглядеть смешной. Я уже жалею обо всем этом.
— Дорогая, — мягко сказала Джейн, — мы все тебя поддерживаем. Спроси у мисс Робертсон или у викария, он сейчас наверху; они знают слова, подходящие к таким случаям.
— А Роджер приедет?
— Лев встает на дыбы, — сказал попугай. Он сидел на шкафу и, вывернув шею движением, мучительным для восприимчивого наблюдателя, чистил перья на спине. — Да, на дыбы. Я выхватываю саблю.
— Я даже не знаю, вернулся ли он из Италии и в каком состоянии, — сказала Джейн. — До последнего момента он уверял меня в открытках, что приедет. Я бы не стала слишком на это рассчитывать.
— Верхняя половина отделяется от нижней, — продолжил попугай и шумно перелетел на плечо к Джейн.
— Не сейчас, милый, — рассеянно сказала она.
— Он мог бы написать в «Ежемесячное развлечение», — предположила Эмилия. — Он же пишет для них. Хотя бы несколько строк. Если, конечно, ему понравится.
— Уверена, понравится.
— И запекается полчаса, — сказал попугай.
— Сколько? — переспросила Джейн.
— На дыбы, — подтвердил попугай, перелетая на стол. — Конго — это боль, — сообщил он.
— У него там отравили быка, — сказала Эмилия.
— У кого?
— У Генри. Он рассказывал. Недружественные туземцы с помощью белены. «Всегда следи за недружественными туземцами», говорит он.
— Все запирать на ночь, — сказал попугай.
— Это благоразумно, — сказала Джейн.
— Наверняка он расскажет о них что-то новое, когда вернется из… оттуда, где он сейчас. Это люди неистощимой изобретательности. Перестань, милый, — сказала она, поднимая поваленные попугаем статуэтки. — Как ты думаешь, куда мне поставить отшельника, справа или слева от натюрморта с палтусом?
— Ну, — начала Джейн, — тебе удалось придать ему такой выразительный взгляд…
— В самом деле?..
— Да, просто пронизывающий, это удивительно… поэтому, мне кажется, лучше поставить его так, чтобы он не смотрел ни на что в особенности. Может выйти неловко.
— Значит, вот сюда, — сказала Эмилия, меняя палтуса и отшельника местами. — Все-таки надо чем-то украсить комнату, — продолжила она, поднимая голову.
— Тут пошли бы гирлянды, — сказала Джейн. — Не очень много, чтобы не отвлекать внимание. Давай сядем и будем плести их с красивой песней.
— В чулане может быть что-нибудь подходящее, — сказала Эмилия. — Только надо сдвинуть оттуда шкаф. Давай позовем Эдвардса, он где-то в саду, я слышу, как его ножницы щелкают.
— Он стоит тут целую вечность, — сказала Джейн. — Мне кажется, он пустил корни. В одиночку его не сдвинешь. Хочешь, я схожу за викарием?.. Он сейчас в библиотеке. Он не откажется помочь; и потом, он ведь такой человек, что мог бы сказать шкафу «перейди вот сюда», и шкаф…
— Джейн, ты не могла бы, — быстро заговорила Эмилия, — ты же знаешь, как я отношусь к таким вещам, а сейчас…
— Прости, дорогая, — сказала Джейн, — это была дурацкая шутка. Может быть, мистер Годфри?..
— Нет, не надо, — тревожно сказала Эмилия. — Я его побаиваюсь. Он ведь не удержится что-нибудь сказать, и тогда я совсем потеряю равновесие. Выгляни, пожалуйста, на дорогу, может быть, тебе повезет встретить человека, склонного в жару двигать шкафы.
— Хорошо, я найду кого-нибудь, — пообещала Джейн, выходя в сад.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Да, миссис Хислоп, они еще тут. Доктор Уизерс уже уходит. Он говорит, что в этом доме ему больше нечего делать. Они отдадут тело, когда установят причину смерти. Нет, я не думаю, что мы должны угостить доктора Уизерса кексами… Да, я нахожу, что можно обойтись без этого и он ничего такого не подумает… Я уверена, что не подумает… К тому же я слышу, Энни его уже провожает.
Джейн медленно вышла из двери и села на стул, выдвинутый на середину комнаты. Она посмотрела на столик, на пол рядом с ним, сказала: «Тело. Господи, тело» и заплакала.
— Не плачь, — сказал молодой человек, входя в дом из сада.
— Роджер! Это ужасно, ужасно! Мы все… я… Эмилия!.. Что теперь делать?..
— Тебе надо бы умыться холодной водой, — сказал Роджер, — иначе ты не остановишься, со слезами всегда так. Должна же в этом доме быть холодная вода. Умойся, пожалуйста, скоро здесь все будут нуждаться в твоей трезвой голове.
— Ты… откуда ты вообще взялся?.. Мы не ждали тебя раньше субботы.
— Я хотел сделать сюрприз, — сдержанно сказал Роджер.
— Тебе удалось, — с горечью заметила Джейн. — Кругом хаос, эти люди, стулья путаются под ногами, все спрашивают одновременно… и Эмилия… Господи, ты понимаешь, что Эмилия умерла?.. И тут ты, с ясной улыбкой, желаешь всем доброго дня и спрашиваешь, где можно поставить чемодан.
— В Адметов скорбный дом гулякой шумным… извини, не буду больше. Тебе бы все-таки умыться. Хочешь, я найду воды?
— Брось, — сказала Джейн, слабо махнув рукой. — Ты давно приехал?
— Только вчера добрался до дома.
— И сразу к нам?..
— Видишь ли, — сказал Роджер, — я был полон впечатлениями и мне надо было с кем-то поделиться; вот я и подумал, что здесь, в кругу людей, любящих живопись, меня будут слушать охотнее. Я теряюсь, когда меня не слушают.
— Значит, ты не зря съездил.
— Масса впечатлений, — подтвердил Роджер. — Я сделал кучу выписок. Жаль только, с ними нельзя справиться. Некоторые подробности, гм, пропали безвозвратно.
— Ты их потерял, — догадалась Джейн.
— Конечно, нет. Они всегда были при мне. Просто моя записная книжка, как бы это сказать, немного подмочена. Боюсь, эти люди из «Ежемесячного развлечения» будут несколько разочарованы. Они уже звонили вчера и спрашивали, когда ждать первый очерк.
— И поэтому ты…
— Ну конечно, нет!.. У меня были другие причины. Здесь ведь полон дом людей, неравнодушных к искусству. Кстати, кто это гремит там наверху?
— Наверное, Энни. Мисс Робертсон после беседы с инспектором ушла к себе. Инспектор в библиотеке — должно быть, разговаривает с викарием. А мистер Годфри, не знаю где.
— Как быстро появился этот инспектор. А Энни — это здешняя горничная? Такая рыжая?
— Рыжая — это предыдущая Энни, ты редко здесь бываешь. Да, на удивление быстро, я и не думала, что так бывает… Господи…
— Он внушает уважение, — быстро сказал Роджер, — хотя выглядит очень молодым. Следствие в надежных руках. Надеюсь, он был аккуратен с мисс Робертсон, ее ведь трудно будет успокоить, сколько я ее помню.
— Да, он был очень учтив, он даже за весь разговор ни разу… — сказала Джейн и осеклась.
— Ну-ну, — с интересом сказал Роджер. — Продолжай.
— Ну ты же знаешь, — неохотно начала Джейн, — наш дом очень старый…
— Неравномерно старый, — уточнил Роджер.
— Вот именно. Он как костюм с карманами там, где их меньше всего ждешь, и непонятно, кому придет в голову что-то хранить в таких местах…
— Карманы делаются в мнемонических целях, — сообщил Роджер. — Через некоторое время человек привыкает ассоциировать с печенью две серебряные полукроны, а с сердцем — зубочистку и театральные программки; из этого происходят всякие интересные следствия. Почему ты отказываешься публиковаться? Я уверен, твой стиль понравится людям. Хочешь, я поговорю с «Ежемесячным развлечением»? Наверняка их привлечет серия очерков из деревни, написанных наблюдательной девушкой, образованной, но не потерявшей расположения местных жителей.
— Перестань, — сказала Джейн.
— Да, конечно. Ты говорила о том, что там с инспектором и мисс Робертсон и почему ты об этом знаешь.
— Так вот, я шла мимо библиотеки и совсем не собиралась останавливаться… Но когда я дошла до статуи, которую покойный сэр Джон поставил в коридоре…
— Сатир с сорокой, — уточнил Роджер. — Я помню. Прекрасная вещь, острый стиль. Затаенный юмор и внимание к бытовым деталям.
— От сороки уже не так много осталось, — сказала Джейн. — Дело в том, что Энни…
— Нынешняя?..
— Рыжая… Впрочем, это не важно. У меня в руках была розетка с вареньем из айвы, уже не помню, почему. Я же несла ее мисс Робертсон!.. Она попросила айвы. Куда я ее потом дела?..
— Найдется, — сказал Роджер. — Так что там с сатиром?
— Я пролила немножко варенья — руки дрожали — и мне пришлось поставить розетку, сходить за тряпкой и оттирать сатира и сороку. Кстати, айва удивительно хорошо смотрится на старом мраморе, а будь в ней немного больше сахара и цедры…
— Не зря я сюда приехал, — одобрительно сказал Роджер. — Ну а дальше?
— Понимаешь, дом старый и в нем много странностей со звуками. Они то пропадают вблизи, то разносятся очень далеко. Например, если стать рядом с сатиром, замечательно слышно все, что говорят в библиотеке, а стоит отступить на два шага — и все пропадает.
— Любители органной музыки называют это «поразительным акустическим эффектом», — сказал Роджер. — Один человек таким образом узнал много лишнего в соборе святого Павла. Потом он уверял, что это были голоса ангелов. Они советовали ему пойти в лавку Коупленда и купить сукна с гладкой каймой, пока оно еще есть. Он тогда сильно потратился.
— Я не собиралась подслушивать!.. Надо же было оттереть сатира, пока айва не въелась в него навсегда; кто знает, как мрамор реагирует на такие вещи.
— Никто тебя не обвиняет, — сказал Роджер. — Каждый на твоем месте повел бы себя точно так же. Так что там было?
— Сперва инспектор усадил ее в кресло и спросил, как она себя чувствует и в силах ли отвечать на вопросы, а мисс Робертсон поблагодарила его за любезность и сказала, что предпочтет ответить на все сейчас. Он спросил, кем она приходится хозяевам этого дома и давно ли здесь живет. Она сказала, что была подругой покойной хозяйки и живет в Эннингли-Холле, кажется, уже лет десять. «Смею надеяться, — прибавила она (я не видела ее жест, но могу его представить), — смею надеяться, я не заставила их раскаяться в гостеприимстве».
— Они ведь вместе учились, сколько я помню?
— И играли на любительской сцене, — прибавила Джейн. — Говорят, мисс Робертсон там блистала в ролях, требующих чувства.
— С ней была еще какая-то романтическая история.
— Тетя Хелен не распространялась об этом, — сказала Джейн, — так что я мало знаю. У мисс Робертсон в юности была большая любовь, но им что-то мешало быть вместе, не знаю, что; кажется, ее поклонник чуть ли не предлагал ей бежать и венчаться…
— Кони грызли узду у крыльца, — вставил Роджер.
— Но она не могла собраться с духом…
— И с тех пор никогда…
— Роджер, мы с тобой сплетничаем, — сказала Джейн, — это совсем не к месту.
— Да-да, мы больше не будем.
— Это хорошо. Вообще она на удивление бодро держится, хоть и говорит своим обычным слогом. Он спросил, что она делала в первой половине дня и желательно в подробностях; она сказала, что у нее была легкая головная боль, а потому после завтрака она сидела у себя, занимаясь то тем, то этим, а больше всего ничем, и вышла, только когда услышала, как мистер Годфри воскликнул что-то, выходя из своей комнаты в коридор, а потом раздались крики Энни на лестнице.
— То есть она ничего не знает.
— Совершенно ничего. Инспектор, однако, спросил, не замечала ли она чего-либо подозрительного в этот день или накануне.
— Вот это напрасно, — заметил Роджер.
— Она сказала, что, конечно, не видела бродячих огней и не слышала сов на крыше, но знаки упадка здесь рассеяны везде, он сам их заметит, и рассеяны не со вчерашнего дня, нет. Он спросил, что она имеет в виду. Мисс Робертсон спросила в ответ, доводилось ли ему — хотя нет, в его возрасте — пусть он простит, что она так высказывается о его летах, у нее нет ни малейшего сомнения, что в своей профессиональной области он безукоризнен, однако есть вещи, для которых… так вот, доводилось ли ему испытывать чувство, что на его глазах кончился век, время сдвинулось и ушло, а между тем он был его частью и вряд ли сможет сделаться частью чего-то другого? Инспектор ответил, что ему не доводилось испытывать подобного, однако он знает людей, которым это довелось, и думает, что понимает чувства, которые в этом случае испытывает мисс Робертсон.
— Как, однако, много у вас айвы. Был хороший урожай или вы закупаете ее на стороне?
— Роджер!.. Это все заняло гораздо меньше времени, чем кажется. Потом они, судя по голосам, пошли к дверям, и тут я спохватилась, где я и как это выглядит, и тотчас… Мисс Робертсон, как вы себя чувствуете?
— Спасибо, неплохо, — отвечала мисс Робертсон, выходя из дома в галерею, — хотя я не могу ни о чем думать, кроме бедной Эмилии, как, полагаю, и вы. Я совсем не соображаю и, боюсь, наделаю каких-нибудь глупостей.
— Боже мой! — воскликнула Джейн. — Извините, мисс Робертсон, я шла сюда с вареньем, которое вы просили, и, кажется, где-то его забыла. Какая я бестолковая.
— Может быть, в таком месте, — сказал Роджер. — Ты знаешь, есть такие места, где люди обычно забывают варенье. Не вернуться ли тебе туда, в одно из таких мест, и посмотреть — вдруг я прав.
— Нет, Роджер, оно не там, — твердо возразила Джейн. — Я хорошо помню, что успела забрать его у с… то есть я успела его забрать.
— Нет, милая, — возразила мисс Робертсон, — это не для меня. Неужели вы думаете, что я способна хотеть айвового варенья, когда Эмилия лежит мертвая на столе у доктора Уизерса, а мы все потеряли память от горя!.. Я хотела угостить им инспектора, чтобы он чувствовал себя как дома и не жалел, что приехал… ну, чтобы у него не сложилось впечатление, что тут живут люди, нерасположенные к следствию…
— Я думаю, — сказала Джейн, — ему сейчас не до того.
— В знак приязни можно погулять с ним по саду, — предложил Роджер.
— Нет, — сказала мисс Робертсон, глядя в окно и качая головой, — это ведь не сад, это… Слишком многое ушло. Колкие звезды чертополоха средь разбитых плит.
— По-моему, старый Эдвардс неплохо справляется, — возразил Роджер. — Я прошелся сейчас по тропинке, усаженной азалиями…
Джейн прикрыла лицо рукой.
— Нельзя гулять среди воспоминаний, не приносящих утешения, — пояснила мисс Робертсон. — Вот что я имею в виду. Только Энни может носиться там, среди цветов, едва услышит велосипедный звонок. Но она беспечное создание, и я искренне желаю ей, чтобы холодные опыты зрелости пришли к ней как можно позже и не опустошили ее сердца подобно западному ветру.
— Велосипедный звонок? — осторожно переспросила Джейн.
— Да, когда почтальон проезжал, — пояснила мисс Робертсон. — Ах да, — сказала она, видя недоумение. — Когда мы беседовали с инспектором в библиотеке, Энни заглянула, и инспектор задал ей один-два вопроса. Она говорит, что увидела в окно почтальона на велосипеде и вышла к нему через сад. Эмилия была в галерее одна и возилась с картинами. Энни четверть часа разговаривала с почтальоном, который не привез почты, зато рассказал, что нового в Бэкинфорде, — оказалось, что ничего, — а потом пошла назад.
— Через сад? — спросила Джейн. — Странно, что я ее не видела.
— Зато я ее видела, — сообщила мисс Робертсон с некоторой гордостью. — Я в это время посмотрела в окно. Она шла по тропинке, светило солнце, и ничего еще не произошло.
— Вы рассказали об этом инспектору?
— Конечно. Так вот, она вернулась в дом и увидела бедную Эмилию лежащей ничком на полу, возле стола. Не знаю, что она подумала; судя по ее рассказу, она не успела ничего подумать; но она решила, что Эмилии нужен врач, вспомнила, что в библиотеке сидит викарий, и побежала вверх по лестнице, призывая его на помощь.
— Почему ей пришел в голову викарий?
— Видимо, потому, что тут требовались сдержанность и благоразумие, — сказал Роджер, — и потому что викарий ближе всех. Кроме того, он как-никак призван заботиться о человеке, так что стоило звать его, а не мистера Годфри.
— Она привела викария, — продолжила мисс Робертсон, — вдвоем они осторожно перевернули Эмилию, думая привести ее в чувство, и убедились, что она мертва. Было без четверти час. До сих пор не могу в это поверить.
— Да, тут уже я прибежала, — сказала Джейн. — Потом мы заметили у нее под рукой Танкреда, совершенно смятого. Бедная птица, как его жалко.
— Наверно, он был рядом, он ведь такой общительный. Эмилия сшибла его, когда падала, и придавила своей тяжестью. Надо похоронить его в саду, это не будет неуместно. Там много всего погребено.
— Господи, куда же я дела варенье… — пробормотала Джейн.
— Я все-таки пойду в сад, — сообщила мисс Робертсон. — Если будет нужна помощь, я где-то там. — С этими словами она вышла.
— Грешно быть любопытным в подобных обстоятельствах, — промолвил Роджер, — но мы мало того что грешим, так еще и без удовольствия: кажется, никто не может сообщить ничего путного.
— Интересно, что мистер Годфри рассказал инспектору, — задумчиво сказала Джейн.
— Мне кажется, я могу удовлетворить твое любопытство.
— Ты?
— Да. Видишь ли, со мной вышла удивительная вещь. Возможно, ты не поверишь, и все-таки это нагая правда как ее изображают, с солнцем в одной руке и пальмовой ветвью в другой. Это, кстати, очень удобно, если приходится назначать встречу незнакомому человеку в людном месте. Так вот, с полчаса назад я, ища, нельзя ли оказаться кому-либо полезным, проходил по коридору мимо библиотеки и услышал голоса. Инспектор беседовал с мистером Годфри. Разумеется, я хотел пройти мимо, как подобает благовоспитанному человеку, но по случайности задел рукавом за сатира с сорокой и прилип.
— Роджер!..
— Я же говорил, ты не поверишь. Так вот, мне не хотелось попортить ни статую, ни рукав — у меня ведь с собой не так много одежды, — поэтому пришлось отклеиваться с осторожностью. И поскольку я провел там несколько минут, то поневоле услышал кое-что. Мистер Годфри старался держать себя в руках и от этого говорил так, будто диктует мемуары, причем сразу набело. На обычные вопросы, какие предлагают в таких случаях детективные романы, он сказал, что он такой-то, находящийся в таком-то родстве с покойной хозяйкой, и что в свое время — кажется, лет пять-шесть тому — она, уважая его, мистера Годфри, ученые занятия и зная стесненность его средств, весьма тактично предложила ему поселиться в этом доме. Он не сразу принял предложение, потому что он человек крайней щепетильности и меньше всего хотел бы думать, что своим ежедневным времяпрепровождением обязан кому-то кроме самого себя; чтобы разрешить сомнения, он раз-другой наведался в Эннингли-Холл погостить и нашел в леди Хелен столько неподдельного участия, а в сэре Джоне — достаточно ума и образованности, чтобы выказывать интерес к его занятиям…
— Это ведь не его собственные слова, правда?
— Кое-что я украсил для правдоподобия, но смысл точно такой. В общем, это придало ему решимости, и он со своей коллекцией кремневых топоров перебрался из тех мест, что были облагодетельствованы его присутствием, в здешние. Инспектор поинтересовался, изменилось ли что-то в его жизни после смерти обоих его гостеприимцев. Мистер Годфри отвечал, что единственный их сын унаследовал от родителей помимо прочего уважение к некоторым вещам и лицам. Он это сказал таким сухим тоном, что если бы ты разлила там ведро воды, оно впиталось бы без остатка. Кстати, а где сейчас Генри? Опять в Африке?
— Да, где-то там, — сказала Джейн с неопределенным жестом.
— Привезет новых историй о туземцах.
— Мне кажется, ты слишком долго отклеиваешься.
— Извини, но некоторые вещи приходится делать долго, если хочешь сделать их хорошо. Так вот, инспектор спросил, что делал мистер Годфри с самого утра. Он ответил, что после завтрака заперся у себя в комнате и читал отчеты о раскопках Хупера в Уэверли. Никого не видел, в окно не смотрел и вышел, только когда услышал какой-то шум снизу. Спустился и застал тебя, Энни и викария вокруг тела Эмилии. Никаких предположений о том, что могло произойти, у него нет. Он знал, что Эмилия собирается устроить небольшую выставку своих живописных работ, и относился к этому спокойно, но не спускался туда, чтобы никому не мешать. Собственно, вот и все, разве что напоследок он еще… Добрый день, мистер Годфри.
— Я бы это так не назвал, — отозвался мистер Годфри, выходя из дома в галерею.
— Да, конечно. Положительно не знаешь, куда деваться.
— Все валится из рук, — прибавила Джейн.
— Сейчас хорошо было бы прогуляться, — продолжал Роджер. — Интересно, мы еще понадобимся тут или можно отлучиться? Куда-нибудь в уединенные места, благоприятствующие тяжелым думам; близ курганов, где ветер колышет вереск.
— В Бэкинфорде нет курганов, — сказал мистер Годфри.
— Как так? — озадаченно произнес Роджер. — Я, конечно, не могу похвалиться осведомленностью, подобной вашей, но мне казалось, что в научной литературе этот вопрос прояснен с полнотой, не допускающей сомнений, и, в частности, Ламбертон привел достаточно оснований считать, что тот холм, с которого три года назад упал мистер Барнс, представляет собой курган, относящийся ко временам короля Пенды, а…
— Репутация мистера Ламбертона, — желчно сказал мистер Годфри, — такова, что единственный для него способ доказать, что в Бэкинфорде есть курганы, это начать утверждать, что их там нет. По эту сторону Темзы не существует кургана, способного выстоять против репутации мистера Ламбертона. Если бы вы, мистер Хоуден, были курганом и хотели обеспечить себе покойную будущность, первое, что вам следовало бы сделать, — это укрыться от мистера Ламбертона и его суждений, иначе я бы не дал за вашу судьбу и яичной скорлупы. В Бэкинфорде нет курганов, это ясно всякому, кто мало-мальски знаком с состоянием вопроса.
— Очень жаль, — сказал Роджер. — Конечно, я постараюсь скрыть это от мистера Барнса, но все открывается в свое время. Думаю, он будет расстроен. Ему так нравится считать, что он падал не с чего-нибудь, а с кургана короля Пенды, который хоть и был человеком суровым, противником справедливости и с крайней жестокостью нападал на христиан, желая уничтожить самое их имя на нашем острове, однако… Честно сказать, я не помню, какие доводы мистер Барнс приводит в пользу короля Пенды.
— Наверняка самые веские, — сказал мистер Годфри. — Нельзя же упасть на простом месте. «Тут должно что-то таиться», как выражается миссис Хислоп.
— Она так выражается?
— Она так сказала инспектору, — пояснил мистер Годфри. — Они беседовали в коридоре, вследствие чего я имел удовольствие слышать их разговор, не отягощая своей совести уловками, столь же предсказуемыми, сколь и предосудительными.
— Надо же, как интересно, — сказала Джейн.
— До половины второго, — продолжил мистер Годфри, — то есть во все то время, что интересует инспектора, ее здесь не было, что и делает ее самым осведомленным свидетелем. Историкам обычно достаются именно такие.
— Куда это она подевалась?
— Это я знаю, — сказала Джейн. — Миссис Хислоп решила приготовить яблочный кекс с корицей, и тут оказалось, что корицы в доме нет. Миссис Хислоп не в силах была поверить, что у нее нет корицы, но наконец была вынуждена это признать. Эмилия сказала, что без этого можно обойтись и что не стоит придавать чрезмерное значение, однако миссис Хислоп лучше знала, чему придавать значение, а чему нет. Она сказала, что Эмилия слишком молода и не может знать всего; что она сама, миссис Хислоп, слышала об одном художнике, не здесь, а за границей, который примешивал в краски немного корицы и толченого базилика, держа это от всех в секрете, а когда настал праздничный день и все художники разом сдернули покрывала со своих картин — такие уж праздники там, за границей, — то все, кто там был, сразу потянулись к картине этого художника и больше не отходили от нее, восклицая, как прекрасна и душиста эта картина и что никто и никогда еще не заставлял римскую армию в Африке так замечательно пахнуть, и он сразу выиграл все премии, какие там давались, и заключил контракт на святое собеседование с сельдереем; и что его чтили всю жизнь, а после смерти назвали его именем патентованное средство от домашних муравьев, и потому его слава продлится вечно, ибо муравьи никогда не кончатся…
— Кажется, это соображение не в пользу патентованного средства, — заметил Роджер.
— Не мешай… И что она сама видела его картину, у миссис Мур на стене в общем зале, и, хотя цвета уже не те, все равно видно, что рисовал человек понимающий: двое мужчин в меховых шапках беседуют на открытом воздухе, а у них за спиной развалины, все в плюще…
— Приют мышей летучих, — сказал Роджер.
— …и еще там бархатная занавесь, большая книга, открытая на середине, орех и разрезанный лимон с толстой кожурой, какие хороши для имбирного мармелада… О, мистер Годфри! Скажите, вам нигде не попадалась розетка с вареньем из айвы?
— Нет, — сказал антикварий, — но если бы я хотел ее встретить, то начал бы с наиболее вероятных мест. Прежде всего кухня…
— Нет, я не это имела в виду… Я шла по дому с розеткой, в какой-то момент поставила ее и теперь не могу вспомнить, где.
— Ах, вот что, — сказал мистер Годфри. — В таком случае вам стоило бы вспомнить в подробностях, какой дорогой вы шли по дому.
— Гулять среди воспоминаний, — многозначительно сказал Роджер. — Но не погружаться в них, потому что это дело гибельное, а только найти варенье и сразу вернуться.
— Мне кажется, я была везде, — призналась Джейн, на лице которой читались тщетные попытки пройти по дому без розетки.
— В таком случае посмотрите на вещи с другой стороны, — предложил мистер Годфри, которого это явно забавляло. — Взгляните на все хозяйским глазом. Вспомните поверхности, на которых вы могли поместить розетку без вреда для обеих участвующих сторон.
— Джейн, — предостерегающе сказал Роджер, — пока ты не начала всерьез вспоминать поверхности, расскажи, заклинаю, чем там кончилось дело с миссис Хислоп и пахучими картинами, потому что негоже бросать то, что хорошо начато.
— Ну да, — сказала Джейн. — О чем я?.. Орех и лимон. Так вот, если Эмилия хочет быть на месте этого художника, а не всех остальных, что стояли там, словно потерянные, у своих картин, она должна довериться ей в этом, как и во всем другом. Кончила миссис Хислоп тем, что сходит за корицей сама, потому что знает, где в Бэкинфорде надо ее покупать, и потому что по дороге ей наверняка придет в голову что-то еще, без чего нельзя обойтись. Так вот и вышло, что она отсутствовала все это время и вернулась, только когда…
— Да, именно это она и рассказывала инспектору, — сказал мистер Годфри. — С прибавлением своих соображений, их у нее много. Она считает, что если происходит что-то дурное, в нем непременно замешана Энни, и пытается внушить свое убеждение инспектору. Средства, которыми она этого добивается, отдают готической словесностью. Хотя там и не дошло до порочных монахов, я уверен, они возникнут, если инспектору заблагорассудится возобновить эту беседу. Впрочем, вы правы, мистер Хоуден, сейчас хорошо бы прогуляться.
— В саду вы можете составить общество мисс Робертсон, — предупредил Роджер. — Она бродит где-то там, по пещерам и боскетам.
— Тогда я, пожалуй, пойду в курганы, — сообщил мистер Годфри. — Где вереск колеблется на ветру. Если что-то понадобится, вы знаете, где меня найти.
И он вышел в сад.
— Если не считать базилика и муравьев, не могу сказать, что узнал что-то новое, — промолвил Роджер. — Кстати, а о чем вы беседовали с инспектором? Он ведь с тобой говорил?
— Да, мы с ним разговаривали здесь, в галерее, — начала Джейн. — Я сказала ему, что я племянница покойного сэра Джона, что он всегда звал меня в Эннингли-Холл погостить и всегда был со мной добр, и тетя Хелен тоже; думаю, они скучали, потому что Генри вечно пропадает где-то. После их смерти я иногда приезжаю сюда, потому что люблю это место. Генри не отказывает мне в гостеприимстве. Потом инспектор спросил про Эмилию; я сказала, что она из Бэкинфорда и прожила там всю жизнь, что она осталась сиротой, когда ей было десять, и жила у тетки, а сэр Джон, знавший ее отца, поддерживал ее и любил, как родную дочь, так что она больше времени проводила здесь, чем дома; что года полтора назад она всерьез увлеклась живописью и наконец на этой неделе решила показать кое-что из своих работ друзьям и знакомым. Мы помогали ей все устроить; она очень волновалась, и от этого ей приходили неожиданные мысли. Она решила, что галерею надо украсить чем-нибудь уместным и что уместное наверняка есть вон в том чулане. Сколько я себя помню, я никогда не видела его открытым. Может быть, он вообще не открывается. Но ей хотелось там покопаться, и я обещала ей привести кого-нибудь, кто поможет нам отодвинуть шкаф. И я ушла.
— И нашла кого-нибудь? — Роджер оглянулся на шкаф. — Похоже, нет.
— Честно сказать, я не искала. Я вышла в сад, чтобы немного побыть одной, потому что поддерживать Эмилию, когда она места себе не находила от волнения, было изнурительно. Ты не представляешь, как мне теперь стыдно.
— А что потом?
— Я прогулялась по саду — минут пятнадцать, наверное, — и уже шла назад, как услышала вопли Энни и поспешила к дому. Эмилия лежала на полу, а над ней стоял на коленях викарий.
— Ты видела кого-нибудь в саду?
— Нет, только слышала, как Эдвардс щелкает ножницами и лает Файдо. Так вот, я рассказывала все это инспектору, а он подошел к столику и стал рассматривать безделушки, которыми тот уставлен, а потом негромко сказал: «Благослови Господь здешних горничных» и попросил меня подойти. Я подошла, а он приподнял вон ту дагомейскую богиню из черного дерева… на столе, разумеется, была пыль, так что мне стало стыдно, что мы принимаем людей, а у нас мебель в таком виде… и спросил, замечаю ли я. Я не замечала, и тогда он показал, в чем дело. На том месте, где стояла богиня, был отпечаток квадратной подставки, а у богини она круглая. То есть, понимаешь, кто-то переставил их, чтобы скрыть этот след!.. Ну и он, конечно, спросил, не помню ли я, что тут стояло. Это очень глупо. Ведь я видела этот столик с этими статуэтками много лет, они были тут всегда, так что, конечно, я не помню. Тогда инспектор перепробовал все, что там стоит, но ни одна статуэтка не подходила к этому отпечатку. Он кивнул, отошел от стола и спросил меня о попугае. Кстати, а как ты сам с ним поговорил?
— Наилучшим образом. Я сказал, что принят здесь как друг семьи, — сообщил Роджер не без самодовольства, — и что сэр Джон, несмотря на разницу в возрасте, находил удовольствие в моем обществе. Это значит то же, что «смышленый не по летам», но звучит лучше. Когда мне хочется оставить городскую суету, я приезжаю сюда и неизменно нахожу приветливость и свежие простыни. Я знаю, что с мисс Робертсон мое сердце откроется для впечатлений искренности и простосердечия, мистер Годфри отворит передо мной свою сокровищницу ученых сведений, а Генри, если в этот момент не будет ночевать в джунглях, выдергивая из себя отравленные стрелы, чтобы наломать их и развести костер, расскажет мне, как встреченный муравьед заставил его многое пересмотреть во взглядах на мир и самого себя.
— Ты невыносим.
— Да, а поскольку здесь мне этого обычно не говорят, у меня есть еще одна причина наведываться сюда чаще. Так вот, в этот раз я приехал, потому что меня позвали посмотреть на выставку Эмилии. В этом доме умеют ценить мнение человека, разбирающегося в живописи. Поэтому я, как только вернулся из Италии, сел на поезд до Бэкинфорда и…
— Как удачно, что вы здесь, — сказал инспектор, выходя из дома. — Мистер Хоуден, вы позволите отвлечь вас на минуту? Мне хотелось бы кое-что уточнить. Вы говорите, что приехали поездом…
— Двенадцать двадцать шесть. Это прекрасный поезд, им ездят преимущественно сельские священники и люди, только что получившие на сельскохозяйственной выставке приз за лучшую карликовую фасоль или твердо рассчитывающие получить. Поучительное соседство честолюбия со смирением. Не так давно я…
— И по приезде пошли пешком, — продолжил инспектор.
— Я хотел взять у миссис Мур велосипед, — пояснил Роджер, — у них в «Спящем пилигриме» есть два или три; но потом решил, что в такую прекрасную погоду лучше пройтись пешком. Поэтому я свернул к реке и прошел немного вдоль берега. Там замечательно.
— И в Бэкинфорде вас никто не видел.
— Боюсь, что никто, — сознался Роджер с доброжелательной улыбкой.
— И вы появились здесь…
— Когда здесь уже был доктор Уизерс и все эти люди, которые…
— От станции сюда ходу не меньше получаса, — вмешалась Джейн, слушавшая этот диалог с некоторой тревогой. — Быстрой ходьбы.
— Спасибо, мисс Праути. Значит, в предполагаемый момент смерти мисс Меррей вы еще не могли здесь оказаться.
— Видимо, так, — согласился Роджер.
— Мистер Хоуден, — сказал инспектор, — вас, я полагаю, не очень удивит, если я скажу, что поезд двенадцать двадцать шесть по пятницам не ходит.
— Вы посмотрели расписание, — задумчиво сказал Роджер.
— Оно лежит у телефона, — сказал инспектор. — Горничная может вас проводить. Из него выясняется, что вы приехали сюда не позднее одиннадцати десяти.
— Да, — сказал Роджер.
— Могу ли я узнать, чем вы заняли эти полтора часа?
Роджер пожал плечами.
— Я пошел на реку, — сказал он.
— И что вы там делали?
— Сел на берегу и сидел. Мне не хотелось никуда торопиться. Там очень хорошо, — сообщил Роджер с подкупающей задушевностью.
— И никто не может засвидетельствовать, что вы были там все это время?
— К полудню, — сказал Роджер, — рыбаков уже нет. В провинции люди ходят на рыбалку за рыбой, а не за родством с природой. Впрочем, погодите.
— Ты кого-то видел? — быстро спросила Джейн.
— Да! — воскликнул Роджер, просияв улыбкой. — По тому берегу проскакал на добрых вороных конях отряд рыцарей с развернутым стягом, они пустили коней карьером, но я разглядел их между ветлами. На золотом фоне — красный дракон rampant, повернутый вправо. Это были люди сэра Бартоломью Редверса, или пусть лопнут мои глаза и я никогда больше не буду писать в «Ежемесячное развлечение». Дело было около двенадцати, пел жаворонок, и солнце пекло мне затылок.
— Мистер Хоуден, — сухо сказал инспектор, — я просил бы вас проявить больше серьезности, если можно.
Роджер изумленно посмотрел на него.
— Да, вы правы, — сказал он наконец. — Я не сообразил. Знамя с бордюром, конечно, — это же херефордширская ветвь.
Инспектор откашлялся.
— Есть ли у вас, — начал он, — я в этом сомневаюсь, но не могу исключить такой возможности, вы понимаете, — так вот, есть ли у вас предположение, куда могли направляться люди сэра Бартоломью Редверса в своих прекрасных латах, в час, когда рыбаки уходят домой, а солнце печет голову? На случай, если бы мне захотелось с ними поговорить.
— Конечно, есть, — сказал Роджер. — Они спешили к «Спящему пилигриму», чтобы занять все номера, какие еще остались, с завтраками в общей зале. Боюсь, они припозднились и там уже негде приткнуться. Придется им опять разбивать шатры на общественном выгоне. Овцы будут нервничать.
— Ой, вы же не знаете, — сказала Джейн. — Сейчас такое время. Если бы вы приехали на недельку раньше… Господи, что я несу… С завтрашнего дня тут начнется…
— Праздник, — сказал Роджер.
— Праздник? — переспросил инспектор.
— Знаменитая битва при Бэкинфорде, — сказала Джейн. — У нас она каждый год. Ближайшие три дня тут будет нелегко.
— Вот как, битва при Бэкинфорде. И в котором часу вы видели этих людей, ээ…
— Сэра Бартоломью Редверса, — подсказал Роджер.
— Именно. Так когда?
— Кажется, без четверти двенадцать.
— Значит, — подытожил инспектор, — даже если они подтвердят, что видели вас на берегу, у вас были все возможности оказаться здесь к моменту происшествия. Спасибо, это все, что меня интересовало. Не видели ли вы мисс Робертсон? Мне хотелось кое-что у нее уточнить.
— Она в саду, — сказала Джейн.
— Спасибо, мисс Праути.
— Какой вежливый человек, — сказал Роджер, провожая его взглядом. — Интересно, чем его можно вывести из себя.
— Я бы очень просила тебя не пробовать, — сказала Джейн. — Зачем ты ему соврал?
— Этого не планируешь, — отозвался Роджер. — Штука в том, что обычно все происходит само собой. Я ехал в поезде с одним джентльменом, и мы немного повздорили из-за его оригинальности. Ему не нравились мои восторги насчет итальянского искусства. «Вы словно хотите всучить мне его подороже», так он сказал. Как я понял, его раздражало, что, о чем ни заходила речь, я находил, что в сходной ситуации уже бывал кто-либо из итальянских художников. Я пытался быть вежливым, но когда представляешь нагую истину, это трудно. Он принялся рассказывать длинную историю из своей жизни, уверенный, что уж это-то вне всякого сравнения; кажется, кое-что он присочинил, но тут у меня нет доказательств. Когда он уже дал надлежащую развязку всем сюжетным линиям, наказал порок и удачно выдал замуж добродетель, а в его лице читалось торжество, я кротко объяснил ему, что все это происходило с одним выдающимся художником и двумя второстепенными, и дал прочесть мои выписки по этому поводу, чтобы у него не оставалось сомнений. Неудивительно, что он невзлюбил мою записную книжку, как будто она чем-то виновата. Потом он залил ее красным вином — «Пантеллерийский изюм», кажется, оно называлось, и он уверял, что это вышло из-за качки в поезде, — да, он толкнул и вылил на нее весь этот «жидкий янтарь с ярким ароматом сухофруктов», как пишут в рекламных буклетах, который «так хорошо идет с голубыми сырами, чья благородная плесень» и так далее. Я, конечно, сразу подскочил и попытался спасти ее, но этот проклятый янтарь с плесенью на удивление въедлив, и большую часть того, что там написано, теперь не прочтешь. Даже не знаю, что буду делать. Без нее я ни одной истории не помню до конца.
— Роджер, мне очень жаль, — сказала Джейн. — Это ужасно.
— Да, спасибо, — рассеянно ответил Роджер. — А все из-за того, что люди носятся с собой, словно с какой-то ценностью, и готовы восхвалять любую глупость, лишь бы им довелось играть в ней заметную роль. Когда я ездил по Италии, мне пришлось однажды занять номер без зеркала. Зато там висела репродукция «Персея и Андромеды» под стеклом, и я каждый день перед ней брился. Мне казалось, это прекрасный выход из положения, ведь так можно не только прилично выглядеть, но еще и без спешки разглядеть важные подробности. Однако дня через три я начал замечать, что стараюсь дышать потише, лишь бы не сдуть деревню, надетую на холм набекрень, — там ведь простые люди, о которых тоже надо позаботиться, — а еще дня через два — что я мог бы уладить это дело быстрее, чем Персей, а может, и лучше, и что эти люди с музыкальными инструментами, которые загромождают передний план, могли бы сыграть что-нибудь на мой вкус, я ведь не последний человек на этих берегах. Конечно, я выпутался из этой истории, но мне это стоило определенных усилий.
— Ты бы мог попросить зеркало, — предположила Джейн.
— Я так и сделал, — откликнулся Роджер. — Я сказал хозяйке, а она повела меня на кухню, показала на стену и принялась уверять, насколько я ее понял, что вот здесь ей являлся дедушка ее мужа, размером чуть меньше обычного, прямо поверх блюда с могилой Вергилия, так что в конце концов я оставил эту затею. У людей трудности с моим итальянским. Да, вот что бывает, когда останавливаешься где попало.
— Где же она может быть? — пробормотала Джейн.
— Один знаменитый итальянский живописец, — продолжал Роджер, — тот самый, у которого полон дом был барсуков, соек, черепах и карликовых кур, так что он жил среди них, словно Ной, который собрал всех и никуда не едет, — так вот, когда он расписывал монастырь бенедиктинцев, ему подарили почти новую накидку, желтую с черной тесьмой, в то время как он писал историю о пяти хлебах и двух рыбах, и он поставил зеркало и написал себя в этой накидке среди тех, кто ест хлеб, и еще раз в очереди за рыбой, да еще и кого-то из своих барсуков туда примостил, а бенедиктинцы решили, что он состязается с Господом нашим, умножая вещи, которым вполне хватило бы их природного числа; от этого произошли всякие неприятности. Простодушие не всегда похвально.
— Именно так, я совершенно в этом уверена, — произнесла мисс Робертсон, входя из сада.
Инспектор шел за нею. Она остановилась возле картин Эмилии, все еще стоявших у стены.
— Это ее последняя работа, — сказала она с печальным и плавным движением руки. — Она писала ее здесь дня три назад. Сколько было надежд, сколько радости от труда. Можно мне взять ее? — обратилась она ко всем присутствующим. — Мне хотелось бы, чтобы что-то в моей комнате…
— Ну конечно, — сказала Джейн. — Конечно, берите.
— Позвольте, мисс Робертсон, я отнесу ее к вам, — сказал инспектор.
— Спасибо, вы так добры. Видите вот этот столик? Как удачно изображены тени, правда?.. Ей удавались тени.
— Инспектор, — в отчаянии сказала Джейн, — если где-нибудь в доме вам попадется розетка с айвовым вареньем… в общем, берите смело, оно ваше.
— Значит, аспидное масло, — сказал инспектор. — Хорошо. Начнем с этого. — Он взял со столика дагомейскую богиню и повертел ее в пальцах. — Из окна у нее виден сад, слева — дорога из Бэкинфорда. Почтальона должно было быть видно. Впрочем, не важно. Справа какая-то роща, подступает довольно близко… Хорошо для прогулок, однако по ночам, наверное, неуютно. Всегда есть повод говорить о запустении. Все лучшее миновалось, рыцари ушли. И в папоротнике руины арки, — сообщил он дагомейской богине. — Что ты думаешь? Другой на твоем месте уже вовсю искал бы, что оставило этот отпечаток. Впрочем, никто из них не помнит. Разумеется. Не забудь спросить об этом викария, может быть, его наблюдательность… — Он поставил богиню на место. — Боже мой, если бы тебя слышала мама, она сказала бы: «Гектор, прекрати и немедленно сосредоточься!» На чем же? Да, на масле. Аспидное масло. Мисс Робертсон смотрит в окно. Почтальона она не видит — впрочем, Бог с ним, — зато горничная идет через сад к дому. Проходит мимо фонтана… кстати, она должна была видеть мисс Праути, если та в самом деле была там, где говорит. Однако обе они… Впрочем, с той стороны фонтана, кажется, есть скамейка. Да, несомненно, там скамейка, я ее помню. Если там сесть, то изваяние посреди фонтана тебя заслонит и от дорожки тебя не будет видно. Надо это проверить. Изваяние там крупное, возводили в лучшие времена. Какой-то подвиг Геракла, видимо. Возможно, неканонический. Гектор, ради всего святого!.. Да, это надо будет проверить. Значит, горничная идет по дорожке. Она доходит до клумбы с маргаритками. Bellis perennis, да. Ну, хоть что-то долговечное… В этот момент мисс Робертсон отворачивается от окна. Однако горничная говорит, что простилась с почтальоном и пошла прямо в дом, нигде не останавливаясь и ни с кем не разговаривая. Надо проверить, сколько времени занимает эта дорога. Минуты три-четыре неторопливой ходьбы, я думаю. Это если ей верить. Но она… неизвестно, что она. Что это за черный человек, с которым она разговаривала?.. Говорит, случайный прохожий, которому она показывала дорогу в Бэкинфорд. Откуда, однако, тут можно взяться, если не прийти из Бэкинфорда?.. Гектор, Гектор, как при такой внимательности ты смог хоть одно дело довести до конца? Говоришь, ты на хорошем счету? Что сказала бы мама?.. «Бедный мальчик, — сказала бы она, — все-таки попробуй сосредоточиться. Я уверена, ты справишься, если подумаешь хорошенько». Так бы она сказала. Ну же!.. Мисс Робертсон отворачивается от окна. Хорошо. Она не обязана стоять там весь день как пришитая только потому, что тебе нужны свидетели… Она отворачивается, но горничная проходит мимо клумб, нигде не останавливается — давайте сделаем такое допущение, иначе она никогда не дойдет до дверей — не останавливается и через минуту — да, через минуту, не больше — входит в дверь и видит мисс Меррей лежащей на полу возле этого стола. Так. Примерно в этот момент — а скорее чуть позже — мисс Робертсон слышит в коридоре голос мистера Годфри, который вышел из своей комнаты и идет к лестнице. Его комната ближе к лестнице, чем комната мисс Робертсон, однако он произносит одну фразу достаточно громко, чтобы мисс Робертсон ее расслышала. Кроме того, она ее запомнила, что гораздо более удивительно… Гектор, в самом деле, прекрати. Это непозволительно. Так что же говорит мистер Годфри, спускаясь по лестнице, куда он вышел, по его словам, привлеченный шумом? «А есть у нас аспидное масло?» — говорит он. Да, именно. Своей настойчивостью, дорогой Гектор, ты довел мисс Робертсон до такого раздражения, что она перед престолом Божиим была готова свидетельствовать, что мистер Годфри сказал именно это, хотя поначалу стеснялась и приговаривала, что, наверное, ей послышалось. Значит, аспидное масло. Собственно говоря, что это такое?.. Не важно. Это можно посмотреть в словарях. Интересно, в «Спящем пилигриме» есть словари? Если, конечно, их не взяли почитать люди сэра Бартоломью Редверса. Здесь хорошая библиотека, но подниматься туда, пожалуй, поздновато. Не важно, проверю завтра. Лучше всего, конечно, спросить у мистера Годфри. Мама тут сказала бы: «Знаешь, милый, что в этой задаче самое занятное?» Да, знаю. Еще бы не знать. Самое занятное — это если мистер Годфри скажет, что он ничего подобного не говорил. В самом деле, чего ждать от человека, который выходит в пустой коридор, и не почему-либо, а лишь из-за того, что внизу шумят. Что он спросит о масле, конечно. Об аспидном, каком же еще. Милый Гектор, ты немножко тугодум, надо что-то с этим делать. Представь, что ты уже спросил об этом мистера Годфри, а он уже ответил, и именно то, на что следует рассчитывать. Подумай сразу, что из этого вытекает. Прекрасный вопрос. Он не говорил этого, между тем как мисс Робертсон перед престолом Божиим излагает дело с таким вдохновением и такими подробностями, что ей все верят. «Нет, этого нельзя выдумать», говорят все. «Кто угодно, только не она». Итак?.. Да, тут начинается самое интересное. Пойди в «Спящего пилигрима», Гектор, и спокойно подумай там. Может быть, люди сэра Бартоломью Редверса будут добры ссудить тебя разумом, если заметят, насколько ты в нем нуждаешься. К тому же у тебя там есть кровать. Да, это лучше всего. Доброй ночи, — сказал он дагомейской богине и вышел из дверей в потемневший сад.
— Это очень грустно, — сказала пастушка на картине. — Дня не прошло, а они совсем забыли об этой бедной девушке. Они говорят о чем угодно и обсуждают безделицы. Неужели от человеческого сердца ни в чем нельзя ждать верности?
— Не будем судить строго, — отвечал волк. — Обыкновенно бурность чувства бывает предвестием его скоротечности, то же, что длится дольше, видно меньше; кроме того, людям свойственно искать утешения в мелочах; оскорбительным для их горя это сочтет лишь тот, кто сам его не испытывал.
— Ты так думаешь?
— Я видел тому много примеров, — сказал волк. — Так обстоит дело не только со скорбью, но и с любовью: если бы чувства, ею вызываемые, всегда разражались подобно грозе, а не томили сердца в тишине, г-ну де Корвилю не пришлось бы страдать от яда, коим Купидон смочил свою стрелу, а г-ну де Бривуа — истощать свое остроумие, дабы помочь другу.
— Я не знаю этой истории, — сказала пастушка. — Что между ними произошло?
— Ты, я думаю, знаешь г-на де Корвиля, — начал волк. — Он любил навещать г-на Клотара, нашего хозяина. Г-н де Корвиль был человек образованный и отменно приятный в беседе. Однажды он полушутя признался одной даме в любви; она отвечала с неожиданной серьезностью. Г-н де Корвиль пожал плечами и перевел разговор на погоду и славу нашего оружия. Через день, посреди оживленной беседы с двумя парламентскими советниками, он вдруг умолк, вообразив, как дама, отклонившая его представления, улыбается остроте, которую он не докончил; через два дня эта дама была единственное, что виделось ему, когда он закрывал глаза; через три дня он мог для этого и не закрывать глаз. Г-н де Корвиль понял, какого рода вещи постигли его неосторожность там, где он рассчитывал на легкое счастье. Сперва он не хотел признаться себе в этом, придерживаясь того распространенного, хотя ложного убеждения, что любовные дела серьезны ровно настолько, насколько мы готовы их таковыми признать, и щеголял перед собою равнодушием, не желая быть смешным. Это было ошибкою, ибо, тратя время на этот триумф тщеславия, он запустил болезнь, которая не излечивается сама собой. Поняв это, он впал в уныние. Он сделался рассеянным, насвистывал мотивы из непонятно чего и невпопад отвечал удивленному собеседнику. Пришед к г-ну Клотару, он стал у окна и читал нараспев Горация, коего знал довольно много. «Я знаю, чем это кончится, — вполголоса заметил г-н Клотар. — Едва он доберется до стиха „И сельскую листву струит тебе дубрава”, как ему захочется уехать в свою деревню». Г-н де Корвиль произнес: «И сельскую листву струит тебе дубрава» и прибавил, что подумывает съездить к себе в поместье. «Дорогой Корвиль, — сказал Клотар, — этот стих означает, что на Фавна сыплются листья с деревьев, а вовсе не то, что вам надобно уезжать куда-то, где вас никто не ждет, оставляя общество тех, кто вас любит». «Дорогой Клотар, — отвечал Корвиль с печальной улыбкою, — этот стих означает, что иногда надобно вспоминать и о том уголке земли, который нам дали небеса, и проведывать, еще ли сей дар остается нашим». Он выслал вперед слугу с приказами, сам двинулся за ним и уже через неделю мог сердиться, видя ни одно из своих распоряжений не выполненным. Это заняло его на день; но потом он обнаружил, что любовная забота, примостившись на запятках его кареты, приехала с ним вместе туда, где он почитал себя от нее свободным. Тогда он вспомнил все, что знал из учебников по любовному делу, и вышел на поприще со спокойной радостью бойца, надежного на свои силы.
Он сделал придирчивый смотр своим средствам и отобрал из них лучшие. Он намерился презирать то, что обычно восхищает людей, жить одиноко, умеренно и мирно, а приобретенную опытность потратить на сочинение любовного комментария к «Энеиде». План блаженства, им составленный, — уединенный дом, роща, прозрачный ручей, избранное чтение — был так хорош, что причины, вызвавшие его к жизни, казались его недостойными. Г-н де Корвиль был полон уверенности. Он решил, что долгие прогулки вернут ему спокойствие. Это было обыкновение, некогда погубившее Филлиду, но г-н де Корвиль о том не вспомнил. Он вставал спозаранку, приветствуя восходящее солнце, и, захватив томик Горация, пустынными лугами шел в рощу. Дубы высились, равнодушные к его печалям, птицы пересвистывались меж ветвей, издалека долетала ленивая ругань свинопасов. Г-н де Корвиль закрывал глаза, и перед ними длинной вереницей выходили все те обстоятельства, слова и мысли, от которых он думал бежать.
Довольно быстро он успел испробовать и отвергнуть все способы, кои казались ему и обильными, и действенными. В отличие от Овидия, советовавшего посетить войну, чтобы справиться с любовью, г-н де Корвиль на войне бывал и прекрасно знал, что она оставляет гораздо больше места для праздных мыслей, чем считалось, и что воспоминания, сумевшие добраться до нас в таких обстоятельствах, обыкновенно обладают такой же неотразимой притягательностью, как скудный репертуар маркитантской повозки. К тому же он был тяжел на подъем и, сменив город на деревню, надолго истощил свою потребность в передвижениях. Пытаясь заниматься хозяйством, он казался себе еще более смешон, чем в попытках выполоть несчастное чувство из сердца, и наконец предпочел из двух унижений то, которому не было свидетелей. Ездить на охоту он не имел вкуса, а вспоминать все дурное, что было между ним и возлюбленной, и искать в ней недостатки было почти то же, что ездить на охоту, только с неблаговидными целями и всегда впустую. Сельская жизнь открывала г-ну де Корвилю много возможностей для беспутства при дневном свете; из добросовестности он попробовал и это, однако вынужден был отказаться, наскучив однообразием положений и той смесью сожаления и брезгливости, какую неизменно доставляли эти занятия. Как-то он наткнулся на коллекцию медалей, частию оставленную ему отцом, частию собранную им самим, и приветствовал в ней новый путь к спасению, не предусмотренный учебниками; ему пришлось быстро разочароваться. Вместе с медалями г-н де Корвиль обнаружил бумаги, в которых кто-то записывал мысли, приходившие ему в голову за рассматриваньем этого собрания; он читал их, поражаясь решимости, с какою в них высказывались суждения самые избитые, покамест в их почерке не узнал свой собственный. Что до самих медалей, то изображенные на них аллегории, принужденная значительность их поз, лавры на главах, дубовые и миртовые листки меж перстами, их перевернутые факелы, нахохленные грифы и полные горсти гвоздей, львы и сирены под их стопами, их зеркала и личины, волчки и песочные часы, языки на их ризах и глаза на ладонях, самое выражение их немыслимых лиц, вместо того чтоб развлечь его, напоминало ему участие в похоронах или отводном карауле, где нельзя ни на волос отступать от торжественных условностей, не подвергая опасности свою жизнь или репутацию.
— Что все это значит? — спросила пастушка.
— С миртовой ветвью, — отвечал волк, — изображается Венера: это ведь ее дерево, ей любезное, и она появляется с ним, как Удовольствие — с сиреной, Уныние — с той рыбой, что зовется Торпедо, или Скатом, а Беспокойство — с бумажным волчком в руке, каким тешатся малые ребята. Песочные часы держит укрощенный Купидон, а с перевернутым факелом летят Утренние сумерки, неся в другой руке опрокинутую урну с водою. Если же перед тобой женщина, чье платье испещрено человеческими языками, а в руке — пучок горящей соломы, можно быть уверенным, что это Вранье. С гвоздями и молотком изображают Необходимость, ибо такова она у лучших поэтов, а с грифом, примостившимся на ее руке, выходит божественная Природа, какою мы видим ее на римских медалях.
— Удивительно, — сказала пастушка. — Должно быть, человек, сведущий в этой науке, пользуется общим уважением.
— Вне всякого сомнения, — сказал волк. — Однако я продолжаю. Поневоле г-н де Корвиль искал развлечения в людях. Близ его угодий был старинный монастырь: г-н де Корвиль отправлялся туда. Быки на полях смотрели на него, положив рогатую морду на жерди загородок. Знакомые монахи встречали его поклонами. Садовая калитка отворялась перед ним; он шагал по дорожке, расчерченной правильными тенями подстриженного самшита. Горький аромат плавал в воздухе. Монастырские пчелы сосредоточенно вились над цветами, давая пример благонамеренному читателю. Вдалеке виднелся флигель, построенный из розового кирпича; на его балконе настоятель недвижно смотрел в сторону прудов, где монахи вытягивали на мокрый берег вершу с толстыми карпами. Среди тех, с кем г-н де Корвиль любил беседовать, был некий брат Жак. Настоятель поставил его библиотекарем, как иные составляют мнения о вещах, чтобы больше к ним не возвращаться. Неловкий по природе, дерзкий от отчаяния, ни скудным образованием, ни скудными обстоятельствами жизни не наученный давать истинную цену самому себе и своим заботам, он то возлагал какие-то удивительные надежды на будущее, то боялся его, сходствуя с небесными богами в том, что не имел действительных оснований ни для надежд, ни для страхов. Г-н де Корвиль однажды застал брата Жака за чтением какой-то бумаги, которую тот при его появлении пытался спрятать. Г-н де Корвиль вынудил ее показать. Это было письмо прошлого века, писанное тогдашним аббатом к одному из придворных в Фонтенбло. Аббат описывал края, в которых располагается его обитель, и благоденствие, которым наслаждаются местные жители благодаря рачительности предков г-на де Корвиля. Письмо было пространно, основательно и слово в слово взято из «Поэтических описаний» Гандуччи. Читая о солнечных полях и дубравной сени, о влажных крыльях Зефира и благосклонном взоре Помоны, о бодрых быках и тяжелом вымени коз, о доблести, чести и учтивости, г-н Корвиль ощутил то особенное возбуждение, какое бывает при виде торной дороги у человека, давно на нее не ступавшего. Он выпросил эту бумагу у брата Жака, щедро за нее заплатив, и унес с собою.
Это ободрило брата Жака, ибо он вложил в сочинение этого письма много сил и рассчитывал сбыть его выгодно, но не имел духа приступить к делу; появление г-на де Корвиля счастливо решило его затруднения. Конечно, он неверно истолковал побуждения г-на де Корвиля, думая, что им руководило лишь удовольствие видеть славу своей крови; впрочем, сам г-н де Корвиль понимал свои побуждения немногим лучше и, сидя с письмом на скамье в тени сада, занимался не столько своей покупкой, сколько причинами, заставившими ее совершить. Привыкший вглядываться в себя не без тревоги — так путник, забредший в Венерину рощу, стоит над водой, не зная, какой из двух ручьев бежит перед ним, сладкий или горький, — он применил выработанную поневоле внимательность к новому делу, однако кончил тем, что пожал плечами и вернулся к перечитыванию монастырского письма.
Между тем брат Жак простер руки на свершение новых подвигов. У него было два десятка листов, без милости выдранных из старых книг, и он намеревался заполнить их вещами, за которые г-н де Корвиль готов будет заплатить. Широкое поле древнего дееписания лежало перед ним, и, подобно фессалийской ведьме, он готовился уволочь в свою пещеру первого же мертвеца, остановившего его внимание, чтобы заставить его говорить мертвым языком о вещах, которых нельзя проверить. Следовало, однако, объяснить г-ну де Корвилю происхождение того фонтана писем, которому в ближайшее время предстояло забить в его келье, а равно склонность Цезаря, Помпея и Клеопатры изъясняться по-французски: своей латыни брат Жак остерегался больше, чем родной речи, ибо, как многие люди, полагал, что злоупотреблять каким-либо языком с младенчества значит владеть им в совершенстве. Эта выдумка была несложной. Он сочинил некоего настоятеля, жившего лет полтораста тому назад и имевшего доступ к несравненному собранию древних документов, из коих иные, по их ценности, он перевел для себя (брат Жак хотел вспомнить двух-трех авторов, отнятых у нас временем, однако ни в одном из них не был уверен, точно ли его нет вообще или только в доверенной ему библиотеке). Сие собрание, ныне пропавшее, было подобно любой рыбе, сорвавшейся с крючка, то есть очень большое, а ученость и ревность настоятеля сделали то, что весьма многие бумаги, одевшись в галльское платье, избежали гибели во вместительном ларце, долгое время никем не замечаемом и наконец открытом благодаря любопытству брата Жака. У него был сундук с побитыми углами и охряными купидонами, грузно скачущими на крышке, который брат Жак думал выдать за ларец настоятеля в случае, если г-н де Корвиль потребует с ним свидания. Обезопасив таким образом свой промысел, брат Жак начал с письма, которое делало честь его проницательности и могло бы делать честь его патриотизму, не будь оно внушено сребролюбием, одинаковым во всех углах земли. Из священной истории он выудил Архелая, достойного сына Ирода, и счел его изгнание чрезвычайно удачным обстоятельством, способным привлечь интерес г-на де Корвиля. Август, рассерженный ябедами иудеев, сослал Архелая во Вьен: но брат Жак там не бывал, а потому решил, прежде чем кости Архелая упокоятся на тихих берегах Жера, дать им проехаться по тем краям, где Бог благословил основаться его обители и воздвиг родовые башни г-на де Корвиля. Это было не совсем по дороге, но у Архелая могли быть свои причины так ездить, а брат Жак во всяком случае был избавлен от нужды платить за него прогоны. В вечерний час ссыльный король ступил из кареты на разбитую глину постоялого двора. Туман тянулся от реки, тонко кричал встревоженный петух, сонные сеноны несли на стол холодную телятину. И книги, и собственный мирской опыт научили брата Жака, что заведения такого рода по природе своей связаны с мыслями о мимолетности всех людских забав, и он поделился своим знанием с воскрешенным его суетностью изгнанником. Покамест Архелай, после обычной суеты въезда наконец оставшись один, вспоминал о простынях, переложенных лавандой, а за окном ночные птицы, названия которых он не знал, заводили песни, которые его не волновали, брат Жак снедался сомнением, можно ли украсить этот вертеп, наскоро выстроенный его пером, какой-нибудь строкой Овидия или это будет анахронизм, который своей грубостью выведет г-на Корвиля из заблуждения и положит конец всем его авторским замыслам. Он уложил Архелая спать, а во сне привел к нему из неистощимой поэтической бездны чувство, которого тот не мог предвидеть и которому не имел средств воспротивиться. Архелай еще не знал об этом, но, в то время как одна властная рука бросила его в края, о самом бытии которых у него до сих пор не было ни повода, ни охоты справиться, другая рука, всюду приводящая с собою рой орфографических новшеств, заставила его полюбить эти края, хотя гордость и тоска не дали бы ему в этом признаться. Он встал поутру и поехал дальше. Тонкий розовый свет лежал на воде, черные двери кареты отражались меж камышей, дым из труб всходил над деревьями. Г-н де Корвиль прочел все это и, сгорая от стыда, сказал, что изгнанник наверняка находил утешение в переписке с родиной и что он не удивится, если вслед за этим письмом обнаружатся и другие. Тут только брат Жак понял, в какую ловушку сам себя загнал. Его образованности и осторожности едва достало на одно письмо, и, дописав его последнюю строчку, он был изнурен и разбит не лучше самого Архелая, когда перед ним после тряской дороги впервые открылись башни св. Маврикия. Небо дало брату Жаку достаточно смирения, чтобы понимать, надолго ли хватит сил его бесстыдству, а между тем г-н де Корвиль недвусмысленно требовал продолжить переписку и не принял бы отказа, обставленного самыми вескими извинениями.
Тогда ему пришла счастливая мысль. Он вспомнил сцену, произошедшую между ним и г-ном де Корвилем, и решился разыграть ее в другой раз. Г-н де Бривуа, чьи земли тоже были по соседству, иной раз, подобно г-ну де Корвилю, искал развлечений в монастыре. Брат Жак его забавлял. Г-н де Бривуа вошел к нему в келью, застал его неловко загораживающего исписанный лист и заставил объясниться. Брат Жак рассказал ему историю своих отношений с г-ном де Корвилем, без важных пропусков, но несколько облагородив свои побуждения, и кончил описанием затруднений, к которым его привело авторское тщеславие. Г-н де Бривуа расхохотался и обещал ему помочь. Он прочел его послания и сильно порицал оные.
— Друг мой, — говорил г-н де Бривуа, — не знаю, какое образование тебя этому научило, но так нельзя. Ты удивительно беспечен. В нашем веке даже писатели себя так не ведут. Если ты покажешь публике сначала одну руку своего героя, потом другую, потом ногу и голову, не заботясь о том, как они соединяются, а когда надо будет вывести его на люди целиком, у тебя получится лишь мешок с требухой, которую впору отдать собакам, или напоминание о временах, когда, если верить философам, всюду блуждали задницы без голов, еще не имея себе пристанища в Академии, а рука в поисках другой руки натыкалась на глаза, бродящие без лба. Будь осторожнее, друг мой, ты не божество, чтобы быть выше обвинений; пусть люди ценят в тебе хотя бы добросовестность, если ничего другого ты им предложить не можешь.
Замечания г-на де Бривуа, вообще справедливые, стали причиной раздора в их маленькой мастерской. Брат Жак норовил наделить Архелая счастливой любовью, поскольку, как человек радушный, хотел доставить приезжему лучшее, что нашлось в закромах; но г-н де Бривуа, приметив это побуждение, решительно загородил ему дорогу.
— Ты не можешь оправдаться тем, что пишешь по вдохновению, или ради рассеяния, или же для того, чтобы водворить разум и вкус в нашу словесность, так что подумай о единственном читателе, для которого ты стараешься. Ты знаешь, чего ему надобно? Неужели ты думаешь, он стерпит счастливого героя?.. Ты в одном шаге от того, чтобы погубить все свои будущие заработки. Ради Бога, Который привел тебя сюда и Своим долготерпением поддерживает твой промысел, — сделай своего Архелая несчастным любовником, или я откажусь иметь с тобой дело!
— Неужели г-н де Корвиль открылся кому-нибудь в своих чувствах? — спросила пастушка. — Кажется, это не в его характере.
— Конечно, нет, — отвечал волк. — Он ревниво хранил свои мучения как нечто, касающееся его одного; это ведь сокровище, о котором его владелец обыкновенно думает, что оно уменьшается от чужого взгляда.
— Выходит, г-н де Бривуа сам догадался? Должно быть, это человек большой проницательности.
— Да, он догадался, — сказал волк, — и едва ли утрудил этим свою проницательность, ибо алфавит любовного страданья, плохо это или хорошо, таков, что известен каждому, и слова, из него складывающиеся, понятны всем без исключения. Лишь тот, кто терпит эту тяготу, может обольщаться мыслью, что делает это невидимо для других, меж тем как люди смотрят на него как на одинокого актера посреди сцены.
— Это очень грустно, — сказала пастушка.
— Не всегда, — сказал волк. — Так вот, г-н де Бривуа настаивал, что им следует понимать, какого рода человек пишет их письма, а если история не дает им сведений удовлетворительных или правдоподобных, надобно ее поправить. В сем случае мы поступаем подобно ваятелю, который, чтоб передать синеву вокруг глаз, углубляет мрамор в этом месте. Что касается Архелая, то, не имея надобности делать из него образец добродетели, за что на нас набросились бы люди, сведущие в истории, вкупе с теми, кто думает, что разбирается в драматургии, мы должны добиться хотя бы того, чтобы он не отталкивал приличного человека при первом же знакомстве. Поэтому нам следует представлять его примерно так:
Пороки властителя, лишившись своей силы, обернулись в нем добродетелями светского человека. Жестокость того, кто распоряжался чужим имением и жизнью безотчетно, оставила после себя быструю решительность приговоров. Своенравие того, кто привык жить один, дало ему смелость противоречить принятым суждениям, неохотно меняя свои предрассудки на общие. Прошлое представлялось ему в таком блеске и пестроте людей и положений, что отвлекало от настоящего; он не имел ни малейших надежд вернуть себе утраченное, а потому никакие впечатления не выводили его из обычной рассеянности. Несравненная опытность делала его рассказы драгоценными, а легкое презрение к самому себе, порожденное склонностью уважать в людях успех, придавало ему особую любезность, какой, вероятно, отличались боги, сходившиеся за трапезой со смертными. Ученый с педантами, остроумный с дамами, важный с государственными мужами, легкий со светскими людьми, он сделал уменье нравиться из той привычки менять обличия, которую прежде считал уменьем властвовать. Так обстоят дела с Архелаем, и надо сообразоваться с этим всякий раз, когда хочешь приписать ему некое побуждение, страсть или предрассудок.
Это был весьма разумный план, если б его удалось держаться: однако из-за того, что г-н де Бривуа с его ученостью тянул в одну сторону, а брат Жак с его гостеприимством — в другую, Архелай из их рук вышел достаточно противоречивым, чтобы на иной взгляд казаться живым созданием.
— Как это так? — спросила пастушка.
— Некоторые думают, — отвечал волк, — что истинное искусство автора состоит в том, чтобы герой, выведенный в романе, поступал под влиянием страстей, кои в следующее мгновение сменятся противоположными, поскольку наше сердце помнит много случаев, когда с ним было так же, и смеется над попытками философов сделать из человека существо непротиворечивое; спорят лишь о том, насколько часто можно прибегать к подобному средству, чтобы оно не кончило свою жизнь одним из тех парадоксов, которыми любят озадачивать школьников. Другие, впрочем, говорят, что противные склонности, например, скупость и расточительность, самоуверенность и страх, могут уживаться лишь в человеке, порочном донельзя, или в умалишенном, а потому ни автору не следует искать таких героев, ни читателю — требовать, чтобы ими наводняли наши романы.
Итак, разум Архелая нераздельно принадлежал г-ну де Бривуа, а все остальное — монастырскому библиотекарю, так что он походил на крепость, еще удерживаемую гарнизоном, посреди захваченного врагами города. Крепость продержалась недолго. Г-н де Бривуа был отвлечен от монастырских вдохновений неотложными надобностями. Брат Жак почувствовал себя свободным. Он опрометчиво думал, что г-н де Бривуа научил его всему, что мог, и предостерег от всего, от чего было надобно; господство этого человека, которого он хотел всего лишь привлечь себе в помощники, его шутки и пренебрежительный тон, с которым он отвергал скромные творческие предложения брата Жака, были унизительны для последнего. Как ученик толедского некроманта, он, насилу дождавшись, когда хозяин уйдет обедать, вытянул из ларца заветную книгу, чтобы в своей невежественной смелости наполнить дом чудовищами, от которых за три квартала у людей обугливался хлеб и суп в горшке подергивался кровью. Брат Жак наскоро сочинил новое письмо Архелая, полное любовных воспоминаний, жалоб и просьб, переписал его на страницу, выдранную из молитвенника, и стал с нетерпением ждать г-на де Корвиля. Когда г-н де Бривуа разделался с делами и вспомнил о своем соавторе, было поздно: г-н де Корвиль неделю назад не торгуясь отдал брату Жаку сумму, которою тот оценил свои дарования. Встревоженный, г-н де Бривуа потребовал от брата Жака черновиков.
— Это прекрасно, — приговаривал г-н де Бривуа между приступами хохота, от которого слезы выступали на его глазах, хлопая без всякой милости брата Жака по спине. — Архелай у тебя подписывается «Твой Тетрарх». Конечно, если предмет его страсти оказывал свою благосклонность, кроме него, еще троим, у Архелая есть для этого все резоны… Однако запомни, друг мой: раскаиваться в грехе, едва его начав и еще не получив от него удовольствия, — это монастырская манера; если так делать, то незачем и начинать. В остальном, как ни странно, ты нашкодил гораздо скромнее, чем мог, однако наперед не предпринимай ничего без меня, если хочешь зарабатывать на этом.
Между тем в своем уединении г-н де Корвиль перечитывал письмо, нарушая один из важнейших запретов, налагаемых врачами на меланхолика, — оставаться надолго в обществе людей и предметов, вызывающих у него презрение. Читать это письмо, в котором естественные умолчания интимной переписки соединялись с деревянной неловкостью сочинителя, так что о важном догадаться было решительно невозможно, а всякий сор неотвязно путался под руками, было все равно что проводить время, трогая незнакомые предметы в темноте. Нельзя было не стыдиться, по доброй воле загостившись среди произведений людской глупости, а между тем она обладала какой-то трогательной беспомощностью, от которой нельзя было оторваться. Перед его глазами Архелай обращался к предмету своей страсти, с проницательной ревностью любовника находя поводы для подозрений там, где их не увидел бы более трезвый взор, и пытаясь оживить прежнюю страсть мольбами столь униженными, что они не внушили бы и сострадания. Наученный считать, что прошлое — это единственное достояние человека, не знающее над собою прихотей случая, Архелай, чья власть замкнулась в пределах кареты, везущей его неизвестно куда, силился удержать за собою хотя бы прошедшее, ибо начинал догадываться, что и оно не сохранит ему верности. Часто сражавшийся в лагере Амура, не спрашивая о дальнейших целях кампании и довольствуясь лишь поденной платой, г-н де Корвиль, однако, умел ценить и удовольствия, получаемые нами от прошлого, и победы, одерживаемые над будущим, а потому хорошо понимал человека, с беспокойством глядевшего в одном из этих направлений; вспоминая, с какими обширными намерениями он ехал в деревню, и видя, в какой короткий срок они превратились в ничто, он с радостью признавал в Архелае человека, способного отречься от вещей священных и важных, лишь бы удержать пустой песок между пальцами; он читал его унижения жадными глазами, не стесняясь быть третьим при исповеди. Вечер заставал его на садовой скамье; за его спиною чей-то мраморный жест белел в ветвях бузины.
— Скажи, откуда ты знаешь об этом? — спросила пастушка. — Разве ты был с г-ном де Корвилем, когда он сидел у себя в саду, или с г-ном де Бривуа, когда он сочинял письма в монастырской библиотеке? А если ты видел все это, почему я не видела?
— Конечно, я не был там, — сказал волк. — Но сам г-н де Корвиль, когда уже остыл от этой истории, рассказывал ее нашему хозяину, г-ну Клотару, с таким остроумием, как никто другой не мог бы; г-н де Бривуа, со своей стороны, тоже не упустил случая изобразить г-ну Клотару свои сельские забавы, за всем тем остерегаясь, чтобы при его рассказах присутствовал г-н де Корвиль, так что, вероятно, сей последний доныне не знает, чем обязан своему другу; происходило все это перед моими глазами, так что я знаю. А ты не видела этого вот почему. Наш хозяин, г-н Клотар, начал с того, что написал задний план вместе со мной. После этого он охладел к нашей картине, что бывало с ним часто, и забросил ее недели на две-три, так что я с моей рощей оставался тут один и поневоле любопытствовал, что творится в доме. Потом, однако, г-н Клотар вспомнил и вернулся к нам, чему я обязан счастьем с тобой беседовать.
— Много же всего может случиться за три недели, — сказала пастушка.
— Удивительно много, — сказал волк. — Между тем брат Жак мучился опасениями, не слишком ли новомодный жанр он выбрал и не стоило ли ему сочинить, к примеру, трактат Ганнибала о выгодах победы или речь Боэция в сенате о преимуществах созерцательной жизни. Г-н де Бривуа рассеял его тревоги.
— Наши знания о древности, — сказал он, — сколь бы отрывочными и неудовлетворительными ни были, за всем тем позволяют с уверенностью утверждать, что люди тогда, как и ныне, предавались страсти описывать свои дела для сведения знакомых или удивления будущих веков. Муциан, трижды консул, рассказывал, что в бытность ликийским губернатором ему довелось читать письмо Сарпедона из Трои, написанное на бумаге и сберегаемое в храме как святыня. Сарпедон отдает некоторые хозяйственные распоряжения, сообщает, что все идет хорошо, из города заблаговременно удалены люди, внушавшие подозрение, стены починены, патрули и дозоры исправны, провианта запасено на год, а сам он здоров и что ни день покрывает себя новой славой во внезапных вылазках, но выражает опасение, что его дела не будут донесены до потомков в надлежащем свете, потому что поэты теперь не то, что прежде. Так говорит Муциан, чьи слова передает Плиний: загляни, брат Жак, в тринадцатую или четырнадцатую книгу «Естественной истории», если захочешь справиться об этом. А г-н Кузен, человек редкостной учености и благоразумия, рассказывал мне о том, что вычитал в греческой хронике: при императоре Анастасии один человек получил письмо с известием о смерти архангела Михаила; позже выяснилось, что это неправда, однако многие были сильно встревожены. Г-н Кузен прибавлял к этому, что имей он столько же охоты забавляться вздором, сколько выказывает ее наша публика, он искал бы себе славы в историях такого разбора, а тоннерских святых предал попечению Божьему. Будь уверен, если что-нибудь и вызовет подозрения у г-на де Корвиля, то не само бытие твоих писем, а их чрезмерное простодушие; впрочем, позволительно человеку, на которого обрушилось столько несчастий — и потеря царства, и ссылка, и твое внимание, — немного потерять голову от всего этого.
— По-моему, г-н де Бривуа зашел слишком далеко, — сказала пастушка. — Разве так поступают с друзьями? Чем заслужил бедный г-н де Корвиль то, что человек, которому он доверял, так обошелся с его доверием?
— Г-н де Бривуа чувствовал, что навлечет на себя укоризны такого рода, — откликнулся волк, — и позаботился их опровергнуть. Брат Жак однажды намекнул ему, что готов делиться заработанным по справедливости, но г-н де Бривуа отверг это предложение с негодованием, которое делало честь его нравам и придавало блеск его красноречию.
— Я рад, друг мой, — сказал он, — что свое неведение людских сердец ты не вложил в свои сочинения, а приберег для меня, так что ни добрым галлам, с которыми беседует наш герой, ни г-ну де Корвилю, который об этом читает, не приходится удивляться, отчего это Архелай выказывает такую мужицкую учтивость. Ты, верно, думаешь, что меня привлекает случай потешиться над приятелем за его же счет. Другой бы посоветовал тебе купить на эти деньги хороших книг, которые бы тебя образумили, но поскольку я знаю, что книг, способных на это, нет, я всего лишь скажу тебе проповедь на стих «Они же рассматривали меня»; слушай внимательно. Я имею удовольствие считать себя другом г-на де Корвиля, а дружба, по мнению мудрецов, существует лишь между людьми порядочными, то есть такими, которые посильно следуют своей природе. Ты скажешь, что есть люди, которые от бесстыдства хотят иметь такого друга, каким не могут быть сами, и требуют от друзей того, чего не способны им дать; к этому ты прибавишь, что и у рыб, и у птиц, и у зверей есть тяга сбиваться в стаи и что я едва ли соглашусь уподобить наши с г-ном де Корвилем отношения и таким людям, и этим рыбам. Ты прав: мы не таковы. Истинная дружба, по моему мнению, означает, что человек ищет себе подобного не по нужде и не из корысти, но оттого, что по природе склонен к щедрости и превыше всего ценит возможность делиться тем, что имеет. Справедливо сказал кто-то из древних: «Если бы я взошел на небо и стал там, видя пред собою великолепие целого мира, сияние светил и стези планет, которым мы обязаны всеми занятиями нашей похоти и всяким побуждением нашей гордости, — если бы я видел все это и многое сверх того, но при этом не имел кому поведать об увиденном, я почитал бы себя несчастнейшим существом на земле». И если я годен хоть на что-нибудь, я сделаю для г-на де Корвиля то, что покойный Миньяр сделал для своей дочки, — ведь он, пока был здоров и рука ему повиновалась, писал ее в версальской галерее и в Сен-Клу, так что благодаря искусству своего отца она побывала на небесах, куда, надеюсь, хоть иногда попадает благодаря стараниям своего мужа, и во многих других местах, коих никогда не посетит иным способом; и, уж конечно, маленькая Миньяр предпочтет, чтобы ее видели святой Цецилией в эмпирее, Дидоной во дворце и Прозерпиной в преисподней, чем добронравной супругой в доме г-на Фекьера.
На этом г-н де Бривуа заканчивал проповедь, в которой брат Жак, надо сказать, далеко не все понял, и пускался в обсуждение того, что им следует написать в новом письме.
Между тем г-н де Корвиль листал большой том с жизнеописаниями прославленных мужей, дабы сразу вслед за Господом нашим, погруженным в полутьму, из которой осторожно выступали ангелы и пастухи, найти Архелая, с насупленными бровями и в зубчатой диадеме. Г-н де Корвиль смотрел на портрет его жены с нежным, ускользающим взором и вспоминал то немногое, что знал о ней: как к ней пришел во сне ее покойный, юный муж, горько попрекая, что она забыла его любовь и вступила в новый брак: но он-де избавит ее от этого бесславия, так что пусть она собирается, скоро он вернет ее к себе и учинит меж ними все по-прежнему. Г-н де Корвиль представлял, как она рассказывает это кому-то в саду, положив руку на край фонтана, а ее рукав намокает и к нему с разных сторон подплывают красные и белые рыбьи спины, и как через несколько дней она умирает без видимых причин. Он вспоминал и самого Архелая, его неумолимое злопамятство, пир с друзьями, среди которого его застало императорское повеление, его дом, описанный и проданный, громоздкий ворох моральных прописей, который он повлек за собой на чужбину по милости людей, вздумавших писать о его судьбе; вспомнил он и о сне, бывшем Архелаю незадолго до изгнания. При следующей встрече с братом Жаком он отметил странность того, что Архелай избегает говорить о своем знаменитом сне, вынуждая нас почерпать сведения из сомнительных источников. Брат Жак отвечал, что если всемогущее Время, отнявшее у нас то и то, и больше того, вернуло нам письма Архелая, то можно надеяться, что оно приложит руки к тому, чтобы Архелай высказался обо всем, что нас интересует. Когда брат Жак сообщил г-ну де Бривуа, в какую сторону ветер гонит их поэтическую ладью, открылось неожиданное затруднение. Г-н де Бривуа не помнил, в чем заключался сон Архелая, столь же странный, сколь и знаменитый. Спрашивать об этом самого г-на де Корвиля было бы неуместно; ближайшим человеком в окрестностях, который мог открыть доступ к приличной библиотеке, был епископ, но по некоторым причинам г-н де Бривуа не мог рассчитывать на его любезность, а книжное собрание, вверенное попечению брата Жака, прискорбным образом не содержало изданий, в коих можно было бы справиться. Когда г-н де Бривуа убедился в этом, он пришел в ярость.
— Дьявол задери вашу библиотеку! — приговаривал он. — Почему вы не держите у себя Иосифа Флавия? На что вы тратите деньги, досточтимые отцы? Я теряюсь в догадках. Видимо, вы рассчитываете достичь небес без помощи его назидательных сочинений; я бы счел это чрезмерной самонадеянностью, даже если б не был близко знаком с тобой, любезный брат Жак… Ба, у тебя здесь есть даже «Книга знамений» Юлия Обсеквента: скажи, неужели рассказы о каменном дожде, ночном солнце и следах, оставленных где никто не ходил, ты находишь более полезными для души, чем книги человека, который мог встречаться с самими апостолами, если бы приложил к этому усилия?
Тот безропотно терпел раздраженные насмешки г-на де Бривуа, отвечая ему тяжелыми вздохами. Истощившись в поисках и в сарказмах, г-н де Бривуа наконец остановился и задумался. Ему пришло на память, что любой подвиг тем похвальней, чем выше предстоявшие ему преграды и обширней трудности; он взял в рассуждение, что обстоятельства пролагают ему путь к победе, и взглянул на унылого библиотекаря с прояснившимся лицом.
— Не горюй, друг мой, — промолвил он. — Мы выведем из ваших монастырских ворот такой сон, что сам нечестивец, которому мы его припишем, поверил бы, что ему привиделось именно это, и посмеялся над историками, утверждающими обратное. Дай-ка мне сесть за стол и сам садись рядом.
Часа не прошло, как среди свиста, смешков и сквернословия г-н де Бривуа сочинил новое письмо. «До тебя, верно, дошли слухи о моем сновидении, — писал Архелай. — Кротость времени, в которое мы живем, и возможность для каждого безнаказанно предаваться всему, что ему нравится, привели к тому, что вокруг стало очень много людей и нет дела столь тайного, чтобы при нем не оказались один или двое; оттого людям сделались отрадою сны, ибо это такая вещь, которой нет свидетелей. Человек, рассказывающий о своих снах, ведет себя как полководец, велящий показать вражеским лазутчикам свой лагерь и отпустить их: он или слишком силен, или слишком беспечен; я же не был ни тем, ни другим, оттого возводил ложные сны, чтобы отвлечь внимание от истинных. Я говорил придворным, что был в собрании языческих богов и те с гневом извергли меня; слышавшие это делали заключение, что скоро моя судьба переменится к худшему; думаю, сейчас они находят удовольствие в том, чтобы напоминать друг другу о своей прозорливости. Я говорил, что покойные родственники тянули меня во тьму, и видел, что это лишь подтверждает общее мнение о моей родне. Я говорил, что крылатые муравьи покрывали мое тело, а некий дух из моря обращался ко мне с речью, и мои советники искали в засаленных сонниках, что значат муравьи, крылья и вещи, принесенные морем. Словом, я довольно потешился над теми, кто мне это позволял; но тебе я скажу правду. Мне снилось, что я стою в темном переулке, а перед моими глазами кто-то держит весы, на одной чаше которых — твоя любовь, а на другой — все остальные блага, какими я обладал и на какие мог надеяться, и эти чаши друг друга не перевешивают. Мне было предложено выбирать, что мне дороже, затем что впредь я не смогу владеть и тем и другим. Хотел бы я сказать, что не задумываясь указал на тебя, но я обещал не лгать. Я не знаю, что предпочел. Тщетно я пытался это вспомнить по пробуждении. И теперь происходящее со мною не дает мне уверенно судить, что тогда вышло: то ли небо справедливо наказывает меня за гордость и суетность, потянувшиеся не к тому, к чему следовало, то ли милосердно оставляет мне то, что я выбрал».
Тут брат Жак робко спросил у г-на де Бривуа, как он думает, врет Архелай или говорит правду. Г-н де Бривуа ответил ему таким хохотом, что во всем монастыре монахи оторвались от дел благочестия и крестьяне на соседних полях подняли головы. Тогда брат Жак с нежданной решимостью заявил, что он уже путается, кто он такой; что невозможно вести хозяйство на два дома; что лучше он откажется от этих денег, потому что они мало ему помогут, когда его посадят на цепь и будут кормить через решетку; что между братом Жаком, монастырским библиотекарем, и Архелаем, князем иудейским, он во всяком случае предпочитает библиотекаря, ибо если он останется братом Жаком, то насочиняет себе столько Архелаев, сколько позволит его бедный разум, а если нет, то ему предстоит терпеть изгнание хуже того, которое они описывают. «Это значит, дорогой мой, — подытожил г-н де Бривуа, — что ты ломаешь свой магический жезл, распускаешь преданных тебе сильфов, объявляешь о намерении впредь довольствоваться добродетелями частного человека — и все это из одной боязни увидеть, как твой разум уносится от тебя в карете, запряженной улитками?» Брат Жак подтвердил, что имеет в виду именно это. «В таком случае, — отвечал г-н де Бривуа, пожимая плечами, — за тобой остается последний вымысел: будь любезен сообщить г-ну де Корвилю, который, без сомнения, сейчас нетерпеливо дожидается почтового дня, что Архелай уже не будет писать ни ему, ни кому-либо другому; а если ты передумаешь — ибо я полагаю, что твоего упрямства надолго не хватит, — то не проси меня снова помочь тебе». Брат Жак так и сделал, известив г-на де Корвиля, что попущением Божьим ларец настоятеля, по ценности своего содержимого сравнимый с Ноевым ковчегом, по неистощимости — со шкатулкой Пандоры, а по злополучию — с троянской цитаделью, прошлою ночью был истреблен пожаром, который возник неведомо от чего и погас сам по себе, насытясь драгоценною трапезой. Г-н де Корвиль пожал плечами. Он чувствовал, что горячка от него отступает, и смотрел на окружающие вещи с удивленным вниманием, как человек, вынужденный долгое время провести в своей комнате с затворенными ставнями.
Узнав об этой истории, г-н Клотар сказал, что г-н де Бривуа в сем случае поступил крайне рискованно, вынуждая г-на де Корвиля присутствовать при печальном зрелище, в то время как медики единодушно советуют прибегать к веселым. Последствия, однако, оправдывают методу, избранную г-ном де Бривуа, ибо он умел избавить г-на де Корвиля от любовных дурачеств, убедив его в том, что они представляют собою важнейшую вещь на свете, и достиг того, чего тщетно бы добивался, донимая его прогулками верхом, занимательными беседами и супом, сваренным на цикории.
— Так все и кончилось? — спросила пастушка.
— Примерно так, — сказал волк. — Теперь ты видишь, какова бывает любовь, возросшая в уединении и питаемая в тишине, и какие приходится прилагать усилия, чтоб от нее избавиться.
— Да, теперь вижу, — сказала пастушка.
ГЛАВА ВТОРАЯ
— Какое прекрасное утро, — сказал Роджер. — Воробьи возятся в росе. Бочка дождевой воды сияет, как невеста с мытыми ушами. Кто бы мог подумать, что мы встретим его в таких обстоятельствах.
— Интересно, что там Эдвардс рассказывает инспектору, — сказала Джейн, глядя в окно.
— Жалуется, — сказал мистер Годфри с сухим смешком. — Недели две назад кто-то разрыл всю землю вокруг фонтана. Он не может об этом забыть.
— Так дикий пес, медведь, и волк, и вепрь и днем и ночью разрывали нивы и в королевских тешились садах, — задумчиво промолвила мисс Робертсон.
— Я думаю, — сказал Роджер, — Эдвардс спрашивает у инспектора, к чему нам здесь, за нашею оградой, блюсти закон, и лад, и соразмерность, когда наш сад, пучиной обнесенный, травою сорной полон, а инспектор ему отвечает. Там сейчас занимательно.
— Он идет, — предупредила Джейн.
— Доброе утро, — сказал инспектор, входя из сада.
— Как вам Эдвардс? Сообщил ли что-нибудь интересное?
— У него общительная собака, — сказал инспектор.
— Это Файдо, — сказала Джейн. — Если хотите завоевать его сердце, дайте ему копченой селедки, он от нее с ума сходит. Эдвардс не дает — считает, это вредно для его желудка.
— Это справедливо, — сказал инспектор. — Когда, говорите, кончается этот праздник?
— Послезавтра, — сказала Джейн. — Все позавтракают, соберутся на лужайке и начнут битву при Бэкинфорде.
— Будет много доблести с обеих сторон, — анонсировал Роджер.
— Опять сломают велосипед почтальону, — прибавил мистер Годфри.
— Как вы устроились в «Спящем пилигриме»? — спросила Джейн. — Все в порядке?
— Слишком много боевого пыла, — сказал инспектор.
— Так это же хорошо, — сказал Роджер.
— Не для гостиницы, — сказал инспектор. — Вчера были состязания по питью пива и по стрельбе из лука. В этом не было бы ничего плохого, если бы участники первого не шли немедленно участвовать во втором.
— Остается ждать, когда Торсби разделается с этим праздником, — заметил мистер Годфри. — Его мельница мелет медленно, но мелет.
— Не говорите этого никому, — посоветовала Джейн.
— Кто такой Торсби? — поинтересовался инспектор.
— Это человек, которого в Бэкинфорде официально не любят, — сказал мистер Годфри. — Он подкапывается под местную славу.
— Истребил ее вепрь из дубравы, — пояснил Роджер, — и одинокий зверь объел ее.
— Все это выдумки, — сказала мисс Робертсон.
— Ну, я бы так не сказал, — откликнулся мистер Годфри. — Дело в следующем, — обратился он к инспектору. — Мистер Торсби, сделавший себе имя блестящими статьями по средневековой истории, однажды занялся вопросом о битве при Бэкинфорде, справедливо считая его состояние неудовлетворительным. В статье, опубликованной лет пять назад, мистер Торсби показал, что все известия об этом сражении восходят к единственному источнику — Хронике Герарда Марша. «Спящий пилигрим» всегда держит несколько экземпляров, в современном переводе и с примечаниями для детей и идиотов. Судьба рукописной традиции такова, что… Вы мне позволите рассказать эту историю? Она скучновата, зато вы войдете в курс всех местных развлечений.
— Да-да, — сказал инспектор. — Я внимательно слушаю.
— Так вот, Хроника Герарда Марша, — с видимым удовольствием начал мистер Годфри, — дошла до нашего времени в пяти списках, из которых два неполных, а остальные три восходят к единому протографу. Упоминание Бэкинфорда содержится в одной фразе. Мистер Торсби остроумно предположил, что оно порождено ошибкой писца. По его мысли, в Хронике было написано: «И так они топтались взад-вперед, ибо эта битва, она наполняла сердца их ужасом».
— То есть сражения не было вообще, — пояснил Роджер.
— Спасибо, мистер Хоуден. Переписчик Хроники по невнимательности написал: «И они отправились на битву в Бэкинфорд, и она исполнила их сердца ужаса». Именно это мы читаем во всех списках Хроники, и поверх этого наросли все живописные подробности, которые мы находим в позднейших исторических трудах, а в известное время года — и у себя за окном, если осмеливаемся из него выглянуть. Между тем место, занимаемое этой фразой в Хронике, делает упоминание Бэкинфорда крайне сомнительным, ибо и перед нею, и после действие разворачивается очень далеко отсюда. Несмотря на узость кругозора и упорство в предрассудках, которых мы не обязаны разделять, Герард Марш был человек добросовестный и не склонный отвлекаться от выбранного предмета; предположить, что он ради одного сделанного вскользь замечания оставит все свои армии и отправится на другой конец страны, значило бы не уважать в нем писателя и недооценивать человека партии.
— Все это спорно, — сказала мисс Робертсон.
Мистер Годфри повернулся к ней.
— В следующем году, — сказал он, — когда эти места одновременно с комарами наводнят отставные артиллерийские полковники, те, что лазают по болотам в поисках, откуда бы нанести удар шестью сотнями конницы, — спросите у них, каковы результаты их изысканий. Обыкновенно они сидят у «Спящего пилигрима» в общей зале, за кружкой пива, и с пальцем, поднятым в потолок, изрекают: «Безусловно ошибочно считать численность армии равной численности призыва. Если йоркскому шерифу предписано было послать четыре тысячи человек, это вовсе не доказывает…» Спросите, это будет необыкновенно занимательно. Если вы, конечно, не думаете, что битва при Бэкинфорде происходила на крикетной лужайке, где ее ежегодно разыгрывают, и что люди сэра, как его там…
— Бартоломью Редверса, — подсказал Роджер.
— Вот именно. Что люди сэра Бартоломью Редверса сложили головы и знамена в зарослях мальвы и жабрея, служащих несомненным украшением местного крикета и всех, кто к нему относится.
— Вы слишком резки, — пробормотала мисс Робертсон.
— Я слышал, мистер Торсби приезжал однажды в Бэкинфорд, — сказал Роджер. — Кто-то пригласил его прочесть лекцию в школе. О том, что золотые дни нашей славы пришли к концу и теперь вместо «Бэкинфорд» следует читать «взад-вперед». Он приехал сюда, как свет знания, и горделиво назвал себя в «Спящем пилигриме», прямо в общей зале. Опрометчивый поступок. Он увидел, как от кружек поднимаются лица, полные гнева и предприимчивости. Он бежал по главной улице, женщины из домов устремлялись за ним с шумовками, дети стегали его «Бэкинфордским вечерним эхом», а потом загнали в крыжовник и водили вокруг него назидательные хороводы.
— Ничего подобного, — возразила Джейн. — Он в самом деле приезжал в Бэкинфорд несколько лет назад, но никто его не узнал. Говорят, он был очень обескуражен, повторял каждому свою фамилию и подмигивал при этом, но так и уехал, ничего не добившись. У всех свои заботы.
— Скажите, — спросил мистер Годфри, — кто-нибудь из вас его видел?
— Что, извините?..
— Вот вы, мисс Праути, или вы, мистер Хоуден, — вы сами видели, как мистера Торсби бьют газетой или, наоборот, никто не признает? Вы были здесь в это время?
— Нет, — сказал Роджер, — но мне рассказывало множество почтенных людей. Джеффри Герберт, например, когда мы с ним ловили окуней в позапрошлом году и он забыл их в крапиве, и много кто еще.
— А мне не помню кто, — сказала Джейн. — По-моему, все. Миссис Хислоп часто упоминает об этом как о событии, всем известном. «Он прямо как Торсби, когда тот стоял и подмигивал всем», говорит она.
— Прекрасно. Разумеется, пройти в обратную сторону и найти исток этих рассказов в нашем случае невозможно. При ограниченном числе жителей и живости, с какой они обмениваются всяким вздором, нам не определить, что кому принадлежало. Сделаем иначе. Скажите, мисс Праути, какова была в вашей версии рассказа причина, заставившая мистера Торсби приехать в Бэкинфорд?
— Кажется, у него здесь были родственники, — сказала Джейн. — Или дом, в котором он провел детство. Он приехал все это навестить.
— Спасибо, мисс Праути. А кому-нибудь из вас доводилось слышать смешанную версию? В которой бы мистер Торсби приезжал в Бэкинфорд по причинам, изложенным мисс Праути, и его встречали шумовками, как в рассказе мистера Хоудена?
— Кажется, нет, — сказала Джейн.
— Определенно, нет, — сказал Роджер. — Его всегда бьют, когда он приезжает с лекцией. Я привык, что за одним неизбежно следует другое.
— Хорошо. Значит, оба варианта сохранились в чистоте, не взаимодействуя друг с другом. Нам повезло.
— Что дальше? — азартно спросил Роджер.
— У мистера Фентона, — начал мистер Годфри, — есть сын, который учится в школе.
— Милый мальчик, — сказала Джейн. — Уже совсем взрослый.
— Джеффри Герберт говорит, он ловит окуня, когда тутовник уже в полном цвету, — сообщил Роджер. — Джеффри Герберт сильно порицает эту новую моду.
— Их учитель древних языков, — продолжал мистер Годфри, — человек молодой, но весьма усердный. Когда они взялись за Ливия, он задал им читать о фалерийском учителе. Мальчик приходил ко мне спросить, что значит non ad similem. Если вы вспомните эту историю, то без труда заметите ее сходство с рассказом мистера Хоудена. В обоих случаях перед нами учитель-предатель, намеревающийся погубить славу города и вопреки своим расчетам отданный в распоряжение детей, которые гонят его розгами, на потеху растроганным отцам и матерям.
— Ишь ты, — восхищенно сказал Роджер.
— Потом, — сказал мистер Годфри, — молодой человек задал им из Плутарха. Можно только приветствовать такой выбор. Он остановился на том отрывке, когда Цицерон возвращается из Сицилии в Рим, уверенный, что там все полно его славой, и от первого знакомца слышит: «Постой, а где ты был в последнее время?»
— Да, это должно настраивать школьников на философский лад, — сказал Роджер.
— Как можно заметить, версия мисс Праути рассчитана на людей с более разборчивым вкусом, — сказал мистер Годфри, — на тех, кому дети, шумовки и крыжовник ничего не говорят и кто предпочтет ироническую картину обескураженного тщеславия грубому задору уличной свалки. Если мы ближе исследуем вопрос, то наверняка выясним, что версия мистера Хоудена возникла и начала распространяться по Бэкинфорду несколько раньше, чем версия мисс Праути. Было бы, однако, ошибкой считать, что временная последовательность этих двух рассказов имеет причиной художественную взыскательность их творца. Нет, их очередность, как и самое содержание, существует лишь благодаря скромному школьному учителю, составившему программу так, а не иначе.
— Погодите, — сказала Джейн. — При чем здесь маленький Фентон? Вы думаете, он сочинил все эти истории? Зачем ему?
— Я как раз подхожу к этому пункту, — отозвался мистер Годфри. — Если вы зададитесь вопросом, кому выгодно распространять рассказы о посещении здешних мест мистером Торсби — иначе говоря, кто с особенной ревностью должен следить за любым покушением на славу Бэкинфорда, — вы легко обнаружите человека, который потерял бы особенно много, если бы битва при Бэкинфорде пошатнулась в общем мнении. Я имею в виду миссис Мур с ее «Спящим пилигримом». Она живет этим сражением, ибо других поводов приезжать в Бэкинфорд у людей нет, и, если бы мнения мистера Торсби овладели умами, ей пришлось бы терпеть самое грустное зрелище на свете — меблированные комнаты, которые никто не снимает. Поэтому все, что способно выставить мистера Торсби на посмешище, найдет в миссис Мур друга и союзника. Мистер Фентон вдовец и один занимается воспитанием сына; теплые отношения, связывающие его с миссис Мур, общеизвестны. Младший Фентон, я полагаю, не делает секрета из тех исторических сведений, которые ему сообщают в классе, и, если бы миссис Мур с ее предприимчивостью взялась сочинить несколько легенд патриотического рода, с ее стороны было бы разумно опираться на рассказы, которые, видимо, весьма хороши, если ими и через две тысячи лет занимают досуг школьников.
— Это сплетни, — с возмущением сказала мисс Робертсон.
— Это критика источников, — сухо ответил мистер Годфри.
— Спасибо, — сказал инспектор, — это очень интересно.
— Я уверена, — звучно сказала мисс Робертсон, — что мистер Торсби в самом деле приезжал в Бэкинфорд. Конечно, его все узнали. Никто не сказал ему ни слова, но он увидел в общих глазах такое презрение, такую насмешку, что, не в силах снести этой безмолвной пытки, сжигаемый стыдом, он поспешил расплатиться и покинуть наши места.
— Вы так думаете? — с интересом спросил мистер Годфри.
— Мне жаль прерывать этот разговор, — быстро сказал инспектор, — но я хотел бы сказать, что поскольку дело идет об убийстве…
— Каком убийстве? — взволнованно переспросила мисс Робертсон. — О нет, это несчастный случай. Эмилия споткнулась, упала и ударилась об угол стола…
— Он круглый, — заметил Роджер.
— В таком случае меня бы здесь не было, — сказал инспектор. — Но дело в том, мисс Робертсон, что коронер сделал вывод о насильственной смерти. Удар тяжелым предметом в висок. Мистер Годфри, вернемся к тому моменту, когда вы вышли из своей комнаты и пошли вниз. Вы что-нибудь говорили при этом?
— Когда вышел в коридор?.. Нет, не говорил. У меня нет привычки разговаривать с самим собой. Я не настолько общителен.
— И вы не упоминали, скажем, аспидное масло?
— Нет, я не упоминал аспидного масла, — с легким раздражением сказал мистер Годфри. — Но, если мне расскажут, что это, я постараюсь его упоминать.
— Схожу за словарем, — решил Роджер.
— Кто-нибудь из присутствующих знает об этом масле? — поинтересовался инспектор.
— Или хотя бы встречал людей, способных его упоминать, — сказал мистер Годфри.
— Наверное, что-то из кулинарии, — предположила Джейн. — Надо спросить миссис Хислоп.
— Daveridion, — сообщил Роджер, выходя из дома со словарем. — Летучее масло, его получают через возгонку цветов лаванды.
— Инспектор, — сказала мисс Робертсон, — вы же не думаете, что кто-то из нас способен убить Эмилию. Это нелепость, мы все ее любили. Наверное, в дом кто-то забрался.
— Главный вход был закрыт, — пробормотала Джейн.
— Почему, кстати? — спросил инспектор.
— Не знаю, все так привыкли… его забывают отпереть, никто им не пользуется, все ходят через садовую калитку. Глупо, конечно, ведь когда идешь из Бэкинфорда, приходится обходить дом.
— А следы взлома? — спросил Роджер. — Davier, клещи, которыми дергают зубы.
— Нет, — сказал инспектор.
— Это был кто-то чужой, — сказала мисс Робертсон. — Сегодня я плохо спала и уверена, что кто-то пытался проникнуть в мою комнату.
— Вы уверены? — спросил инспектор. — Почему вы так думаете?
— Я проснулась ночью и смотрела на дверь в темноте. За ней явственно ощущалось чье-то присутствие. С вами бывает так, что вы чувствуете присутствие?
— В детстве со мной такое было, — сказала Джейн, — когда я читала «Удольфские тайны» на ночь. Мама мне сказала, чтобы я перестала это делать, и присутствие пропало.
— Я уверена, что дверную ручку кто-то трогал, — сказала мисс Робертсон, качая головой.
— Debacle, — сообщил Роджер, — отдаление пустых кораблей от пристани для приближения нагруженных.
— Роджер, перестань, — сказала Джейн.
— Я знаю, кто это, — вдруг сказал Роджер. — Это мясник. Мясника никто не замечает — он словно ветерок, забытый сон, мгновенная комбинация зеркал, — а он ездит всюду со своей кровавой тележкой и делает что ему подсказывают наклонности. Мясник или почтальон.
— Мясника никто не видел, — возразила Джейн.
— Вот об этом я и говорю, — значительно сказал Роджер.
— А почтальон поговорил с Энни и уехал на своем велосипеде навстречу Бэкинфордской битве. Нет, в самом деле, как бы он мог пройти в дом?.. Его бы заметила Энни, или я, когда сидела в саду, или Эдвардс, который подстригал кусты возле дома, или его облаял бы Файдо.
— Это соображение касается любого постороннего, который хотел бы попасть в дом через сад, — заметил инспектор.
— Иначе говоря, — сказал Роджер, — ваше внимание сосредоточивается на нас.
— А как же человек в черном? — спросила Джейн.
— В самом деле, — подхватил мистер Годфри, — давайте обсудим человека в черном, а то здесь удивительно мало удольфских тайн на нашу голову.
— Простите, инспектор, — продолжала Джейн, — может, это тайна следствия и я не должна этого делать, но вчера Дама башни…
— Кто?..
— То есть миссис Хислоп… извините, ее все так зовут. В Эннингли-Холле кухня находится в самой древней части здания. Когда-то это была башня. Говорят, в ее подвалах держали узников и морили их голодом. Она очень старая.
— Там есть подземный ход, я уверен, — сказал Роджер. — Он выходит прямо на поле битвы при Бэкинфорде. Когда йоркский шериф…
— Ради Бога!.. — возопил мистер Годфри.
— Покойный сэр Джон прозвал миссис Хислоп Дамой башни, — продолжала Джейн, — а еще Стрелком во тьме, потому что у нее аллергия на куриные яйца и большую часть того, что она готовит, она не может попробовать. Все знают об этих прозвищах, и миссис Хислоп о них знает, но считает, что они представляют собственность сэра Джона и что с тех пор, как он умер, никому нельзя ее так называть, так что мы стараемся следить за собой, хотя постоянно…
— Есть вещи, от которых не убережешься, — заметил Роджер.
— Вы говорили о черном человеке, — напомнил инспектор.
— Да, простите. Дело в том, что вчера миссис Хислоп успела пересказать каждому все то, что она рассказывала вам, и как она застала Энни около дома с каким-то человеком, одетым в черное, и как Энни говорила ему: «Это насчет старых хозяев», а потом утверждала, что ничего такого не было и что миссис Хислоп это послышалось. Кто этот человек в черном? Что Энни хотела ему рассказать насчет сэра Джона и тети Хелен? Может быть, это имеет какое-то отношение к делу?
— Джейн, — сказал Роджер, — ты же не думаешь учить инспектора, что и как ему делать. Один итальянский художник писал в каком-то монастыре не помню что, и оно у него вышло наилучшим образом, вплоть до последних мелочей, такой уж он был добросовестный человек; а потом наступил праздник, и монахи сняли покрывало с росписи, думая, что ему незачем что-то еще подправлять. Когда художник узнал, то расстроился хуже некуда и, разгневавшись на монахов из-за их непочтительности, взял молоток и снес все росписи, начиная от главных персонажей и заканчивая мелкими подробностями, и так основательно прошелся по всей своей истории, что от этого вот, чего я не помню, ничего не осталось. Монахи, конечно, раскаялись, но было поздно, он ни за какие деньги не соглашался взяться за это заново и только на выходе, у самой двери, написал им виноградарей, подвязывающих сухие ветки вместе с какими-то чудовищами, так что монахи не знали, сохранить ли им эту фреску ради прекрасной работы или сбить ее из-за чудовищ, которые смущали народ. Не надо отвлекать людей, когда они занимаются любимым делом.
— Да, конечно, — сказала Джейн. — Я ничего такого не имела в виду.
— По-моему, — сказал мистер Годфри, — сейчас все здесь смотрят друг на друга и думают об одном и том же.
— Инспектор, — громко сказала мисс Робертсон, — я знаю, что мы сделаем. Я предлагаю каждому, кто здесь есть, сказать, что он не убивал Эмилию. Мы сбережем вам время. Я уверена, что никто не солжет.
— Да-да, — саркастически произнес мистер Годфри.
— Мистер Хоуден, вы не могли бы…
— Почему я? — недоуменно спросил Роджер. — Впрочем, если вы настаиваете… Я не убивал Эмилию.
— Большое спасибо, мистер Хоуден, — с необыкновенной выразительностью произнесла мисс Робертсон. — Джейн, милая…
— Я ее не убивала, — серьезно сказала Джейн.
— Мистер Годфри, пожалуйста…
— Я бы обратил внимание присутствующих, — медленно сказал тот, — на формулировку нашей клятвы. Мисс Робертсон не предлагает тому, кто сделал это, признаться — в этом был бы хоть какой-то смысл. Она просит каждого сказать: «Я не убивал Эмилию». Легко заметить, что любой воспитанный убийца без затруднений выполнит эту просьбу и примет участие в спектакле, который, не утруждая ничьей искренности, позволяет каждому выставить в лучшем свете свою учтивость. Я отнюдь не думаю, что сформулировать клятву именно так мисс Робертсон побудило какое-то намерение, хотя сама она уклонилась ее произнести, — нет, я уверен, что одно лишь чудесное простодушие и женская небрежность причиной…
— Мистер Годфри, — произнесла мисс Робертсон с бледной улыбкой, — что вы такое говорите.
— Мистер Годфри, в самом деле, — сказала Джейн почти с негодованием.
— Мистер Годфри, вы позволите, — сказал инспектор и отвел его в сторону. — Насчет того попугая, что умер вместе с мисс Меррей.
— Танкреда? — с удивлением спросил мистер Годфри. — Он чем-то интересен?
— Немного. Это ведь был жако, да?
— Да, кажется.
— Давно он жил в доме?
— Лет пять. Сэр Джон подарил его жене, у него была склонность к таким… неожиданным подаркам.
— Они его любили?
— Думаю, да. Сэр Джон говаривал, что, если не ведешь дневника и не пользуешься чековой книжкой, единственное, что ежедневно напоминает тебе о твоих былых глупостях, — это попугай.
— А леди Хелен?
— Да, и она тоже. Он сопровождал ее на кухню и сидел там, весь в муке, пока она планировала с миссис Хислоп большие обеды. «Посторонний при обсуждении диспозиции», говорил сэр Джон.
— Вы не вспомните, какие слова он произносил?
— Кто, попугай?.. Гм. Знаете, инспектор, — мистер Годфри коротко рассмеялся, — я не ждал, что будут такие сложные вопросы. Вообще говоря, я не привык прислушиваться к попугаям, потому что питаю, можно сказать, профессиональную неприязнь к вторичным источникам. Если дать себе волю и начать почем зря слушать попугаев, в конце концов обнаружишь себя читающим книжку из тех, что обещают познакомить с философией Платона за сорок минут, а там уж…
— И все-таки. Ведь вы постоянно сталкивались с ним несколько лет подряд.
— И чаще, чем хотелось бы, — согласился мистер Годфри.
— Так что же?..
— Ну хорошо. — И мистер Годфри глубоко задумался. — Пионы, — промолвил он наконец с видимым облегчением. — Пионы уже отцветают.
— Это он говорил?
— Да. И еще о том, что не надо разбрасывать ножницы где попало. Видимо, наслушался у садовника.
— Еще что-нибудь?
— Нет, пожалуй, не вспомню больше. Если придет в голову, я не замедлю вам сказать.
— Спасибо, мистер Годфри, это все, что мне было нужно. Мисс Робертсон, один вопрос…
— Роджер, — шепотом сказала Джейн в другом углу комнаты, — зачем он спрашивает, что говорил Танкред? Какой в этом смысл? Ты понимаешь?
— Думаю, да, — сказал Роджер, — хотя тут нет повода хвалиться проницательностью. Вчера вечером мне довелось подслушать, как инспектор разговаривает сам с собой, прямо здесь, в галерее. Ему следовало бы избавиться от этой привычки. Насколько я понял, дело в этом самом аспидном масле. Мистер Годфри о нем не говорил; викарий, я думаю, тоже не имел времени в этой суматохе подняться этажом выше и сказать: «Аспидное масло! Аспидное масло!» А это значит…
— Это значит…
— Значит, что сказать это было некому. Когда такие вещи происходят, следствию приходится менять свои планы на ходу. Это как с тем итальянским скульптором, который хотел высечь из мрамора фигуру в полный рост, но нашел трещину, и ему пришлось сделать ее лежачей. Он изваял юношу с урной, которую поддерживают три мальчика, а из нее вытекает река с рыбами и птицами; он изобразил там несколько нырков, лысух и поганку с ее выводком, так что в итоге все вышло наилучшим образом, а если бы трещины не было…
— Роджер, ради Бога!.. Что это значит?
— Это значит, — продолжал Роджер, — что если это некому было сделать, то об аспидном масле мог сказать только Танкред.
— Вот как, — сказала Джейн с некоторым разочарованием. — Мистер Годфри обидится, если узнает.
— Похоже, ты не уловила. Я бы и сам не догадался, но инспектор сделал себе несколько намеков. В этот момент Энни уже нашла Эмилию на полу в галерее.
— Как так?.. Погоди, ведь Танкред…
— Вот именно. Он был жив и разговаривал про масло, когда Эмилия уже была мертва. А это значит, что он умер позже и, надо думать, не по случайности.
— Я не понимаю, — сказала Джейн. — Когда позже? Как это — не по случайности?..
— Об этом инспектор мне не сказал, — сообщил Роджер, — но я попробовал представить сам. Смотри. Энни видит мертвую Эмилию и бежит в библиотеку за викарием. Она ведь не трогала и не переворачивала Эмилию, верно? Галерея на несколько минут остается пустой. Тем временем Танкред на весь коридор сообщает, что у нас плохо с аспидным маслом, и летит вниз. В галерее он встречается с кем-то, кто его убивает и подкладывает под руку Эмилии, чтобы изобразить случайную гибель. Прибегают Энни с викарием, потом приходишь ты, вы пытаетесь привести Эмилию в чувство и обнаруживаете Танкреда. Иначе говоря, Эмилия и Танкред не умерли вместе. У кого-то были особые причины убить попугая.
— Это какая-то нелепость, — сказала Джейн. — Кому это понадобилось? Кому Танкред мог так насолить? Конечно, он бывал надоедливым, но это же не повод…
— Не знаю, но инспектор, похоже, серьезно к этому относится. Я напомню, что у нас тут убийство и, насколько я понимаю, все под подозрением, все до единого.
— Кроме миссис Хислоп, — сказала Джейн. — Ее-то уж точно здесь не было.
— Кроме миссис Хислоп, — согласился Роджер. — Так вот, это значит, что, если инспектор относится к чему-то серьезно, благоразумие советует нам относиться к этому так же. Один итальянский художник…
— Мисс Праути, — позвал инспектор, — вы не могли бы…
— Да, конечно. О чем вы спрашиваете?..
— «В особенности пегий иноходец со вс», — с выражением прочел Роджер, выходя из дома в галерею с записной книжкой в руках. — Нет, это невозможно, я ничего из этого не выжму. Что это за пегий иноходец? Почему он в особенности?.. Бедные мои записи. «Затем ее прокрывают один раз маслом из льняного семени и приготовляют в горшке». Дальше снова пятно. «Человеку приделывают журавлиные ноги», замечательно; «на тонкую нить подвешивают» — не разобрать, что подвешивают — «а делается это четырьмя способами». Проклятье. Добрый вечер, викарий, что нового?..
— Я шел в библиотеку, — сказал викарий, — дописать проповедь на погребение и остановился возле картины. Удивительно, сколько в ее сюжете сходства с нынешними обстоятельствами. Что вы о ней думаете?
— Ночью будет гроза, — сказал Роджер, поглядев на картину. — Это я могу утверждать с уверенностью. А кто ее автор? Конечно, мне говорили, но я забыл.
— Доминик Клотар, — сказал викарий. — Французский художник, начало восемнадцатого века. Весьма плодовитый художник, но «Прерванный праздник» его прославил и свои последние годы, когда дарование, по выражению какого-то остроумца, покидало его вместе с зубами, он провел, продавая бесчисленные копии известной работы. Это одна из них, и не лучшая. А вы чем занимаетесь?
— Пишу статью об Эмилии, — сказал Роджер. — Вроде некролога, но не то чтобы некролог. Хотелось затронуть в ней некоторые общие вопросы.
— Вы рассчитываете ее опубликовать? — спросил викарий с некоторым сомнением.
— Может быть, в «Ежемесячном развлечении», — сказал Роджер, — а может, где-нибудь еще. Есть много изданий, неравнодушных к вопросам искусства, и в некоторых я желанный гость. Куда ни пишешь, везде можно вставить фразу «Констебл никогда не позволил бы себе подобного»; главное — помнить, в каких изданиях это похвала, а в каких порицание. Вы не могли бы взглянуть на то, что я набросал? Ваше мнение будет для меня драгоценно.
Викарий надел очки.
— Тут наверху нарисована рыба в цветах, — сказал он. — Кажется, это карп.
— Я еще не придумал начало, — пояснил Роджер. — Рассчитывал, что в библиотеке на меня снизойдет кроткое вдохновение сочинителей некрологов, но оно не снизошло. Представьте себе самое трогательное, самое плавное из всех вступлений, какие только бывают, и вообразите, что оно уже там, вместо плотвы. Кстати, это плотва.
— «Беспокойство, неразрывно связанное с ее художническим даром, — прочел викарий, — и контрастирующее с глубокой, придонной безмятежностью того круга сельских событий, в котором замкнулась ее жизнь и предметы ее вдохновения», гм, ну ладно. «Главное для нее во всем — это настроение: оно как луч солнца, внезапно преображающий обыденные вещи — мельницу, флюгер, человека в дверях; как артист, в знакомом монологе ставящий ударение на слове, которого мы привыкли не замечать; но она вынуждена облекать эти настроения телесной очевидностью, чтобы другие могли разделить их». Это очень мило, мистер Хоуден, но я боюсь, что очевидное несоответствие между пышностью ваших выражений и скромностью того, что осталось после бедной Эмилии, произведет не совсем тот эффект, на который вы рассчитываете.
— Сейчас уже не пишут «оплачем в ней погибшие надежды» и тому подобное, — пояснил Роджер. — Приходится выражать эту мысль другими способами.
— «Эта горячая даль летнего полдня, с пышными, вянущими венками из случайных трав, эти фантастические грабли, прислоненные…» Кажется, я не понимаю.
— У нее есть картина с граблями, — пояснил Роджер. — Эдвардс дал ей пару штук; она обещала, что не сломает. Потом все натыкались на них в самых неожиданных местах. Очень трогательное полотно.
— Пусть так, — пробормотал викарий и продолжил читать. — «Мне вспоминается легенда об одном итальянском художнике, которому предстояло украсить кладбищенскую стену историями о долготерпеливом Иове. Он заметил, что та сторона стены, где он должен был работать, обращена к морю, а потому всегда влажна и точится солью, приносимой морскими ветрами, и предвидел, что из-за этого его краски в скором времени поблекнут и истребятся. Поскольку все, что он мог противопоставить морю, были его предусмотрительность и искусство, он делал грунт из известки и толченого кирпича всюду, где собирался писать фрески, дабы сохранить свою работу в первоначальной свежести. Видевшие его работу по прошествии долгого времени, когда к былым утратам Иова примешались те, в которых нет утешения, — и еще большего времени, когда свет окончательно померк и на стене не уцелел никто, чтобы возвестить о нем, — видевшие это могли бы задуматься о разнообразии и недостаточности тех усилий, которые мы вкладываем в борьбу с забвением, равно как и о невозможности различить, где именно внушения неразборчивого тщеславия граничат с неистребимой и благородной жаждой бессмертия». Это хорошо сказано, очень хорошо, но не очень понятно, из чего вытекает.
— Вы думаете? — обеспокоенно сказал Роджер. — Мне это казалось очевидным. Хорошо, я посмотрю, как это исправить.
— Я уверен, вы все сделаете прекрасно, — сказал викарий, возвращая ему бумаги.
— Вы позволите мне заглянуть в вашу проповедь? В качестве ответного жеста. Вдруг я тоже буду вам полезен.
— Спасибо за предложение, но не стоит, — без воодушевления сказал викарий. — Она еще не дописана, там и сям вместо точных выражений стоят подпорки. В таком виде она не даст верного представления о том, что я намерен сказать, и замечания к ней не будут…
— Вы можете рассчитывать на мою скромность, — заявил Роджер. — Я буду аккуратен, как человек, танцующий на сырых яйцах. Ну, позвольте же мне, пока мы одни, — из меня не выйдет ни слова.
— Ну ладно, — решился викарий. — Держите.
— «Смерти больше не будет», — прочел Роджер. — Прекрасный выбор. Это в самом деле такое обещают?
— Добрый вечер, — сказала Джейн, входя из сада. — Я вам помешала? Эдвардс жаловался мне на природу; я сказала, что должна спешить, потому что вы меня ждете. Если не трудно, сделайте вид, что вы меня ждали, он смотрит.
— Привет, Джейн, — сказал Роджер. — Викарий написал замечательную проповедь на стих «Смерти больше не будет». Если он не против…
— Читайте, — сказал викарий, пожимая плечами.
— Благословенное пророчество! — продекламировал Роджер. — В должный час ты исполнишься над нами. Смерть покидает свое ремесло — царство ее прекратилось — человек является в ризе бессмертия.
— Как это красиво, — сказала Джейн. — Миссис Хислоп понравится.
— Не сейчас, — предупредил Роджер. — Я слышал, она нашла где-то в доме розетку с айвой и прилипла к ней, а потом отправила туда Энни с мокрой тряпкой, чтобы та «сделала за день хоть что-нибудь». Они обе сейчас не в настроении слушать про ризу бессмертия, я уверен.
— Розетку с айвой? — спросила Джейн. — Надо же.
— Мудрый язычник, — продолжал Роджер, — может утешать нас, представляя нашему взору руины древних и славных городов, и пытаться отвратить нас от частных скорбей зрелищем общих бедствий, однако…
— Сзади была Эгина, слева Коринф, — прибавил мистер Годфри, выходя из дома. — Добрый вечер. У вас здесь что-то интересное?
— Викарий шел в библиотеку, — пояснил Роджер, — но остановился посмотреть на картину, а вообще-то он сочинил проповедь на стих «Смерти больше не будет».
— Когда я смотрю на нее, — сообщил мистер Годфри, глядя на картину, — мне всегда приходит одна мысль: «К ней надо другую мебель, эти стулья ей не подходят». Простите мне эту откровенность. В этих кустах еще кто-то есть, или мне кажется?
— Никого нет, — сказал Роджер.
— Почему, — продолжил мистер Годфри, — никто никогда не соединяет эту тему — я плыл из Азии, по сторонам было то и то — с тем, когда человек великой славы, Помпей или еще кто-нибудь, взлетает на небо и видит под ногами облака и тщету земной жизни. Это сулит большие риторические выгоды, да и Коринф так лучше видно.
— Видимо, потому, — отвечал викарий, — что там, куда они взлетают, уже нет нужды ни давать, ни выслушивать утешения.
— А мне всегда было жалко эту пастушку, — сказала Джейн, — не знаю почему.
— Думаешь, ей что-нибудь грозит? — спросил Роджер. — Будь она гобеленом, ей следовало бы опасаться моли — потому на гобеленах и принято изображать одного человека в восьми местах, — а так худшее, что с ней может случиться, это потемнеть больше, чем за первые двести лет. Мы, смертные, можем ей только завидовать. Впрочем, и нам в этом отношении обещают перемены к лучшему, и если викарий позволит мне продолжить…
— Конечно, — сказал викарий.
— Сии драгоценные обетования, — продолжил Роджер, — не только сопутствуют праведным в нынешней жизни, но и последуют за ними в их новую обитель. Узники надежды слышат слово Всемогущего: Я отниму их у власти гроба, Я выкуплю их у смерти; где твои язвы, смерть? где твое надменье, могила?
— Как утешительно это обещанье, — сказала мисс Робертсон, выходя из дома. — Бывают минуты, когда лишь оно примиряет с тем, что видишь вокруг себя.
— Добрый вечер, мисс Робертсон, — сказал Роджер. — Викарий сочинил проповедь о том, что смерти больше не будет, а потом пошел в библиотеку и остановился возле картины, чтобы в одиночестве подумать о сходстве между ней и нашими нынешними обстоятельствами. А у вас что хорошего?
— Меня удивляют люди, — сказала мисс Робертсон, — которые находят в этой картине что-то веселое, какой-то намек на беспечные радости. Где они это видят? Посмотрите, как темна листва, сквозь которую белеет мрамор, в какой безнадежной позе застыл этот молодой человек, чьего лица мы не видим; как потерянно опустила руки пастушка! Неужели это праздник?
— Кстати, о мраморе, — сказал мистер Годфри. — По-моему, на нем какие-то буквы, не могу разобрать.
— Я думаю, это просто тень от ветвей, — сказала Джейн. — Или трещины.
— Никогда не приглядывался, — сказал мистер Годфри. — Интересно.
— Это надгробие? — спросил Роджер. — Тогда место для праздника действительно неудачное. Так вот, если викарий…
— Конечно…
— На каких шатких основах, — продекламировал Роджер, — зиждут обманутые души свои упования на вечное блаженство? Они любят грех, затверживают его, как прилежный школьник, — они ждут вечной милости как чего-то, что им само собой полагается, — робкому шепоту совести они отвечают, что будет еще время для покаяния: жалкое утешение! в какую бездну муки погрузит преступных этот обман?
— Добрый вечер, — сказал инспектор, входя из сада.
— Викарий сочинил проповедь, — обратился к нему Роджер, — о том, что смерти больше не будет, и шел в библиотеку, чтобы справиться с источниками, но по дороге отвлекся на картину и задумался о том, что она нам говорит.
— Хорошая картина, — сказал инспектор.
— Интересно, о чем думает пастушка, — сказал Роджер. — Она ведь не видит волка?
— С той точки, где она стоит, — сказал инспектор, — нет, конечно.
— Я бы и сам его не заметил, — сказал Роджер, — если бы сэр Джон в свое время мне его не показал. Если не знать, так просто не увидишь.
— Да, сэр Джон разбирался в искусстве, — сказала Джейн. — Особенно в последние годы. В библиотеке лежит куча его выписок.
— Все-таки в ней есть что-то загадочное, — сказала мисс Робертсон.
— Один итальянский художник, — сказал Роджер, — имя которого я сейчас не вспомню, прославился тем, что на каждой картине помещал маленькую сову и наконец добился, что люди перед его полотнами начинали искать сову и не расходились, пока ее не обнаруживали. Конечно, это было непросто, ведь он водворял сову в неожиданных местах, то на плече у пахаря, то среди фигур на шахматной доске, то в чашке с бульоном на пиру у Ирода, то внутри другой совы, побольше, зато, когда люди находили сову, они улыбались друг другу с понимающим видом и говорили: «Здорово он ее запрятал, ничего не скажешь! Ну, пойдем теперь дальше».
— Зачем он это делал? — спросила Джейн.
— Из чистого озорства, — сказал Роджер, — или хотел сказать что-нибудь вроде «природа любит прятаться», ученым ценителям по нраву такие вещи; главное, ты вправе считать, что сова — именно то, что хотел тебе сообщить автор, и что ты хоть и потратил время, но все-таки нашел то, что он хотел сообщить. Старые добрые времена. Теперь не так.
— Скажите, викарий, — спросил инспектор, — что вы о ней думаете?
— Когда я смотрю на нее, — промолвил викарий, — то всякий раз вспоминаю одну легенду о том, как возникла живопись. Их много, но я вспоминаю эту. Согласно ей, живопись берет начало от лидийца Гигеса, который, сидя у огня, вдруг взял уголь и обвел на стене свою тень.
— Я читала о нем, — сказала Джейн. — Это он становился невидимым?
— Да, он самый, — сказал викарий.
— Тогда его можно понять, — заметил Роджер. — Поневоле начнешь обводить себя всякий раз, как увидишь.
— Жаль, ее нельзя спросить о том, что здесь произошло, — сказала Джейн.
— Для этого есть другие способы, — важно сказала мисс Робертсон.
— Вы же не имеете в виду спиритические сеансы, я надеюсь, — сказал мистер Годфри.
— Почему нет, — сказала мисс Робертсон. — Я знаю, многие относятся к ним свысока, считая, что они придуманы мошенниками для легковерных и что единственная духовная связь, объединяющая этих людей за столом, это их невежество…
— Особенно обидна в этом мнении, — прибавил мистер Годфри, — его глубокая справедливость.
— Сама я, правда, не участвовала в таких сеансах, — неколебимо продолжала мисс Робертсон, — зато много читала и знаю, что там никогда не раздалось ни одного неприличного слова или сообщения, способного оскорбить слух самой деликатной из дам. Так свидетельствуют люди, много лет посещавшие эти сеансы в разных странах и знающие, что к чему. Конечно, некоторые боятся, что злой дух может причинить им вред, но практика показывает, что не надо прогонять злых духов, достаточно спокойно объяснить им их истинную природу и указать им путь к самосовершенствованию.
— Остается жалеть, — сказал мистер Годфри, — что этого здравого способа никто не применял к устроителям спиритических сеансов.
— Жизнь, — сказала мисс Робертсон, твердо решившая ничего не замечать, — неизмеримо богаче, чем мы о ней думаем. Невидимый мир обступает нас со всех сторон. Стоит помнить об этом всякий раз, как соберешься что-нибудь сделать.
— Так можно ничего не сделать, — заметил мистер Годфри.
— Общение с духами, — отнеслась мисс Робертсон непосредственно к инспектору, — не раз помогало раскрыть запутанные преступления и узнать причины бедствий. Например, в одном доме в Америке слышался странный стук. Местные власти создали комиссию, которая провела в доме ночь, задавая вопросы и записывая ответы. Выяснилось, что это был дух лавочника, жившего в доме пять лет назад, пока его не убили из-за денег. Он сказал, как его имя и где его бухгалтерская отчетность. Комиссия спросила, можно ли наказать его убийцу, на что он печальным стуком ответил, что нельзя. Из этого сделали вывод, что убийца уже умер. В другом случае одна англичанка, девушка строгой жизни, открывшая в себе способности медиума, получила внезапное сообщение от одного моряка…
— С седой брадой, огнем в глазах, — уточнил Роджер.
— Владелец корабля угрожал ей судом, — продолжала мисс Робертсон, — но потом стало известно, что корабль действительно утонул.
— Я тоже слышал о таких вещах, — с одушевлением сказал Роджер. — В доме, где произошло убийство, один человек, всегда вовремя плативший молочнику, явственно видел призрака. Это был мужчина среднего роста, в серых брюках, черном сюртуке и черной кепке, с цветком в петлице. Свидетели уверяли, что при жизни призрак носил черный сюртук и светлые штаны, но без цветка; о чем это нам говорит, неизвестно. А одна девушка, тайно от матери увлекшаяся медиумизмом, однажды записала сообщение от своего покойного отца, доктора канонического права, сельскохозяйственного химика и члена различных ученых обществ; он открыл ей много всего, а чтобы подтвердить, что это действительно он, — среди сельскохозяйственных химиков встречаются люди редкой добросовестности — велел ей взять на такой-то полке энциклопедию и открыть на странице 749: она-де найдет его имя, записанное там, где не видела его прежде. Она открыла книжный шкаф, которого никто не открывал много лет, и нашла имя отца на странице 749, в статье «Сколопендра», хотя раньше никак не думала, чтобы он имел к этому какое-то отношение. Она тотчас позвала мать, рассказала ей все, и они обнялись и плакали, глядя на статью «Сколопендра». В жизни много трогательного.
— Послушайте, — сказал мистер Годфри, — каждый, у кого есть глаза, читал что-то подобное и каждый, кто наделен слухом, об этом слышал. Будьте милосердны, дайте покой этому кладбищу бессмысленных знаний, иначе мы конца не увидим правдивым историям, как на одном сеансе по воздуху носилась тонкая женская рука, вся в перстнях, столярные инструменты выбрались из шкафа и ползали по чьему-нибудь телу, а пролетевшая гитара ударила в лоб корреспондента местной газеты, из-за чего ей потом завидовал весь город… По-моему, уже достаточно.
— И еще гикающие звуки, издаваемые духами индейцев, — сказала Джейн. — Сперва они ведут себя удивительно скромно, стучатся в дверь, спрашивая, можно ли войти, а потом начинают гикать по всему дому, в таких местах, где даже подметать трудно, не то что гикать. Мистер Годфри прав. Это все не так увлекательно, как ожидаешь, зато потом так стыдно…
— А ты участвовала в чем-то подобном? — с интересом спросил Роджер. — В самом деле?
— Я бы не назвала это сеансом в собственном смысле, — сказала Джейн, раскаиваясь в своей опрометчивости. — Конечно, если считать, что долгие сборы, программки, лимонад в буфете и множество кашляющих людей уже составляют оперу, то, безусловно, это был сеанс, но есть люди, которые с таким определением оперы…
— Расскажи, не увиливай, — настаивал Роджер. — Похоже, ты здесь одна с таким опытом.
— Это будет поучительно, — поддержала мисс Робертсон.
— Ну, — неохотно начала Джейн, — кузина Бет решила это устроить у себя дома. Она много слышала об астральных телах, уровнях существования и перекрестной переписке и решила, что справится с этим. Она позвала двух своих подруг и меня. Вообще-то она обещала пирожные с глазурью, и когда я пришла, то уже нельзя было сказать, что мне плохо и у меня дела. Она страшно боялась, что ее мать узнает, что мы тут совершаем поклонение в доме Риммона, и оттого все было обставлено с ужасной таинственностью. Они погасили свет, потому что он создает помехи для вибраций, поставили бамбуковый столик и сели вокруг него, и у них сразу стало покалывать в пальцах, и кто-то стал хватать их сзади за шею. Кузина Бет сказала, что чувствует, как вокруг них концентрируется сила, а обе подруги кузины Бет начали повизгивать, но тихо, чтоб не мешать вибрациям. Тут кто-то начал толкаться в столик, а кузина Бет принялась задавать ему наводящие вопросы. Она спросила, дух ли он покойного; он сказал, что да. Друг ли он нам? Да. Подруги кузины Бет, полагавшие, что у них нет знакомых дальше Дансфорда, приободрились. Рад ли он нам? Дух замялся; чувствовалось, что вежливость борется в нем с искренностью. Хочет ли он нам чем-то помочь? О да, сказал дух, это его живейшее желание. Чем именно? Тут столик, по-моему, попытался простучать увертюру из «Ифигении в Авлиде», не сумел и совсем сконфузился. Кузина Бет проявила удивительный такт и упорство, чтобы его разговорить. Стук опять начался, кузина Бет заговорила с ним как со старым знакомым, но он держался холодно и сказал, что не имел такой чести… Разве не с ним мы говорили только что, спросила она. Столик сказал, что нет. А кто это был? Один джентльмен из Общества парапсихологических исследований, он и после смерти не может успокоиться и прекратить просветительскую деятельность. А ты кто? Столик сказал, что его зовут Понго, что это долгий разговор и лучше бы они пользовались доской Уиджа. Все приличные люди пользуются доской Уиджа. Кузина Бет сказала, что у нее тоже есть и сейчас она за ней сходит. Так-то лучше, сказал столик. Обе ее подруги смотрели на нее с гордостью. Она принесла доску, и этот столик, именующий себя Понго, сначала немного путался в буквах, но быстро освоился. Я думаю, что у них там есть обязательные курсы и что он на них брал смышленостью, а не усидчивостью. Пока они разбирались с доской, столик начал сильно стучать, и кузина Бет спросила Понго, зачем он это делает. Понго сказал, что это не он и что есть такие бесцеремонные люди, которые влезают в чужой разговор без спросу. Кузина Бет спросила, много ли сейчас вокруг него народу. Понго отвечал, что здесь темно, точно не скажешь, но он по опыту предполагает, что человек двести и что сейчас кто-то хватает его сзади за шею. Тогда она спросила у столика, кто тут еще есть. Столик отвечал, что это Наполеон. Кузина Бет сказала, что очень рада его приветствовать у себя в столе, а по лицам обеих подруг было видно, как они судорожно вспоминают, в каком году была битва при Ватерлоо, чтобы не опозориться. Надеюсь, им удалось. В таких обстоятельствах обычно лезет в голову Людовик Святой под дубом. Понго сказал, чтоб мы не беспокоились, это обычные помехи и сейчас он всех выгонит. Кажется, он немного ревновал. Но Наполеон был такой милый, что кузина Бет попросила, пусть Понго оставит его в покое и лучше расскажет немного о себе. Тот сказал, что его полное имя Понгарелли и он был акробатом в Италии в эпоху Возрождения, нес людям радость в ярмарочные дни, а потом влюбился в одну прекрасную девушку и она полюбила его, но она была дочерью одного римского герцога и ее родители никогда не дали бы согласия на их счастье. Но тут в Риме началась знаменитая чума, люди начали умирать, и он вымолил у своей любимой согласия бежать с ним во Флоренцию, чтобы не погибнуть; они бежали, но во Флоренции она заболела и умерла, а перед смертью взяла с него обещание, что он найдет ее на том свете, чтобы они были счастливы в мире без чумы и родственников; и он обещал ей это, и похоронил ее на последние деньги, а сам поехал в Лукку и сел там на корабль, чтобы покинуть страну и в скитаниях избыть свое горе, но корабль утонул, едва выйдя из гавани. С тех пор в загробном мире он ищет свою возлюбленную и не может найти, а пока служит другим духам проводником и толмачом, дабы искупить свои грехи. Это была очень печальная история, обе подруги кузины Бет плакали. Тут Наполеон спросил, какого это герцога была дочь. Понго осведомился, говорил ли он уже о людях, имеющих обыкновение влезать в чужой разговор. Наполеон сказал, что во время великой чумы бежать во Флоренцию — это, несомненно, прекрасная мысль и что человек, способный на такие идеи, заслуживает похвалы, если не проносит ложку мимо рта. Понго отвечал ему очень высокомерно, что он сухой человек, которому не понять влюбленных, и что лучше бы ему заниматься своей артиллерией. Наполеон согласился, что ему многого не понять, а особенно — как можно утонуть в таком месте: он-де был в Лукке, когда ездил в гости к сестре, так там нет моря и даже реки приличной нет, и что это вообще за имя — Понгарелли: так никого не зовут или только цирковых лошадей. Мы чувствовали себя неловко, а Понго вдруг замолчал. Мы уже думали, что сеанс кончился, но кузина Бет сказала, что сейчас его вернет и что всего можно добиться практикой и концентрацией; Наполеон это подтвердил. Понго вернулся и сказал, что все в порядке. Кузина Бет спросила, где он был. Он отвечал, что разгонял людей, которые мешают нашему разговору, и что примерно сто человек ушло, а остальные еще здесь. Наполеон заметил, что для ярмарочного акробата у него удивительная тяга к камерности. Тут Понго обратился с горячей благодарностью к небу за то, что оно послало ему в этом доме понимающие сердца и снабдило их доской Уиджа, без которой он не мог бы излить свое сердце со всей полнотой. Наполеон сказал, что он ведет себя как торговец этими досками на рождественской распродаже. Понго пытался его перебить, но Наполеон совсем разошелся и сказал ему, что он жалок, он ведет себя как те духи, которые в чужих домах играют на аккордеоне и пристают ко всем с просьбами читать молитвы о смягчении их загробной участи, как будто здесь общество добровольного сочувствия осужденным. Понго только раскрыл рот, как начался стук в дверь; я подумала было, что это те сто человек, которые ушли, но кузина Бет поняла, что это ее мать, и спохватилась, что у нас тут дом Риммона; словом, тут все и кончилось.
— Какая прелесть, — с тихим упоением сказал Роджер.
— Если вы спросите меня, — твердо начал викарий, — я решительно против всего, что хотя бы отдаленно напоминает спиритические сеансы. Я не меньше любого из вас скорблю о бедной Эмилии и хочу, чтобы преступник был найден и предан суду, но у нас есть для этого человеческие средства. Это не оттого, что я по должности читаю проповеди об Эндорской жене, имевшей близкого духа, или считаю такие занятия чистым мошенничеством: нет, не считаю и именно поэтому призываю вас к ним не обращаться. Я не буду говорить о том, сколь безосновательна идея, что лишенные плоти существа непременно благоразумны и сильны; о том, что многие из духов, приходящих к нам, настолько неразвиты, что сами нуждаются в поучении, а другие даже и настолько, что не чувствуют нужды в нем; что высшие духи не станут спускаться с небес, чтобы уладить чью-то женитьбу или выбрать место для железнодорожных складов; что многие, кто потратил жизнь на общение с духами и, по общему мнению, добился в этом деле важных успехов, на краю гроба заклинали близких никогда и ни под каким видом не следовать их примеру: скажу лишь, что из одной осторожности не следует призывать силы, с которыми ты не способен справиться и которым не можешь внушить ни почтения, ни боязни. Если бы я не имел печального опыта в этом роде, я, может, высказался бы мужественнее или беспечнее; но, к сожалению…
— У вас есть опыт такого рода? — переспросил Роджер.
— Расскажите, пожалуйста! — воскликнула Джейн.
— Мне не хотелось бы этого делать, — отозвался викарий.
— Вы же понимаете, — с улыбкой заметил мистер Годфри, — что ваша речь была слишком решительной, чтобы согласиться с ней без живого примера.
— Хорошо, — сдался викарий. — Но имейте в виду, я плохой рассказчик, а эта история не из тех, которыми потчуешь каждого встречного. У меня не было возможности ее отшлифовать, так что будьте снисходительны.
Это было лет тридцать тому назад. Я кончил курс, приехал в Бэкинфорд и сделался помощником викария. Викарий был человек престарелый и благодушный; его экономка, миссис Мур (не нынешняя миссис Мур, а свекровь ее), питала ко мне материнскую приязнь; я скучал и коротал время, изучая итальянское влияние на нашу классическую поэзию. Среди немногих, с кем я сошелся коротко, был некий Сэмпсон, живший в Бэкинфорде безвыездно. Некогда школьный учитель в восточном Йоркшире, он получил небольшое наследство, частью которого был дом в здешних краях, и перебрался сюда, оставив службу. Несмотря на разницу в летах, он ко мне привязался, и мы виделись с ним что ни день, то в его доме, то у викария, где мне отведена была покойная комната. Сэмпсон был человек обширных сведений и резких суждений. Когда я, бросив прежние привязанности, зачитывался латинскими эклогами Саннадзаро, он смеялся над моим вкусом и без пощады разъяснял мне поэтические слабости моего нового любимца. В своих приговорах он доходил до крайностей, объявляя, например, самое мысль сделать рыбную ловлю фоном для любовных приключений на редкость непристойной. Тщетно я противился, указывая ему на благородную метафору охоты, которой не брезговал любимый им Платон, — Сэмпсон стоял на своем. Впрочем, из осуждаемых им эклог он щадил ту, где несчастный любовник стонет в пещере, а по заливу бродят с факелами его сотоварищи, и хвалил ее живописность.
Осевший в этих краях по случайности, Сэмпсон не выказывал желания их покинуть и занимался изучением местных древностей с усердием, в котором совестливый уроженец Бэкинфорда нашел бы для себя укоризну. Он знал об истории нашей церкви много больше меня и, полагаю, больше викария. Он любил говорить, что наши предки, благочестивые не меньше нашего, были много смелее в духовной области и с твердым любопытством исследователя смотрели на многие вещи, коих мы сторонимся с детской боязнью и суеверным отвращением; я смеялся и заклинал его не заговаривать о подобных предметах с викарием.
Однажды днем я застал его показывающего человеку, мне незнакомому, главное украшение нашей церкви, резные хоры пятнадцатого века. Думаю, вы их хорошо помните. На спинках вырезаны высокие трилистные арки, а в проемах между ними — человеческие лица, среди которых много гневных и ни одного приветливого. По преданию, это ангелы Страшного суда. Их по двенадцать с каждой стороны; усердие мастера придало каждому взору особое выражение и каждому рту свои очертания. Я кивнул Сэмпсону издалека. Странным мне показалось, что, несмотря на ученость и обычную словоохотливость моего приятеля, я не слышал ни звука их разговора, словно они бродили вдоль хоров молча.
Вечером я навестил Сэмпсона и между прочим спросил, что за человек был с ним нынче в церкви. «Один старый знакомый», — небрежно отвечал он. Я не стал настаивать. Разговор тянулся вяло. Сэмпсон спросил, как продвигаются мои итальянские изыскания; я начал рассказывать… Вдруг Сэмпсон оборвал меня вопросом, не хотелось ли мне однажды бросить весь этот вздор и отыскать иное знание, способное дать истинную власть над вещами. Озадаченный, я спросил, имеет ли он в виду «те чудеса, что волшебство свершит» или хочет проповедать новые достижения положительной науки, еще не добравшиеся в наши края. Сэмпсон отмолчался. Я собрался уходить. На его столе я увидел лоскут бумаги, на котором быстрым почерком было записано: «Quae ad septentrionem sunt, ad evocandum proferuntur, quae autem ad meridiem, ad remittendum. Caute age».
— Что это значит? — спросила Джейн.
— То, что с севера, произносят, чтобы вызвать, — перевел мистер Годфри, — то, что с юга, — чтобы выпроводить. Будь осторожен.
— Ничего себе, — пробормотала Джейн.
— Ниже, — продолжал викарий, — было пририсовано нечто такое, что я приписал смелому воображению Сэмпсона или попытке запечатлеть дурное сновиденье. Приметив мой взгляд, Сэмпсон смял и убрал бумагу. Он провожал меня с видимым облегчением.
Поутру миссис Мур жаловалась, что ей всю ночь снились кошмары, что в трубе что-то выло — «как есть неприкаянная душа, если, конечно, позволительно в них верить» — и что ей духу не хватает сказать викарию о пропаже простыни. С утра у меня была что-то тяжелая голова: я вообразил было, как некто из воровского тщеславия проникает в дом, чтобы украсть простыню из-под викария; оказалось, однако, что миссис Мур вывесила ее сушить на заднем дворе, а когда вернулась ее снять, не нашла. Я сказал, что, верно, ее сорвало и что она непременно отыщется. «Дай-то Бог, — сказала миссис Мур, — это ведь одна из простыней его покойницы жены; не знаю, как и сказать ему об этом. А все оттого, что кругом водят кого не надо», — прибавила она с неожиданным ожесточением. Я спросил, о чем это она. «Да этот ваш Сэмпсон, — сказала она, — и тот немой, что к нему приезжал». — «Немой?..» — «Тот приезжий, которому он все показывал в церкви. Сам привез его со станции, сам отвез обратно, везде его водил и плясал вокруг него, как вокруг майского дерева, прости меня Господи. Они объяснялись знаками, разве вы не видели? Битый час ходили вдоль хоров, а этот человек все приглядывался к нашим ангелам, кивал и записывал в книжечку, уж не знаю, что. Хорошо еще, я не сказала ничего лишнего, пока они были неподалеку, а то ведь немые читают по губам». Я пытался оправдать Сэмпсона, говоря, что не думает же она в самом деле, что Сэмпсон водится с людьми, способными украсть со двора у викария мокрую простыню, но миссис Мур стояла непоколебимо в своих подозрениях. Вопросы, по которым не высказался викарий, она считала свободными от христианства и подлежащими рассмотрению лишь с позиций правдоподобия и вероятности.
Я не видел Сэмпсона дня три и совсем забыл о нем; у меня были свои дела, да и казалось, что я начинал его тяготить. Но однажды под вечер он пришел сам. Шумные его приветствия и оживленность речей показались мне странными и напускными. Он не раз отвлекался от беседы, погружаясь в раздумья, и, очнувшись, словно с усилием припоминал, что он тут делает.
«Скажите, что вы помните о Валерии Соране?» — спросил он без всякой связи с предыдущим разговором.
«Что его ученость хвалит Цицерон, — отвечал я, — и что Августин цитирует из него два стиха, когда хочет осудить понятие язычников о единстве божества».
«А о его смерти?»
«Подождите минуту, — сказал я и взял из шкафа том Сервия. — Да, по решению сената он был подвергнут позорной казни, несмотря на свой трибунский сан, за то, что вопреки запретам разгласил тайное имя Рима. Это было неблагоразумно, поскольку давало врагам возможность вызвать божество, покровительствующее городу, как поступали сами римляне при осаде городов: Макробий говорит, что читал подобное заклинание в пятой книге „Res reconditae” Серена Саммоника».
«Да, конечно, — сказал Сэмпсон, слушавший меня с явным нетерпением. — А нет ли других рассказов о его смерти?»
«Говорят, что его казнил Помпей, которому тот попал в плен на Сицилии, — сказал я, перелистывая Сервия, — если это тот самый Валерий. Во всяком случае, Помпея сильно осуждают за выказанное им коварство».
«Это не то, — сказал Сэмпсон. — Я имею в виду, не сказано ли где, что Сорана преследовала и настигла… не совсем человеческая рука?»
«Вы хотите сказать, не отомстило ли почтенному антикварию растревоженное молчание? — спросил я, озадаченный и вопросом, и серьезностью тона. — То божество, что изображали с перстом, приложенным к губам?.. Кажется, никто этого прямо не утверждает, но я могу справиться…»
«Спасибо, — оборвал он меня, — не стоит; это праздный вопрос. Мне пора».
Перед дверью он замялся и попросил выпустить его черным ходом. Я проводил его и вернулся к себе. Странный разговор не шел у меня из головы; читать не хотелось; наконец я рассердился на себя и, решив заставить себя заняться делом, сел записать кое-какие мысли, касающиеся моего исследования. Уже совсем стемнело. Дойдя до строк: «…и если мы видим в его поэзии этот повсюду разлитый ясный дух несколько иронического любопытства и несколько насмешливого сочувствия, нельзя забывать о том, что…», я поднял голову. В саду мелькал какой-то свет. Я встал и прижался лицом к окну. Между яблонями виден был человек. Я узнал Сэмпсона. Держа фонарь высоко над головой, он на одной ноге тяжело прыгал вокруг яблони; свет колебался, ударяя в разные углы сада. Таким манером он сделал несколько кругов; я смотрел на него как завороженный. Он огляделся, махнул фонарем и несколько раз нараспев произнес одну короткую фразу на языке, которого я не узнал, а потом, прокричав что-то (мне послышалось «уходи»), бросился бежать в сторону церкви. На минуту сад остался пустым. Я еще стоял, прижавшись к окну. Помню, в это мгновенье я отчетливо понимал, что мне не следует этого делать и что, оставаясь здесь, я навлекаю на себя нечто, о чем пожалею. В саду было совсем темно. Я было решил, что человек или животное, преследовавшее Сэмпсона, ушло назад. Вдруг в глубине сада, у корней яблони, что-то забелело. Я пригляделся. Это была простыня. Не знаю, в какой момент она там появилась. Я решил, что ее занесло сюда ветром и что надо сказать об этом миссис Мур. Тут простыня начала двигаться. Она выгнулась горбом, словно гусеница, и опять опала. Когда она распластывалась по земле, я мог поклясться, что под ней ничего нет. В несколько приемов она приблизилась настолько, что я различал на ее краешке монограмму покойной жены викария. Простыня, тихо ползущая по ночной росе, — это было почти смешно. В очередной раз, когда она приподнялась особенно высоко, я увидел под ней человеческие очертания — руки, плечи, голову. Что-то в этом человеке было не так; я никогда не видел такого, да и простыня мешала понять, в чем дело, но наконец я сообразил. Его лицо было вывернуто к лопаткам. Я видел, как простыня втягивалась и опадала на том месте, где у него был рот. Она снова рухнула, уткнувшись краем в корни той яблони, вокруг которой скакал Сэмпсон. Минуту она лежала тихо — казалось, она обнюхивает землю, — а потом свилась жгутом и с неожиданной быстротой, извиваясь, всползла на дерево. Тут я услышал стук в дверь и оглянулся. В следующее мгновение простыня пропала; тщетно я ее искал; сад лежал темный и тихий.
За дверью была миссис Мур. Она пришла спросить, не видел ли я, куда викарий подевал очки и черновики своей проповеди (он собирался говорить на стих «Вот, это будет тебе покров для очей пред всеми»; женские моды его беспокоили, он хотел укорить их прихотливость). Я поторопился ее выпроводить и запереть дверь. Я не мог совладать с собою, отказывался верить своим глазам и боялся не верить своему разуму. Насилу я опомнился. Поутру я отправил Сэмпсону записку с каким-то мальчишкой, справляясь, все ли у него в порядке. Он кратко отвечал, что все хорошо.
Через несколько дней мне пришло письмо от Харрингтона, известного всякому, кто интересовался историей оккультного знания. Он помнил меня по Оксфорду. Зная обычную его церемонность, я удивился небрежному слогу его письма. Он писал, что такого-то числа приезжает в Бэкинфорд по настойчивому приглашению Сэмпсона; что, зная о Сэмпсоне лишь то, что было очевидно из его письма, он не принял его всерьез, однако в новом письме Сэмпсон сделал несколько намеков на вещи, важность которых мало кто мог оценить так, как Харрингтон; что Сэмпсон упоминал обо мне и потому он, Харрингтон, рассудил за лучшее справиться у меня, что это за человек и как к нему следует относиться. Трудно было понять, тревога ли затронутого честолюбия сквозит в его тоне или что-то иное. Я тотчас ответил ему, представив Сэмпсона как человека серьезного и без склонности к розыгрышам.
До назначенного дня я не видал Сэмпсона и не слышал о нем. Поутру прибежал мальчик с запиской, в которой Сэмпсон спрашивал, не списывался ли со мной Харрингтон и не приехал ли он. Я отправил с мальчиком ответ и сел за работу перед отворенным окном. Вскоре на мой письменный стол упала тень. Я поднял голову: у окна стоял Сэмпсон, белый как полотно; костяшки пальцев, ухватившихся за подоконник, были у него сбиты до крови. «У меня не получается, — хрипло сказал он. — Я не могу… не могу его отвадить. Слова не действуют. Надеюсь, Харрингтон успеет». «Кого отвадить?» — спросил я. «Поторопите Харрингтона, — сказал Сэмпсон, не слушая, — ради Бога, если он придет к вам, поторопите его». Он оглянулся, пригнулся и побежал.
Я кинулся вон из дома. У калитки остановила меня миссис Мур с вопросами о том и о сем и городскими новостями. Не могу сказать, сколько раз я согрешил тяжелыми грехами за время нашего разговора, безмолвно проклиная в ее лице всех, кто появляется некстати. Наконец я отделался от нее и опрометью бросился к жилищу Сэмпсона, забывая о приличиях, народном мнении и достоинстве своего сана. Когда показался его дом, дурное предчувствие сжало мне сердце. Я остановился. Какой-то человек вывалился из дверей и схватил меня за руку. Это был Харрингтон. «Боже мой, Боже, — сказал он. — Это… это ни с чем не сравнишь. Не ходите туда. Где тут у вас можно выпить?» Я отвел его к «Спящему пилигриму»; по дороге он сообщил мне, что Сэмпсон мертв: «Если, конечно, это он, я ведь его раньше не видел; опишите мне его — впрочем, не надо, сейчас его по вашему описанию не узнаешь — о Господи, Господи». Я оставил его в «Пилигриме» и вернулся к дому. Тело уже увезли, вокруг стояло и переговаривалось несколько любопытных, в сомненье, стоит ли расходиться или будет еще что-нибудь. Я прошел внутрь; никто меня не останавливал. Белый лоскут валялся на полу, я его поднял; это был оторванный клок простыни с монограммой. В камине, похоже, жгли какие-то бумаги. На столе грудой лежало несколько старых кэмденских изданий. Я взял верхнюю книгу; в ней была загнута страница с фразой, подчеркнутой карандашом: «Hoc modo quem Dominus dereliquerit, ille custodit cui derelictus est».
— А это что значит? — спросила Джейн.
— Так оставленного Господом сторожит тот, кому он был оставлен, — перевел мистер Годфри.
— Вот как, — сказала Джейн.
— Прошло полгода, — продолжал викарий, — я начал забывать о несчастном Сэмпсоне. Занятия мои продолжались, я взялся за «Opera inedita» Мортона, рассчитывая найти в заметках этого любознательного епископа кое-что о сонетистах елизаветинской поры. Я листал книгу и вдруг увидел название Бэкинфорда. «Около 1540 года, — писал Мортон, — несколько молодых людей, разгоряченных религиозной ревностью и вестями из окрестных городов, решили доставить Бэкинфорду зрелище иконоборства, в котором ему так долго отказывало постыдное равнодушие их сограждан. Вооруженные топорами и баграми, уверенные в значительном числе сторонников, которых найдут среди народа, они отправились в церковь и успели нанести несколько ударов по прекрасным хорам, украшенным резными изображениями ангелов, однако местный священник, сохранивший присутствие духа, смутил их рвение цитатой о херувимах Соломонова храма, простиравших свои крылья над местом ковчега, и уговорил не делать зла сверх уже совершенного. К счастью Бэкинфорда, такое зрелище было ему дано в первый и последний раз. Революция, истребившая многое, пощадила бэкинфордскую церковь: ее скромная известность не навлекала на нее недоброе внимание людей, склонных искать новой славы в уничтожении старой, а сами граждане Бэкинфорда, просвещенные или осторожные, не произвели ни своего Генри Шерфилда, ни Уильяма Спрингетта, ни кого-либо из породы людей, рожденных давать примеры проповедникам и наполнять печалью любителей художества. В 1690-х годах антикварий Джеймс Торр, с неутомимым любопытством объезжавший эти края, видел хоры в поврежденном состоянии и оплакивал эту порчу; восстановление их, относящееся, как можно судить, ко временам королевы Анны, совершено не в первоначальном виде. Несколько ангелов южной стороны, невосстановимо поврежденных, были вырезаны заново по образцу соседних или вовсе произвольно. Впрочем, восстановление это произведено с такой тонкостью и пониманием, что современный посетитель бэкинфордской церкви, не знающий, что старый мастер придал этим ангелам иное выражение, может наслаждаться ими как работой полулегендарного Томаса Испанца. Об этом незаурядном ваятеле, которому Бэкинфорд обязан главной долей своей известности, мы не знаем почти ничего, кроме двух-трех басен, объясняющих блистательную смелость его работ близким знакомством с нечистой силой; его появление на островах, равно как несколько заказов, выполненных в том же стиле в церквях южной Шотландии, можно лишь предположительно связывать с посольством Мартина де Торре в 1489 году. Остается надеяться, что будущие разыскания прольют свет на эту замечательную фигуру: сведения о нашей древности, даже самые скудные, сторицею вознаграждают усилия, издержанные на их приобретение».
— Это все? — спросила Джейн в наступившем молчании.
— Да, — сказал викарий, — это все.
— Припоминаю, — сказал мистер Годфри, — что слышал нечто подобное от нынешней миссис Мур. Вместо простыни, правда, там действовали разбойники, приехавшие эксетерским поездом, и вообще мне показалось, что миссис Мур колебалась между несовместимыми стремлениями вывести из рассказа мораль и не отпугивать от города приезжих, но в целом она удовлетворительно сохранила канву.
— Никогда больше не пойду на спиритические сеансы, — сказала Джейн. — Хотя, правду сказать, я не совсем поняла, что случилось с Сэмпсоном.
— Да там все просто, — отозвался Роджер. — Я потом тебе объясню.
— А что решили присяжные насчет смерти Сэмпсона? — спросил инспектор.
— Да, я забыл сказать, — отвечал викарий. — Ходил, кажется, слух, что они сочли это карой Божьей, но я не уверен, что присяжные компетентны высказываться на этот счет. А теперь, с вашего позволения, я пойду в библиотеку.
— Пожалуй, я тоже, — сказал инспектор. — Там есть что-нибудь по истории Бэкинфорда?
— Довольно много, — сказал викарий. — Сэр Джон собирал такую литературу. Кажется, даже делал из нее выписки.
— В основном вздор, разумеется, — прибавил мистер Годфри.
— Спасибо, мне подойдет.
— Скажи, — спросила пастушка, — что такое эта опера, о которой я не впервые слышу? Похоже, это развлечение из самых любимых.
— Сам я ее не видел, — отвечал волк, — но, сколько я понимаю, суть именно в том, что это не мешает судить об опере. Человек может преспокойно остаться дома, заниматься вздором и твердо знать, что нынче дают пьесу, которую ставили вечерами еще на Ноевом ковчеге, что стиль ее пресен, а поэзия невыразительна, что там нет ни действия, ни занимательности, что в ней танцуют люди, менее всего созданные для этого занятия, а боги сходят с небес исключительно ради того, чтобы сказать или сделать глупость, что Тевенар совсем сдал, а Пелисье хороша только в пантомиме, и тому подобное. В общем, если кому-нибудь понадобится показать могущество человеческого духа, способного во всех подробностях представить то, чего он не видит, пусть вспомнит об опере и будет уверен, что лучшего примера ему не найти. Прибавь к этому, что, если на сцене появляется лицо, хоть сколько-нибудь похожее на историческое, зритель распоряжается им самым деспотическим образом: он ставит себя на место Кира и Помпея, запасшись хладнокровием, на которое они не были способны, и пренебрегая их обстоятельствами и страстями; он выносит приговор, не задаваясь вопросом, было ли у них время на размышление и позволяло ли их душевное состояние продумать хоть одну мысль до конца, и не смущаясь тем соображением, что Кир и Помпей, в отличие от него, не читали книг, сообщающих, что с ними было дальше. Главные тяготы, ожидающие историческое лицо, начинаются обычно после его смерти, о чем яснее ясного свидетельствует то, что вышло между г-ном де Бривуа и двоюродным дедом епископа.
— Это еще одна из историй, что произошли в три недели, пока меня не было? — спросила пастушка.
— Да, — сказал волк, — и весьма занимательная. Если позволишь, я ее расскажу.
Епископ звал г-на де Бривуа к себе. Г-н де Бривуа думал уклониться и послал епископу письмо с уверениями, что на расстоянии он лучше, но епископ настаивал. Г-н де Бривуа нехотя собрался и выехал из поместья. Относясь к епископу, как к Богу, то есть нетвердо помня, когда и по какому поводу он с ним последний раз общался, г-н де Бривуа не понимал, для чего мог ему понадобиться, и гадал об этом всю дорогу меж тихих полей, над которыми взвивался и пел жаворонок.
Епископ принял г-на де Бривуа в своих покоях. За окном тянулся стриженый сад, на стене родословное древо епископа мощно вздымалось из чресл какого-то утомленного человека, который взирал на вошедшего г-на де Бривуа без одобрения. Епископ заговорил печально. Он сказал, что о досуге г-на де Бривуа приходят странные вести. Г-н де Бривуа безмятежно откликнулся, что молве свойственно преувеличивать, ибо ближайшие видят и слышат, те, кто подальше, только видят, а сказанное домысливают, мнение же отсутствовавших преимущественно основывается на том, что домыслено; так, когда Юлий Цезарь на сходке, умоляя солдат быть верными, указывал на свой перстень — он-де готов отдать его всякому, кто защитит его честь, — задние ряды решили, что он сулит всем всаднические кольца и приличествующее этому сану состояние, хотя тот и во сне не думал давать такие обещания. Г-н де Бривуа не дерзает равнять себя с Цезарем, победителем мира и усмирителем смуты, ни в чем, кроме одного — оба они пали жертвой недобросовестной молвы, которая и человека, свободного от вины, делает не свободным от подозрений. Епископ осведомился, числит ли г-н де Бривуа среди деяний, сравнимых с Цезаревыми, предпринятую им в прошлом месяце осаду монастыря визитанток. Г-н де Бривуа сказал, что, по совести, происшедшее нельзя считать правильной осадой; что если бы он в самом деле взялся осаждать монастырь, то стал бы лагерем на овсяном поле, вырыл траншеи, овладел контрэскарпом и заложил мины, всячески делая вид, что собирается начать атаку в другом месте, позаботился добыть план осажденного монастыря и что ни день посылал туда лазутчиков, во всем выказывал быстроту, твердость и предусмотрительность и обедал в палатке с отдернутым пологом, а в конце даровал бы прощение всем находившимся в монастыре во время осады (они ведь за этим туда и собрались) и позволил визитанткам покинуть обитель как положено, под барабанный бой, с развернутыми знаменами и фитилями, подожженными с обоих концов; только в таком случае, подытожил г-н де Бривуа, это можно было бы считать правильной осадой, и то если пренебречь суждением знатоков, которые считали бы безусловно необходимым, чтобы настоятельница произносила речи, укоряя своих сподвижниц в безрассудстве и опрометчивости и призывая вспомнить, что на них смотрит вся Галлия, ждущая избавления от рабства греху. Епископ сказал, что долгое время не предпринимал никаких действий в отношении г-на де Бривуа, уповая, что добрая природа и здравый смысл вернут его на путь спасения, однако вынужден со скорбью признать, что он переоценивал добрую природу г-на де Бривуа и не постигал всю меру его строптивости, наполненную и утрясенную; что ему, епископу, довелось на своем веку видеть многих людей, коих богатая одаренность, не руководимая разумом, гибла под собственной тяжестью; что г-н де Бривуа любую снисходительность со стороны церковных властей склонен понимать как попустительство; что пастырь, не заграждающий пути бесстыдству и разврату, делается в глазах Господа их соучастником и что он, епископ, меньше всего хочет на Страшном суде разделить вину и кару г-на де Бривуа. Господь, напомнил епископ, дал ему жезл железный с наставлением пускать его в ход после того, как все иные способы увещевания будут исчерпаны. Г-н де Бривуа забеспокоился. Он взглянул на родословное древо епископа, зловещая тень которого вдруг налегла на его беспечное бытие. Он хорошо представлял семейные связи епископа и его готовность ими пользоваться, чтобы оценить, сколько и каких прогневленных богов может опрокинуть на его голову этот громоздкий механизм. Г-н де Бривуа решил, что пришло время смирения. Он признал, что мог впадать в грехи более или менее тяжелые, не будучи в этом отношении выключен из обыкновений естества, однако всегда оставался тем же, кем был, то есть верным сыном церкви, готовым вернуться к родительскому порогу и уповающим на материнскую любовь и прощение. Епископ спросил, понимает ли г-н де Бривуа, что посещать монастырь в той манере, как он это делает, — уже не шутки, а поступок, могущий иметь весьма и весьма важные последствия. Г-н де Бривуа, наклоня голову, отвечал, что понимает. Епископ спросил, можно ли рассчитывать, что г-н де Бривуа относится к своему раскаянию всерьез, а не просто удивляется чувству, которого не привык испытывать. Г-н де Бривуа отвечал, что епископ может рассчитывать не только на искренность, но и на длительность его чувства. Епископ сказал, что рад это слышать и что в таком случае у него есть к г-ну де Бривуа одно дело, которое будет тем, чем ему заблагорассудится его счесть — просьбой, поручением или свидетельством доброй воли. Г-н де Бривуа внимательно слушал. Епископ объяснил, что думает поручить ему сочинение, которое не только заградит уста всем злословящим г-на де Бривуа, но и обещает ему истинную славу, как по величию своего предмета, так и по блеску и приятности слога, отмечающим произведения г-на де Бривуа. Он, конечно, слышал о его, епископа, двоюродном деде. Зависть, суетность и неблагодарность причиною, что этот человек подвергается опасности кануть во тьму, где обретаются герои, бывшие до Агамемнона, и все, чья доблесть не нашла себе достойного певца. По совести, сказал епископ, за эту работу он должен был взяться сам, однако в сем случае он похож на человека в летах, которому в качестве награды за былую службу дали губернаторство в пограничной крепости: клонимый к покою, он вынужден оказывать несвойственную его возрасту неутомимость, не спать ночами, держать солдат и горожан в строгости, следить за ними и обходить дозором стены; давно забывший военную пылкость, при виде сильной армии, облегающей его крепость, траншей, что прокладываются с поразительной быстротой, при звуке множества орудий, что грохочут беспрерывно, он теряется и начинает делать глупости, достойные юнца; исправною службой заслужив завидную честь, он вкушает ее отравленную неотступными заботами, сам себе напоминая Финея, чью трапезу сквернят безжалостные гарпии. Его смущает как огромность труда, почти неодолимая для человека с его кругом повседневных попечений, так и воинское поприще, на котором пожал лавры его дед и о котором епископ не имеет навыка судить. Между тем от его деда, благодарение Богу, осталось много бумаг, в коих ясно изображается его жизнь, и если только г-н де Бривуа возьмется… Г-н де Бривуа обещал. Епископ простился с ним благосклонно. Г-н де Бривуа ехал домой, не зная, следует ли ему смеяться над собой или скорбеть над своими обещаниями. Из города он увез молоденькую кружевницу, прельстившись ее голубыми глазками и ласкаясь мыслью видеть в ней трофей, отбитый у кичливого владыки.
На другой день к воротам его дома привезли три тяжелых короба с архивом деда епископа. Г-н де Бривуа велел епископским лакеям отнести их в чулан, чтобы не попадались на глаза, а сам отправился к кружевнице, поселенной им в садовом павильоне, который ему нравилось называть охотничьим домиком. Там у него была спальня, которую он ради самопознания разубрал зеркалами. Несколько дней проведя в этих занятиях, г-н де Бривуа понял, что забыть хотя бы на время обещание, данное епископу, ему не удастся и что благоразумнее какую-то часть дня пожертвовать этому труду, чтобы мысль об этом не отравляла ему ежедневного удовольствия. Он отправился к коробам, ждавшим его в чулане. Количество бумаг, лишенных всякого порядка и описи и крепко пахнущих мышами, его ужаснуло. Он проклял епископа, поскупившегося нанять писаря для черновой работы, и впервые усомнился в своей способности обтесать этот хаос. Занятый невеселыми раздумьями, он был настолько неосторожен, что позволил кружевнице заметить свою рассеянность и узнать ее причину. Г-н де Бривуа доселе не пожелал изучить то искусство, без которого все прочие не могут существовать, именно искусство применяться к обстоятельствам, и легкомысленно относился к женскому самолюбию, потому что в сельском уединении привык задевать его без важных последствий, но на этот раз вышло иначе. Однажды поутру, сопровождаемый своей любимой собакой, которую он звал Боссюэ, потому что она изгрызла у него том сочинений Фенелона, г-н де Бривуа отправился в монастырь, чтобы помочь брату Жаку в сочинении писем исторических лиц к г-ну де Корвилю, а по возвращении увидел, что кружевница не праздно провела время. На деньги, которые он ей дарил, она наняла двух его слуг, чтобы они перетащили коробы с епископскими бумагами в охотничий домик и оклеили ими его изнутри. Удивительно, с какой быстротой это можно сделать, если платишь настоящую цену. Во всяком случае, деяния деда епископа обрели наглядность, а г-н де Бривуа волей-неволей должен был заниматься ими в чертогах своей дамы. Он то задирал голову, то осторожно касался стен рукой, колеблясь между искренним восхищением своей подругой и желанием утопить ее в парковом пруду. Ночью он чувствовал себя так, будто попал в храм славы отечественных героев и занимался любовью на рубиновом алтаре патриотизма. Поутру он, набросив на себя одеяло, предпринял обход архива. Это было дело нелегкое. Над кроватью г-н де Бривуа находил реляцию деда епископа, что он, располагаясь у такого-то леса, будучи уведомлен, что неприятельское войско, то есть гусары, кавалерия и пехота, начало делать движение и строиться по ту сторону реки, и не зная, в каком числе неприятель марширует, а к тому же ведая его правило, что тот старается побеждать сюрпризами, был принужден для безопасности авангарда с остальною армиею, оставив все обозы и для прикрытия четыре пехотных полка, а также до половины регулярной кавалерии и запасшись на три дни провиантом, выступить налегке, дабы на рассвете соединиться с авангардом, поскольку за поздним временем не предусматривал опасности, чтоб неприятель дерзнул на наш авангард, затем что ночь была темная, а чаять надлежало атаки на рассвете. Таким образом (о чем г-н де Бривуа узнавал, легши брюхом на кровать и свесив голову в пыльный угол) дефилировал он ночью через помянутый лес, а на рассвете выступив из лесу, следовал полем к авангарду, который стоял лагерем верстах в трех; а тою порой, как это движение счастливо совершилось, прибыл такого-то города бургомистр с несколькими старшинами, дабы свидетельствовать свое подданство нашему государю (г-н де Бривуа чувствовал, как кровь гудит у него в голове), которые объявили, что неприятельского войска возле города было гусар девять эскадронов, драгунский полк и баталион пехотных гранодер, а в недалеком оттуда расстоянии еще пехотные полки стояли, коих число не ведают, затем что недавно прибыли и в лагерь никого не пускали, их же некоторые из наших, как обыватели сказывают, в сшибке ранили, а далее гнать за поздним временем не отважились. После сего (читал г-н де Бривуа, угрожаемый апоплексическим ударом) дед епископа послал в город с помянутым бургомистром один пехотный полк для защищения оного и для сохранения от беспорядков, а после полудня все духовенство и несколько человек из лучших обывателей явились у него, прося покровительства государя, коих он с ласкою принял и приказал к завтраму ждать его к себе в город, бургомистру же велел разгласить, чтоб всему тому, что в городе казенного или военного имеется, без изъятия, в чем бы ни состояло, под опасением жесточайшего наказания, точный список сочинили и подали. Большие барабаны ухали в висках г-на де Бривуа, бивачный дым заволакивал ему глаза, когда он осторожно подымал голову из щели, где среди мышьего сора и паутинных гирлянд войско торжественно вступало в покоренный город, и шел искать продолжения этой истории. По долгом разыскании г-н де Бривуа обнаруживал у окна, за которым среди камышей гуляли утки, известного ему бургомистра и лучших обывателей и не мог понять, что они вытворяют и что такое с ними произошло за три дня, отделяющие эту реляцию от предыдущей.
Однажды вечером г-н де Бривуа устроил себе пир, залив вином себя и кружевницу, а потом они в объятиях прокатились вдоль стены, и часть бумаг, оказавшаяся на их пути, на них налипла. Отклеивая бранную славу от своей непоседливой подруги, г-н де Бривуа раздумывал о том, что значит следовать стезями природы. В обыденной жизни такая привычка навлекает на тебя укоризны монахинь, а под конец приводит в дом епископа или на виселицу; но если ты сочинитель, для тебя следовать природе — верное средство снискать благосклонность публики и похвалу знатоков. Прибавь к этому, что случай — важнейшее, могущественнейшее меж орудий природы, и можно ли не ценить его, читая хвалы художникам, запустившим в картину губкой и благодаря этому изобразившим пену на усталом коне, или людям, как-то иначе оседлавшим случайность? Коротко сказать, г-н де Бривуа подумывал, не взяться ли ему за деяния полководца в той последовательности, как они к нему прилипли, и чем возникшая таким образом связь событий хуже любой другой. Он проглядел бумаги: сложившееся было не так уж глупо. Он уже хотел начать, как вдруг мысль, еще более счастливая, изгнала предыдущую. Он понял, что епископ не для того свалил на него дедовский архив, чтобы потом проверять добросовестность его работы, и что он, г-н де Бривуа, как изнуренный, но упорный странник, стоит на рубеже той баснословной страны, где за вранье пошлин не берут. Улыбка осветила его лицо. Г-н де Бривуа стремительно возносился из сферы, где он принужден был следовать природе, в сферу, где он сам был природой. Он решился сотворить деда епископа из ничего, а тем, кто захотел бы его упрекнуть, он по примеру некоторых простодушных дам мог ответить, что не видит в этом ничего дурного, оттого что не получает удовольствия.
Ему нужно было с чего-то начать. Г-н де Бривуа исследовал книжные шкафы в надежде открыть источник принудительного вдохновения, когда ему на голову свалилась книга о военных хитростях, изданная, на его счастье, ин-октаво. Он поднял и взглянул: открывшийся анекдот пришелся ему по вкусу; г-н де Бривуа решил взять его за образец. Понукаемый его пером, дед епископа снялся с места и пошел походом на врагов, которых г-н де Бривуа на первое время окрестил орибасиями, намереваясь в спокойную минуту подобрать более уместное название. Один человек, коневод, пошел к орибасиям и вызвался истребить неприятельское войско, если они поклянутся, что детям его и потомкам дадут жилье и приличную пенсию. Слыша это, орибасии клялись всеми божествами, какие у них есть, и сверх того еще некоторыми, что сделают для его родни что угодно, если он отведет от них деда епископа, потому что такой язвы, как этот дед епископа, старейшие из них не упомнят. Тогда тот человек, вынув кинжал, изувечил себе лицо, отрезал уши, прошелся и по другим частям тела, а затем, перебежав к наступающему неприятелю, предстал полководцу и возвестил, что эти надругательства, уподобившие его свежей пашне, претерпел от орибасиев, а потому ищет случая им отомстить. Дело это нетрудное. Орибасии, сказал он, намереваются выступить следующей ночью, если же мы пустимся к тому же месту короткой дорогой, то поймаем их, словно зайца в силок; сам же он, будучи коневодом и сызмальства зная эти края, будет проводником; с собой надобно взять хлеба и питья на семь дней. Дед епископа поверил ему; войско выступило, а г-н де Бривуа незримо парил за ним, как предприимчивое божество, чтобы насытить свою раздраженную изобретательность и дать простор эпическим отступлениям. Едва зады вышли из лагеря, он заскучал и решил, что надобно дать описание этих краев, начиная народными празднествами и выказываемыми при оных предрассудками и заканчивая живописными памятниками древности; к сожалению, он еще не знал, где происходит дело, так что вместо приятного пейзажа с деревнями и реками, полными кур и рыбы, армия шла по ничем не заполненному пространству, где с мглистого неба падал редкий пепел, и поворачивалась в нем с тревожной медлительностью, как слепой на пасеке. Подобно создателям географических карт, рисующим чудовищ в отдаленных морях, г-н де Бривуа хотел обставить границы своего мира яркими и неприятными вещами, которые должны были доказывать его осведомленность и объяснять нежелание вдаваться в детали.
— Ему следовало ввести в свой рассказ офицеров, отряжаемых для разведки, — сказала г-жа де Гайарден, приятельница г-на Клотара, когда ей пересказывали эту историю. — Это дает возможность изящно изображать вещи, которых не знаешь. В качестве разведчиков можно представить Амуров, их ведь часто используют для всего, что делается исподтишка, — передавать записки, залезать в окна, сдергивать косынки, свистеть в ухо мужьям — как это говорится в стихах,
подобный сельскому Амуру,
в росистой затаясь траве,
следит гуляющую дуру,
персты держа на тетиве.
Словом, Амуры должны быть в нашем лагере, или я ничего не смыслю в военном деле. Вообразите, эти молодцы стоят в воздухе навытяжку, а полководец дает им инструкции: имея при себе малые компасы, прилежно отмечать положение мест и годность дороги, если же за гористыми и болотными местами к проходу армии или транспорту артиллерии нет возможности пристойно наведываться, нет ли поблизости объездов, и обо всем иметь секретный журнал, если же в него вносить будет нельзя, то твердо в памяти содержать. Все сие исправлять весьма скрытно, не подавая поводу признать себя за шпионов, и назад возвращаться тем же путем, проверяя и пополняя свои наблюдения, дабы сочинить верную карту.
— Откуда у вас такая осведомленность? — спросил г-н де Корвиль.
— Многие, кто вернулся из армии, любят хвастаться с соблюдением деталей, — отвечала г-жа де Гайарден. — Поневоле запоминаешь. Кроме того, какие выгоды упустил г-н де Бривуа, не взглянув на театр военных действий с высоты этого прихотливого полета! Вот мост из грубых балок, переброшенный с вершины горы к старинному замку; вот поток, поэтически рушащийся с гор, чтобы, ослабев внизу, мирно омывать скалу, увенчанную громадным строением; вот войско, чей путь начинается с горной тропы и ведет, кружа, к мосту; вот воины и повозки, вступившие на утлый настил, сквозь который просвечивает бездна; вот передовые отряды, одолевшие мост и проходящие сквозь башенную арку… Впрочем, позвольте мне оставить их здесь: уверяю, они счастливо спустятся в долину и отужинают на берегу озера.
— Боюсь, ваши крылатые посланцы так залюбуются, что забудут вернуться к руке, отправившей их с порученьями, — сказал г-н де Корвиль.
— Это же дети Венеры, а не ворон праотца Ноя, — возразила г-жа де Гайарден. — Они всегда возвращаются, хотя иной раз думаешь, что лучше б они этого не делали.
— О да, — подхватил г-н де Корвиль, — когда Амур возвращается без ответа или расписывает бесплодные трудности, доставляемые окрестными местами, — нужно великое упорство или выдающееся легкомыслие, чтобы не отказаться от едва начатой кампании.
— Я слышала, — сказала г-жа де Гайарден, — некоторые короли приказывали составлять заведомо негодные планы разных местностей. На них указывалось, что такое-то болото непроходимо, и неприятель, доверившийся карте, оставлял свои намерения, ибо почитал их несбыточными.
— Кажется, такое остроумие передалось кое-кому из наших знакомых, — отозвался г-н де Корвиль.
— У меня в мыслях не было делать применения, — сказала г-жа де Гайарден. — Я лишь хочу сказать, что наш добрый г-н де Бривуа, занявшись историей, взялся за ремесло, которому мог бы научиться у своей прекрасной подруги, а именно украшать дыры узорами, и только его несравненная жизнерадостность, коей он обязан сангвиническому темпераменту, позволяет ему предаваться этим занятиям безнаказанно.
— Они смеются над ним, — сказала пастушка.
— Разве что самую малость, — сказал волк. — Так вот, на грех г-ну де Бривуа вспомнилась и не шла из головы усыпанная плодами яблоня, что оказалась внутри чьего-то лагеря, когда его разбивали, а когда войско снялось и ушло, осталась нетронутой, и он из себя выходил, не зная, куда ее приладить. Через семь дней, видя вокруг себя безлюдную и безводную страну, дед епископа призвал вероломного коневода и спокойно спросил, что заставило его обмануть такую великую армию и завести ее в эти гиблые места, где не видно ни птицы, ни зверя и нет возможности ни идти дальше, ни воротиться. Коневод же, смеясь и хлопая в ладоши, сказал, что за ним победа, ибо ему удалось спасти орибасиев и погубить их врага голодом и жаждой. С невыразимым облегчением г-н де Бривуа воткнул наконец в землю свою яблоню: дед епископа тут же повесил на ней коневода и отправился осмотреть окрестности. Солдаты глядели на него угрюмо и провожали ворчаньем. Г-н де Бривуа задумчиво поглядел в окно и открыл наугад книгу о военных хитростях. Дед епископа с небольшой свитой вышел через рощу к обветшалой церкви. Испуганный священник сообщил, что в этом храме, освященном в честь славного мученика (г-н де Бривуа отложил уточнить, какого именно), доныне хранится меч, употреблявшийся сим мучеником, в ту пору как он еще подвизался на императорской службе. Дед епископа задумался; наконец лицо его просветлело. Он велел священнику возложить свои заботы на Господа и делать что говорят. Он вернулся в лагерь и назначил пароль «Святой помощник». Назавтра пришел к ним взволнованный священник, сообщая каждому, что мученик такой-то явился ему во сне и обещал им победу. Солдаты бросились к церкви, нашли двери ее открытыми и старинный меч мученика вычищенным и сверкающим, словно владелец его вновь готовился на битву. С трепетом они преклонили колена, а потом возопили к деду епископа, прося вести их, куда ему угодно. Тот приказал немедля сниматься. Священник был им проводником. На другой день вышли они к большой реке. Покамест люди и кони пили, г-н де Бривуа размышлял, не надобно ли, чтоб священник прежде рассказал свою историю, а потом — не следует ли отравить воду чемерицей, чтобы войско ослабело от поноса, но решил, что теперь так не пишут, что наши Музы строже древних и что будь у него столько чемерицы, лучше потратить ее во здравие того, кто берется за такие сочинения. Ободренное войско двинулось, славя Бога и его мученика, настигло врагов, кои уже мнили его погибшим, разбило их наголову и стало на постой в большом торговом селе, где всего было много и задешево. В эту самую пору, когда г-н де Бривуа, увлеченный борьбой своего воображения с орибасиями, ослабил надзор за братом Жаком, тот и сочинил известное письмо Архелая, едва не выдавшее их затею г-ну де Корвилю.
Весь дом с любопытством наблюдал, как г-н де Бривуа разрывается между дедом епископа и прекрасной кружевницей и как последняя ревнует г-на де Бривуа к чужой славе. Наконец он намерился укоротить своих слуг. Его раздражало не то, что они следят за его поступками, а то, как они их потом перевирают. Г-н де Бривуа не гнушался быть зрелищем, но хотел сохранять внушительность. Он последовал примеру медиков, которые, чтобы унять боль в одном месте тела, вызывают ее в другом.
Природа наградила его камердинера страстью к искусству, не придав к тому никаких пособий. Кисть его с чудным могуществом играла над людьми: всякий, кого тот изображал, без колебаний признавал в портрете своего приятеля, или кума, или проезжего, с которым прошлый год пил в кабаке, так что многие удивлялись, кого только из тайников памяти могло вызвать искусство камердинера и какие события оживить. Оторвав его от карточной игры, г-н де Бривуа повел его в кладовую, где велел расписать потолок, взяв предметом деяния деда епископа, и наскоро составил программу. Дед епископа изображается посередине потолка на колеснице, влекомой приличествующими ему животными, в окружении свойственных ему атрибутов, гениев и сил. Над головою его с обеих сторон два амура, изображающих Ум и Желание, подают знаки Славе, призывая его короновать. Женщина, олицетворяющая Славу, отражается в латах, облекающих члены деда епископа. В поднятой правой руке она держит лавровый венок, а пальцами ноги касается песочных часов, с одной стороны которых видна дневная птица, а с другой стороны — летучая мышь, левою же рукою женщина указывает на ягненка, смотрящего вверх. На заднем плане большое оживление; мушкетеры выполняют команду «Зубами — скуси», враг выказывает отчаяние, обыватели — робкую надежду; в перспективе Зависть в образе Фурии, затворяясь в аду, с меланхолическим видом кусает себя за неимением лучшего. На четырех картинах, расположенных по сторонам, представлены деяния знаменитых римлян, столь сходные с деяниями деда епископа, что в этих картинах видно все поприще его честей. На той стороне, где висят связки чесноку, царь Нума под рукою извещает римлян, что идет уединиться с нимфой Эгерией в охотничьем домике. За этим угадывается неизменная внимательность деда епископа к думам и желаниям солдат, равно как умение пользоваться оными. На противоположной слепец Аппий Клавдий, принесенный на заседание сената, выражает желание оглохнуть. Сим изображается славная его прозорливость и бодрое красноречие. На третьей картине Метелл, спрашиваемый товарищем о тайных его замыслах, ответствует, что если бы его сорочка о том ведала, тотчас бы велел ее сжечь; при сем знаменитом разговоре присутствует и сорочка, с видом крайней невинности. Этим обличается его осторожность в маневрах и разборчивость в белье. На четвертой Корнелий Сципион по взятии Ольбии устрояет пышное погребение вождю карфагенян Ганнону, при защите ее падшему. Сим знаменуется великодушное его снисхождение к неприятелю, унаследованное его потомками. К этому г-н де Бривуа прибавил, что желает видеть в росписи великолепие, стройность, благородство и тонкость, присущие картинам г-на Лебрена, особенно знаменитой «Семье Дария», и «Падению ангелов» г-на Вердье, а если чеснок будет мешать, то можно его подвинуть. Кроме того, он внушил несчастному камердинеру, что настоящие художники всегда спрашивают совета и мнения своих близких и что искусство не двинулось бы со времен Полигнота и обоих Миконов, не будь при каждом живописце человека, способного указать, в какую сторону выгнуть эту ногу и сколько еще их надо пририсовать.
Довольный своей проделкой, г-н де Бривуа вернулся к работе. Его охотничий домик, в котором противоестественно сочетались Марс и Венера, стоял посреди искусственного пруда. Переправившись на островок, г-н де Бривуа нашел двери запертыми изнутри и заключил из этого, что кружевница всерьез обиделась. Он произносил сквозь дверь ласковые речи, а потом сел на берегу и, почесывая за ухом довольную собаку Боссюэ, принялся сочинять новую историю из жизни полководца. Дед епископа подступил к некоему форту с намерением его захватить. Он занял возвышенности, господствовавшие над местностью, и с удовольствием увидел вражеский берег, безлесный и уязвимый для навесного огня. В мирное время форт служил защитою орибасиям, что совершали набеги за реку и возвращались отягощенные добычей; лишенный рва, прикрытого пути и фланков, он не имел военной важности: вал был высоким и тонким, а сам форт открыт с двух сторон и не достигал воды. Г-н де Бривуа налег плечом и высадил дверь. Из-за господствовавших над ним возвышенностей форт не был удобен прикрывать вылазки и столь был тесен, что не давал свободы действий, а между тем ему требовалось изрядное число защитников. По общему мнению знатоков, малый форт таких качеств, отрезанный течением реки от сообщения со своими, надлежит срыть и оставить, а не упорствовать в его защите, рискуя лишиться и форта, и войск; не одни пылкие юноши и кабинетные бойцы, видевшие фортификационные сооружения лишь в книгах Маролуа, но люди, поседевшие под шлемом, говорили деду епископа, что при надобности этот форт можно восстановить в лучшем виде за неделю, будь даже он срыт до земли. Кружевница укрылась за кроватью, откуда в г-на де Бривуа летели обидные слова, подушки и еще какие-то предметы, разбивавшиеся о стену. Орибасии в намерении своем упорствовали, усилив форт при помощи рвов, ям-ловушек, контрмин, капониров, перекопов, прикрытых фланков, минных ложементов и снабдив его бомбами, закладываемыми в землю, ручными гранатами, мортирами, фейерверками и прочим воинским снарядом. Они даже думали сделать большую вылазку, которая, однако, один раз сорвалась из-за дождя, лившего всю ночь, а другой — по вине дезертира, выдавшего нам их намерения. Деду епископа предлежала одна из трех задач, в коих ярче всего проявляются дарования и опытность военачальника: форсировать реку в виду врага, ожидающего на противоположном берегу. Г-н де Бривуа сцепился с кружевницей, они покатились и рухнули за кровать. Дед епископа назначил штурм; его солдаты сожгли частоколы, служившие орибасиям валом, взорвали мину, подведенную под шпиц равелина, заняли руины и под прикрытием рондашей и фашин обосновались в иных местах, недоступных обстрелу с крепостных фланков. Видя, что их оборонительные сооружения ничего более не значат, орибасии подожгли бараки в форте и начали отступление, с тем чтобы потом привести в действие минные подкопы, набитые порохом. Окрестность заволоклась мглой, сокрывшей героев, в воздухе вспыхивали огни, вопль нимф поднялся над камышами, и в наступившей тьме слышался г-н де Бривуа, декламирующий стихи Вергилия:
И с силой дивною огромнейшее древо
Во округленное он ей направил чрево:
Вонзившися, дрожит надежное копье,
И гулом полнится утроба у нее.
В знак возвращенной милости кружевница подарила ему маргаритку: г-н де Бривуа принял ее с благоговением и положил в латинскую грамматику, потому что в ней все засыхает быстрее.
Это могло тянуться долго, но кончилось по случайности. Однажды, не без усилия проснувшись поутру и вспоминая, как он в клубах простыней расточал ласки смущенной кружевнице, бурный и изобретательный, как Борей, когда его выпустят погулять по волнам из медной темницы, г-н де Бривуа с тяжелой головой сел за свои бумаги и обнаружил в них криво написанную фразу: «Сравнить с императором Севером». Что он хотел этим сказать, он не помнил. Способный придумать взамен этого сравнения десяток других, г-н де Бривуа, однако, не мог допустить, чтобы его правая рука днем не помнила, что она делает ночью. Он ласкал себя мыслью, что его разум вообще господствует над всем прочим, что в нем есть, а если и сдается, то в правильном порядке, то есть получив на то письменное разрешение короля и выговорив сохранить за собою знамя и литавры. Он оставил дела и лег читать жизнеописание Севера. Кружевница, розовая и слегка опухшая, высунулась из-под одеяла; он рассеянно погладил ее и вернулся к чтению. На минуту его задержал рассказ, как Север приехал в Афины — ради наук, богослужений и древностей, по словам его биографа, — но, претерпев некие обиды от легкомысленных афинян, не забыл их, когда стал императором, и утеснил город в древних его правах. Размыслив, г-н де Бривуа сказал себе, что тут нет ничего, кроме вознагражденного злопамятства, и что, если он хотел дать деду епископа выгодное сравнение, надлежало искать оное не в образцах мелочности, хотя бы и старинных. Затем развлекла его история о том, как овдовевший Север выбирал себе невесту, дознаваясь, какая под каким созвездием рождена, и, прослышав о девушке, у которой в генитуре стоял брак с царем, тотчас посватался и ходатайством своих приятелей ее получил. Г-н де Бривуа подумал, что из этого предмета можно извлечь много комических эффектов и что в будущем, когда он отслужит свою барщину, можно будет сделать из этого восточную повесть и потешать ею приятелей, однако покамест честолюбие и суеверие римского владыки, которому он посвящал ночные припадки своего писательства, ничем не могли ему служить. Сильнее прочих вздоров, коими нашел он книгу наполненною, привлекло его знаменье, бывшее Северу незадолго до смерти: когда он по дороге в город хотел принести богам жертву, сперва ошибкою деревенского прорицателя был приведен в храм Беллоны, а потом подвели ему черных животных; когда же он, оставив эту затею, двинулся во дворец, по небрежению слуг черные жертвы следовали за ним до дворцового порога. Увлеченный поэтической сценой, г-н де Бривуа уже представлял деда епископа и черных овец, что спешат за ним подпрыгивающей гурьбой, и обдумывал, в какую раму это вставить; он сделал своего героя губернатором осажденной крепости, сочинил речь к горожанам, затеял прекрасную интригу с мнимой изменой, придумал пост над болотом, где часовым становилось страшно неведомо от чего, а потом, развеселившись, пошел посмотреть на труды своего камердинера.
Он вошел в кладовую и замер с поднятым взором, восхищенный открывшимся ему беснованием ремесла. Больше всего это напоминало повозку комедиантов, застигнутую пургой в чистом поле. Г-н де Бривуа был особенно поражен падающей стремглав фигурой, должной изображать поверженную надменность: прямо из глаза у нее торчал гвоздь, на котором качались связки чеснока. Редко ему встречалась живопись, столь убедительно выходящая из своих природных границ и такая находчивая в наказании пороков. Г-н де Бривуа распорядился впредь не заносить сюда молоко, не то оно скиснет. Все, кому был досуг, набивались в эту клеть, чтобы одарить живописца своими советами, а тот от неуверенности портил и то немногое, что по случайности ему удалось. В отместку он заставлял слуг позировать ему при изображении Зависти, кусая себя куда достанут, и чрезмерное усердие причинило некоторым чувствительный ущерб. В довершение всего большинство персонажей, и смертных, и бессмертных, и благосклонных полководцу, и враждебных ему, несло печать неуловимого сходства с внешностью и повадками самого живописца. Это был какой-то триумф камердинеров. Г-н де Бривуа начал было говорить бедному малому, что, конечно, каждый художник рисует себя, однако некоторая скромность... — и остановился, застигнутый воспоминанием. Он вспомнил, что, написав ночью: «Сравнить с Севером», имел в виду слова императора: «Я был всем, и все впустую» и что он сравнивал с Севером не деда епископа, а себя самого, разлившегося по жизни своего героя и вытеснившего оттуда все остальное; что, забыв о мере и благоразумии, он отдался объяснимым, но непростительным побуждениям; что, как итальянский комедиант, он в недолгий срок сыграл на этих недостойных подмостках слишком много ролей, чтобы напоследок не пресытиться самим собой. Он ушел из кладовой, не договорив поученья, и направился в садовый домик, где принялся осторожно отклеивать со стен ветхие листы, меж тем как в зеркальных зияниях все больше показывалось его пухлое лицо и сдвинутые брови. Он ласково простился с кружевницей, осыпав ее подарками и велев слугам отвезти ее в город, к прежним занятиям. Она еще ехала, немножко плача, среди пригретых солнцем полей и птичьего пения, когда г-н де Бривуа уже сидел за столом и созданное им пространство редело и расползалось, пока в пустоте не остался лишь небольшой холм или груда какого-то скарба и поверх нее полковой флейтист, выводящий из своей полковой флейты одну бесконечную и скудную мелодию.
Выслушав эту историю, г-н Клотар заметил, что она дает ему мысль написать триумф Раскаяния над г-ном де Бривуа, однако он боится не достичь нужного правдоподобия, и что, возможно, следует предложить этот предмет г-ну Куапелю, который справится с ним гораздо лучше.
— Мне кажется, ты начинал этот рассказ, намереваясь заключить его каким-то другим применением, — сказала пастушка.
— Будем довольны тем, что есть, — отвечал волк, — ведь могло не выйти и этого.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вы прекрасно говорили, — говорила Джейн, входя из сада. — Я стояла рядом с миссис Хислоп, она наполнена чувствами. Она, конечно, скажет вам еще и сама. По ее словам, это одна из лучших ваших проповедей, а она знает в этом толк. Столько огня и неподдельной силы, и какая прекрасная мысль, говорит она, взять темой для проповеди слова: «Посему ты уже не раб, но сын». Ведь это не совсем то, что мы слушали вчера, да?.. Извините, мне надо пойти поговорить с ней насчет обеда.
— Да-да, — отвечал викарий несколько рассеянно.
— Доброе утро, викарий, — сказал Роджер, входя из сада. — Наверняка вам уже кто-нибудь сказал, но это была превосходная речь. Как вы говорили о свидетельстве чистой совести! Мало кто может принести человеку такое утешение в невзгодах. Кстати, вы не знаете, что в этом доме принято употреблять от головной боли?
— Что?.. Нет, не знаю. Спросите у мисс Праути, она, кажется, на кухне.
— Нет-нет, я знаю, что скажет мисс Праути. Поставь уксусный компресс и ложись в темной комнате. Я не хочу среди дня лежать в темной комнате. У меня будет ощущение, что я наказан, и надо будет избавляться еще и от него.
— Тогда спросите у миссис Хислоп.
— Точно, она должна знать зелья. Голова прямо трещит. Видите ли, я бурно провел ночь. Деятельнее, чем намеревался.
— Вы уверены, что это хороший повод для откровенности? — осведомился викарий.
— О нет, мои пороки тут ни при чем, — заверил его Роджер. — Кто-нибудь другой мог бы счесть это досадным, но не я. Так вы говорите, миссис Хислоп. Пойду к ней.
— Доброе утро, викарий, — сказал инспектор, входя из сада. — Могу ли я сказать, что это была замечательная проповедь? Вы добились редкой выразительности, и так думаю не я один. Люди искренне тронуты, у многих были слезы на глазах. Например, миссис Хислоп сказала…
Викарий смотрел на него с мучительным интересом.
— Спасибо, — сказал он. — Знаете, я как раз хотел с вами поговорить.
— Я к вашим услугам.
— Вчера вечером, как вы помните, мы с вами сидели в библиотеке…
— Надеюсь, мое присутствие вам не помешало.
— О нет. Так вот, я дописал проповедь, мы немного поговорили с вами об истории Эннингли-Холла, я показал вам, где стоят книги, которые могли быть для вас любопытны…
— Я вам живейшим образом признателен.
— Потом я сунул свои бумаги в карман и ушел. Некоторые перечитывают свою проповедь на ночь, но я так не делаю. Может быть, это плохо, но я давно уже этим занимаюсь и не волнуюсь, как в первый раз, когда мне наутро надо будет обращаться к людям с речью. В общем, я был уверен, что у меня все готово, и не заглядывал в свои бумаги до утра.
— Не думаю, что кто-нибудь усмотрел бы в этом повод для порицания.
— Так вот, я развернул свою проповедь, только когда настало время ее произносить. Я не помню ее наизусть, я не в том возрасте. После сорока лет и простое стихотворение уже не так легко заучить.
— Я уверен, вы преувеличиваете.
— Я достал свои листки и увидел не то, что ожидал. Что это не моя проповедь, а скорее ваша.
— Что вы говорите, — сказал инспектор и быстро полез в карман. — Боже мой, — произнес он, заглянув в свои бумаги. — Боже мой. У меня нет подходящих слов для извинения.
— Ну вот, — сказал викарий. — Вы понимаете. Да, я стоял перед людьми и читал ваши заметки, в которых были перечислены все мы, в алфавитном порядке, а против каждого проставлен мотив и возможность для убийства. И мне пора начинать, а из всех пособий я располагаю только вашими соображениями насчет моей виновности.
— Мне ужасно неловко.
— Это как… я не знаю, с чем это сравнить. Словно ты на Страшном суде и тебя просят рассказать что-нибудь занимательное, пока присяжные совещаются на твой счет. Господи, если можно, не делай так со мной больше. Да с чего вы вообще это взяли?.. Что я — настоящий отец Эмилии, потому что все знают, что у меня был роман с ее покойной матерью, а когда мой сын влюбился в Эмилию, я не мог допустить, чтобы дело зашло далеко, и не мог открыть им свою тайну, иначе погибла бы моя репутация, а потому решил… Что это за бредни?
— Видимо, я должен объясниться.
— Я не могу на этом настаивать, — сказал викарий, — но, разумеется, не отказался бы услышать…
— Понимаете, — вкрадчиво начал инспектор, — по роду наших занятий мы приучены не пренебрегать слухами. Эта самая молва, вздорная молва, malum qua non… как там говорится?..
— Qua non aliud velocius ullum, — сказал викарий.
— Да-да, самое проворное зло. Так вот, мы вынуждены ей внимать, потому что иногда она, сама не зная того, сообщает полезные вещи. Конечно, это не то чтобы простая работа, и люди, которые берутся за нее из чистой любви к сплетням, очень скоро чувствуют пресыщение. Тут необходимы способности. У одних пророчество, у других истолкование языков, а у иных, вы помните…
— Discretio spirituum, — сказал викарий.
— Да, различение духов. Для полицейской работы это необходимое умение, иначе увязнешь в вещах, из которых не выбраться.
— Никогда не думал о таком применении этого места.
— Ну вот, так обстоят дела. Замечу, что жилище молвы, как его описывают древние, поразительно напоминает «Спящего пилигрима». Он стоит на холме, двери в нем не закрываются, покоя нигде нет, всюду толпы народа, в общем зале Доверчивость слушает рассказы о вчерашней рыбалке…
— И суетная Радость возвращается с состязания лучников, — прибавил викарий.
— Именно.
— Там вы наслушались всего этого?
— Я не могу замкнуть слух, — сказал инспектор. — Хотел бы, но не могу. Поверьте, мне это не доставляет удовольствия.
Некоторое время викарий молча открывал и закрывал рот.
— Редкостное зрелище, должно быть, я представлял, — сказал он наконец. — Особенно если знать, что происходит. И часто вы бываете на похоронах с проповедями?
— В исключительных случаях.
— Вот как.
— Еще раз, викарий, примите мои извинения. Надеюсь, эта досадная история останется между нами.
— Главная добродетель, которая требуется в моей профессии, — сказал викарий, — это благоразумие. Конечно, ни у кого не бывает его слишком много, но я надеюсь, у меня его достанет, чтобы никому не рассказывать об этом.
— В таком случае доброго вам дня.
Инспектор ушел в дом; викарий остался подле картины, погруженный в глубокую задумчивость.
— Болезнь, — сказал Роджер, выходя из дому, — бесценный повод для самопознания. Я спросил у миссис Хислоп, не держит ли она чего-нибудь от головной боли. Она не сразу поняла, чего я хочу. Видимо, здесь ни у кого не болит голова. Вот что значит жизнь в согласии с природой, среди белых лилий, под тенью сосен. Она спросила, ощущаю ли я биение на различных частях туловища и царапание по членам. Я сказал, что не ощущаю, и сразу усомнился в этом. Миссис Хислоп спросила, есть ли у меня необыкновенная разбитость, подергивания после употребления кофе, а также сон, беспокойный ночью и продолжительный, но не дающий облегчения днем. Я сказал, что да, все это у меня есть, а еще иногда во сне мне кажется, что я преследую зайца, и я начинаю перебирать ногами, пока между ними не набьется столько одеяла, что перебирать уже неудобно. Она сказала, что рвотный орех или ипекакуана, разведенные в должной пропорции, помогли бы мне стать новым человеком, но сейчас у нее их нет, так что она дала мне нюхательную соль, которая, по ее словам, помогает их семье вот уже третье поколение, оказывая на нее бодрящее воздействие и не утрачивая своей нюхательной силы. По-моему, у меня от нее начинается царапание по членам. Кстати, я сейчас столкнулся с инспектором, он какой-то задумчивый. Вы с ним не поладили?..
— Ничего особенного. Мы перепутали наши заметки, его бумаги с моими. Все уже разъяснилось.
— Случайно или намеренно?
— Простите?..
— Я говорю, случайно перепутали или намеренно? Бывают положения, когда многое зависит от сознательных усилий. Одному итальянскому художнику надо было написать картину, на которой черти истязают пожилого отшельника. И вот он что ни день ходил на рынок покупать рыб необычной расцветки, с длинными усами, выпученными глазами, острыми плавниками, в общем, со всем, что может предоставить рынок взыскательному человеку, и благодаря этому написал чертей такими, что приобрел уважение и известность у людей понимающих, а потом все эти черти явились ему во сне со своими усами и чешуйчатыми лютнями в руках и хором спросили, где он их видел такими гадкими и почему так опозорил их своей кистью, — словом, нагнали на него такого страху, что он, проснувшись, даже крикнуть не мог и дожил свою жизнь с широко распахнутыми глазами, которые у него и на ночь не всегда закрывались, как заведение «Еж и Пеликан». Там однажды… Впрочем, это к делу не относится. Так вот, не ходи он на рынок, можно было бы еще отговориться тем, что все это вышло случайно, ну а если всем известно, что он покупал рыбу не для того, чтобы запечь ее с тимьяном и помидорами, тут уж не вывернешься… Я это к тому говорю, — сказал Роджер, замечая нетерпение викария, — что инспектор пишет обычно в своей записной книжке, такой небольшой, она всегда у него в кармане плаща, а если он взял для записей бумагу в библиотеке, из той стопы, откуда берете и вы, кто-нибудь мог бы заподозрить, что инспектор сделал это нарочно…
Викарий несколько минут стоял недвижимо, с крайним изумлением глядя на Роджера, а Роджер смотрел на него.
— Спасибо, мистер Хоуден, — наконец вымолвил викарий, — вы мне очень помогли.
— Ээ, всегда рад.
— Пожалуй, я прогуляюсь по саду.
— Викарий, — позвал Роджер, — если вам понадобится ободрение, у меня есть еще немного нюхательной соли.
— Ты чем занят? — спросила Джейн.
— Иду из библиотеки, — сказал Роджер. — Пытался писать статью об Эмилии.
— И как, удачно?
— Не очень. Викарий намекнул, что в ней нет связи. Я думал, посижу в одиночестве и все исправлю, но мой внутренний викарий говорит, что лучше не стало и что теперь связи нет даже там, где вчера была.
— Не расстраивайся. Лучше отложи на день-другой, и к тебе придут мысли.
— Да, пожалуй. Если бы еще голова не болела… Странное дело, вчера викарий показал мне шкаф с книгами по истории искусства, а сегодня я не могу найти одно издание, которым пользовался. Кажется, оно было в трех томах. На его месте стоит «Полный советчик рыбака». Викарий удивляется и говорит, что по богословской части все на своих местах.
— Может, ты перепутал полку?
— Я не путаю книжные полки, — твердо сказал Роджер. — Есть все-таки пределы, до которых даже я не дохожу.
— Удивительно. Ну, я думаю, она найдется.
— Хорошо бы. А пока я взял почитать советчик рыбака. Поразительно, сколь многое я делал неправильно. В самом начале помещена небольшая песня, которую рыбак исполняет при пробуждении. В этот прекрасный майский день, когда жаворонок поет в долине и вся природа смотрит весело, рыбак в скромных выражениях просит Бога напоминать о Себе. После этого, если он собирается ловить усача, он должен взять гусиный поплавок, крючок номер восемь или девять и бычьи мозги, потому что усач любит все это, особенно крючок номер восемь; а если он думает, что идет удить голавля, в августе ему понадобятся желтые макароны с твердым сыром, истолченным в ступе и сдобренным маслом с шафраном, которые также хороши для ловли зимой; и пусть помнит, что лучшие ловцы форели живут в Дербишире, и в любых обстоятельствах обходит Дербишир стороной. Я должен непременно рассказать об этом Джеффри Герберту.
— Похоже, ты узнал много нового.
— Это, конечно, немного обескураживает. Впрочем, та же история обычно выходит с разговорниками. Люди едут куда-нибудь, осматривают руины дворца, лезут на скалу, на которой единственное, что можно сделать, — это слезть с нее обратно, выковыривают камешки из цемента, покупают расписных собачек у мнимых представителей коренных народностей, вообще живут полной жизнью, а потом заглядывают в «Новый разговорник для путешественников и школ» и обнаруживают, что по разделу «Части человеческого тела» им удалось сказать гораздо меньше, чем можно было бы, а если заглянуть в «Деревья и кустарники», то вообще непонятно, чем они занимались две недели и на что тратили деньги. Это отравляет им жизнь, и вот вместо того, чтобы дурачиться на воле, они начинают гоняться за ситуациями, в которых можно сказать то и то. Удивительно, на что люди готовы пойти, лишь бы получить возможность для фразы: «Это собака, но она ест овощи». Кстати о собаках, я видел Эдвардса и немного поговорил с ним. То есть сначала я встретил Файдо, а пока извинялся перед ним, что у меня нет копченой селедки, появился Эдвардс с ножницами и спросил, не давал ли я Файдо что-нибудь непозволительное. Ему нельзя копченую селедку, сказал он, копченая селедка и его желудок — это как… Он хотел подобрать пример несовместимости в природном мире, оглядел сад и ничего не нашел. Благодаря ему там нет таких примеров. Тут я искусно перевел разговор на инспектора и то, о чем они вчера беседовали. Оказывается, инспектор спрашивал его о завещании сэра Джона: кто были свидетели, когда приезжал нотариус, менял ли сэр Джон завещание и все такое. Кстати, он ведь все оставил Генри, я правильно понимаю?
— Да, конечно, — сказала Джейн. — Ну и какую-то сумму каждому, кто есть в доме. Мне тоже.
— Так вот, Эдвардс и был свидетелем, верным и истинным, вместе с миссис Хислоп, и, по его словам, без него инспектор ничего не знал бы о том, как здесь живут, а теперь все знает. Надеюсь, он не вкладывает в это выражение ничего предосудительного. Я намекнул ему, что он в числе подозреваемых в убийстве. Он принял это с гордостью. Я также намекнул, что он мог бы поклясться своим садом и всем, что в нем, что видел тебя там в известное время, и таким образом снять с тебя подозрения. Ему эта мысль не понравилась — не потому, что ты ему неприятна, а потому, как я понял, что он чувствует себя частью природы и его это пресытило. Он хочет участвовать в чем-то таком, что бывает один раз, а не происходит каждый год в прежнем виде, как пробуждение природы и яблонная тля; а если он не хочет исключить из этой истории тебя, это не из неприязни, а скорее из гостеприимства.
— Интересно, — сказала Джейн. — Зачем инспектору знать про завещание и нотариуса? Неужели они имеют отношение к убийству Эмилии?
— Ну я не знаю, — ответил Роджер. — Может быть, в конце нам все расскажут.
— Ты думаешь, он справится?
— Я верю в него, — безмятежно отозвался Роджер.
— У него какие-то странные методы, — сказала Джейн. — Ты знаешь, что он сегодня проделал с мисс Робертсон? Нет?.. Ну так я тебе… Добрый день, мисс Робертсон, как вы себя чувствуете?
— Мисс Робертсон, как я рад вас видеть, — сказал Роджер. — Если это не бестактный вопрос, вы не могли бы рассказать, что это такое было ночью? Видите ли, у меня до сих пор болит голова, и я надеюсь наравне с другими считаться участником здешней ночной жизни, потому что пожертвовал ей лучшим, что у меня есть…
— Вы не будете надо мной смеяться? — измученным голосом спросила мисс Робертсон.
— Мисс Робертсон! — с возмущением сказал Роджер. — Разве я могу?.. Я думал, вы обо мне лучшего мнения…
— Простите, это все так странно… а я выглядела полной дурой и…
— Мисс Робертсон, никто не будет смеяться, — мягко сказала Джейн. — Роджер и я, мы оба питаем к вам самые теплые чувства; но то, что произошло, очень странно и важно для всех, потому что может иметь отношение к смерти бедной Эмилии, и лучше, чтобы мы обо всем знали.
— Ну хорошо, — решилась мисс Робертсон. — Я легла спать, но проснулась от какого-то шума. Мне кажется, кто-то бросал камешками в мое окно. Было около трех часов. Я выглянула в окно и увидела… как бы это описать. На краю рощи был свет, он двигался. Потом, когда я… в общем, потом оказалось, что кто-то повесил фонарь на ветку и он качался на ветру, а из моей комнаты это выглядело так, будто…
— Будто кто-то с фонарем в руке скачет вокруг дерева, — сказал Роджер, одобрительно кивая.
— И что вы сделали?
— Я набросила на себя что-то и… и пошла туда, — ответила мисс Робертсон.
— В три часа! В лес, в котором что-то светится!.. И после того, что викарий нарассказывал на ночь!.. Зачем?..
— Надо же хоть раз в жизни на что-нибудь решиться, — ответила мисс Робертсон с самым несчастным видом.
— Господи Боже, — пробормотала Джейн, совершенно завороженная.
— Это потрясающе, — сказал Роджер с сияющим лицом. — Мисс Робертсон, позвольте мне выразить свой восторг в приличных формах. Вы чудесная.
— Ну вот… Я спускалась по лестнице в темноте и, кажется, что-то опрокинула. Оно покатилось вниз.
— С этого момента, — сказал Роджер, — в дело постепенно втягивается весь дом. А дальше?
— Я вышла в сад, — сказала мисс Робертсон, — и пошла в ту сторону, где между деревьями мерцал свет.
— Пожалуй, я добавлю то, при чем вы не присутствовали, — сказала Джейн. — То, что вы сшибли, покатилось вниз и разбудило Энни. Она вышла на лестницу, чтобы выяснить, что происходит. То, что катилось вниз, к этому моменту исчерпало свои ресурсы и могло бы там, где остановилось, вкушать заслуженный покой, если бы не Энни, которая встретилась с ним в темноте и заставила таким образом продолжить путь до самого низа. Кстати, неизвестно, что это было. Видимо, оно под конец закатилось на кухню, где смешалось с себе подобными.
— Отличный способ избежать ответственности, — сказал Роджер.
— Тут из своей комнаты вышел разбуженный мистер Годфри, с небольшой, но прочувствованной речью. Он сказал, что все мы странники в этом мире и не имеем в нем надежного пристанища, однако напоминать об этом в три часа ночи ему кажется нецелесообразным; что если в этом доме затеяли турнир по фехтованию сковородами, следовало известить его об этом заблаговременно; что если последние исторические разыскания объявили езду в кастрюлях по лестнице важной частью сражения при Бэкинфорде, он предлагает устроить спиритический сеанс, чтобы сообщить об этом хронисту Герарду Маршу, ему тоже будет интересно. Сказав все это, мистер Годфри успокоился и ушел к себе, хлопнув дверью так, что эта вещь, которая замерла было на краю ступеньки, ринулась дальше.
— Есть люди, которые проводят время предсказуемо, — сказал Роджер, — в унылой размеренности день изо дня. А есть другие. Мы из других.
— В это время проснулся Роджер, — продолжила Джейн, покосившись на него без симпатии.
— Да, — подтвердил Роджер, — в этот момент проснулся я.
— Он вышел в коридор, услышал эту вещь, которая катилась вниз, и мистера Годфри, который ругался наверху, и не нашел ничего лучшего, как начать декламировать монолог короля Лира.
— Он показался мне уместным в этой ситуации, — пояснил Роджер.
— Я тоже проснулась, — сказала Джейн, — и некоторое время тихо лежала в темноте, надеясь, что все уляжется без моего участия. Малодушные надежды. В конце концов я вышла в коридор и сшиблась с Роджером, который как раз набирал воздуха, чтобы сообщить всем ночующим в Эннингли-Холле, что вот стоит он, глупый, немощный, презренный старик. Он махал руками в темноте и мог, я думаю, встретить там много всего, кроме поклонников своей декламации. Я постаралась его утихомирить…
— Джейн объяснила мне, — сказал Роджер, — в словах, полных кротости и понимания, что, когда в мир приходит хаос, совершенно не обязательно становиться его пособником. Многие пережидают этот момент в своей комнате, под одеялом, и именно их потом славит общественное мнение, а не тех, кто выходит наружу, чтобы вопить и волноваться в ночи.
— Как… много всего успело произойти, — сказала мисс Робертсон.
— Это было быстро, — уверила ее Джейн. — Ведь все участники вступали одновременно. Да, а что вы делали тем временем?
— Я дошла до рощи, — сказала мисс Робертсон, подавленная великолепием происходившего в ее отсутствие, — увидела фонарь на дереве и пошла назад.
— И никого не встретили?
— Нет, никого.
— А когда вошли в дом?
— Везде было тихо, я была рада, что никого не разбудила, и пошла к себе, осторожно, чтобы ничего больше не зацепить, а наверху встретила Энни, которая стояла около моей двери. Я была удивлена, что Энни здесь и что дверь открыта…
— Вы ее запирали?
— Да, конечно.
— Вы точно помните?.. Вы могли от волнения забыть об этом.
— Я совершенно точно ее запирала, и ключ у меня был с собой. Энни говорит, что поднялась посмотреть, что тут происходит, и нашла мою дверь полуоткрытой. Как хорошо, что она не пошла никуда, а осталась и дождалась меня.
— Некоторые способны на благоразумие, — заметила Джейн. — Из комнаты ничего не пропало?
— Кажется, нет. Утром я все осмотрела внимательно.
— А Энни никого не видела?
— Я спросила ее. Она сказала, что нет, никого, хотя слышала какой-то скрип, а потом отвернулась и пробормотала еще кое-что, думая, что я не слышу.
— А вы слышали?
— Она сказала, — таинственно произнесла мисс Робертсон, — что не знает, что здесь творится, но еще разберется с теми, кто протягивает руки куда не надо.
— Протягивает руки куда не надо?.. Кого она имела в виду? С ней кто-нибудь грубо обошелся?
— Не знаю, — отвечала мисс Робертсон, — но она сказала именно это. Я точно слышала.
— Вы ведь рассказали инспектору? Про камешки в окно, фонарь на дереве и все остальное? Вы же говорили с ним сегодня?..
— Я думала, это не так важно…
— Бога ради, мисс Робертсон!.. Это очень важно. Я прошу вас, найдите его немедленно, он где-то в доме.
— Ну если вы так считаете, — пробормотала та, — я пойду.
— Боится, что он будет над ней смеяться, — сказала Джейн, проводив ее взглядом. — Бедная мисс Робертсон. Что ты думаешь обо всем этом?
— Дело серьезное, — сказал Роджер.
— Правда?
— А как тебе кажется?.. Кто-то хотел выманить ее из комнаты, это ясно как день.
— А Энни его случайно спугнула. Значит, мисс Робертсон была права, когда жаловалась на присутствие за дверью. Кто бы это мог быть, а?
— Кто-то, — сказал Роджер, — кто слышал историю викария.
— Кто-то мог и подслушивать. Например, Энни. Что это за человек в черном, с которым она разговаривала?.. Он мне покоя не дает.
— Что ему нужно было от мисс Робертсон?
— Может быть, у нее в комнате есть что-то важное, что ему страшно нужно.
— Что именно?
— Не знаю. Думаю, она сама не знает.
— А что Энни хотела рассказать ему про старых хозяев?
— Не знаю, — мрачно сказала Джейн.
— А зачем он свернул шею Танкреду?
— Что?.. Ну, в это я не верю. Это ваши с инспектором выдумки. Но подслушать, о чем рассказывает викарий, он мог.
— Не просто подслушать, — уточнил Роджер, — а еще и предвидеть, как поведет себя мисс Робертсон, если показать ей фонарь в ночном лесу.
— Это какая-то дьявольская проницательность. Как можно это угадать?
— Ну, вот это легко. Любой бы смог.
— Что?..
— Говорю тебе, людям нравится думать, что они непредсказуемые. Может быть, оно и так, но в быту это неудобно. Привыкаешь быть одинаковым ради экономии. Если встречаешься с человеком за завтраком хотя бы месяц подряд, он тебя уже ничем не удивит.
— Хорош быт, — сказала Джейн, — огни в лесу, исчадия ада в наследственной простыне, туман и шевеленья. Как она отважилась, до сих пор не понимаю.
— Я бы и сам так все устроил, если бы мне понадобилось. Представь, в ночном окне горит огонь среди деревьев, как… ну, как огонь среди деревьев. Мисс Робертсон смотрит на него, как зарянка на землекопа (хоть тут есть нужное сравнение), а потом надевает наряд свой самый худший и выходит из дому, спеша к местам, разбойниками полным, к болотам и озерам, жилищам цапель, и все это ради того, чтобы рыцарь…
— Вот что! — сказала Джейн. — Рыцарь: я ведь хотела тебе рассказать. Сегодня утром, когда все вернулись, инспектор завел с мисс Робертсон разговор о живописи вообще и способностях Эмилии к этому искусству. Я подумала, что это разговор не такого рода, чтобы мне надо было уйти, и что если бы инспектор считал живопись интимной темой, он бы не заводил эту беседу при посторонних. Они сказали много всего, что я не буду пересказывать, а потом инспектор спросил, что мисс Робертсон думает вот хотя бы об этой картине, и повернул к ней одну. Ты помнишь, Эмилия когда-то написала рыцаря на лесной опушке?
— Да, что-то такое было, — сказал Роджер.
— Рыцарь в вороных латах, на белом коне, перед густым лесом. Мы понимаем, что ему что-то предстоит, и волнуемся. Почти всю картину занимают древесные кроны, очень тщательно выписанные, такая первозданная природная мощь.
— Да-да. И что мисс Робертсон?
— Она посмотрела и сказала, что Эмилии очень удалось это полотно, что вообще надо смотреть на вещи с таким простодушием, как смотрел бы слепец, чудесно обретший зрение, и что Эмилии это удалось, особенно в левом углу; что здесь прекрасно выражена абсолютная бесконечность вещей и та тьма, что стоит за нею и запрещает нам познать вещи сполна. Потом они еще немного поговорили про доспехи рыцаря — тяжело ли ему их носить, тяжело ли коню его носить, не ржавеют ли они изнутри и каким средством их тогда чистить, — и на этом разговор об искусстве, можно сказать, и закончился. Мисс Робертсон ушла, а инспектор… Нет, скажи, ты понимаешь, что все это значит?
— Ну, инспектор проявил чуткость к вопросам искусства, — сказал Роджер. — Я не нахожу в этом ничего предосудительного, а мисс Робертсон — тот самый человек, от которого всегда услышишь что-то свежее, так что…
— Ты это серьезно?.. Постой, ты ничего не слышал об этой картине?
— Нет, ничего. Но говорят, что чужие мнения о картине мешают непосредственности восприятия, особенно если они правильные.
— Это не тот случай, — сказала Джейн. — Несколько человек из Бэкинфорда, в том числе почтальон, мистер Барнс, который зашел спросить о политике, и родственники миссис Хислоп, видели эту картину, и в Бэкинфорде возникла нелепая сплетня, что Эмилия нарисовала карикатуру на мисс Робертсон — как будто бы ее профиль вырисовывается в листве справа, если приглядеться, и нос у нее там такой длинный, что длиннее не бывает.
— Наверняка это почтальон, — сказал Роджер. — Родственники миссис Хислоп на такое не способны.
— Где они это взяли?.. Посмотри, — она повернула к нему картину, — ты видишь тут хоть что-то похожее?
— Ты просто не достигаешь нужного простодушия, — сказал Роджер. — Хотя, надо признаться, мисс Робертсон я тоже тут не вижу. Разве что вон там явственно вырисовывается человек с одной ногой и цветочным горшком в руках — видишь? Вон там его ухо, вон бегония, а в эту сторону…
— Теперь ты понимаешь, что произошло?.. Инспектор где-то набрался этих сплетен и, видимо, решил, что мисс Робертсон тоже об этом знала и что для нее эта мнимая карикатура могла быть прекрасной причиной убить Эмилию; и вот он показывает мисс Робертсон эту картину, чтобы посмотреть на выражение ее лица. Или, может, он ждал, что из деревьев начнет сочиться кровь при виде убийцы? Это и есть его методы?.. Я начинаю сомневаться в его успехе.
— Мне кажется, ты придумываешь, — сказал Роджер. — Инспектор спрашивал из одного желания поддержать беседу, а мисс Робертсон выразила обычное свое мнение; но ты не веришь простодушию следствия.
— Во всяком случае, он ее не поймал, — сказала Джейн. — Мисс Робертсон была сама непосредственность. Когда она указывала на абсолютную бесконечность вещей, тут все родственники миссис Хислоп устыдились бы. Таким манером он многого не добьется.
— Ну, поглядим.
— Ты понимаешь, что он подозревает всех? — спросила Джейн. — И викария, и мистера Годфри, и меня, и тебя?
— За мной свидетельство совести, — заметил Роджер. — Я знаю, что я этого не делал.
— Каждый может так сказать.
— Ты не берешь в расчет мою искренность, — с горечью заметил Роджер.
— Ну хорошо, пусть будет искренность. А потом мисс Робертсон ушла, и он принялся спрашивать меня об Эннингли-Холле. Не знаю, правда, зачем — он успел так основательно исследовать библиотеку, что знает теперь больше моего. Его особенно интересовал дедушка сэра Джона, тот, что служил в Индии.
— Сундуки с изумрудами, — вспомнил Роджер, неопределенно поводя пальцами, — тигры-людоеды в сухих руслах, хинин и вообще тайны Востока.
— Он был секретарем контрольного комитета, — сказала Джейн, — или служил по департаменту налогов и сборов, что-то такое; во всяком случае, он скопил достаточно денег, чтобы по возвращении отремонтировать Эннингли-Холл; до него, говорят, тут было запустение. Потом, конечно, пошли слухи, что он потратил не все, а оставил в тайном месте какие-то сказочные богатства; до сих пор, когда читать не хочется, а на дворе дождь, все садятся в круг и начинают рассуждать об индийском наследстве и как было бы хорошо его найти. На самом деле после ремонта мало что осталось. Ну и эта картина…
— Доминик Клотар, — сказал Роджер. — Начало восемнадцатого века.
— О, ты помнишь?.. Ведь это я тебе рассказывала.
— Конечно, помню.
— Ну вот, она тоже куплена индийским дедушкой. Сэр Джон, когда увлекся искусством и накупил всех тех книг, которые ты теперь не можешь найти, рассказывал мне про этого Клотара, что под старость лет он написал какую-то чудесную картину, которую все возносили до небес — там была пастушка с цветком чертополоха и что-то еще, потому что все, кто о ней вспоминал, путались в подробностях, — а потом она куда-то пропала, и с тех пор ни следа ее нет; «А эта, — говорил он, — тень тени, слова доброго не стоит».
— Вы слишком суровы, — сказал Роджер. — В ней есть свои достоинства: и этот колорит, и эта задумчивость, и… Добрый день, мистер Годфри! Скажите, вы случайно не переставляли книг в библиотеке? В том шкафу, где у сэра Джона всегда стояли книги по истории искусства?
— Нет, — сказал мистер Годфри, входя в дом из сада, — я не заглядываю в тот шкаф.
— Прискорбно. Куда-то пропали три тома по истории живописи — как они называются, я не помню, конечно, — а на их месте обнаруживается «Советчик рыболова»: это хорошо, но не совсем то, что мне сейчас нужно.
— Боюсь, в ближайшее время он вам не поможет, — сказал мистер Годфри. — Я прогулялся до Бэкинфорда и видел у реки группу людей, состязающихся в пении баллад. Рыба, которая не успела уйти, теперь плавает кверху брюхом у славных мельниц Биннори.
— Вы не любите битву при Бэкинфорде, — заметил Роджер.
— Не люблю, — согласился мистер Годфри.
— Но почему? — спросила Джейн. — Она же никому не мешает, ну разве только немножко. Люди съезжаются раз в год, чтобы спеть «Эдвард, Эдвард», женщины выходят «видеть дочерей земли той», как говорит викарий, кругом воспоминания о старых добрых временах — пусть не совсем точные, но ведь это всегда так с воспоминаниями — клерки из пароходства объясняют друг другу, как правильно чистить стрелу, город на три дня оживает — что тут дурного?
— Что дурного? — переспросил мистер Годфри. — Да ничего особенного. Всего лишь то, что это мнимая ценность на месте, где могла быть настоящая. Когда упоминаешь Бэкинфорд, все с понимающим видом говорят: «О да, эта знаменитая битва». Скажи им, что это вздор, что Бэкинфорд интересен и важен совсем иными вещами: тебя не станут слушать. Симплегады обречены вечно сходиться и расходиться, Сфинкс — загадывать загадки, а Бэкинфорд — быть местом знаменитой битвы. Между тем раскопки, проведенные в двух-трех правильно выбранных местах, могли бы… а, да что тут говорить. Этого никогда не будет. Пойду к себе. Сходите послушать баллады, это очень романтично.
— Он так серьезно к этому относится, — сказала Джейн, провожая его взглядом. — О чем это мы?.. Да, а Генри ни до чего дела нет. Конечно, он герой, он бьется с бегемотами в лесу, но ему бы стоило иногда возвращаться и смотреть за хозяйством. Но он является раз в полгода рассказать о туземцах, водопадах, ассегаях — Бог весть, что это такое, — и научить Танкреда новым глупостям, а когда я говорю ему, что дом совсем запущен, что Энни ничего не делает, что Эмилия, собственно говоря, не обязана следить, чтобы тут ничего не рушилось, мебель не зарастала пылью на три пальца и обед подавали вовремя, он с величественным жестом произносит: «Пусть наймут кого-нибудь чистить медь». Он думает, у нас тут катер.
— Зато он увлекательно рассказывает, — сказал Роджер. — Правда, у меня ощущение, что он ездит на охоту в басни Эзопа. Между ним и животными все время происходит что-то назидательное. Помнишь историю про обезьяну, укравшую у него ключ?
— В которую он кинул другим ключом, чтобы она сделала то же самое?
— Да-да. Меня только смущает, зачем ему в джунглях столько ключей и что он ими отпирал. Ну ладно, я, пожалуй, пойду в библиотеку, вдруг книги найдутся или мне придет вдохновение.
Он поднялся с места.
— Ты мне так и не расскажешь? — спросила Джейн.
— О чем именно?
— О чем тебя спрашивал инспектор. Я видела, как он поймал тебя в коридоре и вы пошли в библиотеку. Чего он хотел?
— Да ничего такого. Понимаешь, они же всегда должны быть наготове и показывать проницательность, чтобы человек подозревал, что он под подозрением, и больше не решался ни на что преступное. Это как один итальянский художник, когда писал воскресение мертвых в церкви, над гробницей какого-то рыцаря изобразил среди прочего, как этот рыцарь выбирается из могилы под звуки ангельских труб и всего остального, причем сразу в полном вооружении, с наплечниками и наколенниками, потому что если выходишь на улицу, никогда не знаешь, что тебе там понадобится…
— Роджер, о чем он тебя спрашивал?
— Почему бы тебе не узнать об этом у инспектора, — сказал Роджер. — Потому что я могу что-нибудь переврать, а он все помнит в подробностях, так что из его рассказа ты составишь более цельное впечатление…
— Я хочу узнать от тебя. Давай, рассказывай.
— Нет, все-таки инспектор…
— Перестань, а то я разозлюсь. Чего он хотел?
— Он спрашивал об отношениях между мной и Эмилией.
— Каких отношениях, — со смехом сказала Джейн, — ты же здесь не был с самого… Роджер?..
— Я здесь был, — сказал Роджер. — Два раза в марте и еще до этого. И еще Эмилия приезжала в город. Это были вполне невинные встречи.
— Вот как, — сказала Джейн.
— Я приехал пораньше, чтобы поговорить с ней. Я боялся, что из наших свиданий она сделает слишком серьезные выводы и будет вести себя на людях так, как будто бы что-то есть, хотя ничего нет. Сидел у реки и думал, с чего начать, но так и не придумал и пошел сюда, надеясь, что слова придут сами. А потом уже…
— А мне ты не хотел об этом рассказать?
— Джейн, ты не должна думать, что…
— А я и не думаю, — сказала Джейн голосом, свидетельствовавшим, что она думает.
— Вот поэтому я и хотел, чтобы ты узнала об этом от инспектора, — печально сказал Роджер.
— Что?..
— Чтобы он видел, что ты слышишь об этом впервые.
— Погоди, — Джейн коротко рассмеялась. — Ты сообщаешь мне, что волочился за покойной Эмилией и намеревался скрывать это и дальше, если бы не вмешался инспектор; он, надо думать, наслушался об этом в Бэкинфорде, так что про твой роман знает здесь каждый, кроме меня. Хорошо. Потом ты делишься со мной соображением, что если бы я знала об этом раньше, то могла бы убить Эмилию; во всяком случае, тебе это кажется убедительным мотивом. Я правильно поняла?
— Джейн, я вовсе не…
— Так вот, — сказала она ледяным голосом, — мне бы не хотелось, чтобы ты переоценивал то, на что я ради тебя способна. Ты разочаруешься. Доброго дня.
— Надо же быть таким дураком, — сказал Роджер, оставшись один. — Просто удивительно. И не смейся, — отнесся он к картине, — это невежливо.
— Чем она занята? — переспросил мистер Годфри.
— Сочиняет надгробную надпись, — сказала Джейн. — Говорит, речь викария ее вдохновила; что мы должны сказать Эмилии, как мы ее любили; что это нелепое положение, когда всех подозревают, сводит ее с ума и что она сама себя начинает подозревать, хотя знает, что ничего такого не делала; что она будет сочинять эту надпись, пока не сочинит, и предлагает каждому сделать то же, чтобы потом выбрать лучшую и считать ее общей.
— Мисс Робертсон права, — сказал викарий, — мы должны что-то сделать.
— Конечно, — задумчиво сказала Джейн, — только что же мы напишем? «Дорогая Эмилия, мы очень тебя любим»?.. Это же эпитафия, а не письмо о том, какая у нас погода и откуда еще упал мистер Барнс.
— Да, задача непростая, — согласился мистер Годфри. — Но тем слаще будет победа, так?
— Когда заходит речь о надгробных надписях, — сказал викарий, — я всегда вспоминаю фразу, которую, по преданию, сказал император Септимий Север незадолго до смерти: «Omnia fui et nihil expedit».
— Как это переводится? — спросила Джейн.
— Я был всем, и все впустую, — сказал мистер Годфри.
— Удивительно, что слова такой силы произнес языческий император, да еще такой, которого представляешь скорее в казарме, чем в философских классах, — продолжал викарий. — Я бы не удивился, найдя подобное у Экклесиаста.
— Это слишком печально, — сказала Джейн. — И к тому же бедная Эмилия не была всем…
— Это можно подправить, — легкомысленно сказал Роджер. — «Я была кое-чем».
— Открыв высокие двери, — задумчиво сказал викарий. — Вот образ, который я бы включил в эпитафию. Открыв высокие двери.
— Это очень поэтично, — сказала Джейн.
— Это написано на могиле крестоносца в нашей церкви, — пояснил викарий.
— Этого там не написано, — с силой сказал мистер Годфри.
— Я знаю ваше мнение об этой надписи, — сказал викарий, — но оставляю за собой право иметь иное.
— Я уважаю ваше желание, — отвечал мистер Годфри, — и уверен, что оно не является единственным доводом в пользу вашего толкования.
— Мистер Годфри, — сказал викарий, — давайте вынесем этот спор на публику. Здесь у нас двое молодых людей не без здравого смысла и образования; прочтите им стихи и расскажите, что вы об этом думаете, а потом скажу я.
— Прекрасно, — сказал мистер Годфри. — Итак, надпись на могильной плите гласит…
— Позвольте мне, — сказал викарий. — В нашей церкви есть надгробная плита человека, который, по преданию, участвовал в крестовом походе с королем Ричардом, счастливо вернулся и умер дома. Надпись на плите была сделана, видимо, сразу после его смерти…
— Не раньше времени Генриха Седьмого, — сказал мистер Годфри.
— Да, поновлена в конце пятнадцатого века, — досадливо отозвался викарий, — однако нет оснований считать, что и самый текст, и расположение его на плите принадлежат времени более позднему, чем…
— Хорошо, хорошо.
— К сожалению, в позднейшие бурные времена плита была изуродована, а уцелевшее от насилия испытало на себе власть времени и небрежения. Начальная часть утрачена, так что мы не знаем точно даже имени погребенного. Удовлетворительно читается лишь одна строфа — потому что эпитафия, как всем, я полагаю, известно, написана рифмованными стихами…
— Этот романтизм средневековья, — насмешливо сказал мистер Годфри.
— Может быть, вы хотите прочесть? — отнесся викарий к сопернику.
Мистер Годфри приподнял подбородок, прикрыл глаза и прочел, помахивая пальцем:
— Vidi hospes plagas taetras,
Oras mensus sum triquetras,
Scyllaea cubilia;
In erroribus incertis
Altis hostiis apertis
Magna gessi proelia.
«На чужбине я видел ужасные края…»
— Я бы предпочел понимать здесь «plagas» как «бедствия», — ввернул викарий, — а «vidi» толковать в смысле «претерпел». «Я познал ужасные тяготы».
— Мне это кажется натянутым…
— Почему же?..
— …но пусть так. «Измерил треугольную область…»
— Какую? — переспросила Джейн.
— Речь идет о Сицилии, — пояснил викарий. — Крестоносцы простояли там целую зиму, пока собирались все вместе. Выражение заимствовано у Лукреция, это говорит о приличном образовании автора, несмотря на непритязательность его стихов.
— Могли быть посредствующие источники, — заметил мистер Годфри.
— Какие же?.. Во всяком случае, не Силий Италик.
— Разумеется.
— Немного обидно за Силия Италика, — прошептал Роджер, — но по крайней мере он как может сближает ученых людей.
— Во всяком случае, без этих красот стоило обойтись. Прискорбно видеть, как к тщеславию воина, заказавшего эпитафию, примешивается тщеславие клерка, который и к чужому гробу норовит приклеить свидетельство своих школьных успехов.
— Я, напротив, нахожу эту черту в высокой степени трогательной, — сказал викарий.
— Ну, идем дальше, — сказал мистер Годфри. — «И логово Сциллы». Которая, как известно, гнездилась не на Сицилии, а на противоположном берегу пролива, но для крестоносцев это не важно.
— Есть еще метонимия, — нетерпеливо сказал викарий. — В том числе на Сицилии.
— Да, конечно. «В неверных блужданиях, явив высокую жертву…»
— Нет, — сказал викарий.
— Сделайте милость, докажите, — сказал мистер Годфри, широко разводя руками.
— Видите ли, — сказал викарий, обращаясь преимущественно к Джейн, — в надписи, как она выглядит сегодня, читается: «Altis hostiis apertis». Может быть, там с самого начала читалось «hostiis» в смысле ostiis — такие примеры попадаются сплошь да рядом; может быть, там и стояло «ostiis», но люди, переделывавшие надпись, исправили это место без всяких оснований; во всяком случае, сегодня она понимается совершенно неверно. Речь идет не о жертвах, а о дверях, и всю эту строку нужно понимать как «отворив высокие двери». Существует легенда…
Мистер Годфри, ни слова не говоря, воздел руки и картинно обратил на себя внимание высших сил.
— Существует легенда, — твердо продолжал викарий, — что этот рыцарь, будучи с королем Ричардом на Кипре, сошелся с каким-то греком-некромантом и тот вызвал ему демона в развалинах храма Венеры. Потом рыцарь то ли пользовался его услугами, то ли пытался от них отказаться; в общем, дальнейшие его подвиги были омрачены этой выходкой безумного легкомыслия. Сочинитель надгробных стихов хотел намекнуть, что и он наслышан об этой истории; он сделал это лучшим из доступных ему способов — взяв взаймы у Вергилия. Употребленное им выражение — из восьмой книги «Энеиды»: «alta ostia Ditis», «высокие Дитовы двери».
Мистер Годфри шумно пошевелился.
— Собственно, у меня все, — сказал викарий. — Теперь ваша очередь.
— Совершенно ясно, — начал мистер Годфри, — я бы даже сказал — ясно денно и нощно, что эта легенда не объясняет надписи и не оправдывает вашего чтения, потому что сочинена на ее основе, а не наоборот. Она может быть очень древней, но она не древнее эпитафии. Эта легенда говорит лишь о том, что древние бэкинфордцы тоже видели в этой строке трудность и направили против нее всю силу растревоженной изобретательности. Не говорю уже о том, что место этого рокового происшествия, Кипр, никак не упомянуто, хотя…
— Нельзя уверенно судить о том, что было и что не было упомянуто в тексте такой сохранности. Кроме того, неужели вы не знаете, сколь значимы бывают умолчания и сколь весомее бывает то, о чем автор предпочел не говорить?
— От двух строф осталось достаточно, чтобы судить об их содержании. Кроме того, я предпочел бы не обсуждать доводы от умолчания, потому что жизнь человеческая коротка, а хотелось еще кое-что успеть. Наконец, и правило lectio difficilior подталкивает к заключению, что из двух чтений, «ostiis» и «hostiis», исходным следует считать скорее второе.
— Нельзя ли это пояснить? — осторожно спросила Джейн.
— Принято считать, — сказал викарий, — что при переписывании исправляют менее понятное на более понятное, а не наоборот. Мистер Годфри, таким образом, признает, что защищаемое им чтение невразумительней того, которого придерживаюсь я.
— Мистер Годфри, ведь вы же скажете?..
— Я предлагаю, — сказал тот, — понимать «apertis» в смысле «явив» или «показав». Это не так уж далеко от «oblatis», которое, надо думать, выглядело бы в ваших глазах совершенно удовлетворительным. Конечно, «hostiis apertis» — неуклюжее выражение, вызванное к жизни неумением совладать с рифмой, но по существу совершенно ясное. Ту же мысль выражает апостол, моля братий «представить свои тела жертвой живою», «exhibere corpora hostiam». Рыцарь прожил добрым христианином и хотел, чтобы люди об этом помнили; это куда уместнее, чем на могиле человека, умершего в мире с церковью, намекать, что он по ночам курил цафетикой и чертил круги в каких-то богопротивных развалинах. Так вот, «явив собою высокую жертву» — может, это и нескромно, зато вполне объяснимо — «я свершил великие битвы».
Викарий пожал плечами.
— Удивительно, — сказала Джейн. — К своему стыду, я не знала, что рядом с нами находится столько спорных вещей. А что там дальше?
— В следующей строфе можно разобрать только два стиха, — сказал мистер Годфри. — Ecce flent amaro plenae fontis mei parcae venae. «Вот струятся, полные горечи, скупые жилы моего ключа».
— Это прекрасное место, — сказал викарий, — намекает на один эпизод священной истории: Моисей у горьких вод Мары; все помнят, конечно. Он сделал источник пригодным для питья, бросив в него дерево, указанное Богом. Обычно тут видят человеческую природу, горькую от греха, и милосердие Божье, искупившее нас крестной жертвой. «Вот ключ, что отпирает небеса, — процитировал он, — вот врата Господни, коими внидут праведные; вот древо, что услащает воды Мары».
— А еще что-нибудь уцелело? — спросила Джейн.
— Ну, если не считать места в самом низу плиты, — сказал мистер Годфри, — где камень иссечен так обильно и разнообразно, что при желании можно прочесть несколько страниц «Диалога о чудесах»…
— Это место собаки, — с легким раздражением сказал викарий, — каменной собаки, которая сидела в ногах, пока плиту не переделали; это общеизвестно, и я не вижу повода…
— Да-да. Так вот, там видны еще три строки, а после них все утрачено.
Urit ignis, pungit vermis,
Homo patitur inermis,
Nesciens solacia.
«Печет огонь, жалит червь…»
— Жалит? — переспросила Джейн.
— Жалит, — с удовольствием подтвердил мистер Годфри. — «Беззащитный человек мучится, не ведая утешения». Все.
— Как, совсем все?..
— Ну, чуть ниже можно еще разобрать UMNIL, а еще ниже — AGRA.
— Это какой-то безрадостный конец, — сказала Джейн.
— Послушайте, — сказал викарий. — Это же эпитафия средневекового христианина. Его последним словом не могут быть огонь, червь и муки. Я готов сказать, что было написано дальше.
— В самом деле? — вежливо осведомился мистер Годфри.
— Расскажите, пожалуйста! — воскликнула Джейн.
— Его последним словом, — сказал викарий, — была надежда, и я берусь прочесть эти три строки с такой уверенностью, как будто видел их своими глазами.
Он задумался на мгновение и произнес:
— Nil jucundum, nil amoenum,
Nil salubre, nil serenum,
Nisi tua gratia.
«Нет ничего отрадного, ничего целебного, ничего безмятежного, кроме Твоей благодати».
— Да вы прямо волшебник, — сказала Джейн.
— Это напоминает мне, — сказал мистер Годфри, — чье-то убеждение, что в день всеобщего воскресения покойники вырастут, как цветы, из зерен собственных зубов. Конечно, я не буду оспаривать ваше изящное решение, которое обладает всею поэтической убедительностью, хотя в строго научном смысле…
— А больше там ничего не написано? — спросила Джейн.
— Можно сказать, что нет, — отвечал викарий. — Есть, конечно, какое-то сокращение в нижней части плиты, сделанное другой рукой, более небрежной, и весьма невразумительное, так что обсуждать его…
— Нет, почему же, — сказал мистер Годфри. — Давайте расскажем молодым людям, наверняка им будет любопытно.
— Там написано D.C.H.SED., — сказал викарий.
— D.C.H.SED.? — переспросила Джейн. — Это что-то значит?
— Ну, есть разные мнения. Я бы предположил, что это шутка, относящаяся к собаке.
— Которой нет, — уточнил Роджер.
— Да, к той собаке, которой нет. D.C.H.SED. значит «Dotis Custos Hic Sedet», «здесь сидит страж богатства». Мне кажется, это озорство вполне в духе людей, рисовавших чертей и пляшущих сов на полях рукописной Псалтири, и что эта непривычная нам способность…
— Или Discrimen Hinc Sedatum, — внезапно сказал мистер Годфри.
— Что? — озадаченно переспросил викарий.
— «Discrimen Hinc Sedatum» — повторил мистер Годфри. — «Всякая опасность впредь подавлена». Может быть, рыцарь выражает надежду, что за гранью гроба кончатся смуты, в которых прошла его жизнь, или же эта фраза призвана отвести будущих разорителей от самого надгробия — в этом случае надо признать, что она мало помогла. Как бы там ни было…
— Таково ваше чтение? — спросил викарий.
— И я пока не вижу повода от него отказываться, — безмятежно отвечал мистер Годфри.
— Ну хорошо, — сказал викарий. — Допустим, этот человек употребил «discrimen», пренебрегши более вероятным «periculum». В конце концов, у всех разные вкусы. Допустим также, вы найдете примеры на выражение «discrimen sedare» — я и сам припоминаю один-два таких случая в монастырских хрониках, которым лучше было бы не рождаться, чем жить вечным позором глагольному управлению. Но не могли бы вы привести достоверный пример надписи, в которой «discrimen» сокращалось бы до DC.? Хотя бы один?
— Ну, если вы настаиваете, — сказал мистер Годфри и вдруг поднялся и ушел в дом.
— Куда это он? — с беспокойством спросила Джейн. — Он не обиделся?
— Кажется, я вел себя неподобающим образом, — сказал викарий. — Сколько раз я говорил себе.
— Да, вы спорили довольно бурно, — сказала Джейн.
— Совершенно невозможно следить за собой, когда раздражаешься. Что если мне сейчас пойти к мистеру Годфри и…
— Вот, пожалуйста, — сказал мистер Годфри, входя в галерею и издалека протягивая ладонь. — Это медаль, которую Паоло Беллаччо, или Паоло Аретинец, сделал в 1520 году для короля Франциска.
— Это Геркулес, я так понимаю, — сказал викарий, вглядываясь в изображение. — Какая прекрасная работа.
— Это, наверное, страшная редкость.
— У меня есть и другие, — сказал мистер Годфри.
— А что это вверху, дракон?
— Это саламандра, — сказал мистер Годфри. — И обратите внимание на легенду.
— «DC LAET», — прочел викарий. — Однако из чего видно, что DС значит здесь «discrimen»?.. Это может значить что угодно, и я не сходя с этого места могу предложить не меньше трех-четырех толкований, которые…
— Я подозревал, что это вас не убедит, — сказал мистер Годфри, — потому прихватил с собой мемуары, которые Паоло Беллаччо сочинил в старости. Когда человек на пороге смерти, он начинает хвалить себя особенно неистово, понимая, что это, может быть, последняя возможность. Историю этой медали он расписывает во всех подробностях, и перевод очень хорош, так что я надеюсь доставить вам удовольствие. Сейчас я найду это место.
— Кажется, я его знаю, — сказал Роджер. — Это не он уехал из Рима, потому что у него там болела голова, а когда ему понадобилось написать тьму, наступившую по смерти Спасителя, он изобразил Ночь, перерисованную с одного римского изваяния, а так как места оставалось много, прибавил к ней фонарь для ночной ловли дроздов, горшок с фитилем, ночной колпак, несколько подушек и нетопырей, и таким манером собрал целый амбар ночных вещей, так что у людей, видевших это, рождалось желание поскорей забыться сном, и никакого благочестия…
— Нет, — сказал мистер Годфри, — это не он. Так, «...и покамест я возился с этим серебряным блюдом, думая, как бы угодить королю, пришел ко мне Бенедетто Тальякарне, генуэзец, коему король поручил воспитание двух своих сыновей, и сказал…» Ну, это можно пропустить…
— Дела семейные, — пояснил Роджер.
— Могу себе представить, — фыркнул викарий.
— Вот, — сказал мистер Годфри. — «А потом я выставил его, сделав так, чтобы сперва они видели само блюдо, а потом — крышку от него. На блюде я пустил понизу дубовые ветви и охотничьих собак между ними, полурельефом, а также косуль, кабанов и другую дичину, которую производит хороший лес, и все это было так отменно слажено, что король и все те, кто был с ним, были восхищены как замыслом, так и тщательностью работы. А потом я показал им крышку, коею накрывалось сказанное блюдо. С двух сторон там были полурельефом изображены сатиры, с рожками и козлиными головами, ведущие борзых на сворке, а на самом верху сделал я круглой фигуркой человека в одежде ловчего, здоровым ножом разделывающего оленью тушу, и придал ему черты помянутого Тальякарне, так что никто не усомнился бы, чье это изображение; и он так прекрасно там уселся, что всякий, кто хотел бы снять крышку, должен был ухватить этого Тальякарне за голову. И когда они уразумели, что такое я сделал, некоторые отвернулись, чтобы отсмеяться, а король нахмурился и спросил, что это значит. Я со всею почтительностью и смирением отвечал ему, что мне понадобилось изобразить человека, режущего мясо, и что, по совести, никто лучше мессера Бенедетто сюда не годился, затем что его так зовут. На это король, совсем осерчав, сказал мне, что не желает знать, что там было между мессером Бенедетто и мною, но что он не даст мне заноситься и что мне должно быть известно, как бывает с теми, кто держит себя выше разума. Я же отвечал, что коли мессер Бенедетто пускает в ход свой язык, мой же не так хорош, я вынужден браться за оружие, коим владею, то есть резец и все прочее, и нахожу, что это дело честное; а что до моих нравов и обыкновений, то когда я отправлялся сюда, многие в Риме мне говорили, что-де французы люди грубые и у них можно добиться великой славы за вещи, кои у нас здесь были бы в пренебрежении, в то время как настоящей тонкости они не оценят, я же отвечал, что слышал о тамошних людях много доброго и что намерен приложить для короля все усердие, какое у меня есть, если же кому не полюбится моя гордость, то уповаю, что мне ее простят, ибо лучше гордец, знающий дело, чем человек смирный, который если и сделает что хорошее, то не по уму, а по случайности, как ломбардские крестьяне, которые приходят в Рим окапывать виноградники и находят в земле старинные камеи, агаты и сердолики, а потом продают их за гроши. Я также сказал королю, что от тех же звезд, которые наделяют нас остроумием, входит в нас неуживчивость, злопамятство и всякое жало в плоть, так что впустую искать одно без другого, и что человек, которому дорога его слава, ищет себе приличного поэта, чтобы тот сочинил ему хвалу как полагается, а не приглашает какого-нибудь Джованни Гадзольдо, чтобы прекрасным образом испортить себе все дело. От этих моих речей король рассмеялся и сказал: „Паоло, если бы твою великую искусность сдобрить хотя бы крупицей покладистости, из тебя вышло бы отличное блюдо; и кто такой этот Джованни Гадзольдо, коего ты поминаешь?” Я отвечал, что это прежалкий поэт, которого папа Лев весьма часто порицал за его никудышные и хромые вирши и который сделался для всех притчею, а когда он от своего сумасбродства затеял поэму о троянском коне, думая стяжать великие за нее хвалы, папа сказал ему: „Джованни, неужели ты не слышал, что христианину подобает прощать своих врагов и отпускать им грехи, сколько бы их противу него ни было? Я дивлюсь твоей мстительности: будь даже вся Троя населена твоими неприятелями, а также детьми, женами, волами и ослами твоих неприятелей, разве ты не насытился зрелищем бедствий, посетивших злосчастный этот город, что хочешь прибавить к ним еще и свою поэму?” И все равно этот человек, пребывавший в неколебимом самодовольстве и уверенный, что все вокруг ревнуют его дарованиям, сочинил эту поэму, как будто умные люди не говорили ему, чтобы он этого не делал».
— Прекрасно, — сказал викарий.
— Некоторым нравится досаждать окружающим, — сказала Джейн. — Когда им это удается, у них праздник.
— «У короля в Париже, — продолжал мистер Годфри, — жил некий Маттео, веронец, который у себя на родине свел знакомство с мастерами, резавшими камеи, и многое из их умения перенял, а между тем научился играть на лютне, а когда счел себя искусным в том и другом, то поехал во Францию и добился здесь великой известности: те, кто разбирался в геммах, говорили, что он, верно, добрый лютнист, а те, кто смыслил в музыке, считали его славным резчиком, и так он сделал себе славу, сидя между двумя невежествами. Впрочем, был он человек добродушный, не завистливый и такой щедрости, что скорее подарил бы свою работу, чем согласился продать за малые деньги. А этот Тальякарне принялся говорить, что если и давать кому важную работу, то человеку, который смыслит в старинных медалях, каков этот Маттео, что вырезал для короля гемму с Деянирой, а не такому, кто не ведает ничего выше своих прихотей. К этому он прибавил, что у него есть некоего древнего мастера замечательная медаль, где с одной стороны изображена Медуза, а с другой — летящая Победа с четверкою коней, и сколько он ни видал римских медалей, а не припомнит ничего подобного по тонкости и благородству работы, и что он носит ее всюду с собою, ибо не желает ни на час с нею расстаться. С сими словами он достал помянутую медаль и принялся всем ее показывать, и все глядели на нее с великими похвалами и изумлением, говоря: какая жалость, что у нас нынче никто в таковой работе не успеет. Подошел он с усмешкою и ко мне, думая меня поразить чудесной этой работой, но я сказал, что и не глядя могу заметить в ней кое-что отменное: а именно если он посмотрит внимательно на надпись под ногами Победы, то увидит, что начальное Р в ней сделано не как обычно, а повернуто в обратную сторону; и будучи таким знатоком, каким он хвалится быть, пусть скажет, видал ли он когда что-то подобное. Он же ничем мне не отвечал, а только вертел ее в пальцах, будто искал на ней третью сторону. Видя по его замешательству, что я попал в самую точку и все именно так, как я говорю, и не желая дожидаться, когда он опомнится, я сказал, что эта буква повернута так не по случайности, а во свидетельство, что сделал эту вещь я, Паоло, а не кто-нибудь другой, и что сверх того есть иные мелкие приметы, дабы убедить тех, кому захочется сомневаться. Тут я взял медаль в руки и показал всем помянутые знаки, объясняя, как это сделано и для чего. Дело было в том, что, живучи в Риме, я сделал три такие медали для епископа Павийского, которому хотелось иметь что-нибудь моей работы, а потом еще несколько, кои продал тогда же за приличные деньги; а этот олух купил ее у кого-то из тех, кому я ее продал как распрекрасную античную вещицу. Это я говорю к тому, что в Риме еще и не то можно купить, и сам я знавал одного человека, который, накупив задешево новехоньких мраморов, только что из мастерской, закапывал их у себя в саду и ежедневно удобрял жидким навозом, чтобы они пожелтели и побурели, а потом выкапывал и продавал за античные, так что не было в городе кардинала, который не обзавелся бы цветком с этой грядки в уверенности, что приобретает нечто почтенное». Тут мы пропустим еще кое-что, не идущее к делу…
— Удивительно вздорный человек, — сказал викарий. — Его кто-то любил?
— Наверняка, — сказал Роджер. — Всех кто-нибудь любит.
— «Казначей короля, — продолжал мистер Годфри, — коего звали монсиньор Жиль Бертело, пришел и сказал мне: „Паоло, король хочет поручить тебе одну работу, хотя он сомневался, ведая твою заносчивость и что от тебя не знаешь, чего ждать; но я говорил ему, что при всей твоей строптивости другого такого искусника не найти, и он со мною в том согласился”. И я премного его благодарил, а он открыл мне, что дело идет о некоей медали по поводу того, что приключилось прошлым летом. Король Франции и король Англии согласились съехаться ради неких важных дел; и король Англии пересек пролив и вступил в свои земли, где для его жительства возвели целый замок. Пред воротами на зеленой равнине стоял фонтан, отделанный золотом, на коем изображался Вакх, наливающий вино, а по желобам струилось красное вино, белое и кларет, над головою же Вакха было написано золотыми буквами: „Faicte bonne chere quy vouldra”, то есть „Угощайся кто хочет”. С другой стороны стояла колонна древней работы, поддерживаемая четырьмя золотыми львами, на верхушке которой было изваяние слепого Купидона, натягивающего лук и уже готового стрелять в кого придется. Крыши всюду были покрыты расшитыми шелками и блестели точно золото, а во дворце была возведена часовня, хоры коей были затянуты шелком, а алтари покрыты золотою тканью, расшитой жемчугом; все покровы здесь были флорентинской работы. Сам я этого не видел, но говорят, что все было придумано и сделано так ловко и быстро, что такого прежде не видели. А король Франциск со всеми его дворянами прибыл в город Ардр, где к их приезду приготовили множество палаток, домов и беседок, и еще столько же было установлено и возведено в поле за городом. В том же городе Ардре начато было строительство прекрасных королевских покоев, но не закончено, и король приказал, чтобы его поместили невдалеке за городом, в некоем замке, пострадавшем от войны в давние времена. Там же достроили помещение для увеселений и развлечений, большое и обширное в обхвате, главной опорой коему служил огромный столб, поддерживаемый натянутыми толстыми веревками и другими снастями. Потолок, опиравшийся на оный столб, был голубого цвета и украшен звездами из золотой фольги, а небесные тела на нем выписаны красками на манер небосвода, а еще был там полумесяц, слегка вытянутый в сторону города Ардра; оный полумесяц был украшен сетью, сплетенной из веток плюща, и ветвями самшита и прочим подобным, что могло долго оставаться зеленым и радовать глаз. Потом оба короля поднялись с места со всеми своими людьми в прекрасном порядке, дабы встретиться на поле, и провели несколько дней вместе, и там было сказано и сделано много такого, о чем здесь писать не к месту, ибо я сам этого не видел и сужу по чужим рассказам. А напоследок у них отслужили мессу; совершал же ее господин Томас Вулси, кардинал и папский легат, уполномоченный быть высшим послом при обоих королях. Сей кардинал прибыл верхом в сопровождении благородных лордов и прелатов в город Ардр, к французскому двору, где французский король устроил сказанному господину кардиналу пышный прием, а чтобы запечатлеть благородство кардинала, французы записали в книги всю триумфальную роскошность кардинальского величия. Они записали, сколько там было рыцарей и лордов, все в темно-красном бархате, с изумительным количеством золотых цепей, и о бывшем там великолепном коне, мулах, лошадях и повозках, кои, предваряя кардинала, прибыли в Ардр с вьюками и сундуками, а кроме того, о его больших крестах и свечах, о подушке в расшитой наволочке, о двух его мантиях вкупе с другими церемониальными одеяниями, о великом и почетном числе епископов, прислуживавших ему, о великом множестве слуг, одетых в алые одежды; всякий, кто прочтет сию французскую книгу, найдет там такой отчет, искусно составленный. И когда помянутый кардинал служил мессу, которую слушали оба короля со своими людьми, над ними в небе пролетела некая тварь, которую одни сочли драконом, а люди большей учености говорили, что это саламандра. Из-за этого многие были омрачены, уверенные, что это знамение не на добро, и сам король был обеспокоен, тем более что туда стекалось много народу из Пикардии и Фландрии, чтобы видеть королей в их славе, и толки об этой твари разошлись широко. Из сего я уразумел, что надобно повернуть эту историю к королевской выгоде, и сказал монсиньору Бертело, чтобы он не беспокоился, ибо я хоть и не Цезарь и не другие полководцы, кто умел истолковать дурные приметы себе на пользу, однако не без головы на плечах, и если…» Тут, пожалуй, я пропущу еще немного.
— Непростая задача, — сказал Роджер. — Любопытно, как он выкрутится.
— Все это очень странно, — сказал викарий. — Саламандра была эмблемой Франциска, это общеизвестно, и если бы он ее увидел у себя над головой, то скорее должен был радоваться, что небо дает добрый знак ему, а не англичанам.
— Я думаю, и человек с драконом в гербе не обрадовался бы, встретив его живого в лесу, — заметил Роджер, — будь даже он точно такой же, лазоревый и с бордюром. Это тонкий вопрос об отношении искусства к действительности. Один…
— «И вот, — провозгласил мистер Годфри, — я сделал медаль с головой короля Франциска, на обороте же изобразил Геркулеса, который держал на своих плечах вселенную, а поверху пролетала саламандра, а вокруг была надпись, гласившая: „Discrimine laetus”. Это означало, что король радуется трудам и опасностям, кои дают ему выказать несравненную его доблесть, как когда он разбил швейцарцев близ Милана в сражении, длившемся целую ночь и целый день, и заставил их поплатиться за все их жесткости и надмение. Можно истолковать эту надпись и так, что король радуется оказанному отличию, ибо саламандра пролетела прямо над тем местом, где стоял он и его люди, а не над иным; саламандра же обитает в огне без вреда для себя, а огонь по природе своей устремляется ввысь; сим означалось превосходное мужество короля и благородная его справедливость. Этою выдумкою я был весьма доволен, и она принесла мне большую честь от людей, смыслящих в художестве». Ну, я надеюсь, с сокращениями все ясно и мы не продолжим их обсуждать.
— Все это странно, — с сомнением повторил викарий.
— Не знаю, как вы, — весело сказал мистер Годфри, — а я не прочь поужинать. Где миссис Хислоп? Не мог бы кто-нибудь пойти и сказать ей, что времена изменились и ее башня уже не обязана морить людей голодом?..
— Я схожу, — сказала Джейн.
— Я думала, он способен на лучшее, — сказала пастушка, — а он обманывал эту девушку и признался ей в этом, не краснея и не опуская глаз. Она весь вечер была опечалена, а он держался как ни в чем не бывало. Неужели сердце его не помнило, что есть вещи, с которыми нельзя так обходиться?
— Будем осторожны, судя о том, чего не видели, — сказал волк.
— По-моему, тут все очевидно, — возразила пастушка.
— Так не бывает, — сказал волк, — тем более что тут дело идет о любви, а это область, в которой люди не понимают друг друга чаще, чем где-либо.
— Это правда? — спросила пастушка.
— Правда, — сказал волк. — Только подумай, какие опасности ждут человека, осмелившегося открыть кому-нибудь свое сердце! Он рискует встретить лень, граничащую с пренебрежением; рассеянность, которая охладит или оскорбит его; придирчивость, которая пристает к каждому слову не потому, что ценит его, но потому, что хочет показать себя; коротко сказать, влюбленному лучше молчать днем, если он не желает мучиться, вспоминая все это ночью. Если трезво рассудишь об этом, удивишься, что есть еще люди, способные вкушать в любви ничем не омрачаемое блаженство. Впрочем, кто последний их видел?
— Неужели все так печально? — спросила пастушка.
— Если позволишь, — отвечал волк, — я перескажу тебе историю, которую рассказала г-жа де Гийарден, старая знакомая нашего хозяина, г-на Клотара.
— Я люблю этот предмет, — сказала г-жа де Гийарден человеку, который заговорил с ней о любви, — особенно потому, что он нерасторжимо связан со злоречием, а в свете нет человека, который по доброй воле отказался бы выклевать ближнему печень. Это напоминает мне одну историю: позвольте мне ее рассказать.
В юности я была знакома с г-жой де Скюдери. Она сохраняла весь блеск своего ума и всю занимательность своих бесед; слушать ее было истинное наслаждение. В ту пору вы бы меня не узнали: во мне ничего не было, кроме непосредственности; видимо, это ее развлекало.
Однажды я сидела у нее; мы смотрели, как котенок возится с нитками, и говорили о прихотях славы; я упомянула человека, лет за сорок до того привлекавшего общее внимание слухами о хладнокровной дерзости, неизменно выказываемой им среди опасностей войны. Г-жа де Скюдери погрузилась в задумчивость, которую я решилась прервать. Тогда она рассказала мне историю, которая, по ее словам, доселе удивляла ее самое.
Когда-то давно она была знакома с этим господином; он питал к г-же де Скюдери чувства более глубокие, чем обыкновенное расположение; она любила в нем острый ум, разнообразную ученость, всегда скрашиваемую насмешливостью, и даже приступы меланхолических причуд. Однажды дела вынудили его уехать в деревню; он обещал г-же де Скюдери, что в отъезде тотчас начнет помирать со скуки, она же убеждала его стать там трижды и четырежды блаженным, как это принято в книгах. Через несколько дней она написала ему письмо, которое я вам перескажу, как помню.
«Хотите слышать историю, о которой все говорят? Она развеселит вас в сельском уединении. Известная вам Перье пробудила чувства в одном господине, которого я не буду называть. Подобно странствующему рыцарю, он влюбился в Перье на основании слухов о ее красоте, потому что он совершенно слеп. Бедная Перье, которая, как все мы, любит свою власть, быстро начала ею тяготиться, ибо этот господин, не видя ее, умудрялся оказываться везде, где она могла его видеть. Она была с ним искренней, как добродетельная женщина, которая отказывает поклоннику, имея в виду отказать. Его любовный язык был для нее китайским, его знаки внимания были ей смешны и противны, его богатство и положение были ничто, ибо при всех своих достоинствах г-н N, в отличие от сирийского мага, умел вызывать лишь одного демона, именно того, что отталкивает любовь, а не привлекает ее. Слышав от льстецов похвалы своим ногам, он старался, чтобы их заметили; уверенный, что у него красивые зубы, он улыбался, чтобы их показать; он принимал академические позы, чтобы подчеркнуть гибкость своей талии; следуя мнению, которое не мог проверить, он старался произвести впечатление, которого не мог оценить. Думая, что слепота — единственное, что мешает ему нравиться, он обрушивался с горькими укоризнами на зрение. Он говорил, что нельзя давать глазам воли; что их взгляд зарождает в нас зависть, пробуждает вожделение; невежественные судьи, они доверяются внешности и часто предпочитают позор святыне, вымысел истине, тревогу радости; что они, прославляя то, что следовало бы порицать, и лаская нас мимолетной утехой, заражают душу недугами самыми постыдными. Неведомо для себя они бывают застигнуты, увлечены, похищены миловидностью, даже бесчестной, игривыми знаками, развязностью юности; они дверь сердца, через них сладострастие шлет весточки разуму, желание зажигает слепой огонь, душа посылает свои стенанья и открывается в своих влечениях. Мы не слыхали бы о бесславье Дидоны, о преступленье Медеи, о тяготах Елены, если бы эти дамы смежали веки не только для того, чтобы уснуть, но и чтобы заградить дорогу злу; честь бы их уцелела, их живые родственники были бы живы, а мертвые — спокойны, не колебалось бы их могущество, не обесценивалась красота. Он воспел благородство слуха, цитируя Аристотеля, и перешел к превосходным качествам осязания; Перье поспешила его оставить, боясь, как бы он от похвал не перешел к опытам. Коротко сказать, своими уклончивыми нежностями, учтивостью без участия, осмотрительностью без ошибок и прочими плодами Тантала Перье распалила его до того, что он отправился в театр, чтобы слышать ее гремучую славу и разделить с публикой восторг ее дарованиями.
В тот день Перье играла Прозерпину. Как вам известно, театр — это большая сумятица. Г-н N шел сквозь кипенье народа; лакей его замешкался; актеры с носорожьими головами, в фиолетовых мантиях, пестрых лохмотьях и с кипою судебных дел под мышкой, усердно кланяясь слепцу, отворили перед ним дверь. Кто-то хотел его остановить, но г-н N не услышал. Он вошел и двинулся тесным коридором. Приближающийся гул и жар ему почуялись. Он сделал шаг и очутился на сцене.
Перед зрителями высился зев ада, точно как настоящий, с огромными клыками и приличною итальянскою надписью. Г-н N показался в самой глотке, с приятной улыбкой и приподнятым подбородком, освещаемый адскими огнями и выглядящий больше своего размера. Публика замерла: одни перестали грызть орехи; другие, наполнявшие партер злословием об отсутствующих, умолкли, словно исчерпав свой предмет; юноши, оглядывавшие дам, вдруг забыли о них; самые скрипки и тромбоны, украшенные геральдическою змеею, споткнулись и пошли вразнобой. Черная туча с искусно скрытыми за нею канатами, проплывавшая в этот миг над преисподней, перевернулась, и из нее высыпалось несколько бесов в золотых панталонах и с тафтяными крыльями, чрезвычайно недовольных. Г-н N постоял в сомненье и осторожно двинулся вниз между черных скал и замковых развалин. Он дошел до берега и счастливо ступил в ладью; Харон, отдыхавший в кустах, подскочил и побежал, пригибаясь и разводя руки, точно ловил курицу, однако машина уже тронулась. Г-н N плыл по деревянным волнам забвения, движимым подземными рычагами, а вокруг его челна поднимались и скрывались потревоженные тритоны и нимфы. Он ступил на твердую землю, взял влево и вошел под дорический портик храма порочных страстей. Там он задел шаткие колонны и чуть было не потушил негасимое пламя на алтаре, если бы фурия, с беспокойством наблюдавшая за его опасными перемещениями, вовремя не подхватила его под руку, предлагая проводить, куда ему надобно. Г-н N осыпал ее благодарностями, хвалил ее наряд, состоявший преимущественно из змей и сажи, и, понизив голос, просил передать записочку в руки самой Перье; фурия обещалась. За такими разговорами они спустились на луга Коцита и оказались пред владыкою мрака. Восседавший на своем престоле, с железным скипетром в руке, в окружении судей, забывших судить, и парок, забывших прясть, близ люка в бездну, где роились пленные титаны и машинисты, Плутон с недовольством следил за скитаниями г-на N, раздумывая, что за бедствие спустилось на его сцену и почему он на своем выступлении должен терпеть такие выходки. Памятуя, однако, что в представлениях аллегорических должно держаться нынешних обыкновений, то есть вежливости, он несколько сухо спросил приближающегося г-на N, что ему угодно. Тот, поклонившись, назвался и спросил, имеет ли он удовольствие говорить с особой, которая здесь всем распоряжается. Зрители затаили дух, полные сомнения, какое удовольствие, приготовленное или нечаянное, следует им сейчас испытывать. Плутон обвел взором скалы и омуты, прерванную казнь, сутолоку нарушенных танцев и не без самодовольства отвечал, что г-н N не ошибается. Лицо г-на N расцвело улыбкой; он сказал, что весьма рад знакомству; что дело его деликатное; что он бы сюда не явился, если бы известная им обоим Прозерпина не внушила ему чувства, коему во всех частях света подвластны (бедняк тщеславился своей любовью: удовольствие, которого я не понимаю). Плутона это начинало забавлять. Он согласился с г-ном N, что сия Прозерпина такова, что многие из-за нее в эту болезнь впадают, и прибавил, что один здешний ваятель — ибо у него здесь много ваятелей — запечатлел черты ее в мраморе с таким искусством, что можно лишь дивиться верности его резца и сомневаться, кто в сем состязании красот побеждает, портрет или оригинал. Г-н N просил подвести его к этой статуе. Подле Плутонова трона стоял истукан предвечной Ночи или же Безумия, не знаю точно. Г-н N, подступив к его подножию, протянул руку и погладил Ночь по щеке, а потом потрепал за подбородок. Юноши в партере гадали, каким путем он двинется дальше. Но г-н N неловко обнял статую: она качнулась и рухнула, увлекая за собой г-на N в открытый люк. Сие низвержение поразило увлеченную публику; многие повскакивали с мест; дамам стало дурно. Г-на N извлекли ошеломленного, в гипсовом крошеве, но лишь слегка пострадавшего. Зрители сочли представление в высшей степени философским. Те, кто его пропустил, жалели об этом; те, кто его посетил, находили удовольствие в бесконечных рассказах о нем, ведь это было зрелище того рода, которое вдвойне приятней вспоминать, чем видеть».
Г-жа де Скюдери отправила письмо и ждала ответа с ближайшей почтой, заранее наслаждаясь остротами, которые ее собеседник сумеет извлечь из описанного ею положения. Однако ни одна почта, ни другая не приносили ей ответа. Наконец ее адресат вернулся из деревни; она ждала его и обманулась. Он избегал ее с таким усердием, что это казалось непристойным. Г-жа де Скюдери была удивлена, опечалена, рассержена, оскорблена. Она думала писать ему и каждый раз рвала написанное. Наконец она решила забыть обо всем этом, но с вещами, которых не можешь понять, это не всегда удается. Таков был ее рассказ; я слушала ее в смущении.
Через несколько лет в чьем-то доме я столкнулась с высоким стариком, громко обсуждавшим Кремонское сражение и ошибки маршала Вильруа. Мы с ним разговорились. Смеясь, он говорил, что, окруженный молодыми людьми, коим его бытие кажется небылицей, он ежедневно напоминает себе слова Катона о несчастье прожить жизнь с одними, а отчитываться перед другими. Я отважно защищала свое поколение, говоря, что мы не так нелюбопытны, что я довольно знаю о славе былого века, прилежная слушательница многих, например, г-жи Скюдери… Лицо его омрачилось. «Госпожа Скюдери, — сказал он, — лучше бы вы не напоминали мне о ней. Однажды она захотела дать мне урок: о, какой вежливый, как тонко прикрытый ризами аллегории!» Я боялась, он опомнится, но он продолжал. «Я был влюблен в нее, — сказал он. — Тому уж столько лет, что можно говорить об этом без опаски и стыда, как о временах Дария. Я думал, что счастлив в моем чувстве; я ошибался. Она написала мне письмо, где вывела влюбленного смешным слепцом.
Любовь считают слепою. Сколько бы ни твердили ее суеверные поклонники, что она не могла бы покорить столько душ, простереть свое царство по всей земле и в своих внушениях выказывать такую проницательность, не имея зрения, но другие слишком хорошо знают слабость этих утверждений. Если бы кладезь, в котором можно видеть глубины сердца, существовал действительно, будь он даже сокрыт в чаще со львами и единорогами, как рисуют его наши писатели, к нему давно проложили бы дорогу многие тысячи ног, сделав ее не опасней поездки на воды; беда в том, что этого кладезя нет и что мы видим в сердцах не больше, чем Нуармутье видит в своей тарелке. Госпожа Скюдери напомнила мне, что сонм побуждений, в коих человек ласкается видеть щедрость, обходительность и легкие утехи и которые на деле представляют собой сладострастье, самолюбие и упрямство, вводят его дверью, куда он не пошел бы, не будь обманут. Рассудок пытается его остановить, но у нас не принято слушаться рассудка. Он спускается к воде; он думает, что барка с шелковыми снастями отвезет его на остров любви, где зефиры тихо дышат над волнами и где за ним повсюду будут лететь купидоны, лепеча в ухо советы простодушного бесстыдства, меж тем как этот проклятый челн безвозвратно отдалит его от людей, оставив в краю, населенном лишь химерами его воображения, часто тревожного, часто беспечного, всегда бесплодного. Благоразумие сторожит переправу, пуская в плавание тех, чей нрав и лета сему благоприятны, и зарекая тем, кому следует держаться дальше от этих берегов; к несчастью, благоразумие неповоротливо, а наши мысли опережают сами себя. Он приближается к источнику слез, окруженному рощей, где каждый ствол изрезан несчастными историями любовников; наш герой мог бы прочесть их, если б имел глаза; он мог бы слышать эхо, разносящее по дебрям крик, пени и укор, если б не затворил свой слух для всего, кроме влечений своего сердца. Он думает, что пришел к храму любви, где на алтаре вечно горит чистый пламень — ибо ни возраст, ни опыт никому не мешают принимать за любовь все, что угодно, — но это лишь шаткий дом надежды или обиталище ревности, где он научится смущению, гневу и страху и будет жалкой жертвой исчадьям своего воображения. Наконец этот Тирсис в адском лесу встречает того, в ком думает найти жалость — жалость! слово, о котором ему следовало забыть, едва он ступил на этот порог!..» И он сердито заговорил о том, что надобно было сделать маршалу, дабы уберечь кремонский акведук от тайного захвата.
— Я хотела вывести из этого мораль, — заключила г-жа де Гийарден, — но вижу, что в этой истории и так мало что находится, кроме морали.
— Вот что она рассказала, — промолвил волк. — Кажется, это немного странная, но все-таки поучительная история.
— Скажи, театр в самом деле расписывают с таким усердием? — спросила пастушка. — Чтобы роща выглядела как роща, руины — как руины, и чтобы человек мог ошибкою принять место, куда он попал, за действительное?
— Да, так принято, — сказал волк. — Кстати, г-н Клотар собирался на переднем плане написать муху. Ты ее видишь?
— Нет, — сказала пастушка.
— Неужели он передумал, — сказал волк. — Первое, что я от него услышал, было восклицание: «Вот так, черт возьми! Не все же писать маленьких собачек!» Так я узнал, что появился на свет из духа противоречия. Потом он прибавил: «А спереди я напишу муху, прямо вот тут», и мне всегда хотелось узнать, написал ли он ее и как она выглядит.
— Здесь листва, — сказала пастушка. — Может быть, мой кавалер разглядел бы ее, но он никогда не приходит в себя, разве что иногда бормочет что-то себе под нос и трогает струны лютни. Мы с ним не перемолвились и словечком.
— Вот сила искусства, — сказал волк. — Лишь такой талант, как г-н Клотар, мог написать человека настолько пьяным. Заметь, что при этом он не внушает зрителю отвращение, но каким-то образом сохраняет благородство и изящество. Я всегда преклонялся перед подобными способностями.
— Я не совсем это понимаю, — сказала пастушка. — Впрочем, ладно. А что там с историей про театр? Она действительно на этом заканчивается?
— Если не считать того, что рассказал г-н де Бривуа, когда услышал ее.
— Этот человек мне не очень нравится, — сказала пастушка. — Он все время обманывает знакомых, заставляя умерших людей делать то, что им и в голову не приходило. По крайней мере он рассказал что-нибудь занимательное?
— Мне кажется, да, — сказал волк. — Впрочем, суди сама.
Услышав историю г-жи де Гийарден, г-н де Бривуа рассмеялся и сказал:
— Это напоминает мне другой случай, произошедший в преисподней. Все знают, что в наше время мы всюду видим искреннее благочестие, важность без угрюмства, воздержанность без ханжества, стойкость без строптивости, доброту без тщеславия; коротко говоря, наш век по справедливости можно назвать веком святых. Естественно, что пред такими людьми и небо охотней отдергивает свою завесу, и самый ад не дерзает скрывать свои таинства. Ничего удивительного, что в последнее время мы так много узнаем о вещах, кои творятся на том свете, и с такой исправностью, что даже испанские новости иной раз сильней запаздывают. Один мой знакомый — не буду называть его имени, потому что это человек исключительной скромности, позволивший пересказывать эту историю с крайней неохотой и лишь под тем условием, что она послужит не к его прославлению, а к назиданию других, — так вот, один мой знакомый был поражен тяжелейшим недугом; он стонал и славил Господа, врачи роились вокруг него, как мухи у мятного пряника, и благодаря своему неусыпному усердию скоро добились таких успехов, что мой приятель выглядел точь-в-точь как тот призрак, которому известный лекарь Изе пускал кровь на улице По-де-Фер. Наконец он впал в беспамятство и лежал словно мертвый, а кругом стояли его наследники, заливаясь искренними слезами (это самая неправдоподобная часть истории; если вы ее стерпите, дальше все будет сообразно требованиям рассудка). Когда его уже собирались хоронить, он ожил. У древних было принято делать это на двенадцатый день, но в наше время благодаря общему смягчению нравов покойники оживают гораздо быстрее. Он ожил и, равнодушный к изумлению, радости и поздравлениям родных, твердил только одно: что ему, дескать, надобно сообщить нечто важное родственникам аббата Буайе, да поскорее. Все смутились. Автор «Медузы» и «Графа Эссекса», наполнявший своей славой и своими монологами Бургундский отель и другие подмостки, уже лет двадцать как умер; родни его никто не знал; во всяком случае, ни один из присутствовавших врачей не числил их среди своей клиентуры, а если бы родственники аббата Буайе в ней и оказались, то уже могли бы обмениваться с аббатом вестями без посредников. Мой знакомец, однако, настаивал, спрашивая, есть ли хотя бы где-нибудь люди, которых интересует участь аббата Буайе. По общему мнению выходило, что таких людей нигде нет. Тогда он пожал плечами, примолвив, что, значит, так тому и быть, а на вопросы, что с ним было и что он видел, отмалчивался или отделывался околичностями. С этого дня он начал выздоравливать, словно небо хотело только, чтобы он повидал аббата Буайе. Он избегал рассказывать, какого рода видение ему было, и тяготился разговорами об этом, но однажды за бутылкой вина я его разговорил. Он признался, что причина его скрытности — боязнь быть осмеянным, ибо привидевшееся ему так странно, что в нем не видно не только назидательности, но и здравого смысла. Наконец он решился изложить, без своих примечаний и соображений, все, чему был он свидетелем, пока нотариусы и гробовщики стекались к его телу.
Очнувшись после краткой дурноты, аббат Буайе обнаружил себя сидящим в глубоком кресле посреди комнаты, обитой штофными обоями в золотой цветочек. Перед его глазами был камин, над ним зеркало в медной оправе; на каминной полке стояла горящая свеча в серебряном подсвечнике, фарфоровый горшочек с позолоченным ободком на крышке, глиняная птичка с высоко задранным хвостом, а подле нее — мятый бантик розовой тесьмы и письмо, прижатое сургучной палочкой; рядом на лаковом столике дымился чайник между двух чашек с блюдцами. На полу валялась метелка, веер и какие-то клубки. Вдоль стены тянулась ширма с фазанами и райскими птицами на пышно цветущих ветвях; над нею виднелся верхний край какой-то картины с двумя селедками, подвешенными за губу на крюке. Покамест аббат с удивлением рассматривал комнату, дверь отворилась, и в нее вошел господин, в котором все — наряд, модный, но не слишком, непринужденное изящество и спокойная веселость умного лица — говорило, что это бес. Бес поклонился аббату и спросил, как он себя чувствует.
Ободренный таковою учтивостью, аббат Буайе осмелился спросить, где он имеет честь находиться. Бес отвечал, пожимая плечами, что ему не хотелось бы без нужды вставать между г-ном аббатом и его совестью и что если г-н аббат вопросит сию последнюю, она, конечно, напомнит ему некоторые его поступки и помыслы, в особенности же то и то (бес перечислил), что лучше любых показаний объяснит ему, где он может находиться; так вот, именно там он и есть. Аббат, вспоминая то и то, вынужден был признать правоту беса, а поскольку милость Божия — такая вещь, на которую можно уповать, но не рассчитывать, то и ничего удивительного, что он угодил сюда, а не куда-либо еще.
Аббат спросил беса, говорят ли в обществе о его смерти. Бес отвечал ему, что, конечно, говорят, но, в сущности, очень немного; можно даже сказать, и вовсе ничего. Это расстроило аббата: ему казалось, что не совсем же он человек без заслуг, чтобы его кончина осталась незамеченной, и что внимание публики к таланту есть первое поощрение его предприимчивости, если же публика встречает успехи своих поэтов неизменным равнодушием, ей не стоит удивляться, когда она перестанет о них слышать. По некотором раздумье он решил, что виною этому Компьеньские маневры, сделавшие сильное впечатление в публике, и смирился с мыслью, что его непритязательная кончина, конечно, не может соперничать с показательной обороной крепости, обедами у маршала Буффлера, штурмом ретраншементов и фуражными вылазками в присутствии короля. Чтобы отвлечься от этого, он спросил у беса, какие наказания для него приготовлены. Бес отвечал, что весьма и весьма мягкое: ему всего лишь придется читать сочинения аббата Шуази, его собрата по Академии; что будь у него, беса, достаточные способности, он исчислил бы перед г-ном аббатом все роды мучений, принятых в здешнем краю, но теперь вынужден просить г-на аббата поверить ему на слово. Аббат с сомнением переспросил, точно ли это вся кара, к которой его приговорили. Бес заверял, что ничего сверх сказанного не прибавится и что здесь никто не горит желанием истязать сочинителя «Агамемнона» и «Федерика». Аббат, не ждавший найти здесь поклонников, повеселел и сказал, что в таком случае нечего терять время. Бес наволок ему груду томов и откланялся.
Аббат Буайе, как и все мы, слышал многое о причудах аббата Шуази, но находил, что смолоду надобно перебеситься; на сочинения его он смотрел как любой старик, думающий, что большие дарования кончились с его юностью; но, взявшись за назначенное ему чтение, он вынужден был признать, что все это написано гладко и даже не без изящества и что сочинение этих книг должно было оставить аббату Шуази куда меньше времени на проказы, чем принято считать. Он даже спрашивал себя, не вышло ли с его наказанием какой ошибки. Он не чувствовал усталости и неудобства, хотя не мог ни подняться из кресла, ни даже переменить позу. Он прочел все тома и взялся их перечитывать; многие красоты он в этот раз заметил впервые. О некоторых страницах он жалел, что не познакомился с ними раньше, когда они могли дать ему предмет для трагедий.
На пятый-шестой раз аббат почувствовал некоторое пресыщение, но понадеялся, что оно пройдет. К пятнадцатому разу оно стало нестерпимым. Он знал труды аббата Шуази лучше, чем сам Шуази, но это не принесло ему ни мудрости, ни радости, ни малейшего отдохновения. Он вытвердил все наизусть и приветствовал начало новой страницы, декламируя ее конец. Каждый том наполнился его врагами; каждый герой, каждое положение, каждая сентенция хотели ему зла. Он совершил путь от охлаждения до неприязни и теперь ненавидел всякое вдохновение аббата Шуази, все его ученые досуги, всякий миг, который тот проводил, грызя гусиное перо. Похождения пастухов казались ему верхом распутства, путешествие в Сиам — выдуманным от начала до конца в парижских креслах, царь Соломон — удачливым грешником. Он обращался к царице нимф, спрашивая, как ей удалось прочесть от слова до слова любовные послания, искупавшиеся в реке; он потешался над письмами, брошенными в лесу, но неизменно находящими адресата; прощанье любовников было для него образцом натянутости, их свиданье — превосходящим все, что было сказано и сделано напыщенного; он радовался их несчастьям, призывая на них новые, он сетовал на их веселья, заклиная небо прекратить их, и язвительным смехом встречал утверждение просвещенной пастушки, что душам, разлученным с телами, есть досуг следить за живыми. Он чувствовал себя мельничным ослом, ходящим всю жизнь по заведенному кругу, но не мог прекратить чтение; его изнуренный взор приподнимался к картине с селедками, а воображение на тысячу ладов дорисовывало ее нижнюю часть, то приделывая к рыбьим головам женские ноги, то делая их полковыми знаменами в батальной сцене; он мучился всеми муками, какие можно себе представить, а свеча перед зеркалом все горела, не умалившись ни на волос, и чайник все так же дымился на лаковом столике. Он хотел бы умереть, но первый опыт в этом роде закрыл пути ко второму. Он заглядывал в себя, чтобы хотя в воспоминаниях обрести минутное укрытие, но и в глубине сердца находил лишь добродетельных туземцев, похотливых пастушек, испанских епископов и боевых слонов в серебряной сбруе. Мучения его были неописуемы. Он не знал, сколько прошло времени и, лишь когда к нему снова заглянул знакомец его бес, заметил, что в моду вошли румяна и суконные гетры на пуговицах. Бес, кланяясь, спрашивал, как он поживает. Аббат, до краев полный Сиамом, отвечал, что едва ли рискует умножить свои мучения, если спросит, чем он их заслужил. Бес с вежливым удивлением вопрошал, неужели он почитает свои бедствия столь великими. Аббат сказал, что привык избегать бахвальства, однако в сем случае может утверждать с уверенностью, что на свете не сыщется мук больше его собственных. Бес спросил, что скажет г-н аббат, если такая мука найдется. Аббат отвечал, что не поверит этому, пока не увидит. Бес предложил ему прогуляться, и аббат почувствовал, что может встать. Они вышли из комнаты и двинулись длинным коридором, где под каждой дверью почему-то стояли туфли, мужские и женские, а из-за дверей неслись глубокие вздохи, рыдания и пени на разных языках, пока наконец, перекрывая весь гнев и скорбь, в уши г-на аббата не ударил один могучий вопль, заставивший призрачную кровь похолодеть в его призрачных жилах. Перемежая стоны безысходного горя со взрывами неистовой божбы, чей-то голос громко декламировал: «Нет, греческой земли богатствам и отрадам с блаженством сих краев не оказаться рядом», а потом: «Свершает полубог с блистательным надменьем триумф над временем, над смертью и забвеньем» и другие строки, казавшиеся аббату смутно знакомыми. «Ну вот мы и пришли», — сказал бес. С изумлением аббат обернулся к нему… «Это г-н Шуази, — отвечал бес, пожимая плечами, — читает ваши сочинения».
— Из этого, — сказал г-н де Бривуа, — можно вывести бесспорное заключение, что ад, в сущности, есть правильно подобранное общество и те, кто хочет устроить его как-то иначе, впустую тратят время.
Г-н де Корвиль спросил, уверен ли г-н де Бривуа, что точно представляет себе устройство ада и его занятия. Г-н де Бривуа отвечал, что, конечно, ни в чем не может быть уверен, однако ему довелось путешествовать на корабле вместе с большим стадом свиней, которые, да будет известно г-ну де Корвилю, в той же мере подвержены морской болезни, как и любой из нас, а потому команда, опасающаяся за их здоровье, время от времени гоняет их хлыстами по палубе, чтобы они не впадали в меланхолию. Так вот, сказал г-н де Бривуа, всякий, кто стоял на корабельной палубе во время килевой качки, уворачиваясь, чтобы его не снесла свирепая груда свиней, скачущая от носа к корме, имеет определенное представление о том, что происходит в аду, потому что как же еще нам судить о такого рода вещах, если не по аналогии.
— Все-таки есть люди, которых ничем не исправишь, — сказала пастушка.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Так, — сказал инспектор, — а потом?
— Миссис Хислоп пришла, — сказала Джейн, — и спросила, есть ли какие пожелания. Ни у кого не было пожеланий, только мистер Годфри сказал, что от беседы с викарием в нем разыгрались творческие способности и он хотел бы принять посильное участие в стряпне. Миссис Хислоп спросила, хотим ли мы ужинать еще сегодня или в какой-то другой день. Мистер Годфри сказал, что она напрасно его недооценивает и что в свои лучшие времена он… я не помню, что он в свои лучшие времена. Тогда Энни… о Господи!..
— Успокойся, пожалуйста, — кротко попросил Роджер.
— Мисс Праути, мне очень жаль, — сказал инспектор, — но я должен…
— Да-да, — сказала Джейн, вытирая глаза. — В общем, мистер Годфри сказал, что у него есть кулинарная книга каких-то римлян, которые умерли от неумеренности, и что он давно хотел что-нибудь по ней приготовить. Миссис Хислоп еще колебалась, и тогда он сказал, что если она не уверена… Тогда миссис Хислоп сказала, что мистер Годфри ошибается и что если тут кто-нибудь и уверен, то именно она. Прекрасно, сказал мистер Годфри, я схожу за книгой. Он сходил и принес эту книгу, и открыл ее на главе, как же она называлась…
— Блюда из рыбы без рыбы, — подсказал Роджер.
— Вот-вот. Но миссис Хислоп спросила, нет ли там чего-нибудь менее философского; тогда он предложил свиной рубец, но его не было на кухне, и он сказал: «Давайте зажарим фламинго». Миссис Хислоп сказала, что он слишком хорошо думает о том, что продают в Бэкинфорде, но мистер Годфри сказал, что не нужно бояться, потому что эти римляне, прежде чем умереть от неумеренности, позаботились о людях, у которых нет фламинго; то же самое, сказал он, можно приготовить и из попугая. Миссис Хислоп напомнила ему, что попугая у нас теперь тоже нет, зато у нее есть говяжья задняя нога, и если отделить верхнюю половину от нижней… О, инспектор! Вот что еще говорил Танкред! Вы же спрашивали, помните?.. Так вот, он говорил: «Верхняя половина отделяется от нижней». Я всегда думала, что это Генри его научил — он вечно разрубает львов пополам, когда они прыгают на него из засады, — но, наверно, это все-таки про говяжью ногу, потому что из верхней можно делать бифштексы, а нижнюю надо три часа тушить и продают ее кубиками… Не знаю, может, это важно, — пробормотала она и совсем сникла.
— Конечно, это важно, — заверил ее Роджер. — Хорошо, что ты вспомнила.
— Спасибо, мисс Праути, — сказал инспектор. — А что было дальше?
— Так вот, миссис Хислоп сказала, что это задняя нога превосходного качества, многие были бы счастливы иметь такую заднюю ногу и что она, миссис Хислоп, совершенно уверена, что никакие фламинго этой ноге в подметки не годятся. Тогда мистер Годфри сказал, что он совершенно удовлетворен этим показанием и что они примут говяжью ногу за фламинго, а если кто-нибудь хочет возразить, сказал он, пусть скажет сейчас или молчит вечно. Никто не возразил…
— Эта книга у мистера Годфри? — спросил инспектор.
— Кажется, осталась на кухне, — сказала Джейн. — Точно не помню. Рассказывать дальше?
— Да, пожалуйста.
— Они взяли эту заднюю ногу, то есть фламинго, ощипали, вымыли, выпотрошили, положили в сковороду, добавили воды, соли, укропа и уксуса; кажется, так. Викарий сказал, что из всех посмертных похождений, о которых он читал, это самое нелепое, а мистер Годфри сказал, что когда она приготовится наполовину, надо бросить туда пучок порея и кориандра, а в самом конце для цвета добавить сиропу. Миссис Хислоп поинтересовалась, что значит «в самом конце» и какой сироп имеется в виду. Мистер Годфри сказал, что древние римляне определяли время более или менее приблизительно; то же самое у них было с сиропом, так что оба эти пункта он всецело оставляет на усмотрение миссис Хислоп. Она сказала, что у нее есть сироп из инжира и если мистер Годфри настаивает… Мистер Годфри уточнил, правильно ли он помнит, что миссис Хислоп лечит им свою родню от запоров. Миссис Хислоп ответила, что да, именно так, и никто потом не жалуется. Мистер Годфри сказал, что он ест фламинго впервые и ему хотелось бы сохранить об этом дне какие-то иные воспоминания, а потому давайте оставим сироп из инжира тем, кто в нем действительно нуждается. Миссис Хислоп сказала, что в таком случае возьмет подливу. Мистер Годфри сказал, что еще надо два-три куриных яйца, а потом положить в ступу перец, кориандр, корень лазерпиция, мяту, руту, растереть, полить уксусом, добавить фиников и жидкости со сковороды. Миссис Хислоп сказала, что уже поздновато идти в Бэкинфорд за лазерпицием. Мистер Годфри сказал, что да, за лазерпицием идти поздно, потому что последний раз, когда его нашли, был в первом веке и его тут же послали императору Нерону. Миссис Хислоп сказала, что надеется, этот изверг по крайней мере приготовил с ним хорошую говяжью ногу, а не употребил на всякие распутства. Мистер Годфри сказал, что единственное, что мы можем утверждать с уверенностью, — это что лазерпиций рос в Африке, невдалеке от племени адирмахидов (которые кусают вшей, добавил викарий), что в его зарослях водились ласки и что его употребляли от кашля и бородавок, а кроме того, когда готовили отварные мозги, тыкву по-александрийски и множество других вещей, а теперь его нет. Миссис Хислоп спросила, что же мы будем делать, если фламинго у нас есть, а лазерпиция нет, и почему мистер Годфри не подумал об этом раньше, когда она отдала для его затей лучшего фламинго из тех, которые когда-либо шли на говяжий бульон. Мистер Годфри сказал, что нам на помощь приходит таблица, в которой написано, что чем можно заменить, и показал ее; из таблицы следовало, что вместо лазерпиция можно взять фенхель или имбирь, а вместо руты — розмарин. Миссис Хислоп взяла имбирь и розмарин и сказала, что фиников у нее тоже нет, но есть коринка. Мистер Годфри решил, что можно и коринку. Миссис Хислоп положила имбирь, розмарин и коринку, а потом нашла немного руты и добавила ее тоже. Мистер Годфри сказал, что по книге следует добавить крахмала для густоты. Миссис Хислоп сказала, что с густотой все хорошо и что, в конце концов, это фламинго, а не воротнички. Когда все это наконец подали на стол и сняли крышку, мистер Годфри принюхался и сказал, что в этом есть что-то пряное и оригинальное, и все с ним согласились. Он сказал, что рута явственно дает такой оттенок, который напоминает о многом, причем каждому о своем. Он сказал также, что с сожалением оглядывается на свою жизнь, понимая, что мог есть фламинго каждый месяц, но не делал этого. Ужин прошел мирно…
— Ничего странного? — спросил инспектор.
— Не больше, чем обычно, — сказала Джейн. — Викарий обсуждал с мистером Годфри, в каких рецептах у древних авторов встречается рута. Мисс Робертсон, все еще погруженная в свою эпитафию, раскладывала по столу приборы, чтобы было видно, кто где находился три дня назад, когда убили Эмилию, хотя викарий раз-другой пытался ей намекнуть, что это не скрашивает трапезу, а потом Роджер, — она покосилась на него, — стал спрашивать у нее, кто где, а она показывала, что вот это — Эдвардс, вон там, где пятно на скатерти, — я, вон на том краю, ближе к соуснику, — почтальон; тогда Роджер указал на сахарные щипцы и спросил, а это кто; мисс Робертсон ответила, что это сахарные щипцы, а Роджер сказал, что он сомневается в их невиновности…
— Я хотел ее взбодрить, — сдержанно сказал Роджер.
— Потом, — сказала Джейн, — все разошлись кто куда, я пошла к себе и сидела там, пока не послышались крики внизу.
— Значит, до этого вы не выходили из комнаты и ничего подозрительного не видели?
— Нет, — тихо сказала Джейн.
— А вы, мистер Хоуден?
— Я тоже после ужина сидел у себя, — быстро сказал Роджер. — Никуда не выходил и совершенно ничего не видел.
— Хорошо. Итак, мисс Праути, вы услышали крики внизу.
— Я побежала… На кухне был викарий, склонившийся над Энни. Она лежала на полу. Викарий сказал, что она мертва. Он сказал, что шел из библиотеки и услышал шум на кухне. Он застал Энни без сознания, она еле дышала, на лице был странный румянец, вокруг пахло чем-то…
— Миндалем, видимо, — сказал инспектор.
— И валялись осколки тарелки с этим дурацким фламинго. Викарий сказал, что надо звать доктора и полицию. Что это, инспектор? Это ведь не случайность?..
— Я жду отчета от доктора Уизерса, — сказал инспектор, — но думаю, это отравление цианидом.
— Ее убили?
— Да. Не знаете, хранит ли тут кто-нибудь цианистый калий?
– Эдвардс недавно запасся им, — сказал Роджер, — чтобы вывести ос.
— Где он его взял?
— В бэкинфордской аптеке; вы убедитесь сами, если заглянете в их регистрационный журнал. Удивительно, что такие вещи продают беспрепятственно.
— Где он его хранит?
— В сарае, вон там.
— Кто может туда войти?
— Кто угодно.
— А кто знал об этом?
— По-моему, все, — сказал Роджер. — Джейн?.. — Она кивнула. — А мне он сказал об этом позавчера вместо приветствия. Он не хочет, чтобы окружающая природа оставалась в неведении о его намерениях. Кроме того, тут есть повод для гордости — это ведь совсем не то что посыпать солью садовых слизняков.
— А он не пробовал делать это бензином?.. У него, кажется, есть опрыскиватель.
— Понимаете, — начал Роджер, — человек долгое время делает одно и то же… например, опрыскивает осиные гнезда бензином… а потом решает, отчего бы не попробовать что-то другое, например, цианистый калий; и вот когда он делает это раз или два, то понимает, что занимался этим по чистому недомыслию и что ему не стоило менять бензин на что-то еще, потому что только с бензином он был по-настоящему счастлив, а цианистый калий — это, конечно, хорошо, но совсем не то, что ему нужно… Ну, вот так это бывает.
Инспектор с изумлением смотрел на него.
Джейн, отняв ладони от лица, смотрела на него с таким же изумлением.
— Спасибо, мистер Хоуден, — сказал инспектор. — Теперь мне все понятно. Пойду поговорю с Эдвардсом.
— Вот ужас, а? — несколько театрально произнес Роджер, едва инспектор вышел. — Не успеешь прийти в себя после смерти Эмилии, как тут новое убийство. Все покрыто мраком, на каждом лежат подозрения, инспектор ничего не говорит. Как ты думаешь? По-моему…
— Роджер, извини, я не хочу с тобой разговаривать.
— Джейн, я…
— Кажется, меня кто-то зовет.
— Опять, — сказал Роджер, оставшись один. — Ну, Бог с вами со всеми, — пробормотал он и вышел в сад.
— Тут что-то не так, — сказала Джейн. — Я не могу в этом разобраться. Понимаешь, — сказала она картине, — в рецепте были куриные яйца, а это значит, что… Тут происходит столько ужасного, мне было бы чем себя занять, но я не могу не думать о том, что он… Нет, не может быть. Должен быть какой-то другой смысл. Умный человек на моем месте все понял бы и объяснил. Например, Роджер, он сперва засыпал бы меня историями об итальянских художниках, но потом, если набраться терпения, он непременно бы все объяснил. Но Роджера нельзя об этом спросить. А кто… добрый день, мистер Годфри, что такое вы делаете?..
— Вы меня осудите, — угрюмо сказал мистер Годфри, пробирающийся по комнате с глазами, уставленными в пол.
— Нет, почему же…
— Я кое-что потерял.
— И почему я буду плохо о вас думать?
— Потому что в доме скорбь и мне следовало бы подчиниться если не зову сердца, то хотя бы приличиям, — отвечал мистер Годфри, блуждая вокруг стола, — а я всем своим видом показываю, что есть вещи, которые для меня важнее.
— Давайте я вам помогу искать. Что именно вы потеряли?
— Медаль.
— Ту, которую показывали вчера?
— Да, именно ее. Я вернулся к себе и спохватился, что ее нет. Конечно, я мог бы утешаться соображением, что все остальные целы, но когда что-то пропадает, как вам известно, оно всегда оказывается ценнее, чем то, что спокойно лежит на месте. Я даже на тетрадрахму Лисимаха теперь не могу смотреть без досады. Будь здесь мистер Хоуден, он непременно сообщил бы по этому поводу какой-нибудь назидательный случай из жизни итальянских художников, но в его отсутствие я вынужден утешать себя собственными силами.
— Это очень обидно, — сказала Джейн, тоже пускаясь ходить по комнате с опущенным взором. — Мы обязательно ее найдем, не могла же она никуда деться из дому… А вы смотрели на лестнице?
— И не один раз.
— А вы не пробовали вспомнить по порядку все места, где вы вчера были? Ведь если мысленно пройтись…
— Пробовал, — отозвался мистер Годфри не без раздражения. — Я помню все места, где я беседовал с викарием, где я слушал рассказы мистера Хоудена о пристрастиях форели, где инспектор спрашивал меня о моем перстне и…
— Вас он тоже спрашивал? — спросила Джейн. — Удивительно. Он бродил здесь такой печальный — видимо, с расследованием что-то не так — и вдруг заинтересовался моим колечком, а потом оказалось, что у мисс Робертсон почти такое же и на том же пальце, ну и было немного неудобно… Зачем ему это?
— Не знаю, — сказал мистер Годфри, подходя к шкафу с видом человека, намеренного смиренно просить его о дальнейших милостях. — Он заметил гемму на моем перстне. Я объяснил ему, что на ней изображен Гарпократ с розой, а заодно пересказал, что пишет Геллий по поводу обыкновения древних носить перстень на безымянном пальце левой руки, так что, надеюсь, сполна удовлетворил его любопытство, чем бы оно ни было вызвано.
— Мистер Годфри, — сказала Джейн через несколько минут бесплодного блуждания, — пока мы ищем, можно я спрошу вас об одной вещи? Мне это очень важно.
— Всегда в вашем распоряжении, — отозвался мистер Годфри из-под стола.
— Вот представьте. Допустим, есть человек, которого вы… очень уважаете.
— Да, — сказал мистер Годфри, — это я могу представить.
— И допустим, этот человек сделал что-то совершенно ужасное. Такое, что об этом даже подумать страшно. И никто, кроме вас, об этом не знает. Что бы вы сделали?
Нахмуренное лицо мистера Годфри поднялось меж зарослями безделушек.
— Вы твердо уверены, что именно он это сделал?
— В том-то и дело, что нет, — сказала Джейн. — У меня только подозрения, и лучше бы оказалось, что я все это выдумала от мнительности. Я с удовольствием посмеюсь над этим.
— Как я понимаю, — начал мистер Годфри необыкновенно серьезно, — вопрос состоит в том, разглашать ли ваши подозрения или нет. Не хочу вам ничего советовать, скажу лишь одно. В жизни мы обычно руководствуемся соображениями вероятности; это подсказывает нам здравый смысл, и в большинстве случаев этот принцип себя оправдывает. Но в вашем случае это правило не действует. Тут нет места вероятности, мисс Праути, тут заявляет свои требования достоверность. Пока вы не уверены, что этот человек совершил что-либо предосудительное, вы не вправе предпринимать ничего, что могло бы безвозвратно погубить его жизнь и репутацию… особенно если, по вашим словам, это человек, к которому вы питаете уважение. И даже если вы будете совершенно уверены, все же не торопитесь, но, отделив поступки от намерений, рассмотрите вторые: возможно, вы найдете их более заслуживающими сочувствия, чем ненависти, и снисхождения, чем справедливости.
— Спасибо, мистер Годфри, — с волнением сказала Джейн. — Вы мне очень помогли.
— Всегда рад.
— Слушайте, а если она угодила под шкаф?
— Я смотрел.
— Нет, не просто под шкаф, а закатилась под дверь чулана?.. Посмотрите вон там. — Джейн заглянула под шкаф. — Вполне можно закатиться, — заверила она.
— Не будем доставлять себе лишних хлопот, — сказал мистер Годфри. — Я уверен, что ее там нет.
— Откуда вы знаете?.. Я помню, вы вчера тут стояли.
— Мне так кажется, — сказал мистер Годфри.
— Вы же ученый, вы должны полагаться на доводы разума, — возразила Джейн. — Как бы этот человек, не помню его имени, нашел, где раскопать свой город, если бы не полагался на доводы разума?.. Надо посмотреть в чулане. Я позову кого-нибудь, чтобы отодвинуть шкаф.
— Ээ, нет, давайте не будем этого делать. Я уверен, мы зря потеряем время.
— Ну, как хотите, — сказала Джейн, немного удивленная. — Если передумаете, я позову…
— Спасибо, мисс Праути. Пойду посмотрю еще раз на лестнице.
— И почему было не заглянуть в чулан, — промолвила Джейн, когда осталась одна. — Но как хорошо он говорил про достоверность. Наверно, он прав, — сказала она картине. — Не надо пока никому рассказывать. Потому что… О, мисс Робертсон, я тут разговариваю сама с собой, мне надо с кем-нибудь поговорить, а тут вы… простите, я не это хотела сказать…
— Ничего-ничего, — сказала мисс Робертсон, — мы все сейчас плохо соображаем.
— Для меня это очень важно, — сказала Джейн. — Вы не могли бы обещать, что никому не расскажете?
— Я никому не расскажу, — заверила ее мисс Робертсон.
— Вы не могли бы поклясться чем-нибудь?
— Чем именно?..
— Я не знаю, чем-нибудь святым… У вас же есть что-то святое?.. Простите, ради Бога, я не это имела в виду…
— Хорошо, — сказала мисс Робертсон с бледной улыбкой, — я думаю, у меня достаточно святого… ну то есть на одну клятву точно хватит… Успокойтесь, милая, и говорите смело.
— Дело вот в чем, — сказала Джейн. — Вчера я видела одну вещь, которая тогда не показалась мне странной, но теперь… теперь кажется. Я не сказала об этом инспектору, потому что не знаю, как себя вести и что мне надо сделать, чтобы не стало еще хуже, и… я в ужасном состоянии, честное слово.
— Я помогу вам, чем могу, — обещала мисс Робертсон. — Так что же вы видели?
— Вечером, — начала Джейн, — когда все уже разошлись, мне захотелось что-нибудь съесть. Видимо, это от волнения. Я говорила себе, что это неприлично и вредно, но каждый раз, когда закрывала глаза, мне представлялся этот фламинго с подливой, и я так отчетливо помнила, сколько его осталось и где именно он сейчас лежит… Я пыталась читать какой-то роман, надеясь, что там будет интрига, мораль или хотя бы сатирические выходки автора против чего-нибудь, но там как раз приглашали всех к столу… В общем, я не вытерпела и пошла вниз.
— Я не вижу в этом ничего дурного, — сказала мисс Робертсон.
— Я почти дошла до кухни, как вдруг встретила на лестнице Роджера. Я хотела пройти мимо, потому что мы с ним… потому что мне не хотелось с ним разговаривать, однако он меня остановил и начал нести неописуемую чушь. Даже для него это было нечто выдающееся. Я пыталась показать, что мне это неинтересно, и держаться так холодно, насколько могу, но на него это ничуть не действовало. Никогда я не слышала столько бессмысленных историй об итальянских художниках — одном, который смотрел на заплеванную стену и видел на ней конные сражения и необычайные города, и другом, у которого павлины расклевали всю фреску, потому что на ней была нарисована земляника, и еще каком-то; словом, это была целая история искусства, только без единого имени, потому что он их не помнит. А потом он принялся рассказывать, что один человек убил свою жену и решил захоронить ее прямо в доме, вскрыл полы, уложил тело, вернул помещению безобидный вид и уже торжествовал победу над правосудием, но тут к нему явился сосед снизу с претензией, что покойная упала ему на стол и расколола супницу и что надо соразмерять свои пороки с квартирой, в которой ты их практикуешь. В конце концов мне это надоело, и я пошла назад, потому что от досады у меня пропал аппетит, и я сидела у себя, мысленно желая Роджеру всяких неприятностей, а потом раздались крики, и мы все… Ну, это вы знаете.
— Да-да, — сказала мисс Робертсон.
— А теперь, — твердо сказала Джейн, — когда мы знаем, что это был цианистый калий и все такое, я думаю вот что. Кто-то отравил остатки ужина. В этом фламинго были куриные яйца, значит миссис Хислоп не стала бы его есть, потому что она не ест яиц, она Стрелок во тьме, и об этом все знают. Значит, тот, кто это сделал, — если, конечно, это не был какой-то драматический злодей, из тех, что хотят отравить целый женский монастырь, чтобы наказать родную дочь, а потом расстраиваются, если у них это не выходит, — так вот, этот человек, скорее всего, рассчитывал отравить Энни, потому что она точно пришла бы поужинать. Но всегда есть возможность, что случайно зайдет кто-то еще, кому ты не хочешь причинить зла… по крайней мере таким способом… и вот чтобы избежать этого, надо стеречь на лестнице, пока… и вот теперь я думаю, неужели Роджер…
От этого рассказа мисс Робертсон пришла в необыкновенное волнение.
— Я была бы рада, если бы мне сказали, что этому есть другое объяснение, — закончила Джейн. — Я была уверена, что Роджер не такой человек и он не способен на такие чудовищные вещи… с другой стороны, раньше мне казалось, что он никогда бы не смог… Скажите мне что-нибудь, пожалуйста.
— Дорогая Джейн, я уверена, мистер Хоуден ни в чем не виноват, — воскликнула мисс Робертсон. — У каждого бывают положения, когда надо сделать что-то такое, мотивов чего нельзя удовлетворительно объяснить и тем не менее они безукоризненны. Верьте вашему сердцу, даже если все вокруг будет ему противоречить. Я… я пойду в сад.
— Спасибо, мисс Робертсон, — задумчиво сказала Джейн. — Они словно сговорились, — сказала она картине. — Полагаю, Роджер даже в свой день рождения не слышит о себе столько хорошего. С другой стороны, ты обратилась к людям за советом и получила его. Если он был нужен тебе, чтобы сомневаться в его уместности, незачем было его просить… Хорошо бы поговорить с викарием. А инспектор? Почему он хотел говорить с нами одновременно?
Джейн снова взглянула на картину.
— Где я? Что я делаю? — сказала она с неожиданной горечью. — Отчего я страдаю? Я брожу по дому, натыкаюсь на вещи, я сама себе противна, и все это из-за него. Разве я для него что-нибудь значу, чтобы вот так унижаться? Конечно, он этого не видит — но я-то вижу! Когда ему пришлось признаться, что он ухлестывал за Эмилией, разве он был смущен, хотя бы на миг? Ему было досадно, что я об этом узнала, — но и все. Ни жалости, ни печали, хотя бы ради приличий! Безучастный, невозмутимый — что мне было негодовать? И что теперь жаловаться? А я полна унынием, я волнуюсь из-за него, зная, как он меня оскорбил и не придал этому важности? Я дрожу при мысли о том, что ему грозит? Я могу отплатить ему так, что никто не сочтет это недостаточным, — и я этого не делаю?.. Он ходит тут как ни в чем не бывало, шутит с мисс Робертсон, смотрит битву при Бэкинфорде — кстати, он обещал мне бинокль — или собирается на рыбалку, потому что сейчас тот самый момент, когда все клюют на крючок номер восемь… Он смеется надо мной! Он думает, я не буду разговаривать с ним день-два, а потом помирюсь, потому что кто же в здравом уме бросит такое сокровище. Он ошибается. Я была добра с ним, но если он судит обо мне по прежней дружбе — если он думает, что я не пойду сей же час к инспектору и не выложу ему все, что я вчера видела и что об этом думаю, — он очень ошибается. Да, я пойду. Пусть на него рухнет все, чего он заслуживает, потому что он довел меня до того, что я хочу ему зла… Господи, я смеялась его историям, вспоминала их, когда оставалась одна, волновалась, как он там в Италии и сумеет ли оттуда выбраться, а теперь все дурное, что с ним случится, будет оттого, что я этого хочу?.. Займи себя чем-нибудь, в конце концов, — решительно сказала она себе, — так нельзя.
— Мисс Робертсон, — сказал Роджер, — я не знаю, чем вы заняты, но прошу вас это отложить. Я был сейчас в Бэкинфорде — там ведь нынче битва — и среди прочего поговорил с миссис Мур, и она рассказала мне много интересного. Вы — прекрасный собеседник, мисс Робертсон, я прошу вас, выслушайте все, иначе меня разорвет.
— Конечно, мистер Хоуден, я всегда рада вас слушать, а после того, что вы вчера для меня сделали… Кстати, насчет этого…
— Так вот, — пустился Роджер, не слушая мисс Робертсон, — прежде всего она рассказала, что утром инспектору звонили и что она по чистой случайности все слышала. Сперва он молчал — видно, ему что-то рассказывали, — а потом спросил: «Значит, его видели там вчера?» А потом: «Да, это я понял, но это достоверные сведения или просто кто-нибудь видел его с копьем в руке, идущим по верхушкам деревьев?» А потом: «Это ведь миссионер, я правильно понимаю? А какой конфессии? Нет, я не знаю, кто из них больше склонен привирать, но на всякий случай…» А потом: «Где он взял фотографа? Отбил его у каннибалов? Зачем?.. Ну, если вы так говорите… Да, я понимаю, что в глазах публики… Да, доблестные поступки надо запечатлевать, иначе кто о них потом вспомнит». А потом: «Жесткое и невкусное, я понял. Потому с ним можно только фотографироваться. А после этого он вернул фотографа каннибалам? Нет, я просто спрашиваю…» А потом: «Итак, вы уверены, что он не покидал этих мест?.. Да, меня это вполне удовлетворит. Да, спасибо». Он повесил трубку и с выражением сказал: «Бореле». Миссис Мур уверена, что он сказал именно «бореле», хотя не понимает, что это значит.
— Кажется, это злой дух, — внезапно сказала мисс Робертсон. — Я вспоминаю, что читала об этом. Они враждебны ко всем приезжим.
— А к постоянным жителям?
— К постоянным жителям, кажется, тоже. Как вы думаете, о ком он разговаривал?
— Видимо, о Генри, — сказал Роджер, — иначе я ничего не понимаю. Вы считаете, он уже исчерпал всю прочую природу и теперь ловит злых духов?
— Это было бы благородно, — сказала мисс Робертсон. — Представьте, он приезжает в какую-нибудь деревню, где уже бывал раньше, и встречает непривычную тишину и подавленность; никто не поет песен, не смеется в баобабах; он начинает допытываться и узнает, что в деревню пришла беда, всех страшит злой дух, который поселился здесь и ежедневно требует не знаю чего. Что ему может быть нужно?.. В общем, у него какие-нибудь завышенные требования. Конечно, Генри без колебаний вступает в схватку со злым духом, и тот, видя, что дело плохо, уходит в другую деревню, где все такие, или решает измениться и стать добрым… Так вообще бывает?..
— Не знаю, — сказал Роджер. — Кажется, нет. А на что, по-вашему, Генри сдался инспектору?
— Сегодня утром он тоже о нем расспрашивал, — сказала мисс Робертсон. — Когда всех нас спрашивал о том, что было вчера. Я, видимо, совсем ничего не соображала. Кажется, я рассказывала ему историю, как Генри кинул в обезьяну ключом, чтобы та кинула в него другим. Он такой находчивый. Танкред потом это запомнил и все твердил: «Обезьяна дала мне ключ». Кстати, насчет вчерашнего…
— Да-да, я обещал молчать об этом, — перебил Роджер. — Так вот, после телефонного разговора инспектор, по словам миссис Мур, выглядел задумчивым. Она напомнила ему, что сейчас начинается битва при Бэкинфорде и что он потом будет очень жалеть, если ее пропустит. Она обещала ему бинокль и такое место, с которого ему все предстанет как на ладони, но он сказал, что пойдет вниз, ибо ему хочется видеть все вблизи.
— Как прошла битва? — спросила мисс Робертсон.
— Наилучшим образом, — сказал Роджер. — Миссис Мур говорит, что когда сэр Бартоломью Редверс со своими людьми прибыл в Бэкинфорд, люди всех сословий выступили им навстречу в самых богатых и красивых нарядах, и все конные, а почтальон начистил свой велосипед, так что от его сияния было больно глазам. Городские улицы были пышно украшены и покрыты дорогими тканями, и все горожане как могли старались воздать почести добрым рыцарям сего войска. Те, кто занял номера с видом на битву при Бэкинфорде, восхваляли свою удачу, те же, у кого таких номеров не было, горько пеняли на свою неосмотрительность. В тот день сэр Бартоломью Редверс гарцевал на рослом и нарядно убранном вороном жеребце, и множество народа, высыпавшего на улицы и заполнившего окна, взирало на него, одетого ради праздника в великолепный бархат из лучшего сукна, и с похвалой отзывалось о его манерах и свите; подлинно, это были славные мужи, лучшие из тех, кто когда-либо снимал комнаты за шесть шиллингов, считая горячую воду по утрам. И они разбили свои шатры на крикетной площадке и переночевали там, а поутру люди, пришедшие из-за реки, сказали сэру Бартоломью, что враг идет прямо к нам и в таком множестве, что по окрестностям не хватает железа, дабы подковать им коней, и в употребление идут каминные таганы, тележные ободы и вертелы; и сэр Бартоломью, слыша это, отвечал: «Бог даст, мы хорошо попируем со всем тем, что они настряпают там со своими вертелами». И вот утром, когда трубили в трубы и били в литавры, он вышел на поле вместе со своими людьми, из тех, что завтракают за табльдотом. Никогда не было видано столь прекрасного воина, ибо ростом он был выше всех своих людей и был закован в превосходные латы; ему подвели фламандского ронсена, и он вскочил на него, и его люди последовали за ним; а когда они проскакали уже изрядно, то увидели засадный отряд, который стоял за палисадником мистера Барнса, поджидая их в полной готовности и в добром строю; и надобно сказать, что если бы мистер Барнс лучше следил за своим палисадником, то этим людям, кои стояли там, куда труднее было бы спрятаться. Видя это, люди сэра Бартоломью были изумлены, а некоторые сказали меж собою: «Без разума сделали мы это, когда помчались таким манером, не выслав вперед дозоров; так мы можем больше потерять, чем выиграть». Тут многие из них повернули назад, и это было для них позором, те же, кто не повернул, стояли, и сердце их колебалось.
Был там один добрый рыцарь из той комнаты, где обычно останавливается каноник из Эксетера; он обратился к ним и сказал так: «Господа, мы в самой великой опасности, в какой когда-либо находились, ведь если они обойдут нас с того края, мы погибли; а если мы отойдем и отступим, то подвергнемся порицанию и потеряем этот город и все, что в нем; посему никто не может спасти нас от этой опасности, кроме Господа. Я предлагаю вам и советую воззвать к Нему, дабы Он милосердно уберег нас в таковой тесноте, а потом давайте вспомним прежнюю доблесть и ударим на них как подобает, ибо в понедельник мне надо быть в пароходстве». Молвив это, он пришпорил коня и пустился на врага; а люди, бывшие подле сэра Бартоломью, решили, что будут опозорены, если позволят этому юнцу идти перед ними, и с кличем: «Святые Нерей и Ахиллий!» пустили коней вслед за ним. А этот добрый рыцарь из комнаты, где каноник с супругой, наехал на одного человека, из тех, что пользуются ванной не по расписанию, и этот человек накренил копье, ударил шпорами и нанес рыцарю такой могучий удар в тарч, что его копье разлетелось на куски, а рыцарь, в свой черед, поразил противника столь ловко, что его крепкое копье не сломалось и не погнулось, но пробило тарч, латы и окетон, вонзившись в самое сердце, и повергло его наземь. Тут и все прочие сшиблись и сразились на копьях, мощно и крепко, а когда копья стали бесполезны, схватились за мечи и секиры, кои были у них на ленчиках седел, и стали наносить удары тяжкие и опасные. И миссис Мур ручается вам, что там было много сказано и сделано такого, что дай Бог чтобы в следующем году было столько же. Знайте же, все проходящие путем, что это было прекрасное сражение, ибо никто не натягивал лука и не ставил ногу в арбалетное стремя, и с обеих сторон были совершены прекрасные подвиги, и многие были взяты в плен, а многие избавлены, и пали сильные, и погибла молодость многих, кто лег в этот день среди мальвы и чьи имена записаны в книге «Спящего пилигрима».
— А что инспектор? — спросила мисс Робертсон.
— Я как раз перехожу к этому, — сказал Роджер. — Когда инспектор увидел, сколько добрых мужей наносят и получают удары на этой кровавой крикетной лужайке, его сердце загорелось, и он сказал себе: «Я буду самым никчемным и презренным человеком, если не пойду и не прославлю свое имя следственными действиями». И, призвав себе на помощь пророка Елисея, он бросился…
— Почему пророка Елисея? — недоуменно спросила мисс Робертсон.
— Он ведь достал топор из реки, — пояснил Роджер, — поэтому его призывают на помощь, когда настает время проводить розыскные мероприятия. Так вот, он бросился туда, где отступило наше счастье и дрогнуло знамя банковских служащих, и многие, кто видел его в этой сече, говорили, как это было бы плачевно, если бы такой одаренный молодой человек сложил здесь голову, ибо люди гибнут хуже сена, да и мальва тоже уже ни на что не похожа. Однако инспектор…
— Расскажите сразу конец, — попросила мисс Робертсон. — Я понимаю, что так не делается, но я волнуюсь за инспектора. Неужели он не мог не рисковать?
— Конечно, мог, — согласился Роджер, — но это было бы совсем не то. Инспектор в этом случае повел себя как все великие художники прошлого. Когда они приходят в гости к другому художнику прошлого и не застают его дома, они не оставляют записку — мол, приходил такой-то — и не просят старую служанку передать хозяину свою визитную карточку — о нет, они ведут себя иначе. Они обязательно находят какую-нибудь неоконченную картину, на которой не хватает самой главной части, и, схватив кисть, пририсовывают ее, а потом немедленно уходят. Когда же возвращается хозяин с приятелями и видит, что на картине появился кипарис или еще что-то нужное, приятели шумно обсуждают, что бы это значило, а хозяин погружается в задумчивость и наконец произносит: «Здесь был такой-то». Так и инспектор: если вы вникнете в дело, то увидите, что он никак не мог пройти мимо этой картины, не пририсовав к ней свой кипарис. Так вот, совершив то и то, и паче того, он встретился на поле с неким человеком, одетым в черное, и, назвав ему свое имя и должность, попросил пройти с ним, что пришлось тому человеку не по нраву, однако инспектор настаивал. Он шел с ним по полю, держа его за рукав, и выкликал: «Миссис Хислоп! Миссис Хислоп! Кто приведет меня к миссис Хислоп?», ибо был уверен, что она где-то здесь; и люди расступались перед ним, а миссис Хислоп вышла навстречу, вознося великие хвалы этому дню и всему, что Господь показал ей, а инспектор поклонился и спросил ее, узнает ли она этого человека. И миссис Хислоп посмотрела и сказала, что это тот самый, о котором она ему рассказывала. Инспектор спросил, уверена ли она в этом, а миссис Хислоп отвечала, что уверена, как ни в чем другом. Тогда инспектор, поблагодарив миссис Хислоп за помощь в розыске, взял этого человека, и вывел его из среды брани, и… Добрый день, инспектор. Как вам сражение? Приедете на следующий год?
— Я подумаю, — сказал инспектор.
— Вы поймали преступника? — спросила мисс Робертсон.
— Я нашел человека в черном, — без радости отозвался инспектор.
— Вот как! И кто же он?
— Букинист, — сказал инспектор.
— Что?..
— Он ходит по окрестностям, покупая у людей то, что они уже не надеются прочесть, — сказал инспектор. — Многие отдают даром. А потом везет в город и продает.
— Странствующие букинисты, — сказал Роджер. — Надо же. В наш век людей совсем сорвало с мест. А что у него было с Энни?
— Он говорит, что встретился с ней случайно. Она узнала, чем он занимается, и начала расхваливать ему библиотеку сэра Джона. Говорила, что там полно книг и никто их не читает.
— Замечательно, — с негодованием сказал Роджер.
— Сказала, что может взять и принести ему любую, так что никто этого не заметит. Он колебался, потому что, по его словам, он никогда не промышлял ничем подобным и никак не думал опуститься до того, чтобы…
— Ну конечно, — сказал Роджер. — Тот человек, что позировал для статуи Вакха, тоже небось считал это невинным занятием и уж точно не рассчитывал до того помешаться на позировании, чтобы в конце концов вылезти на крышу и стоять там в позе Вакха рядом с трубой. Тут главное — начать.
— В конце концов она его соблазнила, расписав, какие редкости там хранятся, а когда дошло дело до торгов, проявила удивительную твердость и настойчивость, он прямо был удивлен.
— Вот что значит в его возрасте переходить от книг к жизни, — сказал Роджер.
— Он говорит, что купил у нее всего одно издание в трех томах; дело было позавчера, она вынесла их ему на дорогу, и он расплатился, но потом его замучила совесть, и он сказал ей, что больше они этим делом заниматься не будут, а она посмотрела на него с презрением и сказала, что найдутся другие.
— И что вы с ним сделали? — спросила мисс Робертсон.
— Отпустил, — сказал инспектор. — Он хотел подарить мне «Священную войну» и какой-то определитель грызунов Сассекса.
— Ну книги-то хоть вы у него отобрали? — спросил Роджер. — Не оставлять же всякому…
— Разумеется. Вот один том из того, что она ему продала.
— «Старые мастера Европы», — прочел Роджер. — Да это то самое, чего я не мог найти в библиотеке! Боже мой, вот, значит, те «старые хозяева», о которых говорила Энни. Какие же мы дураки! А это что на ней?
— Отпечаток руки, — сказал инспектор. — Может быть, испачканной вареньем, может быть, вином, а может, и кровью. Букинист говорит, что заметил это и сказал горничной, что такие вещи снижают цену и что он заплатит ей меньше условленного. Говорит, что горничная была смущена, раздосадована и согласилась.
— Вы думаете, это варенье? — спросила мисс Робертсон.
— Я думаю, это кровь, — сказал инспектор. — И тут наконец мне пришло в голову сделать то, что любой сделал бы три дня назад. Я осмотрел библиотеку. Знаете, что я нашел на полке в том шкафу, что у самой двери?
— Что? — с волнением спросила мисс Робертсон.
— Отпечаток в пыли, — горько сказал инспектор. — Смазанный отпечаток квадратной подставки, точно такой, как был на этом столике после убийства мисс Меррей. Меня следовало бы уволить со службы, чтобы я ходил по дорогам, продавая людям «Священную войну» и каталоги сассекских хорьков. Больше я ни на что не годен.
— Не надо так о себе говорить, — сказала мисс Робертсон. — У всех бывают неудачи. Вы обязательно всех найдете и предадите правосудию.
— Вы так думаете? — спросил инспектор.
— Ну конечно, — заверила мисс Робертсон.
— Если вы спросите меня, — сказал Роджер, — я полностью согласен с мисс Робертсон, а я ведь не такой добрый, как она. Вы в шаге от блистательной победы, я уверен. Просто тут у нас такой хаос, что иной раз ложку не найдешь, а если нужно что-то важное, то не знаешь, откуда подойти. С этим надо освоиться. Один итальянский художник, когда ему понадобилось изобразить голову Медузы, напустил полную комнату ящериц, сверчков, змей, нетопырей, кузнечиков и других тварей того же рода и смешивал на рисунках их формы друг с другом, чтобы напугать каждого, кто с этим столкнется, и изобразить то, чего не видишь…
— Как вы сказали? — вдруг спросил инспектор.
— Полная комната сверчков и нетопырей, — пояснил Роджер. — Многие подыхали, потому что он не заботился их кормить, и от этого в комнате стоял такой запах, что человеку с воображением к ней лучше было не подходить, но поскольку запах на картине все равно не изобразишь, он сосредоточился на том, чтобы…
— Нет, — сказал инспектор, — не это. Изобразить то, чего не видишь, вот что вы сказали. — Его лицо прояснилось. — Мисс Робертсон, могу ли я заглянуть в вашу комнату?.. Мне надо проверить одно соображение, и без вашего содействия я не обойдусь.
— Конечно, — сказала мисс Робертсон. — Пойдемте.
— Не знаю, на что я его вдохновил, — сказал Роджер в одиночестве, — но вижу, что все чем-то заняты, один я, как эхо в лесу, ношусь тут неведомо зачем. — Он посмотрел на картину. — Что случилось? Ведь я давно знаю Джейн и никогда не думал… то есть, я хочу сказать, что это было как часть обстановки… хорошо, что она этого не слышит. Но той ночью, когда я, как и все в этом доме, побуждаемый любопытством, выскочил посмотреть, что там гремит и ругается в темноте, я увидел Джейн. Прости мне эту неточность — теперь уже трудно сказать, что именно я увидел, а что дорисовал; главное, я видел Джейн, в простом ночном наряде, с гневом, сверкающим в сонных глазах, и что в ее красоте принадлежало ей самой, а что — ночной тьме и моему воображению, совершенно не важно. Небрежность ее одежды, коридорный сумрак, молчание сельской ночи, одинокий грохот на лестнице — все придавало ей удивительную прелесть, которую я назвал бы застенчивой, если бы это хоть сколько-нибудь ей подходило. Все во мне пошло не куда надо: я хотел сказать Джейн, что я чувствую, но вместо этого начал нести обычные глупости, которые она сносила с удивительным для трех часов ночи терпением. Я позволил ей уйти в свою комнату, а сам побрел в свою; мистер Годфри наверху кончил ругаться, все стихло; и я, одинокий, пытался отвлечься от ее образа, все еще стоявшего у меня перед глазами: я говорил ей комплименты, смешил ее, сердил; самая ее досада, мною вызванная, была мне мила; как тот художник, что примешивал к краскам вино, чтобы лица выходили живее, я всюду вмешивал себя, потому что ничего другого у меня не было, и глаза мои не закрывались, пока не пришло утро. Что мне теперь делать? Скажи, — обратился он к картине, — ты ведь знаешь; в любой книжке, где речь заходит о тебе, непременно упоминается «печальная мудрость» — или усталая, точно не помню, — которая водила твоим создателем. Будь любезна, поделись своей мудростью, я очень в ней нуждаюсь.
— Очень хорошо, — сказал инспектор, спускаясь по лестнице в обществе мисс Робертсон. — Так вы говорите, «обезьяна дала мне ключ». Мисс Робертсон, у меня есть к вам одна небольшая просьба. Не могли бы вы…
На этих словах они вышли в сад.
— Не могли бы вы, — продекламировал Роджер. — Не могли бы вы. Не заняться ли мне разведением сверчков и ящериц? Это придало бы мне смысл.
— В самом деле, — сказала пастушка, — почему инспектор решил говорить с ними одновременно?
— А ты как думаешь? — спросил волк.
— Вероятно, он их подозревает, — сказала пастушка, — и собрал вместе, чтобы они не могли сговориться. Им пришлось бы сочинять на ходу, они бы путались и противоречили друг другу. Мне кажется, дело в этом. Но ты, похоже, считаешь иначе.
— Я думаю, — сказал волк, — инспектор заметил, что между молодыми людьми неладно, и решил им немного помочь. Что вернее сближает людей, чем необходимость отбиваться от общих неприятностей?
— Думаешь, он стал бы этим заниматься? — спросила пастушка. — Он ведь здесь не за этим.
— Да, конечно, — сказал волк, — но некоторым так прискучивают их занятия, что они готовы на что угодно. Так пастухи, одурев от безделья, прыгают друг через друга, пока еще дышит день, и не удлиняются горные тени, и козы не потянулись к дому, — а сельские боги глядят на них из-за дерев с приметным удивленьем.
— Может, и так, — сказала пастушка. — Ты знал людей, которые так коротали время?
— Наш хозяин, г-н Клотар, — сказал волк, — однажды проделал нечто такое, по сравнению с чем быть Амуром-примирителем для рассорившихся молодых людей — вещь сравнительно невинная. Да, по совести, эта проделка была слишком хороша, чтобы ругать ее, и слишком дурна, чтобы хвалить.
— В самом деле? — спросила пастушка. — Мне казалось, он не любитель дурачиться. Что же он сделал?
— Один человек, чье имя я не помню точно, — начал волк, — но буду называть его г-н Провен, заказал г-ну Клотару картину на мифологический сюжет. Он сулил щедро заплатить и расточал г-ну Клотару похвалы, коим слава г-на Провена как знатока художеств придавала особую сладость и вескость. У него было одно условие: оставляя выбор предмета на усмотрение художника, он хотел, чтобы тот дал ему самому угадать, какие события и лица изображены на его холсте, и чтобы угадать это было непросто. Г-н Клотар обещал создать для г-на Провена все возможные трудности, какие доступны его искусству, и забыл об этом. Через неделю от г-на Провена пришло любезное письмо, где он описывал, как проводит время, воображая, в каких мифологических дебрях бродит сейчас кисть г-на Клотара. Это заставило нашего хозяина впервые задуматься над своим обещанием. Он прошелся по дому, заглядывая во все комнаты, попал ногой в мышеловку, рассыпал орехи из кулька, высунулся из окна, спустился по лестнице, вышел на улицу и стоял там довольно долго, рассматривая прохожих. Г-н де Бривуа спросил, не думает ли он встретить там триумф Вакха, роту потрепанных ахейцев или Лаодамию, запечатывающую письмо. Г-н Клотар отвечал, что знает людей вроде г-на Провена: напиши он даже бутылку красного вина и зайчатину с перечным соусом, они усмотрят в этом завтрак Ариадны на Наксосе. В таком случае все пути ему открыты, сказал г-н де Бривуа: что же он собирается писать? Г-н Клотар сказал, что ждет, когда подвернется что-то стоящее. Г-н де Бривуа пожелал ему удачи.
Через день-другой, беседуя с г-жой де Гайарден о необычайном ливне, под которым все бывшее на улице вмиг приобрело плачевный вид, г-н Клотар услышал от нее: «Прямо как сестры Пюизье, когда они поехали в Шони смотреть маневры». Он спросил, что это за история, и г-жа де Гайарден рассказала ему, как сестры Пюизье выехали из города. Светило солнце, вереница экипажей катилась по дороге, в правое окно было видно г-на С., скакавшего верхом, а в левое — г-на Р. Г-н С., наклоняясь к окну, рассказывал, как он имел честь смотреться в зеркало, перед которым брился принц Евгений Савойский, а г-н Р., со своей стороны, отвечал на это колкостями, но так, чтобы г-н С. их не слышал. Потом г-н Р. рассказывал, как прекрасен сад в его замке, особенно ночью, когда зажигают огни и вдоль каждой аллеи сверкают маленькие лампы, а фонтаны и водометы выбрасывают алмазные брызги, между тем как г-н С. всем видом показывал, что наслышан о том, на что г-н Р. употребляет ночь, и мог бы рассказать, не будь он порядочным человеком. На другой день погода испортилась, все экипажи пришли в беспорядок. Г-н С., который выглядел ужасно, но пытался сохранять остроумие, сказал, что если таким манером путешествует наша почта, неудивительно, что в любовных письмах по их получении обнаруживается столько слез. Г-н Р. пытался рассказывать, как у него в замке устраивают жирандоли и как для этого надобно разводить порох на сере и водке, дабы огонь медленно двигался с места на место (г-н С. сказал, что это очень напоминает нашу процессию), и что жирандоль, если уж говорить о ней всерьез, хороша тем, что в искусных руках может изображать самые разные вещи, но обязательно связанные с огнем и подверженные пожарам: так, например, однажды у него была изображена гибель Трои и Эней, покидающий ее с отцом на закорках, а призрак Креусы был совершенно как живой; тут г-н Р. закашлялся и замолчал, а г-н С. сказал, что его Креусу залило дождем. Потом им повстречался полк драгун, и г-н К., который всем распоряжался, подозвал г-на Р., чтобы отдать ему приказ, и между прочим спросил, как ему драгуны, на что г-н Р. сказал, что они выше всех похвал; правду сказать, это были самые мокрые драгуны в свете, и едва ли о них можно было сказать что-то еще. Г-н С. сказал, что человек, у которого перед глазами всегда примеры высокой доблести, способен перенести и не такое, а г-н Р. отозвался, что, когда все эти праздники кончатся, он первым делом пойдет смотреть похороны бенедиктинца, чтобы развеяться. Когда экипажи были в полулье от переправы, сын тамошнего губернатора прибыл сообщить, что река вышла из берегов и что г-н В. едва не утонул, пытаясь перебраться на другую сторону. Решено было переправляться выше по течению, но из этого ничего не вышло, поэтому заночевали в чем-то вроде риги. Г-н В., который не утонул, приготовил матрасы, которые расстелили на земле, чтобы лечь на них одетыми. Одна из дам нашла это неприличным, но остальные сказали, что не видят в этом ничего дурного и что это даже забавно. Они сидели на матрасах, держа по двое курицу, одна за ногу, а другая тянула. Сначала все жаловались, что суп холодный, а потом справлялись, кто успел его съесть. Г-н О. скитался по комнатам, спотыкаясь о матрасы, и спрашивал, не видел ли кто венецианского посла, которого он оставил в своей карете в полном одиночестве. Ему посоветовали поискать его снаружи, потому что венецианский посол должен там чувствовать себя в родной стихии. К г-ну К. все время шли за распоряжениями, проходя через комнату дам, тянувших курицу, и натыкаясь на г-на О., искавшего венецианского посла, так что г-н К. наконец велел проделать дыру в задней стене и получать приказы через нее. В четыре часа утра пришли сказать, что мост налажен; однако все спали, включая г-на К., кроме двух дам, одна из которых проснулась, потому что на дворе кто-то воет, и разбудила другую, а та впросонках отвечала ей, что это венецианский посол и что его не надобно трогать, если ему нравится; потом они начали спорить, прилично ли разбудить г-на К., чтобы перебраться в город, и понемногу разбудили всех остальных, которые потянулись вставать, потому что холод и тощие матрасы всех утомили. Дамы, привыкшие румяниться, в это утро казались увядшими. Появился г-н С., искавший у кого-нибудь зеркало, за ним г-н Р., и г-ну С. сказали, что, если он хочет знать, как он выглядит, пусть посмотрит на г-на Р. Отовсюду слышались жалобы, что люди, не имеющие никаких видов, не должны наряжаться, а в особенности увязываться за теми, кто едет в Шони на маневры, и что тому, кто не может себя оправдать, незачем и пудриться. Кто-то громко сообщал, что хочет стать отшельником и жить в согласии с собой. Сестры Пюизье, бледные и печальные, поднялись, отбросив куриную кость, которая оказалась с ними в постели, открыли шкатулку с украшениями, взятую в расчете на что-то другое, и, толкаясь головами, долго смотрели в нее. Чувства, испытываемые ими, едва ли можно передать тому, кто не ездил в Шони на маневры.
Г-н Клотар сказал, что, даже если у этой истории есть продолжение, его не стоит рассказывать и что эта прекрасная сцена заслуживает, чтобы на ней остановились. Тут к нему снизошло вдохновение: он сказал, что изобразит сестер Пюизье на картине, которую ждет от него г-н Провен. Г-жа де Гийарден отозвалась, что всегда рада помочь. Проводив ее, г-н Клотар взялся за дело и, работая, как всегда, быстро, изобразил трех девушек вокруг шкатулки: одна склонилась, открывая ее, другая стояла спиной к зрителю, а у третьей на лице была написана задумчивость, вызванная легкой головной болью. Оставив работу, он вышел прогуляться и встретил г-на Провена, который был чрезвычайно рад и уговорил показать ему недоконченную картину. Нет художника, который соглашался бы с легкою душою на такие вещи, а г-н Клотар был не из самых общительных, так что г-н Провен показал себя прямым чудотворцем. Как бы то ни было, г-н Клотар подвел его к картине, на которой было почти все, кроме шкатулки с сердоликовыми сережками, жемчужными браслетами, золотыми венецианскими цепочками и всем прочим, что должно было в ней находиться. Г-н Провен был пленен гармонией картины; он внимательнейшим образом рассмотрел все в целом, а затем, перейдя к частностям, выразил восхищение благородством и изяществом девушек, стоящих вокруг ларца, в том числе той, что стояла к нему спиной. Некоторое время он смотрел на картину стоя, затем опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть ее, время от времени меняя очки, перемещаясь от одного края картины к другому и выражая безмолвное изумление. Наконец он поднялся и сказал, что она производит такое же впечатление, как беседа с умным человеком, которого слушаешь с неистощимым вниманием и после долго возвращаешься в мыслях к сказанному.
— Что же касается сюжета, — прибавил он, — надо признаться, вы заставили меня поломать голову. Я было подумал, что здесь представлена Алфея с двумя служанками в тот миг, когда она достает из ларца роковую головню Мелеагра, однако по некотором рассуждении отказался от этой мысли. Я понимаю, что может чувствовать художник при виде людей, лучше него знающих, куда поставить Агамемнона и как должны вести себя Амуры в кузнице Вулкана, но надеюсь, что не оскорблю вас замечанием, что Алфею в этот миг нельзя изображать иначе, как одинокою, и что ее страсти, о которых Овидий говорит:
Так Фестиева дочь, в сомненьях побледнев,
Едва угашенный вновь воспаляет гнев –
ничего не выиграют, сделавшись зрелищем для равнодушного любопытства челяди. Кроме того, все три прелестные участницы этой сцены одеты с одинаковым изяществом и пышностью, так что трудно представить, чтобы какая-либо из них могла распоряжаться остальными.
Коротко сказать, г-н Провен не находил, кем бы могли быть эти девицы, кроме как дочерьми Кекропса, изображенными в тот миг, когда они легкомысленно открывают ларец с Эрихтонием. Правда, обычно считается, что только две из них преступили таким образом заповедь Минервы и были наказаны безумием, но г-н Провен был уверен, что и третья могла в этом участвовать. Он похвалил выражение лица той из девиц, у которой его было видно, сказав, что здесь тонко передано крайнее изумление, сменяющееся исступлением. Потом он остановился на том, что оставалось дописать, именно на ларце, заметив, что г-ну Клотару предстоит непростое дело — изобразить предмет, способный так потрясти человеческий разум. Он спросил г-на Клотара, видел ли он портрет маршала Виллара, написанный г-ном Ларжильером. Г-н Клотар отвечал, что нет человека, который не видел бы этого знаменитого портрета или по крайности не слышал о нем так много, что может считаться видевшим. Г-н Провен сказал, что имеет честь принадлежать к поклонникам г-на Ларжильера. Один славный ученый говаривал, что, если бы Вергилий упомянул его только в одном стихе «Энеиды», он бы почел себя счастливейшим человеком и пренебрег всякой другой известностью. Так и он, г-н Провен, был бы совершенно счастлив, если бы г-н Ларжильер изобразил его в какой-нибудь из своих картин: мечтание несбыточное! Он надеется, что, воздавая должное достоинствам г-на Ларжильера, не задевает в г-не Клотаре ревности художника.
— Ваш гений, — прибавил г-н Провен, — любит прогулки по аллеям, звук виолы меж древами, тимьян на росном берегу, красавицу, смеющуюся в темном уголке; вашей кисти нет равных, когда она берется изобразить нежное и трогательное; однако в сем случае вам надобно присвоить себе высокое вдохновение г-на Ларжильера, дабы коснуться предметов, полных величественного ужаса.
Г-н Клотар рассказал эту историю г-ну де Корвилю. Тот, пожав плечами, заметил, что маршал Виллар, вне всякого сомнения, счастливый предмет для искусства. Он взял Денен и спас столицу; он взял Шпейер, Ландау и Фрейбург и принудил императора к миролюбию; он занял остывшие кресла епископа Санлисского и утешил овдовевших Муз; его бахвальство — всего лишь оборотная сторона умения выбирать для беседы занимательные предметы, его привычка возить за армией свою жену, донимая ее придирками ревности, придала выражению «театр войны» новый смысл, а его любовь к Корнелю доказывает способность ценить чьи-либо успехи, помимо собственных. Риго и Ларжильер хорошо сделали, что написали Виллара, ибо когда кому-нибудь понадобится аллегория удачливого тщеславия, он найдет ее уже готовою. Г-н де Корвиль умел быть резким, когда переставал быть рассеянным.
Г-н Клотар сказал, что рисунок, набросанный г-ном де Корвилем, слишком выразителен, чтобы быть справедливым. Г-н де Корвиль отвечал на это, что когда дамы берут в руки румяна, чтобы писать свой портрет поверх оригинала, они тоже не заботятся о справедливости, предпочитая ей красоту, и он, г-н де Корвиль, в сем случае, как и во многих других, следует за дамами; а кроме того, ему вспоминается один старинный анекдот, который, конечно, совершенное вранье, но рисует характер маршала. Во время кампании против принца Людвига г-н де Виллар занял Гюнинген и навел мосты через Рейн. Получив сообщение, что враг двинулся к Бинцену, он предвидел большое сражение и искал средств усилить свои позиции. В эту пору дошел до него слух, что в городе есть человек, утверждающий, что в стакане воды может показать все, что люди пожелают узнать. Г-н де Виллар велел спросить этого человека, отвечает ли он за свои слова и может ли он показать ему будущее сражение с принцем Людвигом. Этот человек отвечал, что мало кто в его ремесле может похвалиться такой честностью и что даже дьявол, будучи им призываем, не появляется, зная его как человека порядочного и не видя проку заводить с ним отношения; что до пожеланий г-на маршала, то он берется представить ему что угодно, однако надобны ему услуги невинного существа. Маршал распорядился приискать таковое среди местных жителей, и вот из дома, где квартировал г-н де Борд, привели девочку лет восьми, невежественную и простодушную. Собравшиеся спрашивали ее, что происходит сейчас в отдаленных местах, о которых, как им казалось, у них есть достоверные сведения, и девочка рассказывала, что она видит в стакане. Когда ее испытали таким образом, маршал спросил о будущем сражении. Девочка сказала, что люди смешались в кучу, знамена носятся туда-сюда, всюду кровь и что она никогда больше не станет никуда заглядывать. Г-н де Борд сказал, что пользы тут не будет, и хотел было уйти, как вдруг девочка вымолвила, что теперь ей видно яснее и что вот этот господин (она указала на г-на де Борда) лежит на земле, весь в крови, похоже, что убитый, а вокруг него солдаты с горестным видом. Г-ну де Борду это очень не понравилось, но маршал в нескольких словах утешил его, сказав, что после нас остается наша слава и что большое количество людей, собравшихся вокруг тела г-на де Борда, доказывает, что он пользовался любовью подчиненных. Тут девочка воскликнула, что вот этот господин (это был генерал-лейтенант Маньяк, глядевший на нее с насмешливым видом) ведет конницу в атаку, они бросаются на врага, прямо как коршун на наседку, и этот господин творит такие чудеса, что описать невозможно. Г-н маршал сказал г-ну де Маньяку, что всегда видел в нем превосходного и опытного офицера и что теперь, когда его доблесть переполняет чашу, он рад, что не ошибся в своем мнении. После этого девочка предсказала много всего г-ну де Шамаранду, г-ну де Вивану, г-ну де Сен-Пуанжу, г-ну де Массенбаку и г-ну де Конфлану, которые разнообразно сражались, гибли и покрывали себя бессмертной славой, пока наконец маршал с нетерпением не спросил, видит ли она его самого и чем он занят. Сперва девочка долго искала его, так что г-н де Борд, от расстройства впавший в язвительность, заметил, что для г-на маршала нужно взять отдельный стакан, но наконец закричала, показывая пальцем, что-де она его нашла, теперь уж без ошибки, и что он в чистом поле сидит под деревом, один-одинешенек, раскачивается и рвет на себе волосы, будто лишился последнего ума. Маршал строго заметил, что у нее, верно, в глазах помутилось и что она еще мала, чтобы судить о таких вещах, а потом отобрал у ней стакан и выплеснул в окно. В последовавшей битве при Фридлингене г-н де Маньяк, совершивший все удивительные подвиги, что были ему предсказаны, нашел г-на маршала под тем самым деревом и ободрил, сообщив, что наша кавалерия бьет и гонит имперскую, захватывая знамена, штандарты и литавры. Мать г-на маршала, наслышанная об этой истории, говорила, что ее сын мешкал под этим деревом не из трусости, а лишь потому, что искал места, откуда его не будет видно в стаканах.
Вот так обстоит дело, прибавил г-н де Корвиль, и сколько бы ни было еще написано картин, прославляющих маршала, все они будут им куплены и отправлены в его замок, где у него составился уже целый сераль из пленниц этого рода. Г-н де Виллар любит находить себя в раме, и даже на картине, изображающей фавнов с флейтами, он укажет, с какой стороны в свое время обошел этот лесок, где форсировал речку и как послал Жеводанский полк занять вон те дорические развалины. Впрочем, сказал г-н де Корвиль, г-н маршал мог бы показывать поле, открытое его подвигам, не только на батальных полотнах г-на Ларжильера, но и на тех его прекрасных картинах, где изображается дичь, виноград и устрицы, и если г-н маршал этого не делает, то по причинам, которые ускользают от понимания г-на де Корвиля.
Г-н Клотар заметил, что у дарований г-на Ларжильера много поклонников: например, его слуга Жозеф не видит ничего дурного в том, чтобы, служа одному художнику, хвалить другого, ибо тут, как говорится, неоспоримые достоинства.
— Он резонер, потому что я ему это позволяю. Он обзывает мою добрую пастушку непристойными прозвищами, говоря, что я продавал ее столько раз, что имя честной девицы ей нейдет. Мне это льстит — нечто подобное, если я не ошибаюсь, говорили про «Елену» Зевксиса. Он рассказывает мне, что г-н Ларжильер пишет такие овощи, что, посмотрев на них, не захочешь настоящих и что однажды он написал такую тарелку черешни, а в придачу еще немного крыжовника в плетеной миске, что за человеком, который их купил, всю дорогу летели осы, набились к нему в карету и отстали лишь тогда, когда он додумался закутать картину шалью, а на прощание укусили его в губу. Когда я слышу это, то разрываюсь между желанием подражать Ларжильеру в его удачливости и осам в их настойчивости, поэтому ничего путного из меня не выходит.
— Меня всегда удивляло, — сказал г-н де Корвиль, — как охотно в суждениях вкуса привлекают мнения тех, кого ни в грош не ставят во всех остальных случаях. Если судить по анекдотам, художники жизнь проводят за рисованием ковров, которые какой-нибудь дурак пытается приподнять, и дыр, в которые тот же дурак пытается что-нибудь засунуть. Кажется, тот же Зевксис написал мальчика с виноградом и, когда на виноград слетелись мухи, а на мальчика никто, расстроился оттого, что виноград у него вышел лучше мальчика. Никто же не спрашивает куропаток, покупать ему дом или нет, и не ждет совета мух, если ему нужно составить план кампании. Неужели художество — самая глупая и никчемная вещь, если к его делам допускают тех, кого в остальных случаях бьют туфлей?
Г-н Клотар согласился с мнением г-на де Корвиля, а когда тот спросил, как г-н Клотар намерен присвоить себе вдохновение г-на Ларжильера, с тем чтобы удовольствовать г-на Провена, г-н Клотар сказал, что надеется на вдохновение. Г-н де Корвиль спросил, есть ли у г-на Клотара некие испытанные способы и места для поисков вдохновения — не то чтобы он думал ими воспользоваться, но ему всегда было интересно, как это происходит. Г-н Клотар сообщил, что ни в коем случае не намерен прикладывать к этому усилий и что вдохновение, насколько он успел с ним познакомиться, сходно с г-ном Провеном в том, что приходит, когда его не ждут. День-другой он ходил по дому в задумчивости, напевая то одно, то другое и позволяя своему слуге Жозефу говорить все, что ему заблагорассудится, а потом поднял палец, лицо его прояснилось, и он поспешил к своей картине. Дописав ее довольно быстро, он послал учтивое приглашение г-ну Провену. Тот явился и поздравил г-на Клотара, а затем г-н Клотар подвел того к картине и сдернул с нее покрывало. Взору г-на Провена предстали три знакомые девушки, из коих одна, открыв ларец, обитый бархатом, вынимала оттуда портрет маршала де Виллара, в точности такой, как он написан г-ном Ларжильером, только уложенный в ларце набок. Г-н Провен выглядел замечательно. Он сунул пальцы в рот, сильно прикусив их, выпучил глаза, согнул колени, словно собираясь прыгнуть с места, и вообще разительно напоминал человека, потерявшего рассудок, из чего было видно, что г-ну Клотару удалось добиться тех высоких вдохновений, какие от него требовались. Покамест все это творилось с г-ном Провеном, г-н Клотар, стоя рядом с картиной, как проводник по сомнительным местам, смиренно объяснял, как много дум, усилий и молитв потратил он, чтобы хоть издали поспевать за полетом г-на Ларжильера, как все это оказалось впустую и как он пришел к мысли, что лишь смиренное подражание прославленной работе этого художника позволит ему засвидетельствовать если не свои таланты, то по крайней мере свое почтение.
Первым побуждением г-на Провена, когда он пришел в себя, было отказаться от покупки этого полотна. Он уже собирался сообщить об этом г-ну Клотару в выражениях, не оставляющих сомнений, как вдруг остановился от новой мысли. Г-н Клотар, несомненно, найдет покупателя, причем ценность полотна, несомненно, лишь возрастет от прилагающейся к нему истории о том, как г-н Провен был выставлен на посмешище. Немного рачений и желания, и картина с маршалом сделается предметом для разговоров в каждом доме по меньшей мере на месяц, и было бы разумнее один раз купить ее, чтобы никому не показывать, чем каждый день жалеть, что не сделал этого. Приняв это в рассуждение, г-н Провен с некоторой сухостью сказал г-ну Клотару, что сегодня же пришлет к нему расплатиться и забрать картину. Г-н Клотар проводил его до дверей, кланяясь и заверяя, что всегда будет рад для него работать.
Через несколько дней г-н де Бривуа с г-ном де Корвилем обсуждали эту историю, и г-н де Бривуа, посмеиваясь, сообщил, что это он подал г-ну Клотару мысль. По словам г-на де Бривуа, он пересказал г-ну Клотару один давно прочитанный и случайно вспомненный анекдот. Он тут же передал этот анекдот г-ну де Корвилю, не дожидаясь, когда тот выразит такое желание.
Был в Риме некий художник, усердный и богобоязненный, которому довелось однажды писать фреской историю одного прославленного отшельника. А поскольку отшельник этот вечно носил с собою зеркало, в котором, по его утверждению, он видел последние судьбы мира, художник изобразил его коленопреклоненным с зеркалом в руке, обращенным к небу, а в зеркале отражающееся восстание мертвецов, светильники церквей, трубящие сонмы ангелов, небо, свертывающееся, как молоко, и все, что относится к делу, так что все это видел не один отшельник, но и всякий, кто смотрел на эту картину. Эта затейливая выдумка так полюбилась публике, что многие художники, последовав за ним, научились изображать разные вещи при помощи зеркала, а сам он, открывший эту штуку, получил столько заказов в разных церквах, что долгое время провел изображая на разные лады Страшный суд в зеркале и забыв обо всем прочем.
Был у него приятель по имени Паоло, тоже живописец и человек весьма насмешливый, который, наблюдая однообразные его занятия, решил сыграть с ним шутку. Он сошелся с каким-то богатым купцом и подбил его заказать этому живописцу картину с богиней Венерой в своей опочивальне, да не скупиться на обещания. Живописец, слыша, чего от него хотят, думал было отказаться, но купец посулил ему такие деньги, что в бедном его сердце разгорелась жадность и он согласился. Охая и раскаиваясь, приступился он к этой работе, как новичок к дверям блудницы, и хотя ему с непривычки трудно было совладать с таким предметом, однако он выписал Венеру весьма искусно, со всей роскошью ее спальни, бархатом и купидонами, летающими там и сям, один с атласными лентами, другой с помадой; сама богиня изображена была на постели, спиной к зрителю, смотрящей в зеркало, где отражалось лукавое ее лицо. Когда же работа была почти кончена, этот Паоло проник в мастерскую, дождавшись, что хозяин отлучится, и там быстро и с отменным искусством наместо лица Венеры, отраженного в зеркале, изобразил славу Божию, гробы, открывающиеся, как лавки поутру, саранчу, небесный Иерусалим и вообще все, что этот живописец привык выводить в своих картинах; и доделав все, что затеял, Паоло так же тихо покинул мастерскую, как в нее проник. И вот когда этот художник, вернувшись к картине с намерением украсить напоследок это распутство, нашел чего не ждал и застыл, точно увидев горящий Содом, Паоло же, оказавшись тут как тут, с обеспокоенным лицом сказал: «Видишь, друг мой, что бывает, когда долго занимаешься одним и тем же: ты так привык писать Страшный суд в зеркалах, что сам того не заметил, как двинулся привычной дорогой».
Делать нечего, тот снова взялся за работу и поверх всего этого благочестия заново написал богиню, но делал это в таком трепете и беспокойстве, что глаза у нее вышли косыми, а лицо испуганным. Отчаявшись это исправить, он взял картину и побежал с ней к купцу, чтобы быстрее сбыть ее с рук. Купец, который и сам был любитель посмеяться, спросил, отчего это у Венеры такой ошалелый вид, а тот не нашел ничего лучшего, как ответить, что она испугалась Страшного суда. Купец сказал, что Венера должна ободрять своих поклонников, дабы не страшились воевать под ее знаменами, а ежели у нее такое лицо, человек еще сто раз подумает, нужно ли ему все это; он делал вид, что ему это не нравится и что он хочет сбавить условленную цену, но бедный живописец на все соглашался — он ведь думал, что это небеса послали ему такое знаменье, чтобы он одумался и впредь не писал всякого срама, — так что купцу наконец стало его жалко, он бросил над ним потешаться, заплатил ему как обещал и забрал у него картину со всякими похвалами, а потом находил в ней несравненную забаву, собирая подле нее приятелей и пересказывая, как эта Венера вышла на свет Божий, со своими замечаниями и прибавлениями.
Г-н де Корвиль вспомнил г-жу де Гайарден с ее рассказом о сестрах Пюизье и предупредил г-на де Бривуа, что он не единственный будет притязать на свою долю в этой проделке. Г-н де Бривуа сообщил, что ждет своей славы со спокойной уверенностью, не умаляющейся оттого, что время идет, а славы все нет, ибо он знает, как медлительна сия последняя и какие глупости могут задержать ее в дороге; свою речь он скрепил известными стихами Марциала:
Что люди древность чтят, скучая новизной,
Причин тому не счесть, но доброй ни одной.
Глупцу, завистнику что старей, то милее,
И краше всех дворцов им утлый кров Помпея.
Менандра не спешил театр честить венком;
Коринне лишь одной Овидий был знаком;
Марон для своего был века молоденек;
Стихам Гомеровым смеялся современник.
Не ерзай же, мой труд, ты на свою беду:
По смерти славу ждать? Спасибо, подожду.
Тут г-н де Корвиль подумал, что, когда каждый возьмет из этой картины то, что ему по совести причитается, на долю г-на Клотара останется очень мало или совсем ничего — а впрочем, можно полагать, что г-на Клотара это не очень опечалит.
ГЛАВА ПЯТАЯ
— А потом он явился этому своему приятелю, — сказала Джейн викарию, — весь переливающийся, и сказал, что наши представления о загробной жизни страдают известной неполнотой. Как вы думаете, он прав?
— Возможно, — вежливо сказал викарий.
— Я бы ему не доверяла, — сказала Джейн. — Хотя после этого он ушел через футляр от контрабаса, так что… Доброе утро, инспектор. Как вам вчерашнее сражение?
— Много доблести и славы, — отвечал инспектор, входя из сада. — Я понимаю, почему люди сюда ездят. С другой стороны, те, кто считает это утехами невежества… Доброе утро, мистер Годфри. Что это с вами?
— Ничего особенного, — сказал мистер Годфри, который выходил из дому, со страдальческим видом держась за поясницу. — Когда ищешь что-нибудь на полу, надо меньше кланяться, вот и все.
— Ой, это печально, — сказала Джейн. — Наверняка у миссис Хислоп есть какая-нибудь мазь. Сейчас я спрошу.
— Не стоит, — сказал мистер Годфри. — Я встретил на лестнице мисс Робертсон, она сказала, что у нее есть несравненное средство, которое мгновенно избавит меня от всего. Мне остается надеяться.
— А медаль вы так и не нашли? — спросила Джейн.
— Нет, не нашел, — сказал мистер Годфри, — зато теперь у меня есть жало в плоть, это отвлекает от всякой суеты. В моем возрасте уже пора ограничивать свои планы пределами тела и радоваться, если они осуществляются.
— Желаю вам скорейшего выздоровления, — сказал викарий.
— Спасибо, — отозвался мистер Годфри. — Собираетесь на рыбалку, мистер Хоуден?
— Да, — сказал Роджер, входя в галерею и ставя сумку у стены. — Я подумал, что, если от меня тут ничего не нужно, я могу себе это позволить. В конце концов, я уже давно не сидел в тростниках и Джеффри Герберт будет рад меня видеть. Я так и вижу его радость, умеренную опасением распугать плотву.
— Я вам завидую, — сказала мисс Робертсон, спустившись с лестницы. — Хотела бы и я так же.
— Так в чем же дело? — спросил Роджер. — Я дам вам червей.
— Нет, куда мне, — сказала мисс Робертсон. — Мистер Годфри, вот, пожалуйста, разотритесь этим, и я обещаю, вы и не заметите, как почувствуете…
— Потом, потом, — сказал мистер Годфри, отмахиваясь. — Спасибо.
— В самом деле, — сказал Роджер, — почему нет? Там тихо, хорошо и иногда клюет. Вы вернетесь оттуда новым человеком. Я всегда так возвращаюсь.
— Ничего не выйдет, — сказала мисс Робертсон. — Я на своем месте только в этом саду, потому что его создал Эдвардс, который руководствуется почти теми же предпочтениями, какими руководствовалась бы и я; но стоит выйти за калитку, и я чувствую себя как на торжественном обеде, где большинством вилок меня не учили пользоваться; надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.
— Да, я вас понимаю, — сказал викарий.
— Люди, что жили до нас, — продолжила мисс Робертсон, — хорошо знали, какая связь существует между чистотой воображения и искренностью в любви; они были честны за столом, в бою и на ложе, а потому могли призвать себе на помощь всю мощь природы, если она им требовалась; в гневе они ударяли рукой в землю, чтобы вызвать Эринний, и были уверены, что Эриннии придут. Этот мир учил нас искренности — эти пчелы в ежевике, щегол в ветвях, озера в глубоком лесу, — промолвила она, обратясь к картине, — но мы пренебрегали этим уроком; и тогда мир начал показывать нам лишь нас самих. Не знаю, чего в этом больше: услужливости или презрения. Словно в той истории, которую Генри рассказывал про обезьяну с ключами… Вы слышали ее? — спросила она у присутствующих. — О, это замечательная история. Генри был в девственном лесу и решил отдохнуть. Он лег на землю и уснул крепким сном, а когда проснулся, обнаружил, что обезьяна, одна из тех, которыми кишел этот лес, подобралась к нему, пока он спал, и вытащила ключи у него из кармана. Обезьяна сидела напротив него на ветке, играла с ключами и выглядела совершенно как хозяин всего того, до чего можно добраться с их помощью; по всему было видно, что ключи ей нравятся и что просто так она их не отдаст. Что было ему делать? Он пытался быть с ней ласковым, потом грозным, думал отвлечь ее от ключей, предлагая другие предметы, но обезьяна смотрела на все равнодушно; а когда он совсем отчаялся, то с досады кинул в обезьяну какой-то шишкой, а она нашла такую же и запустила в него; тут к нему пришла счастливая мысль. У него были какие-то другие ключи: он кинул в обезьяну и получил первые обратно.
— Это как общество взаимного кредитования, — сказал Роджер.
— А он потом не пробовал вернуть и вторые? — спросил викарий.
— Кажется, он решил, что обойдется стамеской, — сказала мисс Робертсон. — Стамеска у него была.
— А почему нельзя было воспользоваться стамеской вместо тех, первых ключей? — спросил викарий.
— Не знаю, — сказала мисс Робертсон. — Впрочем, дело не в этом. Он счастливо вернулся, рассказывал нам эту историю, а Танкред за ним повторял. Однажды он таким образом напугал почтальона — тот услышал за дверью: «Обезьяна дала мне ключ» и решил, что у нас воры в доме.
— Как интересно, — сказал мистер Годфри.
— В наше время, — продолжала мисс Робертсон, — когда все думают, что живопись можно заменить фотографией, скульптуру — отливкой и тому подобное, люди почти не прикасаются к реальности, к ее первоначальным формам. Мы не ценим физическую работу, мы смеемся над нею, бежим от нее; у нас нет терпения достигнуть в ней правильности, и мы не знаем, какой ценой она приобретается. Конечно, мы еще восторгаемся при виде пчелиных сот, мы еще способны видеть в них божественное дарование, превращающее простой воск в нечто прекрасное; но между тем…
— О да, — ввернул Роджер, — соты — это прекрасное зрелище, особенно когда пчелы спят или на службе. Однажды в какой-то итальянской галерее я видел чье-то «Святое собеседование». Там был изображен прекрасный пейзаж, с колокольней и синими скалами на горизонте, а на переднем плане под дубом собрались святые и заказчик с ними, хорошо одетый и очень самоуверенный молодой человек, которого совершенно не смущало общество св. Урсулы и св. Екатерины. И все это под ясным полуденным солнцем, забыл сказать. Вот, а следующая картина была того же автора и на тот же сюжет, только написана лет на тридцать позже. И там все так же прекрасно: солнце, красные мантии, зеленые мантии, и святые совершенно не изменились: все так же молод Иоанн Креститель, и у св. Екатерины все такое же отличное колесо, сразу видно, что им не пользовались; а заказчик тот же, и он сильно сдал. И самоуверенности у него убавилось, и кожа сухая, и вообще видно, что лучше бы он пошел домой и полежал. Помню, все то время, что я провел у этой картины, я сперва мучился жалостью к заказчику, а потом пытался понять, чего же хотел от меня автор, потому что у него явно были иные намерения. Там в дупле дуба и еще в расселине скалы виднелись пчелиные соты, и я подумал, что…
— Едва ли художник хотел вложить свою мысль именно туда, — сказал викарий.
— Почем знать, — отозвался Роджер. — Надо везде проверить.
— Мисс Робертсон вообще говорила о другом, и то, что она говорила, очень важно, — сказал викарий. — Мы общаемся с природой в пределах нашего сада; мы хотим сохранить иллюзию, что живем в согласии с нею и открыты для ее внушений, но то, что мы видим за этим окном, имеет мало отношения к природе: она ушла, оставив нам этот сад, как погремушку для нашего малоумия. И когда мы видим эту ленивую нежность, эти цветы, этого пса, что носится по клумбам…
— Не надо его сюда пускать, — озабоченно сказала Джейн.
— Привет, Файдо, — сказал Роджер. — Как дела?
— Ему нравится ваша сумка, мистер Хоуден.
— Он слишком разыгрался. Где Эдвардс?
— Эй, эй!
— Файдо, что ты делаешь? — крикнула Джейн. — Немедленно прекрати! Нельзя!
— Бог ты мой, что это?
Из разворошенной сумки, которую Файдо выволок на середину галереи, вывалились крючки, поплавки и медная статуэтка, изображающая обезьяну.
— Что за черт, — озадаченно сказал Роджер.
— Да это же…
— Она стояла на этом столике, теперь я помню!
— Погодите, а не ею ли…
— Нет, нет, — произнесла Джейн с бледной улыбкой, — этого не может быть, тут какая-то ошибка. Роджер, объясни.
— Я и рад бы, — пробормотал Роджер.
— Так это вы всех убили, мистер Хоуден? — с интересом спросил мистер Годфри. — Кто бы мог подумать.
— Давайте успокоимся, — взывал викарий.
— Ну наконец-то, — произнес инспектор, выступая вперед, и все смолкли. Он поднял статуэтку и понюхал ее. — Прекрасно. Уймись, Файдо, все хорошо. Мистер Хоуден, вы не могли бы объяснить, откуда она у вас?
— Не знаю, — с досадой сказал Роджер. — Я ее впервые вижу. И не поверите, я никого не убивал.
— Почему же, — сказал инспектор, — поверю.
— В самом деле? — недоверчиво спросил Роджер.
— В самом деле. Позвольте понюхать ваши руки.
— Ээ, пожалуйста. Правда, я тут перебирал червей, так что…
— Ничего, ничего. Спасибо, мистер Хоуден.
— Все это, вероятно, имеет какой-то смысл, — пробормотала Джейн.
— Очень надеюсь, — прошептал викарий.
— Мистер Годфри, — безмятежно продолжал инспектор, — если вас не затруднит, вытяните, пожалуйста, руки вперед.
— Что?..
— Будьте любезны.
— Ну, если вы настаиваете, — сказал мистер Годфри, пожимая плечами.
— Файдо! — крикнула Джейн. — Что ты опять вытворяешь?
— Что он делает?..
— Удивительное чутье, — с одобрением сказал инспектор. — Как тут верно говорили, у природы много завидных способностей. Файдо лижет руки мистеру Годфри, — пояснил он, — по той же причине, по которой он унюхал статуэтку в сумке мистера Хоудена. Потому что перед тем, как сунуть эту обезьяну в сумку мистеру Хоудену, мистер Годфри натер ее копченой селедкой, а вымыть руки у него не было времени.
— Мистер Годфри? — изумленно сказала Джейн.
— Остается, конечно, еще несколько вопросов, — сказал инспектор, — но в основном мои дела в Эннингли-Холле можно считать законченными.
— Мистер Годфри! — воскликнул викарий. — Скажите же что-нибудь!
Мистер Годфри улыбнулся какой-то отрешенной улыбкой, наклонил голову и вдруг с быстротой, которой трудно было ждать от человека с больной поясницей, развернулся, пустился с места и скрылся в кухне. В следующее мгновение инспектор ударил плечом в захлопнутую дверь.
— Мистер Годфри, — укоризненно сказал он, — это смешно. Выходите.
— Нет, спасибо, — отозвался мистер Годфри.
— Вам же некуда деваться. Впрочем, как знаете.
— Подождите, — сказала Джейн, — я за вами не успеваю. Это мистер Годфри убил Эмилию?
— Да, — сказал инспектор.
— Зачем?
— Потому что она хотела отодвинуть шкаф.
— Что?..
— Если позволите, все по порядку, — академическим тоном начал инспектор, стоя у кухонной двери. — Некоторое время назад мистер Годфри, человек неутолимого и деятельного любопытства в отношении бэкинфордских достопримечательностей…
— Ради Бога, — сказал невидимый мистер Годфри, — таким языком пишут буклеты для туристов. Нельзя ли как-нибудь иначе.
— Хорошо, — сказал инспектор. — Некоторое время назад мистер Годфри просто начал разбирать бумаги, оставшиеся от сэра Джона. Как всем известно, они лежат в библиотеке и никому до них нет дела. Считается, что это в основном выписки из книг, которые читал сэр Джон, но никто не удосужился проверить это мнение. Читая эти бумаги, мистер Годфри с удивлением обнаружил, что сэр Джон считал индийское наследство, о котором здесь принято говорить как о легенде, несомненной реальностью и думал всерьез взяться за его поиски — намерение, пресеченное его внезапной смертью. Не знаю, на чем основывалась уверенность сэра Джона, но мистер Годфри, судя по его дальнейшим действиям, счел его доводы убедительными. Как я могу понять, сэр Джон не знал точно, в чем состоит это наследство и где оно находится. Мистер Годфри продолжал изучение его бумаг, одновременно проводя изыскания в местах, почему-либо привлекавших его внимание. Полагаю, именно ему мистер Эдвардс обязан изрытыми окрестностями фонтана, которые до сих пор представляют предмет его жалоб.
— Вот как, — сказала Джейн. — А я-то думала, это какой-нибудь зверь из леса.
— Кроме бумаг сэра Джона, — продолжал инспектор, — был еще один источник, из которого мистер Годфри почерпал много полезного. Здешний старожил, можно сказать. В один прекрасный день он открыл мистеру Годфри глаза на вещи, о которых мы теперь можем узнать только от мистера Годфри. Что он вам сказал, а? — спросил он у двери.
— Кто-то из нас? — спросил викарий.
— В некотором роде, — сказал инспектор. — Попугай, я имею в виду.
— Танкред?...
— Да, Танкред. Как вы знаете, у него в репертуаре было много фраз сэра Джона. Видимо, особо важные вещи сэр Джон не доверял бумаге, зато повторял их, раздумывая вслух, — неосмотрительная привычка, если держишь при себе попугая. Обычно Танкред крошил и перемешивал свои реплики, как… — Он остановился, подбирая сравнение.
— Потом спросим у миссис Хислоп, — предложила Джейн.
— Да, — сказал инспектор. — Но однажды (повторяю, это лишь мои предположения) он произнес подряд несколько фраз покойного сэра Джона, которые проливали свет на судьбу и местоположение индийского наследства. С этого мгновения Танкред был обречен, а мистер Годфри испытал новое вдохновение. Наконец он утвердился в мысли, что сокровища должны быть в чулане — или же в каком-то тайном помещении, в которое есть вход из чулана — того самого чулана, который, как я понимаю, долгие годы заброшен и задвинут шкафом. Кто-нибудь видел его открытым?
— Я — нет, — сказала Джейн. — Ни разу.
— И я нет, — сказала мисс Робертсон.
— Нет, никогда, — сказал викарий.
— Так вот, мистер Годфри собирался туда наведаться, — сказал инспектор. — Полагаю, его останавливали очевидные затруднения. Нельзя же обыскать этот чулан так, чтобы никто этого не заметил. Можно, конечно, попробовать ночью, да искать впотьмах неудобно, и потом, всегда есть опасность, что кто-нибудь придет на шум и спросит, что здесь творится; к тому же и шкаф без посторонней помощи не отодвинуть. А чтобы делать все это днем, нужен хороший предлог; и вдруг там на самом виду окажется что-нибудь ценное, а кругом люди ходят.
За дверью что-то покатилось, и задыхающийся голос мистера Годфри произнес:
— Вот она! Наконец-то! Видимо, она вывалилась из кармана, когда я… когда я сюда заходил.
— Мистер Годфри, — невозмутимо продолжал инспектор, — не один день бился над сочинением этого предлога и продолжал думать о нем в тот момент, когда спустился вниз и мисс Меррей, занимавшаяся своей выставкой, сообщила ему о намерении открыть чулан и спросила, не поможет ли он ей со шкафом.
— Откуда вы знаете, что он не один день бился и еще продолжал? — спросила Джейн.
— Иначе слова мисс Меррей не вызвали бы в нем такого неописуемого раздражения, — сказал инспектор. — Конечно, он никак не мог допустить, чтобы кто-нибудь другой открыл чулан и начал там копаться — в тот момент, когда он сам после столь долгих безмолвных трудов был в шаге от блистательной удачи. Но если бы он подумал хоть минуту — повторил бы в уме алфавит, как говорится, — он нашел бы сотню способов отговорить мисс Меррей от этого намерения, причем так, что она ничего бы не заподозрила. Но в нем вскипела желчь. Он видел угрозу всем своим замыслам и был взбешен тем, что люди от большого простодушия хотят сделать то, над чем тщетно билась его изобретательность. Он схватил со стола что попалось под руку и ударил мисс Меррей по виску. Полагаю, он никак не хотел этого и уже через минуту раскаивался в том, что сделал. Но мисс Меррей была мертва и этого не поправить, а у мистера Годфри были свои планы и чулан, куда нельзя было никого пускать.
— Так вот почему он отказался лезть туда за медалью! — сказала Джейн, глубоко потрясенная.
— Извините?..
— Нет, ничего… Но ради чего все это? Мистер Годфри, зачем вам деньги? — укоризненно спросила она.
— Надеюсь, я не оскорблю мистера Годфри, если отвечу за него, — сказал инспектор. — У него были большие замыслы и шаткое положение. Как я понимаю, сэр Генри не унаследовал приязни к нему; их отношения довольно натянутые, и нельзя поручиться, что это гостеприимство длилось бы вечно. Между тем мистер Годфри возлагал надежды на серьезные археологические работы в Бэкинфорде и окрестностях. Это, собственно говоря, его главная мечта, высокое честолюбие. Конечно, ему нужны были деньги.
— Но вы ведь не сразу все это поняли, да?
— Я думал, что причиной всему может быть завещание сэра Джона. Считается, что большинство убийств совершается из-за денег, а единственные деньги в Эннингли-Холле, заслуживающие преступления, — это наследство, оставленное сэром Джоном. В рассказе Эдвардса о том, как оно было составлено и заверено, были некоторые подробности, могущие вызвать подозрение, если ты предрасположен его испытывать. То, что Энни говорила человеку в черном насчет «старых хозяев», казалось подтверждением этой мысли, а смерть Энни усилила это подозрение. Потому я тратил время на поиски этого загадочного человека, подозревая, однако, что где-то поблизости находится и молодой наследник, ибо все, что я о нем знал, свидетельствовало, что важные дела он предпочитает совершать сам, а не поручать другому.
— Вы подозревали Генри? — удивленно спросила Джейн.
— Если вы примете версию, что дело в подлоге завещания, — сказал инспектор, — вы поймете, что сэр Генри делается главным подозреваемым. Поэтому я навел справки о том, где он сейчас. Но когда оказалось, что достоверные свидетели видели его в саванне и что не далее как позавчера он застрелил большого носорога той породы, что называется бореле…
— Бореле — это носорог? — разочарованно спросила мисс Робертсон.
— Да, черный носорог, у которого передний рог достигает, кажется, дюймов двадцати в длину. А что?
— Нет, ничего особенного… А вы не знаете, как этот носорог относится к местным жителям?
— Думаю, отрицательно, — сказал инспектор. — Во всяком случае, сэр Генри там, вместе с мертвым носорогом, и люди свидетельствуют, что он не оставлял своих подвигов ни на час. Это меня несколько расстроило — я ведь держался этой версии, — а когда в тот же день я наконец поймал букиниста…
— Извините, — сказал мистер Годфри из-за двери, — я, кажется, что-то пропустил. Вы поймали букиниста? Я не знал, что у нас это принято.
— Инспектор нашел человека в черном, — пояснил Роджер, — который оказался странствующим букинистом. Он бродит по стране, спасая книги от людей. Инспектор одолел его и вынудил удалиться.
— Вот как, — задумчиво сказал мистер Годфри. — Спасибо, мистер Хоуден.
— Из-за этого, — продолжал инспектор, — я начал думать, что все мои труды тщетны и что я с самого начала шел в неверную сторону. Но тут мистер Хоуден навел меня на мысль, рассказав весьма уместную историю из жизни итальянского художника…
— Всегда рад, — пробормотал Роджер.
— Там были слова «изобразить то, чего не видишь», — пояснил инспектор, замечая общее удивление, — и я вспомнил об одной вещи, которая давно должна была привлечь мое внимание, если бы не этот ваш изумительный праздник с его состязаниями в длительном пении. Я имею в виду последнюю работу Эмилии. Мисс Робертсон сказала, что та писала ее в галерее за три дня до смерти. Да, мне следовало вспомнить об этом раньше. Нам всем следовало.
— Черт! — воскликнул Роджер. — Я понял!
— Впрочем, был человек, вспомнивший об этом раньше меня, — продолжал инспектор. — Надо сказать, он проявил удивительное упорство и изобретательность, пытаясь похитить эту картину из комнаты мисс Робертсон. Конечно, ему не повезло, но идея с фонарем в лесу была замечательная, не могу этого не признать. У мистера Годфри выдающиеся способности к импровизации.
— Погодите, — сказала Джейн. — То есть когда он там вверху негодовал, что мы его разбудили…
— Да, — сказал инспектор, — он бросил камешек в окно, дал мисс Робертсон выйти из дому, затаившись в темноте, а потом поднялся наверх и начал возмущаться вашей бурной жизнью, одновременно вскрывая дверь, чтобы похитить у мисс Робертсон картину. Не появись Энни, он бы это сделал.
— На картине была обезьяна, да? — спросила Джейн.
— Да, она мирно стояла на столе, — сказал инспектор. — У нее было большое уголовное будущее, но она об этом не подозревала. Мистер Годфри не мог допустить, чтобы эту картину кто-нибудь увидел — то есть, я хочу сказать, понял, на что надо смотреть. С этой обезьяной мистер Годфри оказался в крайне неудобном положении.
— Я не могу понять, — сказала Джейн, — зачем ему эта проклятая обезьяна? Почему было ее не выбросить?
— А, это еще одна из милых вещей, которыми мистер Годфри обязан вашему попугаю, — отозвался инспектор. — Танкред говорил: «Обезьяна дала мне ключ», и мистер Годфри неверно его понял. Он решил, что это реплика из запасов сэра Джона и что она имеет отношение к его поискам сокровища. Под обезьяной он понимал статуэтку — она ведь тоже индийская, как я понимаю, а кроме того, других обезьян в доме, кажется, нет. Вероятно, он думал, что в чулане обнаружится нечто, с чем обезьяна как-то поможет ему справиться. Во всяком случае, он возлагал на эту статуэтку большие надежды. То, что именно она попала ему под руку, когда он решил остановить Эмилию, чрезвычайно осложнило ему следующие несколько дней: если бы обезьяну нашли у него, она бы его выдала, а между тем он никак не мог от нее избавиться. Когда я увидел эту статуэтку на картине Эмилии… Понимаете, меня мучил вопрос, почему убийца не бросил свое орудие на месте преступления — почему оно скитается по дому, оставляя свой след в библиотеке, чтобы перекочевать оттуда еще куда-то, — какой в этом смысл, — а тут я вспомнил анекдот, рассказанный мне мисс Робертсон, про обезьяну и сэра Генри, и соединил эти две вещи, то есть, я хочу сказать, пропавшую статуэтку с рассказом мисс Робертсон. Я предположил, что убийца слышал эту фразу от попугая, но не знает, от кого она унаследована, и потому понимает ее неверно. Сделав это предположение, я попросил мисс Робертсон разыграть эту небольшую сценку, при которой все вы присутствовали, и она сделала это великолепно.
Мисс Робертсон церемонно поклонилась.
— А дальше? — спросила Джейн.
— Все вышло наилучшим образом, — сказал инспектор. — Я своим глазам не поверил. Можно было предположить, что убийца поймет свою ошибку и избавится от статуэтки. Но что он сделает это с молниеносной быстротой, да еще постарается обратить подозрения на другого — этого и ждать было нельзя. Как я говорил, у мистера Годфри прекрасные способности к импровизации. Если не следить за ним, нельзя было бы и заметить мгновения, на которое он пропал из галереи. Но я следил. Где вы ее прятали, мистер Годфри? Какое-то место, о котором знаете только вы?..
— Тайная ниша, — пробормотал Роджер. — Всегда есть тайная ниша. Один…
— Бога ради, Роджер, — прошипела Джейн, — прекрати красоваться, это не твое убийство.
— Скажите, инспектор, — сказал викарий, — когда вы начали подозревать мистера Годфри?
— Началось все с попугая, — отвечал инспектор. — Когда я предположил, что его убили намеренно, я подумал, чем он мог провиниться. Что такого мог сделать попугай?
— Ну, например, вон там в углу он за год продолбил клювом огромную дыру в стене, — сказала Джейн. — Удивительная настойчивость. Сэр Джон говорил, что если Танкред хотел бежать отсюда, то взял неверное направление. Если бы мне была дорога опрятность, как она дорога многим другим, я бы, пожалуй, могла…
— Он разговаривал, — сказал Роджер.
— Именно, — кивнул инспектор. — Тогда я стал интересоваться, о чем он разговаривал. И тут выяснились любопытные вещи. Танкред повторял за тремя своими хозяевами: у него были любимые фразы, безусловно восходившие к сэру Джону, были реплики, принадлежавшие леди Хелен (они касаются кухни), и было кое-что от молодого хозяина.
— Львы, белена и краали, — сказал Роджер, — это от Генри, конечно.
— Как вы помните, — сказал инспектор, — я опросил всех на этот предмет, и в итоге у меня в руках оказался очень приличный набор рецептов, призывов, раздумий и воспоминаний. Многие из тех, кого у нас считают писателями, обходятся меньшим… И тут выяснилось вот что. У всех, кого я расспрашивал, наборы фраз пересекались, хотя бы отчасти. Единственным исключением был мистер Годфри: то, что ему удалось вспомнить из разговоров Танкреда, никаких параллелей не имеет. По случайности я спрашивал мистера Годфри первым, он был застигнут врасплох, и мне тогда показалось, что он не вспоминает, а придумывает. Он смотрел в сад и наспех заимствовался оттуда, лишь бы не выдать мне то, что он действительно помнит.
— Но зачем было это скрывать?
— Мистер Годфри проявил осторожность, — отвечал инспектор, — и сделал мне своеобразный комплимент. Он решил, что если отрывочные реплики попугая навели его на след сокровища, они могут навести на этот след и другого. Поэтому мистер Годфри не мог рассказать мне правду; поэтому он и решил избавиться от Танкреда — пока попугай был жив, его неистощимая общительность была угрозой для любых медлительных затей.
— Гм, да, — сказал Роджер. — Все время представлять, что где-то сейчас говорит попугай, соединяя фразы в произвольном порядке, и кому-то с его болтовней может повезти даже больше, чем тебе, — это ведь с ума сойдешь.
— Убийство Эмилии было случайностью, — продолжал инспектор, — но, будучи совершено, оно дало мистеру Годфри возможность заодно избавиться от попугая и представить второе убийство несчастным случаем.
— А потом? — спросила Джейн. — У вас ведь были и другие поводы его подозревать?
— Еще один повод дала Энни, — сказал инспектор. — Бедная своенравная горничная, которая думала, что сама со всем разберется. Помнится, мисс Робертсон слышала от нее, что она-де справится с теми, кто протягивает руки куда не надо?
— Да-да, — подтвердила мисс Робертсон.
— Я промедлил с допросом Энни, потому что увлекся черным человеком и другими вещами, а когда убийца меня опередил, мне остались от нее лишь эти слова. Как я ни пытался, а все не мог понять, что они значат, и тогда решил понимать их буквально. Энни говорила о руке, потому что видела руку.
— Это метонимия, — произнес Роджер, поднимая палец. — Она есть на Сицилии.
Викарий покосился на него без приязни.
— А тут как раз я нашел в библиотеке отпечаток квадратной подставки, точно такой, как на этом столике в день убийства, и мне пришли некоторые мысли, не столько доказательного, сколько художественного рода. Мистер Хоуден, когда вы обнаружили пропажу книг?
— Позавчера утром, — сказал Роджер.
— А накануне они еще были?
— Да, помнится, днем я их листал.
— Очень хорошо. Представьте себе: четыре дня назад, вечер. Энни одна в библиотеке, она хочет забрать книги, которые обещала букинисту, и переставить оставшиеся так, чтобы не было видно пропажи. В это время убийца подходит к библиотеке. Дверь открывается внутрь. Он приоткрывает ее, он даже не входит, лишь протягивает руку, чтобы проверить, на месте ли то, что он там оставил.
— Зачем это было нужно?
— Он нервничает, — сказал инспектор.
— А почему он оставил эту обезьяну в библиотеке?
— Потому что это было безопасное место. Никто бы ее там не заметил.
— По-моему, вы нас недооцениваете, — сказал викарий.
— Кто из вас смог вспомнить, что стояло на этом столике? — поинтересовался инспектор.
— Гм, да. Продолжайте.
— Так вот, он думает, в библиотеке никого нет, но там Энни, прячущаяся в сумерках. Она видит, как в дверь просовывается рука…
— Левая, — ввернул Роджер, прикрывший глаза, чтобы удобнее представлять, как он идет по коридору и открывает дверь.
— Да, спасибо, мистер Хоуден. Просовывается левая рука, трогает обезьяну на полке и тотчас исчезает. Энни девушка смышленая, она поняла, что здесь делает эта обезьяна. Кроме того, она узнала руку, иначе бы сейчас была жива.
— Кажется, это не очень просто, — заметил викарий.
— Есть способы, — сказал инспектор. — Конечно, саму по себе руку, если у нее нет особых примет, узнать вот так нелегко, но то, что на ней надето…
— Кольца! — воскликнула Джейн. — Вот зачем!..
— Да, — кивнул инспектор, — а когда я выяснил, что у вас и мисс Робертсон они такие, что их легко спутать (прошу меня простить), у викария и мистера Хоудена левая рука без колец, зато у мистера Годфри на ней такой перстень, что его различишь издалека и не спутаешь ни с чем, — мои подозрения усилились.
— По совести, это слабый довод, — сказала Джейн. — Почем знать, так ли все произошло или нет.
— Слабый, — согласился инспектор, — поэтому я и не придавал ему большого значения и поставил в середину своего рассказа, как предписывают учебники риторики. А что до того, угадал я или нет, то мы спросим у мистера Годфри. Он не откажется удовлетворить наш интерес, правда?
Мистер Годфри молчал.
— А что дальше? — спросила Джейн.
— Энни забрала обезьяну, — сказал инспектор, — оставив мистеру Годфри и мне лишь смазанный отпечаток на полке. Она схватила влажной рукой статуэтку, на которой запеклась кровь, а потом и три тома «Старых мастеров», которые рассчитывала выгодно сбыть, — отсюда, я полагаю, и появился красный отпечаток на одном из томов: это кровь Эмилии.
— А почему у нее были мокрые руки? — спросила Джейн.
— Потому что тем вечером миссис Хислоп нашла в доме розетку с айвой, — сказал Роджер, — и Энни битый час бродила по лестницам с мокрой тряпкой, чтобы все видели, в каких она заботах.
— Значит, Энни узнала убийцу? — спросила Джейн. — И что было дальше?
— Видимо, она думала шантажировать мистера Годфри, — отвечал инспектор, — а он ей этого не позволил.
— Он ее убил.
— Да, он ее отравил, устроив ради этого ваш римский ужин, а тем же вечером в общей суматохе, проникнув в комнату Энни, отыскал в ее вещах обезьяну и спрятал понадежней.
— И все это происходило рядом с нами, — пробормотал Роджер, — а мы ничего не знали. Потрясающе.
— И наконец, — сказал инспектор, — все-таки не кто-нибудь, а мистер Годфри затеял ту злополучную стряпню из фламинго. Я думаю, вам будет любопытно, — отнесся он к двери, — я заглянул в рецепт: в нем нет куриных яиц. Вы их добавили, чтобы не отравить ненароком миссис Хислоп; вам нужна была только Энни.
— В наше время никто не читает первоисточники, — донесся из-за двери слабый, как шелест листвы, голос мистера Годфри. — Я никак не предполагал… Это удивительно.
— В голове не укладывается, — сказал викарий. — Столько всего.
— Меня чуть не сочли убийцей, — ревниво заметил Роджер.
— Пора с этим заканчивать, — сказал инспектор.
Он нажал плечом, и дверь с треском подалась. Следом за ним в кухню ворвался Роджер, из-за его спины выглядывал викарий.
— Здесь никого нет! — воскликнул инспектор.
— И спрятаться негде, — прибавил викарий.
— Мистер Годфри?..
— Значит, здесь и правда есть подземный ход, — восхищенно сказал Роджер. — Я говорил!
— Куда он может вести? — спросил инспектор.
— Наверно, в ту рощу, что за садом. Когда йоркский шериф…
— Где же вход? — спросил инспектор, озираясь.
— Он может быть где угодно, — сказал викарий, — и надежно скрыт от глаз. Придется искать.
— Некоторые считают, что знать родной край скучно и бессмысленно, — сказал Роджер, выходя из кухни. — Прискорбное заблуждение. Конечно, не каждый может вот так войти в кастрюлю и исчезнуть, но мистер Годфри прошел тропой, которой доселе ходили лишь говяжьи ноги, и показал нам всем, какая это увлекательная область знания.
— Ну, кажется, я все поняла, — задумчиво сказала Джейн. — Только одна вещь меня занимает. Индийское наследство, оно все-таки существует или нет? Мистер Годфри не зря искал?
— Не уверен, что без помощи Танкреда можно ответить на этот вопрос, — отозвался инспектор.
— Очень жаль, — сказала Джейн. — Надо хотя бы посмотреть в чулане.
В это время мисс Робертсон, стоявшая посреди галереи с потерянным видом, совершенно забыв, что у нее в руке склянка с лекарством, словно очнулась и сделала несколько шагов.
— Осторожно! — запоздало крикнула Джейн.
— Боже мой, с вами все в порядке? — спросил викарий, подбегая к ней.
— Да-да, — бормотала мисс Робертсон, поднимаясь на ноги, между тем как средство от болей в пояснице медленно стекало по картине.
— Роджер, весь пол в твоих червях, — с досадой сказала Джейн. — Они тут ползают. Ты бы не мог забрать их к себе.
— Чистый скипидар, — сказал Роджер, шумно принюхиваясь к картине. — Восхитительно.
— Я уберу, — бормотала мисс Робертсон, схватив какую-то тряпку и возя ею по картине. — Я вытру.
— Осторожнее, вы так ее насквозь протрете, — сказал викарий. — Все-таки ей двести лет, с ней может… Ну посмотрите!.. Вы стерли краску!
— Ой, — сказала мисс Робертсон и уронила тряпку.
— Что это? — спросила Джейн, вглядываясь в то, что проступило на полотне.
— Я думаю, — медленно сказал викарий, — это цветок чертополоха.
— Черт, — сказал Роджер, глядя на них всех от окна. — Черт!
— Что такое? — спросила Джейн.
— Стань вот сюда, — сказал Роджер, хватая ее за плечи. — Смотри, вот так на нее падает косой свет… Видишь?
— Кажется, вижу, — медленно сказала Джейн. — Что-то с лаком, да? Слои накладываются, и сверху…
— Верхняя половина отделяется от нижней, — произнес Роджер. — Это не о говяжьей ноге, мы ошибались. Это о картине!
— Объясните, пожалуйста, что происходит, — неуверенно попросила мисс Робертсон.
— Сейчас, сейчас, — сказал Роджер, не слушая ее.
— Мы ведь все думаем об одном, да?
— Разбудите меня, — сказал викарий. — Это что, та самая знаменитая картина, пастушка с чертополохом и чем-то еще? Она здесь?..
— И поверх нее написана эта канитель с праздником, — прибавил Роджер.
— Да нет, быть не может.
— Так что, сэр Джон знал?..
— Похоже, у него были подозрения.
— Наверно, он хотел проверить, что стало с этой знаменитой картиной, в какой момент и при каких обстоятельства она пропала, потому и накупил всех этих книг по истории живописи.
— Которые чуть было не достались ордену странствующих букинистов, — мстительно сказал Роджер.
— Ну, вот вам и индийское наследство, — сказал инспектор, любуясь, как и все, чертополохом, проступившим посреди картины.
— Вы думаете, это в самом деле она?
— Отдайте ее специалистам, они вам точно скажут.
— Какая ирония, — сказал Роджер. — Индийский дедушка наверняка купил ее задешево и обращался без уважения.
— А сколько всего с ней могло произойти за это время! — подхватила Джейн. — Подумайте, ведь она могла сто раз пропасть, так и оставшись неузнанной, если б не мисс Робертсон и ее замечательное средство от поясницы!
— Ну, при чем тут я, — скромно сказала мисс Робертсон. — Но какое удивительное открытие. Надо рассказать обо всем мистеру Годфри… а, нет.
— Если это действительно она, — сказал викарий, — это огромные деньги. Кому она принадлежит?
— Генри, разумеется, — сказала Джейн.
— Надо немедленно ему телеграфировать, — решила мисс Робертсон.
— Не отвлекайте человека, пока его окружают черные носороги, — посоветовал Роджер. — Вернется — узнает.
— Вам не кажется, инспектор, что это главное ваше открытие в здешних краях? — спросила мисс Робертсон.
— Без сомнения, — отвечал инспектор.
— Вы приедете сюда еще?
— Очень надеюсь, — сказал инспектор с легким поклоном, — этот дом никогда больше не будет нуждаться в том, чтобы я опять приехал.
— Я все-таки не могу поверить, — сказал викарий.
— Ты должен мне многое объяснить, — сказала Джейн Роджеру, пока все остальные занимались картиной. — Что ты делал на лестнице?
— Когда именно? Я часто там бываю.
— Не глупи, ты знаешь, о чем я говорю. Тем вечером, когда мистер Годфри отравил бедную Энни, ты встретился мне на лестнице и…
— Спроси об этом мисс Робертсон, — отвечал Роджер с легким раздражением.
— При чем тут мисс Робертсон? Я спрашиваю тебя.
— Мисс Робертсон — это такой человек, в присутствии которого исчезает все наносное и проступает истина, так что если ты хочешь истины…
— Роджер!
— Кроме того, я обещал ей не рассказывать, что я делал на лестнице. А я выполняю свои обещания.
— Я не знаю, чем вы там занимались с мисс Робертсон, — сказала Джейн, — но если ты немедленно не расскажешь…
— Мисс Робертсон решила исправить картину, — быстро сказал Роджер.
— Что?.. — Джейн оглянулась на пастушку. — Эту? Зачем?
— Да нет, — сказал Роджер. — Картину Эмилии, где рыцарь в лесу. После беседы с инспектором она решила, что надо что-то с этим делать.
— Так она все-таки знала?..
— Знала, еще как знала!.. Я говорил ей: отнесите ее к себе, и там, в тишине и покое, рисуйте на ней что хотите, хоть дракона, хоть одиночество, хоть ветчину с горошком. Но нет, ведь на лестнице ей может встретиться кто-нибудь и спросить, куда она тащит этот лес с конями, а тут она проведет кисточкой раз-другой и исправит свой нос в листве, главное, чтоб я минутку постоял на лестнице, вдруг кто-нибудь спустится… Минутку, как же! Битый час я торчал там, а когда ты появилась, не знал, что делать. Конечно, чувствовать себя дураком — это освежающе, но, знаете ли, все хорошо в меру, а такое времяпрепровождение…
— Так она исправила картину? — спросила Джейн, удерживаясь от нервного смеха.
— О да, — сказал Роджер. — Теперь там совсем иная концепция. Посмотри на нее. Впрочем, нет, лучше не смотри. «Теперь самое время ее закрыть», как сказал один итальянский художник другому, когда тот написал нечто подобное. Дело в том…
— Нет, все-таки вы оба безумные, и ты, и мисс Робертсон, — сказала Джейн. — Ты хоть понимаешь, что произошло? Я была уверена, что это ты подсыпал яда в мясо и держал меня на лестнице, чтобы я не отравилась и не нарушила твои планы.
— Ну что я могу сказать, — отвечал Роджер. — Это был не я.
— Теперь-то я знаю, — сказала Джейн.
— Постой, — сказал Роджер. — Ты была уверена, что это я всех убил?
— Не то чтобы уверена, — начала Джейн, — ну, то есть у меня были сомнения, но когда…
— Ты думала, я убийца, — повторил Роджер, — и ничего не сказала инспектору? Ты готова была покрыть мои преступления, сделаться соучастницей того ужаса, который творится здесь все это время, и все это потому, что я тебе небезразличен?
— Ничего такого я не была готова, — сердито сказала Джейн. — Просто так вышло. И я была не вполне уверена. Будь я уверена, можешь не сомневаться…
— Джейн, ты лучше всех, — сказал Роджер. — Никто с тобой не сравнится. Я давно хотел сказать. Ты…
— Ну-ну, — подбодрила его Джейн.
— Ты как тот итальянский художник, которого заставили писать портрет одного покойного полководца — то ли ему показали этого полководца уже мертвым, то ли вовсе не показывали, а только описали в двух словах, как он выглядел, — но, во всяком случае, этот замечательный художник…
— Господи, дай мне терпения, — попросила Джейн, без особой, впрочем, надежды.
— Почему ты не рассказал мне? — спросила пастушка.
— Я надеялся, ты никогда не узнаешь об этом, — сказал волк. — Будь это в моих силах, так бы и вышло. Но я нарисованный волк, в моих силах не так много.
— Как это вышло? — спросила пастушка.
— Я расскажу тебе, — сказал волк.
Однажды все друзья оставили г-на Клотара, и ему было скучно. Он бродил по дому, рассказывал сам себе всякий вздор и отвечал на него остротами. Он строил рожи канарейке. Он делался печальным. Он представлял себе г-на де Корвиля в аллее, стоящего перед изваянием Стыдливой Венеры: подбородок его приподнят, руки заложены за спину, он покачивается на носках; он представлял г-на де Бривуа, играющего со своей собакой по дороге в монастырь: трава качается, на одиноком дереве сидит большая птица, г-н де Бривуа смотрит в небо; он представлял г-жу де Гайарден в самых благопристойных положениях; все это проходило чередой; все это — и г-н де Корвиль в аллее, и г-н де Бривуа в полях, и г-жа де Гайарден в благопристойных положениях — представлялось ему в удивительной полноте очертаний и перемещений, погруженных в цвет, однако не могло ни утолить его скуки, ни даже отвлечь от нее ненадолго.
— Откуда ты знаешь об этом? — спросила пастушка. — Разве он рассказывал?
— Я судил по его лицу, — сказал волк. — Вероятно, г-н Клотар передал мне часть своей проницательности. Так вот, от скуки он взялся за работу: так была написана наша картина. Я сказал тебе неправду: написав меня с моей рощей, он не бросил работу на три недели, но продолжал и довершил ее с обычной быстротой, работая жидкой краской и по несколько дней не чистя палитры. Когда ему нужно было что-нибудь меланхолическое, он вспоминал о г-не де Корвиле, когда ему требовалась нескромность, он вызывал в памяти г-на де Бривуа, а когда надо было сдержанности, обращался к г-же де Гайарден. Наконец он отошел от холста, промолвив, что вышло неплохо. Когда к нему заходил кто-нибудь, г-н Клотар показывал картину, на которой был я, та пастушка с чертополохом и все, что к ним относится. Гости г-на Клотара находили его новую работу отменной. По всему судя, они говорили это не только в присутствии г-на Клотара, но даже когда уходили от него, из чего можно сделать вывод, что картина в самом деле была хороша.
Однажды в дом г-на Клотара пришел испанец, пожилой дворянин, выполнявший некоторые поручения испанского посла, дона Патрисио Лаулеса. Дон Патрисио, начинавший как ирландец, покинул родину вместе с королем-изгнанником, воевал за испанского монарха, видал людей и положения, о которых пишут в Плутархе не для дам, а под конец сделался генерал-лейтенантом и проводил внезапно наступившую старость в Париже, ожидая, когда его отправят управлять далеким островом, где в миртовых рощах вдруг показывается обломок старинной статуи, где запах оливкового масла указывает дорогу заблудившемуся путнику и где во время богослужения ветер с моря врывается в церковь, срывая со стен полотна и катая по полу чаши. Испанец, о котором я говорю, занимался тем, что приобретал для дона Патрисио картины на свой разборчивый вкус, ибо в том краю, куда дону Патрисио предстояло отправиться, никто не смыслил в искусстве и по особнякам знати висели в золоченых рамах рисунки того рода, какой у нас составляет украшение провинциальных трактиров. Г-н Клотар показал этому испанцу нашу картину. Тот посмотрел и сказал с удивительной серьезностью, что этой работой г-н Клотар совершенно восстановил свою репутацию.
— Я надеюсь, — прибавил он, — вы не оскорбитесь, если я замечу, что публика о вас забыла. Ей надо напоминать о себе ежедневно, вы же были слишком горды или слишком беспечны, чтобы этим заниматься. Теперь она о вас вспомнит. Вы услышите много лестного. Будут хвалить изобретательность вашего воображения и его неизменную послушность разуму; будут говорить, что у вас уверенный, прочувствованный рисунок; что вы умеете счастливо жертвовать деталями ради целого; что тень, лежащая на ваших лесах, дает глазу отдых и подчеркивает силу света; что вы не чужды ни грации, ни сладострастия, но способны придать им строгость и благородство. Я же скажу, что наконец вижу художника, который один поднимает падшую славу нашего века. Позвольте мне одно признание. Многие считают, что вдохновение есть умение приподнять край завесы и показать человеку неведомый уголок мира, где обитают гении. Может быть, и так; я старый человек и с понятной опаской думаю о том, что однажды передо мной отдернется завеса и покажет мир, о котором я не имею достоверных сведений; как бы там ни было, я ценю вашу живопись за то, что она не дает мне забыть о существовании этой завесы.
Г-н Клотар услышал от испанца еще много похвал, умных и тонких, и отвечал им с принятой учтивостью. Распростившись с гостем, он вернулся и смотрел на нашу картину с задумчивостью, напевая какую-то арию, а потом сделал гримасу, взял кисть и поверх той пастушки, что была здесь раньше, написал тебя и все, что с тобою; и надо сказать, у него не ушло на это много времени, ибо он так привык к этой работе, что мог бы сделать ее с завязанными глазами. Закончив с этим, он отправился спать. Его слуга Жозеф не мог понять, что происходит. Он обсуждал эту тему с канарейкой. Он думал, что хозяин блажит; что он выпил слишком много; что поутру он одумается и вернет все как было; что не может же он делать вещи, столь явно противоречащие здравому разуму, даже такому причудливому, как его собственный; что даже в тех краях, откуда канарейка, наверняка люди не вредят вот так сами себе, особенно когда благородный испанец наговорит им такую кучу комплиментов и выкажет готовность купить их картину не торгуясь и увезти ее за тридевять земель. Коротко сказать, старый Жозеф так заполнил птичью клетку своими вздохами и причитаньями, что она сделалась похожа на встречу влюбленных на заре, в апельсиновой роще, в том краю, куда скоро переселится дон Патрисио, дремлющий и видящий во сне, что он все еще ирландец и Иаков по-прежнему правит островами. Когда г-н Клотар появился поутру в ночном колпаке перед картиной, Жозеф затаил дыхание, ожидая важных перемен. Однако г-н Клотар, взглянув на холст, лишь пробурчал: «Проклятый нос, конца ему нет» и принялся вносить поправки там и сям в твою внешность, словно это было единственное, что его не устраивало. Потом он продал картину, как обычно их продавал.
— Почему он это сделал?
— Не знаю, — сказал волк, — я не настолько проницателен.
— Что же теперь со мной будет? — спросила пастушка.
— Я скажу тебе, — отвечал волк. — Они выберут на нашей картине какой-нибудь дальний уголок — например, тот, где трава нависает над ручьем, — и наложат на него кусок ткани или ваты, смоченный веществом, состав которого я не знаю. Это делается, чтобы определить, сколько времени нужно, чтобы краска размякла, и узнать, хорошо ли сохранилась первоначальная картина, один ли слой записи лежит на ней или больше, есть ли там слой лака или что-то еще. Когда это выяснят, дойдет очередь до тебя. То, что они сделали с травою над ручьем, они сделают и с тобою. Это будут опытные люди, лучшие мастера, много раз занимавшиеся подобным, стяжавшие общее доверие. Сперва они будут совещаться, нужно ли сохранить верхний слой живописи, и решат, что не нужно. Они обложат тебя смоченной ватой и, выждав положенное время, осторожно счистят тебя с холста, чтобы открыть ту художественную ценность, которую ты загораживаешь. Они отнесутся к ней с таким благоговением, что не позволят себе даже тонировки, приближенной к авторскому слою, хотя кто-нибудь другой на их месте решился бы на тонировку. Все их действия будут подробно описаны в отчете, дабы каждый мог убедиться, что они были безукоризненны. Впрочем, никто в них не усомнится.
— Вот, значит, чем все это кончится, — сказала пастушка.
— Мне очень жаль, — сказал волк. — Ты не представляешь, как мне жаль.

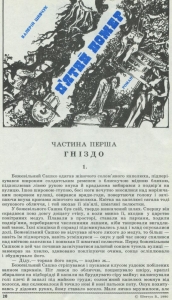

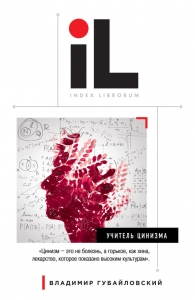
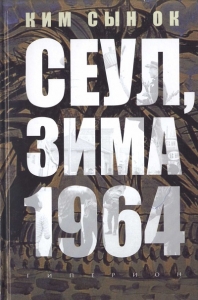


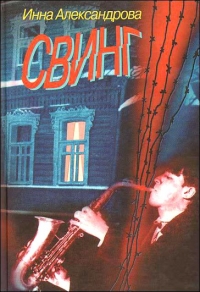
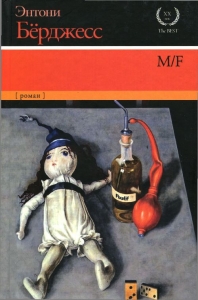


Комментарии к книге «Автопортрет с устрицей в кармане», Роман Львович Шмараков
Всего 0 комментариев