Мэтью Вайнер Хизер превыше всего
Matthew Weiner
Heather, The Totality
© 2017 by Matthew Weiner
© Sindbad Publishers Ltd., 2019
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019
* * *
Посвящается Линде
1
Марк и Карен Брейкстоун поженились, когда ощутимая часть их жизни осталась позади. Карен было около сорока, и она поставила крест на вероятности найти кого-то столь же привлекательного, как ее отец, а отношения с бывшим преподавателем живописи, которые начались сразу после колледжа и длились семь лет, перестали ее устраивать. На самом деле накануне она едва не отменила первое свидание с Марком, поскольку единственным его заметным достоинством была чисто теоретическая возможность со временем разбогатеть. Об иных достоинствах приятельница Карен, сама давно замужняя и ожидающая третьего ребенка, не упоминала. Дело в том, что подруги Карен, которые повыходили замуж молоденькими, теперь, похоже, угрызались, что в свое время недооценили роль денежного фактора для постоянных отношений. С годами он заботил их все больше, а мысли о будущем зачастую лишали сна. Но Карен по-прежнему хотелось кого-нибудь красивого. Перспектива ежедневно видеть перед собой квазимодо и все время беспокоиться о прикусе у будущих детей представлялась ей неприемлемой.
Толком Марка не знал никто. Приятельницам было известно, что у него хорошая работа и он не с Манхэттена. Карен могла бы порасспросить мужа одной из подруг, знакомого с Марком, но заниматься этим следовало еще до начала электронной и СМС-переписки. Теперь у Марка уже имелся ее номер, а включать автоответчик Карен не собиралась. Голос в трубке оказался довольно приятным и говорил чуть сбивчиво, – на серийного соблазнителя вроде не похоже. Поэтому Карен, хотя и думала о свидании без всякого энтузиазма и дважды переносила его, все-таки согласилась выпить с Марком, – что могло бы иметь определенные эротические последствия, не назначь она встречу на вечер воскресенья.
В приглушенном свете бара Марк казался не то чтобы некрасивым, но заурядным – девушек с подобной внешностью называют дурнушками. Лицо его не портила ни одна черта, но вместе им недоставало гармонии. Оно было пухлое и выглядело по меньшей мере моложаво: нос круглый, щеки круглые, – а тело при этом худощавое: в общем, мимо такого пройдешь и не заметишь.
По ходу обсуждения, не выпить ли еще, Марк сообщил, что кто-то на работе стащил из холодильника его обед и съел. Неважно кто, хотя есть некоторые соображения: на рукаве у одного из рецепционистов он заметил горчицу. Большинство парней, объяснил он Карен, говорят, будто обедают с клиентами, а на самом деле отправляются в спортбар и смотрят трансляции, попусту тратя и деньги, и время, тогда как он берет обед с собой и в результате обычно остается единственным, кого не сморило после еды. Она засмеялась, а он посмотрел на нее с некоторым удивлением и заметил: «Люди не всегда меня понимают». Карен это тронуло.
Возможно, они были созданы друг для друга: ей он показался очень забавным. Истории, которыми Марк делился, в основном происходили с ним самим, причем нередко он попадал в глупое положение. Себя он подавал как человека сильного и уверенного, которому порой приходится подыгрывать окружающим. Но его лицо говорило совсем о другом. Они стали встречаться, и три или четыре недели спустя занялись сексом – у него в квартире, на случай, если потом Карен захочется сразу же уйти. Но ей не захотелось. Его квартира была обставлена хорошо, но без шика, а руки держали ее талию так уверенно, что бедра у нее сладко заныли, а потом она с удовольствием расслабилась на пуховых подушках и гладких, как будто давно знакомых простынях, по-домашнему пахнущих лавандой. Потом у них снова был секс той же ночью, и Карен почувствовала, что он хочет ее по-настоящему. Это было очень приятно.
* * *
Отец Марка работал футбольным тренером в средней школе, а заодно был там администратором и преподавал основы гражданского права, – что в престижном пригороде Ньютона, штат Массачусетс, означало более высокий статус, нежели у простого спортсмена. Общаясь с другими преподавательскими семьями и их воспитанными, но непослушными детьми, Марк постепенно осознал свое место в иерархии: что-то вроде сына личного шофера. У него было все то же, что и у остальных детей, но пониже сортом: старомодный трехскоростной велосипед, некотирующиеся коллекционные карточки, редкие и скучные поездки на каникулы и кроссовки из корзины с уцененкой в супермаркете.
Отец считал, что Марку недостает агрессивности, однако в какой-то момент перестал его дразнить, решив, что сын больше годится на девчоночью роль, – поддерживать настоящих бойцов. Впрочем, оказалось, Марк неплохо бегает кросс – вид спорта, требующий психологической дисциплины, но одиночный и не предполагающий командного взаимодействия, столь ценимого отцом. Уже в одиннадцатом классе Марк понял, что соревноваться предпочитает исподволь и не любит мужского общества, в котором ему неизменно отводятся вторые роли.
Женщины оставались для Марка загадкой. Мать была вечным чирлидером, а старшая и более способная сестра уже в начале пубертата втянула всю семью в драму своего пищевого поведения и в конце концов победила в битве со взрослением, когда в семнадцать лет, вернувшись после очередного курса лечения, умерла от сердечного приступа. К тому же Марк понял, что ему не досталось ни капли отцовской харизмы, а внешние данные, в первую очередь лицо, отнюдь не придавали уверенности в общении с женщинами.
После смерти сестры Марк оказался в центре внимания одноклассников, однако не увидел в этом ничего особенного, а за время ее болезни привык полагаться только на себя, так что ни одна девушка не могла даже представить себе, насколько он одинок. Уход сестры усугубил отчуждение между ним и родителями, которые теперь разговаривали с ним совсем редко, сконцентрировавшись на повседневном: уборке, покраске и ремонте дома, глубоко запущенного к моменту провала их многолетней миссии по спасению дочери. Когда он заканчивал школу, они переключились на палисадник, где проводили все время на коленях в грязи, уподобившись своим корнеплодам, что оставались гнить в корзинах, загромождающих тамбур. Марк не знал, чем унять их тихое и деловитое горе, и решил, что надо выжить и многого добиться – как ради них, так и затем, что финансовый успех и престижная работа позволят ему заново родиться в новом мире, где ничего из этого не произошло.
Карен понравилась Марку тем, что сама не осознавала, насколько она хороша собой. У нее были черные блестящие волосы и голубые глаза, а великолепное тело состояло из мягких изгибов. Когда он спросил коллегу, который их познакомил, как тот мог не упомянуть такую важную деталь, тот признался, что никогда этой женщины не видел. С ней была знакома его жена, она говорила, что когда-то Карен выглядела на восемь баллов, а теперь тянет на семь, – впрочем, коллега поостерегся сообщать это Марку, тем более когда тот уверенно оценил ее внешность на все десять. Коллега был доволен, но заинтригован, и наконец встретившись с Карен на рождественской вечеринке, признал, что она действительно очень красива, пусть и не на десять баллов, и к тому же у нее классная грудь.
Когда Марк и Карен впервые разделись на глазах друг у друга, он рассматривал ее, пока она брала халат и шла в ванную. Ночь была лунная, ясная, и в голубоватом свете ее соски казались почти фиолетовыми. Кожа молочная, бедра полные, а щиколотки очень тонкие. Марк подумал, что секс с ней никогда не наскучит. Он отнесся к этой мысли со всей серьезностью и в этот момент понял, что они поженятся.
* * *
Вам может показаться, что такой человек, как Марк, то есть не разбогатевший к сорока годам, никогда уже не станет богатым, однако он работал в сфере финансов, где всегда сохраняется вероятность сорвать большой куш. Вслед за помолвкой с Карен у Марка появилась возможность подняться по карьерной лестнице, что означало изрядную прибавку дохода. Став парой, они не только могли ужинать с другими семейными парами, а также иметь гарантированную компанию на Новый год и День святого Валентина, но и приобрели статус успешных людей. Планирование свадьбы проходило под знаком предполагаемого повышения по службе: оба прикидывали, насколько она будет роскошнее, чем они могут себе позволить, и одновременно беспокоились, а вдруг повышение не состоится и они погрязнут в таких долгах, что Марку, чего доброго, придется искать другую работу.
Карен уже приготовилась оставить свою многолетнюю работу в издательском бизнесе – довольно нудную, с каждодневными сплетнями и редко выпадающими контактами с самими авторами. Да и бизнес был, строго говоря, не совсем издательский. Ради него в свое время она перебралась в Нью-Йорк, однако конкуренция там оказалась настолько непрошибаемой, что пришлось довольствоваться временными договорами, а затем сместиться в смежную сферу пиара, дававшую, в дополнение к умеренному гламуру кинопремьер и ресторанной критики, возможность приблизиться к манящему книжно-журнальному миру. Естественно, она всем представлялась как редактор, поскольку никто не понимал, чем занимается копирайтер, да еще на фрилансе. К тому же однажды ее, недослышав, сочли как раз-таки редактором и отреагировали довольно бурно. На самом деле Карен оставалась глубоко за кулисами, организуя для авторов и издателей поездки и выступления. После того как однажды она купила по просьбе шефа, которому нужно было извиниться за какое-то прегрешение, идеальный подарок – шоколад ручной работы и сыр в золе, – Карен начала составлять тематические подарочные корзинки по собственной инициативе, и они получались такими необычными и изысканными, что многие советовали ей открыть свое дело.
Неожиданный успех на этой случайной ниве дополнительно высветил отсутствие у нее как интереса, так и способностей к занятию, выбранному в качестве основного. В отличие от своего шефа она так и не сумела избавиться от провинциальных повадок и научиться очаровывать собеседника, небрежным жестом сдвигая солнечные очки на макушку. Поэтому, поняв, что Марк может потребовать от нее превращения в жену и мать, Карен ощутила приятное возбуждение. Ведь домохозяек в обычном смысле на Манхэттене нет, и можно будет полноценно самореализоваться, работая волонтером в школе, строя семейное гнездышко и руководя прислугой.
Когда за две недели до свадьбы повышение Марка отменили, потрясенная Карен даже подумывала, не отказаться ли от замужества. Усевшись среди ночи на кухне, чтобы расписать все доводы за и против, она вдруг с ужасом осознала, что, похоже, выходит замуж только ради денег. Но она же не настолько плохой человек! Она ведь знает, что такое любовь, и испытывает ее, когда Марк с нею рядом. И ребенка она хочет не потому, что потом будет поздно – она хочет ребенка именно от Марка. Это крайне важно; на самом деле это был единственный пункт, который она занесла в свой список. Но составлять список оказалось очень увлекательно: Карен сама удивилась, почему ей до сих пор не хватало духу изложить свои желания на бумаге.
* * *
Марк стал богатым по всем стандартам, кроме собственных. На работе он славился завидным талантом предсказывать, над каким активом нависла угроза. Он умел математически обосновать отсутствие добавленной стоимости у акций, бондов, недвижимости и особенно компаний, что делало такие активы уязвимыми, а его рекомендации помогали клиентам зарабатывать или, как минимум, стимулировали финансовые операции. Тем не менее разбогател он не поэтому: ему повезло войти в рабочую группу, получившую гигантские комиссионные за привлечение крупных средств для некоего университетского фонда. Так что и черт бы с ним, с этим дурацким повышением, едва не разрушившим его свадьбу, ведь он так и так оказался в нужное время в нужном месте, и в результате год у них был безумно удачным. А потом у них был еще один удачный год. И еще один, и он заработал не просто много, а очень много, и дальше уже можно было ни о чем не беспокоиться. Он не относился к числу самых богатых парней Нью-Йорка, но мог себе позволить все то же, что и они, разве что не мелькал на страницах глянцевых журналов.
Марк, конечно, желал большего, например, купить загородный дом или получить одну из тех премий, что дают за щедрую помощь добрым начинаниям, однако он был счастлив, что у Карен нет светских запросов, а богатство она воспринимает как нечто само собой разумеющееся, словно с ним родилась и не должна никому ничего доказывать. Ему это в ней нравилось, и он даже немножко завидовал ее врожденной скромности и однажды спросил напрямик, почему Карен совсем не тянет на публику. Как-то ночью, когда, выпив бутылку очень дорогого вина, они лежали, отдыхая после любовных объятий, Карен призналась, что никогда не соперничала с другими женщинами, предпочитая отступить в сторону и оставаться заинтересованным зрителем. Она никогда не понимала, сказала она Марку тихим голосом, глядя на него затуманившимися глазами, чем это плохо. Она отказывалась сплетничать, так как ей и самой довелось один раз стать объектом особо грязного слуха: будто бы она однажды приехала в некий загородный дом и гостила там, не будучи приглашенной. Этот слух затем плавно перетек в измышления насчет сделанной ею пластики то ли носа, то ли груди, и во всех сплетнях ее характеризовали как даму крайне озабоченную. С чего вдруг за нее взялись, осталось для Карен загадкой. Скорее всего, ее сочли идеальным объектом для переноса собственных комплексов, а природную застенчивость и молчаливость приняли за высокомерие. Она лежала, положив голову Марку на грудь, прижимаясь к нему всем своим обнаженным телом, и признавалась, что, как и он, страдала от групповой травли, но в конце концов осознала: человек не в состоянии увидеть себя глазами других людей и нет ничего страшного в том, чтобы существовать в изоляции – до тех пор, пока сам помнишь, что ты совсем не такой, каким тебя считают.
В сорок первый день рождения Марка Карен разбудила его, лаская губами под простыней. Потом, уже почистив зубы, она вернулась в постель, свернулась клубочком у него под боком и сообщила, что беременна. Марк пришел в восторг, несмотря на понятную вялость, и несколько приободрился, когда Карен серьезно и деловито заговорила о том, что им теперь понадобится квартира побольше. Всю прошедшую неделю она планировала, как сообщить ему эту новость, и теперь, когда его реакция оказалась вполне восторженной, у нее даже голова закружилась от облегчения.
Марк был на седьмом небе: он обеспечил красавице Карен жизнь, которой та хотела, у него есть семья, а теперь будет и наследник; но в окончательный восторг его привела способность Карен мгновенно переключиться с секса на чистую прагматику. Отчего он снова захотел ее, хотя и сомневался, не навредит ли ей это в ее положении. Карен только посмеялась над его опасениями. Она по-прежнему считала Марка забавным, а когда они занялись любовью, он заметил, что ее тело немного изменилось и что это ему нравится. Он догадался, что, кончая, она отпускает все свои страхи и словно растворяется в теплом ожидании.
Беременность Карен протекала спокойно, и за эти месяцы не произошло ничего, кроме их переезда в здание с десятью апартаментами на западной стороне Парк-авеню, в одном из действительно приличных районов Манхэттена. Квартира с тремя спальнями балкона не имела, зато помещалась всего этажом ниже пентхауса, и из нее открывался вид на крыши роскошных особняков из темно-коричневого песчаника, почти без единой послевоенной постройки, с сетевой кофейней на каждом углу, или с магазином оптики, или продуктовым магазином, напоминающим лавочки былых времен, с редкими высотками, в которых сохранились старинные лифты со сверкающими латунью дверями.
Правление кондоминиума оказалось жестким и несговорчивым, оно упиралось как могло, пока Марк не самоустранился, позволив животу и обаянию Карен пересилить их упертость. Дочка родилась в больнице Ленокс-Хилл в положенное время и в присутствии Марка, после чего водворилась в подобающим образом оборудованной детской, а Карен обзавелась несколькими подругами, как только стала ходить на курсы подготовки к родам и присматривать коляску. Дочку назвали Хизер. Марку понравилось, что это имя созвучно его шотландским корням[1], что вообще-то явилось чистым совпадением: Карен наткнулась на него в какой-то книге и уверовала, будто никогда не встречала некрасивую Хизер.
В отличие от подруг Карен скоро уволила няню, поняв, что кормление грудью, бессонные ночи и наблюдение за развитием младенца ее совсем не тяготят. Наоборот, она с готовностью принимала любые капризы дочки, радуясь каждому контакту с ней, пусть и в три часа ночи, видя в этом восхитительную возможность дотронуться до дочки, услышать ее запах. Удовольствие, которое ей дарила Хизер, превосходило все остальные; девочка росла, а Карен, по-прежнему отказываясь от помощи прислуги, скрупулезно фиксировала каждый ее день, делая записи и иллюстрируя их фотографиями. Она никому их не показывала – ей хватало того, что первоисточник всегда рядом. Когда Хизер исполнилось четыре года и она наконец-то пошла в детский сад – самый продвинутый, хотя, возможно, и не самый престижный, – целый день проплакала не она, а Карен. Те несколько часов, которые Хизер ежедневно проводила в саду, ее мама, тоскуя, лежала в постели, оживая, только когда приходило время забирать дочку – то есть снова держать ее за руку, или печь вместе с ней печенье, или смотреть мультики, или просто гулять в парке.
* * *
Примерно за десять лет до первого свидания Марка и Карен у матери-одиночки в государственной больнице Ньюарка, штат Нью-Джерси, родился Роберт Класки. Бобби, как его чаще называли, был чудом, которое прозевала медицина в силу незнания персоналом того факта, что во время беременности, которую его мать, впрочем, едва ли заметила, питалась она почти исключительно пивом. При рождении он получил фамилию матери, так как его отцом мог оказаться практически любой обладатель таких же тускло-серых волос и голубых глаз.
Мать Бобби оставалась в больнице, пока было можно, а потом вернулась в маленький дощатый домик в городке Гаррисон, где она провела большую часть своей несчастливой жизни. Некогда Гарри-сон наводнили польские эмигранты, и теперь это был все такой же бедный городишко, населенный, однако, преимущественно белыми, что необычно для этой части Нью-Джерси. Он мог бы даже выглядеть живописно, если бы не множество зримых знаков нищеты: хлипкие сетчатые двери, кучи мусора, разбросанный там и сям металлолом и черная сетка телефонных проводов, расчертившая небо до горизонта.
Появление Бобби не пошатнуло убежденность его матери в том, что героин – лучшее, что есть в жизни. У нее никогда не было намерения провести всю взрослую жизнь в Гаррисоне с его «быдлом», как она именовала местных. Несмотря на указанное отношение, она путалась с многочисленными гопниками – торчками и пьяницами, – которым нужна была только еда, угол да женщина. Бобби еще не было десяти, когда он попробовал и сигаретные бычки, и пиво, и он даже помогал материным дружкам и их знакомым колоться, когда те сами не могли справиться.
Бобби часто будили среди ночи и вытаскивали в гостиную, и он никогда не знал, сделают ли из него боксерскую грушу или придумают какую-нибудь дурацкую шутку. Мать выживала благодаря государственному пособию и воровству, особенно в тучные годы, когда строили стадион и стройматериалы валялись повсюду, но чаще она работала в местных салонах красоты, где выметала волосы, а иногда подвизалась в качестве нелегальной косметички, что ее вполне устраивало, поскольку позволяло смотреть мыльные сериалы, прикарманивать часть наличных и безапелляционно оценивать внешность других женщин.
Когда Бобби пошел в школу, и он, и мать испытали облегчение. Бобби в школе поначалу понравился четкий распорядок и то, что кормят не только сэндвичами с консервированным свиным фаршем, а вскоре он сообразил, что умнее всех остальных учеников и большинства учителей. Он понял, что может получить все, что захочет, просто рассказав правду о своей матери или о своей нищете, причем особенно хорошо это работало с молодыми училками: их глаза наполнялись слезами, и они тут же покупали ему фастфуд и обещали, что скоро все изменится. Ничего, естественно, не менялось. Худшее, что могло случиться, – это визит кого-то из благодетелей в дом Бобби, но смутить мать было невозможно, поскольку понятие стыда было ей неведомо, и приходивших чиновников или учителей она обычно встречала в растянутой не то майке, не то ночной рубашке или в старом халате.
Большую часть времени Бобби проводил в одиночестве. Тяжелее всего бывало летом, когда дом наводняли нарики, а телевизор можно было смотреть только с выключенным звуком. Тогда он спускался к реке, замусоренной сломанной бытовой техникой и старыми шинами, и думал о том, какой он одинокий и несчастный, потому что «тоже ощущал себя выкинутым на помойку», как однажды сказал ему тюремный психолог.
На самом деле его ничего не интересовало, кроме животных. Он воспринимал их как людей, считал такими же глупыми и беззащитными, в особенности сбитых машинами зверушек, которых собирал на дороге и прятал в гараже, чтобы потом повнимательнее рассмотреть. О собственном могуществе Бобби узнал по чистой случайности, когда увидел птицу, залетевшую в оконный вентилятор, включил его и стал наблюдать, словно завороженный, за тем, как лопасти рубят ее тельце, а капли крови разносятся воздушной струей.
Бобби бросил школу и нашел работу в большом магазине хозтоваров, где в его обязанности входило загружать фургоны, а позже, когда он научился управлять автопогрузчиком, еще и складывать штабелями палеты. Он по-прежнему жил дома, только приладил к двери своей комнаты большой висячий замок и в свободное от работы время смотрел телевизор, пил водку и слушал бессмысленные разговоры и взрывы смеха друзей и любовников матери во время их стихийных ночных сборищ.
Иногда у них завязывалась драка, и он тогда выходил на улицу, чтобы посидеть на крыльце или прикупить в угловом магазине еще пива. Часто на своем крыльце сидела и девушка из дома напротив, известная как Чичи[2], он считал, что она очень красивая и только ищет предлог с ним заговорить. Однажды особо пасмурным субботним днем он пересек мостовую, прошел совсем рядом с ней и сказал: «Славный солнечный денек, а?» Она улыбнулась в ответ, а он обрадовался, что смог произнести одну из тех фраз, которые обычно говорят люди.
2
С появлением Хизер жизнь Марка не сильно изменилась. В самом начале от него мало что зависело. Карен взяла все заботы на себя, и это было разумно, ведь грудью кормить он не мог, менять подгузники не рвался, а во время прогулок и купания был на работе. Вскоре ему стало казаться, что Карен и Хизер живут в общем, наглухо закрытом от всех остальных пространстве, а он существует как бы снаружи, вне его. Попытки поучаствовать в их жизни заканчивались провалом – из-за его неумелости, естественно, – а Карен было проще все сделать самой, чем наблюдать, как он сражается с детскими одежками, пытаясь натянуть их на едва начавшую ходить малышку, или собирает сумку перед прогулкой в парке.
Он злился не на Карен, а на себя, воспринимая тот факт, что его отодвигают на позицию наблюдателя, как следствие тех же недостатков, которые к этому времени стали очевидными всем сослуживцам. Марку никогда не удавалось выйти на первые роли, стать заметным в финансовых кругах. Он хорошо работал и зарабатывал больше, чем мог когда-либо мечтать, и тем не менее на его глазах многочисленные гораздо менее достойные коллеги обходили его по карьерной лестнице, в большей мере благодаря светским, чем деловым талантам, и он в конце концов поставил крест на мысли, что однажды будет руководить департаментом или даже летать корпоративным самолетом.
Хизер была очаровательным ребенком. Белокурая, хотя со временем волосы могли и потемнеть, с большими голубыми глазами, она начала улыбаться очень рано, всего в месяц от роду, и часто с восторгом хлопала в свои маленькие пухлые ладошки. Карен одевала ее в вязаные комбинезончики и считала, что, хоть Хизер и девочка, голубой цвет больше подходит и к ее внешности, и к характеру. Хизер притягивала взгляды прохожих, а ее щебет, улыбки и смех покоряли даже самых мрачно настроенных ньюйоркцев.
Она была такая хорошенькая, что неизбежно оказывалась в центре всеобщего внимания и в парке, и в магазине. Новые знакомые смотрели на Карен или на Карен вместе с Марком, не в силах скрыть удивления, что подобный ребенок мог появиться у такой пары. Родителей Хизер это никогда не огорчало, и они пожимали плечами со смиренной гордостью: оба они независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу, которым друг с другом, однако, не делились. Они были уверены, что их внутренние сущности реализовались в их чудесном биологическом творении. Марк даже однажды шепнул Карен, что, если «у них так хорошо получаются дети», может, стоит подумать еще об одном ребенке.
* * *
Карен, конечно, любила родителей и считала свое детство в зеленом пригороде Вашингтона идиллическим, но тем не менее чаще вспоминала этот период как годы одиночества. Она всегда мечтала о брате или сестре, но подозревала, что, поскольку ее мать была зациклена на контроле рождаемости, она сама появилась на свет, скорее всего, по чистой случайности. В течение некоторого времени она воображала себе брата, который был на десять лет старше и водил ее, например, в кафе-мороженое или на уроки классического танца. Однако ей хватало ночевки у одной подруги и возвращения из школы вместе с другой подругой и ее братьями-сестрами, чтобы сообразить, как ей повезло, ведь единственному ребенку не нужно сражаться за каждый пустяк.
С другой стороны, ситуация, когда не нужно драться за любую мелочь, имеет свои минусы. Карен была послушной, легко поддавалась чужому влиянию и не любила рисковать. Она никогда не прыгала первой в бассейн, а предпочитала сначала посмотреть, как это сделают другие. К тому же мать вернулась на библиотечные курсы, когда Карен была еще совсем маленькой, а отец, патентный поверенный, с трудом справлялся со свалившимися на него обязанностями по ведению домашнего хозяйства и воспитанию ребенка. Он был влюблен в свою работу и гордился чужими творениями как собственными. Воображая себя изобретателем, он то и дело брался что-то мастерить, но в основном упивался тем, как смотрят на него соседи, когда он стоит на пороге с чертежами под мышкой, изображающими электрические схемы или химические формулы, далеко выходящие за пределы его понимания.
Когда мать стала руководить передвижной библиотекой Кларксберга, Карен перестала ходить в детский сад и часто днем, забившись куда-нибудь в угол, следила за тем, как мать читает вслух другим детям. Поэтому вплоть до второго класса она всегда держала свои книги раскрытыми так, будто сидела перед воображаемой аудиторией. Испугавшись, что из-за сокращения бюджета передвижную библиотеку закроют, горожане провели референдум, после которого не только дети махали рукой ее матери и окликали ее по имени.
Карен терпеть не могла делить мать с другими людьми и проводить столько времени с няней, которая на самом деле была уборщицей. Поэтому она ходила на все внешкольные занятия подряд, лишь бы вернуться домой как можно позже. После девятого класса на нее вообще перестали обращать внимание, и Карен привыкла, придя из школы, запираться у себя в комнате, смотреть по портативному телевизору любовные сериалы, одновременно лаская собственное тело.
Карен ответила Марку, что не хочет второго ребенка. Это было бы нечестно по отношению к Хизер. На самом деле в ту самую минуту, когда Хизер родилась, Карен уже знала, что будет отдавать ей все свое неусыпное внимание и заботу. И никогда не угрызалась, что таким способом оправдывает безразличие к собственной карьере или зависимость от успеха Марка, ведь Хизер не была обычным ребенком. Будь такое обаяние у самой Карен, может, мать никогда бы не вернулась к учебе.
* * *
Хизер подросла, превратившись из прелестного младенца в хорошенькую девчушку, но ее явная красота как бы отступила на второй план перед обаянием, умом и, главное, глубокой способностью к сопереживанию. «Почему ты плачешь?» Этот вопрос она задала в пять лет, сидя в прогулочной коляске в вагоне метро; она спросила это у женщины, которая вовсе не плакала и вежливо поправила девочку. Хизер продолжала настаивать: «Не стоит грустить, даже если у тебя тяжелые сумки. Я могу понести одну из них». Тогда женщина нервно засмеялась, пересела поближе к Карен и, поблагодарив за предложение, отказалась от помощи. Карен слегка пожурила дочку, сказав, что нехорошо вмешиваться не в свое дело, и протянула ей кружку-непроливайку с соком.
Женщина смотрела в сторону и делала вид, будто читает рекламу, а Хизер все время поглядывала на нее и в какой-то момент вернула кружку Карен со словами: «Все в поезде ведут себя так, словно они здесь одни, но ведь это же неправда». И тут женщина разрыдалась. Карен не знала, что делать, полезла было в сумку за бумажными платками, но вместо этого просто погладила женщину по плечу, а та всхлипнула и смущенно улыбнулась. Хизер пристально смотрела на обеих до самой Семьдесят седьмой улицы, где им нужно было выходить, потом попрощалась с женщиной. Та уже успокоилась и, подняв глаза на Карен, заверила ее, что она, наверное, лучшая мать на свете. Карен ответила, что тут нет ее заслуги, только дочкина. Могло показаться, будто Карен скромничает, но она-то знала – Хизер ведет так себя не первый раз, и, возможно, такова ее миссия на земле – сделать легче жизнь других людей.
Теперь у Карен было множество дел, даже после того, как Хизер стала уходить в школу на полный день. Фитнес и шопинг, не слишком обременительная работа по дому, которую не успели сделать другие, поиск и придумывание новых полезных занятий, приготовление полезных блюд и планирование развивающих развлечений. Ну и конечно, фиксация очередных достижений Хизер. Карен делала памятные альбомы с фото и аппликациями, компьютерные коллажи и, приложив некоторые усилия, смонтировала несколько видео и выложила в интернет. Ей самой поначалу это казалось хвастовством, но, когда она увидела, что зрители реагируют на поступки и слова ее дочери точно так же, как она сама, Карен поняла, что поднимает им настроение и что, возможно, другие люди тоже многое узнают о самих себе, наблюдая за тем, как растет Хизер.
В сетевых сообществах Карен встретила множество женщин-единомышленниц и получила мощную поддержку – все ее опасения оперативно развеивали либо опытные мамаши, либо настоящие эксперты. В результате Карен стала проводить несколько меньше времени в реальной жизни, однако всегда оставалась открытой к живому общению. Тем более что с самого начала – прогуливалась ли она в парке с коляской в компании других мам, плавали ли они с дочкой в клубном бассейне или, позднее, играли в теннис, – одного присутствия Хизер было достаточно, чтобы без стеснения подсесть к кому-нибудь и вместе перекусить.
* * *
Природных ресурсов маленькая семья Брейкстоун потребляла куда больше, чем ей причиталось в среднем, однако Марк был горд, что сумел обеспечить их такой красивой квартирой. Он особо ценил пристрастие Карен к шелковистому бархату, который она использовала дозированно, но как будто специально для него, Марка. Таким бархатом была обтянута спинка их кровати, а также кресла в гостиной, где он полюбил устраиваться случавшимися все чаще бессонными ночами, предпочитая нежную ткань холодной кожаной мебели из своего кабинета, обшитого деревом. Кресла в гостиной были красными, но в темноте казались коричневыми; он наливал скотч в лучший хрустальный стакан, чтобы если и не задремать, то хотя бы перестать нервничать, что вот уже и рассвет, а бессонная ночь сделает невыносимым предстоящий рабочий день.
Однажды глубокой ночью, когда Марк собирался перебраться в свое кресло, ему пришло в голову, что можно посмотреть на спящую Хизер, которой к тому времени исполнилось семь лет. Он никогда не бывал наедине с дочерью и догадывался, что его вопрос за ужином «Ну, как сегодня поживают мои девочки?» раздражает жену. Он перешел на эту фразу, потому что, когда раньше он обращался напрямую к Хизер, Карен всегда отвечала за нее или так или иначе вмешивалась в их разговор. Даже когда Хизер болела, на его «Как ты сегодня, зайчик?» немедленно отвечала Карен: «Слава богу, ей уже лучше» или «Сегодня что-то неважно». Поэтому той ночью, стоя в ее спальне и разглядывая ее, он почувствовал себя неловко, когда она открыла глаза и улыбнулась ему. Марк не смог объяснить, почему он здесь, поэтому присел на кровать и погладил дочку по волосам. А потом все же спросил: «Почему ты проснулась?» – «Потому что не могу спать, – ответила она. – Наверное, я такая же, как ты». Он провел ладонью по ее лбу, поцеловал в щеку и поинтересовался: «Куда ты хочешь на каникулы? Мы можем поехать, куда захочешь». А Хизер в ответ: «Куда угодно, лишь бы с тобой, папочка».
В том году вместо Сен-Бартелеми Карен и Марк по просьбе дочери согласились поехать в Орландо и пожить в пятизвездочном отеле за пределами тематических парков. У них был номер люкс с гостиной, где Хизер спала на раскладном диване, и, хотя дочка постоянно приводила откуда-то компании докучливых друзей, родителям это нравилось не меньше камерных ужинов втроем. Однажды Хизер надолго зависла в игровой комнате, и Марк с Карен остались вдвоем. От беспокойства за дочь они напились, потом занялись любовью, однако вскоре проснулись и снова начали беспокоиться – вплоть до десяти вечера, когда Хизер вернулась, как и обещала. До этого они давненько не занимались любовью, Карен – в силу загруженности дочкиными танцами, теннисом и фортепиано, а Марк – из-за участившейся бессонницы, выгонявшей его из постели едва ли не каждую ночь.
На следующее утро лил дождь. Карен пошла на массаж, а Марк повел Хизер на мастер-класс по рукоделию. Вместе с другими гостями отеля он грелся в тепле, исходившем от дочери с ее улыбкой и всегдашней готовностью помочь младшим ребятам. Перед уходом они с Хизер сделали ожерелье для Карен, чтобы мама не чувствовала себя обделенной. Вечером Марк и Карен опять напились и снова занялись любовью, пока Хизер спала в соседней комнате. На этот раз все получилось не так ярко, зато потом они поговорили шепотом о том, как долго они вместе и какое Хизер чудо. В последнее утро все трое уселись подальше от стойки шведского стола, разглядывая искусственную лагуну, такие откровенно счастливые, что проходившая мимо женщина попросила разрешения их сфотографировать.
* * *
Пока семья Брейкстоун отдыхала в Орландо, Бобби уволили из магазина. Ему сообщили, что позже он сможет вернуться на работу и что всех распустили всего на несколько недель, чтобы в дальнейшем снова оформить и избежать тем самым конфликтов с трудовым законодательством. Бобби с удовольствием потратил бы все отложенное за время работы и, может, даже куда-нибудь съездил, но мать порвала с очередным любовником, и Бобби согласился одолжить ей деньги, чтобы она могла и дальше следовать своим привычкам, хотя знал, что больше никогда своих баксов не увидит. Но это его мало волновало, поскольку ехать ему все равно было некуда, а слоняться по Гаррисону и Ньюарку весенними деньками, пока еще не жарко, – это классно. К тому же его все больше интересовала Чи-Чи, жившая через дорогу. Ее брат-механик рассказал, что ее настоящее имя Чикита и она старше, чем он полагает. Родом они были из Мексики, и брат наговорил еще много всякой бодяги, которую Бобби пропустил мимо ушей, потому что узнал главное: она заметила его и чаще всего, когда он проходит мимо, бывает одна.
Однажды он вышел за пивом, и его сердце заколотилось, когда он увидел на крыльце Чи-Чи в легком голубом платье. Это был любимый цвет Бобби, он так шел к ее смуглой коже, а ворот платья был кружевной, почти как у ночной рубашки. Перейдя через дорогу и приблизившись к ней, он замедлил шаг и кивнул. Она улыбнулась в ответ, и он остановился. Раньше он никогда не останавливался, но раньше она никогда не улыбалась ему по-настоящему, и к тому же она каким-то образом узнала, что голубой – его любимый цвет. Он поднялся на ступеньки и протянул ей пиво, но она не взяла его, а просто повернулась спиной, открыла дверь и вошла внутрь, не закрывая ее. Он тотчас последовал за ней, но перед лестницей она остановилась и попросила его уйти. Бобби не понимал, в какую игру она играет, поэтому поставил на пол пивную банку и сказал ей, что она очень красивая и он счастлив видеть ее каждый день. Она снова улыбнулась, но он заметил, что ее лицо слегка дернулось, и понял, что она испугалась. Это по-настоящему разозлило его, особенно когда она попыталась пройти обратно к двери мимо него. Он придержал ее и сказал, чтобы она прекратила. Пусть она боится, если ей так нравится, но ему на это плевать, потому что он знает, чего она на самом деле хочет. Он сгреб в кулак ее волосы и вцепился ей в плечи, но она выскользнула, схватила со стоявшего рядом стула пепельницу и ударила его в висок. На мгновение глаза ему застлало туманом, но он продолжал смотреть на нее. Потом он заорал на Чи-Чи, выворачивая ей руку: «Ты что, не знаешь, кто я?» Она заплакала, продолжая отбиваться, и он в конце концов ударил ее кулаком в живот, все так же выкручивая руку, и почувствовал, как обмякло ее тело. Она отлетела к стене, и он снова стукнул ее кулаком, на этот раз сбоку по голове. Только когда она потеряла сознание, он принялся хватать ртом воздух, озираясь в такой панике, что лишь гораздо позже вспомнил, как дрочил прямо через штаны, чтобы успокоиться. Кончив, он подхватил с пола пиво и убежал домой, заперся в своей комнате, выпил полбутылки водки и уснул.
Бобби велел матери не говорить, что он дома, если кто-то будет его искать. Вдруг к ним заявится брат Чикиты, вдруг она умерла? Но почему она себя так повела? Почему красивые девушки всегда такие тупые? Он прокручивал все это в голове, и его вернули к действительности только вопли матери, которая пыталась не подпустить полицейских к дверям его комнаты. Мать боялась за свою заначку и потому билась храбро, но Бобби открыл дверь и спокойно вышел из комнаты, оглушенный всеми свалившимися на него событиями последних часов. Труднее всего было поверить в то, что Чи-Чи подала на него в суд, при том что вместе с братом торговала прямо из дому оксикодоном, а брат весил под сто килограммов и мог легко справиться с Бобби без посторонней помощи.
Бобби попал в тюрьму впервые и держался тихо, так что ему даже выдали антибиотики, потому что рана на голове от удара пепельницей загноилась. Чикита осталась жива, и адвокат по назначению, на которого Бобби, судя по всему, произвел впечатление, только посмеялся над предположением парня, будто государство шьет ему покушение на убийство. Все шло по плану, и Бобби наблюдал за своим процессом, точно за телесериалом. Он, впрочем, признался в нанесении телесных повреждений и постарался изобразить некие эмоции, которые могли сойти за выражение сожаления, а перед тем, как он вернулся в камеру, адвокат сказал ему, что он получит годика три вместо пяти и что ему повезло и он еще сможет исправиться. До Бобби это дошло, только когда он прибыл в тюрьму в Трентоне, где выяснилось, какой он счастливчик: контуженая Чикита не вспомнила, что явился-то он к ней с целью изнасилования. Все могло закончиться гораздо хуже.
* * *
Женщин у Марка было мало, и ни одну из них, кроме Карен, он не выбирал сам. В старших классах, натерпевшись отказов – причем одна из отвергнувших его девушек даже сообщила, что школьное прозвище Мунстоун – не просто переделка его фамилии[3], а прямой намек на форму его лица, – Марк свел к минимуму всякое романтическое общение, открыл для себя кросс и перешел на самоудовлетворение, рассматривая фото из школьных выпускных альбомов и почтовых каталогов, поскольку смотреть порнографию стеснялся.
Девственность Марк потерял в колледже и обрадовался, когда проснулся рядом с настоящей, живой женщиной; партнерша отнеслась к его достижениям одобрительно; они привыкли друг к другу, хотя она его совсем не привлекала. Она была не то чтобы некрасивой – но крупноватой, а еще первой из череды женщин, с которыми он переспал до Карен и которые, все как на подбор, были шумными, наглыми, неряшливыми и соблазняли Марка так, будто делали ему одолжение. Взамен от него ждали безропотного восхищения их несбыточными мечтами о работе в высокой моде или глянцевых журналах, а также безоговорочной поддержки в любых спорах, в особенности с другими женщинами, движимыми, разумеется, чистой завистью к подругам Марка.
Сексуальный голод не отступал, однако уже после первого совокупления с очередной из них Марк испытывал отвращение, так что на работу он поступил холостяком, втайне надеясь, что если не зарплата, то позитивные возрастные изменения привлекут со временем другой тип женщин. Пока он лишь соглашался – ради выстраивания отношений с коллегами в офисе – терпеть иронические замечания местных острословов. Он рассказывал, как от него и ожидали, о своих успехах у отчаявшихся женщин, однако до конца ни с кем не откровенничал, хорошо зная цену и сексуальному отчуждению, и фальшивой задушевности. Так что Марк вполне отдавал себе отчет в том, до какой степени Карен изменила его жизнь. На самом деле он то и дело напоминал себе об этом, в особенности с тех пор, как новая стажерка, двадцатишестилетняя азиатка, начала регулярно спрашивать, какой кофе ему принести.
Женщин в офисе Марка было так мало, что любая новенькая становилась объектом сексуальных фантазий. Стажерка имела диплом MBA и, как представительница нового поколения, ошибочно полагала, будто настоящей феминистке следует высказываться прямо и недвусмысленно. Успеха эта манера не имела, но сделала ее предметом шуточек для менеджеров, которые постоянно отправляли ее за кофе и обменивались твитами относительно ее нарядов. Марк, естественно, не участвовал в этих забавах, но тоже был заинтригован и возбужден, причем настолько, что, в тех редких случаях, когда он занимался любовью с Карен, у него перед глазами стояла стажерка.
На пути в спальню Марка и Карен появлялось все больше препятствий, хотя после Орландо они намеревались проводить больше времени в объятиях друг друга. Для начала они стали намечать для встреч конкретную ночь, несмотря на неизбежные проблемы – у Марка на работе, а у Карен с Хизер, которой уже исполнилось двенадцать лет, и нужно было уделять все больше внимания ее учебе и общению в привилегированной частной школе для девочек.
Несмотря на то что Хизер была популярна в школе и прекрасно училась, Марк согласился с Карен: девочке в дополнение к школьной программе нужны репетиторы по всем предметам. Новый распорядок был утомительным для Карен, зато позволял ей отслеживать, с кем дочка дружит, – вопрос, требующий самого бдительного внимания, ведь Хизер не хватало критичности в оценке людей, чем вовсю пользовались назойливые девчонки с психологическими проблемами. Они липли к ней, пытаясь поднять свой рейтинг в классе или сделать ее слушательницей бесконечных пересказов личных драм. Так что «ночи свиданий» постоянно отменялись. Карен извинялась, а Марк делал вид, будто расстроен отказом, но все понимает, хотя на самом деле ощущал явное облегчение, потому что его сильно тяготила невозможность возбудиться, не думая о стажерке.
Однажды стажерка вошла в кабинет Марка, закрыла за собой дверь и, заливаясь слезами, стала спрашивать его, что она делает неправильно и почему никто не принимает ее всерьез. Его бросило в жар, прошибло потом, он начал что-то бормотать, пока она не успокоилась и, вытерев глаза, не прошептала, что он – единственное, что есть хорошего в этой дурацкой конторе, и не ушла. Марк знал, что повел себя достойно, но догадался, что за всем этим кроется, допустив, что в ближайшем будущем смог бы воспользоваться ее настроением, не рискуя получить от ворот поворот.
Марк вернулся рано и сидел на кухне, дожидаясь, когда наконец-то явятся с уроков Хизер и Карен. Когда выяснилось, что обе успели поужинать в городе после незапланированной партии в теннис, Марк, с трудом сдерживаясь, сообщил Карен, что до сих пор ничего не ел, что не желает и дальше оставаться последним в перечне ее забот, что он тоже член семьи и вообще почему, черт побери, он не имеет права тоже поужинать или сыграть в теннис с Хизер?
Хизер смотрела на них из гостиной глазами полными слез, хоть ей и было велено идти в свою комнату. Карен, которая никогда ни о чем таком не задумывалась, охватили угрызения совести, и она пообещала, что все изменится. Она предложила решение: первая половина дня в субботу будет отдана под общение отца и дочки, – и признала, что вела себя как эгоистка. Ночью Марку приснилось, что стажерка и Хизер едут с ним на обед в его машине, которая мчится на огромной скорости, и что Хизер неожиданно распахивает дверь и выпрыгивает на дорогу.
На следующее утро Марк осознал, что возраст не улучшил его внешности. Шевелюра, правда, никуда не делась, но он набрал вес, а когда наконец-то сообразил, как работают весы Карен с калькулятором подкожного жира, то увидел, что его стало почти на десять килограммов больше, чем в старших классах, причем в основном за счет щек и второго подбородка. Он принял решение снова начать бегать, что принесло свои плоды: мысли о стажерке улетучились и, если не считать первых нескольких весенних дней, когда Центральный парк наводнили бледнокожие полуодетые девицы, его сексуальные позывы вообще угасли, и домой он возвращался умаявшийся и спокойный.
Главным удовольствием для него стал еженедельный выходной с Хизер. Их походы в кино, или в музей, или в магазин всегда были незабываемыми, потому что с Марком случались разные забавные приключения (например, однажды возле отеля «Плаза» ему на ногу наступила лошадь), а Хизер с ее искренней улыбкой и манерами сорванца неизменно вызывала общий восторг, и потому они редко уходили домой без какого-нибудь подарка.
* * *
Через несколько дней после прибытия в тюрьму штата Нью-Джерси Бобби прошел обязательное психологическое тестирование и тогда же, как только стала известна его польская фамилия, попал в банду местных скинхедов. В качестве посвящения его обрили под ноль и как следует избили в раздевалке после душа. Сначала он не понял, что удары кулаком, носками обуви и головой следует сносить безропотно, и попробовал дать сдачи, причем его энергия и ярость поразили нападавших. В конце концов, когда кто-то уселся ему на грудь, Бобби отрубился, но град тумаков и накал схватки заставили его по-новому ощутить собственное тело, так что, пока он был в отключке, у него случилась непроизвольная эрекция, принесшая ему настороженно-опасливое уважение и прозвище Стояк.
Общаться с членами банды Бобби не хватало терпения, тем более что главной темой их бесед было не белое превосходство, а юриспруденция. Все они считали, что сидят понапрасну, по крайней мере, их проступок – не повод держать их в заточении: они так и говорили – «держать в заточении» и вели себя еще более предсказуемо, чем те, что остались на воле. Однажды из услышанных краем уха разговоров он сделал вывод, что убей он Чи-Чи, ему бы вообще ничего не сделали, поскольку она была единственной свидетельницей, спермы он не оставил, а приводов до этого не имел, разве что из-за прогулов с бесцельным шатанием по городу и мелкими магазинными кражами. Теперь он знал: ее следовало убить, потом украсть кое-что по мелочи, чтобы это выглядело как грабеж, и выкинуть все на помойку, не пытаясь ничего сбыть, даже если бы подвернулось что-то ценное. Все остальное общение сводилось к однообразным нелепым причитаниям: Бобби устраивала здешняя еда и работа в прачечной, где иногда удавалось поваляться на теплых простынях.
Не то чтобы Бобби нравилось в тюрьме, но тут был четкий распорядок, и он многому научился. Из-за сбоя бюрократической машины и ошибочного предположения, будто он, как член расистской банды, пойдет только к белому врачу, прошло несколько месяцев, прежде чем его тесты обработали и поняли, что ему нужен психиатр. Они встретились в кабинете с голубым ковролином, что после повсеместного линолеума и бетонных блоков взбудоражило Бобби. Он собирался вести себя, как с тетками из соцслужбы, которым впаривал свою правдивую историю, заставляя их плакать. Однако врач оказался красивым мужчиной, словно сошедшим с телеэкрана, нестарым и деловитым, и Бобби немного испугался.
Врач расспрашивал Бобби о его жизни, и что он думает о себе самом, и что делает его счастливым. Бобби изложил ему самую грустную версию, какую только мог придумать, опуская глаза к концу каждой фразы и не забыв упомянуть свои прогулки к замусоренной реке Пассаик. Большинство вопросов врача касались отношения Бобби к другим людям. Бобби хотел сказать правду – что окружающий мир кажется ему похожим на зоопарк, где звери стоят в кучах собственного дерьма, а он с жалостью и одновременно любопытством смотрит, как они с пронзительными криками бросаются друг на друга. Однако вместо этого он сказал, что вообще ни о чем таком не думал.
Дальше врач заговорил жестко и резко, сделав несколько предположений относительно Бобби, которых тот, желая разузнать побольше, как бы не понял. Врач сказал, что Бобби умный и сам это знает и что он был избалованным ребенком, который любил врать, потому что так легче. Возможно, врач пытался разозлить Бобби, особенно когда поднялся из-за стола и заявил, что игра окончена и хватит считать себя выше общества. Да, сказал врач, Бобби понимает, как люди себя ведут, однако это понимание никак не влияет на его жизнь, потому что он не считает, будто должен следовать тем же правилам, что и все остальные. Проговорив все это, врач сел, чтобы подчеркнуть значимость своих слов, и сказал: «Если вы не в состоянии измениться, контролируйте себя. Вы справитесь».
Бобби покинул кабинет счастливый, исполнившись предчувствия чего-то небывалого – потому что отныне его представление о самом себе получило подтверждение. Теперь при виде чужого пирожного, красивого автомобиля в журнале или девушки в бикини рядом с автомобилем Бобби воодушевлялся: все это может принадлежать ему. Врач сказал правду: он, Бобби, чертовски умен, так что с людьми ему скучно; он среди них – словно яркий луч света, наделенный божественной силой и правом насиловать их и убивать когда душе угодно, поскольку для того они и существуют на свете.
Когда мать единственный раз навестила его в тюрьме, Бобби сначала заверил ее, что денег у него нет, а потом спросил, знала ли она когда-нибудь, кто он такой. Он попытался как можно доходчивее объяснить, как он умен и могуществен, однако заметил ее растерянность и замолчал. Они еще немного посидели в комнате для свиданий. Мать долго смотрела на него, а потом спросила: «Кем же, блин, ты себя считаешь?» Для Бобби это стало очередной оплеухой – одной из тысяч, полученных от матери, – но он всего лишь улыбнулся, поскольку отвечать не имело смысла.
3
В пятьдесят пять равнодушие Марка к жене достигло апогея, что совпало со вступлением дочери в период полового созревания. Пусть и с некоторым опозданием, но Карен обратила внимание, что дочь физически изменилась, а Марк ничего не заметил, не считая того, что девочка стала ростом с мать. Однако он уловил, что между Карен и Хизер начались нелады, сперва жаркие, потом остывшие до ледяного холода, причем эту напряженность Марк ощущал сильнее, чем собственный дискомфорт в отношениях с женой. Марк понимал, что Карен мучается от своей ненужности, а Хизер все больше замыкается в себе и делается все агрессивнее. Но Марк не особенно переживал, поскольку в принципе проводил с ней меньше времени.
Совместные субботние выходы отца и дочки не раз отменялись. Марк на это никак не реагировал, а вот Хизер всегда заверяла его, что все останется по-прежнему или даже будет компенсировано совместным бранчем в какой-нибудь из будних дней. Такой враждебности, как к матери, Хизер к нему не проявляла, хотя стала меньше откровенничать после того, как однажды он отказался поддержать ее, когда она критиковала Карен. Инстинкт подсказывал Марку, что участвовать в подобном разговоре хуже, чем изменить жене. Интуитивно он понимал, что лучше остаться для дочки отцом, а не другом или конфидентом. Поэтому они обсуждали просмотренные вместе фильмы, или как изменился город, или предстоящие каникулы – последнее было особенно важно: Марк стремился эмоционально вовлечь Хизер в совместные планы, поскольку не представлял себе путешествия без нее.
Однажды утром Марк понял, что Хизер уже не ребенок, когда она попросила налить ей кофе. Карен кофе терпеть не могла и предположила, что дочка пьет кофе, чтобы казаться взрослой. Марк, однако, забеспокоился, как бы причина не оказалась в другом. Ему вспомнилось, что последняя роковая диета сестры началась как раз с кофе, который она все больше разводила водой, так что напиток все чаще состоял из горячей воды, создававшей ощущение сытости и минимизирующей количество калорий, поглощенных за единицу времени. Каждую непоглощенную калорию сестра считала победой, позволяющей расстаться с очередной частицей своего отвратительного естества.
Поэтому он согласился на кофе, но при условии, что к нему будет маффин или нечто подобное; он окончательно выбросил из головы напугавшую его аналогию с сестрой, когда увидел, с каким удовольствием дочь ест: человеку с расстройством пищевого поведения симулировать такое не под силу. Хизер больше напоминала сестру другим – своей долговязостью, – однако она никогда не смотрела на свое тело с отвращением, и Марк понял, что, в отличие от сестры, которая морила себя голодом, боясь, что у нее появятся грудь, менструации и мужчины, Хизер превращается в нормальную девочку-подростка. Вот только спокойствия это ему не добавляло.
Вскоре появятся мальчики. Он встречал их по дороге в школу: один – с небрежно завязанным галстуком, другой – в толстовке с капюшоном; от них разило пряным дезодорантом; в их бумажниках наверняка имелись презервативы, и Марк знал, что парни только и думают, как бы лечь с Хизер, а при его приближении струсят и станут обращаться «сэр». Марк хотел быть дедушкой и, естественно, желал для Хизер счастливого замужества, но понимал, что это отдалит его от дочери, и тревожился, что растрачивает драгоценные совместные выходные на фотографирование, превращая их в воспоминания.
Хизер научилась готовить отличный кофе, тщательно настроив кофемолку и предварительно ополаскивая колбу крутым кипятком, а Карен вставала пораньше и покупала для них разную выпечку, но вскоре поняла, что они не в восторге, и стала вместо этого ходить на фитнес. Для Марка и Хизер стало привычкой сидеть спросонок за столом, попивая кофе и жуя сдобу, оба молчали, но от них веяло умиротворением, еще больше оттенявшим суетливость Карен.
На Рождество Карен купила Марку за 1200 долларов итальянскую кофемашину для ручного приготовления эспрессо, с подробной видеоинструкцией, поскольку устройство никогда не срабатывало одинаково два раза подряд. Марк был счастлив и растроган, пока Карен не сказала, что кофемашина слишком опасна для Хизер, а для Марка слишком сложна и что готовить кофе отныне будет она сама, потому что только она присутствовала на демонстрации ее работы и знает, как с ней обращаться. На что Хизер заметила: «Господи, что за бред», и Марк впервые молча согласился с ней.
* * *
Через три с половиной года Бобби вышел на свободу и был вынужден вернуться домой. В Нью-Джерси действовали правила освобождения без «выходного пособия», без новой одежды, без профессионального обучения, без проездных документов – вместо всего этого бывшим заключенным полагалось пособие по безработице, талоны на питание, скидка на проезд в транспорте и право на регистрацию в избирательных списках. Мать встретила Бобби в джипе «чероки», принадлежащем ее новому сожителю, бывшему красавцу-рокеру. Бобби приехал в дом, где не было ни телевизора, ни компьютера, кухонные электроприборы исчезли, ковролин был содран с пола, а одна из ванных полностью опустошена. Дом методично разбирали на части, отдавая вещи за таблетки, которые затем продавали, чтобы купить героин.
Мать и сожитель проводили большую часть времени в темноте, так как все светильники перекочевали в спальню, где они пытались выращивать марихуану. Бывшая комната Бобби осталась такой, как и была, только теперь это была их спальня, но они разрешили Бобби недолго попользоваться ею бесплатно, пока он не получит пособие. Когда вечером Бобби забрался в постель, его замутило от вида простыней в пятнах крови и от валяющихся повсюду красных пластиковых стаканчиков, однако он слишком вымотался, чтобы задумываться о планах на будущее, и только допил водку, оставленную ими на стопке телефонных книг, которая служила им прикроватной тумбочкой. Он уже много лет ничего по-настоящему не пил, и, пока тепло растекалось по желудку и поднималось к лицу, Бобби накрыла волна блаженства оттого, что он уже не в тюрьме, и со слезами на глазах он вслушивался в шуршание деревьев, которые ночной зимний ветер раскачивал прямо под окном.
Надзирающий инспектор произносил долгие наставительные речи об использовании каждой благоприятной возможности, и у него всегда можно было разжиться полусотней долларов и биг-маком. Инспектор был молодым, чернокожим и действительно всегда был готов помочь, после того как понял, что Бобби только выглядит как скинхед. Он даже обратился к владельцу магазина хозяйственных товаров и убедил его взять Бобби на прежнее место, упирая на то, что ему вменялось насилие с отягчающими обстоятельствами, а не воровство и что он был освобожден с положительной характеристикой.
Однажды Бобби пришлось разнимать драку матери и сожителя. Он пришел к инспектору с заплывшим глазом и, естественно, поведал, что любовь этой парочки началась с совместного употребления героина, но с тех пор их запросы выросли, и они теперь жестоко бьются за каждую дозу. Инспектор назвал Бобби жертвой и посоветовал как можно быстрее покинуть дом.
Бобби рассказал ему слишком много, но этот человек действительно беспокоился о нем, и после того, как несколько недель спустя подключилась полиция, потому что очередная вечеринка закончилась мордобоем, инспектор стал энергично настаивать на том, чтобы Бобби накопил денег и съехал. Как он может рассчитывать «возродиться, словно феникс из пепла», спросил инспектор, если будет и дальше жить «в таком порочном окружении»? Бобби знал, что это правда, и ограничил траты приобретением трех комбинезонов, крепких башмаков, своей третью арендной платы и парой бутылок водки по 1,75 литра в неделю.
Ассортимент хозтоваров не изменился, и контакты Бобби с женщинами-покупательницами сводились к их пристальному разглядыванию, пока они искали лампочки или шпатлевку. С высоты своего насеста на автопогрузчике он наблюдал, как они бродят по проходам между рядами явно в поисках мужчины и никак не могут найти то, что бы их устроило, – веревку, или перчатки, или его, Бобби. Он вел себя хорошо, никогда не пытался выйти вслед за одной из них за пределы парковки, и ему вполне хватало того, что он слонялся в своем привычном районе, перебегал дорогу между автомобилями или лежал у реки, грубо овладевая этими женщинами в воображении.
В Гаррисон переехали учителя и художники, поэтому теперь Бобби опасался только, как бы дома его не ограбил один из торчков. Свои 2300 баксов он хранил за подкладкой пальто. Он всегда носил его и даже брал с собой в ванную, когда принимал душ. Иногда, раздевшись и включив воду, он пересчитывал банкноты и представлял себе, как переедет туда, где будут девушки, а не только геи и старые поляки, и на этом новом месте он, глядишь, купит машину и снимет комнату с маленьким холодильником, в котором будут охлаждаться его напитки, пока он смотрит телик.
В середине июля после мощной грозы установилась страшная жара с такой высокой влажностью, что даже растения поникли. Теперь его привычка всегда оставаться в пальто стала выглядеть слишком подозрительно. Однажды сожитель матери прокрался ночью в его комнату и бил Бобби кулаком по голове до тех пор, пока его сон не перешел в обморок. Бобби проснулся сутки спустя мокрый как мышь, с кружащейся головой, прогуляв работу, и с трудом добрел до кухни, где нашел одурманенную наркотиками мать с синяком под глазом и двухдневной дозой наркоты, зажатой в кулаке, – это было все, что осталось от ее сожителя. Она настолько плохо ориентировалась в происходящем, что, несмотря на головную боль, Бобби сумел вколоть ей весь героин, дождаться, пока она забьется в судорогах и отключится, после чего уложил в ванну с водой и поджог дом, затащив в гостиную включенный мангал.
Лежа на койке в отделении скорой помощи, Бобби рассказал полицейским, как очнулся в доме, наполненном дымом, после того как его страшно избил и ограбил сожитель матери. Полицейским не раз доводилось иметь дело с тем и другой, поэтому они пришли к выводу, что такой финал был неизбежен. В полицию Бобби решил не обращаться, что помогло инспектору организовать его переезд из соображений безопасности. Бобби теперь поумнел, не стал рассказывать инспектору, что мечтает убить сожителя матери, и не похвастался, что случившееся дало ему возможность возродиться из пепла.
* * *
Заметив, что к тринадцати годам Хизер стала выше, стройнее и у нее наметилась грудь, Карен решила действовать на опережение. Она повела дочь покупать бюстгальтеры, заново переживая свои подростковые годы и делясь с ней мудрыми мыслями о том, что эти перемены – к лучшему. Стоя за прозрачной занавеской для душа, отделявшей примерочную в магазине белья мадам Ольги, они хохотали, словно две подружки, пока иностранка разглаживала чашки и подтягивала бретельки, проверяя, идеально ли сидит бюстгальтер. Карен даже приобрела для Хизер подарочный сертификат, чтобы та могла, когда понадобится, самостоятельно покупать новое белье, не таская за собой старушку-мать.
Хизер подарили мобильный телефон, разрешили возвращаться домой позже и даже свозили в Филадельфию на грохочущий и пропахший наркотиками рок-концерт. Однако великодушие родителей, думала Карен, вместо того, чтобы предупредить подростковый бунт дочери, его как раз спровоцировало, – поскольку уже несколько недель спустя произошел мощный взрыв. Хизер отказалась выполнять свои обычные обязанности, не отвечала на мобильный, нарушала комендантский час, таскала косметику, а гигиеническими процедурами сперва пренебрегала, а затем начала принимать душ по два раза в день.
За последний год Хизер научилась пользоваться своим новообретенным могуществом: она забросила все дополнительные занятия и так часто пропускала мимо ушей слова матери, что Карен даже отвела ее к ЛОРу. Однажды вечером, схлопотав выговор за то, что ужинает с болтающимися на шее наушниками, Хизер спокойно ушла в свою комнату, захлопнула дверь и с тех пор замкнулась в молчании. Все разговоры свелись к минимуму, и отныне ее комментарии на любую тему – о погоде, выборах, и даже пересоленном супе – умещались в одно слово.
Это молчание пугало Карен. Еженощный просмотр дочкиного телефона не помог. О том, что у Хизер начались месячные, Карен узнала, только найдя коробку тампонов под раковиной в гостевой ванной, и сообразила, что подготовленная ею душещипательная речь о радостях будущего материнства и любви в браке явно устарела и остается только поделиться практическими советами, в частности, объяснить дочери, что не стоит бросать использованные средства в унитаз.
С первого школьного дня Хизер Карен пыталась общаться с остальными мамами, одетыми, как и она, в спортивные костюмы, вечно спорящими, в какую кофейню пойти и пить ли кофе вообще и не знающими, как бы еще выпендриться друг перед дружкой. Карен-то было чем похвастаться, но после каждого такого разговора она казалась себе некомпетентной, неубедительной и жалкой. Она также обнаружила, что если они идут пить кофе или обедать, то всегда целой компанией, при этом никогда – в ресторан, предложенный Карен, а любые ее попытки завести разговор встречают холодным молчанием вне зависимости от темы. И хотя она понимала – все это потому, что они перед ней комплексуют и в ее отсутствие горячо ее обсуждают, но не могла избавиться от ощущения, что она лишняя, пятое, шестое, а то и седьмое колесо в телеге. И решила с ними не связываться, поэтому никогда не входила в родительский комитет и не бралась ни за что более серьезное, чем покупка одноразовых тарелок. Ее услуги явно никого не интересовали, в них не нуждались, и, как она предполагала, никто никогда не сказал ей спасибо.
Подозрения Карен подтвердились, когда накануне окончания начальной школы одна из мамаш позвала ее позаниматься вместе на велотренажере. Они уже подходили к залу на углу Восемьдесят третьей улицы и Третьей авеню, и тут попутчица как бы между делом предложила, чтобы Марк и Карен взяли на себя все расходы по организации похода на каток и торжественного выпускного обеда. Она с улыбкой объяснила Карен, что знает, насколько загружена их семья, но это самый простой способ участия в жизни школы. Они же не хотят поставить Хизер в неловкое положение, правда? Через полчаса после начала занятий у Карен зашкалил кардиомонитор, считывающий пульс, и она покинула зал в состоянии, оказавшемся, как она потом узнала, полноценной панической атакой.
Новую дистанцию, установленную Хизер, Карен переживала в одиночку. Даже ее собственная мать только посмеялась и сказала, все будет в порядке. Поэтому после краткого курса психотерапии, который предсказуемо вылился в раздражающее обсуждение ее собственного детства, Карен стала злой и мрачной. Она начала провоцировать дочь, меняя для нее правила и избыточно наказывая, отбирая деньги и даже передразнивая ее односложные ответы. В конце концов в один из вечеров, когда Карен не разрешила Хизер ночевать у подруги из-за того, что пошел снег, та встала в дверях спальни Карен и заявила: «Я знаю, ты не хочешь, чтобы у меня были друзья, потому что у тебя самой их нет и ты боишься, что я тебя брошу». Проговорив это, она развернулась и ушла. Способность Хизер проникать в чужую душу тоже развилась и достигла опасной остроты.
Карен перестала спать и ворочалась без сна в одиночестве, так как Марк окончательно перебрался на диван в гостиной. Она переживала, вспоминая, как маленькая дочка забиралась к ним в постель, в испарине от температуры или рыдая от приснившегося кошмара, как она шептала себе под нос, передвигая по одеялу кукол. Однажды в Центральном парке они пили кофе со льдом в ресторанчике недалеко от пруда с игрушечными парусниками. Карен уронила сумку с покупками, и они рассыпались по цементному полу. Пара молодых французов-туристов бросилась помогать, а Хизер сказала: «Большое вам спасибо. Моя подруга немного неловкая». Карен это так взволновало, что Хизер побледнела, испугавшись, что непоправимо обидела мать. Господи, Хизер была так красива, а Карен была там ради нее, но позволяла дочке считать себя независимой. Никто не засмеялся, и, слава богу. Хизер была скромной девочкой, потому что излишнее внимание портит людей. И только теперь Карен поняла: все проблемы оттого, что единственное, чего ей хотелось, – это чтобы Хизер стала ее подругой.
Да, Карен была в отчаянии от безвозвратной утраты всего, что когда-то имела, однако больше всего страдала оттого, что плоды ее тяжких трудов достались мужу, который еще и преувеличивал собственные разногласия с дочерью, притом что на самом деле Марк и Хизер получали явное удовольствие от общества друг друга, от совместного кофе, шопинга и предоставленной дочке полной свободы.
* * *
Настоящие проблемы у Брейкстоунов начались, когда глава некоего хедж-фонда с женой и двумя сыновьями приобрел пентхаус над ними. Новые жильцы намеревались целиком перепланировать помещение и установить желоб для сброса строительного мусора в контейнеры у окна своей будущей кухни, возместив соседям часть полугодовой квартплаты. Правление кондоминиума, всегда такое консервативное, на этот раз предложило новому щедрому жильцу компромиссное решение, на которое глава хедж-фонда сразу согласился, выразив готовность провести заодно косметический ремонт фасада. Соседи, встречаясь в лифте, делились подозрениями, окрашенными завистью. Тем не менее, через несколько недель здание покрылось лесами и большинство жильцов решили временно переехать.
Марк был уверен, что ежедневные строительные работы напрягут Карен, однако, когда он предложил снять на время меблированную квартиру в Карлайл-хаус, жена категорически отказалась. Она была не готова к резким, пусть и временным переменам; ее пугала даже необходимость переадресации почты. Поэтому они остались, не отвергая возможности переехать в любой момент, когда перебои с водой и электричеством или непрерывный грохот станут невыносимыми. Мнения Хизер родители не спрашивали, но тешились мыслью, что жертвуют своим комфортом ради важного для подростка постоянства среды обитания.
Красота нью-йоркской осени не утратила для Марка своего очарования, хотя вскоре стало очевидно, что она будет такой же хмурой, как самый длинный на свете февраль. Назавтра после Дня труда он получил обескураживающую информацию насчет выплаты предновогодних бонусов, а еще неделю спустя вспыхнула и была проиграна битва по поводу ремонта. Но хуже всего было то, что Хизер начала учебу в девятом классе с активного участия в дискуссионном клубе и вторая половина дня в будни и оба выходных были у нее целиком заняты практическими занятиями и соревнованиями, причем иногда за пределами города.
У нее это хорошо получалось, она стала политически подкованной и даже научилась аргументированно спорить, хотя, конечно, наиболее убедительным аргументом оставалось ее природное обаяние. С Марком она по-прежнему добродушно болтала, но зациклилась на некоторых идеях, и ему совсем не нравилось, что она теперь не пьет кофе дома, а носит его с собой в дорогих термосах, купленных Карен, и летает в Буффало, Чикаго и Даллас самолетами местных авиалиний. Но больше всего его бесили ночевки в отелях вместе с распущенными учениками смешанных школ: каждый раз в них случались инциденты, правда, не с Хизер, с девочками постарше, которые баловались алкоголем и просыпались в чужих номерах.
Хизер успокоила отца, заявив, что мальчики попрежнему действуют ей на нервы и она предпочитает общение в своей девчачьей школе, где не надо скрывать ум и амбиции, чтобы завести друзей. Марку стало ясно, что все соображения Хизер глубоко продуманы и сформулированы так, чтобы в любой момент их защитить. Он осознал, что его собственные суждения устарели и основаны на давно опровергнутых наукой данных, и стал читать газеты, чтобы не отставать от дочери. Ему нравились эти новые интеллектуальные дискуссии, даже несмотря на их накал. Марк не раз бывал посрамлен ее логикой, но гордился тем, что девушка, выросшая в таком окружении, получающая образование в таких школах, способна вникать в экономические трудности людей, принадлежащих к совсем другим социальным слоям.
Не обсуждался только ремонт. Хизер была в восторге от грядущих перемен, а Марк злился на грохот и пыль и винил себя. Он навлек на всех них это бедствие, поскольку не заработал на покупку того самого пентхауса, тем более не сумел пробиться на Пятую авеню, где подобные проблемы не возникают и можно смотреть из окна на Центральный парк, вспоминая только радости детства.
Выдержав две недели стройки, Карен приступила к организации праздника в честь четырнадцатилетия Хизер, что предполагало множество необязательных посещений кондитерских и ресторанов с целью личного инспектирования. Заказав столики в двух разных местах, она отправила дочке эсэмэску с вопросом, какой ресторан она предпочитает для праздничного ужина – французский или итальянский. Через несколько минут Карен поняла, что ответ получит не скоро, и двинулась по Лексингтон-авеню быстрым шагом, составляя в уме другие сообщения: что забронирует столик на четверых, следовательно, можно будет позвать подругу, все равно дома ужинать невозможно из-за пыли, а праздновать вообще немыслимо. Ну и что еще скажешь, ведь это же день рождения Хизер, черт возьми, так собирается она его отмечать или нет?
Когда Карен влетела в квартиру, оказалось, что там жарища: отопление в здании не отрегулировали с учетом теплой не по сезону погоды. Она бросилась на кухню распахнуть окно, которое сама закрыла из-за шума, и поклялась себе, что больше никогда его не закроет. На кухне было по-прежнему светло, потому что соседний дом стоял совсем близко, не позволяя соорудить леса. Немного переведя дух, Карен высунулась в низкое окно, положила ладони на узкий подоконник и, глядя вниз с высоты десяти этажей, подумала, что из ее положения есть радикальный выход.
Поняв, что начинается паническая атака, она приняла две антигистаминные таблетки, запила их бокалом белого вина, села к кухонному столу и принялась составлять второй в своей жизни список, где одна колонка была озаглавлена «Причины, чтобы жить», а вторая – «Причины, чтобы не жить». Следовало ли вписать Хизер в верхнюю строчку первой колонки? Что-то начало проясняться, и Карен приступила к внимательному рассмотрению других возможностей, включая возвращение на работу в рекламу и подтяжку груди и век. Она понимала, что это неплохие планы, они помогут ей пережить пубертат Хизер, и что психологическая независимость – неважно, истинная или наигранная, – пригодится, когда дочь перебесится и вернется к ней. Разглядывая свою табличку, Карен также осознала, что Марк отсутствует в обеих колонках, – как за, так и против.
* * *
Когда Бобби покидал Гаррисон, у него было примерно 1200 долларов, частично полученных от государства в качестве пособия по смерти родственника, а частично собранных коллегами из хозмага, которые таким образом выразили свои соболезнования в связи с гибелью его несчастной матери. С помощью своего инспектора Бобби искал новую работу в разных местах и в результате оказался в мотеле длительного проживания в Северном Бергене, недалеко от района, который назывался Шоссе 1 и 9. Это было удачное место для поиска работы, поскольку мотель находился на заброшенном отрезке шоссе рядом с тоннелем Холланда. Пустующая полоса постепенно превращалась в автомобильное кладбище и склад запчастей для всего Нью-Йорка. Последовав совету администратора, отказавшего ему в приеме в другой магазин хозтоваров, Бобби стал караулить на шоссе вместе с мужчинами разного возраста, ожидая, пока один из водителей многочисленных грузовиков не наймет его в помощники за 50 долларов в день. Успех тут не гарантировала ни молодость, ни сила, так что он начал подражать мексиканцам, которые благодарно улыбались, даже испытывая недовольство. Кстати сказать, они никогда не предлагали ему выпить с ними утром пива и говорили по-испански в его присутствии, как если бы его не было.
Ежедневное, без выходных, стояние на парковке дало свои плоды: Бобби начал регулярно работать и откладывать деньги, а в перспективе мог даже стать постоянным членом манхэттенской рабочей бригады. В Нью-Йорке он прежде не бывал, не считая школьной экскурсии и поездки в цирк, поэтому по дороге на стройку у него захватывало дух. Сначала вдали перед ним открылась панорама города, а после поворота, сразу за выездом из тоннеля, он увидел огромные здания. Город был прекрасно спланирован и идеально поделен на кварталы, в каждую стальную коробку была помещена стеклянная; похожие один на другой автомобили были главным образом черными и тоже прямоугольными. Самая любимая часть дороги начиналась для Бобби после того, как они проезжали парк с густой листвой и конными копами и набирали приличную скорость: тут явственно ощущался ритм улиц – по проблескам неба над каждой пересекаемой авеню.
Зато на тротуарах Бобби нервничал. Его поражало, что столько людей проходят друг мимо друга, не вступая даже в секундный зрительный контакт. Это напоминало ему первые недели в тюрьме. Дополнительный дискомфорт вызывали запахи, нет, не дизельного топлива или мусора, а постоянный душок человеческого тела, как если бы кожа и дыхание всех проходящих мимо приванивали луком и рвотой. Непрерывный поток пешеходов и общий хаос на новом месте работы лишали Бобби возможности избегать контактов с этим смрадом, когда, например, пожилые тетки задавали ему в лицо свои тупые вопросы, держа в руке пластиковый пакет с теплым собачьим дерьмом. Порой его настолько мутило от запаха нафталина или человеческих выделений, что он скрывался в развороченной квартире на верхнем этаже, обычно над террасой, где можно было остаться одному, наслаждаться открывающимся видом и вдыхать только испарения рубероида.
Именно там, сидя под вечер на крыше, Бобби впервые уловил слабые следы аромата, из-за которого пролил свой кофе и стал принюхиваться. Его нос и легкие наполнила смесь табачного дыма и запахов мыла и крови, испускаемых высокой тощей девицей, говорившей по телефону. Дым клубился вокруг ее светло-каштановых волос до плеч, словно они горели. Любому другому показалось бы, что время остановилось, но у Бобби отсутствовало представление о времени. Окружающее вызывало у него интерес либо скуку, а люди страшили либо возбуждали.
Он разглядывал девушку, догадываясь, что она считает, будто на крыше одна, судя по тому, как она опустила завернувшийся край клетчатой юбки, прикрыв мягкие ляжки, и зачавкала мятной жвачкой, готовясь вернуться в дом. Бобби накрыло такое мощное желание, что он испугался, что упадет в обморок или кончит.
Грузовик увозил строителей ровно в пять, и Бобби понял, что в этот день он девушку больше не увидит, но было нетрудно вычислить, кто она такая, поскольку в доме проживали всего две или три семьи, а почту складывали на столе в разоренном вестибюле. Ее звали Карен или Хизер Брейкстоун, она жила на шестом этаже и любила каталоги и журналы с вложенными образцами парфюмов.
Обратную дорогу Бобби проделал во взвинченном состоянии, ругая себя последними словами за то, что не снял ее на телефон, и пытаясь восстановить в памяти ее лицо и тело, а вернувшись домой, принялся искать фото хоть кого-нибудь похожего. Среди найденных больше других на нее походила чирлидерша из порножурнала, но у нее не было ни таких идеальных сисек, ни длинных стройных бедер, перечеркнутых клетчатой юбкой, ни легкого пушка на щеках, из-за которого в солнечном свете казалось, будто она присыпана золотой пыльцой.
Бобби не почувствовал никакого облегчения, когда убил мать. Он просто отпустил ее, действуя прагматично и продуманно. Даже поджог дома не доставил ему ни малейшего удовольствия. Свои желания он подавлял так давно, что теперь они превратились в слабый зуд, глухо гудящий в теле, словно сжатая пружина.
Увидеть девушку краем глаза – вот и все, что ему нужно было каждый день, вернее, все, что было ему позволено, так как рабочим строго воспрещалось вступать в контакт с жильцами. Особенно это касалось Бобби, про которого было известно, что он сидел в тюрьме. Сначала он научился смотреть на нее в разбитое зеркало без рамы, висящее на стене, а затем приспособился – очень ловко, как ему казалось, – снимать через него на телефон. Но он отказался от этого, чтобы не рисковать потерей работы и, соответственно, возможностью видеть ее. Теперь он следил за ней посредством обоняния, вдыхая шлейф запахов, просачивающихся через дверь квартиры, и нюхая их мусор, в особенности ее мусор, с ватными шариками, ватными палочками и другими штуками, от которых исходил запах железа. Он знал, что никогда не решится войти в их квартиру, но иногда ел свой обед на лесах, рядом с ее спальней, разглядывая реальные декорации своих фантазий, становившихся все более конкретными.
Он старался сохранять спокойствие и постепенно изучал привычки и распорядок дня их, как он со временем понял, маленькой семьи. Похоже, мать и отец девушки, консьерж, подруги и даже прораб подстраивались под нее, как и сам Бобби. Ее поджидали, проходили вместе с ней часть пути, и каждый всегда останавливался, чтобы посмотреть ей вслед. Уголком глаза он наблюдал за всем этим, словно за разворачивающимся сюжетом сериала, и мир девушки становился все понятнее, даже на расстоянии, потому что значительную часть своей жизни семья проживала на улице.
Хизер, как Бобби начал ее мысленно называть, после того как увидел блестящий квадратный конверт, подписанный каким-то Фондом борьбы с муковисцидозом и адресованный миссис Карен Брейкстоун, отношения с людьми строила разумно, как и он, в особенности с родителями: часто улыбалась отцу – мужчине с лицом младенца, и давала отпор суровой полногрудой матери. Однако он заметил, что во всем остальном Хизер на него не похожа: веселая, уверенная в себе, ласковая со своими толстыми подружками, по телефону разговаривает только вежливо и даже крошит остатки своего маффина на подоконник для птиц. Она прямо-таки излучала жизнелюбие, даже когда была одна или думала, что одна.
Конечно, беглого взгляда ему не хватало, но, к счастью, с каждым днем холодало, ее ноги покрывались гусиной кожей, поэтому она все чаще прятала их под спортивными штанами, которые были ей широки в талии. Однажды, когда она остановилась под козырьком подъезда и наклонилась, из-под пояса вылез кусочек голубых трусов. Бобби увидел это, стоя за мусорным контейнером, но не успел вынуть телефон. Но это было неважно, потому что, когда Хизер побежала через дорогу к отцу, она бросила беглый взгляд на Бобби, как если бы он телепатически приказал ей сделать это, их глаза на мгновение встретились, и все звуки города улетели в небо, наступила тишина, а он попытался вспомнить, как улыбаются.
Теперь, когда Бобби знал все, что ему нужно, он сообразил, что его планы запереть ее в какой-нибудь комнате и отыметь по-всякому, вдоль и поперек, в разных позах и позициях, слишком скромны. Хизер придется убить, чтобы снова не сесть в тюрьму. Ему вспомнилось, как однажды в тринадцать лет он в сопровождении соцработницы ходил в костел. Когда во время причастия он принял кусочек гостии и глоток вина, то ощутил, что у него во рту они действительно во что-то превратились, вроде дыма от нагретого кокаина. После он в жутком возбуждении мчался домой, готовый все крушить голыми руками, молотил по почтовым ящикам и мусорным бакам и даже расколол ударом кулака лобовое стекло автомобиля. Тогда он уверовал, что источником этой силы стала крошечная частица Господа, которую он проглотил, и он много месяцев подряд пытался снова причаститься, однако соцработницу куда-то перевели, а в одиночку зайти в костел Бобби постеснялся.
Ночью Бобби лежал на кровати мотеля, вытянувшись в струнку, смотрел на ее лицо на телефоне и точно знал: раз их взгляды встретились и раз ее все обожают, Хизер станет его гостией и вином. Он воображал белое сияние, в которое превратится, когда возьмет ее всеми возможными и невозможными способами после того, как медленно задушит. Бобби присвоит тогда каждую частицу Хизер, и они станут единым целым внутри его, а сам он будет началом и концом всего сущего, как Господь.
4
В промежутке между четырнадцатым днем рождения Хизер и Хеллоуином до Марка дошли новые пессимистичные прогнозы по поводу рождественских бонусов, и он начал искать другую работу. Он имел неосторожность поделиться своими планами с Карен, она предсказуемо забеспокоилась и, желая поддержать мужа, наговорила гадостей о коллегах, которые постоянно обходят его только потому, что играют в баскетбол с боссом и его сыном. У Марка были неплохие перспективы; его резюме вызывало доверие благодаря десятилетнему карьерному росту на фирме, а постоянные пробежки сделали его фигуру более подтянутой, и даже пухлое лицо стало плотнее прилегать к черепу, производя впечатление строгости и умудренности.
Очень скоро пошли собеседования, которые приходилось организовывать как тайные встречи с любовницей: звонить в нерабочее время и ходить в рестораны подальше от офиса, чтобы коллеги ничего не заподозрили. Теперь Марку часто приходилось выходить на пробежку раньше, иногда до восхода солнца, чтобы можно было назначить за завтраком встречу с потенциальным работодателем. Пустота предрассветного города позволяла репетировать интервью вслух, на бегу перечисляя свои достижения и описывая накопленный опыт.
Однажды утром, в день, когда предстояла особо перспективная встреча, Марк отправился на более длинную, чем обычно, пробежку, а когда вернулся, увидел, что воду и электричество отключили. Марк был в ужасе оттого, что придется вытирать пот полотенцем и надевать костюм. В какой-то момент он сообразил, что будильники в доме тоже не работают, и разбудил Хизер, а затем и Карен, мысленно ругаясь последними словами и брызгая на себя одеколоном. Карен сказала, что об отключении предупредили заранее, однако Марка это мало утешило, и он продолжил молча злиться и переживать, направляясь в ближайшую кофейню за двумя латте – для Хизер и для себя. Зачем мы торчим в этом доме, думал он, чувствуя, как потную шею натирает накрахмаленный воротничок сорочки, и почему это должно было случиться именно сегодня, и зачем он вылил на себя столько одеколона? И правда, женщина, стоявшая за ним в очереди за кофе, начала чихать.
Марк возвращался домой, неся на подносе два полных стакана с кофе и перебирая в уме все совершенные им за последнее время глупости (вот и сейчас он забыл, что ему снова придется пить кофе во время интервью), и уже был готов перейти через дорогу, чтобы подняться в квартиру, в свою квартиру, где ждала дочь, когда застыл на месте. Хизер уставилась в телефон, а один из рабочих уставился на нее. Ее сверлил взглядом приземистый парень в рабочем комбинезоне, и взгляд этот был таким похотливым и жадным, что Марк рванул через дорогу и оттолкнул Хизер, словно на нее стремительно несся автомобиль. Хизер это раздосадовало и смутило, она взяла свой кофе, и они пошли по тротуару. Марк обернулся и посмотрел на рабочего: остриженные почти под ноль, седые, несмотря на явную молодость, волосы и бледно-голубые глаза, которые тот быстро отвел и принялся выгребать строительный мусор.
На собеседовании Марк был рассеян, не проявил особого рвения и в результате получил реальное предложение, однако и после этого легче ему не стало. Вернувшись в офис, он развернул свой обед, но тут же ушел домой, потому что сильнейшая тревога лишила его аппетита. Он занял наблюдательный пост через дорогу от дома. У него кружилась голова, и он не до конца понимал, что им движет – желание шпионить или беспокойство за дочь, которая как раз сейчас должна была выйти из школы. Он притворился, будто говорит по телефону, когда рабочий выкатил к мусорным бакам ручную тележку, замер на месте и продолжал стоять, пока в положенное время, с точностью до секунды, Хизер не появилась из-за угла. Тогда он демонстративно принялся за работу.
Марк смотрел, как дочка приближается к дому, не замечая направленного на нее долгого тошнотворного взгляда. Когда урод вытер губы, шаря глазами по юбке поднимающейся по ступенькам Хизер, Марк не знал, то ли заорать на него, то ли подойти и молча ударить. Вместо всего этого он снял рабочего на телефон крупным планом и сам не понял, как оказался в Центральном парке, где начинал сегодняшний день, – с той разницей, что теперешние его мысли произнести вслух было невозможно.
Он мучительно раздумывал, только ли сегодня и случайно ли поджидал его дочь бритоголовый коротышка, или это происходило регулярно, и не скрывалось ли за этим хищным взглядом нечто большее, чем сокрушительная похоть. Так смотрит мужчина, который заранее ожидает отказа и потому ненавидит стройную дрянную девчонку, завлекающую его самим фактом своего появления перед ним, потому что она владеет всем тем, чего ему никогда не достанется. Хорошо бы в тех глазах было только желание, подумал Марк и тотчас задыхаясь рухнул на скамейку, едва не теряя сознание: тело дало мгновенный ответ на вопрос, над которым разум бился больше часа: во взгляде рабочего читалась такая ненасытная жестокость, что Марк вскочил и помчался домой.
* * *
Когда Марк вернулся, Карен радовалась горячей воде и электричеству, как радуются возвращению привычного комфорта, и готовила на ужин трехцветную пасту, которую Хизер предпочитала всем остальным. Он вошел в квартиру с распущенным узлом галстука и в промокшей от пота сорочке, с порога решительно заявил Карен, что им необходимо поговорить, и направился в спальню. Только когда Марк сел за стол, раздраженный и прямо из душа, Карен вспомнила, что он ведь ждал ее в спальне для разговора с глазу на глаз. Она видела, что за ужином его нетерпение нарастает, хотя в последнее время семейные застолья стали более мирными: Карен научилась завязывать разговор с Хизер, как бы случайно заводя речь о радикальном исламе или контроле над торговлей вооружениями.
К тому моменту, как в комнате Хизер погас свет, Марк успел опустошить полбутылки виски. Не на шутку встревоженная Карен закрыла за собой дверь спальни. Она припомнила, какой потный и растерянный он вернулся домой, и предположила, что предстоит признание в измене или, что более вероятно, в потере работы. Она оставила для него место в постели, однако он предпочел не ложиться и именно так – стоя и с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, – шепотом изложил все события прошедшего дня.
* * *
Марк говорил путано, но отнюдь не потому, что был пьян, и не из-за слишком большого количества выводов, к которым пришел за такое короткое время, а потому, что не знал, какие аргументы привести, чтобы его страхи не показались необоснованными. Он решил, что не стоит показывать Карен фото на телефоне, поэтому попытался на словах убедить ее, что Хизер грозит опасность. Он сказал, что раньше видел такой взгляд у одного из звездных игроков в футбольной команде своего отца, а позднее (это известная история) тот самый игрок изнасиловал и убил двух учениц колледжа на Юге, – но тут он заметил, что Карен улыбается, слушая его, и больше не смог сдерживаться. Карен поклялась, что улыбалась, поскольку испытала облегчение, а вовсе не смеялась над ним, что да, она получила от него некую информацию, однако ее несоизмеримо больше интересуют результаты его собеседования, нежели мнимая опасность, грозящая их дочери.
Тут вообще нечего обсуждать. Или ему, или Карен, – если она сочтет, что будет более убедительной, – словом, кому-то из них нужно поговорить с прорабом, рассказать ему все вплоть до мельчайших подробностей и потребовать, чтобы рабочего уволили или хотя бы перевели на другой участок. Это настойчивое предложение заставило Карен отнестись к нему со всей серьезностью – после чего отвергнуть, напомнив мужу, что их адрес рабочему так и так известен. Марк согласился и предложил обратиться в полицию. «Чтобы что?» – возразила Карен: в самом деле, для этого не имелось ни оснований, ни доказательств, ни какого бы то ни было повода, кроме ощущений самого Марка, которые показались преувеличением даже его собственной жене. Марк снова согласился и потребовал, чтобы они прямо завтра переехали в отель, пока не подыщут квартиру, где можно переждать ремонт.
Карен спокойно объяснила, что наружные отделочные работы обещают закончить ко Дню благодарения, а сейчас уже Хеллоуин, и переезжать на такой короткий срок – это глупость в чистом виде, поскольку неудобств будет столько же. Возможно, его беспокойство обоснованно, но, по-видимому, стресс от непрерывной стройки, поисков новой работы и их взаимного отдаления сделал его пугливым сверх меры. Да, эти вопросы ее тоже волнуют, не говоря уж о том, что дочь ее игнорирует, но если честно, она считает рабочих вполне безобидными и вежливыми и даже не уверена, что догадалась, о котором из них идет речь, пока Марк не упомянул, что тот белый.
Марк обругал ее, заявил, что все это чушь собачья и что ремонт продлится до весны, а они остались в квартире ради благополучия Хизер, а не чтобы облегчить и без того беззаботную жизнь Карен. К тому же она все время оставляет открытым это гребаное окно на кухне, так что можно легко получить воспаление легких, а если ей так жарко, то пусть оторвет задницу, выйдет на улицу и займется чем-нибудь полезным.
Карен оскорбилась. С какой стати ей оправдываться за свой жизненный выбор перед собственным мужем, объяснять ему, сколько всего она делает для семьи, доводить до его сведения, что она не будет возражать, если ему захочется съехать и видеться с Хизер по выходным. Сама она никуда не поедет, невзирая на любые неудобства. Как раз на этой неделе она собиралась прозондировать почву в издательском бизнесе, и вообще, как он осмелился обвинять ее в эгоизме, если она уже записалась к пластическому хирургу, чтобы ради него стать более молодой и сексуальной?
Но вместо всего этого она, сделав глубокий вдох, выложила то, что давно уже прокручивала в голове: интерес Марка к дочери носит нездоровый характер и весьма ее пугает. Обвинение было замаскировано под озабоченность, однако муж был настолько шокирован, что она пошла на попятную, пытаясь сгладить впечатление от своих слов. В результате все стало еще ужаснее. Она признала, что ей неизвестно, каково это – быть отцом, и что она тоже беспокоится из-за того, что Хизер нравится нехорошим парням, да и вообще любым парням, но Марк с его гиперопекой просто зануда и ревнует дочь ко всем мужчинам подряд.
Марка аж замутило от ее лицемерия, и в ответ он заорал. Если у кого и есть навязчивые идеи, то это у нее. Только она неспособна что-либо увидеть вокруг, кроме дочери. Он потребовал, чтобы она согласилась с переездом. Если не хочет сделать это ради него, пусть сделает ради Хизер, выкрикнул он, потому что для него Карен так и так никогда ничего не делала, в ее списке приоритетов он всегда занимал последнюю строку, и если она варит для него кофе, то только чтобы произвести впечатление на Хизер.
Выговорившись, Марк почувствовал облегчение, а потом раскаяние – когда она схватила подушку и покинула спальню. Сидя в одиночестве на их неразобранной постели, он обратил гнев на себя самого: поделом ему, нечего было малодушно делиться с женой своими опасениями. Теперь ему стало ясно: положение критическое и говорить правду – не лучшая стратегия. Ужасные слова Карен явственно свидетельствовали о зависти и стремлении разрушить близость между ним и Хизер. Ему надо проявить выдержку и быть выше всего этого. Он принес Карен безоговорочные извинения и согласился с тем, что его реакция была излишне бурной и им вовсе не нужно переезжать.
Карен скользнула в постель и улеглась рядом с Марком, изображая готовность все простить и забыть. На ее взгляд, ничего так и не удалось решить, но она не раскаивалась за свои мысли, лишь жалела, что высказала их вслух. Она осторожно бросила на Марка взгляд поверх своего планшета, когда он повернулся во сне, и не смогла поверить в то, что веселый, обожающий ее мужчина, за которого она когда-то вышла замуж, превратился в параноика и лузера, вообще ее не замечающего. Она выключила свет и стала думать о будущем, воображая, будто у нее есть любовник, возможно один из красавцев-отцов из школы, всегда готовых завести легкую интрижку, а потом задремала, оставив ладонь между ног и легонько поглаживая себя, как делала это в детстве.
Марк притворялся, будто спит, а сам размышлял, не лучше ли осторожно предупредить Хизер или даже все рассказать ей, – однако относился к дочери слишком трепетно, чтобы вот так грубо нарушить ее душевный покой. Может, если он свозит Хизер на острова Теркс и Кайкос и проведет с дочкой каникулы мечты, это не будет считаться похищением, а Карен, возможно, все поймет и присоединится к ним? Он сам расстроился, что наговорил ей столько всего. Нужно было просто устроить им обеим сюрприз, неожиданный отпуск, и заплатить кому-нибудь, чтобы за время их отсутствия вещи перевезли в другую квартиру; теперь уже поздно, однако в любом случае он обязан забрать отсюда Хизер. А еще он думал о том, что можно уронить с большой высоты на голову рабочему что-нибудь тяжелое вроде разводного ключа или кирпича.
* * *
Почти каждый день Хизер читала в темноте, и сегодня она тоже смотрела на экран телефона, зная, что родители наконец-то расслабились, решив, что она спит. Вечером она слышала пререкания матери с отцом, но уже давным-давно научилась не обращать внимания на их стычки, потому что они всегда касались только ее и никогда не приводили ни к чему серьезному. И мать, и отец были исключительно невосприимчивы к душевным переживаниям. Отец уверял, что у него их вообще не бывает, а мать была убеждена, что все разделяют ее чувства. Долгие годы Хизер не догадывалась, что умение распознавать или даже ощущать чужие эмоции присуще не всем, а потом, обнаружив, что и взрослые, и ее друзья набрасываются друг на друга не нарочно или, по крайней мере, неосознанно, решила держать дистанцию, не в силах и дальше страдать от обычного поведения среднего человека.
Хизер всегда обладала чувством справедливости и пониманием, что все стараются поступать хорошо, и, видя, как меняются ее родители дома, как они не в силах разделить друг с другом свою радость, задавалась вопросом, что такое она сделала с ними самим своим появлением. Раньше она часто прислушивалась к их сражениям, иногда даже проскальзывала в спальню, пряталась под кроватью и молилась, чтобы они развелись и наконец-то поделили ее любовь поровну, чтобы можно было улыбаться миру, не опасаясь, что Марк или Карен перехватят ее улыбку.
Хизер читала о событиях в мире и, превозмогая сердечную боль, пыталась взглянуть на них под новым углом, открывающим тему для дискуссии, которая бы позволила получить приглашение на январские дебаты в Стэнфордском университете и, значит, съездить в Калифорнию, а возможно, даже попасть на общенациональные дебаты, если, конечно, отец не наложит вето. Она любила спорить, путешествовать и знакомиться с другими ребятами, однако выбрала университетские дебаты с их выходом в политику и юриспруденцию после того, как окончательно пришла к выводу, что ее родители не получают удовольствия от своей скучной работы. Она поклялась, что избежит их несчастной судьбы, для чего будет прилежно учиться и заводить побольше друзей, а не врагов. А еще она любила и умела побеждать – внешне корректно, демонстрируя серьезное отношение к фактам и этике, но внутренне ликуя после каждой выигранной дискуссии.
Это лукавство расстраивало ее, как и растущий интерес к себе самой. Годы прошли с тех пор, как ее беспокоило, не случится ли у отца сердечный приступ во время пробежки или не будет ли мать тосковать, когда она уйдет в школу. Но почему она должна о них беспокоиться? Оба так измучили ее, постоянно требуя времени и любви, что, может, хватит обращать на них внимание? Они ведь сами виноваты? Другие родители тоже позволяют себе давить на детей, но все же не настолько, тем не менее Хизер изо всех сил сохраняла лояльность и никому об этом не рассказывала, полагая неслыханным вероломством открыть миру, что семья Брейкстоун не идеальна.
Но самой тягостной тайной, которой миру ни за что не следовало знать, являлась меланхолия, таящаяся под ее улыбкой. Хизер знала, что обязана избавиться от нее или заменить ее благодарностью, и охотно бы так и сделала, если бы грустить не было так сладко. Самый приятный момент наступал после того, как она откладывала телефон на тумбочку, и продолжался до засыпания. Она слушала шум улицы и думала об одиноких людях, которых совсем никто не замечает, обо всех этих взрослых, куда они спешат и каково им в этой спешке.
Многие подобные мысли Хизер с удовольствием бы записала, однако понимала, что дневник выходит за приемлемую для матери границу приватности, поэтому они так и оставалась невысказанными, разве что иногда вырывались наружу шепотом, адресованным зеркалу на двери спальни. В промежутках между чтением книг, которые ей давала мать, и бесконечными школьными уроками Хизер готовилась к предстоящему гормональному шторму, подмечая все происходящие с ней перемены. Волосы, отмечала она, видимо, придется слегка осветлить, один зуб немного кривоват, и хотя пока рано говорить с уверенностью, но похоже, ей повезло и прыщей не будет.
Вслед за подругами, сокрушавшимися по поводу полноты или несимметричной груди, она жаловалась на свою внешность, но чем дальше, тем больше отдавала себе отчет в том, что на самом деле она – высокая, длинноногая, с тонкой талией и грудью уже сейчас почти размера С – сложена на редкость хорошо, если не идеально. Постепенно она осознавала, что это означает, листая журналы, или идя по улице, или ловя пристальный взгляд одного из ремонтных рабочих по пути в школу или домой.
Теперь ей открылось со всей очевидностью, что ее подруги просто-напросто хотят, чтобы их заметили, и притворяются скверными девчонками, чтобы бросить вызов родителям и заодно привлечь к себе внимание. Хизер не знала, нужно ли и ей дополнительное внимание, однако подражала подружкам, чтобы не выглядеть маленькой и не вызвать лишнюю зависть, добавив к своим достоинствам еще и неиспорченность. Поэтому, как и другие девчонки, она пользовалась каждой минутой вне родительского контроля, в частности, по дороге в школу и из школы, во время прогулок в Центральном парке и даже дома, стоя на крыше, чтобы поболтать по телефону, покурить, пожевать жвачку, накраситься и одеться вызывающе, включая такие временные модификации школьной формы, как закатанная на талии – чтобы стать покороче – юбка или чужая, более тесная блузка, увеличивающая грудь. Подражая подружкам, она даже влюблялась в популярных певцов с девичьими лицами, воображала, как ее обнимают в темном уголке, всерьез рассматривала перспективу страстных поцелуев, но чего-то большего, к чему не была готова, по-настоящему страшилась.
Хизер бесила невозможность поговорить с матерью, непонятная ей самой неловкость, появившаяся в их отношениях, и раздражала показная раскованность матери и неуклюжие попытки втереться ей в доверие. Матери отчаянно хотелось вникнуть во все подробности дочкиных сексуальных переживаний, чтобы плакать, делиться своим опытом, сочетая жесткий контроль с обидным покровительственным тоном.
Хизер отказывалась говорить на эти темы, хотя и понимала: у матери отлегло бы от сердца, узнай она, что секс был всего у нескольких одноклассниц, а немногочисленные знакомые мальчики либо так же застенчивы, как Хизер, либо интересуются только теми несколькими девочками, у которых был секс. Но она бы никогда не сказала этого матери, потому что ее откровенность послужила бы прологом к более неприятному признанию, которое Хизер давно уже прокручивала в голове: до чего ей отвратительно то, чем занимаются и как живут ее родители.
Их почтовый индекс указывал, что они живут в районе, где селятся состоятельные люди, притом что отец ничего не создавал, мать вообще ничего не делала, а их квартира была хоть не огромной, но бессмысленно роскошной и гламурной, и они слишком много потребляли и слишком много выбрасывали, и, что хуже всего, им было на это наплевать. Сколько тропических островов они посетили, не замечая нищеты, царящей за оградой отеля? Нельзя сказать, что ее родители – плохие люди, но живут они в самодовольной уверенности, будто заслужили все, чем обладают.
Она пыталась обратить внимание каждого из них на несправедливость такого положения, но вместо того, чтобы с ней спорить, родители, словно сговорившись, самым ценным своим достоянием называли ее. Разумеется, это было выражением любви, но она понимала: они отравлены, поражены некой болезнью благополучия, превратившей их в полулюдей с кофемашинами и кассовыми аппаратами вместо сердца.
Зная, что эта болезнь настигла и ее, Хизер старалась держать в узде свою жажду приобретательства и, напротив, получать удовольствие от простых вещей. А поскольку как раз в это время большинство обитателей дома уехали и появились грузовики с рабочими, она решила подавить потребность в комфорте и принять все неудобства, связанные с ремонтом как справедливую расплату за незаслуженно роскошную жизнь. Она даже отказывалась поддерживать ежедневные, пусть и обоснованные, сетования отца, что давалось ей нелегко, поскольку постоянное внимание этого рабочего на пороге собственного дома ей изрядно докучало.
Как бы то ни было, поговорить об этом с отцом она стеснялась, а мать, как всегда, ничего не замечала, и Хизер это было точно известно, потому что однажды, когда они искали бандероль, а швейцар куда-то отлучился, Хизер предложила спросить у рабочего перед домом, а мать даже не поняла, о ком речь. Хизер объяснила, что он – единственный белый в бригаде и что, хотя его седые волосы острижены так коротко, что он кажется лысым, он вовсе не лысый и у него на самом деле гладкая кожа, четко очерченные скулы и ясные голубые глаза молодого мужчины.
Она не могла сказать матери, что с каждым днем он интригует ее все больше, ей хотелось узнать, откуда он, и что он за человек, и как могло получиться, что он такой красивый и последние два месяца ежедневно работает по десять часов в их доме, а мать его даже не заметила? Вероятно, полагала Хизер, мать запомнила бы его, если бы он смотрел на нее так, как смотрит на Хизер, в особенности когда один или два раза их взгляды встретились и ей показалось, будто она идет по улице нагишом.
Он, несомненно, раздражал бы мать, как вначале раздражал Хизер. Ее он рассердил, а потом и возмутил, заставив подумать о том, что себе позволяют мужчины, не имея никакого права смотреть на женщин жадным взглядом, ввергая их в смущение. Но смотрел он только на нее, на мать ни разу не взглянул, и со временем Хизер поняла, что он каким-то образом видит ее всю целиком.
Рабочий приходил ежедневно, и не могла же она сказать матери, что в те несколько дней, когда он отсутствовал, она беспокоилась, не забыл ли он о ней. Она не могла признаться матери, что его взгляды ее больше не раздражают, что чуть ли не каждую ночь она думает об их случайных встречах, воображая себе его или свое собственное представление о нем, и что от этих его взглядов у нее начинает сладко ныть под ложечкой, и это ощущение постепенно опускается все ниже.
Ей хотелось поговорить с ним. Сказать, что она не такая, как мать, что она замечает всех людей и знает: это ужасно, что его вынуждают вести себя фактически как прислуга. Она бы не обращалась к нему свысока, словно какая-нибудь избалованная дочка миллиардера, которая учится в частной школе и обладает богатством просто по праву рождения. Она гадала, что за лишения и стечения обстоятельств довели человека до такой жизни, умный ли он, какой у него голос и сможет ли она когда-нибудь сделать хоть что-то для нуждающихся. Она никогда не скажет матери, что мечтает обрести цельность – уступить велению сердца и раздать все, чем обладает, включая себя самое, если понадобится, дабы богатство, возраставшее многие годы без малейших усилий со стороны ее родителей, смогло пойти кому-нибудь на пользу. Но на самом деле она просто хотела сказать рабочему, что видит его.
«Моя мать уже вернулась?»
Услышав голос, Бобби сразу понял, кому он принадлежит, и не мог поверить в то, что она совсем рядом. Он поднял глаза, вдруг онемев, и только видел, как от ветра прядь волос упала ей на губы, а она пальцем идеальной формы отвела ее от своего пухлого рта. В конце концов он сумел выдавить: «Еще нет», но продолжал смотреть на нее не отрываясь, наверное, слишком долго, пока не вспомнил, что надо бы улыбнуться. Она улыбнулась в ответ и через мгновение вошла в дом, покачивая юбкой на аппетитной заднице.
Ночью Бобби заново переживал каждую секунду их общения. В одно мгновение вместилось столько всего, что получилось даже лучше, чем он мечтал, она ведь не просто обратилась к нему, но как бы предложила стать сообщником и вместе с ней действовать по ее плану и сделать нечто плохое, пока матери нет дома. Бобби пытался унять воображение, но оно уже вырвалось на волю: вот она приглашает его к себе, и он видел со стороны, как входит в нее, и чувствовал, что внутри она словно шелковое кимоно покойной матери.
Неделей раньше был Хеллоуин, и Бобби знал, что не должен надевать маску, но ему нравилось, когда взрослые скрывали за масками свои дурацкие рожи, а особенно ему понравилась Хизер в костюме котенка, с черным пятнышком на кончике носа, как если бы она ткнулась им в грязную сетку на двери. Когда в тот день она приблизилась к нему, он стоял и у него болела спина, потому что он вкалывал по полной, не желая лишиться работы. Когда он увидел ее, тело, как ни странно, осталось спокойным, а мышцы сами собой расслабились. Возможно, подумал он, они оба начинают привыкать друг к другу. В тот день, когда она, вся в черном, проходила мимо, он решил, что существует лишь один-единственный реальный способ подтвердить это предположение: она должна заговорить с ним и доказать, что достойна его, покинув свой мир и умоляя принять ее в мир Бобби.
Теперь, когда она действительно заговорила с ним, он обрадовался, удивился и преисполнился еще большей решимости. Раньше он надеялся, что ему как-то подфартит или он сам ее принудит, но когда она заговорила, он понял, что она подчиняется только себе, а вовсе не ему. Наверняка Хизер – какая-то совсем другая, еще более другая, чем он считал раньше. Есть ли что-то более потрясающее, чем физическое обладание ею? Ее смерть в его руках стала бы чудом, как чудом казалось что судьба свела их вместе, но тут Бобби вдруг осознал, сколь мимолетно это чувство. Все картинки в его мозгу сменились, и теперь он хотел, чтобы она пришла к нему по собственной воле, и не мог дождаться следующего утра, чтобы увидеть, как она себя поведет. Что с ним будет, если она исчезнет навсегда?
5
Из-за стройки на улице, где жили Брейкстоуны, пробки были круглосуточно, и на следующий день намертво застрявшие автомобили – вместе с кучами мусорных пакетов и опавших листьев – стали отличным укрытием для Марка в те напряженные минуты, когда Хизер выходила из дома и возвращалась. Марк спрашивал себя, что он тут делает, для чего он здесь. Наверное, только для того, чтобы в любую минуту прийти Хизер на помощь и, конечно, чтобы получить хоть какие-то доказательства. И вовсе не затем, чтобы бросить их в лицо Карен, а чтобы предъявить полиции. Он понял, что обязан что-то предпринять, когда в тот день дважды увидел свою дочь и рабочего, которые молча проскользнули друг мимо друга, словно фигурки в средневековых часах.
Карен продолжала дуться, а Марк держался ласково и виновато, словно накануне выпил лишнего на вечеринке. Когда они вечером легли спать, она и не догадывалась, что Марк представляет себе, как отвинчивает болты, скрепляющие леса, или надрезает обмотку электрокабеля на 220 вольт в подвале с высокой влажностью, или, самое увлекательное, заманивает рабочего в квартиру и стреляет в него, потому что тот приставал к его дочери. Спросите любого, вам всякий подтвердит: он ворвался в квартиру и бросился на него с кухонным ножом (его Марк вложит ему в руку после того, как все сделает). Наконец Марку удалось уснуть, убаюкав себя сценами смерти рабочего, особенно теми, в которых он душил его голыми руками.
Через несколько дней Марк признался своей ассистентке, что ищет работу, и попросил прикрыть его отсутствие в офисе. Он стал следить за собственным домом по два часа дважды в день и скоро заметил, что рабочий не особо и скрывается. Подстроенность этих регулярных встреч была очевидна для всех, кроме его дочери, а ремонтная бригада относилась к рабочему с таким же подозрением, что и Марк. Ремонтники приезжали и уезжали все вместе, набившись в ржавые пикапы с номерными знаками штата Нью-Джерси, и рабочий всегда сидел на корточках в кузове. Они болтали и смеялись по нескольку раз в день – в перерывах на кофе и во время перекуров, – но всегда без рабочего, который редко появлялся в самом пентхаусе. Работу ему поручали самую грязную и никогда не звали перекусить.
Марк продолжал слежку, не ослабляя бдительности: ее подпитывала как необходимость защитить Хизер, так и опасения, что его засекут. Он знал, что нужно заготовить хоть какое-нибудь объяснение на случай, если его заметит Карен, или Хизер, или кто-то из соседей, или человек с улицы – турист, няня, курьер, школьник или женщина в лосинах. Но никто не обращал на него внимания, и усилия Марка были вознаграждены в тот день, когда он увидел, как, вернувшись из школы, Хизер разговаривает с рабочим.
Обмен репликами инициировала Хизер, он был краток и, как показалось Марку, потряс рабочего не меньше, чем его самого. Но ни тема разговора, ни то, знакомы ли уже эти двое, ни робкий ответ рабочего значения не имели. Важно было лишь то, что дочь с дружеской улыбкой протянула свою невинную руку к пламени и что Марк не попал в поле зрения рабочего.
Справиться с подступившей паникой ему помогло только интуитивное ощущение, что благоприятная возможность вот-вот представится сама. Марк мгновенно все просчитал. Перед ним был стареющий, наверняка неквалифицированный и, вполне возможно, малограмотный разнорабочий, с трудом удерживающийся на обочине общества, без поддержки профсоюза, без денег, без какой бы то ни было защиты, занятый на очень опасной работе. Пока Марк следил, как Хизер входит в дом, стало еще холоднее и пасмурнее, но он дрожа ждал еще два часа, пока у бригады не закончилась смена и рабочий не залез в грузовик.
Марк сначала собирался пойти в интернет-кафе, чтобы, не оставляя никаких электронных следов в своем телефоне или компьютерах, поискать, где можно купить пистолет, однако не сумел припомнить, когда ему в последний раз попадалось интернет-кафе, и наметил на завтрашнее утро посещение библиотеки. А еще он решил, что единственный практический выход – нанять для защиты своей семьи частного охранника, как это делают миллиардеры.
Вернувшись наконец-то домой, Марк обнял Хизер, улыбнулся Карен и подумал, что надо будет попросить босса порекомендовать надежное охранное агентство, готовое гарантировать конфиденциальность. И лег спать, рассудив, что займется этим прямо с утра, хотя предпочел бы не обращаться за помощью, чтобы избежать возможных вопросов. На этот раз он быстро уснул, намучившись с принятием решения.
Ночью Марку приснился до того яркий и живой сон, что он не был уверен в том, что спит. Он словно бы карабкался по лесам на здании, как по лестнице, постоянно оглядываясь по сторонам и рассматривая все вокруг вплоть до верхушек деревьев в парке, потом повернул голову в другую сторону, чтобы увидеть торчащий шпиль церкви, Парк-авеню и размытые желтые кляксы такси на проезжей части. После этого ему захотелось заглянуть в спальню Хизер. Ее там не было, и тогда он подкрался к окну собственной спальни, где на их белом пуховом одеяле лежала, уставившись в потолок, в одних носках, рассеченная вдоль пополам, словно оленья туша, бледная, обескровленная Хизер.
Странным образом это зрелище почему-то не привело его в ужас, и дальше он увидел себя стоящим уже в комнате в ногах кровати. Ее изувеченное тело повернулось к нему, а лицо было живым и нормальным. Она произнесла что-то вроде: «Папа, зачем ты это сделал со мной?». Да, так она и сказала, дословно, и, когда повторила это в третий раз, он понял, что это все же сон, проснулся и подумал, что больше, пожалуй, он никогда спать не будет.
В сверхъестественное, включая вещие сны, Марк не верил. Он понимал, что в этом сне нашло отражение то, что мучило его наяву. Толкование сна не составило труда: он боится за жизнь Хизер, боится, что с ней может что-то случиться, а также опасается, что виноватым она посчитает его. Он сидел в коридоре под дверью дочкиной комнаты, пытаясь отделаться от этих страшных обвинений, и вдруг подумал, что у сна может быть и другое объяснение. А если Карен права? Может, его разум не справился с иррациональными страхами? Что он на самом деле видел всего лишь одного мужчину, а ведь их, вожделеющих его дочь, найдется бог знает сколько?
Он отказывался верить в отвратительные предположения Карен, но, возможно, ее слова заставили его что-то такое вообразить, или у него сорвало башню, или сон приснился просто потому, что в последние несколько дней он не позволял себе думать ни о чем другом. Он нормальный, в этом Марк не сомневался. Он не испытывал ревности к этим мужчинам, во всяком случае, того, что обычно понимают под ревностью. Да, он не мог себе представить, как какой-то мужчина берет его дочь, однако – и это не подлежит сомнению – он ни за что не хотел бы оказаться на месте такого мужчины. Он лишь хотел, чтобы она всегда оставалась его дочерью, как сейчас. Марк понимал, что должен отпустить Хизер, позволить ей стать взрослой, что придется принять их отношения такими, какими они станут, потому что именно так полагается поступать родителям. Он сознавал, что это разобьет ему сердце, но принимал и это.
* * *
Недавний скандал не шел у Карен из головы. Поначалу она терзалась, что его затеяла, сперва выдвинув сомнительные предположения, а потом яростно их отстаивая. Марк не потерял работу. У него не было никакой интрижки. Между ними всего лишь возникло недопонимание, и она грызла себя за то, что не оставила свои сомнения при себе, невзирая на все его наскоки. Но муж выглядел настолько странно, что, возможно, он искал предлог, чтобы выплеснуть эмоции. Слова Марка, неоправданно жестокие, лишь подтверждали ее подозрения: он и впрямь не ценит того, что она делает. С другой стороны, от этих слов была и польза: после долгих лет, когда ею дорожили все меньше и меньше, Карен вдруг поняла, что надо уделить больше внимания себе самой.
Еще ей хотелось, чтобы в ее жизни появились новые люди. Окруженная чужим равнодушием, она слишком замыкалась на собственных заботах, часто тревожилась и впадала в растерянность. Карен всегда мечтала иметь близких подруг, но опыт всей жизни свидетельствовал: людьми движет чувство соперничества, оно заставляет вести себя наихудшим образом и сводит любое общение ко взаимному хвастовству. Но теперь, надеялась она, ей будет легче найти ту, с кем можно поделиться сокровенными мыслями, поскольку все ее ровесницы точно так же замордованы бунтом детей-подростков, отсутствием супружеского секса, диетами и проблемами с недвижимостью.
На другой день после стычки с Марком Карен вспомнила одну из школьных мам, которая исчезла, когда ее дочь предпочла дайвинг дискуссионному клубу. Она всегда нравилась Карен, дружески относилась к ней и пересказывала забавные истории, которые узнавала от своего мужа, крупного адвоката, специализировавшегося на разводах. Карен позвонила ей под предлогом сбора средств на оплату транспорта для социально незащищенных учениц. Она нервничала, набирая номер и придумывая название для несуществующей акции; профессиональные навыки, пробудившиеся после долгих лет, заставили ее отбросить пафосные формулировки и выбрать простое «Чем мы можем помочь детям». В тот день они вместе пообедали и, хотя ни о чем особо интересном не говорили, Карен все же была довольна тем, что на время вошла в роль женщины, с удовольствием обсуждающей личную жизнь и интрижки знаменитостей.
Еще через день Карен устроилась на работу в благотворительный магазин при больнице на Второй авеню – естественно, волонтером, но на пять дней в неделю, пять часов в день, и ей дали ключ от входной двери. Положительные стороны работы проявились немедленно, поскольку весь остальной персонал был исключительно женским и в большинстве состоял из вылечившихся от рака. Эти женщины были или выглядели старше, поэтому мужчины, заходившие сюда, как правило, за чем-нибудь от Burberry, старались привлечь внимание Карен и пытались заигрывать с ней, стоило женам отвернуться. Магазин тоже извлек выгоду из ее появления, потому что уже через пару дней Карен стала главной покупательницей: ее опытный глаз радовали винтажные модели люксовых брендов, отлично сидящие на ее относительно молодой и спортивной фигуре.
Купленную одежду, украшения и сумки Карен оставляла в магазинной подсобке и примеряла в перерыве, прикидывая, понадобится ли подгонка, куда их надеть и насколько подходит очередная сумочка к ее новому псевдостаромодному стилю. Она испытывала неожиданное удовольствие от того, что занимается собой, поражалась, почему так долго не уделяла себе внимания, и убеждалась, что Марк даже не представляет себе, как ему повезло. Она – стройная, жизнерадостная, в отличной форме, и контраст между ее красотой и уродством Марка опять стал таким же ослепительным, как в день их первой встречи.
Прошла неделя с тех пор, как Марк наорал на нее, а его попытки извиниться были не более убедительными, чем его благодушие. Хизер, возможно, верила его лучезарной улыбке, однако Карен явственно различала и складки возле губ, и темные круги под глазами – свидетельства разочарования. Этой ночью она лежала в постели и думала о нем с сочувствием – он стал слабым и жалким из-за того, что направил все свои угасающие силы на борьбу с воображаемым врагом.
Возможно, она действительно организует этот сбор средств, а врожденная способность к состраданию, возможно, побудит Хизер подключиться к ученическому комитету. Карен была так рада, что ее подруга, которая скоро станет одной из многих, нашла идею совершенно гениальной и предложила поужинать вместе с ее мужем, адвокатом по разводам, который мог бы оказаться полезным в составлении плана действий. Пока Карен в темноте улыбалась сама себе, Марк вдруг проснулся, перепуганный и весь в поту. Она отвернулась от него, без малейшего сочувствия к нему, уверенная, что он внезапно осознал, что она сильная и становится все сильнее; ее ум сам собой оттачивается и без всякой натуги рождает новые, грандиозные идеи.
* * *
Утром Марк принял душ и пошел на работу, радуясь рутине и наслаждаясь текучкой, особенно приятной после мучительного сна, от одного воспоминания о котором подступала тошнота. Пробежка бы точно помогла, однако сил на нее не было. В голове постоянно крутились рабочий, лицо Хизер и, естественно, инсинуации Карен, но теперь он полагал, что нарочно думает обо всем этом, чтобы уйти от мыслей о реальном кризисе. Да, верно, с работой все зыбко, дома ремонт, однако все началось раньше, и, глядя из окна на силуэты Манхэттена на фоне неба, разрезаемые стальными скелетами строек и подъемных кранов, он проникался своим одиночеством. В один прекрасный день Карен перестала смеяться над его шутками и вообще его замечать, и тогда его аудиторией стала Хизер.
Марк сидел за столом, потягивая жидкий офисный кофе, и размышлял о том, что еще возможно в его жизни после того, как он вырастит этого ребенка. Разве он не пожертвовал своим счастьем ради семьи? Добровольно, само собой, – но теперь, когда они с Карен окончательно отдалились друг от друга, большинство мужчин на его месте подумывали бы, не начать ли все с чистого листа, с другой женщиной и с половиной денег, которая останется после развода. Хизер была свидетельницей их мучений и уже достаточно выросла, чтобы понять, что окончательное расставание родителей – лучшее из возможных решений. Тем не менее, несмотря на все механизмы цивилизации, облегчающие процесс развода и помогающие забыть о нем и идти дальше, Марк даже представить себе не мог, сколько сил понадобится, чтобы осуществить эту затею.
Для его отца, футбольного тренера, главными были физические показатели, и с того момента, как Марка впервые передернуло от жестокой драки за мяч, отец стал считать его трусом. Ну да, он боялся. У отца были огромные руки и непредсказуемый характер, и он не терпел поражений ни в чем, так что Марк привык быть битым и старался скорректировать свое поведение, чтобы избежать конфликтов с заведомо известным финалом. Надо было бежать, но не по кругу, не из дома и обратно, а из дома совсем, по прямой, пока не кончатся силы, пока тебе не останется ничего другого, кроме как начать все сначала, где бы ты ни оказался.
Перед обедом Марк решил зайти домой и переодеться для пробежки и уже на пороге кабинета стер в телефоне фотографию рабочего. Она вызывала у него отвращение и ярость, и, хотя совершить этот символический акт было приятно, оставался вопрос – можно ли в наши дни что-то стереть понастоящему.
Совершенно спокойный, он вышел на улицу, под пасмурное небо, и взмахнул рукой, останавливая такси; в носу пощипывало от первого морозца. Он подумал, что будь Хизер сыном, ничего подобного он бы не испытывал. Он также согласился с тем, что развод родителей нанесет ей серьезный вред, а одолевающие его иррациональные эмоции порождены недостатком сна и физической нагрузки.
Грядущие годы они с Карен наверняка, как и планировали, проведут вместе, каждый будет потихоньку тратить свои жизненные ресурсы, пока, согласно статистике, кто-то из них не останется в одиночестве. Заглянув в будущее, он увидел чьими-то стареющими глазами, как замечательно живет Хизер – адвокат или даже президент компании и что благодаря ему, своему отцу, она не закончит так, как его несчастная сестра, виртуоз голодания, которая так и не узнала, какая награда причитается за ее подвиг.
Марк захлопнул дверцу такси и с облегчением увидел, что строительная бригада на обеде, но по пути к лифту заметил, что швейцар отлучился, а рабочий сидит на радиаторе отопления, смотрит в телефон и пьет – предположительно алкоголь – из бутылки в бумажном пакете. Пока Марк ждал лифта, его решимость ни на что не обращать внимания свели на нет зашевелившиеся на затылке волосы. Он обернулся как раз вовремя, чтобы поймать на себе пристальный взгляд рабочего.
Контакт был кратким, но исчерпывающим, и Марку показалось, будто его кишки провалились вниз, словно он вот-вот обделается, не сходя с места. Теперь ему было совершенно очевидно, что в их вестибюле находится животное – равнодушно-голодные глаза под тяжелыми веками, ссутулившееся, сжатое как пружина и готовое к прыжку тело. У Марка оборвалось сердце, когда он подумал, что это существо так и будет ошиваться у них на пороге, неспособное насытиться ничем, кроме его, Марка, ребенка.
Двери лифта открылись, и Марку следовало нажать на кнопку, подняться на свой шестой этаж, переодеться в спортивный костюм и отправиться на пробежку, но вместо этого он придержал дверь рукой. Во рту у него пересохло, так что он едва мог говорить, и ему оставалось только надеяться, что голос не выдаст страха, когда он спросит рабочего, все ли на обеде. Он даже сам сначала не поверил, что заговорил, – так громко и четко каждый преступный слог отскакивал от мраморных стен. Рабочий кивнул, и Марк понял, что, когда сегодня удалял фото из телефона, мозг уже все за него решил. Это решение, по всей видимости, было принято несколько часов назад: настроенный воспользоваться первой же возможностью, он начал заметать следы.
* * *
«Не поможете мне кое-что передвинуть?» – спросил у него папаша Хизер. Бобби немного выпрямился, когда тот вошел в дверь – еще более злобный и раздраженный, чем обычно, а поскольку предполагалось, что ремонтники не должны есть в вестибюле и уж тем более пить тут пиво, Бобби испугался, что старый мудак поднимет хай или пожалуется на него прорабу. Бобби никогда не присматривался к нему, он его не интересовал, а когда был вместе с Хизер, то только мешал, кружа вокруг нее, словно надоедливая муха. Теперь, вблизи, он оказался ровно таким, как Бобби ожидал, – одним из этих надутых уродов, которые думают, будто весь мир работает на них, и, несмотря на хозяйский тон, оставался все тем же толсторожим гадом и жалким бздуном, особенно сегодня, когда заявился без своего навороченного портфеля.
Но все это не помешало Бобби с удовольствием предвкушать, как он прямо сейчас окажется у Хизер дома, так что он затрусил к лифту, опустив голову, чтобы не выдать восторга. На площадке папаша сразу рванул к квартирной двери, но долго не мог найти ключ и столько раз оглядывался через плечо, что Бобби подумал, не нужна ли ему помощь. Но вот входная дверь наконец-то открылась, и на Бобби сразу обрушилась стена жара, пропитанного ароматами Хизер, так что пришлось ухватиться за дверной косяк.
Вслед за папашей он прошел через удушливую прихожую, а затем через шикарную гостиную в узкий коридор, где, как было известно Бобби, находились двери в спальни. Он оглядывался в поисках хоть какого-то следа ее присутствия – туфли, свитера, – и у него возник соблазн сбежать от старика или просто придушить его, а потом усесться в спальне и дождаться прихода Хизер. Вместо этого он шел за ее отцом, слушая одним ухом, как тот бахвалится. Старикан к этому моменту весь покрылся потом и вел Бобби к кухне, куда через открытое окно поступал воздух с улицы.
Бобби видел много таких красивых квартир, но только с лесов, он ни разу не бывал внутри обжитой или неремонтируемой квартиры. Эта казалась бы больше, не будь в ней столько барахла; тем не менее белые стены, зеленое ковровое покрытие, все эти телевизоры и медные прибамбасы так его заворожили, что захотелось усесться в мягкое красное кресло и выпить виски из хрустального стакана. Он знал, что такие люди постоянно ходят в кино и рестораны, летают на самолетах и всюду развешивают фотографии лошадей.
Он посмотрел на спину ее отца и подумал, что бедняга, может, не такой уж плохой: у него есть жена с большими сиськами, и они вдвоем соорудили Хизер. Если задуматься, эти двое вообще сделали все, что здесь находится, и нравится это им или нет, они сделали все это для него, Бобби.
Бобби зашел на кухню, где у всех шкафов и даже у холодильника были стеклянные дверцы, причем все было забито едой, и попытался представить себе, как можно всем этим попользоваться. Он впервые подумал о чем-то другом, помимо убийства Хизер. И увидел, как она стоит у плиты в бледно-голубом махровом халате и жарит ему яичницу.
* * *
Уже перед квартирной дверью Марк пожалел о том, что вообще заговорил с рабочим. В лифте оба стояли близко друг к другу, Марк задыхался от вони пива, сигарет и грязной одежды рабочего и ясно видел, как под сбритыми седыми волосами на висках у него пульсируют жилы. Он наблюдал за рабочим, который прислонился к косяку захлопнувшейся двери и потянул носом воздух, словно вдыхая всю квартиру. Поворачиваться к нему спиной Марку не хотелось, но и встретиться с ним глазами он опасался, чтобы тот не прочел в них страх, поэтому он отошел от рабочего и принялся болтать, словно агент по продаже недвижимости, о каждом помещении, по которому они шли.
Марк много раз представлял себе, как убивает его, но теперь у него не было ни пистолета, ни разводного ключа, ни тем более физического превосходства. Он никогда не сможет сжать руки на этой толстой шее. По позвоночнику пробежал холодок, когда до Марка дошло, что он сам привел опасность в свой дом, где ему грозит смерть от рук этой коротконогой, сутулой обезьяны, которая пока не произнесла ни единого слова.
Останавливаться было нельзя, и Марк продолжал двигаться, попутно высматривая и оценивая любое подходящее оружие – керамическую подставку под зонтики, каминную кочергу или большую коробку красного дерева для сигар. Они шли на кухню. Там имелись ножи. Если он сумеет добраться туда первым, то сможет схватить нож для разделки мяса, развернуться и нанести неожиданный удар. Или, еще лучше, сделать ложное движение по направлению к кухне, а самому выскочить из квартиры и сбежать вниз по лестнице.
Услышав приближающийся стук тяжелых ботинок, Марк ускорил шаг, однако не сделал ничего, а лишь смотрел, как рабочий входит в просторную кухню и останавливается напротив. Сердце Марка оборвалось и заколотилось одновременно. Рабочий находился вне досягаемости, он стоял примерно в двух метрах от Марка: массивный корявый силуэт темнел на фоне ярко-серого света из открытого окна за его спиной.
Бобби огляделся по сторонам, на этот раз ничего не замечая, поскольку и мозг, и тело были полностью заняты будущим. Он никогда уже не вернется в школу, но у него хорошо получается копить деньги, и он сумеет дать Хизер жилье, нет, дать ей настоящий дом. Она родилась богатой, значит, родители не захотят отпустить ее с пустыми руками и помогут им, причем сделают это с удовольствием, потому что Бобби будет работать изо всех сил, а к усердной работе все относятся с уважением. И он подойдет к ней сзади, когда она будет готовить, и обнимет за талию, а она повернет голову и улыбнется, как это обычно делают влюбленные, которых он видел по телевизору.
Лицо рабочего было темным, если не считать голубых глаз, когда он сделал шаг по направлению к плите. Квадрицепсы Марка напряглись, он чуть пригнулся, приняв стойку футболиста, собравшегося отнять мяч у противника, и, всем своим весом навалившись на бедра рабочего, толкнул его к низкому открытому окну. Потеряв равновесие, Бобби не оказал никакого сопротивления, перегнулся назад, выпал в окно и пролетел все десять этажей, даже не вскрикнув; глухой влажный удар об асфальт совпал с сигналом автомобиля.
* * *
В этот день Карен договорилась встретиться за обедом с давней, еще из рекламного прошлого, приятельницей, которая теперь работала секретарем-ассистентом главного редактора в женском журнале. Карен намеревалась поделиться с ней своими вновь разгоревшимися амбициями, однако они в основном предавались воспоминаниям, и, хотя приятельница ни в чем не превзошла Карен, ей было известно много историй их бывших подчиненных, которые стали солидными фигурами в мире медиа. Карен запомнила момент, в который у них все разладилось: это произошло, когда приятельница недвусмысленно дала понять, что в издательском мире для Карен места нет, а может, никогда и не было, и ей скорее подойдет бесплатная работа для домохозяек в благотворительных организациях и магазинах.
Входя в квартиру, Карен ощущала, как на желудок давят годы сожалений, а тело заливает жар – возможный предвестник надвигающейся менопаузы, и побрела через разогретую прихожую в прохладу кухни. Марк сидел в майке у стола, положив голову на сложенные руки, а из широко распахнутого позади него окна дул ледяной ветер. Она окликнула Марка, он поднял больные глаза, его лицо было изрезано морщинами и выглядело старше, чем утром, что она непременно заметила бы, если бы утром дала себе труд на него взглянуть.
Поняв, что его слабость просит поддержки, она присела на корточки рядом с ним, а он сообщил ей тихим, но недрогнувшим голосом, что вытолкнул рабочего из окна и тот лежит мертвый в проходе между их домом и соседним. Карен бросилась к окну и посмотрела вниз, где увидела тело Бобби с головой в луже крови и неестественно выгнутой назад ногой, так что плечо лежало на ступне.
Она снова села рядом с Марком, который, заикаясь, сделал полное чистосердечное признание во всех изобличающих подробностях, слушая которое Карен поняла, что он погубил жизнь их обоих, и с размаху ударила его по лицу. Марк не отреагировал, только взял поочередно ее ладони в свои и заглянул в глаза. «Я сердцем чую. Я абсолютно уверен, – сказал он. – С какими бы проблемами ни столкнулась наша семья, без Хизер семьи нет».
Она услышала его и на мгновение, словно с высоты птичьего полета, охватила взглядом всю комнату и увидела, какие они с Марком маленькие и одинокие. Она знала, что сейчас он не способен рассуждать логически, и вся квартира взывала к ней, спрашивая, что же делать, и она в конце концов разрыдалась, уронив руки на колени.
Марк не сводил с нее взгляда, покуда она восстанавливала дыхание; после чего, вытерев глаза, она суровым голосом предложила забрать Хизер после очередных занятий по ведению публичной дискуссии, вместе поужинать в ресторане, вернуться домой попозже и изобразить потрясение случившимся. Марк опустил глаза и кивнул. Тогда она встала, подошла к кофемашине, и следующие несколько минут на кухне была полная тишина, если не считать звяканья фарфора и шипения пара, пока Карен готовила капучино и ставила чашку перед мужем, а потом смотрела, как он пьет маленькими глоточками, словно принимает лекарство.
* * *
Много часов спустя Брейкстоуны возвращались домой. Карен ожидала, что улица будет освещена фарами полицейских машин, а здание огорожено желто-черной лентой, и придется приложить титанические усилия, чтобы перевести Марка из оцепенения в соответствующее общим ожиданиям состояние шока, когда они будут прокладывать дорогу в дом сквозь толпу зевак. Полицейскому у входа будет мало что известно, идет следствие, скажет он, и все должны пройти в свои квартиры и постараться понять, что произошел несчастный случай, что такое иногда бывает и что, к счастью, с ними самими все в порядке. Тогда Карен предложит, чтобы они переночевали в отеле, ей удастся уговорить Марка, и они уйдут, – он, утешая, положит ладонь на плечо дочери, с которого соскользнет и будет волочиться по пыльному мрамору вестибюля рюкзак.
Однако когда они вернулись, дом был темен и тих, точно заброшенный, поэтому они просто поднялись наверх и пошли спать. Марк лег первым, так как много выпил и мало ел в ресторане, где они вдруг решили отметить принятие Хизер в команду университетского дискуссионного клуба, хотя она и была новичком. Карен дождалась, пока у Хизер погаснет свет, потом разделась и легла, не почистив зубы и сопротивляясь желанию пойти проверить, по-прежнему ли тело рабочего лежит под окном.
Она смотрела на Марка, который спал очень крепко, и чувствовала, как тревога судорогой сжимает желудок. Карен понимала – ближайшие дни, а может, гораздо дольше, именно ей предстоит удерживать Марка от импульсивных порывов во всем признаться. Сама того не желая, она станет посредницей между его чувством вины и призраком, который как раз в эту минуту, возможно, поднимается из прохода между домами.
Лежа в темной спальне, Карен посмотрела на Марка и вдруг поняла, что у него наверняка были причины так поступить, ведь она хорошо его знала и никогда не боялась. Все страхи окончательно оставили Карен, сменившись уверенностью, что она и муж связаны друг с другом навсегда. Она ласкала его, пока он не ожил, а потом занялась с ним любовью, агрессивно, забравшись сверху, а Марк был слишком пьян, чтобы помнить, кто он такой, и откликнулся со всей силой заново пробудившегося желания.
Тело Бобби не нашли до следующего утра, когда тот, кто заменил его в бригаде, вышел отлить в проход между домами, и газеты, а вслед за ними и следователь назвали эту смерть несчастным случаем на производстве. Трагедия взволновала Хизер, и она принесла на место его гибели цветы, а Марк и Карен выждали целый месяц, прежде чем выставить квартиру на продажу.
Слова признательности
Работа над этой книгой изменила мою жизнь и стала воплощением детской мечты. С этой задачей, как и со всеми, что я когда-либо решал, я не смог бы справиться в одиночку. Мои благодарности следуют в том порядке, в каком я получал поддержку.
Начну с благодарности Э. M. Хоумс, которая не только щедро поделилась опытом писательства, но и угадала мой страх перемен и посоветовала, а потом и помогла мне попасть в Дом творчества «Яд-до». Без нее у меня бы ничего не вышло.
Я многим обязан духу «Яддо», равно как энергии и уму тех, кто там жил осенью 2015 года, включая Эрика Лейна, Патришию Волк, Джеймса Годуина, Кристофера Робинсона, Лайзу Эндрисс, Нейта Хейджеса, Гэвина Ковайта, Рейчел Элайзу Гриффитс, Пилар Гальего и в особенности Изабель Фонсеку и Мэтта Табера, которые выслушали бесчисленные версии этой истории и все время подталкивали меня, заставляя идти вперед.
Спасибо Семи Челлас за то, что тщательно прошлась по первому варианту и показала мне, как использовать пробелы между абзацами. Она – писатель для писателей, и благодаря ей мы начинаем меньше бояться.
Спасибо и другим первым читателям, которые помогли мне расправить паруса на моей хлипкой скорлупке: Энн Вейс, Ричарду Лагравенезе, Брайану Лоерду, Джону Кэмпизи, Жанне Ньюмен, Дэвиду Чейзу, Блейку Маккормику, Карен Брукс Хопкинс, Аманде Волф, Габриэль Альтхейм, Молли Херманн, Джошуа Оппенхаймеру, Джеймсу Л. Бруксу, Джессике Паре, Сарене Коэн, Мэдлин Лоу, Эрин Леви, Джанне Собол, Эбби Гроссберг, Лидии Дюбуа-Уэтервакс, Кристоферу Ноксону, Милтону Глейзеру, Лайзе Кляйн, Дэвиду О. Расселлу, Лайзе Элберт, Джеку Дишелу, Регине Спектор, Сидни Миллеру, Мишель Робертсон, а также моим родителям, Лесли и Джудит Вайнерам.
Благодарю Алану Ньюхаус за то, что она разглядела нечто ценное в такой странной вещи. Она – героиня, защитница и мой друг на веки вечные.
Спасибо моему агенту Джин Ау за ее неистощимую веру в меня и свирепость по отношению ко всем остальным. А еще – Эндрю Уили и Люку Инграму из агентства Уили.
Я признателен моему редактору и моей союзнице Джуди Клейн, чей выдающийся талант в работе как со словами, так и с людьми завоевал мое доверие на всю оставшуюся жизнь. Она сделала эту книжку лучше и не позволила мне сделать ее хуже. Моя благодарность Риган Артур и ее невероятной команде Литл, Браун и Ко: Люси Ким, Марио Пуличе, Крейгу Янгу, Николь Девей, Джейн Яффе Кемп, Мэри Тондорф-Дик и Александре Хупс.
Благодарю за полезные советы и заботу Фрэнсис Бикмор, моего редактора в издательстве «Кэнонгейт».
Спасибо Дженне Фрэзьер, моей ассистентке, чья проницательность, мастерство, перфекционизм и артистичность ежедневно помогали мне справляться со своей задачей.
Я стал писателем благодаря очень многим, кто, принимая меня всерьез, не позволял мне относиться чересчур серьезно к себе самому. Это все те, кто учил меня мастерству, – наставники, коллеги и, самое важное, другие писатели, которые бросали мне вызов, ругали меня и отвечали на мои тупые вопросы. Их слишком много, чтобы я мог всех назвать, однако самым постоянным и любящим другом, о котором каждый может только мечтать, был все же Джереми Миндич.
Ладно-ладно, они в этом списке последние, но только потому, что они самые важные для меня люди. Спасибо моим сыновьям, Мартену, Чарли, Арло и Эллису. Ваша заслуга в том, что я смеюсь, плачу, не хочу идти на работу, и я даже не в состоянии перечислить все, чему я у вас учусь. Надеюсь быть похожим на вас, когда вырасту.
И я очень благодарен моей любимой Линде Бреттлер, самому искреннему художнику, которого я когда-либо встречал. И за что мне такое счастье?
Мэтью Вайнер (р. 1965) – сценарист, продюсер, режиссер, актер и писатель, получивший известность как создатель телевизионных сериалов «Безумцы» (семь премий «Эмми» и три «Золотых глобуса») и «Романовы», а также как сценарист и продюсер более десятка эпизодов сериала «Клан Сопрано».
В 2011 году журнал Time включил Мэтью Вайнера в свой список «100 самых влиятельных людей мира».
Примечания
1
Имя Хизер (Heather) буквально значит «вереск». – Здесь и далее прим. перев.
(обратно)2
В переводе с американского сленга – что-то вроде «классная телка».
(обратно)3
Moonstone по-английски «лунный камень», а Breakstone – «щебенка, дробленый камень».
(обратно)






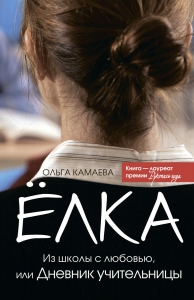


Комментарии к книге «Хизер превыше всего», Мэтью Вайнер
Всего 0 комментариев