Леонид Лушников След заката
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Что за причина тому, Меценат, что, какую бы долю нам ни послала судьба и какую б ни выбрали сами, редкий доволен и всякий завидует доле другого?
ГорацийОт грозы либо все в кучу, либо все врозь.
Пословица1
Снег сошел ныне на удивление рано, до прилета шумных грачиных стай, и умеренное тепло, какое-то духмяное и сладковатое, потекло шелестящим валом от распускающихся почек, от ожившей хвои и от реки, еще не успевшей влиться в берега, но уже по-летнему утихомиренной и благостной. Сочно-тягучий южный ветер, с озорными порывами, шумно кучерявил упругие макушки пихт, острыми пиками устремившихся вверх, не шибко клонил длиннющие космы берез, заплетал их и вновь расплетал в ночь, когда ветер тишал, балуясь походя беззлобно в ранее всех зазеленевших вербах, гнал веселую мелочь серебристой ряби по Бересени, чуть-чуть обнажая в суетливой волне по-щучьи зубастые шиверки и мягко, как-то по-матерински, лаская гладкие скалы прижимов, уже до парения пригретые солнцем, словно прося прощения за тот неистовый вал, который еще совсем недавно беспощадно сотрясал утесы. А там, где еще совсем недавно неукротимо несся разлив, облизывая низины, унося мусор, осевший за год, ярко и вызывающе вспыхнули малахитом луга, кислица и дикий лук, на диво селян, вымахали в рост журавля, приманивая не только птиц и травоядных, но и людей. Вкрапились в луга цветастые бабьи косынки, зеленое безмолвие принимало в волнистую шелесть протяжные песни и ликующие шумы детей…
Зазывно и ярко выруливала на этот раз весна к своей середке. Еще не совсем отпали бело-розовые лепестки подснежников, а по косогорам, в таежной тени, долгое время томимые под рыхлыми и ноздрастыми сугробами последнего снега, по мокретным хлюпающим закраинам, уже яркими кацельками вылуплялись на свет божий анютины глазки. И сразу же их облепляли первые розово-желтые мотыльки, стараясь поспеть до ночи, до прохлады, глотнуть хоть один раз в жизни сладковатого нектара, отложить потомство в личинках и умереть…
Все вокруг скоротечно меняло свой облик. Погибшая прошлогодняя листва и то источала дурманный дух. А в чаще воздух был непродыхаемо-светлым и хмельным, возбуждал все живое. О таком плодово-медовом времени люди говорят с придыхом и волнением: «Любится земля!.. Щепка на щепку лезет!.. И все на подвиги толкает!..»
И природа от такой похвальбы ликовала и нежилась еще больше, выманивая для игр всякую земную тварь. Уж подлетели из дальних краев большие и малые птахи и, не передохнув с дороги, взялись спешно подправлять старые гнезда и ладить новые, захлебываясь в любовном экстазе. Где-то в дремучей чаще, за непролазными урманами, вышел из зеленого лога на гриву огромный сохатый, выбил яростно передними ногами яму в щебенистом склоне, задрал вздрагивающую верхнюю губу и громогласно затрубил, зазывая соперника меряться силой. Медведь с большим трудом и мучениями оправился, распростался после долгой зимней спячки, обчесался об старую корявую сосну, оставив клочья бурой и слежалой шерсти на вековой коре, и прямиком направился через колок на поднявшиеся в поле колхозные овсы, полакомиться нежной озимой порослью, поваляться на солнце, фырча и поуркивая от удовольствия.
Отголоски этих щебечущих, ревущих, рычащих и поющих звуков эхом разносятся над речными долинами, путаются в древних скалах Урала, сливаются с затихающими раскатистыми шумами порогов, достигая Айгир-завода, день и ночь смолившего голубое полуженое до гладости серебристой вуалью небо и все в округе на несколько верст за Бересеньку рыжими вонючими дымами из высоченных кирпичных труб, стоящих над местностью безликими монументами, с черными, рыгающими трубно жерлами. Тень от них падает на утес Айгир-Камня, медленно сползает по гладким прожилисто-розоватым скалам вослед за светилом, слепяще нависшим над ущельем, над притихшей и поредевшей за последние годы деревней, над тайгой, медленно оживавшей после жестоких зимних стуж и яростных метелей…
За неделю до первомайских праздников, когда деревеньки и поселки, прихорашиваясь, начали одеваться в кумачовый цвет, чуть-чуть только забрезжила утренняя прозрачная зорька, раздобревшая Катерина Ястребова, ходившая снова с пузом на пятом месяце четвертым ребенком, поднялась чуть свет, следом за отцом, мучившимся в последнее время бессонницей. Проводив Алексея в Темирязевское на работу, подоила корову, выгнала в обмельчавшее деревенское стадо свою скотину, а потом, покрутившись еще по хозяйству, побудила золовку Зою Березину, не снимавшую вдовий траурный платок чуть ли не с десяток лет после похорон мужа Березина Александра Петровича, павшего на зоне во время восстания от пули вышкаря, строчившего со страху по своим и чужим. Крепко душой и сердцем вместе с сыновьями прикипела она к этому дому, принесшему ей большие радости, гася невозвратные потери и печали всем укладом, созданным добрым семейством.
— Пусть бы поспала еще баба! — ворчливо проговорил Петр Семенович, сидя на пороге и набивая на колодку, ссохшуюся за зиму, черную щеблетину, косясь на дочь, взявшуюся разогревать на керогазе вчерашние щи на завтрак, заслонив широкой спиной весь шесток. — Почитай, сутки в больнице отмантулила!.. Пятеро работяг в лакокрасочном цеху сильно обгорели…
— Ничего! — отозвалась глухо Катерина. — Вечор сама просилась. Бабы сказывают, что грибов видимо-невидимо. Припоздаем и останемся с кукишем. Поселковые бабы корзинами таскают… А мы ждем чего-то?!
— Ну, лады. Щавелю-то ныне косой коси. На всех хватит. Да и грибы лезут… Весна-то ныне рано задышала. Как бы май морозцами не засветился?! Люди высадят все, а они грянут! Ох-хо-хо…
Петр Семенович, шаркнув протезом по полу, поднялся кряхтя и вышел в сени. Больше всех он жалел и обихаживал сноху, не давая никому в обиду. «Все еще мучается баба, — болезненно пронеслось в мозгу и тут же слиняло: — А грибков-то неплохо бы отведать. Да и пирогов напечь на проводы внучка». Поскрипывая протезом, он шагнул на крыльцо, шаря в кармане курево, и замер, задохнувшись от теплого свежака, тянувшегося вдоль реки от главного хребта, нависающего над долиной большой иссиня-серой глыбой, разрисованной пышными красками весенней канители. Ветер заглядывал во дворы, шелестел в кровле. Вдали рисовался шлем горы Шоломки, прикрытый с севера тюбетейкой сверкавшего снега. «К середке мая полностью откроется плешина на макушке, — подумал он, водя по ветру коршунячьим мясистым носом, втягивая воздух широкими ноздрями, поросшими ковыльным волосьем, торчавшим пучками. — Эх, благодать! — он так и не вытащил пачку папирос. — И без них пьяно!..»
Зоя Березина, заслышав голос свекра во дворе, не страшась подгляда, вскорости вышла в горницу в ночнушке, едва прикрывающей ее крутые розовые коленки с соблазнительными ямочками в ровных, будто натянутых поджилках, прошлепала босыми ногами по прохладному полу к окну, наполнив переднюю сладким со сна и волнующим женским духом, настежь распахнула обе створки. Тут же по оголенным рукам, пахнув туго в высокую грудь, черемухово-сиреневый вал из палисада ворвался в избу вместе с лучистым теплом раннего солнца, еще не успевшего завеситься марью, свежестью речной и чем-то трогательным, трепетным и веселящим, всколыхнувшим все тело, пройдясь по нему любовной лаской, достав до самого сердечка.
— О-о-ох! — воскликнула Зоя, сраженная восторгом жизни, уж подзабытым за время вдовства. Раньше времени подкралась горючая тоска. И до сегодняшнего дня не могла осилить никакая сила. А поглядела, как хватается за жизнь изуродованная огнем заводская деваха, и подзадумалась. Ночь прошла, как год. И забылась к утру. Нежданно-негаданно сон пришел… Будто бежит она среди цветущих подсолнухов. Шляпки огромные, но не заслоняют что-то голубое-голубое, как дышащее море. И солнце ласковое над головой… Не жжет!.. И тянет куда-то, и тянет, обхватив невидимыми руками, будто теплой волной…
— Видать, бабье просыпается! — прошептала. — До сегодня сколько лет не тревожило?! Сон в руку…
Большие и полные губы Зои, не высохшие от горя, чуть приоткрылись, словно от удивления, как для встречного поцелуя, а тонкие чувствительные ноздри дрогнули, вдыхая синюю прохладу.
Желая отторгнуться от чар, Зоя угнула голову, отчего рыжая копна ее волос, золотисто прошитая светом, упала на белые плечи, еще не тронутые загаром. «Что за чудо?! — Зоя страшилась вновь поднять глаза, чтобы не видеть тот тревожащий кусок реки, палисад, одетый в белое и синее. — Господи!.. Вот нашло!.. — Не удержавшись, она вскинула голову, сцепив пальцы рук, потянулась. — Ах какая жизнь! А я иду мимо… Надо ли так?!»
Катерина, проходя мимо застывшей у окна Зои пузом вперед, по-слоновьи переставляя ноги, несла в обеих руках наотлет пару корзин, только что вынутых из-под пола. Залюбовавшись ладной фигурой золовки, не источившейся с годами, не удержалась и звонко шлепнула ладошкой по плотным округлым ягодичкам, по-озорному выкрикнула:
— Такое добро и зазря пропадает! — И звонко рассмеялась.
В одно мгновение с лица Зои смылась радость, непрошено пришла злость на себя, на цветущую в беременности Катерину, от которой больше всего было укоров: «Сашку уж не вернешь, а годики-то пролетят мотыльком!»
— Нахалка! — резко выговорила Зоя. — Мое добро!.. Что хочу — то и делаю!.. Руки-то не распускай! Взялись учить?! В следующий раз… — Зоя неожиданно горько всхлипнула. На глаза навернулись слезы, застив свет. — Проходу от вас нет!..
— Да ладно тебе! — ласково и примирительно проговорила Катерина, не умевшая ссориться. Она попыталась обнять Зою за плечи свободной рукой, но та увернулась, пряча глаза. Но Катерина успела приметить в ее глазах новый блеск, ранее заслоненный безжизненной покорностью. — Подумаешь, недотрога! Ну и носись со своим добром, как наседка!
Катерина недовольно вильнула широким подолом будничного сарафана, скроенного под грудь, как у всех беременных женщин, вышла во двор. Поведение Зои ее взволновало. «Показалось аль так просто, но глаза-то посветлели. Сколь ни томи семя, а все одно прорастет, — думала она, навешивая корзины на забор заднего двора. — Ручеек и тот в скалах протачивает дорогу. А Зойка не та баба, чтобы нырнуть в омут и жить тихо. Выходит, из тупичка-то сердечко выталкивает!..»
Катерина еще в марте приметила, как нет-нет да засветится лучисто лицо бабы. А Зоя не хотела признаваться даже себе и всячески скрывала от родни, что ведет ее невидимая тропка к свету, к радости. Порой хоть и кособоко, неуверенно, как-то наощупь, словно слепую, толкая в спину к сочной луговине, к цвету, тревожа еще не совсем уснувшую плоть. И ей противно стало напяливать на себя строгое платье и чернь платка на глаза, отгораживаться глухим заплотом от стремнины жизни, всеми силами гасить в себе томления. Раны сердечные! И как все повернуть? Страшно было начинать все сызнова и стыдно перед детьми. Если бы не сыновья, Сашка и Егорка, то давно бы ушла в Сорочинский монастырь, куда ее постоянно сманивала игуменья Ефимия, доводившаяся двоюродной сестрой Марфе Трифоновой и зачастившая в последнее время в Бересеньку.
— Покой обретешь, милушка! — подслеповато, но пронизывающе впивалась черными глазами в светлое и красивое лицо Березиной, толмила монашка, раскрыливаясь полным телом, как ворониха перед заробевшим птенцом. — Блажной будешь! Еще вместе с сестрами волховую чашу испьешь!.. — она доверительно трогала руки Зои холодными длинными пальцами. — Пагуба, милушка, в этом мире! Пагуба!..
Зоя общалась с монахиней неохотно, настороженно прислушиваясь к елейной речи и непонятным словам, вспоминая понятные проповеди зэка Мирослава, несшие добро и надежды, хотя и несбыточные, и отвечала со скрытой враждебностью, боясь обрубить эту последнюю путь-дорожку.
— Еще не решила… подумаю…
— Думай, думай, — монашка обидчиво поджимала сухие тонкие губы и уходила. Монастырь старился, а молодые руки стали редкостью. Монастырское бытие тяжелое: работы, молитвы — все выматывало.
Трифонов, не переносивший присутствие Ефимии еще с молодости за то, что чуть не сманила святоша Марфу в монастырь, когда он впервые ударился в разгульный запой. Гонял ее трехрядным и, зарядив себя портвейном из «огнетушителя», завидев во дворе монашку, орал на всю деревню, раскрылив во всю ширь ворота:
— Мотай отсель, опиум для народа! Катись, катись!.. Святоша! Нагулялась с вербованными?! Теперь грехи замаливаешь. Истину ищешь? А она вот! — он хватался за мотню, ржал: — Ха-ха-ха!..
Деревня покатывалась со смеху, в который уж раз наблюдая бесплатный концерт. А Ефимия, как ошпаренная, выскакивала с подворья сеструхи, мелко-мелко крестясь, не шла, а бежала к остановке, гася одышку от волнения: «Свят, свят! Господи, прости ты душу грешную!.. Дьявол в мужика вселился!» — про себя твердила она молитвы, боясь оглянуться на громилу, стоявшего посреди улицы в рубахе нараспашку.
Марфа, обложив мужа всячески, провожала сестру до автобуса, обещая помолиться в Атамановке за безбожника мужа и принять на себя его грехи.
— Ты уж прости меня, Фима! Куда денешься?! Жизнь вместях ведь прошла…
А в глазах покорности не было.
Зоя все думала об этом, но решиться не могла на этот шаг, зная, как воспротивятся все в доме, а особенно сыновья, воспитанные на березинских дрожжах. Так и жила, мучаясь, до сего дня на распутье, вспоминала мужа, соорудив вокруг себя стену. «А стеночка-то рыхлая. Ткни и развалится, — думала она. — А покоя нет!» Теперь-то она знала, отчего военные вдовы не искали в большинстве своем нового счастья, в новом замужестве. Боялись они оскорбить не только память любимых, а больше всего стронуть нажитое в согласии и любви душевное тепло, хранившееся в глубине души, навечно запавшее в сердце. Так и Зоя боялась растерять все, что было приобретено с Березиным Александром Петровичем там, на зоне в Марьинской каторге, и тут, уже на воле…
Несмотря на строгую замкнутость, почти монашескую жизнь, Зоя исправно работала в больничке и по дому, не старела, а как ни скрывала, красота из нее так и перла. Словно не было за ее хрупкими плечами тюремных камер, тесных, воньких и душных, изнуряющих скотских этапов, жуткой каторги и гибели двух мужей, которые были для нее одинаково дороги. Где-то в золоте волос прятались серебряные нити, словно воробушки в копне. «У рыжих кровь бурливая, как Бересеньские стремнины, — успокаивал родню Ветров. — Не трожьте!.. Переборет все невзгоды». Родовую силу со счетов скидывать не надо, но скорее всего, радость материнства, испытанная ею дважды, хранила ее от всяких подлых ветров, вдыхая новые жизненные силы в рыжую кровь, не давая угаснуть, рассеять морщинки возле красивых синих глаз и иссушить ядреное женское тело, познавшее чистую услаждающую любовь и грязь лагерных закутков. Даже годовая полнота ее красила. На завистливые взгляды и восклицания местных баб наигранно отшучивалась, пряча в глубине глаз пережитое:
— Я же, бабоньки, полжизни на диете сидела! — и уже со скрытой злобой: — Похлебали бы вы баланду, может, пузо-то и спало…
Текло безжалостное время, как река в своем ложе, сглаживая донные наносы, обихаживая чистые песчаные плесы, сверкавшие небесной голубизной, отражая зеркально берега, неся неубывающее водное богатство. С человеком все по-другому. Память порой въедлива. Но все же сердечные и душевные раны Зои Березиной омывались со временем, таяли льдинки, вкрапленные в живую ткань пережитым. Но память, память!.. И вот сейчас, стоя возле раскрытого настежь окна, она почему-то первым вспомнила тот день и час, когда почтальонша принесла казенный серый пакет, запечатанный под сургуч, как великую тайну, где лежал долгожданный ответ на ее запрос, сделанный еще при жизни Александра Березина, сообщавший корявым чиновничьим языком, бездушным, как придорожный камень, о том, что она и вся родня до седьмого колена со стороны Егора, ее первого мужа, и ее мать, отец и братья по крови, репрессированные в тридцать седьмом и роковых-сороковых, реабилитированы полностью «за неимением состава преступления…» Вот так-то?! Все просто… За неимением! А людей-то не вернешь! И их жизни оборвались в кровавых застенках. Тупая боль, словно кто-то медленно теснил сердце, разлилась по жилам, ударила в голову до потемнения в глазах. Зою качнуло. Она ухватилась цепко за угол стола. Алексей подхватил ее за локоть, с болью глядя в изменившееся до неузнаваемости лицо однокашницы. А она, с трудом дочитав длинный ряд имен и фамилий родни, загубленной в ссылках и лагерях, приставленных к стенке, побледнев до мертвенности, со злобой, вспыхнувшей внезапно губительным огнем, кинула бумагу на стол, молча собралась и ушла в больницу, закаменелая в боли и невосполнимой утрате. Вслед устремились Катерина и старший сын Зои Александр, но Петр Семенович преградил дорогу клюкой:
— Не трожьте ее!.. Выходит, правда-то горькая, как полынь! А ты, Алешка, все маешься, — повернулся он к зятю. — В забытьи да незнании, видать, лучше. Ох-хо-хо!.. Жизня, как зажитая рана. Забылась, а рубцы все точат душу…
Березин, сморщившись, как от кислого, ушел на зады мочить в старице лыко для вехоти. А у Зои тот день не выветрился. Известие оказалось еще страшнее, чем она думала. Память четко высветливала, как бежала по прогону, а туман кроваво наседал на синие глаза, полные слез. А как очутилась в больничной кладовке, выпало. Только рыдания: «Вот и кончились мои заботы, — твердила она, не слыша, как просили открыть дверь санитарки, приметив ее ошалелую. — Вот и все!.. А Саша предупреждал… Все сбылось!..»
И спустя уж сколько лет мысли все время неосознанно натыкались на тот день. И все время думала и с болью решала, простить ли ей тех, кто посягнул на ее свободу зряшно, на жизнь, близких, в одно мгновение отобрав счастье, смешав с дерьмом человеческие судьбы, превратив в бессловесные существа, ступающие изо дня в день по краешку могилы. «А Саша бы посоветовал простить, — думала она частенько, вспоминая мужа, непримиримо боровшегося всю жизнь с врагами народа. — А Егор… никогда!» — Почему-то теперь оба мужа вспоминались завсегда вместе, будто шли по жизни рядышком, плечом к плечу. Разные они были: один — невинно репрессированный, а второй — его охранник, но оба пали от одной пули, отлитой для врагов. Развела их судьба, хотя закончили в разное время одно и то же училище…
— Никогда не забуду и не прощу! — страстно прошептала Зоя, вздрогнув, как от озноба. — И что на меня в последнее время напало?! То радость, то чернота. Как будто меряюсь…
Звуки со двора и улицы отринули ее от жаливших душу воспоминаний. Но не надолго. Петр Семенович, сосредоточенно насаживая на липовый черенок метлу из чилижника, стучал концом об угол дома, морщил лицо от пыли, огрубело говорил дочери:
— Брось ты, Катька, эти корзины в печку! Все толку больше будет. Им уж в обед сто лет… Налажусь вот за талом и наплету.
— Когда еще наладишься? — укоряюще откликнулась Катерина. — Все обещалки… А в луга с чем идти прикажешь?! В подол, что ли, собирать? — выбивая палкой пыль, мельком глядела на вертолет, зависший в небе над хребтом, блестя на солнце, как будто зеркальная стрекоза. — Трассовики вон летают… Можа, и нам обрыбится газ к осени. В поселке уже трубы положили…
— Хо!.. Держи карман шире! — насмешливо выкрикнул Петр Семенович, выходя за ворота и ширяя метлой по тропке, вздымая пыльный вихрь.
«Жизнь течет и меня задевает, — Зоя судорожно вдохнула свежесть розового утра, всеми силами пытаясь отрешиться в такой час от всех дум, так часто преследующих ее и выматывающих силы. Мне бы Алешкину волю! — с густой тоской в сердце позавидовала она Ястребову. — Может быть, и страдает не меньше меня, а подшучивает, вспоминая тяжелое прошлое, как будто это была не каторга, а санаторий. Ему-то уж маяться не грешно. Камень. И я ведь такой была. Сашина смерть меня подкосила. Оказалось, что прошлое кануло в Лету, но не отпустило… Все известно и видно, как в пустынной степи поутру, пока солнышко не подняло от земли марь и не затмило пустотелую гладь. — Зоя опять вздохнула. — Никто уж не встанет… — мысли бежали и бежали бугристо, словно избитая колесами дорога, постепенно подводя ее к тому, что так взволновало попервой. — Я-то живу!.. — она положила ладонь к тому месту, где билось возбужденное сердце. — Саша вернул меня к жизни!.. Избавил от каторги!.. Дал волю!.. Так зачем же я хороню себя?! Видать, правы все?! Но не могу я!..» — вырвалось напоследок со стоном, с какой-то отчаянной болью.
Первый побудный заводской гудок, басистый и ровный, взбалмошным эхом ворвался в тишину деревни, прокатился, стелясь вдоль берега, вытаскивая рабочий люд на смену. У Трифоновых сразу же громыхнула железным засовом калитка, а следом выплыл на улицу густой бас хозяина:
— Ну что за баба? Лезет со своим уставом. Вернусь вскорости. Засуха!.. Раму налажу…
— Уж на пенсии! — тонко голосила Марфа, выплывая из калитки следом. — А все ходит и ходит! Мало ему в деревне собутыльников. Поди, дружков наведать идешь? Только приди у меня на рогах, я их те кочергой посшибаю… Дров нет…
Трифонов в пику жене смачно матюгнулся, приказно выкрикнул:
— К завтраку чтобы было! Да бычка не забудь привязать в проулке на кол. Опять лови его в Атамановке. Ушлый больно!.. — и ворчливо себе под нос: — Пенсия! Кабы не завод, хлебала бы затируху. Хи-и-и!
Трифонов залихватски нахлобучил кепку на затылок, попер щегольски вдоль порядка. Руки в накладных карманах синих джинсовых брюк, купленных в районном спецмагазине за две сотни. Все ему трын-трава, хотя годки уже напоминают о себе. Поравнявшись с соседом, все еще краем уха вслушиваясь в балабол жены, подпирающий его в спину, поздоровался:
— Здорово, Петя! Марафет наводишь? Кольку ждешь? Носом чую, гулянка назревает…
— У тебя нос, как вертун…
— Ну у тебя шнобель тоже по ветру ходит. Ха-ха-ха!
Петр Семенович, пыхнув дымом, снисходительно улыбнулся. Прижав черенок метлы к боку, ответил не спеша:
— Надоть порядочек навесть. Можа, Колька и пожалует на проводы племяша. Хламеет все… Даже детей арканом не затащишь навестить родителей. Сашка вон с девками никак не распрощается. Алешка в делах… Ты больно-то не фитили из деревни. Гульнем!
— Такие дела я еще никогда не пропускал, — ухмыльнулся Трифонов. — Чего-чего, а это! Гулянка — не работа, хребет не переломит. Ха-ха-ха! Алешка ничего не говорил насчет газа? А то дрова эти замучили. И печка, как прорва!
— Без забот, — недовольно отозвался Петр Семенович. — Вон и бабы мои про это же талдычат. А на хрен он мне сдался! Печку ломать не дам. Молодые пусть себе чай кипятят. А мне бокам тепло и щички с загнету… Газом баню не протопишь.
— То верно, а все же! Ну, бывай…
Зое хорошо было видно из окна, как Трифонов по-молодецки шевеля широченными плечами, уверенно топтал проселок, огибающий завадину старицы. «Вот мужик! — в который уж раз восхищалась она, отвлекаясь снова от дум. — Вся жизнь в трудах. Да каких! В славе и водке купался, как карась в озере. Завистников наживал… А «телегу» на него никто не накатал… И все его выходки прощались. Чудно устроен мир!.. За неосторожное словечко — червонец отваливали, а он с трибуны, прилюдно, крыл матом начальство и власти да еще золотые медальки получал. Может, так только и выжил. Понять трудно».
Петр Семенович вскоре вернулся во двор. Завидев разнагишанную до белья Зою в проеме окна, встретив ее испуганный взгляд, выкрикнул, подмигнув озорно:
— Картинка!..
Зоя отпрянула, прошептала:
— Господи!.. Голышом выпялилась!..
Хотела юркнуть в свою вдовью комнатушку, но на глаза попался большой портрет Сталина, в массивной раме, крашеный под золото, привезенный Алексеем из Темирязевки еще в те годы, когда после смерти вождя сносили памятники и сжигались изображения. Алексей с любовью втиснул его в простенок меж углового переднего окна и навечно пришил к стене половыми гвоздями. Зое мешал он, как заноза! Ее всегда тянуло выткнуть чем-то острым эти чуть прищуренные глаза, с добрыми морщинками, по воле неизвестного художника светившиеся душевностью и мудростью. Но жалко было обидеть и расстраивать Алексея. Убьет запросто за этого ненавистного ей человека. Она еще помнила рассказы о том, как среагировал Алексей на карикатуру вождя в Яме. «Эх, Леха, Леха!.. Товарищ ты мой верный! Судьба у нас схожа, а вера разная! Я молюсь богу, а ты дьяволу!» — пронеслось в мозгу с горечью. С трудом отводя взгляд от завораживающих глаз вождя, с болью перебарывая ненависть к этому человеку, хрипло вымолвила:
— Березины все сталинисты… Попробуй скажи!..
Поредевшая голубика глаз женщины светилась колюче. Как все быстро изменилось. Померк тот чудесный свет, излучавшийся утренним солнцем. Куда-то утекли запахи, перемешанные с весенним разноцветьем, и туман, непродыхаемый и горький, застил все вокруг. Проглотив вязкий ком в горле, Зоя понуро ушла к себе, плюхнулась на разобранную кровать, втиснув ладони меж горячих коленей, уставилась в стену, оклеенную розовыми обоями. И выпукло, словно наяву, перед ней выросла другая стена из крупных замшелых камней, изрытая дождями, ветрами и сибирской стужей за века, словно оспинами…
Зоя тряхнула головой, но видение не исчезло.
— Вот прилепилось наваждение не ко времени! Тут Сашку провожать, а я вся там! В том далеком и черном!.. — шепоток тек изо рта с придыхом, словно не хватало в груди воздуха. Зоя тревожно прислушивалась к своему сердцу, в котором точилась боль. А видения того далекого не исчезали, а становились все явственнее и явственнее. Так появляется на фотографической бумаге изображение. Да!.. Она хорошо помнила ту стену, по которой они с Егором сумели взобраться ночью незаметно от этапной охраны, сторожившей шаляй-валяй карантинный «заповедник», на козырек, утыканный битыми стеклами, железными шипами и окутанный ржавой колючкой, на которой остались тюремные ватные робы. Охрана после тяжелого пешего этапа по таежным дорогам приняла на грудь, да и понадеялась на стены… А Зоя с Егором, оставив за собой клочья окровавленной одежды, спрыгнули в запущенную запретку и ушли в темень.
Было пасмурно и туманно. Сыпал и сыпал уж которые сутки назойливый холодный дождь. Предосенье. Ночь впереди была тиха и без проблеска жизни. Как будто кругом была вечная пустота, и они одни среди безлюдья. Тревоги пока не было слышно. Лишь в беспросветной мгле горели огни централа за спиной да шарили в стороне прожектора, сине высвечивая реку. Слышался вялый собачий лай, да откуда-то из темноты, словно из-под земли, монотонно сочилась песня. Слова доносились рвано, мято:
Тюрьма… иркутская большая, Народу в ней… не перечесть. Ограда каменна-а-а высока, Через нее не перелезть…— На пищеблоке бесконвойные придурки картошку чистят, — прошептал Егор, оглянувшись. — А мы клали на эту стену!.. — Егор крался на шаг впереди вдоль кособокого тына по зарослям отцветающей лебеды и репейника, нетерпеливо подзывал то и дело отстававшую Зою: — Ну, что же ты?! Пока вохра не всполошилась, надо уйти подальше в тайгу!.. А там воля, женушка-а-а!
У Зои перехватывало дыхание от волнения и страха. Горький полынный вкус едуче застывал на губах. Ноги, измученные и избитые в этапе, изорванные стеклом и проволокой на стене, подгибались в коленях. И волочилась она следом безвольно, вяло, словно во сне, горя желанием, чтобы побыстрее закончились эти муки. Любой конец ее устраивал. Протягивая израненные ладони к мужу, просила надрывно и со слезами:
— Егорушка!.. Ослабла я в этапе… — жарко рвалось из ее рта. — Попить бы!.. Уходи один, Егор! Уходи!.. Я гирей на тебе вишу! Уходи!.. Закаменела… — тут же переходила на повизгивание, похожее на собачье: — Не дойду я!.. Страх меня переборол. Оставь! Я сдамся добровольно… В штрафняке как-нибудь переживу. А ты иди.
Егор останавливался, поджидал:
— Крепись! Мечта вот где! — он сжимал кулак. — Ты же всегда была сильной и отважной! Идем, рыжая!..
Он раскачивался маятником, тяжело и с легочным хрипом дышал, сплевывал горько-кислую кровь. На лице тень чуть-чуть прикрыла злобу. Он скрипел зубами, кроша изъеденную тюремной баландой эмаль, ругался матом и по фене…
К утру они благополучно миновали выселок и ушли по холодному ручью в сопки. Зоя часто припадала к земле, просила, вызывая у Егора еще большую злобу, накопившуюся в застенках.
— Не могу больше! Оставь!..
— Никогда! — он тащил ее на себе, волочил. — Не сдамся и тебе не позволю! Умрем вместе за глоток свободы! Доберемся до глуши, а там можно переждать. Не такое бывало в Испании, — он насильно улыбнулся.
В тайге остро пахло папоротником и хвоей. Они лежали на лесном подстиле, грызли кедровые орешки, выковыривая их из смолянистых шишек ногтями. Ветер бежал по вершинам, сыпал на головы лесную труху. Напившись из ручья, Зоя оживилась и дальше пошла бодрее…
Их выдал спустя неделю местный активист, промышлявший в тайге ловлей беглых. Казалось, вот она, волюшка, и расслабились, доверившись подлому человеку. Заманив их на ночь в заброшенный омшаник, еще таивший в себе слабые запахи воска и меда, прикинувшись бывшим зэком, пообещав к утру достать лодку и провизию, навел патрулей, рыскавших по тайге.
Чутким ухом Егор услышал тревожный далекий собачий лай и цоканье подков по каменистой тропе, кинулся к широкому проему двери. Полянка перед строениями была пуста, но вдалеке, в разрыве лога, на фоне тайги промелькнули верховые. Егор понял — это по их душу.
— Все!.. — прохрипел он. — Амба!.. Зоя, подъем! Быстро уходим!.. Нас предали!..
Им удалось проскочить от облавы за увал, густо поросший стлаником, но за спиной все время слышался отдаленный собачий лай и бухали выстрелы. И только к вечеру, когда солнце зашло за гребень голого хребта и тень медленно сползла в долину, неся с собой запахи ранних августовских рос, вконец обессиленных их настигли в топкой болотистой пойме небольшого озера, окруженного камышами, тальником и калинником. Крупная горькая ягода уже рдела с боков розово, тяжестью налива пригибая ветви ко мхам…
Патрули уже рядом. Впереди остервенело рыкал темношерстный кобель, оскалив крупные желтые клыки, натасканный на кровь. Другая овчарка, взбугрив рыжий загривок, обходила сбоку тихо, тесня их в озеро. Верховые солдаты, выскочившие из-за опушки, увидев беглецов, травили собак:
— Улю-лю! Белка, Трезор… взять!..
— Ребята! Они наши!.. — радостно кричал чернявый верховой, похожий на калмыка. — Ха-ха! Добегались?! Сейчас потешимся!..
— А ну, сучье вымя, вылазь! — надсаживал сиплый голос квадратный старшина, видать, старший в отряде, на ходу ловко скатываясь с седла и торопливо передергивая затвор кавалерийского карабина. — Вылазь, а то уложу!.. Ребята, скачите к тому берегу…
Вода уже доходила до груди, обнимая холодными обручами. Зоя и Егор медленно отступали к камышам, понимая, что уйти уже невозможно.
— Рванут за камыши! — визжал кто-то из патрулей. — Они, как броня, пулю срикошетят. Тогда опять гоняться. Стреляй, старик! Товарищ старшина!
Выстрел вспугнул озерную тишь. Громкое эхо полоснулось во влажном воздухе, тягуче поплыло вдоль берегов, сорвав в другом конце стаю чирков, и затерялось где-то в краснотале. Пуля совсем рядом с противным чваканьем прошила большой зеленый лист кувшинки.
— Прощай, Егор! — Зоя припала к груди мужа.
— Ныряем к камышам… — Егор не устоял на топком дне и медленно ушел с головой под воду, всплеснув руками. Вторая пуля взбугрила поверхность озера чуть правее.
— Стрелок, мать-перемать! — выкрикнул чернявый. — Дай я!..
Зоя пыталась нырнуть следом за Егором, но вода ее не принимала, выбрасывала наверх.
— Гля!.. Баба-то, как гусыня!.. Ха-ха-ха! Задок не тонет! А мужик где?!
Голова Егора тихо вынырнула перед стеной камыша, и сразу же руки замелькали в саженках. Залп из шести винтовок взбугрил воду, и поплыли кровавые пузыри… Зоя страшно закричала и легла на воду лицом кверху. Низкие темные облака стремительно неслись с севера на юг, бросая в глаза едучую морось дождя, мешаясь с солоноватыми слезами. Ничего ей в этот момент уже не хотелось: ни воли, ни жизни. Лечь бы на дно и успокоиться тихо, как во сне…
— Один готов, — вяло подытожил старшина. — Степан, вылови труп, да бабу тащите сюда. Смотри, не зашиби. Двух мертвяков до комендатуры не больно сладко тащить. Кони приустали… А эта стерва сама доплетется…
Белобрысый солдат кинул коня в старицу, подцепил труп Егора за робу, приволок к берегу. Зоя вышла сама…
Оторваться от этих тяжелых воспоминаний было так трудно, что у Зои защемило сердце. И еще пришло на память… К марту за побег ей к червонцу, который она отчалила уже наполовину, накинули четвертную каторги. И там, среди вони и смертей, вдруг нежданно-негаданно появилось светлое пятнышко. Она встретила Алешку Ястребова и кума Березина, злого и жестокого. А все же растопила ему сердце, родив сына…
Оставаться наедине со своими воспоминаниями было невыносимо трудно. Зоя поспешно оделась во все черное и вышла к завтраку последней, с темным измученным лицом, под стать ее платку, прикрывающему золото волос до самых бровей.
«Вроде только что сияла и опять почернела?!» — удивилась Катерина, пододвигая отцу плошку с топленым маслом.
— Монашка, ей-богу! — укорил ее опять Петр Семенович, недобро поглядывая на сноху исподлобья, сосредоточенно делая в гречневой каше колодец для масла. — Жучиха!.. Хоть бы до отъезда Сашки приодевалась. Подумала бы о сыне… Сманит тебя в монастырь Ефимья… Засуха… Не прошибешь!
Зоя как будто не слышала озлобленного замечания свекра. Окинув стол вязким измученным взглядом, еще не вернувшимся из прошлого, тихо спросила:
— Ребята завтракать не будут?
— Проснулась! — буркнул Петр Семенович, немного отходя. — Сашка, тот совсем не ложился. Как пришел со светом, так всю ребятню, от мала до велика, побудил и увел на порог рыбалить. Прощается парень…
Катерина метала взгляды то на отца, уросливо и без аппетита ковырявшегося в чашке большой деревянной ложкой, то на Зою, несгибаемо державшую голову, замечая, как у отца начинает потихоньку рдеть на щеках краснота и недовольство застыло в глазах. «Сейчас батю прорвет!» — озабоченно подумала она, на всякий случай подальше отодвигая от отца чугунок с кашей. И чтобы разрядить напряжение, нарочито весело затараторила:
— Ой, забыла! Дядьку Матвея Сонька вчерась из больницы привезла. Может, позовем ее в луга, Зоюшка? А то она, поди, забыла, как трава растет…
— Че это?! — поднял удивленные глаза Петр Семенович. — Каждый год в отпуск приезжает? — Голос у него скрипел раздраженно и сухо. «Влезла со своим уставом. Анна вчерась в дом не пустила. «Отдыхает Матвеюшка с дороги!» — мысленно передразнил он сестру. — Ба-а-а-рин! От-ды-ха-ет!.. Тьфу!»
— А ребята с собой пирогов набрали, — продолжала талдычить свое Катерина, будто не замечая ворчания отца. — На горяченькое поспеют… Да че там, — Катерина взмахнула полной рукой. — Бывало…
— Не изголодаются, — перебил ее набитым кашей ртом Петр Семенович. — Адвокатша!.. — Наконец-то он поднял голову, глянул в бледное, но еще больше красивое лицо снохи. Неприязнь соскользнула, как подтаявший снег с крыши. Любил он Зою! Даже, наверное, больше, чем своих родных детей. «Да пусть хоть в дерюге ходит, лишь бы отошла от боли. Сколь лет, как Сашки не стало!» И голоса-то ее уж вечность не слышали! — прошила сознание жалкая мысль. — Куды все подевалось?! Как на погосте!.. Шпыняем, а нет бы помочь человеку. Живем на свой лад и черствеем!..»
Петр Семенович расстроился еще больше. В сердцах отодвинул свою чашку, хромая, поспешил во двор и там сразу взялся за колку чурбаков, гневно швыряя поленья поближе к поленнице, неистово ворочая белками больших глаз, бормоча что-то себе под сычиный нос.
Бабы прикончили завтрак при полной и гнетущей тишине. Каждая прислушивалась, что там творится на дворе, по-своему переживая за отца, ставшего в последнее время особенно нервным. Но там тупо ухал колун, звенели брошенные в кучу плашки. Зоя, сдерживая притворную скуку, зевнула и осталась в избе мыть посуду. Катерина, поглядев на нее, ухмыльнулась. Накинув на голову шелковую косынку в желтых цветах по белому полю, пошла к Ветровым за сестрицей, кинув на ходу:
— Ты больно-то не размывай… Выходить пора…
— Ладно.
Вышли на луга, чуть припозднившись. Поселковые бабы уже давно рассыпались по лесу. Зоя что-то подозрительно долго возилась в избе, думая перед зеркалом: «А я ничего еще! Монашка! — она ухмыльнулась. — Переодеться или в этом идти?!»
— Ты там пристыла, что ли? — встав на завалинку, Соня заглянула в окно и тут же присела. — Никакой дисциплины… Строем вас надо муштровать, лежебок! — спрыгнув, подойдя к Катерине вплотную, прошептала: — Баба-то возле зеркала красуется!
— Ой! Че-то будет! — всплеснула руками Катерина. — Она мимо трюмо-то пробегала, как ошпаренная. — Ее любопытство толкнуло к окну, но вышла Зоя, скрывая улыбку.
— Чего примолкли-то, сплетницы?
Те растерянно переглянулись.
Через пять минут бабы тронулись гуськом по прибрежной тихой тропке вверх по Бересени, тихо переговариваясь. Петр Семенович долго глядел вслед, потом крикнул сипло:
— Дальше большой гривы не забредайте! — но строгости в голосе не слышалось. — Еще блуданете… Ищи потом вас! Да и Алешка ноне обещал не задерживаться… Колька, может, доспеет к вечеру-то. Чать, хватит ему по столицам-то шастать. Пора уж проведать родню-то. Спуститься с горы! — гордость проглядывала в его речи изо всех швов. А как же: сын в обкоме и не на последнем месте! По радио о нем говорят. Правда, не так хвалебно, как тут. Глядя, как колыхаются макушки рябинок на слабом ветру, подумал: «Ежели Зойка оглянется, то думает про Кольку! Эх, спариться бы им!..»
Зоя приметила для нее одной направленную скрытность в словах свекра, не оглянулась, хотя тянуло. Затаив в уголках рта непонятную улыбку, она со страхом подумала о том, как полыхнули ее щеки. «Господи! Что бабы подумают?! Таюсь, а душа рвется!.. — Она поспешила вперед. — Батя все еще старается соединить нас с Колей… А я совсем не та, что думают. Живая!.. Сашу, Егора вспомнила, от того и раскраснелась. Любовь не забывается… Недавно Березин приснился. Да так сладко! Весна меня эта подхватила!» Зоя оторвала взгляд от узкой тропки, нырнувшей в чилижник, укрытый полураспустившимися листочками, повернула голову на реку, буйно катившую свои воды мимо черемуховых берегов, пахучей белью рассыпавшихся по скатам гор, упиравшихся в самый урез. Буро-зеленые таежные россыпи шелестели от лопавшихся почек…
Так, шагая впереди товарок, о чем-то громко судачивших, Зоя опять вспомнила ту страшную осень. Марьинское… Цинковый гроб, в котором лежал мертвый Березин… Долгая дорога на Урал из Казахстана. Похороны, и то, как бережно и чутко относился к ней Николай. Давно она примечала, как равнодушие покидало мужика. Да и отец на пристальные подглядки сына не раз выговаривал со злым придыхом, прижав к стене сараюшки: «Ты, Колька, на Зойку не больно пялься! Сашка узнает… Не хватало еще бучи среди сыновей.» «Да ты что, батя?!» — виновато сипел Николай, отводя масленый взгляд. «То-то что!.. Вижу — не слепой! Зойкины коленки тебе белый свет застят. Только не про тебя они круты…» И тут еще вспомнила, как однажды прорвало Николая Петровича. А случилось это в то время, когда она уже родила Егорку, названного в память о первом муже. «Пусть обое имена будут на слуху!» — обрубил спор Петр Семенович. И уж справили годовщину смерти Александра Петровича Березина, и полетели белые мухи с хребта, не дождавшись октября. Бересень в том году как-то за одну ночь налилась холодом. Вот-вот зазвенят закраины. И в такой пасмурный и ветреный день заявился Николай Петрович в Бересеньку. Не снимая волчьей дохи, с порога, еще не успела захлопнуться дверь за ним, прилюдно заявил, как будто давно уже все было оговорено:
— Собирайся, Зоинька! Поедем в Темирязевское… В загс… А потом свадебку закатим! Ну, чего рты разинули?! — окрысился он на домашних, сидевших за обедом.
Это напористое поведение Березина застало всю семью врасплох. Зоя даже вскрикнула и схватилась за сердце. Мертвая тишина на мгновение повисла под потолком. Только малышня неслышно хихикала в ладошки. Поглядывая на жилистые дедовы руки, нервно затрепетавшие над столешницей, внук Сашка рваным тенорком отозвался:
— Во дае-е-ет, дядька!
Это восклицание вывело Петра Семеновича из оцепенения. Он тут же отвесил внуку подзатыльник, чтобы не лез вперед батьки, приподнялся на костылях, растопырившись, как ворон на коньке в дождливую погоду, повел рукой:
— А ты разденься, сынок! — голос отца рвался. «В разнос пошел, кобелина! Поди, для смелости-то пузырь раздавил. Теперь, как неука попер ломом… Не на ту ты нарвался, сынок!» — буйным ветром пронеслось в мозгу, а вслух тихо и вкрадчиво продолжил: — Разговор так не ведут, Коля. Надоть все чин-чинарем! А ты с ходу… Ни здравствуй, ни прощай! С маху-то и лесину не валят. Обихаживают…
— Братушка! Ты разденься и посиди с нами, — подскочила Катерина к брату, цепко хватаясь за полы дохи, мельком оглянувшись на помертвевшую Зою.
Николай Петрович потихоньку отстранил сестру и сделал короткий, но увесистый шаг вперед, словно на ногах висели гири. Все ожидали, что он сядет на стул, торопливо и услужливо пододвинутый отцом, но тот остался стоять и заговорил гс надрывной обидой:
— К чему это ты, батя, лесину приплел?!
— Так… к слову.
— Нашел с чем сравнивать! Люблю я Зою!..
Петр Семенович что-то промычал, плюхнулся на стул, грохнув костылями. Алексей порывался что-то сказать, но Зоя перебила его:
— Погоди, Леха! — Она со строгим, каким-то закаменелым лицом подошла вплотную к Николаю, обдав его голубой завесой прищуренных глаз. Тот даже зажмурился. И выдохнула прямо в лицо: — Ты-то, может быть, и любишь, Николай Петрович! — голос ее еще больше огрубел и стал нагловато-развязным, как бывало на зоне. — А я?! — она с поспешной живостью спрятала выбившийся из-под платка непослушный золотой локон, рвавшийся на белый свет, как жар-птица, еще больше сморяя мужика голубизной сухих глаз. — А ты меня спросил?! — и уже нежнее и растроганнее. — Вот увез бы ты меня в тот день… После похорон… Тогда, может быть, с горя, я бы была твоя! А ты побоялся… Сейчас уж поздно огород городить, когда все потравлено. Иссохла я! А люблю Сашу! Не майся…
Дверь еще долго стонала, и сыпался с потолка белый меловой иней, припорашивая крашенный желтой краской пол. Алексей чуть не опрокинул свою тарелку со щами, кинулся следом.
— Николай Петрович! Николай… Ну, подождите же вы!
Уазик вырвал заморевшую в холоде траву-мураву на прогоне и умчался через мост на тракт. Алексей поглядел на то, как бешено шла на подъем машина, подумал: «Еще грохнется! Ничего! Остынет Березин. Вот нашло на мужика! — он усмехнулся, поежившись от студеного северного ветра, бегущего по Бересени и вздымавшего беляки, и пошел в сени. — Как теперь будет вести себя?!»
И верно. С того дня как обрубило. Николай Петрович стал бывать в деревне редко, хотя и заманивал его Алексей банькой. Так, заскочит на минутку, как на побывку, да и то украдкой от Зои. Петр Семенович ругался ожесточенно на сына:
— Дубина стоеросовая! Сам себе дорожку дерьмом завалил. А теперь прячешься. Мосты надо было строить, а не ломать, как ты!
А через годик, когда стало ясно, что с Зоей ничего ему не светит, да и хирел вновь созданный комплекс, не справляясь с планами, которые Николай Петрович сам взгромоздил на свои плечи, жаждуя славы, он укатил неожиданно для всех в область, пристроившись в обкоме партии…
Солнышко грело и нежило, растопляя горемычные мысли, особенно затопившие нынче голову с самого утра. «А что мне делать? Веснянка ко мне в душу забралась, не спрашиваясь. А сердечко плещется, как рыбина на мели! На проводы Сашки уж наверняка прикатит. Любимый племяш уходит на службу. Боже, как время течет! А возможно, и не приедет. Обида, она как липучка…»
Навстречу шли бабы с лугов с полными корзинами зелени и грибов. Девчушка, чуть постарше Сашки, весело проговорила, играя глазами:
— Тетка Зоя, а твой Сашка обещал меня в луга сводить. А сам обманул.
Зоя ничего не ответила. Усмехнувшись, прошла мимо. За нее отмахнулась Катерина, подмигнув бабам:
— Тебя, Дуняшка, уж давно Сережка Логинов по лугам да сараям таскает! Распутная ты!..
— А ты видела?! А ты видела?! — затараторила та, скрытно насмехаясь.
Бабы смеялись. Бабка Боровиха, грохоча подкованными сапогами по щебенистой тропке, проговорила язвительно, стараясь хоть как-то защитить внучатую племянницу, каждый раз прикрывая ее славу:
— Спать вы горазды, Березины. Кто за вас пойдет… У Дашки жених из городу. А Сашка ваш!.. Фулиган!..
Катерина так и села от смеха. Соня улыбалась, помалкивая. Зонного лица не было видно. Поселковые прошли мимо, шумно обсуждая что-то, забыв сразу же короткую стычку. Никого это уже не удивляло. Может, полвека шла между Боровихиными и Березиными явная и скрытая борьба. А началось-то все из-за того, что когда-то, еще в двадцать первом году, молодой Петька Березин подпортил репутацию старшей дочери Боровихиных, живших тогда в Айгирском хуторе, где ныне стоит завод, а женился на казачке из Атамановки. Отец Павлины грозился с полным серьезом:
— Убью при случае красненького!
Но смерть миновала удачливого Березина не только в любовных делах, но и на поле брани. А вот род Боровихиных из-за красных поредел порядком…
Никто не знает, что ждет человека во все времена жизненного пути. То ли долгая и счастливая жизнь, то ли недобрая смерть. Много жизнь скользила по краю пропасти, но кони Березина Петра Семеновича всегда проносили мимо того края, за которым уже ничего не было…
2
С утра уж потихоньку перевалило солнышко хребтину, мохнатую, как волчий загривок, и заиграло по реке искорками. Петр Семенович, проводив женщин, вернулся на хозяйство, которое стояло еще крепко, не в пример соседям с уличного порядка. Ворчливо упомянул зятя, оглядывая подсевший пристрой, за то, что Алексей пожалел цемента под фундамент, и тот не устоял под срубом. Потом он затопил баню для внука. «Уж я тебя, Сашок, ноне так попарю, что до конца службы помнить будешь! — обещал он мысленно. — Хоть и баламут, но все в нем наше, березинское!.. Крепче нашего рода во всей округе не сыщешь по банному делу. Да что там?! Сам Назаров вылетел с полка, как птичка. А в армии разве баня? Так себе… Помывка с тазика! — Петр Семенович, шуруя в топке кочергой, вспомнил свой первый санпропускник в Свердловской переформировке, когда снаряжались да ждали с нетерпением отправки на фронт, усмехнулся: — Вода под кранами замерзала!»
Труба на крыше бани выдохнула из нутра каменки столб смолянистого дыма, сразу растаявшего в вышине неба. Петр Семенович крякнул удовлетворенно, покуривая, вышел за ворота. Трифонов, уже вернувшийся с завода, пилил «Дружбой» выловленные из реки бревна, пока не хватились их запанники, подбиравшие выносы в самую полую воду. Треск расшатанного старостью движка настырно лез в уши, надрываясь в насквозь промокшей древесине. Жена Марфа, обсыпанная с ног до головы тяжелыми опилками, источавшими запахи сырости и подгнившей коры, придерживала коротыши длинной вагой, одним концом заряженной под огромный валун.
— Выпить бы! — прошептал Петр Семенович, сгорая от нахлынувшей внезапно скуки и безделья, глядя на то, как постепенно горячие языки мари лижут боковину утеса. — Да где взять? В поселковом магазине шаром покати… Один уксус. А все к коммунизму идем. Долго больно. К Матвею лучше не суйся. Аннушка даст от ворот поворот.
Петр Семенович разнюхал, что на проводы племянника Алексей добыл где-то ящик портвейна и четверть спирта, но Катерина так припрятала выпивку, что семи собаками не сыщешь. На что уж у Петра Семеновича на это дело было особое чутье. «В мать пошла! — дивился Петр Семенович. — Та, бывало, запрячет — не найдешь, хоть миноискатель бери. Но куда же она ее дела?! — вертелась назойливая мысль, заслоняя все другие, свербившая уже с неделю и не дававшая работать по хозяйству. — Приедет или не приедет Колька? — с трудом заставил он себя думать о другом, пожалуй, более важном, задевавшем сердце и душу с того дня, как вернулся с фронта. — Зойка не хочет… Если бы хотела, так давно бы заарканила. А как все провернуть?!» Опасно затянувшаяся холостяцкая жизнь сына раздражала. И тоску как рукой сняло, беспокойство о судьбе этих двух людей, самых дорогих и близких. Тут же припомнились похороны старшего сына; Зоя, повисшая у Николая на руке, и тогда сердце ворохнулось надеждой, но не суждено. Жизнь, как ни верти, а течет своим берегом. Петр Семенович сморщился. Нежданная слезинка скатилась по морщинистой щеке, запутавшись в заиндевелой щетине. Растопить тоску-печаль чем-нибудь горячительным захотелось еще больше. Раньше хоть самогон курили да бражку ставили, а теперь строго. Срок можно схватить приличный. Вот и подзабросили аппараты. А на торговлю надежды никакой. Хоть вой, а все тоще… С такими думами старик качнулся было на бережок к Трифонову, но тут же передумал, по опыту зная, как взовьется его баба. Он растерянно огляделся. «Вот незадача?! Жизня перевернулась. Выпить даже нечего и негде. Погано все! — подумал он озлобленно, костеря на чем свет стоит власти и главного правителя, стоявшего у руля, нахмурившего крупные черные брови. — Право — броненосец!»
Петр Семенович повздыхал, хотел уж вернуться домой да попить чайку из самовара вприглядку и снова произвести капитальную ревизию самых укромных уголков большого дома, где могла бы скрываться священная влага, но тут же приметил, как из калитки Ветровых вышли Матвей Егорович и Анна.
— Сестрица в поселок намылилась. А уж у Матвея точно есть! Сонька пустой не приедет… — пробормотав, Петр Семенович поспешно юркнул в калитку, чтобы не попасться на глаза строгой сестрице, оберегавшей мужа с той поры, как врачи строго-настрого наказали не баловаться горькой, если хочешь жить. «Брехня все это! — ругался Матвей Егорович, сопротивляясь. — Масло нельзя было есть при Хрущеве, а при Брежневе чай с сахаром и пить водку». — «Белая смерть… белая смерть!» — передразнивал он газетные публикации и наказы врачей.
Матвей Егорович Ветров, отвалявшийся на койке областной ветеранской больницы с самого Сретения, с радостью созерцал родные места, задыхался от свежего горного воздуха, не мог налюбоваться тайгой и рекой, усевшись на лавочку с зарей. Анна еле-еле затащила его в дом на завтрак.
— Успеешь наглядеться-то! Лекарства пора пить.
— А ну их!..
Петр Семенович дождался, когда тропка заведет Анну в рябинник, и только после этого вышел из калитки и круто развернулся к дому свояка. На скрип березинского протеза Ветров живо обернулся. На бледном лице, окаймленном седой бородой, расцвела улыбка.
— Рули сюда, Петька!
Хотя больничка сняла часть боли в ногах и руках, сраженных ревматизмом, заработанным за долгую службу на сплаве, но резь нет-нет да полоснет по жилам. Сморщившись, Ветров взмахнул скрюченной рукой, как корневища старого вяза. У Петра Семеновича ворохнулась в душе жалость. «Ах ты!.. От больницы-то, видать, мало проку. Ишь, как крылится, как подранок. Боль есть ишо. Надо его по-нашенскому как следует попользовать. С Трифоновым на эту тему покалякать. Он хоть и алкоголик, окромя похмелюги ничем не болел, но лечебное дело туго знает. По роду так идет…» Радуясь неподдельно, но с лукавинкой в голосе, Петр Семенович, завопил:
— Здорово, Матвей! А я гляжу — ты это или не ты?! Баб проводил в луга да баньку для Сашки затопил. Дай, думаю, прогуляюсь. Слышал, поди, забрили внучка. А ты тут как тут! На лавочке сидишь. Сразу захотелось разузнать, как там тебя профессора лечили?
— Ох и врун ты, Петька! Вечно был притворой. Че, не знал, что я еще вчерась возвернулся?!
— Знать-то знал! — вяло махнул рукой Петр Семенович, глядя мимо свояка на то, как Машка возле своего палисада сплетничает с какой-то бабой, одетой цветасто. «Цыганка! — пронеслось в мозгу. — Сопрет че-нибудь». — Приходил! Анна на порог не пустила. До тебя, как до министра, надоть очередь занимать. Ха-ха-ха! — Он откинул голову, как гусак, спросил: — Подлечили малость? Что-то долго ты там отирался? Поди, сестрицу подцепил?! — закончил Петр Семенович наигранно.
— Какое! — ухмыльнулся в ответ Матвей Егорович. — Еле-еле вырвался. Не выписывают и все!.. Врачиха еще хотела попридержать, да Сонька вытащила. Насмерть залечили! Весь зад в дырках… Поначалу считал уколы, а потом сбился со счета. Все думал, что сезон без меня пройдет.
— Это так. А то без тебя бы не обошлись, — сменил улыбку Петр Семенович.
— Обошлись бы… Митька приезжал, все сманивал, — Ветров хихикнул. — Как катер спустил на воду, так и заявился с бутылкой коньяка. «Профсоюз выделил, — говорит. — Зачах ты тут. Нако, глотни!» Бутылку выдули. Чуть со славой не вытурили. А Митька засадил занозу. Тут уж не до лечения. Захотелось дохнуть нашенского воздуху. Сонька принесла передачку, говорю ей, вытаскивай меня, а то в гробу повезете… Да и сама собралась Сашку проводить. С Яра-то Митька нас пер на катере. Проходили мимо Синельникова… Аж сердце зашлось! Захотелось повидаться с братками. Да снизу-то уж не подняться!.. Сонька с Митькой лазили… Хочу вашего Алешку попросить, чтобы свозил туды. Жилы мои уж рваться начали. Долго не протяну!..
Голос его страдальчески подсел. Березина поразили ранее не слышанные болезненные нотки. Кровь его взбунтовалась, кинулась в лицо. «Больница сломила!» Даже в суровые годы лихолетья, голода и войн, выпавших на долю этого человека, слезливые и загробные речи не срывались с его языка. Петр Семенович даже притопнул ногой и с неожиданным озлоблением посмотрел в лицо друга, заикаясь от волнения, горячечно выкрикнул:
— Да-да-да… ты-ы-ы это брось! Брось, говорю! Тоже одуванчик нашелся! Я те приведу в состояние костылем! Ишь, разнюнился. Дороги встанут — свезем тебя на Горячие ключи… Погреешься и запрыгаешь…
По лицу Матвея Егоровича резанула смешинка.
— Костыля-то у тебя с собой нет, — проговорил Ветров.
— Дубину вон возьму.
— Не суетись, Петька! Все припарки уж испробованы…
— Эх выпить бы! — мечтательно произнес Петр Семенович, с трудом справляясь с волнением.
— Так бы и сказал сразу, — хихикнул Ветров. — А то поучать начал. Есть заначка. Сейчас вынесу, пока бабы нет. На воле-то приятнее.
Матвей Егорович ушел в избу. Петр Семенович потирал руки. «Потрафило!» Он весело прижмурился на скворешню, прибитую к стволу старой черемухи, из которой призывно доносился писк птенцов, удивился:
— Неужто вылупились? Рановато бы!..
Теплый южный ветер, насыщенный влажными речными запахами, крыл рябью Бересень, словно сталистым панцирем, ласкал лицо, повернутое к Айгир-Камню, под которым вставали тальники, еще совсем недавно пригнутые к земле половодьем, роняя пушистые сережки, похожие на только что вылупившихся утят, густой чередой уплывающих к порогу, застревая и крутясь венечно в «бочках».
Матвей Егорович вскорости вынес бутылку «Столичной», два граненых стакана и тарелку груздей, пахнущих погребом, солонинкой и чесноком, прикрытых сверху кусками пирогов с рыбой.
— Хлеба нет… Анна пошла в булочную, да, поди, уж поздно. А водочку-то Сонька расстаралась.
— Сойдет! — Петр Семенович с восторгом поглядывал на бутылку, вынутую с ледника и слезливо запотевшую. — Анна не говорила, почем купил телка Трифонов?
Матвей Егорович пробурчал:
— Разговору не было. А так!.. На кой мне его цена! Я уж, видно, отхозяйствовался. Баба одна не справится. По-городскому жить буду. На пенсии… Разливай!
— Распустил губы, — бережно обнимая ладонью бутылку, откликнулся Петр Семенович. — Не выйдет, Матвей! В магазинах с месяц уж шаром покати. Скота-то нет… Хрущ перевел. Последнюю кобылку на колбасу пустили. А ты «по-городскому»! Ладно, сняли, а то бы вовсе по миру пошли. Видано ли, за хлебом очереди! А масло вприглядку. Умер бы, а народ не поплакал. Брежнев поначалу наладил, а потом…
— А-а-а, одна кочерга! — отозвался Ветров. — Сколь ни правь, а все кривая. Анекдотов в больнице наслушался. Не чтит народ власть! Не чтит! А это плохо! А ты ведь, Петенька, на Хрущева-то чуть ли не молился. Кукурузы насажал… Да-да… Плакать ни по ком народ не будет. Это не Сталин!
— Ошибочка вышла, — тихо согласился Петр Семенович и, оживившись, добавил: — А кукуруза детишкам на забаву, как заморский овощ.
Петр Семенович аккуратно разлил водку, не посеяв ни капельки на землю, глядел с живым интересом, как Ветров вылавливал из чашки неломающийся его пальцам груздь.
— Вот, рыжий, не хочет! — веселился он.
— А ты его пирогом прижучь. Поехали, Матвей!..
— Дай бог не последнюю!..
От омута, черневшего чуть ниже моста, где каждый год, вот уж лет сорок, на Крещение ныряет в прорубь Трифонов, вылезла на зазеленевший крутояр ватага ребятни, от мала до велика, и прямиком направилась к дому Березиных. Впереди вышагивал на длинных ногах Сашка Березин, получивший неделю назад повестку в армию. На его широких плечах восседала любимая племяшка, трехлетняя Ольга, весело болтала ногами, хватаясь за черный чуб. Егор, братишка Александра, родившийся уже после гибели отца в Казахстане, нес в руках удочки, завистливо поглядывал на новенький магнитофон, подаренный теткой Соней призывнику, мучительно гадая о том, возьмет его брательник с собой на службу или оставит дома. «Лучше бы оставил», — вздыхал Егор. Из динамика магнитофона рвалась на полную мощь хрипловатая песня:
Чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее…Маринка, старшая дочь Ястребовых, учившаяся на последнем курсе Темирязевского лесотехникума, вымахавшая в высокую и красивую деваху, постоянно стеснявшаяся пышных грудей, унаследованных от матери, несла на вытянутой руке кукан с уснувшим лещом и десятком хариусов, боясь испачкать новую кашемировую юбку, перекроенную в местном ателье из материного девичьего платья, брезгливо кривила большой рот, то и дело вскидывая черные вразлет брови, капризно канючила:
— Сашка! Возьми рыбу!.. С нее слизь…
— Неси-неси, неженка! — фыркал тот, косясь с усмешкой на сестренку. — А еще лесником хочешь стать. Тебя первый ужак заглотит.
— У-у-у, вредина!
Деревенская детвора по очереди вошла в калитку. Матвей Егорович проводил их долгим завистливым взглядом, глубоко вздохнул, вспомнив сразу же своих погибших сыновей, дочь, променявшую бабью долю на мужскую службу в десантных войсках, лишив их с Анной внуков и правнуков, тихо проговорил:
— Ну, у тебя сейчас в доме содом! Тянутся к Сашке. И на службе будет не последним…
— Пущай! Последние денечки! Пусть гуляет.
— А Маринка-то уж невеста. К весене-то вымахала… Поди, вскорости свадебку сыграем?!
— А кто знает ноне. Колька вон довоенного производства, уж седой, а не думает. Да Сонька твоя…
Петр Семенович задел больную жилку. Ветров сморщился, заговорил о другом, поспешно перебив друга:
— Да-да, бежит времечко. Рыбы вон в Бересеньке не стало, и озера опустели. Производства все сгубили. Запруд понастроили. Ранее, бывало, бочками хариуса солили… Да чего тебе я толкую?! А в Темирязевском-то, говорят, все пошло по низам?
— Комбинируют! — усмехнулся ехидно Петр Семенович. — Колька ушел — так все закувыркалось; то объединяются, то разбегаются… Еще при Хрущеве затеяли укрупнения. Так до сих пор остановиться не могут. Болтают много, а толку пшик! Комплекс… Собрали в кучу всякое дерьмо. Алешка говорит, что к добру это не приведет. Генерального директора снова нового прислали из области…
— Ишь ты?! — удивился Ветров. — А старого куда дели?
— В другой район перевели…
— А я в больнице валялся, краем уха слышал о переменах. Значит, вывески опять поменяли. Тьфу ты! Ученых, Петя, много развелось. Куда ни ткни — везде доктора. Вот они и мутят, каждый на свой лад. Охота же отличиться да звание какое-то получить. Без звания, Петя, ты букашка. Раньше, при Сталине, какой зарвется не в ту степь… Его раз! — и на Колыму золотишко рыть… Для чего все делается? Ты мне объясни!..
Петр Семенович и сам не знал, но ответил, о чем недавно Алексей толковал:
— Говорят, если всё объединить, то денег больше будут давать на производство из министерства.
Ветров сморщился не то от боли в ноге, не то от слов Березина.
— Ага!.. Держи карман шире! Жили добром… А теперь пучок укропа стоит на Атамановском рынке рубль. Раньше на десять копеек три давали… Все равно, Петя, тех денег на всех не хватит. Кому рубль, а кому шиш достанется.
— Это уж точно!
Умолкли на время, пока Петр Семенович выжимал остатки водки из бутылки по стаканам, следя за каплями и шевеля в счете губами. Матвей Егорович переваривал новости, просветленно смотрел на текучие воды, на гусей, пасшихся на прибрежной луговине, ждал, когда хмель войдет в кровь и притушит в суставах нудную боль. «Водка ныне пошла хреновая! — досадливо скакали мысли. — Ни в голове — ни в ж… Прости, господи! Разбавляют».
Самохваловская старуха на задах зазывала козу:
— Манюшка, Манюнька! Вот, зараза!.. Где ж тя искать-то?
— Давай, Матвей, по последней граммульке, — с сожалением выдохнул Березин, бережно поднося стакан к губам.
— Последняя у попа жена. Припрятан еще чирик…
— Молоток! А ноне попы по чужим бабам шастают.
Балагурили о разном долго и закусывали медленно.
Петр Семенович, основательно пережевывая пирог, запеченный на поду из судака вместе с хребтиной и плавниками, выплевывал ребрины на землю, где их тут же подбирал большой рыжий кот, хрустел косточками, поуркивая от удовольствия. Матвей Егорович по-прежнему налегал на грузди. И после распитой четвертинки на песняка не тянуло. Значит, трезвехоньки, как после причастия. Не сговариваясь, думали о том, где бы еще поднажиться выпивкой. Такова уж русская натура. Оживились они малость, когда за речкой, на зазеленевшем Сталинском бугре, где когда-то красовался портрет вождя, выложенный из разноцветного плитняка и загубленный хрущевскими активистами, выполз с гармошкой двойной желтый «Икарус» и покатился под горку к железнодорожному переезду.
— Рейсовый идет, — бодро проговорил Матвей Егорович. — Может, кто из нашенских с пивком?! Старые стали и не забирает…
— Кто?
— Да водка…
— Да-а-а. Раньше сучка тяпнешь и глаза вразбег. Нет, не остановилась кишка. Пойду до дому, баню посмотрю. А то уж прогорело в топке. Трубу закрывать пора. А вон и Анна! Вовремя управились… Ты, ежели что, крикни. — Петр Семенович бодро поднялся, но какая-то сила качнула его. — Ого! И вправду с задержкой, как мина!
Выкидывая ногу с протезом, как гусак, Березин неуверенно направился к дому, душевно удовлетворенный. Возле ворот он перевел дух, оглянулся на яр, по которому медленно шли Анна Ветрова и Марфа Трифонова, судачившие о чем-то своем, бабьем, и не заметившие Березина. Ветров поспешно прибирал следы былого пиршества, глядя на то, как ветер трепал концы бабьих косынок, шалил с подолами длинных юбок. За ними медленно поднимался от реки уставший Трифонов с пилой на плече, вытирал ветошью лицо свободной рукой. Петр Семенович, шагая по огороду к бане, радовался: «Прошляпила ты, Анка, нашу встречу с Матвеем. Успели разговеться!..» От притихшей старицы клубился бело-черный дым, вызывая кашель, сглаживая приятность.
— Опять старые лодки жгут! — ворчал он. — Сколь говорено… Дак приедет Колька или нет?! — мысли неожиданно перескочили на другое. На телеграмму ни ответа, ни привета. Оторванный мужик!
Баня в самый раз поспела. Петр Семенович слегка прикрыл трубу, обдал каменку квасным взваром и выскочил вместе с волной пахучего жара в предбанник.
— Ух, разогрелась! — пот прошиб до ручьев, пока шагал к дому. На стук деда из окошка высунулся Сашка.
— Чего, дед?
— Дуй, некрут, в баню! Я уж последним… после баб. Да ребятню не вздумай с собой брать. Угорят!.. Баня — зверь!..
В калитку заглянула Машка Зыкова, еще больше раздобревшая. Петр Семенович в это время закуривал на крылечке. Увидев буфетчицу, оживился.
— На ловца и зверь бежит!
— Здорово, старый! Все ерохоришься. Вот телеграмма от Кольки. Простите! Николая Петровича!..
— О-о-о, едет! — Березин перевернул телеграмму. — Вчера же пришла?! Гони за просрочку чирик…
— Я что, почтальонша?! — взвилась Мария. — А этого не хочешь? — Она чуть-чуть приподняла и без того короткую юбчонку, круто обтягивающую ее квадратный зад, вразвалку вышла со двора.
— Шалава! — выкрикнул он досадливо вослед. — Корова! — Восходя на крыльцо, оглянулся на прогон, не показались ли бабы. Телеграмма грела и успокаивала больше, чем распитая бутылка.
3
В третьей декаде апреля секретарь по промышленности Междуреченского обкома партии Николай Петрович Березин получил сообщение от отца о том, что его любимый племяш, старший сын Зои Березиной Сашка, призывается на службу в Советскую Армию сразу же после майских праздников. Телеграмма застала Березина в вестибюле обкомовской гостиницы, где он проживал на правах холостяка уже третий год в двухместном номере, не желая переезжать в предоставленную ему квартиру только из-за того, что самому придется обихаживать жилище. А тут все услуги и свобода.
У парадного подъезда гостиницы его поджидала персональная черная «Волга», положенная по номенклатуре обкомовского работника высшего ранга. В кармане бежевого пиджака лежала командировка в Ленинград и заветная разнарядка на получение первых для области полдюжины мощных тракторов «Кировец». Николай Петрович мог бы не ехать на завод, а послать нужных толкачей-снабженцев, но он знал, как они относятся к делу. Могут им подсунуть по пьяни бракованные машины. Да и самому хотелось подобрать весь навесной инструмент. Машины Березин хотел прямым ходом отправить в Темирязевский лесной комплекс. Хотя сам Мажитов, первый секретарь, прямого одобрения не дал. «Все уравновесится. А после драки кулаками не машут!» — думал он, но его мысли оборвала администратор гостиницы, изящно выбегая из-за солидного полированного барьера, преграждая путь Березину.
— Вам срочная телеграмма, Николай Петрович.
Красивая женщина, избалованная вниманием высоких постояльцев, крашенная в модный ныне у дам бальзаковского возраста пепельный цвет, стрельнула глазами. Она давно положила глаз на влиятельного и красивого мужчину да еще холостого, что бывает редкостью среди обкомовских персон.
— Спасибо! — сухо ответил Березин, быстро пробежав телеграфные строчки, как всегда, с ошибками. «Де-ла-а-а! — мысленно протянул он. — Когда это Сашка успел вырасти?! Хотя…»
Командировку пришлось отложить. Березин выхлопотал к вечеру себе краткосрочный отпуск, накупил подарков и к полуночи вылетел на родину, использовав последнюю за апрель обкомовскую бронь в кассе.
Тягучими рассветными лучами отсвечивала скрытая за горизонтом зорька, вяло просыпавшаяся на востоке, подсвечивая снизу загадочные и величавые вершины облаков пастельными розово-желтыми бликами. Николай Петрович оторвался от холодного иллюминатора, отделявшего толстым стеклом жуткую бездну от салона реактивного лайнера, утонувшего в слабом розоватом свете ночников. Монотонно и натужно гудели двигатели, сотрясая фюзеляж. Пассажиры в этот ранний утренний час подремывали. В, конце салона со всхлипом плакал ребенок, не слушая ласковые уговоры матери и миловидной бортпроводницы: «А смотри, какого медвежонка тебе дарит дядя летчик! А хочешь шоколадку?» Березин усмехнулся, взял потрепанную пачку газет из кармашка, развернул первую попавшуюся. Сессия Верховного Совета СССР, на которой он присутствовал в качестве делегата, закончилась еще в середине апреля. А газеты все еще не могли уняться и пестрели призывными лозунгами, восторженными статейками, прославлявшими курс партии и правительства. Льстивые отголоски парадных залов Дворца съездов претили Березину. Он давно понял, что крикливые корреспонденты, главные глашатаи решений и указов, исполнявшихся на местах шаляй-валяй. Бой за высокие урожаи, которые партия призывала закладывать сейчас, повышение производительности труда… Да мало ли?! А поначалу Березин верил всей этой суете. И что?! На целинные земли, растерявшие былые урожаи от бездумной обработки земли, так и шла лучшая техника, оголяя по-настоящему перспективные районы. На слуху у всех, от мала до велика, был народный академик Мальцев, обрабатывающий свои поля в Курганской области безотвальной вспашкой, призывая последовать его примеру. А в перерывах между своими сельскохозяйственными статьями клеймил в «Правде» позором певицу Аллу Пугачеву: «Распутство вон из советской культуры!..»
Березин засунул стопку газет обратно. Хотелось не думать о делах партии и государства. Он глянул вдаль салона, уходящего, казалось, в бесконечность. Вспомнилось, как еще совсем недавно летали на старушках-аннушках, ныряя в воздушные ямы до тошноты. Ну а большинство людей мерило километры до области и обратно поездами да еще на паровой тяге. «Да что там авиация! — размышлял Березин. — Человек дорогу в космос проложил и вышел из корабля! А давно ли шарили по ночному небу глазами, выискивая искорки пищавшего шарика?! Все течет — все изменяется… Что-то к лучшему, а что-то покрывается ржавчиной. Встали и тронуться не можем. Нет! Прогресс есть!.. Ну, отчего мы все же топчемся?!»
Березин вздохнул, подумав о том, что так или иначе думы крутятся вокруг хозяйственных и государственных дел. Въелись в сознание! Захотелось покурить. Но в последнее время в полетах курить запретили. Уснуть? Бессонница… Работа в обкоме не сахар, хотя многие считают, что на высоте власти жить лучше. Враки! Раньше он с успехом и со славой управлялся в леспромхозе, а теперь на его плечах все лесное хозяйство области. «Так бы и работал, — с сожалением мелькнуло в голове. — Если бы не перестройки и укрупнения! Зря поддался! А что бы сделал?»
Березин, привалившись боком к высокой спинке кресла, насильно прикрыл глаза и постарался задремать, но сон упорно не шел. Он с завистью посматривал на соседа, толстого и высокого мужчину, безмятежно пускавшего пузыри еще до взлета. «Видимо, жизнь спокойная. Мне бы так!» И опять мысли поскакали, как в калейдоскопе осколки стекла. И как наяву внезапно нарисовался светлый образ Зои Березиной. Нет! Не сегодняшней! С притухшим взором. А той, далекой, ступившей на уральскую землю подневольной, но полной жизни и любви. Отвага — вот ее девиз! А смерть мужа подкосила. Тогда, после гибели брата, выждав чуть больше года, он попытался посвататься. Глупо, конечно! Ничего, кроме позора, не получилось. И все же это был толчок отъезда в область..
— Да-а-а!.. Любит она Сашку до сего дня! — прошептал он с сожалением. — Такая любовь!.. Парадокс какой-то?! Тюремщик… Тот самый мусор, как именовала она, а дорог и мил. И где все началось? Подумать страшно! — Он оглянулся, не слушает ли кто его нашептывания, и продолжал уже мысленно: «Видел я те места! Мрак! А там все случилось между ними. Столкнулись два человека в земном аду!.. Расскажешь, и не поверят. А Алексей!..»
О Ястребове Николай Петрович всегда думал с большим уважением и восхищением, глядя на то, как тот несет повисший на его плечах груз да еще с чистым сердцем. «Вот кто не предаст! Ну, хватит!»
Николай Петрович глянул на часы. Лететь осталось до нового Красноярского аэродрома, построенного уже без него, примерно минут десять — пятнадцать. И опять мысли потянули его в прошлое. Катер бороздит Бересень… И после ужасов войны родные края казались еще красивее!.. Даже измена Полины, о которой он думал в боях и на привалах, прошла как-то вяло, не опалив ветром злобы и невзгод. Хотя!.. Может быть, поэтому еще холостяк. Юношеская, любовь как рана. Да-а-да! Поначалу ударило, как током. И тут же запылилось поверхностно, как первый осенний снежок, растаявший с восходом солнца. Матвей Егорович был рядом… И офицерское самолюбие не взыграло, задело слабо. Так, чиркнуло касательно, словно пуля на излете… Столько лет войны!.. Николай Петрович только спустя время понял, как тяжела была тыловая ноша… и любимых, и родных. Помимо забот о личном выживании, мечом висела над головой тревога за близких, оставшихся на родине. Да и за Полину… Кто шел в атаку — тот знает цену жизни! Не забывается и то почтение селян, разглядывающих его, словно он только что вынырнул из омута, совсем затмило потерю. Из их призыва вернулись живыми только трое: он, Круглов да Димка Боровой. А к вершине власти в мирное время взлетел только он. «Да! Пролетела молодость шелестящим крылом и исчезла в пространстве годков! Алешка тоже поднялся, — с белой завистью вспомнил он опять шуряка. — Если бы не числился в бегах!.. Высоко бы пошел… Держит его, хотя он об этом, кажется, и не думает. Строгает детей, хозяйство ведет… А я!.. — Николай Петрович вспомнил первые наказы отца, когда отгулялись, и нужно было ехать в Темирязевское, занимать должность:
— Ты не торопись, Колька, с женитьбой. Сейчас на тебя бабы бросятся, как на сладенькую приманку. Я те сам найду такую, чтобы не слепла от твоих орденов да должностей. Сашка не то!.. Подзастрял в зонах! Там и баб-то толковых нет. Вон Катька невестится. Обрасту внуками!..
— Не оправдал я, батя, твои задумки, — прошептал Николай Петрович. — Сашка и там нашелся… И внуков дал. Катерина…
Мигнула и загорелась на табло надпись: «Пристегнуть ремни». И тут же в динамике раздался полусонный голос стюардессы:
— Товарищи пассажиры! Просим пристегнуть ремни и не вставать с мест. Наш самолет пошел на снижение…
— Уж если пристегнемся, то точно встать не сможем! — коряво пошутил сразу же проснувшийся толстяк. Успокоенная физиономия и добродушная во сне сразу же преобразилась, как только девушка, обдав ряды духами, остановилась напротив и молча протянула подносик с леденцами. Мужчина левой рукой сграбастал горсть конфет, а правой попытался незаметно погладить стройную ногу девушки, затянутую в бежевый капроновый чулок. Красивое и холеное лицо бортпроводницы не дрогнуло, только большие серые глаза холодно посмотрели на старого ловеласа. Березин от конфет отказался. Ему до зуда в кулаках захотелось дать по морде этому нахалу, но он сдержался и прильнул горевшим лбом к холодному иллюминатору, в котором исчезли звезды и облака, а по фюзеляжу хлестала заволочная мокрота, и самолет трясло, словно он не летел, а мчался по ухабистой дороге, не разбирая пути. Наконец-то самолет, пробив толстую облачность, резко коснулся шасси мокрой от дождя полосы и, сбивая скорость, резво побежал вдоль низких посадочных огней, заворачивая к зданию аэровокзала, слабо мерцавшего неоновыми окнами.
Пока проводились все посадочные процедуры и подходил трап, дождь закончился. Березин вошел в небольшой зал, полный пассажиров, готовившихся в обратный рейс, огляделся: знакомых вроде бы не видно. «Придется ждать рассвета и ловить такси до Бересеньки. А Назаров тут развернулся, не то что Козырев. Хотя время другое! После войны нужно было людей накормить, и не до роскоши», — подумал Николай Петрович, направляясь к ресторану, уже распахнувшему свои двери к прилету, в надежде там скоротать время да и пополнить существенно изголодавшийся желудок. Проходя мимо газетных киосков, Николай Петрович за спиной услышал окрик:
— Товарищ Березин! Николай Петрович… Березин резко обернулся. От выхода медленно и вальяжно шествовал Анвар Галимзянович Назаров и широко улыбался. На нем был вельветовый спортивный костюм и на ногах кроссовки. Николай Петрович сообщил о своем приезде только родным. «Батя разнес! — промелькнула недовольная мысль. — Хотя в обкоме полно старых служак, которые работали под руководством Назарова и любили его».
— Ну, здравствуй, Коля! — Назаров широко раскинул руки и с ходу обнял Березина, похлопав его по широкой спине. — Что-то ты стаял на обкомовских харчах? А-а-а! И не сообщил!.. Ладно, у меня в ваших пенатах своя агентура. Ха-ха-ха! — Он громко рассмеялся, увлекая Березина к выходу.
— Заметно!
— А как ты думаешь? — не то шутил, не то говорил серьезно глава района. — Я же разведчик и всю полковую разведку к себе перетянул…
Хотя всю ночь шел нудный обложной дождь, но к утру развеялось и прозрачность, облитая весенним светом, вылупилась над селом. На иссиня-белесом небе все еще кучились остатки облаков, с неохотой белыми шапками медленно уплывали по ветру на восток, туда, где синели хребты Урала, чуть-чуть прикрытые заволокой недавнего ненастья, за которым чудилось еще не взошедшее солнце. Влево от аэропорта пестрели крыши села, влажные от дождя, а справа малахитово блестела озимь, распоротая ровными рядами «сталинских» посадок. Зеленоствольные осины еще не совсем распустили почки, и пахло приторно, сладковато…
Николай Петрович, прежде чем сесть в машину, огляделся и вдохнул полной грудью воздух, насыщенный запахами и влагой.
— Красотища!
— Да-а-а! Дух родины сладок!..
Все здесь было близким для Березина. Еще до войны, когда он учился тут в сельхозшколе, садили они эти полосы. Где-то тут есть и его деревцо. Может быть, вон то, что стоит выше всех на скате склона, сбегавшего к Бересеньскому речному порту. «Построить дом, посадить дерево и воспитать детей, — вспомнил он старинную мужскую притчу, глядя на мелькавшие стволы. — Деревьев я насажал… А вот второго и третьего не довелось сотворить. Хотя, как посмотреть. Женщины-то были!.. И дома строил… Целые поселки». Березин отвернулся от окна, глянул на сидевшего рядом секретаря райкома. Назаров за это время, пока не виделись, почти не изменился, только добавилось на волевом лице морщин да шевелюра, всегда непослушная, еще больше подернулась пеплом, хотя после хрущевских чисток в партии, ему досталось больше всего. Чуть из партии не исключили. Но нашлась в недрах центрального комитета лохматая рука, и направили в родные места сменить постаревшего и больного Козырева, своего учителя и командира в Гражданскую войну.
— Дела идут, контора пишет, кассир деньги выдает… Так шутит твой отец, — усмехнулся Назаров с тихой грустью. — А если серьезно, то движемся, как паралитики: то скачем, то плетемся и неизвестно куда — назад или вперед.
— Ну, отец скажет еще не то… А если языком более понятным? И в чем загвоздка?!
— В общем-то нормально живем, Коля. — Лицо Назарова покрылось пятнами. — Посевная идет вовсю… Лесок государству даем согласно плану. Гуляем на праздниках! Езжу уж месяц по району, встречаюсь с людьми. Ну и хочется всех поздравить с Победой… На всех одна! Как поется в песне. Вчера темирязевских ветеранов труда и войны собирали. Ястребов, твой шуряк, выступал с речью от районной партийной организации. Хороший мужик! Думаю двигать его вперед! Ну, так вот… Всем подарки вручили. Трифонову достался набор кухонных ножей. Марфа по этому поводу на весь зал сострила: «Ну, теперя мне жизни и вовсе не будет. То с топором гонялся, а сейчас с ножами!»
Березин захохотал. Сквозь смех выспрашивал, глядя в бритый затылок водителя:
— Ох-хо-хо! Ну, а что… Трифонов? Он таких шуток со стороны баб не любит. Пьяный был?
— Да нет, Коля, трезвый. А народ хохотал до упаду. Наш герой аж побелел весь. Чудится мне, досталось Марфе дома на орехи. Матвей Егорович из больницы выписался. Ему, как охотнику, мы ружье припасли. Заеду и лично вручу. А вот насчет Алексея надо бы коллегиально подумать. Партиец и работяга, каких не сыскать… Вот такие дела, если коротко.
— Насчет дяди Матвея знаю. Хотел его в обкомовскую больницу пристроить. Отказался. Мне, говорит, Коля, со своими-то лучше болеть, чем с чужими. Понимаешь?!
— Понимаю!
— Одни рвутся поближе к теплу всеми силами, — продолжал Березин, — а других арканом не затянешь. Разошлись мы с народом, как в море корабли…
Назаров не ответил. Николай Петрович отвернулся к окну, разглядывая проплывающую обочину дороги, думал с напряжением и беспокойством: «А Алексею-то еще нельзя выпячиваться. Справлялся в прокуратуре: «Реабилитации не подлежит. Срок давности на таких людей не распространяется», — ответил ему чиновник. И если раньше Березин сам управлял движением Ястребова, защищал, как мог, от опасностей, то теперь!..
Мысли Березина перебил Назаров, думавший в это время о том, как бы Березин в свободное время не начал копаться в огрехах лесного хозяйства, а их было много:
— Гриша, завези меня в райком, а товарища Березина доставишь в Бересеньку. А то, может, зайдешь? — взял он за локоть бывшего своего ученика. — С год уж не виделись. Коньячок у меня стоит в сейфе. А?! Поговорим наедине…
— Ну что же, можно попробовать твой коньяк. Поди, Красноярского разлива. Суррогатик! — улыбаясь, проговорил Березин, внимательно вглядываясь в лицо Назарова. Тот шутливо возмутился:
— Ну-у-у!.. Обижаешь, Коля! Армянский… Пятизвездный. А наш спиртзавод пшеничку гонит. И не плохую. Советую поднажиться. А то сейчас ведь дефицит.
— Я теперь редко употребляю…
Березин согласился без особой охоты. Не хотелось обижать старого товарища. Вся его карьера двигалась при помощи Назарова. И звездочка им выхлопотана. Но дома его ждала большая гулянка… И волнующая встреча с Зоей!
Машина легко подминала под себя влажное еще шоссе, оглашая шумом мотора сиреневые палисады села. На площади, возле старинного особняка, где располагался райком партии и исполком, водитель затормозил. Назаров вышел первым, протянул узкую ладонь к Березину, проговорил усмешливо:
— Прошу, Коля!
— К празднику полным ходом готовитесь? — спросил Березин, с удовлетворением оглядывая рабочих, прибирающих площадь и с любопытством посматривающих на земляка.
— Прибираемся, Коля. И к праздникам, и для тебя…
— Для меня-то зачем?! — нахмурился Березин, изогнув черную бровь. Такие слова ему не понравились. — Не чужак же я?!
— А то тебя квасом встречают в других хозяйствах! — заговорил Назаров с насмешкой. — Так уж у нас заведено, Коля. В армии газоны красят, а у нас… А-а-а, чего там. У власти, Коля, люди меняются…
В кабинете первого секретаря райкома партии со времен Козырева ничего не изменилось. Только на месте портрета Сталина висел грубо намалеванный местным художником Брежнев. Березин сразу понял, что хозяин кабинета не очень-то уважает генсека, раз не захотел иметь у себя за спиной стандартный облик вождя партии, утвержденный Центральным комитетом.
Назаров без суеты вынул из сейфа, стоящего в углу початую бутылку коньяка, с усмешкой проговорил:
— Придется без закуси. В райкоме ни души… Все на посевной. А самому бежать в магазин некогда.
— Ну, без закуси — так без закуси. Трифонов никогда не закусывал, а живой! — пошутил Березин.
За журнальным столиком сидели около часа, выпив весь коньяк до донышка. Поначалу вели разговор о делах, а потом коснулись самых больных мест, может быть, не только в областном масштабе, но и по всей стране.
— Сказочные места у нас на Урале, Коля. Тут бы курорты разводить. Источники проливают свои целебные силы зря… А мы все беспощадно сметаем! Конечно, без леса мы не проживем. Но отношение к нему, как к чему-то дармовому. Не понимают верха! И это чревато. Прошлый раз ездил за Ленинское, где когда-то были лагеря твоего братца. Прости! — Назаров вскинул голову, но обиды в глазах собеседника не заметил. — У нас принято о покойниках плохо не говорить. Пустыня, Коля! Пни, пни — это удручает! Тут и моя вина есть!.. Знаешь…
— Виноватых сейчас не найдешь, — угрюмо перебил его Березин. — Мы-то восстановлением леса не всегда занимались, а уж зэки и подавно! Да и война! Был принцип: пили больше — тащи дальше. Саша тогда тоже переживал. Мы-то могли увильнуть от плана. Старые запасы хлыстов со складов вывезти, а то и списать на топляки, когда молью сплавляли. А у них на корню счет вели…
— Да! Я понимаю, — согласился Назаров, впиваясь сталистыми глазами в собеседника. — Душа противится и не воспринимает. Я сам требовал: план и еще раз план. И ордена получали… А Трифонов наследил в тайге! Не признается. Сталинской поговоркой отмахивается. Лес рубят — щепки летят! Ну, ладно. А что в обкоме? Расскажи. Мы же по директивам…
— А говоришь, разведка!
— По телефону всего не скажешь. Дела в партии мы по дыханию жизни знаем. А вот что в самом котле варится?!
— Варим не мы, а Москва. Мне кажется, что мы постепенно скатываемся в бездну. Коммунистические лозунги только на словах. В деле подхалимаж, взяточничество, хамское разграбление душевных ценностей и какая-то вялость. Знаешь, вот закат иногда оставляет неприятный след. Так и мы следим… Трубим в фанфары по пустякам, пустозвоним, топчемся на месте, как прикованные слоны, тужимся, а разродиться не можем. Или наши вожди не знают, что дальше делать в государстве, или не хотят. Им без забот сладко живется. Мы вроде бы те же, что и раньше, но уже не те…
— В этом ты прав, Коля! А ты знаешь, что сразу пошло все наперекосяк после хрущевской оттепели. Веру у людей отняли, а взамен ничего не дали.
— Наверху идет возня. Был в Москве на сессии, — Березин сбавил тон, посмотрел на телефоны, потом встал, поснимал трубки. — Так надежнее…
— Думаешь, меня прослушивают?!
Березин, садясь снова в кресло напротив Назарова, ухмыльнулся:
— Ка-Гэ-Бэ, Анвар Галимзянович, никогда не упустит случая. Так вот о Москве! Вокруг Кремля крутятся разные типы: старые и молодые. Последние особенно нахальны!.. Они еще покажут себя, как только придет время. Первому разные песни напевают, а он уж плохо слышит и не понимает, о чем речь. Кивает, как мерин, головой. Впереди, Анвар Галимзянович, нас ждут большие потрясения. А к власти многие рвутся. Впереди всех Андропов…
— Понятно, почему органы госбезопасности распоясались, как при Берии, — еще больше нахмурился Назаров.
— Дела с комплексом плохи?
— Да! Одно название. Этот год у нас попросту пропал. Бюджет прежний… Крохи! Если бы не областные вливания, кончились бы мы, не дожив до весны. Госплану до лампочки, что мы сжигаем по-прежнему в печах и на свалках горы кусковых отходов, из которых можно производить древесные плиты и массу полезных материалов для мебельного производства. Но нет мощностей! Старье, доставшееся по наследству еще при тебе, не реконструируется. Канифоль добываем мизер. Под ногами гибнет ценное сырье. Исчезли бы пни. А заводы возят капитальный экстракт из Белоруссии. Был у соседей, те только разводят руками. Так приказано. А пустить бы на паях эти деньги в дело?!
Назаров прямо посмотрел в глаза Березину. Тот отвел свой взгляд в сторону, не выдержав сталистых игл, всегда поражающих соперника. Он понимал, что тут лежит и его доля вины. «Покричал! Наобещал людям и в область!» — пронеслась неспокойная мысль.
— Ты у нас появляешься редко. Заступился бы! — жестко продолжал Назаров. — Или ты в их упряжке?
— В какой упряжке?! — Березин резко вскочил. Встал и Назаров, ядовито улыбаясь. — Я за место не держусь!
— Держишься, Коля!
— Нет! И кончим этот никчемный спор!..
— А что же ты на пленуме обкома промолчал, когда отвергли наш план восстановления лесов и отвода под разработку лесов заказника, где местные и заезжие чины развлекаются охотой?
Березин играл желваками скул, молчал, а потом вдруг признался:
— Да сдрейфил! Ну пробили же этот план…
— Ну да, большой кровью! Ладно, Коля, езжай, провожай племяша. А разговор наш не забудь! Люди у нас бессребреники. Вот что спасает. Эх! Жалко, Александр Петрович не дожил до этих дней! Порадовался бы за сына.
— Да, жалко, — как-то поспешно проговорил Березин. — Приезжайте на проводы. Все рады будут.
— Нет уж, Коля. Недавно заезжал. Петр Семенович меня чуть не запарил насмерть в баньке, — с восхищением произнес Назаров, глаза его внезапно подобрели. — Ну, а женщины у вас в семье просто красавицы, — свет не видывал. Да, Зое не повезло! И деревня под стать людям. Красиво в Бересеньке. Умели наши предки подбирать места для поселений. Ну, а ты что не женишься?
— Тут полный прокол! — пошутил Березин, разведя руки в стороны. — Не берут! — голос его слегка подсел. Главную на сей день занозу затронул Анвар Галимзянович. Но больше всего его насторожило восхищение деревней. И тут он понял, что Назаров будет против расширения Айгирского завода за счет деревенских земель. Пятилетний план верстался под этот проект. Проектировщики, изучавшие пойму реки Бересени, спустя год прямо заявили: «Строительство нужно переносить за гриву на место деревни». Хотелось тогда завыть, но было поздно. Областные пятилетние планы обратного хода не имели. Заморозить строительство было трудно, да и солидный куш средств не будет лишним Темирязевскому комплексу.
— Раньше говорили молодым, что женилка не выросла, — смешком перебил березинские мысли Назаров. — Ты смотри, как бы она не состарилась!
Березин густо покраснел. Заметив смущение друга, Назаров похлопал его по плечу, но ничего не добавил. Да и сам Березин чувствовал, как уходит былая лихость, не разбиравшая стежек, проторенных случайными встречами, короткой любовью, сразу же забытой, слинявшей с души и сердца без всяких сожалений, вроде курортного романа.
Назаров раскуривал свою знаменитую трубочку с обгрызанным мундштуком, поглядывал на задумавшегося Березина исподлобья и со скрытой усмешкой.
— Что же, Анвар Галимзянович! Тронусь я до дому. Хочу еще заскочить к Кедрову. Да вот еще что! Жалуются на тебя химзащитники… Заявку на обработку лесов не даете…
— И не дам обрабатывать! — твердо заявил Назаров. — Видел я эти обработки. Птички дохнут и все живое, а клещ еще жирнее становится. Зенитку бы!..
— Зачем? — удивился Березин.
— А кукурузников сбивать, если они залетят на нашу территорию.
— Ха-ха-ха! — деревянно засмеялся Березин, поняв, что Назаров не отступит, а ему придется голову ломать, находясь меж двух огней. — Мажитов лично контролирует это дело. Не любит он такую категоричность, идущую против его замыслов.
— Ну, Мажитов еще не главная страшилка! — Назаров пыхнул дымом. — Вот когда его поддерживают по глупости — это уже навевает грустные мысли…
Разговор опять покрылся холодком. Заметно было, что Назаров с неохотой провожает секретаря до машины. На площади все еще суетились рабочие. При виде высокого начальства застучали на сооружаемой деревянной трибуне молотками еще сильнее. Художники готовились развешивать по периметру портреты членов политбюро и правительства, на флагштоках уже развевались на ветру флаги. Портрет Брежнева, красивого и молодого, поднимали первым.
— Пока, Коля! — Назаров торопливо взмахнул рукой.
— Я загляну на обратном пути. Поговорим основательно насчет развития комплекса. А ты пока вопросики подготовь, — сказал Березин, садясь в машину.
Пока водитель разворачивал черную «Волгу», Назаров, не трогаясь с места, проговорил:
— А деревню-то ты зря задумал сносить. Как отцу скажешь?!
Березина словно кипятком обдало. Он судорожно вдохнул жар разогретого асфальта, но ничего не успел ответить. Машина, разрезая встречный воздух, помчалась по улице. Березин оглянулся. Назаров, чуть ссутулившись, медленно удалялся в здание райкома. Вдали, в синем мареве постепенно разогревающегося солнца, поднявшегося ближе к зениту, маячили горы, темные от лесов. Ждал этого Березин. Но фраза Назарова испортила настроение. Пейзаж родных мест мелькал обыденно. «Выходит, тут уже все знают. Ну, Назарову, может быть, по долгу службы положено. А если батя?!» — теперь уж спину обдало холодком, как будто стоит он на морозе голышом.
Темирязевское открылось неожиданно ровными рядами домов с почерневшими тесовыми крышами, набором деревянных бараков, построенных еще в войну. Старье! А Березин раньше этого не замечал. Только центр сиял новыми кирпичными постройками. Особенно много появилось коттеджей, спрятавшихся за березовой рощей на берегу Бересени, делавшей тут большую петлю. С моста в омут прыгали пацаны, обнаженные и успевшие уже загореть. Другие сидели на деревянных перилах, словно воробушки, встречая каждую машину свистом и улюлюканьем.
— Вода еще холодная. Простудятся! — проговорил Березин, дивясь ловкости сорванцов, забыв начисто, как сам прыгал весной со скал Айгир-Камня в бушующие воды порога, бахвалясь своей ловкостью и силой перед местными девчатами. Полина каждый раз сжимала кулачки и приседала, но потом радостно кричала, когда голова Николая появлялась над бурунами валов, а потом он вылезал на берег в капельках воды. Хотя и сжимал сердце холод, но Николай, сдерживая дрожь, шел мимо сверстников к черноволосой девчушке, сторожившей его одежду… «Когда это было?!» — выдохнул Березин, жалея пролетевшие годики, да не так, как хотелось.
— А че им будет? — вяло перебил мысли Березина водитель. — Деревенские… Закаленные… Это в городе чихня! У нас мужики растут, товарищ Березин. В управление?
— Жми прямиком в Бересеньку!
— Есть!
Березин покосился на коренастого водителя. Из-под рубашки виднелись полоски флотской тельняшки. Все тут уже для него чужое. И стало скучно, как на поминках. «Провожу Сашку и домой!» — мысли рубились в противоречии. Да и что тут накоплено? Все растерялось. А ведь с пеленок!.. Прошлое уж не вернуть никогда…
4
Над головами торжественно плыла розово-белая тучка, плавно гонимая на север южным ветром, туда, где синел дикий отрог Лосиного урочища, утыканный остроконечными пиками пихт, изрезанный узкими каменистыми ущельями с торчавшими башенными серыми останцами. Солнце, вставшее уже вполдуба, нежно струило над прибрежными ноздрастыми валунами языкастое марево, пригревало бабьи спины и споро слизывало апрельскую жгучую росу.
— Ну, подружки, пора правиться к дому. А то батя зашумит да еще в поиски ударится, — проговорила с придыхом Катерина Ястребова, потирая тыльной стороной ладони натруженную наклонкой над лугами спину, тяжело плюхаясь раздобревшим задом на травку рядом со своей корзиной, полной темных сморчков с куполообразными морщинистыми шляпками. Правда, на дне еще лежало семь пучков дикого лука и щавеля.
— Ты не лишка нагрузилась, девка!? — озабоченно спросила ее Зоя, присаживаясь рядышком, старательно подбирая под себя подол черной юбки, скрывающей пышные женские прелести. — А то давай мне отсыплем…
— Сой-де-еет! Больно ты седни добрая, Зойка!
Та молча отвернулась, пряча полыхающий жаром лик и не сходившую с него какую-то порочную улыбку, будоражившую ее с самого утра.
— Пусть сама тащит, раз набрала. Жадность губит человека! — жестко и насмешливо отозвалась Соня Ветрова, коренастая и крепкая женщина, со спины совсем не похожая на бабу, одевая в защитный полукомбинезон и тельняшку с коротким рукавом. — Ты, Катька, никак двойню носишь! В те разы пузо у тебя поменьше было. А ныне, как у крольчихи. Куда тебе? Ладно уж, помогу донести до дому твою корзину, а то родишь еще в бурьяне, как тогда, — подобрела Соня. — Ну, пузо!.. Чисто кобыла!
— А у тебя, как у скакового коня, живот к хребтине прирос. Ха-ха-ха! Завидки, что ли, берут? — весело откликнулась Катерина, превозмогая боль в пояснице.
— Чему завидовать?! — Соня сняла широкий офицерский ремень, сцепила свою корзину с сестренкиной и легко перекинула их через плечо. — Ну, теперь — шагом марш! — Ее слегка задели слова Катерины, но она решила не вступать в перепалку.
Катерина кряхтя сначала встала на четвереньки, а потом уж поднялась на ноги. Ворочая синими белками глаз, пошутила:
— Есть, товарищ командир! — Она выпучила впереди без того огромный живот, притопнула мужниными сапогами со стоптанными на одну сторону каблуками.
— Корова! Ой, не могу! — зашлась в смехе Соня, трогаясь впереди всех. Зоя посмеивалась втихую.
— Замуж тебе надо, Сонька! — тяжело отдыхивалась позади Катерина, нисколько не обижаясь на насмешку. — Родила бы, какого завалящего. А то и не испытаешь бабского счастья.
— Подумаешь, счастье! Этого мне еще не хватало, — Соня откровенно щурила красивые черные глаза, с такими же острыми, словно кинжальными, зрачками, как у отца, пронизывающими собеседника насквозь. — Замуж?! Скажешь тоже… Пеленки, подгузники, горшки… Не!.. Не для меня. Увольте от такой радости. Я создана, бабоньки, для йеба. Там мне парить! А на земле чахнуть?! Нет! — Соня воздела руки вверх, к синему небу. — Мне судьбой прописано. А пополнять человеческий род Катька будет. Мне мужиков без забот хватает, — похвалилась она. — А ты чего помалкиваешь, монашка? — развернулась она к Зое, вышагивающей чуть позади. — Вижу, не разделяешь?!
— Нет! — Зоя перекинула корзину из левой руки в правую, повела головой. — По нужде… Может быть, и найдется, а по жизни… Нет, Сонечка!
— Эх, Зойка! — укорила ее Соня. — С твоим голосищем не в монахини идти, а на сцену! — она легко, по-мужски, перепрыгнула через широкую промоину ручья. — А я мечтала со школы! Но небо перевесило!.. Та же песня…
Зоя ничего не ответила на намек, только помрачнела. Катерина же иронически фыркнула, помня еще с детства, как Сонька орала благим матом в школьном хоре, мечтая стать артисткой. Но учитель пения выгнал ее из кружка, как безголосую и глухую к музыке, посоветовав: «Иди, Соня, гудком работать на паровоз!» Та обиделась и больше никогда прилюдно не пела.
Возле Белой Гремучки, мелководной речушки, чистой и радостной, где в изобилии водилась пеструшка, меленькая рыбешка семейства форелевых, разрисованная, будто в сарафане, впадающей в Бересень по белой меловой отмели, напротив скалистого лога, уже до дна пронизанного светом солнца, Соня внезапно остановилась, поспешно поставила корзины на россыпь галечника, обратилась к Катерине:
— Посмотри, Катька, что-то у меня по пояснице ползает. Уж не клеща ли подцепила?!
— Спускай свои помочи.
Катерина уверенно и деловито выдернула из армейских штанов рубаху, потянула вниз пояс до белого и широкого развала поясницы, повела ладонью вглубь, в бабье тепло. От чужого прикосновения тело женщины мгновенно пошло пупырьями гусиной кожи, напряглось.
— Ну, чего там? — Соня нетерпеливо пялилась через плечо, выкатывая глаза. — Впился?!
— Вроде бы ничего нет! — Катерина гладила бархатистую кожу. — А ты, Сонька, белая, как гусыня. А еще десантница!
— Не твое дело. Гляди! — грубовато проговорила та.
— А задок! — продолжала с издевкой Катерина. — Может потягаться с племенной кобылкой. А че ты жмешься?! Стесняется, — Катерина озорно подмигнула Зое, с трудом сдерживающей смех и ожидавшей от золовки еще какой-нибудь выходки. — Хвалишься мужиками… А может, ты еще целка?! Зойка, давай ее пощупаем, как куру! — Она бесцеремонно запустила руку дальше, под резинку трусов.
Соня отскочила, как ошпаренная, закричала волнующим баском:
— Хулиганка!.. Я тебе пощупаю! Была ты хабалкой и такой осталась! Не зря себе Алешку в копне вырыла…
— Ой, не могу! — Зоя не стерпела и в изнеможении повалилась на галечник. Катерина, поджимая подол сарафана, еле-еле доплелась до плоского высокого камня, привалилась к холодной лобине боком, не смеялась, а рыдала, прикрывая рот ладонью. Соня, с серьезным лицом, поспешно заправлялась, со злостью поглядывала на женщин, умирающих от смеха, грозилась:
— Была бы ты, Катька, без пуза, то поваляла бы я тебя в ручье! И носит же свет такую бессовестную! Вот придем домой, пожалуюсь Алешке.
— И-и-и, ох-хо-хо! Пожалу-юсь!..
Так, озорничая и разыгрывая друг друга, по-бабьи откровенно, дошли до излучины к Белым берегам, где цвел и благоухал сиренью и акацией старинный деревенский погост, разросшийся в последние годы за счет покойников из Айгир-завода. Зоя, сама того не замечая, на время забылась и не сторонилась общего веселья. Но увидев у ворот часовенку, выстроенную вскладчину жителями Бересеньки в память о родных, покоившихся у Белого берега, поджала влажные губы, смыла с зарозовевшегося лица улыбку и неожиданно свернула к воротцам, кинув на ходу:
— Вы идите, бабы! А я к Саше зайду…
— И мы…
— Нет уж! Ноне мне надо одной…
Решимость, застывшая в ее похолодевших глазах, остановила женщин.
— Ну, иди одна, коль надо, — после некоторого замешательства тихо проговорила Катерина, увлекая Соню за собой.
— Чего это она сегодня такая странная? — вполголоса спросила Соня, — оглядывая прямую спину Зои.
— Нашло, видать! — задумчиво ответила Катерина. — А может, к лучшему. Дай-то бог! — она коротко перекрестилась на потемневший деревянный крест часовенки. — А то измучались мы с ней. Особенно батя.
Медленно, раздумывая над своей жизнью, Зоя вошла в воротца, для каждого расхлябанные настежь. Ноги как будто налились тяжестью. И корзинка несносно резала руку. Во всем ощущалась маета. Бабка Говорухина из лесного кордона, сторожившая тут на старости лет каждый день могилку единственного сына, умершего от ран, полученных в войну на поле боя, низко поклонилась ей, сгибая и без того искривленную годами спину, прошла мимо, обдав старческим тленом и восковым ладаном. Но Зоя ее как будто и не заметила. Она глядела впереди себя, а замечала только дорожку, что вела пряменько к могиле мужа…
Только спустя почти два года после гибели Александра Петровича Березина районные власти наконец-то поставили обещанный над могилой памятник: гранитную неотесанную глыбу, привезенную из Каменки с заброшенного карьера, разработанного когда-то заключенными, да и то благодаря стараниям Николая Петровича Березина и Алексея. Грубый и дикий камень, черно вставший рядом с крестами ранее ушедших из рода Березиных, был сродни покойному, прошедшему по жизни нелюдимо, на зонах и спецпоселениях. С лицевой стороны камнерез из Ленинска, приглашенный первым секретарем райкома партии Козыревым, отшлифовал в мастерской пластину, где по настоянию Зои Березиной было начертано резцом:
Березин Александр Петрович
1920–1958 гг.
В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей…Ни звания, ни места, где погиб! Только эти волнующие есенинские строки, любимого поэта зэков, Зоя со слезами на глазах с трудом упросила художника вырезать на камне. Бородатый камнетес, с голубыми глазами и обличьем северянина, еще совсем недавно отбывал тут срок, да так и остался навечно, грустно произнес:
— Мать моя! Мне органы этого не приказывали. Вот полковник, погиб от рук врагов народа геройски… Я вырежу твое, а потом меня за шкварник и опять на нары!.. Договорись, мать, сначала.
— Миленький мой! — Зоя хватала его за руки, большие и жилистые, избитые осколками, как у всех камнетесов. — Я заплачу! И на себя все возьму, если что!
На спор подошел пожилой мастер, с минуту слушал, потом попросил:
— Уступи, Ваня. Многие мы Березина знавали… Да и кто теперь из руководства или из органов притопает на могилку. Только добрый человек! А он смолчит…
— Смотри, мать! — сдался камнетес. — А деньги спрячь. Мне за все уж уплатил Александр Петрович, когда я тут чалился. Да-а-а-а! Кумовьям обелиски, а контингенту ямы!
У Зои похолодело в груди и мелово слиняло лицо, ярко высвечивая скорбные морщинки, сразу состарившие ее ясный лик. Пересилив себя, тихо ответила на оскорбление:
— Пентюх ты, Ваня! С мертвого легко дань брать. А с живого-то побоялся бы… Как?! — Не дождавшись ответа от растерявшегося художника, она стремительно вышла на волю, глотала воздух широко раскрытым ртом, ловила укоризненные слова старого мастера:
— Тебе надо, Ваньте, больше всех. Ты не путай ее с той кодлой. Она побольше твоего повидала. А Березин… служба такая. Не внутрянкой надо думать, а головой…
Понапрасну тогда все волновались. Из районного начальства приехал только Козырев, руководивший партийной организацией последний год, да молоденький лейтенантик из районного отдела внутренних дел. Накачанный Петром Семеновичем крепчайшим первачом, он и не понял всего смысла коротенькой эпитафии. Козырев же, внимательно посмотрев на Зою, потрогал шершавый бок гранита, разрисованного природой еле-еле видимыми бело-розовыми прожилками с блестками слюды, прошептал старческими вялыми губами что-то и уехал, отказавшись от обеда…
День тогда был пасмурный, будто плакала вместе со всеми природа. А сегодня солнышко припекает. Тайга купалась в светлом мареве. За спиной Зои канителились тополиные шумы, врываясь в уши назойливой песенной строкой. И тоска, как ветер в вершинах деревьев, мешалась с чистым светом, так блестит золотая ниточка в черни. И воздух, перемешанный с пьянящим запахом сирени, ласкал горевшие огнем щеки, витал невидимо над бугорками могил, целовал в губы горячо, обжигая…
Скрипнула дверца железной оградки, Зоя устало опустилась на лавочку, огляделась строго, измученная сегодняшними сомнениями своей жизни. Хотя и не подошла еще родительская, но могилка мужа была чисто прибрана, а на изломе камня лежал пучок завянувших уже подснежников и опрокинутый кем-то на столике стакан. «Сашка с батей навестили, — подумала она, впиваясь пристально в глыбу, в душе благодаря бога за то, что дал ей Березин такого сына. — Все же нашел время! Бросил девок, — она улыбнулась. — А мне не сказали… Ну, мужики!»
Зоя глубоко вздохнула, погладила шершавую бокину.
— Так вот, Березин… Саша! — растягивая слова, как в молитве, обратилась она к могиле. — Поминать-то уж все на родительскую придем… кроме Саши. На службу уходит сыночек наш! А сейчас, чтобы не прилюдно, хочу вот что тебе сказать, Березин, мой дорогой человечище. Все еще незабываемо! И Яма, и хитрый домик, где впервые встретились, и берег Сарысу!.. А камень-рыбак на комоде стоит и кажный день, будь то утро или вечер, напоминает о тех днях, когда наша любовь зародилась. Сторонюсь я людей, Березин. Боюсь, как бы не потерять тебя насовсем… Время бежит! Брат твой, Коля, все зовет меня… Тревожит! Да как я?! Эта весна меня совсем измучила! Проснулось, видать, бабье. А я уж не чаяла. Думала — все! Ан нет… Жизнь не протекла мимо. Да и сам знаешь. Сколько годков прошло, как ты покинул меня! — Зоя судорожно всхлипнула, схватилась за горло, где застрял горький ком. — Ответить ты не можешь, так чтобы знал… Во сне являешься редко, а другие советчики хотят, чтобы я была прежней. Особенно батя. Всегда была верна тебе… Но плоть во мне ныне заиграла. Может, напоследок?! Ты уж прости! На том свете свидимся и объяснимся. А любить я тебя буду век одного! Один ты мне дорог и любим, по сей день. Молюсь за Сашку. Он весь в тебя… Такой же отважный. Сохрани его бог. А Егорку ты не знаешь…
Сердце тискало и жало беспощадно, до потемнения в глазах. По щекам, внезапно побелевшим больше, чем камни Белого Берега, лились горючие слезы. Поплакав еще над могилкой, обессиленная, она решительно стянула с головы черный плат, выпустив на волю золотой сноп волос, в которых белыми пичужками упрятались сединки, накрыла им корзинку и встала с лавочки, низко поклонилась. На прибрежных осокорях, старых и морщинистых, повидавших на своем веку не одну вдовью долю, вовсю хозяйничало воронье, поправляя свои гнезда, понатыканные почти на каждой вершине, будто охапки хвороста. Кругом все жило и лоснилось, как после помывки. И скат Белых Берегов, косо уходящих к низовым лугам, ярко и дивно высвечивал две женские фигурки, вяло и с оглядкой продвигающиеся вдоль галечного уреза, еще не обнажившего меженевые плесы. Зоя не спешила догонять подружек, медленно приходя в себя, думая о своем, напрочно засевшем в сознании: «Мне-то, может быть, и не надо! Но вся родня, а особенно сыновья желают мне счастья!» Прижмурившись, Зоя посмотрела на солнце, желтым горячим диском катившееся в мареве полуденного неба, и заторопилась. От реки несло сладостью. Струи скатывались весело по перекату, над которым раз за разом вылетал хариус за мошкой, серебряным штопором выскакивая над стремниной. С того берега ветерок нес приливные запахи вербника, и маячили в завадинах рыбаки, выбредая в излучине на отмель невод, а потом бежали сломя голову к мотне, вывернутой на камнях, где поблескивала чешуей рыба.
Тихо подпевающие друг другу Катерина и Соня приумолкли и пытливо посмотрели на догнавшую их Зою, но вопросов задавать не стали. Так и шли молча, пока не показалась деревенская околица.
— Кажись, дошли! — радостно выдохнула Катерина, наломавшая в дороге припухшие ноги, приглядываясь ко двору, гадая, не приехали ли гости. Но во дворе, в полном одиночестве, копошился отец, тюкая топором по бревнышку. «Не приехали! И Алешки нет. Теперь к вечеру жди…» — подумала недовольно Катерина.
Отложив дерево, чувствуя, как хмель выходит наружу, стискивая голову железными обручами похмелья, Петр Семенович оглянулся на прогон и увидел баб, а среди них Зою с распущенными волосами, игравшими золотой копной на голове снохи, и попервой потерял дар речи.
— Мать моя… — охрипло прошептал он. — Зойка платок скинула?! Что за денек седни! Аж нутро еще больше загорелось, и голова стала светлой.
Катерина, вошедшая в калитку первой, посмеиваясь над остолбеневшим отцом, спросила:
— Чего, батя? Аль чуда увидел?! — и, проходя мимо отца, прошептала: — К Саше на могилку заходила…
— Вон чего?!
Петр Семенович воткнул топор в чурбак, пошел встречать. Из детского пристроя выскочила во двор ребятня. Сразу стало шумно и весело. Катерина тяжело опустилась на приступок у крыльца. Отдыхивалась, щурилась на отца, суетившегося вокруг снохи. Маринка, подхватив корзинку, тащила на веранду, удивляясь, как это мать дотащила такую тяжесть. Сашка подошел к матери, обнял и прошептал на ухо:
— Красавица ты у меня!
— Ну, ладно-ладно! — Зоя обняла сына за голову, притянула к боку Егорку, суетившегося тут же. С улицы донесся чуть хрипловатый грубый голос Сони:
— Заходить не буду… После…
— Иди, сынок, — кивнула Катерина Павлику. — Помоги тетке Соне донести корзину.
Петр Семенович потирал руки, светился весь, как новый пятиалтынный. Как же?! Любимая сноха в поправу пошла. «Может, и Кольке улыбнется? Лишь бы опять не напартачил. Но ныне мы это дело возьмем в свои руки!» — мысли вились затравленно, будто боялись подслуха. Он поглядел вслед уходившей в сенцы Зое, удивился не впервые, как это такая ладная баба столько лет увертывалась от мужиков.
Прогудел полуденный гудок на Айгир-заводе: «У-у-у-у-у!» И заглох, как будто захлебнулся паром. Из проулка вышел годовалый бычок Трифонова с оборванной веревкой на шее. Он поддел еще неокрепшими короткими рогами кучу хвороста, нарубленного хозяином с осени для плетня, но не востребованного по случаю запоя, растрепал ее и с ревом тронулся на прогон. Вскоре визг Марфы покрыл деревню:
— И-и-и… Опять, зараза, оборвал веревку! Купили, сатану, на свою голову. О-о-о!.. До осени бы дотянуть! Корнилович, утихомирь ты его!..
Ловили бычка всей деревней. У Самохваловых перекопал копытами, широкими, как банный тазик, все грядки. Люба охаживала бычка по крутому и упрямому лбу хворостиной. Тот только угибал к земле квадратную морду и ревел не хуже, чем заводской гудок. Матвей Егорович, сидя у себя на скамеечке, подзуживал, вытирая выступившие от смеха слезы:
— Ты его под пах, Любка!
Сашка догнал бычка возле реки, ухватил его за хвост и закручивал. Из-под ног парня летел песок. Марфа ругалась на него:
— Хвост оторвешь, бугай!
Трифонов наконец-то увалил бычка на бок, накинул на шею удавку. Тот сразу присмирел. Зоя видела, как у сына закаменели глаза. «Вылитый отец, — думала она. — Как служба пойдет? Вся жизнь в нем!.. Егорка уж второй и на пирогах выращенный. А Сашка вымученный!..»
Трифонов хлопнул ладонью по крутому плечу Александра, когда они завели бычка в сарай, проговорил восхищенно:
— А ты ловок, Сашок! Я бы взял тебя в свою бригаду, когда лес валил…
— А кто бы пошел!
Разошлись, судача о происшествии, нарушившем тихий уклад деревенской жизни. Катерина пошла ставить тесто на пироги. Петр Семенович, не решаясь попросить у дочери на похмелку, пошел к мужикам, курившим у реки на бревнах. Трифонов, с утра трезвый и злой, ругался на жизнь. Потянув носом, учуял перегар, повел им, как рулем.
— А ты уж, Петя, остограмился? А меня не позвал!
— Матвей выручил по случаю приезда, — оправдывался Петр Семенович. — Тебя баба сторожила… Но у него больше нет.
— Ясно!
— Аппараты надо выкапывать, — произнес старик Круглов.
— Пора уж, — подхватили мужики. — Но только власть все заимки знает и шустрит. Кому охота лямку два годика тянуть… Да и сахару ноне нет. А из картошки вонькая…
— Знаем местечко! — ощерился Трифонов. — Правда, Петя? Там власть не достанет. А сунется — так в Бересеньке искупаем.
— Бывалоча, хоть залейся! — гундосил Круглов. — В районе, когда был у сына, купил бутылку, а пить домой пошел.
— Так оно, — согласился Петр Семенович. — Пора уж власть менять и пивные открывать!
— Тише ты!
— А че тише? Говорят, вся водяра за бугор идет. А чего там! Кольку как-то спрашиваю: «Чего там думаете? Какую политику будете дальше толкать? Разбаловался народ. Работать не хотят. Воруют, а вы вроде засохли в обкоме-то! Бывало, Назаров даст разгону, и все бегут, куда надо. Не понравился!.. К нам сунули… А для него масштаб пошире бы… Корнилович тоже смотался с лесу…
— Но-но, ты! Не больно-то задирайся! — возмутился Трифонов. — Я свое отработал и получил, чего надо! Охота отпала теперь ломаться на дядю. Сталин бы навел шороху!
— Шебуршатся и сейчас, да только на бумаге. Раньше цены снижали, а теперь поднимают… А ты, Корнилович, поди, уж истратился. Не зря Марфа…
— Ха-ха-ха! — закатился Круглов.
— Да пошли вы! — Трифонов притушил окурок каблуком сапога, с явной обидой тронулся к дому. За ним потянулся Петр Семенович. Недовольство властью передалось от мужиков и к нему. «А верно бают, — томилась мысль. — Деревни сдохли! Все уж в городах!.. Свобода! Выходит, она нам не в пользу?! Колька приедет, навтыкаю я ему петухов по самую сурепку!..»
Петр Семенович вошел в дом с головной болью и приказал дочери, крутившей мясо на мясорубке:
— Открывай свою кубышку, а то помру!
— А фига не хочешь? — Катерина весело прищурилась.
Ты как с отцом разговариваешь?!
Зоя вытерла руки о передник, сказала свекру ласково:
— Не заводись, батя! Я тебе спиртику налью из своего запаса.
— Видишь? — взлетел соколом Петр Семенович. — А ты-ы-ы! Эх!
К вечеру небо посерело и пошел дождь. Над горами повисла мгла, пришедшая с запада. Петр Семенович, прибирая во дворе инструмент, глядел на грозные тучи, плывшие низко, и горевал:
— В такую погоду и самолет не полетит. Припоздает Колька!
К воротам подъехал на своем москвичонке Алексей. Петр Семенович раскрылил тяжелые створы, пропустил машину во двор. Алексей вышел из салона, хлопнув за спиной дверцей.
— Как дела-то, сынок? — спросил Петр Семенович.
— Погибаем, но не сдаемся! — шутливо ответил Алексей.
— А чего так?!
— Десятый ус за полгода закрываем, батя. Скоро железке конец наступит да и всему леспромхозу. Вот Каменку прикончим и все!
Алексей вошел в избу, оставив тестя додумывать. Петр Семенович покачал головой, глядя Алексею вслед. Заботы членов семьи — его заботы. От старицы сорвались голуби, и часто-часто махая крыльями, улетели к поселку. «Баньку надо подтопить, а то Сашка, поди, все выхлестал!» — вторглась посторонняя мысль.
А над Уралом разыгралась непогода. И темнота нависла над деревней рано. Где-то в распадке проурчал гром, затухнув в тайге. Над Бересенью пронесся ветер, вздыбил серые валы, хлынувшие в берега…
5
С января тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, теплого на Урале и необычно вьюжного, Темирязевский леспромхоз вновь взбудоражился, как перед бурей. По самому управлению, по таежным поселкам и по дальним разработкам лесных угодий поползли тревожащие людей слухи о том, что вскорости надвигается новая волна переделов и перестроек на производстве с массовыми сокращениями многих служб и рабочей силы. Только-только подзабыли с трудом пережитые хрущевские новшества в лесном деле и избежали значительного сокращения штатов, вызванного бездумными укрупнениями, как вновь на носу, словно прыщ, оказалась новая экономическая реформа, разработанная сентябрьским пленумом и утвержденная на двадцать третьем съезде Коммунистической партии Советского Союза. Газеты в те дни захлебывались от восторга и ненужной трескотни, открыто подхалимничая властям, думая, что простой работяга, имевший за спиной три класса и четыре коридора, прямиком и добровольно пойдет по этому пути. Но народ на делянах только крутил пальцем у виска и матерился направо и налево, считая отощавшую копейку в дырявом кармане: «Наше руководство высшую мазу держит! Ему че?! Не слиняет, а вот мы!.. Благом для людей прикрываются!»
На самом деле, кроме бестолковой суматохи, ломавшей старые устои, да шума вокруг этого дела, эти мероприятия ничего нового и хорошего в лесное производство не приносили. Те же хрущевские лозунги, подкорректированные и облизанные политуправлением под Брежнева, уж очень убедительно призывающие к объединению и укрупнению хозяйств, даже явно убыточных, в ущерб экономике предприятия, куда вливались основные средства и исчезали, как в бездонной бочке. И снова, как во все времена, Главлеспром выбрал для опыта Темирязевский леспромхоз, давно уж избранный в стране флагманом, хорошо оснащавшийся техникой, с удачным подбором кадров, разработками передовой лесодобычи и лесопереработки на научной основе. От новшеств отбою не было. В Темирязевском, как грачи по посеву, паслись ученые всевозможных институтов. Они успешно кропили диссертации, склевывая поверх лежащие зернышки, а в земле было пусто. Николай Петрович Березин, руководивший тогда комплексом, помимо своей воли понесся по волнам славы, стал приверженцем небывалой заварухи. Слухи сочились, как вода в болотистом истоке: будто бы Березин метит на вторую золотую медаль, поэтому и несется сломя голову, закусив удила, не ведая, что его ждет впереди.
Противников создания комплекса было много, а среди них вновь избранный первым секретарем райкома партии Назаров Анвар Галимзянович.
— Смотри, Коля! — предупреждал он Березина. — Мы уже страдали однажды от всех партийных и промышленных передвижек. Ты подумай! С людьми посоветуйся…
А люди в то время позванивали хоть и тихо, но ядовито и остро:
— Все понятно! Новому секретарю обкома Мажитову одно место подлизывает да и до московских кабинетов дотягивается. Язык-то длинный! Заелся!.. Забыл, чем народ живет. Попомните… Наворочает он тут дел… Звезду получит и айда-инды в область… На высокую должность.
Прямолинейный, как штык, Трифонов прямо в глаза сказал Березину:
— Сгонишь народ в кучу, а дальше что делать будешь? Завернул ты против ветра, Коля!
Но Березин уже увяз по уши в этой идее и отступать не хотел. Только спустя время, когда все уперлось в тупик, он понял, что лавры достались не ему. И вывеска на фасаде управления уже не радовала и не блистала золотом. А лозунг, рдевший кумачом люминесцентной несмываемой краски, стал до отупения противен: «Рубить меньше, больше перерабатывать — это социальная проблема!»
Площадь уж давно расширили за счет снесенных пивнушек, и шоферня, спешащая на лесосеки, проклиная новые порядки, теперь толкалась возле продовольственного магазина, по нужде соображая на троих, а потом гуськом торопилась в чайхану распивать бутылки из-под стола. Официантки чуть ли не обшаривали выпивох, а бдительные кассиры за десятикопеечный стакан брали с каждого залог рубль, а то и трешку.
— Порядки, едрена вошь! — матерились мужики.
— Клавдия! — орал, балагуря, здоровенный шоферюга в затертом матросском бушлате, треснутом под мышками, откуда клочками торчала грязная вата. — Ты вон того, что под картиной сидит, проверь! Он в ширинку граненый сунул!..
— Ха-ха-ха! — заржала вся чайхана.
Сухонький паренек, известный среди шоферской братии, как неисправимый трезвенник, баловавшийся чайком, краснел. А официантка, крупная и дородная баба, укоризненно качая головой, отчитывала амбала, отстегивая ему по-бабски завитые матюки:
— И-и-и!.. Налил зенки, звонарь приблудный. Не тряс бы своими причиндалами. Машка-то скоро с бондарем снюхается. Тот молоточком тю-тюка! Лесина!.. Ума, как у пенька!
— Да я, да ты! — икал здоровяк, багровея на глазах.
Все знали, что суженая его вертит подолом туда-сюда, когда муженек в дальней поездке.
— А-а-а, о-о-о! — зал задыхался. — Ха-ха-ха!.. Ух, Клавдия! Отшила — так отшила!..
Бытовуха заедала народ, а создаваемый комплекс еще ничего не давал, а только брал, быстро сжигая собственные накопления и постепенно зажимая копешку у работяг, сея недовольный ропот:
— Амба леспромхозу!
— Не за того голосовали!
— Начальство над нами, а не для нас…
— Сматываться надо! — но никто пока не трогался с места, авось да лучшая жизнь наступит, как обещали газетки и радио.
И только к середине апреля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года наконец-то разобрались, что к чему, все акты были подписаны прилюдно в леспромхозовском дворце культуры, речи сказаны, а обещания лились молочными реками с кисельными берегами. Долго не смолкали овации, когда представитель Главлеспрома вручил Березину соответствующие документы в красной папке с гербом, а Мажитов, прилетевший из области на торжества, тужась, выкрикнул:
— Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее верный ученик товарищ Брежнев! Ура-а-а!
Жидкие голоса первых рядов, где сидели передовики производства и начальство, потонули в басистом реве динамиков, игравших «Интернационал». Все встали. Грохот откидных сидений пулеметной дробью прошелся по рядам…
Трифонов, на этот раз сидевший не за столом президиума, а почти в последнем ряду, скрытно сплюнул меж коленей, матюкнулся про себя и, нахлобучив на голову фуражку, пробрался к выходу. «Все! — колотилась мысль. — Сдох леспромхоз! И ведь никто не пикнул…»
В роскошно оформленном буфете, с коньяками и икрой, скучали официантки, строго выполняли приказ: «Не обслуживать, пока не закончится торжественная часть!» И столики были пусты. Только в уголке, за громадной пальмой в бочке, пристроился бывший секретарь райкома Козырев. Увидев Трифонова, махнул ему рукой.
— Подсаживайся, герой! Ордена нацепил, думал, тебя в президиум выдвинут?!
— Клал я на этот президиум!
— Наливай и пей. Чешское… Пивком вот балуюсь.
— Мне бы чего покрепче, Наталья, — развернулся он со стулом к буфету. — Отоварь коньячком!
Молодая, краснощекая буфетчица в снежно-белом кружевном кокошнике игриво повела пышным бюстом, пропела:
— А больше ничего не хочешь?!
— Ну и закусь…
Официантки прыснули в передники. Коньяк пил один Трифонов. Козырев двигал седыми бровями, наклонившись к Трифонову, говорил с обидой:
— Не справится Березин с такой махиной. Я говорил Назарову, но тот отмолчался. Лесов почти не осталось, а такое крупное хозяйство надо кормить. Говорит, что из Сибири лес на переработку будут завозить. В копеечку обойдется каждая табуретка. Да и не вытянут заводы без лесозаготовок…
В состав Темирязевского лесокомплекса, за головной которого был взят леспромхоз, вошли Айгирский дерево-перерабатывающий завод, отделившийся от леспромхоза всего четыре года назад, пустившись в самостоятельное плавание по волнам реформ, по капризу какого-то столичного чиновника, решившего отделить лесопереработку от лесозаготовок. Главный бухгалтер завода, капризный и въедливый старикашка Силантьев, любивший во всем зажимать деньгу, только топал ногами и махал руками: «Опять растраты! Новые печати и штампы делать!..»
К рукам прибрал Березин и Красноярскую фанерную фабрику да еще с десяток мелких допотопных заводиков, разбросанных по нижнему и верхнему течению Бересени; Ленинские угодья, где еще сохранились небольшие зоны, пользующиеся подневольной рабсилой: заключенных и ссыльных. В самой Плакучке и вдоль транссибирской магистрали отошли все артели, организованные еще при царе Горохе, а некоторые во время войны, выпускающие канифоль из пневого осмола, пихтового масла, порохово-динамитных компонентов и древесных смол.
Пошумели, как на ярмарке, а дело перешло в застойное болото. Попахивало полным развалом. Радостно встреченный переход на новую систему планирования и экономического стимулирования принес обвальный срыв планов, что тут же сказалось на зарплате. Люди, не видя просвета, увольнялись пачками. Николай Петрович Березин высох, как мумия, и не раз вспоминал предостережения Назарова, бил тревогу. Больше всех переживал за дело сына Петр Семенович. Да еще подлила масла в огонь коварная статейка в центральной газете «Лесная промышленность». Разные слухи и сплетни на уровне, бабских посиделок всегда пропускал мимо ушей: «Завидуют, вот несут околесицу!» — успокаивал он сам себя. Но тут как обухом по голове. Атамановский прощелыга и жулик, крутившийся в одной компании с Шарыгиным, сделавший не одну ходку на зону, подсунул на остановке в Темирязевском газетку, подтолкнул старика плечом и проговорил злорадно в волосатое ухо:
— А твово-то тут здорово обкакали!
— Не задирайся, Борька! — отмахнулся Березин. — А то шмякну по морде!..
— Хе-е-е! Бе-бе-бе! — заблеял по-бараньи мужик. — А ты почитай!.. Ха-ха-ха!
Петр Семенович кинул газетку в урну, а сам тронулся к центру поселка.
— Аль не поедешь домой, Петя! — крикнул вослед старик Бодягин из Айгирского поселка.
— Ему «Волгу» подадут! — сострил кто-то из баб. Петр Семенович купил газету, зашел за киоск, развернул.
— Так-так! Чего тут про Кольку калякают?! Все славили!.. — проговорил он дрожащим от волнения голосом, доставая из кармана очки, перевязанные вместо дужек бечевкой.
Читал Петр Семенович медленно, оглядываясь через плечо, как будто боялся, что его подслушают:
— Бревна-то и не заметили, — шевелил он губами. — Вот гад! «…Более чем за двадцать лет службы в лесном хозяйстве, — писал какой-то Пенегин, — мне пришлось работать в передовом Темирязевском леспромхозе. Развитое промышленное производство, руководимое Николаем Петровичем Березиным — Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР, процветало. Я боготворил этого человека! Но сейчас постигло меня глубокое разочарование! Товарищ Березин потерял нить, ради новой славы. Поэтому, мне кажется, могу высказать свое мнение. Не дорос еще товарищ Березин до таких масштабов. Бездарное руководство привело к краху всего хозяйства. Раньше всех беспокоило наличие двух хозяев в лесу. Сейчас там нет ни одного…»
— Читал?! — гремя протезом, ворвался в кабинет сына Петр Семенович. — Это как понимать?!
— Читал, батя, — вяло поднялся из-за стола Николай Петрович. — А вот еще, — он взял с тумбочки пачку газет, кинул веером перед отцом. — «Известия», «Труд» и наша, уральская… А ты читай-читай все! — взорвался он.
— Ишь ты! — Петр Семенович плюхнулся на стул. — Прятали от меня! А я чую, что что-то не то… Обломался, Колька! Алешка и то предупреждал, что ты не в ту степь подался…
— Ястребов мне не указ! — Николай Петрович упрямо угнул голову. — Копнули под меня крепко. После трескотни всегда завистники найдутся, — он поднял голову на отца, продолжал: — А ты, батя, не переживай! Кому-то я на мозоль наступил… Обойдется.
— Ну, смотри! Хвалили, хвалили, и вдруг неугоден стал. Так я понял?
— Так, батя. Может быть, тебя подбросить?
— Сам доеду. А кто такой Пенегин? И везде он?!
— Да нет… Все разные… А кто они такие? Пенегина у нас и в помине не было. В кадрах справлялся. Анонимщики…
После такого поворота дела шумная толпа репортеров, кормившаяся в Темирязевском, постепенно схлынула. Николай Петрович понял, что карьере его пришел конец, и пошел на прием к Мажитову. Тот принял его с неохотой и холодком, которого прежде не наблюдалось. Он прятал жесткие черные глаза под густыми бровями и потирал широкие скулы большой рабочей ладонью. «Та-а-ак! Песенка моя спета, — промелькнуло в мозгу. — Как всегда, тянули до последнего. И славу надо было развеять. Но людей не обманешь. Они добро помнят». Чувствовалось, что первый секретарь обкома не знает, с чего начать. Березин на удивление чувствовал себя спокойно. Все волнения уже остались позади.
— Я знал, что вы вскорости придете, — заговорил чуть хрипловато Мажитов, угрюмо поглядев на собеседника, выпустив из ладони квадратный подбородок. — Вовремя…
— Скажите, в чем я виноват? — зло уставился на Мажитова Березин. — Комплекс только-только создался. Какой может быть план?!
Мажитов нажал кнопку вызова секретаря. Тот появился мгновенно, словно все время стоял за дверью, обитой березовым шпоном.
— Слушаю вас…
— Найдите Кедрова и пригласите сюда, — повернувшись к Березину, продолжал уже жестче: — Это ваш преемник…
Кедрова Вячеслава Васильевича Березин знал по промышленной академии, где заканчивал заочно ускоренный курс переподготовки руководителей лесных хозяйств. Кедров был тогда директором Кареевского леспромхоза где-то в Сибири. Знакомство было шапочным и в дружбу не переходило.
Кедров вошел в кабинет стремительно. Увидев сидевшего за длинным столом Березина, погасил улыбку и медленно сел напротив, сложив руки на груди.
— Знакомьтесь! — вытянул ладонь Мажитов. Березин, чуть помедлив, ответил:
— Мы знакомы…
Кедров, видя недоброжелательство со стороны Березина, руки не протянул, заговорил резко:
— Я прошу, Николай Петрович, не относиться ко мне враждебно! Не мы решаем свои судьбы… Через неделю я буду в Темирязевском. Прошу подготовить все и не затягивать с передачей. Я могу идти? — повернул он пылающее от волнения лицо к Мажитову.
— Да-да! Мы еще с вами поговорим.
Когда Кедров вышел, Мажитов тихо произнес:
— Можете занять должность любого вашего производства и любого ранга. А нет, так… — Мажитов чуть помедлил. — Предлагаю вам работу в обкоме инструктором в отделе промышленности. В этом мне дано право помимо Москвы. Поработаете, а там видно будет. Человек вы известный всей стране. Пройдет время и все встанет на свои места. Бобко не вечен…
Березин теперь понял, кто его съел. Он выбрал второе и с головой окунулся в новую работу, позабыв все обиды, в том числе и неудачу со сватовством. Неделями мотался по области. Добывал технику для лесного производства…
С той поры много утекло воды в Бересеньке. Темирязевский лесной комплекс поначалу воспрянул с новым руководителем, а потом влачил жалкое существование. Почти все старые рабочие, осваивавшие лесные массивы вверх и вниз по Бересени, ушли, кто на пенсию, а кто, как Трифонов, пристроились на заводиках и в артелях. Некоторые перебрались за Урал искать доли в степях Казахстана и Оренбуржья. Остались закоренелые уральцы, обремененные семьями и хозяйствами. Руководители предприятий менялись с невероятной быстротой, словно это не промышленное хозяйство, а железнодорожный вокзал. Сел на поезд пассажир и прости-прощай. Только его и видели. Березин скрытно переживал. Тут, в Бересеньке и Темирязевке, была его жизнь. Все проходило тут, не считая войны. Боль стиралась медленно и тяжело, как за утерянное родное детище. И тяжелые думки нет-нет да возвращались и тревожили сердце. Так и жил все эти годы со скрытой вечной тревогой!..
* * *
С полудня, как только приехал в Бересеньку Николай Петрович Березин, началась суета: ставились пироги с рыбой и мясом, со щавелем и грибами, тушилось, варилось, пеклось целый день. Петр Семенович, все же выклянчивший у дочери косушку ради приезда сына, ставил возле бани на древнем кострище треногу под трехведерный казан для ухи, приглядывался к тому, как Трифонов, чистивший стерлядку с Алексеем Ястребовым, выпытывал у сидевшего возле самой воды старицы Николая Петровича:
— С мужиками мы спорили, Николай Петрович, чуть ли не до мордобоя. Я им говорю, что невозможно меньше рубить леса, а перерабатывать больше. Что-то не вяжется! А все кругом талдычат: газеты, радио, телик… Куб — он и есть куб! Как ни крути… Хоть на попа ставь: доска, горбыль, обрези, опилки — больше не выкроишь! Может, ты мне, дураку, втолкуешь? А то мужики лопочут: «Раз партия велит — вынь да положь!» Как это!?
— Ты не у меня спрашивай, а у политбюро.
— Ха-ха-ха! — выдохнул вместе с папиросным дымом Трифонов. Его большие черные глаза завлажнели от веселости. — Алешка так же талдычит. А все же? Умные вы мужики, а правду сказать боитесь. Сидите…
— А ты тоже когда-то был наверху. И в Верховном Совете пороги обивал. Две звездочки заработал… Че же не спросил? У Сталина… Бартневу вон, из Яра, бюст поставили на площади, а тебе чего же? — перебил Трифонова Алексей, посмеиваясь.
— При Сталине, — посерьезнел Трифонов, — таких дурацких лозунгов не было! А для меня бронзы не хватило. Бартнев — он цуцик! Ему и килограмма в самый раз…
— О-хо-хо! — покатывался Николай Петрович, может быть, впервые так открыто и без всякой задней мысли смеялся он. — Вас послушаешь… Как в анекдоте!..
— Да че, анекдот! — встрял в разговор старший Березин. — Жизня такая пошла. Ордена и медальки сыплются, как во время снегопада…
— Во-во! — поддакнул Трифонов, смахивая с ножа приставшую рыбью чешую. — Все верно! Что, не правда?!
Николай Петрович сразу замкнулся. Поджав полные губы, взялся одевать лаковые ботинки на коже. Видно было, что отвечать на едкие вопросы мужиков он не собирался.
— Я, батя, к Ветровым схожу. А то еще обидится. Приехал и не показался.
Когда сын отошел в сторону огородов, Петр Семенович проговорил тихо:
— Секлетарь! А вы пристали: чего да почему? Неположено ему с высоты-то положения на такие вопросы отвечать.
Алексей полоскал рыбу в старице, отмалчивался. Трифонов с силой воткнул острием нож в разделочную доску, проговорил:
— Все, Петя! Можешь затоплять. А Колька-то другим стал! И брюшко, как кисель… А и вправду метил он еще на одну звездочку, да Брежневу самому золото нужно. Обрыбился!.. Прозевал момент. Изменился… Потому Зойка за него и не пошла. Она людей насквозь видит своими глазищами…
— Мели, Емеля! — выкрикнул Петр Семенович, вспыхнув и обидевшись за сына. — Ты это брось!.. Завидки берут, что не у власти! Ежели бы ты не лакал водяру, как верблюд на водопое, то, может быть, тоже где-то в верхах сшивался. Алкоголик!
Длинный Трифонов так и растянулся во весь рост на бережке, чуть-чуть не замочив ноги. Хохоча и мотая кудлатой головой, он с трудом поднялся и пошел к калитке. В проеме обернулся, выкрикнул без злобы:
— Я, Петя, работяга! А таких в верха не берут, чтобы кровь не мешалась. Номенклатура!.. Пойду, загашник выверну…
— На мою долю… — заикнулся было Петр Семенович, но Трифонов показал ему кукиш.
— А это видел?!
Петр Семенович в ярости чуть не разнес только что разгоревшийся костер под маслянисто-черными боками казана, пиная головешки.
— Дылда!.. Аквонавт!.. Подсохнешь — я те тоже покажу кое-что! Сволочуга!
Он бы еще нашел обидные слова, но его остановил Алексей:
— Хватит лаяться! Как кошка с собакой… Сколь знаю…
Всю ночь и весь день, почитай до самых проводов, по деревне лились песняки и глухо гудела земля под подошвами, отдаваясь в утесе Айгир-Камня. Гуляли по-березински, как в старину, до упаду. Сашка, главный виновник гулянки, давно уж сбежал из компании к девкам на танцы. Никто этого и не заметил. К утру второго дня перекинулись на заветный бережок Бересени. Зоя сидела чуть в сторонке, слегка выпивши, кидала в темную воду гальку, вспоминала такие же вот посиделки с выпивкой на вечерней зорьке, когда черноглазая деваха принесла в своих руках страшную весть о гибели Березина. «Течет времечко, как водица в речке, а я все с ним! — думала она с придыхом, как будто в сердце вошла колючая занозина. — Вчерась Катька все сватала к Николаю… Может, и пошла бы на лужок! Да только он, как пень: сидит и глазищами зыркает…
6
По какой-то причине отправку призывников задержали на неделю. Николай Петрович использовал эти дни, разъезжал по предприятиям комплекса на дежурившей каждый день у ворот березинского дома райкомовской черной волжанке. Люди не особенно радостно привечали бывшего директора, считая, что по его вине разрослось хозяйство и разбрелось, кинутое на произвол судьбы, как отара на косогоре. Возвращался он в Бересеньку мрачный, все время о чем-то думал, стоя рядом с порогом, возле порожистых Шумов, глядя, как увлекает скат воду, идущую клином в распор. «Вот так и моя жизнь течет с препятствиями, — колготилась мысль, особенно ярко выраженная здесь, у родных ворот. — Скатываемся…
Отец как-то потревожил сына, подойдя сбоку, выдав себя хрустом протеза. Давно хотел расспросить, что так остро встревожило большого областного начальника. «Сашкин призыв?! — мучительно думал он. — Не то!..»
Увидев отца, вышагивающего среди прибрежных валунов, Николай Петрович заговорил первым:
— Понимаешь, батя? Народ стал другим! Неприветливый какой-то, смурной… Будто подменили. Ведь с Боровым вместе выросли!
— Будешь, сынок, смурным, — неторопливо заговорил отец, свертывая из самосада папироску. — Вроде пустяк, а табачка-то в магазине нет. Да куды ни сунься!.. Вы там, в верхах, забыли про народ и не знаете, чем он живет. Да и спокон века не видели! — Березин в сердцах взмахнул рукой. — Дойные коровушки люди… А их кормить надоть, тоды и молочко будет. А че зазря вкалывать-то?! — Он пристально посмотрел сыну в глаза, тот отвернулся, подумал: «А и правда!» А отец продолжал: — Спекулянтам сейчас лафа! Машка, вон, в Москву смотается… А че? Сутки туда — сутки обратно. Привезет колбаски, мясца, апельсинов и папирос… Из дома али из-под прилавка распродаст втридорога. Да еще барахлишка разного бабам навезет… Все хиреет, Коля! Сколь деревень и поселков повымерло?! То-то!.. Да че говорить!..
Тень от хребта набежала на тот берег, и Сталинский косогор потемнел, будто его облили тушью. Зажглась первая лучистая звездочка в синем восточном небе. Зорька только-только разгоралась на западе. Обещала быть по-майски теплой и нежной. На утесе Айгира давно не меняли флаг и он, выполощенный дождями и ветрами, бился по-голубиному трепетно. Тишину, застрявшую в тайге, нарушал ритмичный рев порога, немного утихомиренный сушью. В поселке, на молодежной танцплощадке, в руках массовика наяривал аккордеон, подстраиваясь под голос приехавшего на заработки голосистого парня:
Нам все вокруг шептало о нездешнем: И сосен золоченые столбы, И ярко-малахитовый орешник — Подарок поздний лета и судьбы…Окна дома засветились. Хлопнула дверь, проскрипела калитка, к беседующим подошел Алексей, бросил папироску в водоворотик, проговорил приглушенно:
— Николай Петрович, батя, все вас ждут ужинать. Наговоритесь еще за вечер. Да и выпивка киснет.
Николай Петрович поморщился. Отвык уж он от пьянок. А тут каждый вечер выпивка. А что поделаешь?! Такова уж давняя традиция — гулять, так до упора.
В этот предпоследний день перед проводами Александра сидели малым столом. Собралась только родня, и было тихо. Так захотела Зоя, провожая на службу своего старшенького. Незаметно пролетели годики, и вот уже сидит Александр Александрович Березин, ныне удержанный матерью от вечерок, за общим столом, тиская в сильных пальцах граненый стакан с разбавленным спиртом, насильно всученный дедом, глядя на приевшуюся за эти дни водку с отвращением, и с трудом выслушивал наставления стариков:
— Ты перво-наперво с взводным сойдись, — гундел нудно девяностолетний старик, приехавший с родней из Оренбурга, служивший когда-то в казачьем войске, — а то ить оружие достанется никудышное. Свово-то нет ноне…
— Дед, это же не старая армия! — перебил его Алексей, жалея племяша.
— Цыц ты! — взъерошился старик. — Всякая козявка лезет. Скажи ему, Матвей! — повернулся он к Ветрову.
— Да чего спорить! А ты чего глаза, ровно девица, опустил? — сменил пластинку хитрый Ветров. — Пей да к девкам!..
Сестренки и братишки, сидевшие ныне не отдельно, словно галчата, щебетали в другом конце стола, попивали брусничный морс, насмешничали над взрослыми втихую. Маринка, как самая старшая, горячим шепотком их урезонивала:
— Повыгонят из-за стола! Тише вы!..
Малышня на минутку затихала. Сидеть за столом, где пьют и мелют всякую чепуху взрослые, удавалось редко.
Зоя за стол в этот вечер еще не садилась, а на правах хозяйки разносила блюда со сменой, сдержанно посматривала на захмелевшего сына, думала: «Не в отца. Того ведром не сломишь!.. Бывало, все валяются, а он, как стеклышко, покойничек…» На притихшего за столом Николая Петровича поглядывала украдкой, зная в душе, что сегодня она бы пошла за ним. Сковывала ее и настороженная прямота березинского короткого взгляда. Она то краснела, то бледнела. «Я, как девочка, — проносились мысли. — Заросла я мхом, как столетняя колода…»
Когда ставила чистую тарелку перед Березиным и нечаянно коснулась его руки, оба разом отдернули, словно обожглись. Петр Семенович приметил напряженное поведение обоих, усмехнулся: «Искорка!.. Искорка меж ими…» Катерина подмигнула золовке. Та, вильнув синей юбкой, которую надевала только для мужа, выскочила в кухоньку, привалилась плечом к перегородке, прошептала:
— Господи! Вот нашло-то!..
Возле печи возилась похудевшая за эту зиму Анна. Точила ее изнутри какая-то болезнь, но она скрывала и к врачам не шла. «Бабье! Пройдет…» — успокаивала она сама себя. Повернувшись от шестка и увидев горевшую Зою, отняла у нее фартук, подпоясавшись, подтолкнула ее к двери:
— Иди-иди, милушка! Сомлела совсем, как скошенная трава. Говорила тебе ранее, что бабью силушку не переборешь. — И, притушив голос, заговорщически добавила: — Хватай Кольку за жабры! Давно уж в сети он… А то уйдет и ищи-свищи! Хватит тебе маяться. И Сашке на службе спокойнее будет…
— Наговоришь тоже! — с дрожью в голосе отозвалась Зоя, но тщательно поправила золотой локон.
В это время куряки вывалились во двор, уже изрядно подпитые. Расселись кто где. Сашка все же набрался под одобрение стариков, сидел на крылечке, пытался что-то запеть, мотал головой, срываясь в голосе и икая. Трифонов пожалел парня и два раза макнул его в бочку с водой, стоявшую под сливом с крыши. После чего Сашка еще больше замычал.
— Не мучай ты его! — заступился за племяша Алексей и увел его на ветерок к старице отлеживаться.
А округа уже утонула в майской ночи, насыщенная речной свежинкой, влажной и тягучей, как мед, с духмяной прозрачностью. Все ушли в дом спустя полчаса. Алексей с Сашкой толковали пьяно о жизни у старицы. Николай Петрович решительно загасил папироску и, поправив галстук, шагнул в сени. Там он неожиданно для себя столкнулся с поджидавшей его Зоей. Она как бы нечаянно припала горячей пышной грудью к его груди. Он замер, только шумно ноздрями вдыхал сладко-васильковый запах ее волос. В полумраке лица мраморно белели. И лишь глаза вспыхивали каким-то волшебным пламенем. Рука его непроизвольно легла на теплую пополневшую талию и затрепетала…
— Ой! — выкрикнула Зоя и, с силой оттолкнув Николая Петровича от себя, выбежала во двор, потом за ворота и тронулась сумасшедшими рывками к Айгир-Камню, прислушиваясь всей силой к неуверенным шагам Березина, идущего на расстоянии позади. А след женщины, приминавший молодые травы и мерцавший на ранней майской росе, все уводил и уводил его в сине-розовую глубину ночи, подальше от жилья и людей. Вот и порог, между камнями пенная нить воды, а по берегу тонкая тропочка, уходящая к макушке древнего утеса, схороненная среди прошлогодних бустылей медвежьей пучки, лобастых валунов, мшелых и холодных, цветущего пахучего вереска. Тонкий терпкий запах кустарника проникал в мозг отрезвляюще. Было тут тихо. Только впереди живо шелестела трава от ног женщины. В расщелине в золоте ущербной луны, выплывшей из-за хребта, на миг мелькнула фигурка Зои и тут же исчезла. Березин засуетился, задыхаясь, выкрикнул:
— Зоя!.. Зоинька!.. Подожди!..
Вызванивал внизу порог, сотрясая скалы, но тут торопливая тишина била в уши набатом, играла в жилах кровь. Ободравшись о вереск, спутывающий ноги сплошным стлаником, слизывая с ободранных ладоней кровь, Николай Петрович с горечью подумал: «Заблудился в родных местах! Позорник!.. Где же я тропу потерял?!» И не найдя ее, ринулся напрямую по склону, ломясь, словно лось через буреломы, тяжело отдыхиваясь после десятка шагов. Наконец-то он вяло выскочил на вершину, еще трепетавшую в свете непотухшей зорьки, и увидел Зою, неподвижно, словно статуя, стоявшую на плоской плите, нависшей над Бересенью острым козырьком. Она застыла каменно в том самом месте, так же сложены были руки на высокой груди со сжатыми крепко кулачками, как в тот трагический вечер, теплый и тихий, когда узнала о гибели мужа…
Медленно затухавшая заря высвечивала по гористому горизонту сине-лиловой косынкой, медленно и с неохотой прячась за каменистый хребет. И в этом прозрачном и колеблющемся ореоле впечатанно виделась высокая женщина с копной золотистых волос, в которых запутались паутинки уходящего света, не дрогнувшая и не повернувшаяся на осторожный шум известкового щебня под ногами Березина, прозрачно и завороженно глядя на яркий свет заката, на покрытую глубокой тенью долину, утонувшую, словно в колодце, где слабо светились огни Айгир-завода, редкий рядок деревенских окон, девственный серебряный настил вод Бересеньки, уходящий вдаль, в глубь таежного мрака, к первому пристанищу болотистых истоков. «Крылья бы! — мечтательно подумала она. — Взлетела бы!.. И была бы свободна, как вольная птица! Как вон то облачко, что застряло в закате!.. — эта мысль всегда ее сопровождала в неволе, в те далекие, но не забытые времена, тяжестью иногда сдавливающие сердце. — Саша!.. Саша!.. — стоном отдалось в груди. — Зоя на секунду прикрыла глаза и почувствовала, как ее обнимает и тянет к себе бездна. — Нет! Поживем еще!..» И в этот миг, короткий, как вспышка молнии, горячее дыхание опалило ее шею, а вязкие руки, совсем не похожие на руки Александра, спеленали плечи и резко развернули. Зоя открыла глаза и совсем рядом увидела лицо Николая Петровича, покрытое мелкими бисеринками пота, жадно раскрытые черные глаза, где еще проблескивала стыло синева отблесков уходящей зари и выпукло отражалась скрытая печаль. И это тронуло женщину… Она медленно, слишком медленно положила руки на его плечи, припала к губам лбом, как будто в тяжкой истоме.
— Будь что будет! — прошептала она сухими губами. Николай Петрович, весь поглощенный знойной пылкостью, не заметил ее усталой тоски. Много лет он мечтал о такой встрече и сейчас понял все напрямую, с наслаждением вдыхая волнующий запах ее волос, не думая о том, что будет дальше.
— Молчи, Коля!
Зоя прижала к его воспаленным и сухим губам свою влажную от волнения ладонь, скрытно улыбнулась. Он попытался обнять ее прямо тут, возле откоса, но она ловко увернулась и побежала по тропке вниз, не оглядываясь. Березин кинулся следом…
По железной дороге, полудугой огибающей отрог, промчался грузовой поезд, гремя пустыми пульманами и монотонно, как метроном, отстукивая стыки. Писклявый гудок электровоза всполошил окрестные горы и, убывая, затих за станцией. Короткое эхо рикошетом поцеловало розовую лобину Айгир-Камня, веками смотревшую с каменной надменностью в долину.
Так, не сходясь, Николай Петрович и Зоя миновали скат серой осыпи, светившейся в темноте леденисто, выскочили на луговину, окруженную густым пихтовником. Тут, среди туманной невиди, в неясном свете майской ночи, они остановились. Николай Петрович видел, как Зоя повернулась к нему лицом, размытым в тени деревьев, и тихо позвала:
— Иди сюда, Коля! Иди, если хочешь!..
— Я… не зна-а-аю! — вызванивал зубами Николай Петрович.
— Иди же! — Зоя торопливо рвала пуговицы шелковой кофточки. Она качнулась навстречу, упала на руки Березина… Тихие, беззвучные поцелуи обжигали огнем губы, лицо и светившуюся молочно в серой темноте обнаженную грудь…
Вернулись они в деревню, когда пала на молодые травы первая росная капелька и заиграла в свете тихой еще зари. Гуляки уже притихли. В доме и во дворе стыла вымершая тишина. Только со вздохом отдувалась в сарае корова да покархивал на нашесте петух, словно прочищая голос, чтобы через минуту закукарекать на всю деревню. Возле берега, на трифоновских коротышах, покуривали мужики. Слышно было, как Петр Семенович, разъярясь, говорил кому-то из гостей:
— Те ссылка от войны спасла. А то бы гнил где-нибудь в хохляндии под яром. Опасались вам давать оружие-то!..
Мужской голос тихо возражал, бубнил что-то непонятное. Зоя и Березин обошли стороной зоревщиков, мучившихся с похмелья. Руки их на веранде расцепились. Запах сирени заполнил весь двор, особенно нежно и ароматно стелившийся перед рассветом. Николай Петрович было сунулся следом за Зоей в ее вдовью комнатушку, но та решительно его остановила, уперевшись ладонями в грудь, сказала обыденно и жестко, как будто между ними ничего не произошло и по-прежнему лежала непротоптанная дорожка:
— Все, Коля! Ничегошеньки у нас не получится!.. Неразбудил ты меня. Ты не Саша… Забудь!..
Березин вспыхнул, словно его обдали кипятком, и выскочил на улицу. В гневе он не знал, куда себя деть. «Шалава! Играется!.. — мысли скакали, как по кочкам. — Все!.. Кончать надо эту волынку!.. Домой…» Опустошенная истома во всем теле не давала разгореться негодованию, стиснувшему сердце жесткими обручами. Только сейчас он вспомнил холодок Зои во время близости и горький осадок вязким полынным привкусом застрял в горле. Захотелось выпить.
Петухи по деревне всполошились разом. Николай Петрович ушел в пристрой, твердо решив, что, как только придет машина из района, сразу же, больше не задерживаясь, укатит в аэропорт, хотя многого еще не успел сделать. Только-только прислонил шумевшую в раздоре голову к подушке, как во дворе зашумели. Послышалось ворчливое и настойчивое окрикивание отца, будившего баб. Потом загремел подойник в руках Маринки, сонно побредшей в одной сорочке к корыту, где мать подкармливала хлебом корову.
— Мотри, к свиньям не забреди! — шутил Петр Семенович, с любовью глядя на внучку, еще не совсем проснувшуюся. — Глазки-то раскрой, сонная тетеря…
На замечание деда Маринка не откликнулась, гнусаво просила мать:
— Подои сама…
— Не могу, дочка, на корточках сидеть.
— Вот так! — вспыхнула Маринка. — Пузо отращивать…
— Ты как с матерью-то разговариваешь?! — перебил внучку дед. — Меньше по вечеркам надо шляться. Ишь! Разболталась… Я вот огрею вожжами!..
Маринка улыбнулась, зная, что вожжей-то она никогда во дворе и не видела, присела под теплый бок коровы. Вскоре чиркнула первая молочная струйка и запел бок подойника. Петр Семенович пошел в дом, думая о том, что ныне пошла молодежь уж больно уросливая. На пороге неожиданно столкнулся с сыном, мельком подумал: «Вот еще одна заноза!»
— Ты че, Колька?! Токо пришел? С Зойкой…
— А-а-а! — раздраженно перебил отца Николай Петрович, взмахнув рукой.
— Понял!..
Утренний свет уже распустился павлиньим хвостом над хребтами, потек, словно розовый туман, в низы. Николай Петрович вздрогнул. Почти у самых ног, в камышовом урезе, взвилась щучка в погоне за синтей. Вода так же светлела занавесом. «Почему человек любит смотреть на текучую воду и на пламя костра? — пришла неожиданная мысль, отодвигая все остальные. — Огонь!.. Вода!.. Наверное, оттого, что это вечные спутники человека. Силы природные, дающие человеку жизнь».
Часа через четыре прибыла машина из Темирязевки, закрепленная в эти дни за Березиным. Не завтракая, он выехал в Ленинское, где еще не довелось побывать. Отец проводил сына укоряющим взглядом, нервно постукивая железной ногой по притвору, отчего ворота вздрагивали. Николай Петрович смотрел в сторону, пока машина разворачивалась возле палисада. Тут все было закончено. Он мельком видел, как Зоя, повязав платок, шла по рябиннику в поселок, не оглянувшись на него. Из-за мыска, где гудит припорожная шиверка, выполз бархатистый ком тумана и потек вниз по реке, прикрывая околицу деревни, медленно втягиваясь в горловину Айгирской теснины как-то боком. Николай Петрович откинулся на сиденье, подумал с облегчением: «Ну вот!.. Провожу завтра племяша и восвояси…»
* * *
Наутро, не успело солнце растопить туманную бель, а железнодорожный вокзал гудел, как растревоженный улей. Призывников набралось с сельсовета около полусотни. Посадку еще не объявляли. Потрепанный плацкартный вагон стоял на запаске, ожидая поезда из Челябы. Молоденький лейтенант с полевыми погонами на плечах и два сержанта-второгодка нервно похаживали вдоль путей, поглядывая с волнением на гудевшую и оравшую песняка на все голоса толпу. Узкая платформа не вмещала всех гуляк. Расписные полушалки женщин пестрели по зеленой луговине, уже засоренной пустыми бутылками, рыбьими головами и газетными обрывками.
Зоя все время старалась удержать сына возле себя, вцепившись в его рукав и гладя ладонью по широким плечам, задыхалась от слез и волнения:
— Сашенька!.. Березин ты мой!.. Ты уж пиши почаще… Как же я буду без тебя?! Ой!.. Сердце разрывается!..
— Ну что ты, мама, — басил Александр, выглядывая кого-то в стайке девчат, хороводившихся возле кирпичной стены вокзала. — Не война же, мама! Дай мне проститься с деповскими…
— Отцепись ты от него! — ругался Петр Семенович. — Эко, армия! Отслужит — умнее будет…
Николай Петрович стоял в сторонке с начальником станции, поглядывая на все происходящее как-то отчужденно, говорили о делах, связанных с транспортировкой древесины.
— Значит, скоро не мы будем отгружать лес, а нам будут везти из Сибири?! — грустно спрашивал высокий и худой начальник станции. — Дожили!
— Ничего не поделаешь, Сергей Осипович, — так же грустно отозвался Николай Петрович. — Время идет…
Он видел, как Зоя подтолкнула сына, проговорила громко и обидчиво:
— Иди уж!..
— Я быстро, мама!..
Возле водокачки завязалась ленивая драка. Что-то не поделили вечно враждующие между собой парни из Плакучки и Атамановки. Бойня постепенно разрасталась. Кто-то упал на землю с окровавленной головой. Завизжали женщины. Замахали кулачищами и мужики. Кто-то из седовласых, по старинной привычке, выламывал из забора доску. Милиционеры, свистя, как соловьи-разбойники, кинулись в кучу, раскидывая в стороны бойцов. Вскоре к воронку, подъехавшему из поселка, провели зачинщиков и полдюжины призывников с побитыми физиономиями и порванной в клочья одеждой. Все еще грозившихся парней без церемоний втолкнули в кузов и увезли в участок.
— Ну, для этих, видать, служба пока закончилась, — весело подытожил событие Матвей Егорович, неожиданно вспомнивший свой далекий призыв в рекруты. — Так испокон веку…
На мосту через Бересень кто-то из баб ловко отплясывал барыню, печатая каблуками туфелек дробь на деревянном настиле, перебивая задыхавшуюся гармошку. Из-за увала вынырнула зеленая змея вагона пассажирского поезда. И тут же, свистя тонко, маневрушка вытолкнула из запаски вагон. Лейтенант, придерживая фуражку, побежал к перрону, скомандовал по-петушиному:
— К по-о-садке! — тенорок взвился птахой. — Строиться по командам!
Соня Ветрова, в парадном костюме и со всеми знаками отличия, направилась к лейтенанту. Лихо кинув к голубому берету ладонь, четко проговорила:
— Здравствуйте, лейтенант! Куда повезете и в какие части?
— Здравия желаю, товарищ майор! — тут же отозвался лейтенант, с нескрываемой завистью пробежав карими глазами по высокой груди десантницы, где горел красной эмалью орден Красной Звезды. — В Междуреченске комиссия… А там кого куда…
Соня вернулась к родне. Слышала за спиной, как сержант сказал восторженно:
— Боевая баба!..
— Отставить, Родионов! Занимайся делом!
Тут же вернулся Александр с белокурой девахой и подтолкнул ее, смущенную, к матери:
— Знакомься, мама! Это Натаха…
Девушка улыбчиво прятала глаза под густыми ресницами, прикусывая чуть припухшие от поцелуев парня губы. Розовое платьице едва-едва прикрывало острые коленки. И вся она походила на нашалившуюся школьницу, стоявшую перед строгим учителем.
— Ну, привет, Наташа! — Зоя прищурилась, рассматривала девушку, как бы оценивая ее. — Ты чья будешь?
— Я из Ленинского… Колосова… Учусь в Темирязевке, — лепетала та, еще больше краснея.
Выручать подружку подскочила Маринка. Блестя черными глазами, пропела, повиснув на плече Наташи:
— Это моя закадычная подружка, тетя Зоя! За одной партой сидим… А ты че скраснелась-то?
Александр улыбался, глядя то на мать, то на Наташку, стараясь понять, понравился ли ей его выбор.
— Ну, гуляйте! — тихо проговорила Зоя дрогнувшим от волнения голосом. «Колосова дочка, — толкнулось в мозг прошлое, но не забытое. — Начальника штрафняка… Помню ее еще малышкой… И уж штрафняк почти весь в землю ушел, и Колосова косточки сгнили…»
Из железного репродуктора, висевшего косо на бетонном столбе, послышался треск, словно рвали брезент, потом женский тонюсенький голосок возвестил: «Товарищи пассажиры! Будьте осторожны! Поезд Челябинск — Междуреченск прибывает на первый путь. Стоянка десять минут».
Сразу же все пришло в невероятно сумбурное движение. Толпа со всех сторон ринулась к вагону призывников, смяв жидкий строй, вытаптывая цветочные клумбы и круша штакетники. Милиционеры теснили людей на перрон, заливаясь как соловьи. Поезд встал. Тут же щелкнули сцепки. Призывники, не слушая команд сопровождающих, торопливо прощались с родными. Сашка Березин обходил не спеша. Напоследок сказал на ухо матери:
— Сдалась бы ты, мама, дяде Коле. Вон, какой он пасмурный…
— Сашенька! — стонала Зоя, не слыша его слов. Александр с трудом высвободился из рук матери, как-то бочком, натыкаясь на людей, побежал трусцой к вагону, часто оглядываясь и моргая. На длинных темных ресницах хрустально стыли слезинки. На него сбоку розовой птицей налетела Наташа и повисла на шее, говорила что-то торопливо и порывисто.
Призывников наконец-то затолкали внутрь вагона, и поезд сразу же тронулся, набирая скорость.
— Сашенька! — сдавленно выкрикнула Зоя, едва поспевая за вагоном. Остановилась она только на краю перрона. Дорогу преградил железный шлагбаум. Хвост поезда увильнул за косогор и исчез вдали. Тоска заполонила сердце матери. На искривленных губах сухость, как во время зноя. Николай Петрович Березин видел только трясущиеся плечи Зои. Он сдержанно попрощался с родными, сел в машину и уехал в аэропорт, поспешно минуя Темирязевское и не заезжая в райком партии к Назарову. На душе как будто посветлело, и окончательная потеря женщины, которую любил, уже не волновала.
Через три часа он уже был в воздухе. День клонился к закату. Сквозь далекие и редкие облака просачивалось постепенно разгоравшееся солнечное зарево. Мелькнула сине-белая нить Бересени и исчезла под крылом самолета, стремительно набиравшего высоту. Николай Петрович откинулся на спинку кресла, вспомнил ту ночь, сладостное опустошение, кряк чирка в излучине и молчаливое белое лицо женщины с плотно прикрытыми глазами… Теперь-то он понял, что уступила ему Зоя из жалости, а может быть, из-за того, что и сама хотела мужской ласки, но разочаровалась и оттолкнула. То чувство ревности, что вспыхнуло возле дверей ее комнатки, пробудилось снова. Николай Петрович вспомнил, как отец пытался все время вызвать его на откровенность, искал случая поговорить по душам. И на вокзале, когда покуривали в сторонке от баб, отец ткнул его кулаком в бок, спросил, еле-еле шевеля губами, чтобы не слышали другие:
— Что с Зойкой?
— Оставь, батя! — Николай Петрович болезненно сморщился и отошел к мужикам, судачившим о политике.
— Ну, это ты зря! — выкрикнул в спину ему Петр Семенович, в сердцах швырнув окурок под ноги.
7
В тридцати километрах к северу от Ленинского поселка, через перевальный левобережный отрожек, косматый от смешанного леса, веселящегося на полуденном солнце и теплом ветерке, дующем по ущелью с ласковой настойчивостью, по новому узкоколейному усу, проложенному строителями за какой-то год, к разработкам свежих лесосек, еще не тронутых пилой, медленно и осторожно полз состав из одного пассажирского вагона, где ехало почти все начальство комплекса, и шести платформ, груженных под завязку бочками с горючим, ящиками с оборудованием и продуктами для рабочих-лесорубов. Уложенные на легкую насыпь шпалы под рельсы еще густо воняли креозотом, ломая свежесть ущелья.
Новенький, блестевший зеленой краской тепловоз, не успевший еще зачадиться, резал красными ободами встречный ветер, крадучись подминал под себя зыбкий путь, рычал на всю округу дизелями, натужно взбираясь все выше и выше в горы. Давно уже позади осталась полноводная Бересень и состав пер по извилистому и отвесному ущелью речки Каменки, обдувая горячим выхлопом луговые косогоры, еще не пробовавшие косы.
— Красотища! — восторженно воскликнул Алексей Ястребов, входя в кабину машиниста и садясь на место помощника. — Вот где луга! Березин не зря бился за эти заказные леса.
Машинист тепловоза Сергей Зотов, одногодок с Алексеем и когда-то работавший вместе с ним помощником паровозного машиниста, горько усмехнулся:
— Последний лесок, Алексей Павлович, в наших краях. Если бы не было по соседству заповедника, то давно бы мы его смахнули. Спилим Каменские леса и останемся голышом…
Алексей ничего не ответил. Он вспомнил, какая борьба шла за эти угодья, принадлежащие неизвестно кому, где тешили себя охотой верховные чины. Представитель минлесхоза, средних лет чиновник, привыкший повелевать, с директором комплекса Кедровым особо не спорил о границах, хорошо зная, что за его спиной стоит Березин Николай Петрович. А с ним считались даже в Москве, хотя и попал он однажды в опалу. Но время все лечит. После облета на вертолете отрогов Главного хребта, подписывая в конторе акт, угрюмо проговорил:
— Хороший куш оттяпали! В ЦК прошляпили… Хотя чего тут удивляться. Все сыплется… — взгляд его остро облапил.
Кедров увильнул от разговора, помня старинную поговорку: «Молчи, глуха, — меньше греха!» Он старательно вывел на листе свою закорюку, пожал руку и проговорил, тая ехидство:
— Спасибо за заботу! Поужинаем?
На банкете в узком кругу темирязевских руководителей он надрался на халяву, падал грудью на стол и нес всякую околесицу, пока чинушу не снесли на руках в гостиничный номер.
Березин, узнав тогда о решении Центрального комитета партии, торжествовал победу. Не теряя времени, он развил бурную деятельности по обеспечению техникой и оборудованием своего детища. Вечером, в очередной приезд в Бересеньку, сидя за столом, Николай Петрович расхваливал нового лесосечного мастера, подсунутого ему Мажитовым.
— С ним дело пойдет! Вот увидите… План будет и через год пойдет лес государству…
Алексей, разливая чай из самовара в большие фарфоровые чашки, говорил натянуто, поглядывал на тестя, хмурившего густые брови:
— А я думаю, Николай Петрович, лучше нашего Дмитрия Борового на эту должность не найти…
Петр Семенович по старинной привычке шумно отхлебывал чай из блюдца вприкуску, стреляя глазами по спорившим мужикам, до поры до времени сдерживая свою неуемную горячность, хотя внутри уже все клокотало, а мысли неслись галопом: «Суют, абы кого! Как был блат выше дела — так и остался!»
— Ты же не знаешь, что за человек этот Гордеев, — продолжал Алексей, пряча недовольный блеск глаз от Николая Петровича, не любившего, когда ему перечили. — С нашим народом уметь надо ладить…
— Верно, Алешка! — подскочил Петр Семенович, окончательно приняв сторону зятя. — В институтах не учат этому делу, а Димка свой в доску!.. Его кажная собака в округе знает. Сколь лет мастерит на лесосеках?! То-то!.. Аль позабыл, сынок, как сам его ставил? И орденов у него… Пришлый наломает тут дров и смоется!..
— А тебе-то что? — вскипев, повернулся к отцу Николай Петрович. — Сиди на печи да считай кирпичи!
Обида резанула по старому сердцу.
— Ты-то оторвался, как г… от ж…, а мы тута живем! А ну тебя, придурка! — Петр Семенович ожесточенно махнул рукой и, не глядя на сына, гремя протезом, вышел во двор, матерясь многоэтажно на весь проулок. На крик отца из сараюшки выглянула Катерина, чистившая коровник. В синих глазах удивление.
— Ты чего, батя, разошелся?
— А-а-а, пошли вы!.. — и тронулся к старице.
— А батя прав, — проговорил Алексей, прислушиваясь к шуму во дворе и в упор глянув на Березина. — Варягов у нас побывало много и где они сейчас?
Николай Петрович сделал по-своему. А Алексей как в воду глядел. Новый лесосечный мастер, только что вышедший из-за парты института, с рыжим пушком над верхней губой, дальше Темирязевского не бывал, а лесосеку и во сне не видел. С месяц он потолкался в конторе, пощупал девок на танцульках и незаметно смылся в неизвестном направлении. Алексей со смехом напомнил о нем как-то, но Березин не принял шутки. Райком утвердил кандидатуру Борового, затаившего глухую обиду на бывшего своего дружка…
Алексей вздохнул, вспоминая, как убеждали Березина, отстояв кандидатуру Борового. И сейчас все неладно. Сверху требуют лес, грозятся, а выше головы не прыгнешь. Кедров изворачивается, как вьюн, шлет липовые сообщения о выполнении плана на новых лесосеках, отгружая лес из запасников. Алексей понимал, что если к зиме на запустят лесоразработки по Каменке, то дни генерального сочтены, сколь ни крутись и ни подхалимничай перед проверяющими чинами из области и из центра. Глядя вперед, на набегающее жидкое полотно, Алексей с трудом оторвался от тревожных мыслей и мечтательно произнес:
— Эх, перевести бы всю тягу на локомотивы! Паровики тут потужатся. Парой придется гонять. Помнишь, как на Соре растягивались? А тут покруче!.. Без толкачей не обойтись.
— Ну а как же! — живо отозвался Зотов, сверкнув белозубой улыбкой. — Рад бы запамятовать, да пальчики напоминают! — он потряс в воздухе левой кистью, где недоставало трех пальцев. — Мороз под сорок!.. А у нас в тендере пусто, как в степи! Да и пурга поднялась… Не только путей, а свету белого не видно. Вы тогда, Алексей Павлович, в расщелину провалились вместе с чурбаком. Думали, не вытащим! А топлива все же заготовили…
— Помню! — усмехнулся Алексей. — Были времена, а теперь моменты. И тут зима нам даст по мозгам!
— Прорвемся! Лишь бы лес пошел…
Разговор оборвал помощник машиниста, белобрысый паренек родом из Ленинского, закончивший недавно ремеслуху. Он хлопнул железной дверью дизельной, проговорил:
— На втором движке подшипник опять греется.
— Сильно?
— Пока терпимо, но после рейса надо встать в депо на яму. Буксу сменили и все без толку. Видать, заводской брачок на шейке…
Ближе к вечеру поднялись к лесосекам. На верхнем складе вовсю кипела работа. Плотники торопились сдать эстакаду, пока не пошел лес. На будущей сортировке строители-путейцы клали разъездные пути по выглаженной бульдозерами насыпи. Кругом взрытая земля горела глиной, словно кровоточащая рана на фоне зеленки. В лощине, там, где опоясывали склоны мачтовые сосны, доживавшие свой век, суматошно визжали бензопилы, урчали на высокой ноте движки трелевочных тракторов, утюживших волок, заваленный ветвями, макушками деревьев, крупным гравием и разным лесным хламом. Страшно и неопрятно выглядел на первый взгляд лесосечный развал. Через год-два подзарастут шрамы челигой и подлеском, укроются сорным леском. Но земля еще долго будет страдать, пока не пройдет время.
Увидев медленно выползавший из распадка состав, лесосечный мастер Дмитрий Боровой, уже год занимавшийся разрубкой трасс, соскочил с подножки «кировца» и поспешил к станции, заранее зная, что приехало многочисленное начальство.
Когда состав, качнувшись, замер, первым с подножки пассажирского вагона сошел нестареющий и бессменный главный инженер комплекса.
— Здравствуйте, Леонид Андреевич! — поприветствовал его Боровой, протягивая руку. — Как добрались?
— Без происшествий, — мрачно вымолвил тот, глядя на то, как сползает по поручням еще больше располневший начальник сырьевого отдела Козин, а следом выглядывал руководитель капитального строительства Смирнов, колыхавшийся своим чревом, словно медуза на волне. — У тебя что новенького? Успеешь к осени разработать лесосеки?
— Стараемся.
Главный инженер поморщился, но ничего не сказал. Выйдя на пригорок, повернулся к сопровождавшим его руководителям, сказал, как будто на ветер, но все расслышали:
— Все на свои участки. Вечером подведем итоги в прорабской…
Смирнов нарочно подзадержался, отозвал Борового в сторону, проговорил, пытливо глядя в глаза мастера:
— Ты, что ли, капнул генералу, что я тут давно не бывал?!
Дмитрий Боровой прикурил из ладошки, выпустил струйкой табачный дым изо рта, ядовито пробасил:
— Была нужда на вас капать! Кедров прилетал сюда дважды с Березиным и Назаровым. Че, слепые, что ли?! Была бы моя воля — гнал бы я такого начальничка из капиталки в шею! — и пошел догонять главного, поводя широкими плечами.
Смирнов испуганно пошевелил толстыми губами и, разъярясь, крикнул:
— Моей поддержки не жди!.. Пуп земли! Гаденыш!.. А я, дурак, за него голосовал перед Березиным!
Боровой догнал Алексея, обнял его за плечи, чуть-чуть придавил и усмехнулся.
— Слышал борова?
— Зря ты его заводишь…
— Пусть побесится, а то за него утираются перед начальством прорабы. И не выгонят!..
Дорогу им пересек «кировец», волочивший большой пучок хлыстов-недомерков к складу. Алексей проводил долгим взглядом трактор, проговорил:
— Я смотрю, ты приспособил навес под волокушу. Как допер?
— Не сам, — махнул рукой Боровой. — На семисотку пристроили прицеп по совету Трифонова. Теперь таскаем хлысты без проблем.
— А как тут Трифонов очутился? — вскинул удивленно широкие брови Алексей. — Он всем базлает, что и близко не подойдет к лесосекам. Любопытно.
— Неделю назад улетел с газовиками на вертолете. Что-то темнит, дылда?! По хребту лазил, на той стороне, в заповеднике неделю пропадал. У строителей скоб да гвоздей выклянчил. Сдается мне, что он избушку где-то сварганил. Заповедник — вот он! — Боровой махнул рукой в сторону гор. — Зверья там немерено. Браконьерничать собрался. Это уж как пить дать! Пойдем, покурим на бережке…
С утра солнце палило совсем не по-августовски. Катилось оно по синему небу огненным шаром, выжимая соленые пятна на спинах у работяг, распиливавших мотопилой чурбаки возле мостика. За хребтом, как будто пришпиленные, стояли, не шевелясь, легкие облачка, пронизанные насквозь светом.
Ястребов не удивился предложению, зная, что у Борового давно не ладились отношения с начальником, а сегодня, после короткого разговора, еще больше обострились. Молчали оба до самой ветлы, развесившей свои зеленые косы, макая их в речку, стремительно пробегавшую меж каменных валунов. От стремнины повеяло прохладной сыростью. В сливе перекатика билась пеструшка, вылавливая мошкару.
— О чем разговор? — спросил Ястребов, присаживаясь на камень.
Боровой медлил не долго, глядя в сосредоточенное лицо Алексея, думавшего о доме. Накануне Катерину увела Зоя в Айгирскую больничку рожать.
— Ты же видишь, — перебил его мысли Боровой. — Смирнов меня со свету сживет. Надоел он, как горькая редька. Перевели бы меня на разработку, я бы управился с лесосеками в два счета. Зачем нужны пришлые бригады?! Они тут наворочают! Спилят и уйдут… С Кедровым говорил, тот уперся, как осел. Поговори с Березиным…
— С Березиным можно поговорить, — задумчиво заговорил Алексей, — будет ли толк, вот в чем дело? В прошлом году еле-еле уломали. Ладно, блатняк сам сбежал. У Козина тоже характер не слаще…
— Да дело вовсе не в том, что мы с боровом живем на ножах, а в том, что вот тут у меня, — он хлопнул гулко ладонью по внутреннему карману пиджака, — тетрадочка, а в ней разработки новые. С Трифоновым два вечера посидели… Ты же член райкома, Леха!.. Помоги!
Алексей, раздумывая над словами Борового, проследил, как аляпка нырнула в омуток, неожиданно спросил:
— И сколько выпили?
— Сколь надо — столько и выпили. Он этот метод еще в тридцатые годы применял втихаря. Пригрозил: «Ежели, говорит, кому откроешь секрет, то башку снесу!» Тебе открыл, потому что пути дальше перекрыты. Я уже сейчас из разработчиков просек могу пару комплексных бригад создать. Четыре вальщика, трактористы, чекоровщики — все на месте. Нашенские. За деньгу и за место держаться будут. Оставайся до следующего состава. Обсудим все, и тогда поймешь, в чем выгода!..
У меня Катерина рожать собралась…
— Да брось ты! Первый раз, что ли?! Ну, давай потолкуем сейчас. Начальство пусть одно походит. Вот смотри! — Боровой достал из кармана тетрадку в коленкоровом переплете, раскрыл перед лицом Алексея. — Разрабатываем две дополнительные ленты и полупасеки… На них прокладываем волок… Мы уж все обмозговали с ребятами… Сразу же после трелевки поваленных вдоль волока лесин вальщики приступают к работе на ленте. А начинают с верхов склона и по обеим строкам. Вал направляем в сторону трелевки.
Алексей не особо разбирался в лесоповале, но кое-что понимал, и его удивило это предложение.
— Метод узких лент?! Что-то мне об этом толковал по-пьяни Трифонов. Но я тогда не особо внимательно слушал. Раскрыл свои секреты, дылда! Вот почему он все нормы перекрывал! За что же он тебя так обрадовал?
— Да так! — взмахнул рукой Боровой. — Говорили о жизни… Власть склоняли… Он говорит: «Хочешь Героя получить?» Говорю: «Давай!» Представляешь, Леха! Тридцать работяг вместо сотни. И все мастера на все руки… Да еще потому размягчел Трифонов. Летось посмотрел он на эти боры, на мачтовики, посвистел, как сурок… И выдал! Ежели я, говорит, был бы молодой, десяток звезд бы отхватил. Так в чем же дело, толкую? А он на зарок сослался. Поскучнел сразу… Кровушку древесную, говорит, видеть не могу. Эколог нашелся! Ха-ха-ха! — закатился Боровой.
— Тетрадочку давай. Покажу, — проговорил Алексей, поднимаясь с валуна.
— Да нет уж! — хмуро отозвался Боровой. — Слово дал, что никому…
— Ну тогда вкалывай у борова и не рыпайся!
Разошлись тихо. Ястребов весь остаток дня провозился на строительстве ремонтных мастерских. Без них в таком отдалении от депо не обойтись. К вечеру, подустав в перебранках с подрядчиками, затягивающими настройку железнодорожного узла на поворотнике, забрел в бор, тянувшийся вдоль стройки до самого хребта. Золотистые стволы сосен еще не померкли в длинных тенях садившегося солнца, светились загадочно. Тягучие запахи тайги, насыщенные горчинкой папоротников, стоявших меж подлесков почти в рост человека, дурманили допьяна. Отдыхая, забыв про несговорчивых подрядчиков, он вспомнил про разговор с Боровым и повернул к лесосекам, хотя ему всегда не очень хотелось смотреть на лесной разор. Но тут все было подготовлено без хлама и выглядело вполне прилично. «Дмитрий Иванович, не хулиганить. А верно!.. Ему и карты в руки, — думал он, шагая через прибранные сучкорезные площадки. — А ведь, когда Трифонов ломал хребет себе и бригаде, ставя небывалые по тем временам рекорды, никто не удосужился перенять и внедрить его опыт. Хотя тогда, говорят, не особо интересовались, как лесоруб вкалывает. План идет и ладно! Да и «лесной дылда» грудью стоял на своих лесосеках. Я еще застал такой порядок…»
Алексей свернул к баракам, притулившимся возле высокой поймы речки. Итээровцы пока жили вместе с рабочими, но им уже ставили рубленые особнячки за рыжими скалками, окруженными березняками. Роща шумела весело на легком ветерке. Тут Алексея и нашел Боровой, весь день суетившийся с начальством, жалея зазря потерянное время. Плотник, сидя верхом на стене сруба, воткнул топор в бревно, выкрикнул:
— Все, ребята! Кончай, а то к ужину не успеем…
Боровой, по ходу оценив ровно поставленные стропила, взял Ястребова под локоть, заговорил заискивающе:
— А может, все же поужинаем вместе?! Силантий хариуса понадергал в перекате… Любаша ушицу заварит… Пузырь ждет!..
— Ушицу в следующий раз, Дима! — отозвался Алексей, высвобождая руку из цепких пальцев Борового. — Без твоей тетрадочки я к Назарову не пойду. А без него, сам знаешь, каши не сваришь.
Боровой на несколько минут замолчал, шагая в ногу с Ястребовым к баракам, размышляя: «Дать или не дать!»
Стройка постепенно затихала. Уж не ухали бревна, скатываясь по штабелевочным лентам, не стучали топоры, и трактора урчали как-то устало, спускаясь на стоянку. Алексей, прислушиваясь к шумам, подминая подошвами сапог содранный волокушами дерн, заговорил о своем:
— С планом отстаем. Я же от всего завишу… Лесосеки заработают, а как вывозить хлысты платформами, когда раскряжевочной эстакады еще нет. Погрузочные механизмы в Темирязевском на складе пылятся…
Боровой расплылся в улыбке.
— Я ему про Фому, а он про Ерему…
— Каждому свое, Дима. Я хоть разорвись! Планово-производственный отдел затягивает с положением о хозрасчете на нашей железке. Стандарты большой дороги нам не подходят. С зарплатой не все ясно. А ты Фома — Ерема!
Работяги цепочкой спускались с косогоров к столовой и умывались тут же, на бережке, балагуря. Молоденькая повариха в белом колпачке с челочкой на лбу, играя ямочками на розовых щечках, торопила по-взрослому, с бабскими шуточками:
— Борщ стынет! А еще мужики!.. Растаяли на солнышке!.. Вялые…
— Ничего! — задорно выкрикнул парень в синей спецовке. — Ты приходи вечерком на бережок. Посмотрим!..
— Ха-ха-ха! — ржали лесорубы. — А, правда…
— Э-э-э, охальники! — грозилась из-под рубленого навеса Люба Боровая, захватившая власть на кухне. — А ты, Валюха, не связывайся. Потом будешь заглядывать…
— Да-а-а! Позоревать бы с ней! — тянул чей-то бас из толпы.
— Губа не дура!..
До слуха Алексея донесся призывный гудок тепловоза.
— Ну, поехал я…
— Ладно, Леха! — встрепенулся Боровой, заворачивая вместе с Ястребовым к составу, выкатившемуся на главный путь. — Тебе доверю! — Он протянул тетрадочку, свернутую в рулон, и круто развернулся к стройке. — Пока!
В ночи, затихшей и потемневшей, распарывая фарами ущельный мрак, тепловоз, сдерживаясь, крался вниз, подталкиваемый тяжело груженным первым составом с лесом. Два проводника, стоя крутившие по сигналу машиниста ручные тормоза, одновременно о чем-то спорили под перестук колес. Ветер относил их слова назад мимо Ястребова, сидевшего на передней площадке с папироской в зубах. «Баньку надо сегодня сварганить!» — скоротечно пронеслось в мозгу, но тут же пролетели мысли, как слова проводников, отодвинутые думами о вечной заботе по железке, по дому, по Катерине, собравшейся разродиться в самое неподходящее время. Потом неожиданно всплыла встреча в райпотребсоюзе с Дмитрием Фроловым, младшим братом Василия Фролова. Семья извечных врагов. Алексей уж забыл все, но Фроловы будто нарочно напоминали не словами, а всем своим поганым нутром. Правда, говорят, что средний, Виктор, совсем не похож на братьев. Служил в милиции, где-то в Казахстане. Петр Семенович по поводу Виктора толковал врастяжку:
— Прикрывается Витька! Все они одним дерьмом мазаны!..
С Дмитрием Алексей встречался частенько. И каждая встреча, как ножом по горлу. И сразу же вспоминалась утренняя погоня, выстрелы и мертвый Василий. «Интересно, знают ли они, кто убил их брата?!» — частенько мучили назойливые мысли. Да, поганенькое чувство не покидало Алексея после каждой встречи, хотя незначительными словечками они перекидывались редко. Только однажды на крылечке райкома, где покуривали в перерыве районного собрания низовых руководителей, Дмитрий, шутя, громко проговорил:
— А помнишь, Алексей Павлович, как вы с Василием задрались? Если бы не мильтон Витька Пересмыкин, то лежать бы тебе в сугробе, а не Ваське!
— Заткнись ты! — сквозь зубы проговорил Алексей и, сжав губы, ушел в райком. О чем уж там говорил народ, Алексей так и не узнал. Но как-то, спустя уж недели две, начальник оборотного депо в Плакучке, слышавший короткий разговор на крылечке, посоветовал:
— Ты подальше держись от Фролова. Делишек темных за ним много, как и за всей семейкой.
— Отмахнемся!.. — весело отозвался Алексей, но напряжение не спадало с того времени. Глухое раздражение копилось, как снежный ком. И сейчас пошло-поехало времечко назад. Внезапно вспомнилось Марьинское. То, когда он был там зэком, и то, когда приезжали за погибшим Березиным. «Как заноза!» — В сердце все время вползало что-то холодное и вязкое, как тело змеи. Попытка вернуться к сегодняшнему теплому и доброму, семейному, ни к чему не привела. Со встречным ветерком и таежным духом вроде бы пришло успокоение, но уродливые воспоминания о прошлом все же застряли в сердце.
— Завязло, как в болоте! — ненавистно прошептал Алексей. — Все путается под ногами!..
Состав выкатился из ущелья Каменки с ветерком. Вдали, на горе, мелькали огни Ленинского. Долина раздалась, будто раздвинутая вспарывающими темноту фарами прожекторов тепловоза. Тормозные гудки затихли. «А интересно, выполнил ли свое желание директор Марьинского совхоза, грозивший засыпать страшные карьеры, чтобы окончательно похоронить горы лежавших там людских косточек, боль всеобщую, на их могиле вырастить сады? — вернулась снова мысль в далекое, но не забытое, видимо, навечно. — Живы ли Барыкин, Курбан?!» Сердце пронзила благодарная нотка, ранее не так волновавшая его. «Старею!» Забыл, потерял всякую связь. Да и как все развесить, сдуть дым жизненного пала, обдымившего его с детства, когда на плечах груз прошлого…
Мысли его оборвал один из кондукторов:
— Алексей Павлович, семерку проехали… Сейчас будет кордон. Тут спрыгнете или до Темирязевского поедете?
— Махни машинисту — пусть притормозит…
Небо уже по закраинам оделось в серую бахрому рассвета. За хребтом медленно просыпалась розоватая зорька, мигала, как уголья затухающего костра. Августовский прохладный туман медленно стекал в низы, заволакивая долину белым молозивом, скрывая наполовину дымовые трубы Айгир-завода. Потом туман неожиданно начал растекаться, разорванный дунувшим по реке ветерком, посеяв на травы, пахнущие волгло и остро, крупные прозрачные росы, заволакивая хвостато таежную непролазь логов.
Алексею обходить старицу не захотелось. Он побудил сторожа лодочной станции, взял весла и, шлепая ими по воде, переплыл на лодке к своему огороду. Усадьба еще не проснулась. Шумно дышала скотина в сараях. Из-под крыльца выскочил щенок, лизнул руку шершавым языком, взвизгнул от радости.
— Спишь, Полкаша?!
Щенок залился звонким лаем, припадая грудью к земле, бегал вокруг хозяина. На шум проснулся Петр Семенович. Звякнула дверная щеколда, приоткрылась дверь:
— Кого еще там нелегкая принесла?!
— Это я, батя…
— А-а-а, Алеша! А мы тебя ждали к завтрему. С девкой тебя, Алеша!
— Ну-у-у! Быстренько она!.. — воскликнул Алексей, намереваясь сейчас же бежать в больничку. Но его остановил тесть:
— Да куды ты в такую рань! Зойка там с ней… Как рассветет, так всем гамузом и пойдем.
— Тогда давай баню топить! — Алексей вышел на огороды.
— Вот, мужик! — качал головой Петр Семенович, возвращаясь в дом за протезом, подзывая из пристроя внучку: — Маринка! Корову пора доить!..
К обеду ходили в Айгирскую больничку всей семьей. К Катерине пустили одного Алексея, остальных выпроводила за двери Зоя:
— Топайте домой! Она еще не совсем очухалась…Роды тяжелые. Уж не девочка…
Родня поджидала Алексея в скверике. Вышел он к ним озабоченный.
— Ну, чего?! — посунулись к Алексею все.
— Белая как смерть! Фрукты нужны… Надо ехать в район.
— А дочка-то как? — топтался рядом Петр Семенович. — А молоко есть у Катерины?
— Молоко есть, и дочка, как яблочко! — заулыбался Алексей. — Пошли к Машке Зыкиной. Выпивки достанем, и, может быть, фрукты у нее найдутся. Недавно в Москву каталась…
— Обмоем! Это мы мигом! — еще больше засуетился Петр Семенович, предвкушая выпивку.
* * *
Только к концу октября, когда кончились проливные дожди и пали на землю первые заморозки, еще слабые, по-детски скромные, после долгих проволочек наконец-то были утверждены комплексные бригады из пришлых людей и местных лесорубов. Боровому досталась первая бригада, и он сразу же кинул ее на валку. Противником этого назначения неожиданно для всех оказался первый секретарь горкома партии Назаров:
— Оголяем строительный участок. Боровому бы подучиться да место Смирнова занять. Тому пора уж на пенсию…
— Поздно мне, Анвар Галимзянович, за партой сидеть, — мрачно отозвался Боровой, глядя на членов райкома с надеждой.
Большинством голосов, вопреки настоянию Назарова, Боровой скомплектовал комплексную. Всю зиму, вплоть до весенней распутицы, Боровой гнал валом лес на нижние склады, затоваривая их, перекрывая все мыслимые и немыслимые нормативы. Железка не успевала вывозить хлысты. Алексей понимал, что года через четыре-пять лес тут кончится и все! Проснувшийся от трехлетней спячки комплекс снова приманил корреспондентов. А весна уже вовсю гоношилась за околицей. В конце марта начал погромно оседать снег, подточенный сверху солнцем и первыми ручейками снизу. Петр Семенович, сидевший в эти дни дома возле телевизора, чуть не упал со стула, когда диктор скорбным голосом сообщил, что погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин.
— Как погиб?! — вскричал старик. Он всегда считал, что герои и вожди должны жить вечно. Он выскочил раздетым на костылях во двор, где Алексей с Павликом резали кубы из снега для набивки погреба. — Гагарин разбился!..
— Где!? Как?
Лопаты полетели в сугроб, изба содрогнулась от грохота дверных косяков…
К вечеру уже вся округа знала о трагедии. Люди откровенно ругали власти, сваливая всю вину на них.
— А что им! — горячился Матвей Егорович, поминая вместе с Петром Семеновичем и Трифоновым космонавта. — Поди, подстроили! Зависть!.. В чужих руках ломоть велик, а как нам достанется — мал покажется! Подсунули неисправный самолет…
— Ты больно-то не кричи во всю ивановскую, — урезонивал свояка Петр Семенович. — Ныне тоже язычок-то попридерживать надо. А то психушка ждет…
— Дурдом еще полбеды, мужики, — клонился к собеседникам Трифонов, сверкая большими белками черных глаз, высверливал ими в каждом невидимую дырку. — Тут все и видится. Гниет власть и на себя молится. Димку Борового, говорят, представили к звездочке, а ему шиш показали. Все Сталина склоняют… А он так не делал.
— Да загасись ты! — прервал его Круглов. — Помянем человека!
Выпили, закусили. Трифонов все не унимался, обозленный на поведение Березина:
— Тут без Николая Петровича не обошлось. Давно он на Димку зуб точит за то, что критикнул разок, когда еще тот тут директорствовал…
Петр Семенович молчал, поджав губы. За Березина вступился Круглов:
— Да брось ты!.. Колька мужик правильный!..
— Правильный он тут был, когда с фронта возвернулся, а теперь обкомовский! И правда его сверху! Понял, пентюх?
— Сворачивайтесь, мужики! — хмуро произнес Петр Семенович, разом остановив разгоряченный спор. — Пошли по домам, а то на кулачки вздернетесь. Разговорами дело не поправишь. Алешка вон с райкому вернулся, ходит смурной. Будто его дерьмом испачкали. Да еще у Катьки молоко неожиданно пропало. А Верунька соску не берет…
— Да уж девке-то год скоро… На щи переводите. Ха-ха-ха! — Трифонов замотал кудлатой головой.
— Ранее до двух лет минимум кормили. А у баб молока на пятерых хватало…
— То раньше, Егорович!..
Однако разговор больше не клеился. Первым тронулся к дому Трифонов, приминая подтаявший мартовский зимник. Петр Семенович и Матвей Егорович еще постояли немного, глядя на волгло потемневшую Бересеньку, и разошлись. На полдороге Петру Семеновичу встретился заводской столяр Михей, подмигнув, шепнул:
— Дуй, Семеныч, в поселок… В продуктовый водку завезли. Я с тылу пробрался!.. Трешку сверху отвалил.
Петр Семенович шмыгнул во двор, распотрошил заначку, завернутую в тряпицу и спрятанную от баб за печкой. Увидев возвращавшихся из поселка Катерину и Зою, хотел переждать за углом, но его приметили.
— Не ходи, батя. Мы уж отоварились! — громче всех смеялась сноха. — Ха-ха-ха!
8
Широкая, редко залесенная долина, из которой вырывалась водная гладь Бересени к Айгирскому порогу, еще была в глубокой тени. Солнце, не торопясь, ворочалось где-то там, за хребтами, распыляя сине-розовые лучи над останцами, крепостью возвышавшимися на спине седого Урала. Утро, нежась, купалось в теплой и прозрачной свежести. Пахло весенней россыпью набухающих почек, первым листиком на топольке, на пушистых ивах и ожившей от зимней спячки землей. Шоссе мягко стелилось меж зеленых отрожков серой и влажной от росы лентой, вилось по урезу левобережья, шелестело под шинами колес, проносившихся по нему автомобилей.
Алексей Ястребов, как всегда, выехал из Бересеньки на работу чуть свет с тем; чтобы успеть до ежедневной планерки в управлении посмотреть на Атамановский нижний склад. Железнодорожники узла жаловались на то, что вывезенные с лесосек автотранспортом хлысты в конце марта и начале апреля, по чьему-то недосмотру, завалили разъездные пути, и лес валят на обочину, где нет подъемных механизмов. Вчера вместе с Кедровым и начальником автотранспортного цеха ездили на место беспорядочной свалки. Угрюмый и подавленный, Серов шел следом за Кедровым, который крыл матом начальника:
— Ты что же?!. Не мог подумать о последствиях?! Чтобы к завтрешнему утру разъезд был освобожден!
— Механизмов не хватает, товарищ Кедров!
— Попроси у Ястребова. Как, Алексей Павлович?! — повернулся Кедров к Ястребову.
— Помочь-то мы поможем. А только кто рабочим будет платить? Вы же знаете, что у путейцев своих забот хватает. Весна! Пути ползут, а на верхних складах затоваривание…
— Серов и заплатит! — произнес Кедров, сел в уазик и укатил в Темирязевское.
— Накапал?! — покашливая, проговорил Серов укоризненно. Лицо у Алексея потемнело. До последнего времени Алексей относился к Серову по-товарищески, хотя дружбы и не водили. Так, перебрасывались словечками, иногда выпивали вместе в управленческом буфете. Насильно улыбаясь, он проговорил Серову:
— Мне твое мнение до лампочки. А вообще-то надо было давно на тебя телегу написать. Так что заткнись и не шлепай губами.
Серов напружинился, но тут же обмяк под суровым взглядом Ястребова, произнес сквозь зубы:
— Ладно, припомним!..
— Помни, что к завтрему пути должны быть свободны…
Разошлись вроде бы мирно, но Алексею почему-то не хотелось встречаться с Серовым на разъезде. «У автотранспортников снега зимой не выпросишь, а теперь и вовсе хоть в гараж не ходи, ежели в хозяйстве потребуется машина!» — мрачно подумал Алексей, выруливая на боковую дорогу, ведущую к разъезду. Не успел он проехать и сотню метров, как стрельнуло правое переднее колесо и машину потащило в кювет. Алексей ударил по тормозам и остановился в двух шагах от обрывчика.
— Вот черт! — выругался Алексей, выходя из машины и с сожалением глядя на покрышку, сплющенную диском. Жалко было, но он в душе был рад, что не придется встречаться с Серовым. — Запаску не взял!.. Еще эти разъездные пути на складах повесили на мою шею. Мое дело — движение…
После того как прошло укрупнение хозяйства, помимо линейной железной дороги, включая и усы к лесосекам, на него навалили все путейское хозяйство, запущенное предыдущим начальником, сокращенным без сожаления руководством. Алексей окончательно забурел в делах, да еще ежемесячные депутатские посиделки в райисполкоме, партийные собрания и разные общественные поручения по линии горкома. Все ставили на работящего мужика, хотя он, наученный опытом, старался особо не вылупляться. Но кто вкалывает, на того и валят больше… Назаров ставил всему району Ястребова в пример, все время помышляя о его повышении. «Вот хорошая мне растет замена!» — подумывал Назаров частенько, внимательно приглядываясь к честному и работящему мужику. Как-то секретарь поделился с Петром Семеновичем своими мыслями. Тот ответил осторожно, стараясь не обидеть Назарова и уберечь от всяких повышений зятька:
— Возом вперед — оком назад, Анвар Галимзянович! — Назаров так и не понял, что хотел сказать старик.
Алексей присел боком на сиденье, выставив ноги наружу, закурил. В недвижимом воздухе дымок от папироски таял медленно, застывая синей паутиной. Думая о производстве, Алексей сравнивал былые годы и чувствовал большую разницу. Все медленно, но верно затухает, как брошенный костерик без дров. Если раньше радовали людей не только заработки, но и сама жизнь, то теперь на первое место встало рвачество. А о стахановском движении и вовсе забыли. «Чистота-а-а! А где она?! Меня зовут сталинистом… Я не против. Говорят, там все было чернотой покрыто. Верно! И я в этом купался, но патриотизма было больше. Воры сейчас встали на высоту: цеховики, растратчики, несуны — все видно, а сажать некого! Куда ни кинь, все люди у руля. Тьфу ты!» — Алексей вздохнул, посмотрел на наручные часы. Стало ясно, что он опоздал на планерку, да и что он скажет, когда не видел, что сделал Серов на разъезде. Сидеть тут было бессмысленно. Алексей бросил машину и вышел на главную трассу через гряду кустарников. Только он перепрыгнул через кювет, как возле него тормознул грузовичок, загруженный под завязку домашним скарбом. Из кабины выпрыгнул Круглов и, придерживая пустой рукав, удивленно спросил:
— А ты чего тут кукуешь?!
— Ехал в Атамановку… Колесо возле излучины спустило. Я смотрю, ты все же решил своих стариков в Яр перевезти? Скучно им будет там без землицы. Не одобряю я это! Лето бы пережили…
Круглов, блуданув взглядом по шоссе, провел ладонью по небритой щеке, проговорил тихо:
— Камнем обуха не перешибешь, Леха! Годки и мои уж немалые, а Бересенька кончилась… Хлеб возят из Темирязевки. Очужела земля! Вчерась батю с маткой увозил, так они на коленях прощались! До сих пор сердце щемит. То ли делаем?! Власти мягко стелили… Да только спать жестко. Ладно! — и добавил глухо: — Садись в кабинку, а я в кузов полезу…
— Да нет! Я лучше заберусь…
Машина тронулась. Водитель, молодой паренек, недавно севший за баранку газика, вел его неровно. Алексей, дергаясь в кузове, сидя на старинном комоде, поглядывал по сторонам, думал все ту же думу: «Душу вырывают такие переезды! Неужели нам такое предстоит?!» Эти мысли посещали его с того дня, когда узнал случайно о далеких планах Николая Петровича Березина расширить производственные мощности Айгирского завода за счет сноса Бересеньки, ставшей ему родной. От одной этой мысли начинало покалывать сердечко. «Тоже уж годики бегут. Глядишь, скоро и на пенсию!» Обрастали думки всякой всячиной, да и семейные дела туго решаются. А если узнает батя о планах своего сынка, то бури не миновать. «А прав однорукий… Очужела земля!.. Детей бы успеть поднять!.. А потом уж сами отмахнемся…»
В управлении комплекса, все еще ютившемся в старом деревянном здании, хотя на площади уже строилось новое, кирпичное, с колоннами и большим актовым залом, стояла необычная суета. Ястребов поднялся в свою комнатушку на втором этаже, спросил Федорчука, копошившегося в бумажном шкафу:
— Что за шум, а драки нет!?
— Начальство ждут. Березин прикатил да еще кто-то аж из Москвы! Назаров звонил, что гости собираются на Каменку. Кедров всех на уши поднял… «Генеральский» состав выкатили… Тепловоз сняли с линии…
— Тьфу, черт! На верхних складах лесу полно, а тут катай начальство!.. Позвони ребятам в депо. Москвичок мой на развилке стоит. Колесо сменить надо…
— Сделаю… Серов на оперативке докладывал, что пути расчистили.
— Лады!
Не успел Алексей расположиться за столом, как его срочно вызвали к Кедрову. Алексей выглянул в окно, выходящее на площадь. Возле палисадника пристыковались три черные «Волги».
— Уже примчались, — сказал Алексей Федорчуку.
В кабинете начальника управления уже успели накурить. Николай Петрович Березин сидел на месте генерального директора. Кедров примостился рядом с Назаровым, раскуривающим свою трубку. А незнакомый молодой мужчина, с пепельной шевелюрой и крутым с горбинкой носом, что-то черкал в толстом «еженедельнике», внимательно слушая Березина, делавшего больше напор на Кедрова, явно рисуясь перед столичным гостем:
— Товарищи! Все же мы были правы в том, что сумели создать организацию с большими возможностями. Сейчас, товарищ Кедров, нужно настроиться на новые грани. Проект расширения производственных мощностей давно у вас лежит на столе, но вы до сих пор тянете с подрядчиками. Расширение завода — это главная сейчас задача…
Березин, увидев вошедшего в кабинет Ястребова, на секунду смешался, проследил, когда тот сядет, продолжал в том же духе:
— В нашем положении временем нельзя разбрасываться. Освоили Каменские лесосеки — это хорошо! Но нельзя останавливаться на достигнутом…
— Николай Петрович, — перебил секретаря обкома московский гость. — Если решен вопрос с переселением деревеньки… Как ее? — он заглянул в блокнот. — Бересени… То не ущемляются ли жители ее?
— Да нет, Геннадий Сергеевич! — Березин неожиданно погрустнел и тут же ловко перевел разговор на выполнение поставок пиловочника по договорам. Алексей ожидал к себе вопросов, ухмыльнувшись незаметно, подумал: «Финтит Николай Петрович! Деревенские еще не знают, что их ожидает». Березин, все время напряженно посматривающий на Алексея, опасаясь, что тот вякнет что-то, продолжал: — Тут, товарищ Кедров, новая стройка открывается за Малиновкой. Нужно связаться с руководством… Товарищ Ястребов, вам нужно к завтрему подготовить состав. Ну, вы знаете, что нужно! Домой не уезжайте пока. Дождитесь меня… Хочу в баньку.
— Есть, товарищ Березин! — со скрытой издевкой произнес Алексей и вышел.
Ближе к вечеру, когда представитель леспрома уехал вместе с Назаровым в райцентр, Ястребов и Березин вместе вышли из управления. Шагая рядом с Алексеем, Николай Петрович по-дружески приобнял его за плечи, заговорил доверительно:
— Не думай, что я такой уж злодей! Нужно расширяться. База есть, но нет денег. Работа нужна людям… А насчет деревни, то ты особо-то не возникай. Понял?! Придет время, и батя узнает…
— Ага, — перебил его Алексей. — Подъедут бульдозера и столкнут всех в реку. Расходятся совсем твои дорожки с родиной! А ты боишься сейчас сказать. Трусишь!..
Николай Петрович убрал руку и пошел вперед. Алексей глядел в его широкую спину непримиримо. Спорить было бесполезно. Наверху уже давно все решено.
— Руль доверишь? — неожиданно спросил Березин, помягчев голосом. — Давненько я тут не заруливал. Может, в сельпо заедем?
— Там один уксус…
— И я не прихватил…
— К Машке заедем.
Сразу за поселком, как только миновали железнодорожный переезд, Березин придавил газ до отказа, но москвичок больше восьмидесяти не тянул, а только дрожал всем своим железным телом.
— Купил бы новую! — крикнул Березин. Алексей, задумавшись, не ответил. Трудами и везением он создал семью, хотя старое и ненавистное все время преследовало, шло следом, словно сыскная собака. Сколько бы дел сотворил?! Ежели бы не груз. А как скинуть? Он как-то заикнулся о реабилитации перед домашними, на что первой откликнулась Зоя:
— Мне ничего не принесла она, Леха! И тебе не принесет. Только тягость да скука! Да и дело-то твое срока давности не имеет. Узнавала я у одного ханурика, что сидит за такими бумагами…
Машину тряхнуло в рытвине. Алексей, словно очнувшись, полез в карман за куревом и неожиданно спросил:
— А отчего ты так накинулся на деревню?! Ты же тут родился и вырос. Я пришлый, и то жалко! Скажи!..
— Ты, Алексей, как будто с другой планеты! С батей схожи… Хотя!.. — Лицо его помрачнело. Он невольно сбросил газ. — Деревню жалеешь! В ней уж жителей-то раз-два и обчелся… Ваша семейка да трифоновская…
— Ну, это ты загибаешь! — насмешливо отозвался Алексей, дрогнув полными губами. — Живут в ней люди. У Круглова дом поселковые недавно купили… Дома новые поставить, и заживет деревня. Проще скакнуть! Ломать — не строить, душа не болит. Может быть, тебе сверху-то виднее. Только вряд ли!..
После короткой и нервной перепалки сразу оба замолчали. Березин, с трудом сдерживая раздражение, уперся взглядом в лобовое стекло, но дорогу не видел. Хорошо, что встречных машин не было, да и плелся он, не прибавляя скорости. Слова Алексея задели самое нутро, и злость заволакивала постепенно рассудок: «Выходит, я гад! Ну, спасибо, родственничек!»
— А я бы на твоем месте все решил по-иному, — сбил мысли Березина Алексей, чем подлил еще больше масла в огонь. — Почему бы не спроектировать цеха на месте нынешнего кордона?! Место ровное… Мне кажется, что подумать об этом не догадались. Лишь бы сотворить, а там хоть трава не расти…
— Умник! Тебя не спросили!.. — свирепо блеснув глазами, прошипел Березин.
— А надо бы иногда людей спрашивать, — не сдавался Алексей. — Зачужел ты, Николай Петрович!
— Нахватался у бати слов!.. Перенесем деревню на Сталинский бугор, и все дела! Ты, кажется, неравнодушен был к вождю? Кто захочет, пусть едет в Темирязевку или еще куда подалее…
— Ага!.. Воды нет на Сталинском бугре… Колодец там не выроешь… Из реки прикажешь брать?! На счет этого ты заткнись! — вскипел Алексей. — А на родню как будешь смотреть? Или тебе мочись в глаза — все божья роса!
Алексей сплюнул в окно, уставился на медленно приближавшийся мост через Бересень, на шлагбаум железнодорожного переезда, торчавшего столбом. Николай Петрович, сдерживая дрожь, неожиданно резко затормозил, как только спустились с насыпи к мосту, резко и шумно развернулся к шуряку.
— А ну, вылазь! — розовая полоса коснулась желваков на щеке и поплыла, как зорька. — Вылазь, говорю!
— Та-а-ак! Договорились!.. — с дрожью в голосе протянул Алексей. — Че, помахаться хочешь? А с кумом ты схож! Брательник, покойничек, так же возникал! Только тот пушкой грозился!.. Выходит, ты овечкой тут прикидывался, а как взлетел, так сразу по-другому закукарекал! Тот на чужих косточках славу плел, а ты на родных мослах фундаменты хочешь ставить! Дерьмо ты!.. Зойка…
Березин выпрыгнул из салона одним махом. Он быстро обежал машину со стороны багажника, рванул дверцу и прорычал:
— Выходи!.. Мальчишка!.. Ты еще был с горошину!.. — слюна густела на губах пеной.
— Ах, простите! — Алексей вышел, раскланялся, а сам сторожил каждое движение приплясывающего Березина. — Я забыл… Ты же ветеран! Войной прикрываешься!? Те дела были твоими, а эти чьи, неизвестно?! Депутат!.. Заело?!
Алексей, подрагивая бровями, обошел застывшего столбом Березина и спустился к речке. Малахитовое полукружье обнимало мутную завадину, выбитую перед «быком» полой водой, медленно отступавшей, оставляя за собой вязкую тину, пузырившуюся на солнце, словно опара в квашне. По мелководью завадинки, хлюпкой и дышащей, сновали пескаришки и буравили дно медлительные ракушки, оставляя вилючие следы на поводных песчаных барханах. Алексея злость постепенно отпускала, таяла, как снег на солнечной стороне по мартовской оттепели.
— Нет!.. Погоди!.. — Березин глотал влажный воздух. На исказившемся, словно от боли, лице розовая полоса млела сизой окалиной. — Я тебе морду набью!..
— Попробуй! — нервно усмехнулся Алексей, чувствуя, что без драки нынче не обойтись.
Запредельный взрыв гнева кинул Березина вперед. Он цепко ухватил Алексея за плечо, рванул на себя, развернув его. Треснула ткань пиджака. «Ну вот! Теперь новый костюм покупать!..» — толкнулась шальная мысль. Встречный свирепый взгляд Березина сразу же погасил все сомнения. Алексей успел увернуться, нырнул под пудовый кулак родственничка. «Все! Держись, секретарь!» — обдало холодом меж лопаток. Алексей поежился.
— Каторжник! — продолжал наступать Березин, окончательно теряя голову. — Если бы не я!.. Гнил бы ты на лесоповале…
— Заводись, заводись, вояка! — насмешливо подзуживал его Алексей, отступая и легко, словно играючи, отражая удары разошедшегося мужика, забыв начисто, что он высокий областной чинуша. — Еще, еще!.. «Свалить, что ли, его?! — с натугой подумал. — Жалко! С фингалами предстанет завтра перед всеми. За-а-а-дел!..»
Трифонов, копавшийся у себя на огороде, нечаянно глянул в сторону моста и замер от удивления.
— Никак Колька Березин с Алешкой лупцуются?! Можа, шуткуют?! Не похоже, — проговорил он, втыкая лопату в рыхлую землю, парившую от дневного нагрева. — Концерт! Петьке надо бы посмотреть. Вот возрадуется, что сынка его учат!
Приседающей мелкой рысью Трифонов зачастил к усадьбе Березиных, изредка оглядываясь.
— Куды это ты намылился? — закричала ему в спину жена, высыпавшая золу на кучу возле изгороди. — Опять горлышко учуял?!
Трифонов не откликнулся, а может быть, и не слышал, увлеченный событием. Петр Семенович был на своем банном посту. Он только что прикрыл задвижку на трубе, крепко поддал парку мятным настоем, понюхал ядреный жар и вернулся во двор, сел на крылечко. К нему сразу же темным кудрявым шариком подкатил щенок неизвестной породы. Поигрывал с ним, гладил пухлый розовый живот, вспоминая старого кобеля, прожившего на подворье лет сорок. Уже ослепший и оглохший, тихо сдох в прошлую осень, вызвав небывалый рев у внучат и баб. У него и самого тискало и щипало сердце, как будто полоскали его на ветру, когда они с Егоркой закапывали мертвого кобеля под рябинкой за околицей. Помогать им никто не захотел…
— Ну что, голопузик?! Нажрал пузо!.. — ласково урчал Петр Семенович, лапал щенка то за зад, то за брюхо. — Хрюкаешь!..
Вставший во весь рост в калитке запыхавшийся Трифонов, не в силах перевести дух, тыкал через плечо пальцем, наконец выговорил с придыхом:
— Брось… пса!.. Комедию посмотри! Иди-иди ско-рея!..
— Ты чего заикаешься? Стряслось чего?!
— А ты глянь…
Петр Семенович с неохотой поднялся. С утра тянуло спину да еще вечером вчерась потужился маленько с бревнышками на берегу. Пес тоненько рявкнул и с рычанием ухватился за хозяйскую штанину. Высунувшись из проема калитки, Петр Семенович сразу догадался, чем так был возбужден дружок. В топтавшейся у моста парочке он сразу приметил своих, всплеснул руками.
— Матерь моя! — воскликнул он. — Все же чего-то не поделили?!
— А-а-а! Приспичило помахаться, — хохотнул Трифонов. — Это, как выпить…
Петр Семенович дернулся к забору, вывернул из козел дрын, подпиравший поленницу с еще не попиленными коротышами, быстро захромал к мосту, озабоченно поглядывая вдоль порядка, не видят ли селяне такого позора, когда родня бьет друг другу морды. За ним еле-еле поспевал Трифонов, дивясь прыти безногого. «Скачет, как козел!» — ухмылялся он, приговаривая:
— Те еще в пехоту-матушку!.. Ты их по загривку лупи дрыном! Так не разнимешь!..
— Замолкни, дылда! — еще больше свирепел Петр Семенович.
Пока они добирались до места побоища, драчуны уже мирно сидели на бережочке, сморкались розовыми соплями, похохатывали и хвалились меж собой, как дети:
— А я тебя здорово подцепил!..
— Еще неизвестно, кто здоровее, — парировал Алексей.
— Как я теперь на совещании покажусь? — без злобы жаловался Николай Петрович. — Кто же меж глаз бьет?! Думать должен… Я же приехал сюда не по сусалам получать!
Алексей ухмылялся, смачивал разбитый нос.
— Че тут делается?! Мать-перемать?! — пыхтя, издали заорал Петр Семенович, потрясая дубиной и срываясь на хрип. — Лихоманка вас возьми! Че люди скажут?
— Батя! — испуганно вскинулся Николай Петрович, шарахаясь под настил моста, где осклизло блестела глина меж камней. Ну, держись, парень! Связался я с тобой!.. Давай бог ноги… Сгоряча, не разобравшись, огреет чем попадя…
— Попрятались! — уже явственнее ревел сверху Петр Семенович, постукивая в ярости по перилам. — Вылазь! А то спущусь, хуже будет!..
— Идем! — охрипло отозвался Николай Петрович и шепотком Алексею: — Надо сматываться!.. Движок на ходу… Быстро в машину с этой стороны. Не успеет…
Трифонов тем временем похохатывал, тыкал локтем в бок друга, советовал:
— Как появятся, сразу бей, а то разбегутся! С лета, как чирков!..
Петр Семенович подвинулся к крутой насыпи и прозевал. Они не видели, как мужики выскочили с другой стороны моста. Машина пронеслась мимо, обдав ветром и пылью. Алексей скалил зубы, оглядывался. Николай Петрович тоже похохатывал, наблюдая за стариками в зеркало заднего вида.
— Куда теперь?
— В баню… Батя с утра собирался ее топить… Туда не сунется с дрыном. Ха-ха-ха! — закатился Алексей.
Тем временем Петр Семенович исходил в яростной пляске, гремел не хуже порога:
— Ах вы, сукины дети! Ну, я вас достану!.. — он выворачивал белки глаз, словно филин. Трифонов падал грудью на перила. Петр Семенович, хватая ртом воздух, топтался еще минуты две молча, а потом с яростью запустил кол вдоль по реке, плюнув вослед.
Мужики, бросив машину возле ворот, кинулись к бане, на ходу сдирая с себя одежду и разбрасывая ее в предбаннике. Нырнули в жар, как в спасительный омут, и схватились за веники.
— Поддай!..
Алексей впопыхах черпанул из ведра мятного и липового настоя, плеснул на каменку, спрятавшись за выступ печурки. Клуб огненного пара снес Николая Петровича с полка.
— Рехнулся!..
— Остынешь в старице…
Петр Семенович ворвался во двор с шумом. За ним еле-еле поспевал Трифонов, гадая, чем закончится все это.
— Где они?! — Петр Семенович ухватил за рукав внука Егорку, тащившего из сеней велосипед.
— В баню шмыгнули, как угорелые. Даже москвичонка не заглушили. Вон пыхтит. А чего?! — он вытаращил на деда синие глаза. — И заглушу?
— Глуши-и-и… А бабы где?
— В магазин ушли…
— Ну-у-у, семейка! — мотал головой Петр Семенович, помаленьку остывая и вытирая потный лоб изнанкой фуражки, плюхаясь на приступок рядом с Трифоновым. — Ты как смотришь на это?
— Все нормально!
Петр Семенович в баню не полез, понимая, что достать оттуда мужиков невозможно. «И чего схватились, как быки?!» — думал он, глядя на то, как спустя минут десять Алексей и Николай Петрович с оглушительным визгом выскочили из бани и плашмя кинулись в ледяные воды старицы.
— Чего это они орут, как оглашенные? — удивленно проговорила Катерина, первой вошедшая в калитку с сумками в обеих руках.
— Заорешь, когда по тебе возжа скучает, — ответил Трифонов.
Бабы, не поняв намека, ушли в дом с покупками. Зоя подзадержалась на крылечке, узнав в плескавшемся в воде Николая Петровича, проговорила насмешливо:
— Какие люди приехали и без конвоя!
Гуляли малым столом до полуночи. Николай Петрович, захмелев от Марьиного самогона, глушившего все мысли, ровно кувалдой, хотел поухаживать за Зоей, но она как в воду канула. А утром ничего не помнил и только таращил глаза, когда отец на него, спящего под рогожей на сеновале, вылил ведро воды из колодца.
К вечеру Алексей отвез его на своей машине в Красный Яр, где проходило с утра производственно-партийное собрание. Возвращаясь обратно, Алексей вспомнил, что Николай Петрович так и не решился сказать отцу, что время жизни деревни подходило к концу. «За Зойкой увивался, а главное забыл. Мне-то эта земля роднее родной. Своей я не помню!.. Да!.. Жизнь потряхивает, как землетрясение… Не знаю, как разойдутся Березины?! Куму уж ничего, не надо… Жизнь его прошла в темноте. А можно и побороться. Назаров, кажется, не в восторге от этой идеи».
Думы стлались, как дорожки на косогоре, выбитые овечьей отарой, никуда не ведущие. И вся жизнь похожа на войну. Батя, Катерина, Зоя да и все селяне не возрадуются, когда узнают…
Показалось Темирязевское. Алексей прибавил газу. Движок завыл, как параличной. «Менять надо!» — пронеслось мгновенно. Перед мостом притормозил, вышел из машины и спустился к воде. Тут вода текла тихо, как будто сонная…
9
Опять нынешнее лето выматывало то жарой, то проливными дождями, поднимавшими в речках воду. Длинными днями, похожими друг на друга как две капли воды, заполненными заботами о доме и работой, Алексей не вылезал из трудов на железной дороге, требующей постоянного внимания. Деревня же жила своей, какой-то отстраненной жизнью. К лету снова пополнилась дачниками, бывшими селянами, когда-то, в дни хрущевских переселений, бросившими свои усадьбы, перебравшись в города и села, поближе к культуре, теплым сортирам и магазинам, ломившимся от всякого добра. Ныне пошли не те времена, оголели и опустели прилавки и без подсобного хозяйства никак нельзя. И потянулись потихоньку люди к старым своим землям, копались в земле в охотку, приобретая скотинку на выгон до осени, жалея сгнившие свои усадьбы, где кроме конопли и крапивы ничего не росло.
Вот и в сегодняшнее воскресенье, когда грозовая тучка раскрылилась над долиной, прыснула чуть-чуть дождем на крыши деревни, громыхнула для порядка, разрядив свою энергию в дубе на Айгир-Камне, уже не однажды получавшем такие небесные удары за свою вековую жизнь, от автобусной остановки поспешали в укрытие дачники.
— Нужда не палка, а гоняет валко! — заорал громогласно со своей усадьбы Трифонов, каждый раз издеваясь словесно над бывшими своими соседями. — По дождичку, бабоньки!..
А ведь с утра вроде бы ничего не предвещало непогоды. Солнце жарило землю и леса, как на сковородке, с восходом разогнав жиденький туман по логам.
Петр Семенович в это время чинил с внуками покосившийся заплот на задах. Катерина с Зоей пропалывали картошку за баней. Редкий, но крупный дождик загнал всех под навес.
— Не было печали — черти накачали! — ругалась Зоя, стряхивая с лица капельки дождя.
Сюда же вломились самохваловские старики, жившие теперь в Темирязевке у старшего сына, да внук старика Анисима, умершего в сто лет, жившего когда-то прямо у прогона. Теперь от дома осталась только колодина лиственная, гнившая медленно, да веха от колодезного «журавля», приспособленного Алексеем под антенну. Андрей прошлым летом распахал клочок бывшего своего огорода, весной засадил картошкой и забыл про него.
— Ну, Андрюха, зачастил ты к нам, — уел его Петр Семенович. — Как ни выйду, а глянь, Андрюха свой огород обихаживает.
Все засмеялись. Андрей зыркал по сторонам, прятал глаза.
— Работа заела, — оскалился он, морща конопатый нос в плюшку, точь-в-точь как у всего саловского рода. — Дел хватает! Свое бы переделать…
— О-о-о, свое-то теперь у тебя там, а тут чужое, — воскликнула Катерина. — Бабу бы с собой прихватил! Тебе одному-то на неделю хватит травищу-то сечь. Вчера иду, а из вашего бурьяна бурый вылез, весь в репьях, да как зарычит: «Где тут хозяин?»
— Ох и брехать ты, Катерина! — пялил круглые глаза Андрей, поглядывая на тучку.
— Брешет кобель. А не веришь, так спроси у Трифонова. Он за ружьем тогда спохватился…
Бабы поджимали юбки. Зоя щурила синие глаза на молодого мужика, накручивая кудерьки рыжих волос на палец, подмигивала смущенному мужику.
— А у него, бабы, тяцка, из сумки торчит. Как замочит, таки пойдет пластать. А баб тут и чужих хватает. Зачем со своим добром…
— Ха-ха-ха!..
Андрей не выдержал женских насмешек, выскочил под дождь, по пути чуть не сшиб игравших в американку внуков Березина: Павлика и Егорку. Егор, проигрывая, злился, каждый раз получая по широкому лбу увесистые щелбаны от здоровенного двоюродного братца, черного, схожего с отцом как две капли воды. Только материны подсиненные глаза лукаво щурились. Девки за ним ходили гуртом, а матери молили бога, чтобы побыстрее шалопая забрали на службу. Но он метил в военное училище, а по-настоящему ухлестывал за директорской дочкой Аннушкой, учившейся на два класса ниже. Братья девушки, здоровенные бугаи, работавшие на свале леса, грозили парню нешуточно: «Ноги выломаем и спички вставим!»
— Ты бьешь с оттягом! — слезно кричал Егор, норовя уклониться от стального пальца Павла.
— Цыц вы! — покрикивал на разбушевавшихся внуков Петр Семенович, делая для острастки страшные глаза.
— Господи, забьет ведь! — жалела сына Зоя. — Уйди ты от бандюги!
— Ниче-е-е! — пел Петр Семенович. — Пусть терпит…
К ночи вернулся из поездки в Плакучку Алексей, привез канистру пива да вяленого леща. Сидели за столом допоздна, прикладываясь к стаканам и разрывая рыбу руками. Чешуя с копейку величиной покрыла скатерть. Петр Семенович, жмурясь от удовольствия, выспрашивал у Алексея:
— Тут какие-то ненашенские мужики вдоль гривы лазили, кольев десятка три позабивали, чуть ли не до околицы. Андрюхин огород стоптали. Трубой что-то выцеливали? Постыдил я их, что не вашими руками картошка сажена. А один из них, рыжий такой и вредный, посмеялся: «Все, дед! Фатеру тебе в городе припасли, а тут стройка пойдет!» Это как понимать, Алеша?! Газ, что ли, проводить будут? Че заморгал? — голос тревожно секся.
Алексей, чтобы оттянуть время с ответом, потянулся за хлебной корочкой, подсушенной с солью, хотя в руке была брюшина леща, еще не обсосанная и искрившаяся желтым жирком.
— Дак ты че губами шлепаешь, как мерин, и глазки уводишь? Там, за окном все та же картинка…
Алексей давно ждал этого разговора. Николай Петрович увильнул, струсил, отдав деревню в угоду какому-то шишу из центра, хотя и сам приложил немало сил, чтобы вот так проехаться по людям, жившим на этом бугре испокон веку.
Катя с Зоей переглядывались, чувствуя, что назревает буря, раз у отца пошли пляской губы.
— Ну, чего?! — треснул ладонью по столешнице Петр Семенович, основательно догадавшись, что от него скрывают какое-то серьезное дело.
— Батя! — Катерина потянулась к отцу.
— А ты тут не шмыгай носом! — окончательно рассвирепел Петр Семенович. — С Колькой шыры-мыры! Чего удумали?
Катерина поспешила с посудой на кухню. Зоя потихоньку ушла за ней, подмигнув Алексею. Ребятишки тоже шмыгнули из-за стола, зная дедовские привычки раздавать всем подзатыльники. Один Павел смело и с усмешкой поглядывал на деда.
Алексей отхлебнул пиво, сразу же потерявшее былой вкус, проговорил хрипло:
— К переселению идет, батя, дело! Завод будут строить… Расширять в нашу сторону…
Алексей и сам все время переживал за деревню, за родное гнездо, где нашлись для него и свобода и счастье. И вот все разом!.. Он хорошо понимал состояние тестя и беспокоился, что не перенесет старик такого удара. Он даже испугался, когда Петр Семенович совершенно спокойно произнес:
— Так… Дожили… — Но поднялся он со стула резко, чуть не опрокинув стол. Протез его взвизгнул, словно от боли. В сенцах он прихватил топор. Все домашние, выйдя на крыльцо, видели, как Петр Семенович шагал по прогону и неистово рубил колья. Летели в разные стороны щепки. Деревня вся высыпала на улицу. Опомнился Петр Семенович только тогда, когда услышал голос Ветрова, стоявшего вместе с Трифоновым возле поломанных ворот околицы:
— Руби-руби!.. Они еще понавтыкают. С корнем драть надо…
Петр Семенович, хоть и находился в крайнем разладе со своими нервами, но насмешку уловил. Он с минуту стоял как вкопанный, дыша, как загнанный жеребец, а ярость разгоралась еще пуще. Не зная, что бы еще такое сделать, он со всего маху зашвырнул новый топор в старицу, даже не пожалев, а сам прокостылял к своей баньке, присел на бережку, пригорюнившись, глядел на тихую воду, несшую угасающую волну от утонувшего топора, резавшую полого закатный отблеск. Слезы текли по его старческим щекам, а сердце с болью резало памятные годки прожитых на этой земле лет. Он еще не подступил к тому моменту, как увидит разрушенное подворье, дом, раскатанный по бревнышку, а душа разрывалась на части, горела тихим болезненным пламенем. И долго еще потом он будет корить сына за его поступок. Может быть, до скончания века…
Сумерки все сгущались. За спиной послышались неуверенные и тихие шаги. Петр Семенович не обернулся. Алексей присел рядышком и протянул зажженную папироску. Над ними стояли Трифонов и Ветров. Тесть с жадностью затянулся. Давясь дымом, спросил тихим дрожащим голосом:
— Из райкома-то тогда смурной приехал от этого? И с Колькой задрались…
— Да!
В калиточку протиснулись обеспокоенные Катерина и Зоя, тоже подсели рядышком. Зоя торопливо разливала по стаканам водку, Катерина раздавала малосольные огурцы.
— Выпей, батя!
— Ну что же!.. — скрипуче вымолвил Петр Семенович, старательно принимая стакан из рук снохи. — Уготовил мне сынок под старость подарочек! И в могилке ворочаться буду!.. Сашка-а-а бы не посмел!.. Он хоть и чужой кровушкой умывался, лил ведрами, но не посме-е-ел!.. Выходит, у Сашки-то душа добрее была. Ну да!.. В тихом озере больше чертей… Лучше бы они поменялись местами!..
— Ты что, батя?! Окстись!.. — завыла Катерина и, припадая, пошла толчками к дому, вслушиваясь в грозные слова отца и думая о том, как сложится дальше жизнь. Не знала она, что это только цветики, а ягодки созреют позже…
Сумерки постепенно перешли в ночь, сгустившуюся вперемешку с туманом, несущим розовые теплые росы.
Мужики разошлись поздно. Алексей насилу увел тестя в дом, ушел на свою половину. Катерина вскинулась с постели, жаркая и обеспокоенная.
— А как батя?!
— Отойдет…
Петр Семенович до утра лежал на своей лежанке в две доски и глядел в угол, где теплилась под образами лампадка, освещая потемневшие от времени лики святых. В ночи слышно было, как гудел натужно порог, съедая звуки заводских цехов и работавшей на полную мощь железной дороги. В раскрытое окно медленно пробиралась речная свежесть, кладя на бок язычок лампадки. Петр Семенович поднялся, потянувшись, прикрыл створки. Звуков стало меньше, зато мысли потянулись рваной чередой с самого детства, когда, пугая кур с прибрежных песков, бесштанный и босой до самой осени, гонял со сверстниками мяч из бычьего пузыря, набитого ветошью… А потом революция, Гражданская война… Колесо истории захватило и его, уже женатого… «Сколь всего было, но такого не ждал, да еще от родного сына!» — колотилась в сердце беспокойная мысль.
Гулко прогудел шестичасовой заводской гудок, всполошив все в округе. Петр Семенович кряхтя потянулся за протезом…
10
Младший сержант Александр Александрович Березин, командир мотострелкового отделения, был убит спустя чуть больше года после того, как попрощался с Бересенькой, родными, матерью, и белокурой Натахой, писавшей ему письма на розовой бумаге и с засушенными луговыми цветами. Александр бережно хранил эти душевные письма с запахами любимой девушки и родной тайги.
В светлый августовский день пуля неслышно куснула его прямо в мозжечок на броне танка в пригороде Праги, среди изнывающих от тяжести плодов яблонь, укрывающих белые домики под красной черепицей. Видать, меткий стрелок выделил затылок русского парня, пришедшего сюда волею военной судьбы. Умер он мгновенно, не успев даже произнести самое дорогое на свете слово: «Мама!» Надкусанное сбоку розовощекое яблочко, кинутое ему на броню веселой чернявой девицей, скатилось на дорогу, и белый сок брызнул из-под лязгающих гусениц. Оставил Сашка, армейский балагур и песенник, о себе добрые воспоминания, гитару, незавершенную любовь к Натахе да скорбную могилу рядом с гранитной глыбой на бересеньском кладбище, придавившую могилу отца…
Вот и все!.. Померкло!.. А давно ли цвела и колосилась жизнь в необъятном белом свете, в его сильном уже мужском теле, с раннего детства познавшем всю безжалостную коловерть бытия, пройдя от зэка и до солдата!..
Зоя Березина и Катерина Ястребова ходили в этот день с бабами на просеки за малиной. Возвращались к вечеру усталые и с полными корзинами дикой ягоды, пьяняще пахнущей. Возле летника, там, где урема заросла пышным хмелем с желтеющими шишками, усеянными пчелой, Зою внезапно качнуло и она, охнув, опустилась на колени, примяв травку-муравку. К сердцу подступила такая горючая тоска и боль, как будто кто-то рвал его на части.
— Ой, умираю!.. — Зоя валилась набок и закатывала глаза.
Бабы кинулись к ней, побросав свои корзины. Катерина испуганно запричитала:
— Че с тобой, Зоинька! Ой, бабы, помогите же!..Но Зоя неожиданно быстро пришла в себя, медленно поднялась с земли. Отряхивая шитую в клеш юбку, со страхом придыхала, держась за сердце:
— Впервое такое, бабы! Может, старое сказывается? А может, уж пришло время? Да рановато еще!.. С Сашкой беда! Мамоньки!..
Зоя пошатнулась. Корзину за нее несли по очереди товарки. Весь вечер она ходила по дому и по двору сама не своя. Катерина, глядя на мучившуюся бабу, тихонько поведала отцу о случае на летнике. Тот, как всегда, сам взялся лечить сноху. Утром съездил в Темирязевское вместе с Трифоновым. Тот в районном спецмагазине добыл бутылку армянского коньяка, и они чуть не выдули ее всю дорогой до дому. С трудом сохранили около стакана. Петр Семенович намешал в нем настои девясила и пустырника, заставив всю эту мешанину выпить залпом. Зоя уснула мгновенно, даже не дойдя до своей кровати. Катерина выпроводила всех из передней, тихо прикрыла дверь, но тут в сени с шумом ворвался Егорка, закричал восторженно:
— Где мамка? Сегодня мы настоящий автомат разбирали и собирали. Скоро стрельбы будут на военном полигоне!..
— Тихо ты! — зашипел на внука Петр Семенович. — Разорался, щенок! Мать только прилегла… А ну, марш на огород картошку полоть…
— Картошку, картошку! — разобиделся Егорка, бросая портфель в угол сеней. — Кому она нужна?! Побегать не дают! Скоро уж в школу.
— Нервный! — ухмыльнулся Петр Семенович. — Дети пошли… Каждая козявка свой норов выказывает. Вот перетяну хворостиной! В школу… не надо было на осень оставаться…
Незаметно неведомая печаль поселилась в доме и захватила всех. Никто еще не знал, что там, на западе, за многие и многие сотни километров, в далекой и незнакомой стране, которую в сорок пятом году освобождал от фашистов его дядя, Николай Петрович Березин, сложил свою голову Александр. Чей подлый выстрел из-за угла, по-бандитски, оборвал жизнь уральского парня, не успевшего пожить?
Многочисленная родня, собравшаяся в Бересеньке под общим горем, зря прождала на Айгире поезд, с которым должен прибыть гроб с останками Александра Березина. К вечеру, проводив все поезда, следовавшие в Сибирь и на Дальний Восток, разозленные вернулись в деревню. Николай Петрович Березин, вызванный Алексеем, потому, что отец не желал его приезда, узнал у начальника станции, что груз, по указке властей, органы госбезопасности задержали в Красном Яру, чтобы тихо похоронить в дальнем углу кладбища, где по чьей-то злой воле хоронили всех убиенных солдат в разных мировых конфликтах.
Мужики, глядя на зорьку, распластавшуюся красно по горизонту, словно кто-то жег там огромное кострище, тихо разговаривали.
— Не зря разгорелось небушко! — произнес кто-то тихо.
— Природа горе чует…
Трифонов припомнил, что вот так же горело раненое небо одиннадцать лет назад, когда ждали гроб с отцом Александра:
— Полыхало страшно! — говорил он тихо. — Тогда покойник прижился и ноне!..
Женщины ревом лили слезы в доме. Катерина, еще больше раздобревшая после последних родов, отпаивала Зою.
— Крепись, Зоинька!.. У тебя еще Егорка подрастает! — уговаривала ее Анна. — Ты приляг, милая!..
Зоя послушно легла на диван, незряче уставившись в потолок. Мысли скакали все в одну сторону: «Где же ты, Боже!? А, правда! Отчего все несчастья на мою голову?! Егорка!» Она с усилием повернула искаженное в горе лицо к Анне Ветровой, прошептала страдальчески:
— Егорка где?
— С ребятами уж полегли… Ты поспи-поспи!
Во двор сгружали лавки, заказанные Трифоновым на заводе. Говор в темноте тек тихий и сдержанный. Алексей, обиходив скотину, присоединился к зоревщикам. Николай Петрович Березин угрюмо поглядывал на воду, курил одну сигарету за другой. Петр Семенович сидел рядышком с сыном, забыв недавний разлад, говорил тихо под шелест прибрежной волны:
— Загубили парня!..
Разговор перебил Трифонов, подсевший на корточки напротив. Глаза его горели неуемно:
— Нечего тут высиживать, мужики! Коля и Алешка, дуйте в Яр… Ты обкомовский работник… Уломать надо власть. На родном погосте хоронить будем!.. Назаров, чать, поможет? А мы с утра тронемся могилку рыть. Ну, а если… сорвется, то самолично ночью вырою, и тут похороним… в тайне!
Березин с Ястребовым укатили в район в тот же час. Наутро, только забрезжил рассвет, как всегда деятельный Трифонов поднял всех, разыскал на своем и деревенских подворьях все годные лопаты, приволок их во двор к Березиным, вывалил под ноги мужикам и проговорил со свойственной ему простотой:
— Разбирай и пошли! К завтраку управимся… Приезжим из города не особо хотелось спозаранку ковырять каменистую землю да еще на голодный желудок. Со вчерашнего дня перебивались всухомятку, бабы были заняты другими делами. Да и думали еще о том, чем все дело кончится. Времена были не сталинские, но суровые. Ослушаться власть — значит похоронить себя где-то в тиши. Иван Климов, подъехавший из Междуреченска на синей волжанке с новой женой, смазливой бабой, разукрашенной, ровно куколка, только на отсидке держал лопату, да и то только попервой, пока не взял верх над ворами и не задобрил вохру подарками с воли, капризно сквасив губы, проговорил тягуче:
— Органы не отдадут!.. Че это, ломаться?! Экскаватор бы… У нас…
— А у нас в бочке квас. Запел! — перебил его с издевкой Матвей Егорович, страшно не любивший барыгу. — Ничего!.. Потрясешь пузом… Не рассыплешься!
Климов спорить не стал, увильнул. Бабы, толкавшиеся во дворе, оценили Манечку по-своему: «Опять Ваньте промахнулся! Вытянет она из него денежку, да и зафитилит, как Клавка!..»
Мужики скинули с лиц хмурость улыбками, представив Климова с лопатой и без деньги в кармане. А тот, блеснув на собравшихся во дворе большими зеленоватыми глазами, обидчиво качнул лохматой головой и первым тронулся вдоль берега, костеря вся и всех на чем свет стоит. За ним потихоньку потянулись остальные, вполголоса судача о нынешней жизни, поглядывая на просыпавшуюся реку, уже скинувшую туманы, разведя их по таежным распадкам.
— Политики там, на верхах, собачатся, а народ под пулями гибнет! — сердито ворчал высокий мужик, доводившийся Березиным родственником по ветви покойного деда Григория. — На кой нам эта Чехословакия?!
— Не скажи, — возразил Трифонов.
— Тише вы базарьте! — оскалившись, повернулся к мужикам Климов. — За такие речи…
— Ванька! А те ведь все едино. Те власть не нужна. Анархист! Ты как батька Махно…
— На че намекаешь, Колян?!
— А чего мне намекать? Я прямо скажу, что ты тунеядец! Одно слово: купи-продай! Спекулянт!.. и ворюга!
— Ну, ты! — взъерошился Климов.
— Хватит вам собачиться-то в такой день! — урезонил мужиков Петр Семенович, хромавший наравне со всеми, державший себя третий день строго, без росинки во рту, хотя хотелось загреметь по полной.
Замолчали. Август уже обкорнал день, и заря восходила медленно, не торопясь, как будто ждала, когда вдоволь насладятся мягкой прохладой начавшие жухнуть травы и осветлеют воды в реках и озерах.
На кладбище пришли, когда солнце уже перевалило хребет и долина на Белых берегах заиграла лучезарно. Петра Семеновича, по обычаю, пропустили за семейную ограду первым, где покоились все Березины от корня. Подойдя к свободному месту, по-хозяйски ткнул лопатой и сказал со спазмой в голосе:
— Для себя берег местечко! Эх, Сашка, Сашка! — слеза вылупилась в уголке глаза и застыла. — Вот ведь!.. — горчинка слышалась явственно. — Мне-то теперь придется за оградкой лечь…
Мужики стояли в скорбном молчании, оперевшись о черенки лопат.
— Хватит и тебе, — тихо спугнул тишину Матвей Егорович. — Ляжем рядком… Давай, мужики, пошире наметим. Гроб-то железный… Ну, с богом!
Вскоре приехали на грузовичке комсомольцы из Темирязевского депо, где работал Александр до призыва. И дело пошло быстрее. Старички, намаявшись на каменистой почве, присели на лужок, снова потекли разговоры:
— В сорок восьмом те же чехи бузили и сейчас постреляли наших ребят! Что за люди?! Им хлеб в руки — они дуло в пузо!.. — говорил двоюродный брат Петра Семеновича, живший по ту сторону хребта у Малиновских гор, шумно выпуская из широких, будто приплюснутых, ноздрей две струи дыма. — Им, понимаешь, свободу от фашизма дали! Не ценят, подлюки! Венгры бузили, поляки… опять чехи!..
— На весь народ не вали. Это фашистские недобитки! — Трифонов смачно матюкнулся, но тут же затих, поняв свою оплошность.
— На кладбище-то не больно расходись! — попрекнул его Матвей Егорович. — Святое место!.. А баешь ты верно! Гнилые западники! Они товарищи тогда, когда жрать хотят… Я еще в Первую мировую понял их натуру. Погодите, все забудут… И памятники воякам снесут!
— Ну, ты загнул, Матвеич! Чать, славяне!..
— Как там наши в районе? — перехлестнул разговор Трифонов. — Мне надо было ехать… Я бы Пыльнова разнес там!.. Вдребезги!
— Не гони волну, — встрял Климов.
К обеду, когда мужики уже вернулись с кладбища, к воротам лихо подкатил грузовой ДОСААФовский шарабан, крытый маскировочным тентом, с ядовитой зеленью. Из кузова выскочили четверо парней, загремели задним бортом. Из кабины вылез Алексей с водителем, а следом старшина. Окинув печальными глазами собравшийся вокруг народ, он сразу вычислил мать Александра. С одной стороны ее поддерживала Катерина, с мокрым от слез лицом, а с другой — Маринка. У Зои квело подгибались ноги. Старшина, побледнев еще больше, держа в левой руке дембельский чемоданчик Александра, приготовленный им заранее, четким строевым шагом приблизился к Зое и, кинув руку к фуражке, срывая голос на хрип, произнес:
— Мы все скорбим, мама! Это Сашино… — голос осекся, он неловко сунул в руки Зои чемоданчик и, смахнув фуражку с головы, скомандовал: — Выгружай!
Большой деревянный ящик с ручками по торцам парни бережно передали из кузова мужикам. Трифонов и Боровой деловито распустили бока, обнажая вспыхнувший на солнце белый цинк. Зоя, беспамятная, повалилась боком на гремящее железо. Из плохо пропаенного шва сочился едкий, тошнотный трупный дух, забивая дыхание. Блики от цинка больно били в глаза, опухшие от слез. У Зои тряслась голова, словно у параличной. Алексей силой оторвал ее от гроба, увел в дом. Петр Семенович еле-еле сдерживал подкатившие к горлу горькие, как полынь, рыдания. Бабы ревели в голос. Егорка, до этого стоявший возле гроба молча и недвижимо, неожиданно громко заверещал, как подстреленный зайчонок, и кинулся прямо через заплот на зады. За ним рванулся Павел. Братишку он поймал возле леска, окаймляющего сток старицы, в лето пересохший и песчаный. Он прижал трясущееся от рыданий тело, шептал:
— Ну, тихо-тихо! Успокойся. Ты же мужик!..
— Вырасту… стану военным! — визжал Егорка. — Убью чеха! Убью!.. Убью!..
К дому подошли обнявшись. Кто-то дал попить колодезной холодной водицы из ковшика. Губы постукивали о край, пока Егор жадно глотал пересохшим ртом воду.
Над округой висела тяжелая тьма. Зоя ходила по избе, протягивая руки, обезумевшими глазами смотрела куда-то в пространство и без конца толмила:
— Саша!.. Сынок!.. Сашень-ка-а-а!..
Велико и неизгладимо горе матери, потерявшей родное дитя. Алексей не мог смотреть на это. Дрогнув губами, он с большим трудом перешагнул порог дома, словно великая усталость спеленала ноги, вышел во двор. «И опять подружке моей досталась горькая доля! Что за жизнь?!»
Мужики пытались протиснуть гроб в сени, ворочали так и этак.
— Зря мучаемся! — в горячности проговорил Боровой. — В сени занесем, а в избу как?!
— Выламывай простенок, мужики! — визгливо выкрикнул Петр Семенович, тряся непокрытой головой. Седые волосы взлохматились, как у завалящего пса. — Ломай!.. Все едино…
В это время подъехали на райкомовской машине Назаров и Березин. Лица их были хмуры. Печать горя беззвучно задела крылом всех. Трифонов, совсем трезвый, заводя ломик в паз простенка, обернувшись, выспрашивал:
— Как это Пыльнов сдался?!
— А никак! — проговорил с силой Березин. — Украли мы из морга гроб… Старшина мужик смелый. А Анвар Галимзянович ребят из ДОСААФа организовал! — и к Алексею: — Тащи трос… Машиной подцепим и вывалим простенок. А так прочухаемся! Пыльнов уже, наверное, рвет и мечет!
Завели в оконные проемы трос, дернули грузовиком. На землю посыпались выломанные рамы, бревна простенка, так любовно выложенные в первый год Алексеем, поднялась пыль. Катерина с Верунькой на руках пятилась к заплоту, шептала:
— Господи! Прости нас, грешных!..
Петр Семенович багром откатывал бревнышки с дороги. Матвей Егорович ладил приступок. Только взялись заносить цинк в простенок, как на улицу на полном ходу ворвался уазик Пыльнова, начальника районного отдела госбезопасности.
— Легок на помине! — неприязненно проговорил Лазарев, будучи не в ладах с самого начала с Пыльновым.
Все сразу притихли.
— Кто разрешил?! — заорал Пыльнов, едва только вывалившись из кабины, пяля на людей свои невыразительные сталистые глаза. — Я приказал на кладбище! Старшина!.. Пойдешь в дисбат!
— Я вам не подчиняюсь, товарищ майор! — с тихой злобой произнес старшина, еще больше бледнея, глядя с надеждой на Березина и Назарова.
— Сгною!.. Груз вернуть… — и тут только заметил подходивших к нему Березина и Назарова, осекся на полуслове.
— Чего шумите? — спокойно проговорил Назаров. — В доме покойник.
— Но приказ!..
— Уезжайте немедленно! — тихо, но внятно проговорил Николай Петрович, еле-еле сдерживая себя, отворачиваясь от Пыльнова. — Разберитесь на бюро, Анвар Галимзянович…
Пыльнов, съежив тонкие губы в гузку, глядя на всех с нескрываемой злобой, боком тронулся к своей машине, все ускоряя и ускоряя шаги, не выплескивая недовольство, думал: «Еще посмотрим, кто в районе хозяин!»
Трифонов, подошедший к Назарову со спины, проговорил, взмахнув рукой в сторону уезжавшего Пыльнова:
— Он вам этого не простит!
— Ничего. Врагов у меня достаточно… Одним меньше — другим больше! Думаю, на жизнь особо не повлияет.
Скорбными делами занимались до вечера. На другой день, ранним росным утром, тихим и теплым на диво, похоронили Александра Александровича Березина на Белых берегах, рядышком с отцом. Мужики, собрав ружья, дали тройной залп, взбудоражив дроздов, кормившихся на известняковых кручах переспелой дикой вишней. Позднее, когда уже опал лист в таежных урманах и обнажилась ярко-красная ягода калины, свисавшая до земли голыми кистями, Петр Семенович и Алексей соорудили над могилкой из молодых лиственниц подобие маленькой часовенки с крестом на куполообразной макушке, крашенной густо под золото, а внутри поставили подсвечник. Ветра тут редкие. С одной стороны Белый берег, весь заросший тополями, с другой — уходящая вдаль полоса тайги, с увалами и вершинками по каменистым хребтинам. До поздней зимы светлел огонек свечки, не затухая, даже в лютые морозы, встав на лыжи, Зоя тропила лыжню к сыну. И потом, когда уж и сил не стало отгребать сугробы, мать ставила свечку в часовенке у ворот. Теперь пути с бабкой Говорухиной скрещивались почти каждый день…
* * *
О дембельском чемоданчике Александра, переданном Зое накануне похорон армейским старшиной, вспомнили только зимой, когда женщины перед новогодними праздниками затеяли большую приборку во дворе и в доме. Наткнулась на него в шкафу Катерина. С замиранием в сердце все следили за тем, как Егорка пытается вскрыть чемоданчик из красного дерматина, но замок не поддавался.
— Ну, чего ты возишься?! — сердилась мать, сгорая от нетерпения. — Куда подевали ключик? Был же он!.. — чуть не плакала она.
— На божнице посмотрите…
Павлик притащил отвертку из сеней и замок поддался. Гвардейский значок, блестевший алой эмалью, Егорка сразу же прибрал себе, нацепив его на куртку. Открытки с видами Германии и Чехословакии пошли по рукам. А розовую косыночку, которую Александр припас для своей возлюбленной Наташи, из прозрачного, как кисея, шелка, легкую и воздушную, Зоя повесила на рамку, в которую была вставлена увеличенная фотография сына в гражданской одежде, прикрыв ею черную траурную ленту. «Пусть! Так ему веселее…» Лежало там еще не законченное письмо Александра и фотография, снятая у знамени полка…
Зоя прижала последнюю и самую дорогую весточку и тихо ушла в свою комнатку, провожаемая тревожными взглядами родных. Там она долго смотрела на фотографию сына, сжимавшего в руках автомат. Мужественное лицо, прямая шея…
— Вылитый отец! — шептали высохшие от волнения губы. — И взгляд суров… Возмужал! Сашка ты, мой Сашка!
Домашние сидели за столом в полной тишине. Слышно было, как отстукивали время часы на стене, как тихо поскрипывал от мороза сруб дома и шебуршала в окна поземка.
«Здравствуй, мамочка! — читала Зоя, сглатывая ком, застрявший в горле. — Шлю всей нашей шумной родне огромный гвардейский привет и массу самых лучших пожеланий! Служба идет, как положено по уставу. За успехи в боевой и политической подготовке снят у знамени нашего полка. Мама, дорогая моя! Это хорошо, что у тебя полный порядок! Береги себя. Я-то с пеленок закален. Вот вернусь со службы и все закатимся к Синельниковым порогам! Помнишь, как мы с батей после Москвы там рыбалили? Наши ребята, у кого десятилетка, все намылились в училище морпехов. А я не хочу быть офицером. Бересенька роднее!..»
На этом письмо обрывалось. Видать, позвала служба.
— Так и жизнь твоя оборвалась, Сашенька! — проговорила тихо Зоя. — Может, писал-то перед своим последним походом. Состарилась я от горя, Саша!
Зоя примолкла, приложилась мокрым от слез лицом к бумаге. Пахло неведомыми запахами чужбины и знакомой, до боли, солдатчиной. «От отца письмеца так же пахли!..»
Треснул от холода большой деревянный сруб. Где-то на мелководье рвануло лед, просевший до дна. Вода хлынула, потрескивая, растекаясь синими натеками, и тут же схватывалась жестко морозом. Гулко хлопнула дверь в сенцах, затопотали шаги по настывшим половицам. В распахнутую избяную дверь вместе с паром ввалились люди.
— Кого это принесло?! — вскинулась с кухни Катерина.
— Принимай гостей! — подсевший от мороза голос Николая Петровича Березина возвестил громко.
Зоя положила письмо на столик, прислушалась к колготне в доме. «Коля?! Его каким ветром в такую пору занесло? Батя с Алексеем привез?!» — коротко пронеслось в мозгу.
А Катерина тем временем встречала гостей.
— А Зоя опять в больничку ушла? — донесся голос Алексея. — А то к ней вот Харламов приехал…
— Да нет, Алеша! А вы раздевайтесь, — повернулась она к военному. — Коля, помоги! — и, притушив разговор, прошептала: — Сашкин чемоданчик вскрыли… А там письмо. Читает у себя.
— Харламов! — проговорила Зоя, всхлипнув. Сразу обдало ветром прошлого. Она вышла в переднюю, тщательно смахнув слезы с глаз и прижимая у груди кофточку. Все как-то виделось туманно. Но она узнала! Перед ней стоял тот самый Харламов. Только седой как лунь, уже не бравый полковник, а убеленный сединой генерал.
— Ха-а-ар-ла-мов! — Зоя потянулась к нему всем телом. Он медленно опустился на колени перед женщиной, как перед знаменем, и целовал ее безвольно опущенные руки. — Ты что?! Встань!.. — шептала она пересохшими губами.
Все, кто был в это время в избе, затаенно смотрели на эту сцену. А Харламов, поднявшись, уже говорил резко:
— Все знаю! Но ты сильная!.. Держись!..
Зоя разрыдалась у него на груди…
— А батя где? — обеспокоенно выспрашивал у Катерины Алексей.
— Я думала, ты его привез сейчас!.. — схватилась та за голову.
— Какое! Он еще утром должен был быть дома. Загулял батя!..
Алексей оделся и выскочил на мороз. По деревне не слышно было гуляк. «В чайхане сидит!» Он зашел в поселковую чайную, но там кто-то из заводчан справлял свадьбу. По пути заглянул в магазин. Мария Зыкина сразу же догадалась, кого ищет Алексей. Подперев жирные бока кулачищами, игриво возвестила:
— Ищи у Трифонова. Он мясо загнал… Ушли часа три назад. Гуляют пропойцы, пока Марфа в отъезде!..
Алексей вернулся в деревню, высматривая дома. Светившихся окон было мало. У Трифонова темнотища. «Куда их черти унесли? — про себя ругнулся Алексей и тут же мысли перескочили на другое: — Правда, говорили, что на Малиновке зоны строят. Наверняка Харламов со Степного своих сослуживцев привез! Да еще лес у нас брать будут. Опасное соседство! Шахты закладывают… Что-то нашли, а добывать зэки будут…»
С севера задуло еще резче. Ветер сек и резал лицо, словно иглами. Над затемненными горами стыла морось, заслоняя туманно мерцавшие звезды на небе. С горы спускались к, заводу груженные бревнами лесовозы, выхватывая фарами из невиди промерзшие до нутра скалы. Резко, как будто совсем рядом, рычали дизеля. Из-под огромных рифленых скатов, широченных, как гусеницы трелевочного трактора, рвались пыльные струи снега, рассыпаясь о тупорылые морды КрАЗов, пронизанные желтым светом…
Алексей не догадался пройти дальше к дому Ветрова и завернул в свою калитку. «Найдется, чать, не впервой!» Из погребицы пробежала Катерина, неся на вытянутых руках чашу с солониной. Пахло груздями, квашеной капустой и огурчиками. Алексей потянул ноздрями.
— Не нашел? — Катерина выглянула из-под платка пытливо.
— С Трифоновым где-то колобродят…
— Самогон с подпола достань, — Катерина прошелестела в сенцы.
Алексей обмел веником валенки, ночь затемнилась еще больше. Ветер кинул в лицо поземку настойчивее. Алексей прислушался к вою ветра.
— Пурга будет! — проговорил он. — Надо бы сена подметать.
Алексей заходить в дом не стал. Взял вилы, начал тесать сбоку стог сена, занося его под навес, где уже оседала ветреная пыльца снега. Корова, почуяв хозяина, тихо промычала. Заволновались в овчарне овцы, но тут же притихли. Алексей кинул всем в ясли корма и, дохнув морозец, пошел к дому…
11
В этот день, когда заявился в Бересеньку генерал Харламов, Петр Семенович поднялся раньше всех. Потихоньку, чтобы раньше времени не будить народ, пристегнул старый, уже развихлявшийся, но служивший исправно протез, и вышел на крылечко, запорошенное тонким снежком, мягким, как пух, разлетавшимся из-под подошв. Лицо сразу же обдало северком, настойчиво тянувшимся с обледенелой реки. Над темными горами бриллиантовой россыпью сыпались с неба звезды. Сине-розово мерцали морозные столбы над хребтами, упираясь голубыми макушками в Млечный Путь, бросая фантастические блики на снега, волнисто уходящие по Бересени, ощеренной леденистыми застругами. От омутовой чаши, что стояла перед сливом порога, доносился тупой стук пешни о закостеневший лед. «Трифонов прорубь оживляет, — подумал Петр Семенович. — Комедии строить будет… А морозец-то еще крепче закрутит ноне. Ишь, как все светится! Да и то… Скоро святки…»
Петр Семенович поежился, чуя, как под гольный полушубок пробирается холодок, осторожно сходя по поледеневшим ступенькам и направляясь к сараю, где похрустывала сеном скотина. Пока оправлялся, на волю выскочил с парящим ведром Алексей, стал заливать в радиатор москвичка горячую воду, приготовленную Катериной еще с вечера в печи. Приметив копошившегося возле дверей сараюшки тестя, охрипло, спросонья спросил:
— Ты чего, батя, ни свет ни заря всполошился?! Я с вечера скотине много сена задал, чтобы бабы поспали…
— Да я по нужде.
— А-а-а!..
Петр Семенович немного лукавил. Ночка была почему-то беспокойной. Ворочался на своей печке, забывался и опять просыпался. Сон выдуло, словно ветром, а в голове с осени застряла забота, прицепилась, как репей. Хотя он и примирился с сыном… Сашкина гибель подыграла, но все же точило будущее остро, словно сверлом: «И куды же мы денемся?! Как без Бересеньки?! Вся жизнь, радость, печаль и нужда тут! В этой земельке… Колька-то, может, и не виноват. Заставляют!.. Партейный…»
Приоткрылась дверь коровника. Пахнуло теплом, навозом… В щелку проскочил кобелек, уперся лапами в хозяйский полушубок, закрутил хвостом.
— А-а-а, вот ты где квартируешь? Хитер!.. От холода-то к скотинке… Ну, гуляй, гуляй!
Пока Алексей возился с машиной, Петр Семенович тронулся в избу будить баб и заодно и внучку, приезжавшую на выходные из Темирязевского лесного техникума-интерната. Маринке вставать в такую рань шибко не хотелось. Она отбивалась от деда, как могла:
— Дедуля, отстань! Еще ночь… Автобусом поеду.
— Гляди, а то за прогул опять стипешки лишат, — проворчал Петр Семенович, садясь за пустой стол.
Катерина, щуря синие глаза на отца, притащила с загнету вчерашних щей в чугунке.
— Нальете сами. Мне еще в поселок бежать да очередь за сахаром занимать. Чего вскочил, как кочет? Пошли тогда в магазин, Нa двоих отвесят…
Петру Семеновичу торчать меж баб да инвалидов в очереди не хотелось, и он быстро нашелся:
— С Алешкой в поселок поеду… по хозяйству надо бы что-то посмотреть.
— Делать нечего. Мужиков полон дом, а гвоздя забить некому, — она раздраженно повела плечом.
— Вот за ними и еду…
Выехали из ворот на дорогу с трудом. Ладно, подмогнул Трифонов, возвращавшийся от реки с пешней на плече. Жало холодно поблескивало за спиной.
— Эх, поехал бы я с тобой! Кутнули бы!.. — подмигнул Трифонов Петру Семеновичу. — Но баба затеяла бычка резать… Приходите вечерком на селянку.
— Знаю я твою селянку, — ухмыльнулся Алексей, садясь за руль. Петр Семенович смолчал, но засек себе на уме приглашение, норовя вернуться ко времени, пока аквонавт не забурел.
За ночь шоссе подмело крепко. Дорога терялась меж лесов, фары тыкались на поворотах в заснеженный пихтовник. Встречные машины слепили, Алексей матерился, еле-еле уворачиваясь от тяжеленных лесовозов, не знающих на своем пути преград.
— А им че?! — поддакивал сычом тесть. — Мать их!.. Оне танк сомнут!
В поселок Темирязевский, утонувший в морозной измороси и задымленный печными дымами, приехали, когда магазины уже распахнули свои двери, а у колхозного рынка шла обычная предторговая суета. Мясники тащили тушки на колоды, бабки суетились с корзинками с засолами, спекулянты помахивали меховыми шапками и оренбургскими пуховыми платками, сторожа зорко милиционеров, готовившихся к обходу — все двигалось и шумело по-базарному.
В скобяной лавке, притулившейся у самых ворот, Петр Семенович купил по счету пятьдесят штук половых гвоздей, а потом заглянул в чайхану, где встретил Кондратия, бывшего лесника с Айгирского кордона, ныне обитавшего у вдовой дочери, зашибавшей деньгу шитьем по заказу местных модниц.
— О-о-о!.. Сколько лет, сколько зим, Петя! — с пьяной радостью зашумел тот, как будто встретил близкого родственничка, с грохотом пододвигая железный стул. — Редко видимся! А я вот живу тут, как кум королю. Столица! Газ, вода и теплый сортир. Лафа. Садись… Брательник заехал по пути с курорта. Знакомься!
Петр Семенович протянул руку смурному мужику, сидевшему по правую руку, удивительно схожему лицом с Кондратием, проговорил, пытливо глядя в черные глаза:
— Вроде как виделись? Василий Гаврилович?
— Он самый, — пробасил мужик.
— Петя — это мой закадычный дружок! — запел слащаво Кондратий. — Врежешь? Мы уж вторую почали… — он весело хлопнул по боку, где из кармана торчало горлышко бутылки.
«Когда это мы закадычными-то друзяками были?! — кривился Петр Семенович, соображая скоротечно: — На халяву с удовольствием! А ты, Кондратий, все одно жила!» — вспомнилось, как года четыре или пять назад подсунул ему трухлявые дрова, а еще ранее, при Хрущеве, обрезал до ниточки фамильный покос, хотя там трава так и простояла на корню, обильно колосясь, не дождавшись косы хозяина.
— Да я пивка хотел, — поскромничал Петр Семенович.
— Сказали, что пива седни не будет…
— Давай! — решительно взмахнул рукавом полушубка Петр Семенович, хотя сразу же вспомнился наказ дочери приехать трезвым. «Была не была!»
Кондратий ловко разбавлял водку компотом. Проходившая мимо их стола толстая официантка с румяным лицом, словно срисованным с приклеенной к стене картинки из «Огонька», оглядела мужиков подозрительно. Кондратий ей умильно улыбнулся, и та прошла мимо, обшаривать не стала.
— Слава тебе господи! — перекрестился Кондратий, передавая под столом стакан Петру Семеновичу. Тот залпом осушил содержимое, шумно выдохнул ноздрями, сказал сдавленно:
— Прокатилась!
Василий Гаврилович тем временем поглядывал по сторонам, прикрывая брательника, заряжавшего очередной стакан, басил:
— Дожили! Ранее, бывало, без опаски зайдешь в пивнушку и врежешь, сколько надо. Тут тебе было все: воблочка, сухарики и разная закусь. Хоть залейся! А ныне народу не положено… А начальство разных рангов хлещет не хуже верблюдов. Ворье-е-е! Хозрасчеты, пересчеты, а у работяги карман пустой! Власти токо для себя мышей ловят! А на нас наплевать!..
— Да-а-а! — согласно тянул Кондратий, по-воровски окидывая зал. — С головы гнием!.. — Но, приметив севшего неподалеку за стол незнакомого мужчину в кожанке, предупреждающе взмахнул рукой, чуть пригнувшись, сменил тему: — На озера-то ездишь, Петя?
— Ездили недавно с Алексеем на Лебяжье. Но там фига подо льдом, а не рыба. Кто-то успел вычерпать до нас… Теперь все браконьеры на «Буранах» катаются… Газовики и разный пришлый народ. Поймали маленько… — при этих словах Петра Семеновича братья многозначительно переглянулись. Но чуть захмелевший Березин приметил немой разговор. «Они вычерпали!» Исстари чужаков, пойманных на Бересеньских угодьях, учили боем. А тут свои втихаря… На дыбы вставать не стал. Калинины народ здоровый.
Толковали еще больше часа о том о сем. Кондратий распечатал еще бутылку водки и, распив быстренько, теперь уже с чаем, вышли на улицу. Снежок морозно поскрипывал, перекатывался на ветерке по сугробам, словно сахарный песок. На душе было весело. Вдоль дороги попыхивали дымно солярой разнокалиберные грузовики. Шоферня заряжалась на дальнюю дорогу к лесосекам и нижним складам. Дальше в тайгу спиртного не завозят, да и тут не каждый день можно отовариться под завязку.
— Может, еще махнем? — Кондратий обвел друзей вопрошающим взглядом.
— Я пустой! — с силой выдавил Петр Семенович, хотя карман штанов прожигал трояк, сэкономленный от хлебных покупок по копейке. — Потратился на гвозди…
— А мы их обратно загоним. Вахлака деревенского поймаем… Давай!
Василий Гаврилович быстренько сбегал к рынку и вскоре вернулся с «огнетушителем» «Солнцедара». «А-а-а, в следующий раз куплю», — пронеслось в мыслях Петра Семеновича после того, как в кабине одного из самосвалов распили сногсшибательное вино, изготовленное неизвестно из чего.
Расстались посреди улицы уже близкой родней. Кондратий, обнимая Петра Семеновича, слезно тянул:
— Ты уж заходи, Петя, в любое время! Не забывай!.. Да я!..
Петр Семенович проводил долгим взглядом обнявшуюся парочку, выписывающую ногами кренделя по дороге, и тихо двинулся к остановке, ступая твердо, стараясь не покачиваться. Проходя мимо конторы лесокомплекса, приметил возле крылечка неспешную колготню. Собралась почти вся итээровская знать, приехавшая с участков и объектов. Дым висел над головами в морозном воздухе, смешанный с парами. Все ждали чего-то. Разнокалиберные машины, побитые и потрепанные на таежных дорогах, стояли чуть поодаль. «Совещание, видать, собрали. Народу-то понаехало!» — прикидывал умом Петр Семенович, заметив в небе над Бересеньской пристанью вертолет. Теперь там хлысты не складируют, а на поле соорудили посадочную площадку для стрекоз. Теперь этими машинами никого не удивишь. Они каждый день летают над горами, развозя по линейным участкам газовой трассы вахтовиков и пожарных. На этот раз народ чем-то заинтересовался.
— Что за кутерьма, Димка? — схватил Петр Семенович за рукав полушубка проходившего мимо Дмитрия Борового, чем-то озабоченного.
— Начальство из области летит… Сам Мажитов… А ты уж поутрянке наклюкался. Смотри, мильтоны тебя подхватят на пятнадцать суток сугробы грести. Их вон сколько понаехало!
— А-а-а! — раскрыл рот Петр Семенович.
— Не забудь закрыть! — захохотал Боровой.
Петр Семенович тут только и сообразил, что лучше быть подальше от начальства, тронулся дальше. Но любопытство взяло верх, и он смешался с толпой. А к конторе все стягивались и стягивались любопытные. Ребятня влезла на сугробы, улюлюкала. С десяток милиционеров, в белых полушубках и в ремнях, как на параде, строго покрикивали:
— Разойдись, товарищи!
— Куда прешь?! — в мегафон кричал на водителя грузовика коротконогий лейтенант. — Сказано — стоять у бровки!..
— Наконец-то катят, бары! — прошипел кто-то в толпе ненавистно.
— Заткнись, вражина!
И правда, от моста вынырнули черные «Волги», лихо развернувшись, как на параде, встали строем, уткнувшись капотами почти в крылечко. Из машин вальяжно выходили люди, одетые по-городскому, все в одинаковых шапках. Петр Семенович был поражен таким количеством высоких чинов. Тут же, среди гражданских, мелькали золотом погоны военных, чинно плыли серые папахи. Здоровенный малый, водитель лесовоза, стоя на высокой подножке своего КрАЗа, басил трубно:
— Гля, робяты, генерал!
— Полковник… — возразил мужик с котомкой, жавшей спину.
— Разуй глаза! Вон тот в каракулевой шапке…
— Все едино… С одного барана содрали — на другого напялили!
— Ха-ха-ха!
— Молчать! Разойдись! — усердствовал незнакомый милиционер с усами на круглом лице.
— Говорят, шахты строить приехали. Землю будут рыть… С лесом завяжут. Уголек будем рубить!..
— Мели, Емеля! Откель у нас уголья! На Малиновку зэков нагнали. Может, они и лес валить будут.
— Где он, лес-то?!
Приехавшие гуськом поднялись на резное крылечко. Народ стал расходиться. Тронулись по своим делам лесовозы. Площадь быстро пустела, словно смытая волной. Петра Семеновича хмель потянул на бочок, хоть вот здесь, в сугроб. Пяля насильно глаза, погруженный в небытие, что-то домысливал, удивляясь тому, что в лесных шарагах, возле его дома, зэки будут рубать уголек и сыпать горы земли.
— Чудно! — шептал он, не понимая, куда бредет. Он не помнил, как добрел до остановки, как сел в автобус; и очухался только тогда, когда приехали в Айгир, а пассажиры покинули салон. Тормошил его за плечо водитель.
— Семенович!.. Приехали!..
Петр Семенович одичало глянул на шофера, на заиндевелое окно, спросил:
— Где это я?!
— В Айгире, дядя Петя! — усмехнулся тот. — Ну и пускаешь пузыри?! Набрался! Минут через десять обратно двинемся. Выйдешь в Бересеньке…
— Нет уж, я лучше тут выйду.
— Гляди…
В голове гудело, как в бочке. Поселок тонул в морозном молозиве. От порогов тянуло скрипучим шумом. «Ого! — сообразил Петр Семенович. — Порог встает!.. А че это я попрусь домой? — рвал мысли и шарил по карманам, не замечая, что ноги его сами несут к продмагу. — А-а-а, троячок-то уцелел! А чего мы пили? — смута селилась в голове. — И с кем?! Подлечусь и до дому… — размышлял Петр Семенович, поглядывая на далекие дымы деревни, минуя площадь, отутюженную бульдозером, где теперь стоит в полный рост чугунный Ленин с протянутой к горам рукой.
Машка Зыкина, как всегда, горой стояла за прилавком с соками и газировкой, разливая тайком по сто граммов левую водку, добытую расторопной бабой у цеховиков. Водка попахивала сивухой, но была в почете у местных выпивох, так как законной горькой уже давно никто не видел на прилавках. На стук разбухшей от мороза двери магазина Машка, не оборачиваясь, прикрыла поднос с бутербродами полотенцем, а мерку сунула под прилавок. Но, увидев вошедшего, успокоилась и расцвела в притворной улыбке.
— Соседушка!.. Проходи, Семенович!..
Березин криво усмехнулся, привалился бочком к прилавку, спросил, глядя женщине прямо в глаза:
— Почем ныне отрава?
— Скажешь тоже! Отрава… — повела плечом Мария. — Трояк…
Ну даешь, Машка! — возмутился Петр Семенович, про себя матюкая спекулянтку. — Вчера было по два. Ты уж, поди, спишь на матрасе с червонцами.
— А ты проверял?! — Мария округлила глаза от злости, выпучила по-совиному.
— Ладно! Наливай! — проговорил Петр Семенович, испугавшись, что Машка совсем прикроет торговлю и тогда придется тащиться в деревню не солоно хлебавши с больной головой.
— Чем закрасить?
— Плесни капельку сиропу…
Петр Семенович бережно взял стакан, притулился за круглую стойку возле окна, но пить не торопился, поглядывая по сторонам и продлевая удовольствие. Только взялся выпить, как, изломав прохладную в этот час тишину магазина, в дверь боком ввалился Трифонов, уже изрядно разогретый самогоном, с пустым мешком в руках. Увидев соседа, в два шага оказался рядом, сгреб его за плечи клешнятыми руками и заорал, испугав кота, дремавшего возле батареи отопления:
— Петя!.. Друг мой! А я как раз ослобонился. В удаче я!.. Мясо по пятерке за кэгэ загнал и самогону добыл у доброго человека! А Машка жмотина! — повернулся он к Зыкиной. — Трояк давала!.. И водку за червонец…
— Че разорался-то, дылда?! — окрысилась Зыкина, собирая с прилавка незаконные продукты, пятясь в подсобку. — А еще ревизора наведешь!
— Надо бы… — урчал Трифонов. — Машка? А те прокурор еще не вызывал на ковер?! Вызовет. Налей.
— Щас! Разбежалась! А это видел? — Зыкина повернулась задом и всплеснула подолом халата.
— Ха-ха-ха! Гы-ы-ы! — сотрясал магазин Березин. Продавцы сдержанно улыбались. Завмаг испуганно выглянула из-за занавески и тут же шмыгнула обратно, увидев Трифонова. Уж наверняка в доле была с Зыкиной.
— Да хватит тебе нервы портить! — утирал слезы Петр Семенович. — Поделюсь!
Он взял с мойки пустой стакан, разделил пополам бледно-розовый напиток.
— Нужна мне твоя бурда! — не унимался Трифонов. — У меня четверть. Во! — он распахнул полушубок. Из каждого кармана брюк и пиджака торчали горлышки бутылок, заткнутых полиэтиленовыми пробками. — Пошли, Петя, отсель. Марфа в монастырь намылилась, а мы погуляем. Пойдет под селянку!.. А-а-а, ладно! — Он широко раскрыл зубастую пасть и выплеснул туда содержимое стакана, даже не поморщившись. — Разводишь?! Пошли!.. Я ее выведу на чисту воду…
Березина на старых дрожжах развезло быстро. Он еле-еле шевелил протезом. Чтобы сократить путь в деревню, двинулись через старицу по льду, испещренному следами животных и людей. Оступаясь с тропок и кучно падая в сугробы, пели и хохотали, как на представлении. Где-то сбились с пути, хотя стоял зимний полдень, правда уросно-морозный, и не попали в березинский проулок, а выбрались по целине на сугроб возле чьей-то бани. Трифонов долго созерцал со снежного гребня деревню, удивленно бубнил:
— Сроду с этого боку домой не ходил! Это куда же мы, Петя, запоролись?! Можа, мы уже в Атамановке?!Да нет!.. Вон, вроде бы, мой дом!
Петр Семенович соображал плохо. Он стоял рядышком, придерживаясь за полу трифоновского полушубка, бормотал, силясь что-то понять, пяля глаза навыкат:
— Ежели… Баня Матвея! Дом же впереди?!
— Ну!
— Вперед! — сипло заорал Березин, скатываясь с сугроба. Матвей Егорович в это время отдыхивался после работы во дворе, сидя на лавке, поглаживая колени. Перед ним, нагнувшись, стояла жена и стягивала с ног валенки, поругиваясь больше для порядка, любовно:
— Опять застудил. Весной за штурвал не пущу, так и знай. Отошел малость… Без тебя обойдутся, чать не маленькие!
Матвей Егорович промолчал, зная, что, заведи только, будет шпынять без умолку. Не штурвал катера снова подсадил его силы, а гибель любимого двоюродного внучка, Сашки. Тогда, в августе, на похоронах, он стоял над могилой в полном параде. Грудь в орденах, завоеванных еще в Гражданскую и полученных за труды после. Петушился он перед этим, как мог. А тут подкосились ноги, просились к земле, распахнутой для последних объятий парня. Совсем недавно гонял он мяч со сверстниками на прогоне, бегал за девками, ныне же покидал мир навсегда в железном бушлате.
— Седни же свези меня, Алеша, на Синельников, — тихо попросил Матвей Егорович, когда возвращались с кладбища. — Там и помяну всех разом… Что-то муторно мне сидеть рядом с Ванькой Климовым.
— Свози, Алеша, — проговорил охрипло Петр Семенович, сидевший рядом с Ястребовым.
В деревне и поселке притушило горе жизнь. Так, пока не захмелели, потихоньку теплилась в горьких поминальных речах за большим столом на лужайке, прямо у ворот. Над рекой, извилисто и весело убегавшей меж гор на юг, радовалось августовское чистое солнце. Тайга кипела шумно от ветерка, дыбилась зеленой пеной, рябилась серебряно суводь возле камня, где всегда притыкал тупым носом катер Матвей Егорович Ветров. Каменные лобины прижимов, косо стесанных вечным движением вод, мокли на глазах от брызг порога.
Алексей, оставив старика возле замшелого от времени обелиска, под которым не одно десятилетие лежали его друзья-мореманы, влез на самую макушку Синельникова Камня, спугнув рыжего коршуна, дравшего тут зайчонка, присел возле отвеса, изредка переводя взгляды на Ветрова. Старик застыл на лиственничной плахе, установленной на двух валунах, со стаканом в руке, где колыхалась водка, шевелил усохшими губами:
— Простите, браты, что редко стал навещать вас! Стар я! Сегодня вот внучонка похоронил. Такого же молодого…
Томился он на скамеечке долго. С невероятной болью и с большой радостью одновременно вспоминал свою долгую жизнь, не смахивая набегавшие на щеки слезинки. Боль шла не оттого, что где-то пересиливала она отраду и жизнь, была в суетных заботах и больших трудностях, а оттого, что проскочила она, как вода сквозь порог, быстро, оставив на теле и в душе метки, память всю в изгибах и тяжелых валунах. Тут же пришла на память та торжественная година, когда, выздоровев от ран, сразу же после шумной свадьбы, поехали с Анной на Волгу, на свою родину, где остались мать, отец, сестры и братья, а также многочисленная родня. Страшно хотелось взглянуть на землю, где прошли детство и юность, где потомственные рыбаки и плотогоны пели на зорях свои песни, пришедшие на волжские просторы со времен далеких и бурных. Писал письма уже с Бересеньки, но ни ответа, ни привета. «Война! Разруха!..» — думал Матвей Егорович.
А река, как и раньше, тащила на себе грузы России-матушки. В Самаре ждать пассажирского парохода, ходившего в верха раз в неделю, не стали. А напросились у шкипера на буксир, идущий за плотами. Высадились они на пустынном берегу. Матвей Егорович удивился тому, что кругом стыло безлюдье. Раньше, бывало, тут носилась ребятня, шла мелкая торговля рыбой и всякой всячиной, стояли баркасы-волжанки, ожидая выхода рыбаков на тоню. Да и выше стояла пристанишка, где Матвей боцанил по юности, пока не забрили во флот. На душе стало тревожно. Они скоро поднялись по песчаному яру на гору, где стояла деревушка Прибрежная, обдуваемая ветрами со всех сторон. Анна, впервые покинувшая свои таежные урманы, все время дивилась простору, обилию садов.
С колотьем в сердце, Матвей Егорович первым выскочил на крутояр, надеясь увидеть милую мазанку, приткнутую к косогору боком и утонувшую в вишневом раздолье. Но!.. На том месте редела пустошь. Торчали, как памятники, обгорелые столбы и полуразвалившиеся печные трубы. Одичалая вишневая непролазь да куртины высокорослой крапивы вперемешку с коноплей стояли стеной…
— Простор-то какой, Матвеюшка! — воскликнула Анна, козочкой выскакивая следом и подставляя радостное лицо ветру, дующему с низов. Но, увидев окаменелое лицо мужа, разом осеклась, словно поперхнувшись, схватилась за горло… И солнце сразу померкло, и Волга потемнела, словно перед бурей. Рыбак, сушивший на ветру сеть, заметил застывших от неожиданности людей, подошел и заговорил тихо, но с каким-то ожесточением:
— Прибрежную колчаковцы еще в девятнадцатом сожгли… А ты чей, парень? Что-то лик твой знаком?! Може, обознался?
— Ветров я!.. — выговорил с трудом Матвей Егорович.
— Вон че-е-е!.. Егора сынок! Побили, ироды, почитай, всю деревню! И старых и малых! А особо глумились, у кого в красных кто-то был… Пожгли… Постреляли… Райкомовцев всех перевешали. Батя-то твой председателем был у нас, — рыбак повесил голову. — Я-то уцелел случаем… В Самару за снастью послали. Вернулся… А тут! — Он взмахнул рукой, всхлипнул нутром и пошел к берегу.
— Где схоронили-то? — хрипло выдавил Матвей Егорович.
— А тут! — рыбак взмахнул рукой на стрежень Волги. — А тут! Погрузили тела на баржу и затопили. Покойники-то по Волге посля плыли. А кои остались внутрях баржи — так и лежат до се!..
Матвей Егорович с большим трудом оторвался от воспоминаний. Из груди вырвался тяжкий вздох. Задела душу долгая жизнь, полная всякого: плохого и хорошего. Он погладил седые волосы жены грубой ладонью. Та, разогнувшись, прижав валенки к груди, тихо спросила:
— Ты чего, Матвей?!
— Да чего-то вспомнилось разом, Аннушка! Как Сашку хоронили, как с моей смертью боролись, как на Волгу ездили, да и то, как нес тебя с первенцем в утробе по лугу… Ворковали, а чибисы так и заливались! И глаза у тебя были солнечные!.. Помнишь, Аннушка?!
— А как же! — Анна пристально поглядела в лицо мужа. «Болезнь его ломает. Вот и плывут на память разные случаи, — подумала она горько. — Да и я чахну, Матвеюшка! Помнить?! Как же забыть-то?!» Продолжала она уже возле печки, засовывая валенки на трубу: — Времечко убежало, Матвей! Чего уж теперь душу бередить разными воспоминаниями. А так все до капельки, до былиночки ясно, как будто седни все и было…
Она еще хотела что-то сказать, но в сенях громко затопотали. Послышались невнятные приглушенные голоса. Кто-то шарил в сенной темноте по двери, выискивая ручку. Анна испуганно проговорила, повернувшись к мужу:
— Кого это несет?!
Матвей Егорович сквасил губы и пожал плечами. Хотел уже подняться, но дверь с грохотом раскрылилась. Вместе с клубом пара в избу вначале ввалился Трифонов в распоясанном полушубке и весь в снегу, как Дед Мороз. А за ним тихо вполз Петр Семенович. Увидев грозный взгляд сестры, смиренно затих возле порога, роняя голову то в одну сторону, то в другую, осоловело окидывая избу.
— Господи! — схватилась за голову Анна. — Откель вас принесло?! Поморозились, поди?
— Скажешь!.. Чать не дети, — Трифонов, осклизаясь по полу в промерзших валенках и роняя комья снега на пол, поначалу выставил на стол сразу запотевшие бутылки, а потом, подцепив друга, квелого, как квашня, подвел его к лавке, уложил и, стрельнув черными очами, продолжил: — Здорова были!.. Ты отдыхай, Петя. Умаялся… Бычка зарезал и гуляю! Анюта, волоки закусь! Хотели зайти в профком за трешкой, да заблудились…
Матвей Егорович хохотал до слез. Анна, хмурясь, вытряхивала братца из полушубка, ругалась добродушно:
— Ну, балабожники! Треснуть бы вас по башке, может быть, поумнеете. Песок уж сыпется… А все гулянки. Старые алкаши! Ведра мало…
— Кто-о-о!?! Мы старые! — загремел на всю избу Трифонов. — Да нам еще молоденьких подавай! А-а-а, чего ругаться-то? Сейчас все пьют. Раньше я один страну пропивал, а теперь… — Он взмахнул клешнятой рукой и по-хозяйски утвердился за столом, кинув к порогу сначала валенки, а потом полушубок. — Давай, болезный, двигайся, — махнул он Ветрову рукой. — Вот тяпнешь стаканчик, и вся твоя хворь улетит к едрене-фене! Как говорят: не пьем, а лечимся, не через день, а каждый день, и не рюмками, а чайными стаканами…
Хохоча над прибаутками, Трифонова, Ветров сел к столу. А Трифонов продолжал уже серьезно, наклонившись к столу и вращая белками больших глаз:
— Я вот чего подумал, Матвей! Берлогу заприметил в одном месте. Хряпну мишку и тебя лечить начну… Уколы, таблетки — все это туфта, как говорит Алешка Ястребов. Мази наделаю… Селяночку сварю с травами из сердца… И побежишь ты, как лось!..
— Мазали и ели уж всякую всячину, — угрюмо отозвалась Анна, глядя на то, как по-хозяйски режет холодец Трифонов. — Клавдия из Ленинска чем только не поила. Полбарана отдали…
— Мазали да кормили не с тех рук, — оборвал ее Трифонов. — Ну да!.. Этот разговор не для пьянки. Петька дрыхнет…
Петр Семенович искусно выводил на лавке храпаки, тоненько посвистывал.
— Музыка! — поддел Трифонов. — За твое здоровье, Матвей!
Матвей Егорович спустя время, оживившись после первого же стакана первача, назойливо допытывался:
— С кем брать будешь бурого?
У него, у старого охотника, не раз ходившего на крупного зверя, спиртное высветлило азарт следопыта.
— Еще не прикинул, Матвей, — бубнил Трифонов, кусая соленое сало с чесночком. — Ныне довериться никому нельзя. — Губы его маслено блестели. — Алешку позвать — так тот зеленый патруль. Заорет на весь район: «Браконьер!» А летось лося грохнул, так от ляжки не отказался…
— Теперь он член райкома, — встрял Матвей Егорович.
— Да-а-а! Карабкается потихоньку мужик. — Трифонов еще раз наполнил стаканы. — Там ветру тоже хватает. Дуют, да не в ту степь! Потравили зверя сами, леса свели для наград, а теперь плачутся и охраной занялись. Думать не умеют наши главы. Говорят, Брежнев приезжал в Светлое, кабана ему подставили…
— Ты-то, лупоглазый, сколь зверья побил да леса повалил? — ругнулась Анна.
— Это не бабье дело! — посуровел Матвей Егорович, пьяно поводя рукой.
— Бабами сваи забивают, Матвеюшка! — огрызнулась Анна.
— Верно, Анютка! — вскинул обе руки Трифонов и неожиданно запел могуче:
Степь да степь кругом, Путь далек лежит… А во той степи Замерзал ямщик…Сидели и балагурили дотемна. Анна тоже пригубила глоточек и распевала с мужиками, пока не заслышала шум машин за окном, и засобиралась.
— Куды это ты?! — вскинулся Матвей Егорович.
— Алешка, кажется, приехал. Петра, поди, потеряли?!
— Кому он нужен? — оскалился Трифонов, подумывая: «Деньги в кармане, но до Айгира я уже не дотяну!»
Только Анна успела прикрыть за собой дверь, как Петр Семенович зашевелился и упал с лавки, громыхнув протезом. Вставая на корячки, с удивлением рассматривал всех, углы избы, соображая с большим трудом: «Где это я?!»
— О-о-о, проснулся, ваше благородие! — зарокотал Трифонов, легко, как младенца, усаживая дружка за стол, — аль не узнаешь? Забурел, мужик! Мы те граммульку на похмел оставили…
Петр Семенович, морщась, как от отравы, отодвинул стакан, так же молча пошел к вешалке, оделся и вышел на мороз. Мужики переглянулись удивленно. А Петру Семеновичу в голову ничего не лезло. И двигался он будто на автопилоте, ощущая себя в неприятной невесомости. По пути к дому Петр Семенович столкнулся на узкой тропке с Алексеем.
— Ну, погуля-я-ял, батя!
— Ты молчок! — погрозил' пальцем Петр Семенович.
— Да от тебя несет, как от пивной бочки! Ладно, тетка Анна прибежала, а то уж собирался в Темирязевку…
Возле дома их догнал Трифонов, посунулся к Алексею.
— Заводи свой драндулет. В Айгир надо… Я-то пьяный!
— Сейчас, разбежался!
По узкой, слабо притоптанной тропке шли гуськом. Петр Семенович, дыхнув морозняка, понемногу приходил в себя, вспоминая, что он делал сегодня и где был. Почему-то засела мысль: «Покупал гвозди — точно! А куда дел?» Завидев машины, стоявшие у обочины в ряд, вскинул под шапкой брови и сразу вспомнилось виденное в Темирязевском.
— Колька прикатил?
— Он с Харламовым…
— Режь — не пойду! — заупрямился Петр Семенович. Нервы встали в стояка. — Не по-о-ойду! Поганой метлой. Он за че нас продал? И начальство привез, чтобы выселить!
— Да ты чего, батя?! Харламов же друг Александра! Тебя приехал навестить…
— Да все вы против деревни! — взвился снова Петр Семенович. — У тебя, дылда, ума, как у пенька!..
— Дурак! — дохнул в лицо друга Трифонов и первым вошел на подворье Березиных.
— Идите, а я по нужде зайду, — тихо проговорил Петр Семенович. Он зашел в сарайчик и долго стоял там, прислонясь к яслям с сеном, чувствуя, что неприязнь к сыну как-то взбугрилась. «И чего взбунтовался?! Самогон, мать его!.. — ругался он, коря всех на свете и себя за свой бешеный характер. «Ведь успокоилось вроде бы у нас с Колькой! Не-е-ет! Это по верхам, а в сердце-то заноза торчит, и вынуть ее невозможно». Потом он некоторое время топтался возле крылечка, в который уж раз обметая веником валенки, глядя на выплывший из-за горы месяц, на желтые тени возле заплота, где кобелек выжег дырки в привальном сугробе. «Вот ведь! В родной дом неохота заходить. Как это понимать дозволишь? Сухостой у Кольки в душе, потому все мимо пролетает и заботы его тревожат по большому. А чего деревня?! Мелочишка!.. Прижал к ногтю, как вошь!..»
Он бы еще топтался на приступках, скрипя протезом, в который уж раз переживая, куря одну сигарету за другой, если бы не выглянула из избы Катерина.
— Ты че тут пристыл?! Водка эта!.. — она сильно хлопнула волглой дверью.
Прислушиваясь к гаму в избе, Петр Семенович в сердцах выбросил пустую пачку, шагнул в избу. В лицо дохнуло чужими одежками, папиросным дымом. Петр Семенович неспешно разделся, повесил свой полушубок рядом с синей шинелью, легонько провел ладонью по широким золотым погонам. «А и вправду генерал! Ишь ты!.. Теперь вся деревня только и толковать будет. Вот дожили. А Сашка не дослужился до генерала. Выходит, судьба!»
Харламов сразу узнал Березина. Тот же упрямый и крутой изгиб хрящеватого носа, скуластый овал лица. Генерал тронулся навстречу, протянул руки с крупными запястьями.
— Здравствуйте, Петр Семенович! Вот и свиделись… Примите мои соболезнования, хотя и запоздалые!
Харламов мял ладонь растроганного Петра Семеновича, чуть склонив покрытую пеплом голову, говорил:
— Давно хотел заскочить, да времена бойкие…
У Петра Семеновича вязко запершило в горле. Проговорить он был не в силах, а только кивал лохматой головой. Как же, генерал! Видел он одного, когда их эшелон немцы расстреливали с воздуха в упор. Но тот был захлюстанный и грязный. Он орал матом, стоя под веером пуль, стреляя по стервятникам из пистолета. А этот чистенький, как новый пятиалтынный, пахнущий «Шипром».
Усадили Березина между сыном и генералом. Николай Петрович привычно положил руку на плечо отца, говорил с виноватой ноткой:
— Гуляешь все? Ты не гляди на дружка своего. У него сердце железное…
Петр Семенович сверкнул глазами, хотел попрекнуть сына, что он больше тревожит отцовское сердце, но передумал, стерпел. Проходившая мимо Катерина с пельменями на большом блюде, раскрасневшаяся от печи, пригнувшись, выговорила в волосатое ухо отца, чем немного подпортила поднявшееся было настроение:
— Тут мы читали последнее письмецо Сашки! А тебя носит где-то нелегкая! — и к гостям уже громко: — Ешьте, пейте! Леша, наливай!
Петр Семенович старался не дышать в сторону генерала. Он с нескрываемым интересом разглядывал застолье. Возле Зоиной юбки гоношился черный мужик: не то грузин, не то еврей, что-то игриво говорил, ведя ее в танце. «Ну, этого Зойка отошьет мигом! — думал он ревниво. — Кавалер не тот!..»
В затухающей Бересеньке, где уж каждый третий дом пустует, слух о том, что к Березиным приехал настоящий генерал, разнесся быстро, достиг Айгира, поселкового клуба. Народ с песняками повалил на улицу. И каждый пытался заглянуть вроде бы по делу. Трифонов вместе с Егором Матвеевичем Ветровым выталкивали любопытных из сеней, высокомерно поговаривали:
— Че, генерала не видели! Опосля, ребятки, опосля. Дайте поговорить со знакомцем. Сашкин командир, да и младшего знал… посля, ребята!..
Харламов вышел к народу. Какая-то баба из толпы выкрикнула:
— Бают, война-то в Афганистане совсем ненужная! — но, опомнившись, закрыв рот варежкой, шагнула за спины. Харламов не ответил. Он посмотрел с минутку на дышащие паром рты и ушел в избу.
— Дура! Че молола? — стыдил кто-то бабу.
— Оне не лыком шиты. На такое не отвечают.
— А говорят, что Брежнев уже не правит…
— Тише! Раскудахтались! — степенно выговаривал Трифонов. — Возьмут говорунов за салазки да…
Поздно ночью, когда звезды покрыла изморось, Николай Петрович увез заезжих гостей в Темирязевское на ночлег. Там для них был прибран гостевой особнячок. Харламов остался у Березиных до утра. Еще затемно упал мороз, и легонько завьюжило с севера. Харламов, Ястребов и Трифонов еле-еле добрались на охотничьих лыжах до кладбища. Харламов, скинув генеральскую шинель, сам греб лопатой снег возле могил. Потом мужики долго стояли со стаканами в руках перед камнем и часовенкой, поминали молча. Напоследок Харламов разрядил свой пистолет в воздух. Эхо выстрелов расстелилось по Белым берегам. Со снежного поля низом сорвалась пара куропаток и кувыркнулась поблизости в сугроб. Замолкшие было сороки, вновь застрекотали в березняках. Ветер срывал с деревьев пыльную труху…
За неделю в Темирязевском были подписаны договора о поставке на новую закрытую стройку на Малиновке крепежа, пиломатериалов и мебели с Айгирского завода. Кедров радовался, рассчитывая на эти деньги обновить устаревшее оборудование в цехах и потихоньку ликвидировать убыточные производства, притянутые в комплекс Березиным неизвестно с какой целью. На таежных лесосеках появились «химики», присланные Харламовым в помощь. Но те работали спустя рукава, затевали пьяные драки с вербованными и местными мужиками. Боровой вскоре повыгонял эту шушеру со своих лесоразработок. А вскоре Кедров совсем отказался от такой помощи.
Комплекс так же прихрамывал, несмотря на то, что у рабочих деньга пошла покрупнее. Как и всегда, никто на нужду не роптал, хотя цены начали взлетать стаей, как воробушки на насесте. Люди потихоньку гадали: «В конце хрущевского правления было то же самое. Брежнев скоро слетит!» И ползли слухи, что вскорости рыть каналы и работать будут на стройках коммунизма, как при Сталине, политические. Психов всех загонят на лесоповал, чтобы не болтали много и политикой не занимались. Теперь вправлять мозги будут старым и проверенным способом, а воров будут лелеять на зонах…
Лагеря, заложенные под Малиновкой, пополнялись вновь эшелонами…
Дни шли чередой. Ветры и морозы всполошились до времени. Февральские вьюги были еще впереди, с гор неслась хрусткая снежная мгла, приваливая лога и ямины, набивая в узкие щели, плотно, до звона. Ночами опять горели столбы над Шоломкой. Они игрались в измороси сине-лиловыми искрами, как будто над главным хребтом разразилась сварная дуга. Деревня и вовсе притихла. Если бы не гудевшие рядышком цеха завода, то разгорелись бы волчьи глаза на легкую добычу по деревенским сараям да овчарням. Но, невидимые в тайге, они боялись теперь подходить близко. Только самые отчаянные, загнанные голодом, приближались к огородам и нарывались на меткий выстрел Трифонова.
Почти все деревеньки, заглохшие от безработья, опустели совсем. Народ двинулся на Малиновку. Там, сказывали, жизнь повертывается к человеку лицом, а не задом. Алексей, вновь встревоженный нашествием на уральскую землю новых зон, снова задумался о своей судьбе. Да и как не думать?!
12
Февраль на уральской земле испокон веков вьюжный, морозистый и капризный, как всполошная баба. Навалился он на Бересеньку и ее окрестности струженными снежными зарядами, разбойничьими пересвистами пронизывающего до костей ветра и сыпучей, словно сахарной, поземкой. Степан Корнилович Трифонов, которого никогда и никто не величал полным именем, разве только Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, вручавший ему в Кремле ордена и медали за немыслимые рекорды, с Крещения не находил себе покоя. После очередного купания в Прорве душа вновь просила чего-то. И тут вспомнилась медвежья берлога, найденная им еще в позапрошлом году неподалеку от Каменских лесоразработок. В прошлом году он наведывался в Каменку, срубил под хребтом избушечку и выложил добротную печурку из плитняка. Может быть, он погодил бы с охотой, но слово дал Матвею Егоровичу Ветрову, что поднимет его на ноги медвежатиной, встанет старик снова к штурвалу. А обещаниями Трифонов не любил бросаться попусту. «Слово — олово!» — говаривал он частенько. Ну и еще была одна помеха. Взял бы он зверя по осени, но боялся, что могут прихватить егеря из спецохотничьего хозяйства в Светлом, куда относилась вся территория по ту и эту сторону хребта. Подловят и не посмотрят, что ты дважды герой, жахнут годика два-три, и будешь париться на нарах и закапываться в гору на Малиновке, как крот. А тут подфартило! Каменские леса передали Темирязевскому лесоперерабатывающему комплексу. Теперь невидимая черта заповедника передвинулась на восток, за хребет. Но тревога все же селилась.
— Вот ведь незадача! — недовольно восклицал Трифонов, почесывая крутой, упрямый затылок, все еще в кудерьках, как у селезня. — Надо ехать к свояку на разведку, — решил он наконец-то. Хотя со свояком у него были большие разлады, когда тот пахал с ним на лесосеках, всегда надеясь на родственную скидочку. Но железный лесоруб правил бригадой жестко и блат ненавидел, хотя и с размахом пользовался своим положением.
Отпросившись на работе на три дня, пообещав Марфе привезти на воротник норку, Трифонов налегке, сунув только во внутренние карманы полушубка две бутылки «Московской», добытой в районе в спецмагазине для чинов, сел в поезд и поехал в сторону Челябы, по пути к которой стоит спецзаказник Светлый, напичканный по вольерам разным зверьем, подкормленным и почти ручным для услады охотничьего азарта высокопоставленных людей.
В другое время Марфа бы обязательно воспротивилась такой отлучке мужа, зная, что там будет гульба, ревнуя его даже к лесине, не задумываясь, подняла бы грандиозный скандал на всю деревню, но сегодня смолчала, потому что накануне ее Корнилович пришел домой трезвехонек и с целехонькой получкой. Ну а обещанный воротник уж совсем перевесил. Марфа от растерянности попервой даже потеряла дар речи, но потом все же ретивое не выдержало: «Ага!.. Мне норку, а сам зафитилит к матане!.. Жалко все же!.. Может, и вправду в Светлое?!» — мысли скакали вдоль и поперек. А вслух спросила:
— А че это тебя к Ваське-то несет?! Он, поди, не забыл, как ты ему по морде насовал! Сколь лет не якшались?
— Сойдемся! — твердо ответил Трифонов. — Мало ли по пьянке бывает. Вот тебе духи еще в нагрузку.
— Матаня отшила! — взвилась Марфа до визга. — Теперича мне суешь?!
— Да не ори ты! — поморщился он. — В нагрузку дали к водке.
В эту ночь Марфа легла в постель, надушенная до одури «Красной Москвой». Трифонов аж задохнулся, выскочил на волю, матерясь в темноту:
— Дура шпаклеванная! По каплям же душиться надо!..
Мир еле-еле восстановился. Еще не рассвело, когда Трифонов сошел на маленькой станции Светлой. Заходить в пришибленный к сугробам вокзальчик не стал, а пешком поперся к поселку по накатанной дороге, не дожидаясь рейсового автобуса, возившего туда и обратно два раза в день. «Пока жду, пяток километров отмахаю!» — думал он, топча хрустящую изморось.
Над горами недвижимо стояли морозные белесые туманы, сыпали в долину мелкую крупу. Прожектор желто высветил черное жерло пробитого в горе тоннеля, следом с рыком выскочил грузовой состав и запылил с перестуком по станционным стрелкам. На реке дыбился заструженный ледянкой вал, нагроможденный осенними первыми морозами. Возле контрольной будки охотничьего хозяйства сидела подслеповатая сучка, раненная еще в молодости зверем, поглядывала на незнакомца с подозрительным любопытством. Трифонов толкнул дверь проходной, та со скрипом открылась.
«Дежурных нет, значит, гости не отдыхают», — догадался Трифонов, заметив сквозь невидь измороси огонек в егерьской избе, стоявшей во дворе наискосок. Взойдя на богатое резное крыльцо, он согнутым пальцем настойчиво постучал в дверь, обшитую чеканной медью, позвал:
— Хозяева дома?!
Изнутри ни звука. Сквозь морось, шедшую через реку на хозяйство с гор, еле-еле было видно поселок, приземистые домишки, где жили егеря с семьями и приезжая обслуга. Чуть вдали, у березовой рощи, весело маячили флюгерки на острых куполах гостевых дач, а еще дальше — таежный колок, прикрывающий хозяйственные службы, вольеры и конюшни. Оттуда доносились неясные фырканья и визг. Вдоль навеса, где рядами стояли автомобили и снегоходы, позванивал бегунком на проволоке здоровенный пес, настороженно косился на топтавшегося на крылечке Трифонова, но голоса не подавал.
— В поселок придется идти, — пробормотал он, выпятив недовольно нижнюю губу. — С Васькиной бабой встречаться не хотелось бы… Моментом настроение попортит, да и старое припомнит. Зараза!.. — Он созлостью пнул дверь валенком, прошитым на головках кожей, и хотел уже сбежать с крылечка, как услышал сбивчивый и недовольный голос со сна:
— Кого там еще в такую рань принесло?!
Трифонов через сто лет бы сразу признал скрипучий голос свояка, обрадованный, произнес:
— Это я, Вася!.. Трифонов… Отчиняй ворота!..
За дверью минутное замешательство, а потом раздалось как-то неопределенно и вяло:
А-а-а… Ты-ы-ы!.. — Но дверь раскрылилась со скрипом. Василий Леднев, босой и в шубейке, накинутой на одно плечо, заговорил со сдержанным удивлением:
— Заходи, Корнилович… раз приехал. А каким путем? Мы морозить у порога не будем, как некоторые!
— Намекаешь?!
— А че?
— Кто старое помянет…
— Ага!.. А кто нет — тому два глаза, — ворчал Леднев, но руку протянул. — Ладно. Здорово!
На прикрытых шкурами нарах похрапывали сезонные егеря. От печи шло мягкое тепло, мешаясь с запахами сбруи, плохо выделанных шкур и табака. В деревянной пирамиде, скроенной по-армейски, блестели вороньем стволы.
— Чего прилетел-то? — тихо выспрашивал Леднев, плескаясь над ведром возле рукомойника, подвешенного к стене. И не дожидаясь ответа, с горечью продолжал: — А у меня с бабой полный разлад. Вот и ночую тут… Приезжал Фролов из Атамановки… Ну, ты их всех знаешь. Лосятины закупил у нас пять центнеров. Ну, мы с ним и гульнули. Да еще баб каких-то он подцепил. Теперь перед моим носом — дверь на запор! Ну, а все же!.. Чего прикатил? — допытывался он, вытирая лицо затертым полотенцем. — Мясо кончилось. Шкуры сдали…
— Мясо у меня свое, Вася. Поговорить, повидаться… Ну и дело есть на литр, — Трифонов распахнул полы полушубка. Светло блеснули горлышки бутылок.
— О-о-о! — протянул Леднев. В глазах вспыхнули огоньки. — Сурьезно!.. Пошли тогда в одно место. Ноне все дачи свободны.
Одеваясь, Леднев дернул за ногу спавшего с краю парня, приказал:
— Послушай телефон, Петька! Я в обходе… Да не скалься! Ответь, и все дела.
— Заметано! — егерь снова уронил голову на свернутую в рулон телогрейку, спрятал улыбку.
Спустя десять минут вошли в одну из многочисленных дач, рубленных из отборной лиственницы, разукрашенную по самый конек искусной резьбой по дереву. Внутри, на голых стенах, в изобилии рога лосей и косуль, чучела, на полу ковром брошены шкуры. Зверье оскалило пасти… В середине громадный стол человек на пятьдесят, голый, как футбольное поле. В углу большой камин и кочерга у стены, немного подкопченной. Василий щелкнул выключателем, и дежурный свет погас, а над головой вспыхнула хрустальным дождем люстра.
— Богато живете! — воскликнул пораженный Трифонов. — Как в Кремле!
— А то!.. — горделиво вскинул голову Леднев. — Гостиная. Тут такие люди пируют, аж дух захватывает. В люксах, где живут гости, побогаче! Сейчас пошарю в холодильниках, может, чего осталось. Вчерась мелкота какая-то гуляла. Сынки да дочки разных шишек… С ними возни охотоведам и егерям нет. Не надо зверя подсаживать и гнать на выстрел! Эти нажрутся… Вуги-вуги! И голышом выплясывают. Срамота! Ха-ха-ха! — заржал Леднев. — Я тут как-то дежурил в ночь. Думаю, загляну. Стопарик нальют… Они меня силком в банкетный зал затянули. Правда, у меня шланги огнем горели, и я не особо противился. А как увидел картинку, то сразу пожалел, что связался. Чуть коньки не отбросил… Парочка в чем мать родила… валандаются на шкуре. А все сидят за столом и ноль внимания. Парень уже квелый! Неспособный… А деваха, косматая, как ведьма! Накрашенная… На меня набросилась, орет и лезет, куды не надо… «Иди, мужичок! Я тебе любовь подарю!»
— Брешешь ты, Васька! Признайся! — усмехался Трифонов, выставляя выпивку на стол.
— Истинный господь! — он перекрестился. — Кинулась на меня и взасос! А от нее не то кониной пахнет, не то еще чем… Больше я не маячу, когда наследники гужуют.
Василий принес початое блюдо с заливной осетриной, колбасу с сыром. Не успели выпить, как хлопнула дверь и в зал вошла закутанная по глаза женщина. Увидев сидевших за столом мужиков, всплеснула руками:
— Опять ключ подделал! С самого ранья жрут. Ну, Танька тебя теперь и вовсе в нужник не пустит. А директору я пожалуюсь. Гони ключ! Откель собутыльника-то выкопал?
— Родственник приехал.
— Точно, — подтвердил Трифонов. — Садись с нами, бабуля.
— Какая я тебе бабуля? Внучок нашелся. А ну катитесь!..
— Она не сядет, — обидчиво протянул Леднев, придумывая, как бы поддеть женщину. — У нее мужик, как вепрь. Клыками туды-сюды водит! Не подойдешь на километр. Правда, Дашка?! Ха-ха-ха! — заржал Леднев, закидывая голову, довольный тем, что вспомнил старую историю. — Ты расскажи, Дашка, как ты с министром на болотах заблудилась. Ох-хо-хо! Юбка-то вся в клюкве… А потом… а потом мужик ее гонял возжинами по тем самым местам! Э-э-э! Ы-ы-ы!.. — рыдал Леднев.
Женщина наскоро скинула платок и оказалась чернобровой молодайкой. Она вытащила из боковушки швабру и, озорно блестя глазами, с маху огрела Леднева по спине. Тот икнул и подпрыгнул с лавки.
— Ты че, дура?! Тут герой труда сидит, а ты!..
— Повидала я этих героев! А ты попридержи язык и не болтай, чего не следоват! А ну!.. К обеду делегация приедет…
Мужики спешно оделись и за дверь. Трифонов похохатывал, а Леднев ярился обиженно:
— Курва!.. Еще руки распускает! Не понравилось!.. Пошли в корчму к конюхам.
По дороге Трифонов поведал о своем деле. Леднев сразу напыжился.
— Знаешь, на бурого сколько лицензия ныне стоит? То-то! Пятьсот рубликов…
— А мне не нужна твоя лицензия, Вася! Да и район уже не ваш.
— Звери наши…
— Сколь, говоришь, штрафу?
— Тоже пятьсот…
— Многовато!
— О чем и говорю.
— Ну ладно, Вася. Я те сегодня даю сто рублей, а ты прикрой меня, ежели что. Следочки замажь… Не в ту сторону увести инспекторов.
— Это мы можем! — самодовольно пропел Леднев. Сотняга ему не помешает. — Ноне живем без тяжбы. Браконьеров в эту зиму мало. А охотнички не едут. Больше всего разные совещания, банька да пьянка. Мы-то сами рулим все мимо. Так, для продажи… Стреляй смело. Знаю я эту берлогу. А пока метет, вертолеты не поднимутся с инспекторами. Гони деньгу…
— Расписку гони…
— Какую такую расписку?! — выпучил глаза Леднев.
— Шуткую я!..
— Шуточки — полтазика в желудочке!
Трифонов отсчитывал деньги, ухмыляясь, подпирая дверь корчмы плечом. Остаток водки выпили вместе с дежурным конюхом, с отметкой подковы на широком лбу. После Леднев на «Буране» допер Трифонова до станции. Пока поджидали электричку, в станционном буфете выпили по литру пива. Леднева от ерша развезло. Он ерзал на стуле, поглядывал на пассажиров, чинно сидевших на лавках, говорил гнусаво:
— Митька Фролов разоткровенничался. Говорит, что у них с братаном давно зуб на Березиных наточен. А Ястребову башку, говорит, давно отвертеть надо. Из-за него Васька, говорит, спекся на зоне, пропал где-то. Пыльнов нам родственник. Откопает!.. Где братана косточки лежат!
Трифонов насторожился, но перебивать не стал. Слушал с большим вниманием да еще подддкивал. Он знал всю тяжбу Фроловых с Алексеем. Все видели, как Катерина стреляла по Ваське, когда он был в бегах. Да и помнит тот покос. «Пекутся братья! Хоть и времечко-то убежало, — мелькали беспокойные мысли. — Неужели чего раскопали?! Кто-то ляпнул из кагэбэшников».
— Можа, винца выпьешь? — спросил Трифонов. — Мне-то еще маяться на электричке. Усну и проеду Айгир… Так чего еще там Митька-то плел?
— А разное, — махнул рукой Леднев. — Говорит, что всем им крышка будет… Наша, говорит, концовка будет…
Глаза у Леднева и без вина пошли вкось. Трифонов, поддерживая его под руку, вывел к снегоходу, запустил движок, спросил, перекрывая тарахтенье:
— Доедешь? Ты не гони шибко-то, а то в Урал свалишься!
А-а-а! — бесшабашно прокричал Леднев. — Прорвемся!.. Не впервой!.. По-о-о-шел! — он крутанул рукоятку газа, и вездеход рванулся вперед, обдав Трифонова снежной пылью…
Домой он вернулся мрачным, хотя дело и выгорело. С Березиными и Ястребовыми у Трифонова издавна сложились близкие отношения. Бывало, говаривал, расчувствовавшись: «Мы, Петька, одним миром мазаны и до гроба!» И секреты держал строго. Знал он, что Леднев, далекий родственник по двоюродной сестре жены, был не в меру болтлив, когда заложит за воротник, но в половине его слов могла прятаться и правда. «Сказать о разговоре Алексею или погодить?! — гадал он, глядя на то, как Марфа укладывает в рюкзак буханку хлеба и кусок вареной говядины. — Погожу-у-у!»
С этими тревожными думами и уехал, снарядившись под завязку патронами и едой. В кордоне подсел на ходу в теплушку, где бригада ремонтников путей, ехавшая на пересменок, шумно забивала козла. Сидел возле буржуйки, грел колени и раздумывал о будущей охоте, о жизни, как-то кособоко шедшей в последние года… После ухода с лесосек на деревоперерабатывающий завод в Айгире Трифонов на удивление всем, а особенно жене, запойно пить бросил, но разговлялся с радостью, когда была возможность. Домашнее хозяйство его также мало затягивало, хотя делал он, что нужно по двору, всегда справно, как положено настоящему хозяину, и упрекнуть в безделье его никто не мог. Полюбил он в последнее время ходить на разные комсомольские и пионерские сборы, где с охотой рассказывал, как они с бригадой в войну давали лес стране и фронту. Звенел он в президиумах наградами, рисовался перед молодежью. Но после того, как стал разваливаться по частям комплекс и жизнь дорожала с каждым днем, патриотическая жилка в нем стала затихать. Да и сборы молодежи все больше стали походить на пикники, обходя дела. Тогда-то и повесил свой парадный костюм в шифоньер и больше его почти не надевал, разве только по большим праздникам.
— Пошли они все!.. — горячился он перед селянами. — Выродился народ! Рвачи все и крохоборы от головки и до низа! И смену себе готовят такую же!..
Трифонов пошевелил кочергой уголь в печке, разбив тускнеющий на глазах панцирь шлака, глядя пристально в красное нутро, пышущее жаром, опять думал не о предстоящей охоте, а о том, как оповестить об опасности соседей. «Въелось, как дробью пробило! — недовольно переживал он. — Фроловы еще те… Не уложил бы Алешка тогда старшого — жизни бы тут ему не было!»
Так и доехал он до лесоразработок возле печки, выпрыгнул первым из теплушки возле деревянной эстакады нижнего склада. Оставив зачехленное ружье и рюкзак в сторожке у старого знакомого еще по работе на лесосеках, пошел разведать обстановку у подъема на хребет, не дотянулись ли руки Борового туда.
Молодой тракторист «Кировца», уже изрядно помятого, только что проволок пачку хлыстов, отцепил автоматом воз и, не снимая колец чокеров с крюка, развернулся обратно на лесосеку.
— Ловко! — восхитился Трифонов. — А у меня десяток чекоровщиков работали. — Эй! — помахал он водителю. — Прихвати меня!..
Тракторист притормозил, выглянул из кабины.
— Чего надо?
Трифонов, неуклюже прыгая через обрезки и навал мусора, поспешил к трактору.
— Подвези в верха.
— Давай! — Тракторист покосился на черный и новый полушубок пассажира, подумал: «Начальник какой-то?!» А вслух добавил: — Боровой на четвертой ленте. Там повал идет вручную. Балочная машина не поднялась. Не изобрели еще… Да вон и начальник!
Трифонов поморщился, но деваться некуда, придется с Боровым встретиться. Дмитрий Боровой с бригадой только что спустился вниз на обед. Увидев Трифонова, выпялил от удивления глаза:
— Здорово были! Ты как тут? Что-то ты зачастил на наши деляны? — Боровой хитро прищурился.
— Каком вперед… Проветриться приехал. Больно-то не ори! Я тут тайно, — Трифонов всплеснул перед Боровым ладонью.
— Да ладно темнить! А мы только что вспоминали твой метод ручной валки. Отвыкли с машиной и как подступиться к лесине, не знаем. Может быть, после обеда поднимешься с нами и покажешь?!
— Вечером уеду, — соврал Трифонов.
У столовой, срубленной наспех, толпились лесорубы. Боровой раскрыл дверь перед Трифоновым. Сели за стол в сторонке. Положено бригадиру и итээровцам из другого котла.
— Любаша! — крикнул Боровой. — Еще одну чашку и ложку…
Из-за кухонной перегородки выплыла располневшая на казенных харчах жена Борового, спросила:
— Кому это? — Но, увидев Трифонова, расцвела в улыбке. — Корнилович?! Налью пожирнее…
— Как всем, — сморщился Трифонов.
Лесорубы уминали борщи и тушенную с мясом картошку молча. Боровой исподлобья поглядывал испытующе на «железного лесоруба», думал: «Точно берлогу он тут засек. Зачем ему медвежатина?! Ради азарта?! Непохоже… Будет фоловать — не пойду!» — твердо решил он, потянувшись за очередным куском черного хлеба, наваленного на стол горкой. — Не хватало еще на старости лет срок отхватить!» Он выхлебал щи, отодвинул чашку, глядя все еще с любопытством на Трифонова, заговорил тихо:
— Тут, Корнилович, почти стопроцентная спелость. Прироста нет и валим подряд, трелюя сразу с двух пасек. План гоним на двести…
Люба обслуживала пришедших на обед мастеров, прислушивалась к спокойному голосу мужа. Помогала ей рыженькая девчушка. Мужики, расслабленные и сытые, волгло, поводя глазами по избе, пополегли прямо на полу возле печки, сваренной из бочки-пятисотки, жравшей дрова кубометрами. Табачный дым сизым облаком витал под потолком.
— Ну, Любаша, спасибо за хлеб, за соль! Пошагаю к делу…
Трифонов напялил шапку на голову, вышел на мороз, попрощавшись со всеми. Боровой вышел проводить.
— Может, заглянул бы на лесосеку? — Боровой прищурился.
— В другой раз, Митя…
Укатанный тяжелой техникой, снег хрустко скрипел под валенками. Шел и думал легонько об охоте. Тянуло и занятно было, как в молодости, в одиночку выманить из берлоги зверя и жахнуть дуплетом прямо в морду, а потом увернуться! «Ныне не та уже ловкость, — подумывал он. — А ежели поскользнусь?! Али ружье даст осечку? Что тогда? Гроб с малиной… Надо бы кого-то заманить. А кого? Боровой вряд ли пошел бы… Теперь уж поздно святую воду пить, когда в грехах по горло…»
В небольшой сторожке, жарко натопленной, малорослый, но шустрый мужичок Силантий плел корзину, мычал что-то под нос, зажав колодку меж ног. С этим приработком к своей тощей зарплате он содержал и воспитывал сиротинку внучку, работающую в свои четырнадцать неполных лет посыльной у Борового. Войдя в домик, срубленный из коротышей, так, полушутя, зная, что Силантий трусоват, позвал его с собой. Потом спохватился, но уже было поздно. Силантий неожиданно ухватился за это обеими руками:
— А че! Едрена вошь! С тобой хоть куда! Сколь мяса дашь? — выпялил он на сразу растерявшегося Трифонова белесые глазки, прикрытые, на удивление, длинными и пышными ресницами, не поредевшими от старости и доставлявшие ему на морозе немало хлопот. — И жиру бы нутряного с кило. Кашель меня заедает…
— Курить бросай. А жиру в нем сейчас немного. Мяса бери — сколь унесешь…
— Лады!.. По рукам!
— А ты хоть медведя-то видел? — Трифонов присел на лавку.
— Не боги горшки обжигают! — ершился Силантий, возбужденный до крайности. Трифонов только головой покачал.
В этот день выйти на хребет не удалось. К вечеру так завьюжило, что белого света не видно. Пришлось ждать погоды. Трифонов попытался отговорить старика, но тот хлопал ресницами, выкрикивал, косясь на спящую за занавеской внучку:
— А ежели тебя бурый заломает, а?! Кто те спасет?
— Ну, ладно! Не ершись…
К ночи четвертого дня пурга наконец-то прилегла на сугробы, словно уснула, намаявшись в трудах. Трифонов, выйдя по нужде на волю, удивился тишине и белому лунному свету, изорванно стадившемуся по хребту, твердо решил: «Пора пробиваться к месту, а то еще закрутит».
Еще до рассвета, отмерив на широких охотничьих лыжах около десятка километров, они ввалились в избушку, срубленную Трифоновым, схваченную изнутри морозом, словно клещами, но почти не тронутую снегами. Бывалый охотник и лесоруб угрело воткнул сруб за каменистой гривой, волочившейся вдоль хребта. Никто тут за это время не побывал, и запасы дров были целы. Силантий, чтобы выслужиться и показать, какой он ловкий, развил бурную деятельность: топил очаг, набил снегом чайник, аккуратно резал вареную колбасу, нынешний деликатес, с необычайным интересом поглядывая на заиндевелую бутылку, поставленную Трифоновым на нары.
— А далеко берлога отсель? — спрашивал Силантий, как будто небрежно, прикуривая от уголька, катая его в мозолистых ладонях.
— Совсем рядом… На лыжах за полчаса дойдем…
Весь вечер строили план, экономно попивая из кружек водку. Трифонов, пяля большие черные глаза на напарника, учил, что делать, как себя вести на всякие случаи. У Силантия впервые дрогнули губы, но он виду не показал, а, наоборот, еще больше ерохорился, моргая мохнатыми ресницами.
— Ты не боись! Чать, я мал да удал!.. Ха-ха-ха! Отмахнемся! — Хмель бодрил и звал на подвиги.
— Смотри, удалец! Не наложи в штаны…
Тропили лыжню к берлоге рано под лунным светом, вилюче кладя ее меж деревьев по пологому склону. Вскоре перевалили хребет, весь утыканный мелкими останцами. Снег тут сползал волной вслед за ветерком, переваливающим седловину. Трифонов шел по своим старым отметкам, молил, чтобы зверь оказался на месте, чтобы не промахнуться и не сгубить самого себя и старика, как-то разом поникшего в печали. Около буреломного овражка, где мочажина была забита сухостоем, пришлось прорубаться топорами до полянки.
— Кажись, пришли! — тихо вымолвил Трифонов, засовывая топор за перевязь, плотно по поясу охватывающую полушубок. — Точно, здесь!.. Вишь, чуть-чуть парок стелется у скалки. Лежит! На месте!.. — радовался он, чувствуя, как к сердцу подтекает холодок.
Силантий же от страха отвечать уже не мог. Зубы он сдерживал с трудом, чтобы не пустить их в пляску и не дробить друг о друга, как голыши в решете. Он сбросил с плеча двухсаженную слегу, вырубленную по пути в березняке, пятился и хрипел, словно придавленный непомерной тяжестью:
— Далее… все!.. Не пойду!.. А ну его!.. Сдался он мне!.. Спит и пусть спит… Животина же… Я… — он поперхнулся.
— Уже наклал в штаны! — усмехнулся Трифонов, чувствуя, как мандраж его покидает. Он достал из кармана полушубка бутылку с водкой. — Тяпни из горла… И сразу в бой пойдешь!
— Ты, че? Ты, че?! — отворачивался тот настойчиво.
— Пей, говорю! А то кину на съедение в берлогу!.. Раньше надо было думать, удалец! Куды я тебя дену?
Силантий, захлебываясь и всхлипывая, выпил половину и сразу заметно приободрился. Хмель пошел по жилам крадучись. Он сразу же взялся помогать Трифонову притаптывать снег, вырубать кусты, чтобы не мешали. Только после этого охотники приблизились к берлоге. Вход, занесенный почти полностью, нашли сразу, по парку, вившемуся из щели. Трифонов обвалил снег, внутри зашевелился зверь, покряхтывая, но выходить не думал.
— Не хочет!.. — нарочно громко проговорил Трифонов. — Бери слегу, Силантий!
Трифонов попятился метров на пять. Еще раз проверил стволы, те ли патроны вложил. «Как пойдет? — рвалась неспокойная мысль. По спине мелко-мелко покалывали мурашки. — Ежели дуром, то туго нам придется!..»
У Силантия сухота обметывала губы. Закрыв глаза, неуверенно сунул слегу в дыру, откуда несло слежалостью и еще чем-то пакостным, шибавшим в нос, как нашатырным спиртом, уперевшись во что-то мягкое.
— Сильнее!.. — глухо выкрикнул Трифонов.
Силантий не понял, какая сила швырнула его вместе со слегой в сугроб. Он увяз в нем с головой, задыхался, крик застрял комом в горле: «Господи, спаси меня!.. По-могите-е-е!» — мысли били набатом.
Потревоженный зверь выскочил вяло и встал правым боком к Трифонову. Он, наверное, еще размышлял о том, кто посмел его потревожить?! Кого ломать? Того, что копошится в сугробе, испуская вонь, или того, что целит в него. Трифонов уловил мгновенно этот миг растерянности зверя и выстрелил. Пуля попала в бок, где билась усталая в спячке печень. Медведь взревел и повернулся грудью к охотнику, поняв, что погибель шла отсюда. В маленьких глазках вспыхнула огнем ненависть, и силы еще были, хотя из разорванного жаканом тела ручьем хлестала кровь, парила на снегу. «Попал!..» — обрадовался Трифонов и вторым выстрелом пыхнула «тулка» прямо под мышку, где рыжеватый подшерсток вздымался от работающего на полную катушку сердца. Вторая пуля была смертельной! Она распахнула кроваво грудь зверя. Трифонову показалось, что вместе с лавиной крови у зверя вылетело сердце, но тот был живой и с последними силами качнулся на охотника, издав последний в своей жизни рык. Трифонов успел юркнуть за деревцо, как зверь всей тяжестью рухнул на то место, где только что стоял человек, обхватив в смертельных судорогах когтистыми лапами затрещавший ствол. С ветвей посыпалась труха и снежная пыль, сразу же забелившая бурую вздрагивающую шерсть, обагренную быстро застывающей на морозе кровью. Все! Что-то живое еще билось в судорожных трепетах больших лап, но глаза уже тускнели, покрывались белью и стекленели…
Трифонов с опаской обошел кругом место убийства. А Силантий все еще ерзал мокрыми штанинами по снегу, протирал глаза, сморкался и плакал, как ребенок, навзрыд:
— Ой-ой-ой!.. Внукам закажу-у-у!..
Трифонов, нервно посмеиваясь, поднял старика, произнес, дрожа голосом:
— Сменку надо было взять! Ха-ха-ха!.. Очухались от потрясения после допитой бутылки и быстро разделали тушу. Голову, шкуру, никуда не годную после лежки, внутренности и мослаки спустили по откосу в расщелину. Звери подберут в голодную зиму. Прожженный горячей кровью снег забуравили ногами, прибрали, как могли, место и волокушей спустили разрубленную на куски тушу вниз. Пока Силантий ходил в избушку за пожитками, Трифонов отрубил себе мякоти килограммов двадцать, разбитое пулей сердце отдельно упаковал в полиэтиленовый мешок, твердо веря в целебную силу, которая поставит на ноги Ветрова.
Остатки медвежатины закопали в снегу возле приметной скалки и тронулись в обратный путь.
— Медвежатину долго не держи под снегом, — учил на ходу Трифонов Силантия, отошедшего совсем от удара. — Сопреет… Да и зверушки разные разорят. Останешься с носом… Позови кого-нибудь из знакомых… Скажи, что случайно наткнулся.
— Сам перетаскаю, — хмуро ответил Силантий, пряча лицо от секущего ветра в воротник полушубка, все еще видя перед собой остекленевшие глаза зверя. — Продадут еще ненароком. Даром что страху натерпелся!
Зимние сумерки нависли над тайгой быстро. За хребтом, за пиками пихт и останцев жгуче вспыхнула ветреная заря и окрасила далекий горизонт кроваво. Ветер доносил звуки моторов с лесоразработок. Где-то за увалом ухнула лавинка. В долине замаячили огни, и разнесся писклявый гудок тепловоза. Снег шелестел под полозьями лыж шипяще…
Трифонов, не заходя в поселок, тронулся к составу, растянувшемуся возле погрузочной эстакады, загруженному под завязку свежими хлыстами. В рабочей теплушке светились окна. За столом сидела поездная бригада, пили чай из алюминиевых кружек. Увидев пролезающего в узкую дверь Трифонова, удивились. Машинист, привставая, произнес:
— Корнилович! О-о-о!.. Откель и каким манером ты тут?! Садись чаевничать… Погрей брюхо с морозца-то!
— Только что грел, — соврал Трифонов, припадая на рундук и высвобождаясь из лямок тяжеленного рюкзака. — Помогал Боровому на ручной разработке ленты. Вы куда лес повезете?
— В Айгир. То-то Дмитрий планы щелкает, как орешки! — проговорил проводник, наливая вторую кружку. Тогда все понятно! Ложись да дави соняка до самого конца. Есть захочешь — на полке тушенка и хлеб. Чай сам заваришь, нам пора трогаться…
13
В этот день Алексей Ястребов собрался уехать с работы домой пораньше. Благо с заносами справились, и теперь можно помыться в баньке и как следует отоспаться. Отпустив своего заместителя, ведавшего локомотивным депо, он уже сложил бумаги на столе в стопку, как дверь кабинета открылась и на пороге, сверкая голыми коленками из-под коротенькой черной юбчонки, появилась секретарь Кедрова, миловидная Машенька, причина воздыханий мужского рода всего управления. Она всегда опасно заигрывала с Алексеем, иногда своими откровениями вводя бывалого мужика в смущение.
— Алексей Павлович, — заговорила она томно, улыбаясь порочно, придерживая кончиками пальцев листок бумаги. — А вам надо идти в Дом культуры на научно-партийную конференцию. Присутствие обязательно… Вот распоряжение товарища Кедрова.
Машенька артистично положила листок бумаги на край стола и, лукаво подмигнув подведенными в меру глазами, вышла, хихикнув напоследок.
— Еще насмехается! — прошипел Алексей, в сердцах швырнув ключи от машины на стол. — Шалава!..
Взбесило его, конечно, не обращение секретарши, а то, что уж слишком часто его избирают на всякие сборища. «Пустая говорильня, а дел нет! — недовольно проносилось в голове. — Прожекты, прожекты, а на железке рельсы менять некому!»
До совещания оставалось еще минут тридцать, и Алексей снова погрузился в бумаги. Вскоре вошел главный инженер, сел напротив, закурил и, глядя на смурного начальника железной дороги, спросил с усмешкой:
— Тебя, выходит, тоже послали на этот научный бедлам?
— Вот именно… Послали!
— Ха-ха-ха! — закатился главный инженер. — Да не горюй. Надо же нам узнать, чем наша наука дышит? И чем живут областные функционеры?
— А я и так знаю… Им, балаболкам, только языки чесать. Баб, что ли, у них нет?! Ездят и ездят!..
Главный ухмыльнулся:
— На хлеб зарабатывают, Алексей Павлович! Бабы, поди, тоже этим делом занимаются…
В кабинет заглянул Боровой, предупредил:
— Пора, мужики! Вам в первом рядочке место забить?
— Я уж как-нибудь поближе к выходу, — пробурчал Алексей.
Боровой скрылся, а главный опять хохотнул:
— Ох-хо-хо! Да!.. При Николае Петровиче, кажется, столько не было совещаний с заезжими… Тронулись.
— Хватало… Ну, пошли… Опять моя банька блеснула, как рыбка в омуте.
По пути в Дом культуры еще успели поговорить о делах.
— Ты прав, Алексей Павлович! — басил главный инженер, глядя вдоль улицы, затемненной вечерней изморосью, пряча лицо в воротник дубленки от секущего морозом ветра. — Говорим много… А дела наши катятся вниз, как неуправляемый состав. Жалко, что железнодорожные усы на верхних вырубках останутся на века в ущельях. Да и то верно — земля все заглотит!..
— Выходит так, — ответил невнятно Алексей, думая совсем о другом: «Земля-земля! Березин не приехал. Значит, еще не все утряслось. В обиде остался на отца… Да-а-а!.. Березинская семья редеет… Харламов генерал… А Александр Петрович схлопотал пулю… Из-за Зойки мимо академии пролетел! Соседство новой зоны меня не устраивает. Неуютно жить на белом свете…»
Выездная областная научно-партийная конференция, последняя при этой власти, проходила в большом зале долго и вяло. Может быть, оттого было неинтересно, что не присутствовали главные лица, от которых зависит судьба лесной промышленности района. Председательствовал первый секретарь Красноярского райкома партии Назаров Анвар Галимзянович. Как всегда, его худощавую высокую фигуру облегал строгий серый костюм, хорошо гармонировавший с атласно-белой рубашкой и галстуком цвета утренней ветреной зари. По правую руку восседал, отвалившись боком на резную спинку стула, Юдин, заведующий промышленным отделом Междуреченского обкома, полный коротконогий мужик, все время небрежно черкавший издали в толстом блокноте ручкой, изредка окидывая взглядом полупустой зал серыми невыразительными глазами. А слева от председателя прикрывал лохматой головой генерального директора Темирязевского комплекса, неспокойно вертелся на стуле академик Подбедный, инициатор этого сборища. «Ну, этот затянет бодягу! — подумал неприязненно Алексей, слушавший как-то речи ученого в области. — Как бы смотаться?! Надо было сразу после регистрации…»
Как только закончили выступления директора предприятий, на их место к трибуне выпорхнул легкий не по годам Подбедный. Назаров запоздало возвестил, улыбнувшись ловкости академика:
— Слово предоставляется товарищу Подбедному Ивану Николаевичу… Академику! Сотруднику Всесоюзного научно-исследовательского института леса…
Все хорошо знали и помнили этого человека, главного противника объединения лесных предприятий в глобальные системы, плохо управляемые и обычно терявшие в суматохе перестроек главное ядро. Но все это были пустые разговоры и споры. Сейчас же Подбедный приехал не с пустыми руками и пытается внедрить выводы своего нового труда «о степени сохранения и использования лесосечного фонда в условиях выборочной валки». Слушая оратора, все понимали, что время уже ушло безвозвратно. Лесные гиганты без разбора идут катками по тайге.
— …Еще в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, — вещал азартно ученый, не замечая, что зал его уже плохо слушает, — на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев говорил пророческие слова, что лес — это народное богатство и это богатство следует разумно расходовать! Величайшее высказывание! Оно актуально и поныне! Мы же!.. Движемся к обратному! Десятилетиями уничтожали это богатство, не давая ничего взамен. — Подбедный перевернул страницу своего доклада, вытер платком вспотевший лоб и продолжал: — Создание таких монстров, как Темирязевский комплекс, привело на Урале к истощению лесных запасов. Мы уже почти превратили тайгу в пустыню!.. Создаем славу для отдельных личностей… Да-да!.. Я не побоюсь этого слова. В погоне за наградами товарищ Березин…
— Не надо переходить на личности! — сурово перебил оратора Назаров, сам приложивший немало труда в создание комплекса. — Говорите по существу вопроса…
— Да-да! — сдался Подбедный и снова зашелестел своими бумагами. — Конечно-конечно…
Говорил он еще около четверти часа, но уже не так напористо и без критики, излагая свое, кровное. В конце он зачем-то приплел ввод советских войск в Афганистан, выкрикнув патетически:
— Мы должны помогать нашим друзьям строить светлое социалистическое будущее!..
Жарков Георгий Сергеевич, двухметровый громила, черный, как цыган, напоминавший лесное чудище, работавший в войну, в пору своей молодости подручным у Трифонова, а теперь возглавлявший областной леспром, сказал басовито в ухо Алексею, сидевшему рядышком:
— Ну да!.. Мы им лес — они нам гробы… Хрущев уж давно почил в бозе, а этот все его речи склоняет. Застоялись мы, Алеша, будто на перепутье. Следующий, как я понимаю, будет выступать товарищ Вертухов, сподвижник Подбедного. Этот будет кидаться проектами.
Алексей промолчал. Паузу в зале между выступлениями заполнил нестройный гул голосов, вслух обсуждавших на своих местах выступление академика по поводу Афганистана.
— Ему хорошо строить в Москве светлое будущее. А наши дети ложатся под пули…
— Подхалимничает!
— Потише, а то Пыльнов вон зырит…
— Пущай диссидентов ловит…
Назаров оборвал шум, катившийся прибоем. Он встал в полный рост, постучал ручкой по графину с водой, проговорил:
— Без шума, товарищи! Приглашается товарищ Вертухов. Прошу записываться в прения.
Вертухов, старший научный сотрудник из института «лесдрева», выбежал на сцену энергично, в распахнутом шикарном кремовом костюме. Ослепительно белая рубашка раскрыта в вороте.
— Товарищи! — начал он гортанно, хорошо поставленным голосом оратора. — Николай Иванович всемирно известный ученый!.. К его мнению следует прислушаться. Он очень ярко обрисовал картину упадка лесопромышленности! — Вертухов тут снизил голос до трагической нотки и повернулся всем телом к президиуму, словно ища поддержки. — Мы, ученые, приветствуем поиски ученого в этом вопросе!.. Так вот… Наш институт целиком одобряет это направление. Поднять производительность труда можно только за счет расширения сырьевой базы, но в выборочном плане…
— Ага!.. Заехал с другой стороны. Козе понятно! — выкрикнул кто-то из рядов.
— Ахинея какая-то…
— В этих поисках давно уж блуждаем…
Оратор, до времени, не обращая внимания на выкрики, рисуясь, заговорил о своем кровном проекте, который он вынашивал много лет, но его никто серьезно не воспринимал. Сейчас он посчитал, что наступил момент, когда ресурсы тайги истощились, воткнуть эту разработку, рожденную в стенах родного института. Он предлагал перекрыть реку Сору в районе нижних порогов, чтобы поднять воду в мелких притоках и сплавить молью лес, взятый ныне в недоступных ущельях.
— Это же туфта! — наконец-то не выдержал Алексей Ястребов, прокричав во весь голос. — За два-три года снимем на крутиках лес, а потом что будем делать с этой плотиной?! Это же все в копеечку влетит! Зря теряем время, слушая этого балабола!..
— В чем дело?! Вы кто такой? — подпрыгнул за трибуной оскорбленный Вертухов, обратив загоревшее пунцово лицо в сторону обидчика. — Безобразие!..
Делегаты совещания нестройно шевельнулись. Гужом потекли смешки… Все повернулись к Ястребову. Незнакомые люди смотрели с раздраженным удивлением на выскочку, осмелившегося при высоких чинах нарушить незыблемый порядок партийной дисциплины. Сотрудники комплекса, знающие Ястребова, как правоведа, сдержанно улыбались, посматривали на Назарова. Тот сразу поднялся.
— Алексей Павлович?! — вытянул руку Назаров. — Если хотите что-то сказать, я вас запишу в прения… — И наклонившись к Юдину, прошептал: — Хороший партиец… У него большое будущее…
— Ничего я не хочу, — отмахнулся Алексей. — Разрешите мне уйти. У меня ребенок приболел.
— Как, товарищи?! — Лавров вновь повернулся к Юдину. Тот высокомерно качнул головой.
— Перерыв десять минут, — объявил Назаров. — Товарищ Ястребов, можете покинуть совещание.
— Вот это правильно! — выкрикнул кто-то из зала. — Он месяц безвылазно пахал на линии…
Выйдя из зала вместе с делегатами в большое фойе с пальмами в больших кадках, Алексей с неудовольствием подумал: «Черт меня дернул ввязаться!..» Кто-то громко говорил за спиной Алексея, продвигавшегося к выходу:
— Этот проект Вертухов, как я помню, лет десять назад в Сибири проталкивал, — басовито лилось. — На Кановском леспромхозе его, кажется, приняли. Но там равнина… От плотины и потом может быть польза. У нас же… Чепуха! Правильно обрезал его Ястребов…
Дальше прислушиваться Алексей не стал. Одевшись, он выскочил на мороз, глянул на месяц в ореоле, укорил себя: «Поторопился! Надо было дождаться конца да водочки в буфете прикупить!»
Москвичок, стоявший в середине ряда машин, завелся на удивление быстро. Он уже отпустил тормоза и собирался трогаться с места, как подскочил Трифонов, рванул дверцу.
— Вот повезло! — довольно урчал он, забираясь в кабину с трудом и похлопывая варежками. — Промерз, как собака! Хорошо, что ты раньше освободился… Заходил в буфет, гляжу твой вездеходик стоит. Кончилось совещание, что ли? Че там калякают?
— А-а-а!.. Отпросился. Все пустота… А ты чего пешкодрапом?! Утром, кажется, вперед меня выехал на своей «Победе». След свеженький…
Трифонов смачно матюкнулся.
— Гаишники, сволочи, меня в Яру застукали. Посидел маненько в чайной… Машину на прикол, а меня пинком в зад. Не чтут сейчас героев…
Алексей захохотал громко.
— Смеху тут мало! — обиделся Трифонов. — Штраф потребовали, а я отоварился в спецмагазине. Спецпаек для героев!.. Ха-ха-ха! — повеселел он. — Четыре буты-ля… Хочешь, поделюсь?.
— Не мешало бы…
Трифонов достал из портфеля бутылку водки, сунул ее в бардачок, предложил:
— Может, тяпнем?!
— Нет, Корнилович! — усмехнулся Алексей. — Тогда потопаем леском до дому. Пей, если хочешь…
Трифонов пить не стал, подумал: «Пожалуй, самый удобный момент упомянуть Фроловых».
— Ты же знаешь Фроловых, — заговорил он.
— А кто их не знает…
— Так вот, — продолжал Трифонов. — Был я у Леднева в охотхозяйстве. Знаешь его… Ну и посидели малость. Тот болтал по пьяни, что, дескать, грозился он Березиным, а особо тебе. Вроде того, что ты виноват в их семейной трагедии. А я подумал о том, что неужели они дознались, кто кокнул Ваську. Витька-то в Казахстане… Не из-за драчки же они зло копят! Где-то утек-ло-о-о!.. Ты пасись!
Алексей невольно вспомнил, как после драки с Василием в Атамановке милиционер так же предупредил. Вспомнил и то, как младший брат Дима орал на всю Темирязевку, когда их с братом отправляли под конвоем в спецдетдом: «Мы еще поквитаемся с Березиными! Катьку, стерву, прижучим!.. Алешке голову снесем!.. За все ответите!..»
Руки, державшие баранку, вспотели в ладонях. Глядя на заснеженную дорогу, он лихорадочно думал: «Неужели докопались, кто убил Василия. Не могли! Цыплаков погиб… Хотя тогда народу там много было. Но не знали же кто?! Кто-то, значит, проболтался! Наши не могли… Братья копают… Значит, где-то бумага лежит…»
Эта неразгаданность еще долгое время будет его волновать и мучить, пока не придет время развязки.
На чистом, промерзшем до основания асфальте сетчатой паутиной плыла тягучая поземка. «Так и я несусь по ветру, и все время натыкаюсь на прошлое!» — с горечью пронеслось в мозгу. Он старался отречься от этих мыслей, внимательно прислушиваясь к надрывному гудению движка, когда передние колеса врезались в переметы, а задние рвали с воем резину на наледи.
— Не заводись и не газуй, — посоветовал Трифонов. — И дальний свет выруби… Надувы виднее будут. Что ты скажешь на Димкины угрозы?
— Собака лает — ветер носит…
Трифонов смолчал. А Алексей прислушался к совету и сбавил скорость, оставив одни подфарники. Но все равно буфер нет-нет да и вздымал каскады снега, бившиеся с мягким шипеньем о лобовое стекло.
Спустились вниз самокатом. Железнодорожный переезд был перекрыт полосатым шлагбаумом. Дежурная, плотная женщина из станционных, закутанная по самые глаза шалью, равнодушно провожала товарняк свернутым желтым флажком. В белой мути, неожиданно схлынувшей с гор, тонули пульмана, еле-еле виделись сигнальные огни на трубах завода, а деревня совсем сровнялась в снежных зарядах. Алексею невольно вспомнилось, как он шел по этой дороге, тогда еще проселочной, а на месте завода колыхались сугробы, истоптанные волчьими стаями. «Все движется. И баньки той уж давно нет, где я укрывался, — скакали мысли. — Дети выросли… А я все в прятки играю с жизнью…»
— Ну и чего там вы обсуждали? — перебил его мысли Трифонов.
— Подбедный все разоряется!
— Давно знакомы его песни…
— Как еще запоем, когда сырьевая база кончится. Вот снимет Боровой на Каменке последнюю лесину и все! Загорай!.. Да и сейчас планы горят синим пламенем. Премии уж забыли, когда получали. Ну, чего она не поднимает шлагбаум?! — возмутился Алексей.
Трифонов глядел на дорогу, на то, как дежурная на переезде не спешит открывать путь, заговорил медленно:
— Некоторые глупые людишки базлают давно, еще с великих хрущевских перемен, что рекорды не нужны. Заграницу ставят в пример! Да и, дескать, для стахановцев тепличные условия были. Не скрою… Помогали. А без этого как?! Зато за нами все тянулись. И планы делали не языком и приписками, а руками и по правде! Сейчас планы горят оттого, что посадили всех на оклад. Лодырям лафа! Есть норма — нет нормы, а свое он получит завсегда да еще скандал устроит, ежели бригадир мало припишет. Ну и чем была плохая старая система? Ломать не строить! Душа не болит! И Колька Березин в этом деле не последний… Сотворил башню, а она не устояла… Теперь вон еще один проект. За Бересеньку взялся. Ничего из этого хорошего не получится, Леха! Уж поверь мне. Деды еще говорили, что от старицы протока подземная есть, потому и озеро не переполняется. А идет она как раз по гриве…
— К Березину прислушиваются не только в области, — перебил его Алексей.
— Брось ты, Алешка! — рассердился Трифонов. — С фронта пришел соколом, а сейчас драная курица, хоть и на высотах обитается! Машина… брюшко… Потому Зойка его обходит. Против Сашки он не тянет. Чинуша! Поехали… Баба шлагбаум подняла…
Машина лихо скатилась под горку к мосту. В заволоклой снежной пелене притулилась деревенька, а горы и тайга совсем упрятались в этой мороси. Алексей заезжать в ворота не стал, а приткнулся радиатором в сугроб возле калитки. На шум машины выскочила Катерина в шубейке внакидку. За ней поспешали дети, а уж позади всех дымил самосадом Петр Семенович, поскрипывая протезом.
— Привет, селяне! — выкрикнул Трифонов, с трудом вылезая из салона, пропахшего табаком. — Мужика тебе, Катерина, приволок. А то бы сидел еще на совещании… Ха-ха-ха!
— Мели, Емеля! — выкрикнул Петр Семенович. — Вечно ты, дылда, смехи заводишь. Баба и вправду соскучилась.
— Ну, теперь разговеется! Ха-ха-ха! — снова заржал Трифонов, перелезая через снежный бруствер к своим воротам.
А Катерина и вправду была рада, припадала боком к Алексею, глядела во все глаза в лицо.
— Наконец-то! — радости не было предела. — Думали, уж резону нет седни ждать. Баня стынет… Правда, батя все подтапливает. Зойка пришла из больнички, сказала, что с перегону ты вернулся. Звонили из Темирязевки… Заездили мужика…
— Может, загоним во двор?! — перебив дочь, кивнул на москвичок тесть.
— Пусть стоит до утра. Возиться со снегом неохота.
— Ну, лады!.. — и шепотком, чуть ли не в ухо, поглядывая в спину Катерины, шагавшей впереди. — Я самогону приберег…
— У меня бутылка лежит в бардачке…
— То дело! — Петр Семенович посунулся к дверце. Лампочка над крылечком высвечивала улыбающееся лицо Зои, прислонившейся к косяку, она шутила, задевая Катеринино сердечко:
— Ну, Леха! Матаню, что ли, завел где-то?! Сколь ни прячься, все одно высветлится…
Катерина вымученно засмеялась. Петр Семенович остановил сноху:
— Любишь ты ворошить всякую небылицу, Зоюшка! Лучше стол накрывай. После баньки посидим. А то в кои веки…
Зоя ушла в избу, а Катерина больно ткнула в бок мужа, прошептала:
— Смотри-и-и! С огнем играешь!.. Я те одно место-то…
— Ты че, Катька! — Алексей посмотрел на жену с удивлением.
14
Зима медленно шла на убыль. Со звоном падали сосульки, втыкаясь остриями в порыхлевший снег, творожно оседавший на припеках. К концу марта Алексей наконец-то вырвался в отпуск, хотя времечко было горячее. Вот-вот поплывут снега, а Боровой, прибрав к рукам все лесосеки, раскочегарился со своими бригадами на полную катушку и лес шел валом, затаривая верхние и нижние склады, фасуя кругляши по заводам. Кедров, прочитав заявление, Ястребова, пристально глянул в исхудавшее за последние месяцы лицо, тронутое морозами и солнцем, неожиданно согласился:
— Хорошо, Алексей Павлович! Две недельки тебе даю на поправку. А то ты, как из Бухенвальда… Но чтобы железка работала на полных оборотах, а составы шли! Если что-то, вызову из отпуска. Договорились? Заму строго накажи… И Федорчука вызови…
— Договорились.
— Ну, гуляй!..
Вернувшись домой, Алексей сообщил радостную весть, что с сегодняшнего дня на две недели он вольный казак. Катерина засияла, кинулась на шею. А тесть, откинув костыли, полез в подпол за самогоном, выгнанным на Ключах еще по санному пути, куда они закатились втроем: Трифонов, Ветров и сам — вроде бы за лечением…
— Как знал, приберег! — хвалился Петр Семенович, усаживаясь за стол. — По такому случаю и не грех выпить.
— Больно много случаев-то у тебя, батя! — ковырнула его дочь.
— Тык!.. Жизня такая!.. — развел руки Петр Семенович.
Алексей посмеивался. Сидели, как всегда, по чину. Петр Семенович возглавлял стол, сидя под божницей. Поредела за прошедшие годы семья. Старшие дети и внуки давно уж разлетелись по чужим краям, словно мерившиеся и вставшие на крыло птенцы. Пример всем подала Маринка. Ольга да Верунька еще зреют в родном доме, но и те намыливаются, подумывают, как бы проторить дорожку в неведомые и заманчивые края.
Зоя вернулась из Атамановки, когда уж Катерина вынула пельмени из котла. После отъезда Егора в Рязань, каждое свободное время ходила в церковь, молилась за своего последыша, кровинку, пока охраняемую судьбой. Вместе с последним солнечным лучом стол окрасился рыжей копной Зоиных волос. Прищурившись, она глянула на Алексея, посоветовала:
— Смотаться тебе надо из Бересеньки, Леха! Кедров чуть что вызовет, как летось…
— А и верно!.. — оживился на умное предложение снохи Петр Семенович. — Забирай Катерину и мотай в Соколиное. За Уралом Кедров тебя не достанет.
— Батя, ты как маленький! — укорила его Катерина. — А скотина, а Ольга с Верунькой?!
— Да и дороги могут поплыть, — поддержал жену Алексей. — Застрянем…
Ему не хотелось никуда уезжать, а так вот вдоволь поработать по дому, поиграть с детишками да и жену-то он видит раз в неделю.
— Не получится!..
— А вы поездом через Челябу. — Петр Семенович по-сычиному окинул всех, найдя верное решение. — Скотину обиходим! Девки вон помогут!
— Ага! — заканючила Ольга, сквасив полные материны губы. — Они там гулять, а мы в навозе копаться. И школа…
— Гляди, какая чистюля! — взорвался дед. — В на-а-а-возе!.. Ишь ты!.. А сметанку есть не срамно?! Вот тресну!..
Ольга стремглав выскочила из-за стола, грохнула дверью. Только ее и видели…
— Нервные дети пошли! — оскалился Петр Семенович, но в душе был доволен: «Наша натура!» — А как обновки покупать, дык не грязно!
Все же порешили спешно сматываться из Бересеньки. В Соколином, в старинной казачьей станице, а ныне селе, растянувшемся кишкой по правому берегу величавого Урала, Алексей немного отошел от производственных и домашних забот, но замучила сплошная гулянка. Родня угощала каждый день до упаду. Еле-еле протянули несколько дней и смотались домой, сославшись на близкую распутицу.
— Еще к куму в Соль-Илецк не съездили! — уговаривали Алексея и Катерину родные. Но те уперлись на своем. А дома сразу же думки о трудах и жизни завлекли с новой силой, ковыряя потихоньку душу, как будто не было перерыва. «На работу, что ли, выйти?! А то засохну!», — размышлял он, управившись по хозяйству и с двустволкой, доставшейся в наследство от Ветрова, тропя лыжные следы по ростепельному снегу, изредка подстреливал боровую дичь, а то и зайца-бегунка, начавшего уже линять. Однажды на вскрытой шивере выудил крыжицей тайменя, увлекшегося на отмели охотой на мелочишку, гревшуюся на солнце.
— Редкая ныне ры-ы-ба! — восхищенно качал головой тесть, взвешивая тайменя на безмене. — Семь кило с походом!.. Повезло те, Лека! А я уж забыл, как он выглядит. Сплав кончили — и появился. Рыба благородная, грязюки и шума не любит…
Спустя три дня после этого события, лыжи затянули Алексея на белые поляны, где под пластами снега, дышавшими уже водой, отдыхали сколько лет березинские сенокосные деляны, где много лет назад произошла трагедия. Как черт дернул! А верна пословица, что возвернется к тому месту преступник, сколь ни ходи кругами. Хотя Алексей преступником себя не считал, но старательно обходил эти места. Сенокосы тоже заглохли. Получилось так, что как будто стерег луговины фроловский дух. А местные бабы, ходившие по Бересени за грибами, будто бы видели перед закатом, как из чащи вышел старец в белом и исчез в том месте, где стоял шалаш Березиных.
— Ходит он, ходит! — шептались старухи. — Зазывает Березиных!.. Уж двоих прибрал!..
Слухи доходили, и Петр Семенович, оберегая семейство от дурных речей, пригрозил старым сплетницам карой:
— Еще вякнете, то дурман на всех вас напущу! Вешалки дырявые!.. Кыш!..
— Как я тут очутился?! — прошептал Алексей, вспомнив наговоры, не понимая происшедшего, оглядывая срезанный наискосок лавинкой отрожный горб, из-под которого пробивался Гремучий ручей. Чуть ниже снега стояли дыбом. «Сильно лавина резанула!» — подумал он, вновь и вновь оглядывая, как весеннее раннее тепло струится по полянам, не успевая до заката солнца размягчить панцирно-затвердевший снег, только углаженный зеркально лучами. Лыжи хрустко ломали звенящий игольчатый фирн, пока Алексей неуверенно скатывался на ту излучину, желтую от песчаных наносов летом, а теперь белую, словно укрытую саваном. «Принесла же нелегкая!» — ругнулся он мысленно, вылезая на бугор, тот самый, с которого он выцеливал Василия. Снег на загривке порыхлел и был вязок, как жирный творог. Алексей круто развернулся и замер! Расфуфыренный глухарь, нарядный, как пестрая ситцевая завеска, распушив хвостовые кудерьки и синюшно налив зоб, ничего не видя и ничего не слыша, яростно и страстно затоковал, подзывая самку. «Как раз в том месте! — пронеслось воспаленно в мозгу. Он стянул с плеча ружье. — Нет!.. Пусть живет!.. Тут и одной смерти на всю жизнь хватает!..»
Алексей раскатился к урезу реки, уже тронутой темными закраинами, светящимися радужно на полуденном солнце. Не задерживаясь, он пересек наискосок реку. Лыжи начали подлипаться. От острова ветер нес странные звуки скрипящей ветлы, наводя на солнечные окрестности тоску. Алексей дрогнул. Колючая сыпь пробежалась холодком по спине. Он только сейчас полностью осознал, что прошлое все еще держит его в когтистых лапах и Яма дышит в лицо вонючей пастью…
Зима была разномастная: то морозы, то вьюги, а то и оттепели. Но никто не ждал, что в первых числах апреля неожиданно тронулась Бересенька, хотя снега лежали пластами не только в горных ущельях, но и на полях. За две недели до этого события навалилась такая жара, хоть нагишайся, и малые реки из-за сумбурной зимы налились быстро, ринувшись в низы скопом, вспарывая льды на больших реках, словно ножом бульдозера. Зверь поспешно ушел на хребты к останцам, чтобы не попасть в это страшное месиво воды, снега и льда, сметающего на своем пути прибрежные талы и березовые колки.
Но к светлому празднику Пасхе так закрутило, ударил такой лютый мороз, что народ ахнул. Матвей Егорович Ветров, собиравшийся было в заводской затон, где стоял спущенный на воду отремонтированный катер, выглянув в окошко, забитое метелью, оторопел и шмякнулся на стул.
— Что за напасть ныне?! — ругался он. — Что-то не припомню такого бедствия!.!
Загудевший было Айгирский порог в полную мощь, за одну ночь утих, как будто задремал под луной, окрашенной в радужные кольца. Скалы вновь забелели, заиграли леденистыми расщелинами. Но так держали окрестности недолго. Дня через три весна взяла свое, и снова все потекло теперь уже до конца.
В конце апреля, когда заканителилась травка по улице деревни, каждого жителя официально оповестили бумагой под расписку о том, что вскоре начнется строительство четвертой очереди Айгирского завода и дали на обдумывание три месяца, предложив несколько вариантов для переселения. Петр Семенович, уже переболевший этой вестью, вроде бы отнесся к этому внешне спокойно, расписался молча на бумаге, а как только уехали уполномоченные в район, разошелся:
— А это видели?! — потрясал он старой берданой, утаенной от властей. — Вспомним молодость!..
Зарядив полный патронташ, грозился изрешетить каждого, кто сунется на подворье.
— В гробу я видел ваши фатеры! Не стронусь с места!..
Алексей, Катерина и Зоя, как могли, уговаривали старика, пытались отобрать ружье, но старший Березин ходил с ним даже по нужде, перекинув через спину. Трифонов, любивший всякие скандалы, узнав о восставшем друге, хохотал до упаду, обещал встать стеной рядом с другом на защиту деревни.
— Всех разнесем! — орал он, напутав жену. Вдвоем они до полуночи каждый день дежурили возле околицы, ходили по деревне, потрясали ружьями, палили залпами в воздух, разогнав всех ворон и сорок, запьянев от первача, вынутого из трифоновского погреба, орали песняка до зари:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!..Мужики вокруг них собирались не для того, чтобы поддержать, а лакнуть самогона на дармовщину.
— Посадят вас! — посмеиваясь, говорил Ветров, примкнувший к застолью, раскинутому на бревнах возле реки. — Сдурели под старость лет.
Трифонов на это притворно боялся, делал круглыми большие черные глаза, крутил ими по-совиному, восклицал:
— Петька!.. Пошли сухари сушить да котомку собирать!.. Дадут нам по камере в тюряге, заместо новой фатеры лет так… на десять!..
— Ты не больно-то шуткуй, — внезапно отрезвев, проговорил Петр Семенович. — Алешка сказывал, что ноне органы вовсю шустрят. Пошли по домам, а то договоримся… Чумовых ноне хватает…
Разошлись помалкивая, ровно в рот воды набрали. Петр Семенович, на всякий пожарный случай, бердану припрятал под стреху в сарае. Ночь не разобрала мысли, а еще больше озаботила. «Вот так, робяты! Сколь ни крути, а жизня все подметает. Может, все правильно?!» Петр Семенович вышел во двор на костылях, встал, растопырясь возле ворот, глядел, как косо сваливался розовый дым из труб завода. Ветер нес сладковатый запах столярного лака и клея, и еще какой-то гадости, сушившей листочки на липах, высаженных возле территории завода.
— Сожрет все завод! — проговорил Петр Семенович. Но тут же мысли вернулись к будущему переселению. Это как нож в сердце! Сколь ни юли!.. Задышалось с обрывами, он потер грудь и заговорил без злобы и жалости: — Ну, а куда же деться-то?!
Кобелек, в белых пятнах, с висячими ушами, припер здоровую ногу, усевшись на носок галоши, тявкнул два раза в темень.
— Придется нам, Полкаша, потесниться! Ниче-е-е! Где наша не пропадала! Будем жить!
Над затененном в ночи хребтом разгорелся Млечный Путь. Петр Семенович поскакал за ворота. Деревня уже заснула. Только на берегу, чуть ниже Прорвы, маячил рыбачий костерок. Кто-то из заводских кружил в омуте. Порог шумел набатно. Петр Семенович затянулся напоследок дымом, кинул окурок в бочку и тронулся обратно во двор, прислушиваясь к дыханию скотины, все еще размышляя над будущим, неизвестным и волнительным…
15
Дважды начинавшийся этой весной ледоход и шалая вода, беспорядочно бросившая на Айгирский мост кучно лед, покорежила и привела в негодность настил, срезав железные стойки перил начисто, изогнув несущие швеллера. Пока заводские плотники, шаляй-валяй, чинили деревянные части, придя после сварщиков, рейсовые автобусы ходили через Атамановку, трясясь по разбитой вконец лесовозами дороге, наматывая на спидометр лишние километры. Из-за этого под самой железнодорожной насыпью, на давно загаженной мусором сенокосной полянке, где когда-то у стожка произошла счастливая встреча Катерины и Алексея, выстроились еще с половодья экскаваторы, трубоукладчики и четыре самосвала, тупорыло уставившиеся на деревню. Начальство, ругая на чем свет стоит местных строителей-халтурщиков, обратилось к военным понтонщикам, стоявшим на Кузнецовской поляне. Те обещали за один день переправить технику на правый берег. Но что-то задерживались. Лесная грива, каменисто белевшая от отрога к околице Бересеньки, не очень-то ждала разора, начавшегося в конце марта, когда бригада лесорубов Борового за неделю срезала березовую рощу под корень. Теперь грива облысела, и по ней шало гудел ветер, сквозно обшаривая деревню, вздымая пыльные вихри.
— Засквозило, мать ее! — ругался Трифонов. Березин ему поддакивал:
— Да-а-а!.. Вечно березняк этот держал ветер из ущелья. — Понесло-о-о! Теперя на огородах пустыня вырастет…
Спиленный лес завод не принял, несмотря на уговоры Борового. Тогда он распорядился свезти березовые коротыши на Атамановский дровяной склад, затоваренный по самые уши. Петр Семенович и тут смикитил в свою пользу. Он перехватил у прогона рычащий КрАЗ, полный бревен, встав врастопырку на пути. На повлажневшей от солнца дороге лесовоз повело в сугроб, как по маслу.
— Ты шо, дед?! Слепой или чокнутый? — чуть не вывалился из высокой кабины мордастый водитель. — А ну, топай, а то намотаю кишки на колеса!..
— Че ты разорался-то? — прищурившись, спокойно заговорил Березин. — И не слепой и не чокнутый… Может, от меня тебе польза будет. А ты, «намотаю, намотаю»! Бабе своей мотай…
— Ну! — шоферюга уже хотел выйти и столкнуть старика в сугроб. — Какая еще от тебя наварка? Топай от греха!
— А вот! — Петр Семенович, воровски оглянувшись, притиснулся к подножке, распахнул брезентовую сумку, с которой ходил рыбачить. — Первач!.. Свали на зады бревна…
Мордастый мужик сразу подобрел и сдался.
— Лады… Показывай, куда валить…
Лесовоз, пропахав проулок и сломав жерди, огораживающие огород, автоматом свалил бревна и ушел через старицу, хлюпая скатами по воде, подсаживая вязкий, но еще прочный лед, за новым грузом.
Петр Семенович лазил по коротышам, глядел на солнце, потирал от довольства руки, подумывал удовлетворенно: «Теперь и не надо с Атамановки везть. Самогон — самая верная деньга сейчас. На бумажки… и мыша не заведешь… Перезимуем!»
Алексей наткнулся на кучу леса уже перед маем, когда дружно сошли снега, разругался:
— Батя! Зачем тебе енти дрова?! Скоро сносить будут… Все чего-нибудь удумает. А узнают? По району уж слушки ползут, как вы тут антисоветчину орали… Да еще дрова. На два червонца тянет. А то и на вышку! Ладно, отправят к Харламову подметки зэкам чинить…
— Правду, что ли?! — тесть притворно вылуплял глаза. «Испугал бабу этими самыми!» Но все же беспокоился до той поры, пока не перепилил и не уложил дрова в поленницу под навес с помощью Ветрова и Трифонова. Помогли и бабы с ребятишками.
— Алешка гвоздя не возьмет! — рисуясь, говорил онмужикам. — A теперь пусть докажут! Поленья не меченые… Ха-ха:ха! А ругали Советскую власть не мы, а шаромыжники с Айгира. Так и говорите, ежели припрут к стенке…
Бригада строителей мост так и не закончила. Приехали понтонщики, за час с хвостиком развернули на воде понтоны, и техника, скрежеща по ребрам гусеницами, благополучно переправилась на ту сторону. Матвей Егорович Ветров, не дождавшись катера из-за того, что военные перекрыли русло, спустился ниже, сел на бережок рядом с курившим бригадиром плотников, грубоватым и наглым мужиком, гонявшимся где-то по северным тундрам за длинным рублем, пока не отморозил по пьяни пальцы левой руки, и теперь махал топором одной правой, подзудил, кивая на вояк:
— Вот, Васька, как надо рубить. А ты!.. В день по гвоздю забиваешь. Валяешь дурака и людей затягиваешь!
— Не твое собачье дело! Мне этот мост вообще до фени!..
— Ну да!.. Мы пахали…
— Зануда! — вконец обиделся мужик, собирая в сумку инструмент. Правый карман с утра прожигал пузырек с тройным одеколоном.
То ли медвежье сердце и разные мази, изготовленные на внутреннем жиру Трифоновым по какому-то одному ему известному рецепту, то ли природная российская живучесть, не раз выручавшая старого воина, а только к полой воде вышел мужик на бережок своими ногами и погнал катер по стремнине, с радостью созерцал берега, орудуя ловко штурвалом. От волнения командовал сипло, по-сычиному:
— Заводи тросы!.. Так, Гришка!.. Ниче-е-е! Еще походим…
Григорий, радуясь за старика, ухмылялся, глядя на то, как выводит Ветров на стремнину сплотку из бревен, чудом разминаясь с каменными лобинами шиверки, покрикивал:
— Ну и лады!.. Бересенька-то лучше всяких докторов… Зиму-то я кажну ночь видел, как стою за штурвалом. Уходил по реке и будто бы все мели вымерял, да в лоцию заносил. Вот до чего породнился!
Ветров не смахивал попервой слез, выжатых встречным сырым ветром, швырявшим по реке волнение. Теперь, как и раньше, он ежедневно поднимался на палубу, часами теснил бревна в порт, а приморившись, годки-то уж не те, сидел тут же в рубке, курил свою трубку, подсказывал рулевому, глядя на шумное месиво бревен, толкавшихся в запани, словно рыбины в неводе:
— Потихоньку, Гриша! Потихоньку… Пораненная лесина уже брачок с нашей стороны…
Поджидая катер, Матвей Егорович проводил долгим взглядом технику, шедшую на гриву. Солнце пригревало. Ветка, воткнутая в песок на урезе, медленно отодвигалась на сухое. «Падает вода. Успеть бы запань зачистить… Че-то Гришка припаздывает? Прогулял, поди!» — мысль рвалась. Заводчане, спешившие по гудку на смену, позвали:
— Айда с нами, Егорович! Рыбалить, что ли, собрался?
— Нет! Он Машке свидание тут назначил, — пошутил мужик с белесыми, словно вылинявшими, бровями, приезжавший в Айгир на вертушке из Атамановки.
— Ха-ха-ха!.. Ох-хо-хо!..
— Брысь, балаболы! — притворно окрысился Матвей Егорович, сам подбросив: — На кой мне Машка! У нее, поди, заслонка-то уж проржавела. Я вон Катьку Лепехину пощупал бы!..
— Ха-ха-ха!
Лепехина, тихая бабенка, вдовая с прошлого года, только поджала губы, сверкнув серыми смешливыми глазами. А Мария Зыкина, важно шагавшая под ручку с новым своим сожителем, приблудившимся откуда-то на дармовые харчи, услышав обидные слова Ветрова, взвилась ураганом:
— Заржавела!.. А ты, бородатый дьявол, меня пробовал?! Мореман… с ракушками меж ног! — выкрикивала Зыкина. — У тебя давно уж все упало!..
Сожитель, боявшийся всякого скандала, тянул ее, приговаривая:
— Машенька, пошли-пошли!
Народ ржал до самой проходной. Меж тем солдаты разбирали понтоны, выбивая кувалдами железные клинья. Железо гудело на всю округу. Эхо билось об утес Айгир-Камня, будоражило. Трифонов, завидев соседа, свернул на минутку. Пяля большие черные глаза, спросил:
— Гришку поджидаешь?
— Его-о-о!
— Я вот чего, Матвей! Чуешь, по чью душу вся эта техника прибыла?! Теперь бедой явно запахло. То были разговорчики. Думаю, после работенки мужикам надо собраться да покалякать на эту тему. А то мы, как мыши… В норки забились. Я написал письмо в обком. Самому Мажитову. Только отправлять не стал. Ноне героев не чтят. Понаделали, как нерезаных собак. Попервой к Назарову надо. Понял? Привет!
Вечерком, когда солнце подсело низко над хребтами, собрались на березинском огороде возле низких мостков, касавшихся иссиня-черных вод старицы. Сидели кто на чем. Баб не взяли, зная, что те могут повернуть серьезный разговор в другую сторону, мимо дела. Да и Трифонов припер из погреба запотевшую на воле четверть самогона. От старой завадины, крытой листьями кувшинок, несло болотцем. Старица начала заболачиваться. На той стороне вспыхнули огни заводского поселка. Ухали прессы в кузнечном цехе, визжали пилорамы. После первой все внимательно слушали Трифонова, затеявшего серьезное дело. Старый авторитет, еще сохранившийся с далеких времен, когда запросто ручкался с высоким начальством не только в области, но и в центре, подтягивал к спокойствию мужиков, не любивших ввязываться в споры с чинами. Тем более, когда главный в них Колька Березин. А тому палец в рот не клади.
— Надо народ весь поднять, — строго говорил Трифонов, обводя всех пристальным взглядом выпуклых глаз. Многие не выдерживали и отворачивались. — Что ни больше подписей, то дело лучше выгорит! Не может деревня умереть! Жизнь наша порушится сразу не как при Хруще, когда резали скотину и земли… Березин добить хочет!..
— Но-но! — сморщился Петр Семенович, ревниво оберегая фамилию. — Тут выше бери!..
— Ладно, без личностей, — согласился с соседом Трифонов, выставив вперед широкую, как лопата, ладонь, мозолистую, словно верблюжья ступня. — Мы еще живем, тужимся. А кто без хозяйства?! В магазинах шаром покати. Запрут нас в многоэтажки… Да и их-то еще нет. Вот и думай, как дальше жить?! Это скитальцам трын-трава. Куфайкой укроется— рукавом утрется!.. К Назарову надо ехать!
Спорили долго и незаметно опорожнили четверть. Уже завяла зорька, когда мужики разошлись по домам, все же решив наведаться к первому секретарю райкома партии Назарову. В выбранную по всем правилам демократии делегацию вошли Трифонов — основной толкач и затевала, Ветров — герой Гражданской войны и Петр Семенович Березин — человек, воспитавший таких известных в стране сыновей.
— Им не откажут! — крестил старик Круглов в спину делегатов.
Покашливая и пряча налитые самогоном глаза, Петр Семенович вошел в избу. Семья сидела за поздним ужином. Несло яишней, поджаренной на свином сале, немного прогоркшем за зиму. Зоя еще не пришла из больнички. После гибели Александра она не затворилась в себе, как ожидала вся родня, на работе отдавалась сполна, выхаживая больных с особым рвением. Ужинали только Алексей и Катерина. Девчонки ушли в кино, а Павел утек к своим матаням. Алексей в этом сборище участвовать категорически отказался, помня старый опыт, поглядывал на тестя с любопытством.
— Садись, батя, ужинать, — пригласила дочь отца. — А то самогон-то без закуси лакали.
— Какой самогон?! — притворно вылупил глаза Петр Семенович. — Уж забыл, как его пить…
— А то!.. Не прибедняйся. Несет-то не духами!
— Унюхала!..
— Чего порешили? — втиснулся Алексей в перепалку дочери и отца.
— Делегацию выбрали. Я третьим… К Назарову поедем…
— Ну, теперь уж точно вас, как диссидентов, привлекут, — рассмеялся Алексей.
— Каких таких диссидентов? Че такое?! — недобро прищурился Петр Семенович, задумчиво принимаясь за еду. — Слова-то какие-то матерные!
— Это, батя, те, кто противу власти идет, — пояснила ему Катерина.
— Ишь ты! — неподдельно удивился Березин. Даже отложил ложку и ушел покурить на крылечко, думая: «А не зря Алешка заартачился! Вон как!.. А все едино!..»
На другой день выехали в район на машине Трифонова чуть свет. Мост через Бересень возле Айгира все еще сиял проломами, и тронулись через Атамановку, хотя дорога делала большой крюк. Матвей Егорович сидел рядом с Трифоновым впереди, а Петр Семенович, оперевшись о спинки сидений, дышал в затылок и балаболил:
— Алешка стращает. Мол, забреют вас в районе органы. Припомнят все…
— Органам… мы орган покажем! — отозвался Трифонов, глядя на разбитую дорогу. — Не боись — отмахнемся!..
Замолкли надолго. Каждый переживал об одном и том же. В опущенные стекла ветер заносил запахи одевавшейся в летний наряд тайги. Каменистый серпантин, взбиравшийся полого на отрожек, заглатывал споро повороты. Внизу стлалась синяя Бересень, долина, как будто пришлепнутая каменистой глыбой Шоломки. Солнце еще не выметнулось из-за хребтины и тени в ущелье были черными, будто облитыми дегтем.
Лето уже было на той грани, когда все распустилось и зазеленело. И ручьи, стекающие по кручам, не гудели набатной яростью по расщелинам, а журчали жаворонком, все светлея и светлея. А под хребтом, где снег сошел совсем недавно, белым-бело от подснежников.
Приехали в район как раз к началу рабочего дня и сразу же зарулили в центр, хотя у пивзавода уже доилась «корова» и мужики стояли в очереди с разнокалиберными банками.
— На обратном пути заскочим, — проговорил Трифонов. — А то Назаров укатит по делам…
— Потом уж не обрыбится…
Площадь еще была пуста. Взволнованные, они вошли в гулкое и прохладное помещение райкома. Трифонов снял плащ, нарочно высветлив награды. Дежурный офицер, глядя на «иконостас» Трифонова, неуверенно встал на пути.
— Ваши партийные билеты…
— Мы большевики!.. Какие еще билеты? — Трифонов легонько и без особых усилий отстранил рукой малорослого лейтенанта, засучившего сапогами по полу от возмущения, хотел позвонить в караулку, но те уже входили в приемную первого секретаря.
Назаров в это время набивал табаком свою трубочку, стоя у окна и думая о текущих делах. Посевная в этом году задерживалась из-за непогоды, а крестьяне говорят, что каждый весенний день год кормит. От раздумий его оторвала глухо бухнувшая дверь. Он резко повернулся. Всегда бдительная секретарша ныне упустила бересеньских мужиков и почти висела у них на плечах. Назаров рассмеялся:
— Пропустите их, Вера Васильевна, и чайку покрепче…
Назаров не удивился этой делегации, догадываясь, по какому делу явились мужички. Назаров с каждым поручкался и пригласил присесть к большому столу. Петр Семенович, всегда с большим почтением относившийся к любому начальству, хотя сыновья не последние в этом мире, смущенно покашливал в кулак, присел на краешек стула. Ветров плюхнулся смело и молча водил коршунячьим носом, оглядывая кабинет, не изменившийся со времени Козырева. «Молоток мужик! А то ведь новая метла по-новому метет!» Трифонов с прямой спиной, словно он проглотил оглоблю, торчал над столом глыбой и заговорил первым:
— Да вот, Анвар Галимзянович! Прореха у нас с горловину Айгирского порога… Думали, вечна наша деревенька, а выходит, и ей пришел конец. Сносят ведь!..
— Ну-у-у, до сноса еще далековато, — проговорил сипло Назаров, откидываясь на спинку кресла. — Да и деревню перенесем в другое место. Предлагайте… Курите. Вижу, разговор будет крупный и долгий. Есть решение правительства, мужики… И назад пятками уже не пойдешь. Все подписано, проект утвержден. Так что, стоит ли тут дебаты разводить?
— М-м-мда! — протянул Трифонов, глянув на помалкивающих друзей. — Мы вот тут, товарищ Назаров, петицию накатали в обком, да решили не прыгать через голову, — он протянул бумагу секретарю и продолжал, покосившись на секретаршу, расставлявшую чашки с чаем на журнальном столике: — Слова — словами, к делу не пришьешь, а тут двенадцать семей. Правда, не все подписались. Боятся! Пуганая ворона куста сторонится… Да и некоторым на руку. Квартирки отхватят. Но нам это до фени…
Пока Назаров вчитывался в жалобу селян, написанную умно и грамотно чьей-то опытной рукой, мужики тихо переговаривались, косясь в сторону партийного секретаря:
— Зазря приехали! — горячо шептал в волосатое ухо Петра Семеновича Ветров. — Тут все согласовано…
«А распинался — дом построю!» — недовольно думал Березин, вспоминая первую встречу в Бересеньке, а вслух вторил свояку:
— Я же говорил…
— Тише вы! — толкнул в бок Ветрова Трифонов. — Расшипелись, как гусаки.
Назаров уже давно прочитал длинный текст, где описывалась подробно родословная деревни, сохранившая свое имя еще с демидовских времен, но не отрывал взгляда от бумаги, горько думая о том, что сколько наворочено дел, поспешных и вредных, отголоски которых, так или иначе, отзываются в людских сердцах болью.
А этот проект вынашивался еще тогда, когда он противился всяким структурным новшествам, когда делились областные комитеты партии на промышленные и сельские обкомы, между которыми сразу же возникали непреодолимые разногласия, потому что каждый чиновник ворочал делами, как хотел. Мажитов не зря приютил в обкоме Березина, чтобы тот своими руками осуществил им задуманное дело. «Комплекс на ладан дышит, и Николай Петрович купился!..» — подумал он. Даже сейчас, спустя уже много лет, трудно осмыслить разрушительное действие на селе совнархозов и других искусственных структур. «Сколько же мы будем экспериментировать на людях?! — пришла горькая мысль. — Заводские цеха останавливаются из-за нехватки сырья! А тут расширение!.. Они же понимают, мужики не дураки, что им вешают лапшу на уши. Да и мне подло тянуть бюрократическую волынку и отговариваться. А что им сказать?!»
Назаров поднял глаза, полные печали и неуверенности, на напряженно поджидавших его слов гостей. И те поняли, что этот всесильный в районе человек, сам стал заложником областных чинов. Первым встал из-за стола Матвей Егорович. Нахлобучивая на седую шевелюру свою видавшую виды капитанку, сказал огорченно:
— Пошли, мужики. Чего тут высиживать?! Пустое все… Извините, Анвар Галимзянович!
— Да погоди ты! — взорвался Трифонов. Он потянулся через стол всем телом. Густо звякнули звездочки и ордена. — Значит, с лица земли. А забыли, как в войну эти деревеньки лес стране давали. Хлеб!.. А за что я все это получил?! — Он тряхнул лацканом костюма. — Мы еще постоим!.. Пусть нас всех пересажают с женами и детишками, но зорить не дадим!.. А вот на выборах… Да верно, Матвей! О чем говорить? Пошли!
— А чай?! — огорченно окликнул их Назаров.
— Спасибочки! — дурашливо поклонился Трифонов. Из кабинета они вышли шумно, словно из лавки. Анвар Галимзянович видел в окно, как они, о чем-то посовещавшись, разошлись. Березин и Ветров гуськом потянулись к машине, а Трифонов юркнул в дверь спецмагазина, обслуживающего руководящий состав района. «Да-а-а! Русский характер, — мелькнула мысль. — Поллитровка все заботы зальет». Мысли его оборвал вошедший майор Пыльнов.
— Это не бересеньские люди? — спросил он с порога.
— А что?
— Они антисоветский митинг устроили в деревне. Стреляли из дробовиков и грозились власти! С ними надо побеседовать и арестовать!
— Так уж и грозились, — вяло отозвался Назаров, усаживаясь в свое кресло и исподлобья глядя на кагэбэшника. — Да они за советскую власть костьми лягут!.. Выбросьте эти думки! Не трогайте.
— Понял, — поджал тонкие и злые губы Пыльнов, выходя из кабинета боком.
— Антисоветчики! — качал головой Назаров, углубляясь в дела.
Купленную Трифоновым водку хотели выпить в машине прямо на площади, но вовремя передумали, увидев уазик гаишников. Решили посидеть с пивком и водочкой на лужке за Ключами.
К Троице, как уж повелось исстари, у кого еще водилась на подворье скотина, подбивали косы, собираясь на луга. В этот день работавший на гриве экскаватор вспорол на песчаниках подземные ключи, затаившиеся на пятиметровой глубине. Вода, подпертая старицей, ударила с такой силой, что молодой экскаваторщик еле-еле успел выскочить из кабины. Сидел поодаль, в испуге пялил глаза, выливая из сапог воду. Траншеи заполнились до краев в считанные минуты. Потоки, бурые, как патока, перекатывались через борта сначала вязко и медленно, а потом хлынули желтой рекой через поселковую площадь к Бересеньке, смывая на ходу поселковые огороды.
— Горе-строители! — вопил Петр Семенович, залезая на плоскую крышу курятника. — Говорили, что под гривой плывун! Потому деревню строили ранее наши деды ниже. Вам сортиры строить!.. Ха-ха-ха!
К оравшему на всю деревню старику присоединились все деревенские, обсуждая событие, припоминая, как на гриве нет-нет да засверкают родники, а потом так же неожиданно исчезают. Вроде бы сухо, а кол забьешь, вода хлюпает. И старица в иные годы колышется…
Стройку на время заморозили. Приезжала комиссия из области во главе с Березиным. Походили вокруг, поглядели на утопший экскаватор, от которого на поверхности торчал только хобот с ковшом. Мальчишки ныряли с него в котлован, а люди дивились и радовались:
— Есть бог!..
Николай Петрович тут же разнес в пух и прах исследователей, геологов назвал тупарями и, расстроенный, даже не зашел в деревню. В Темирязевском, перед тем как улететь на вертолете в Яр, со злым упрямством сказал Алексею:
— Не лыбься!.. И старикам скажи, что еще не вечер… Пусть не радуются! Петр Первый на болоте Ленинград построил.
— Ну, то Петр Первый, — Алексей не отводил взгляда. — А здорово мазу вам показала природа. Век живи — век учись!
Березин ничего не ответил. Винты взбугрили траву. Заветрило резко в лицо и грохот винтов ударил в уши. Кедров, придерживая шляпу, попятился к машине. Алексей пошел следом, глядя на то, как в синем небе терялась винтокрылая машина. Вскоре исчезла совсем, как будто ее и не было… Над тайгой воцарилась тишина…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Чтобы в мире сем и мире том ты заслужил прощенье,
Закон смирения усвой, под стать твоим предтечам.
АгахиМы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать…
Сергей Есенин1
Неистово куржавится по Уральским горам лютый мороз. Распадки и ущелья завалило по горло снегами. Кругом жуткая непролазь. Подровняло и укрыло летники белым покрывалом, зализав каменные лобины скал, перечертив их угрюмые в это время года морды леденисто-сине-белыми прожилками льда. Тайга будто вымерла. В сонной измороси купаются ельники, сохраненные на семенники. Изредка нарушит безмолвие зверь да пролетит над вершинами деревьев зазимовавшая в этих суровых местах птица, рассекая натянутый, как струна, стылый воздух, звеневший и спиравший дыхание.
Но только на беглый взгляд тайга кажется пустынной. Жизнь в ней колготится. И люди нарушают ее покой. Там, где еще стеной стоят леса, в самом истоке Каменки, неистовым и неумолимым валом катятся лесозаготовки. Рушатся столетние лесины на землю со стоном, вздымая вихри снежной пыли, подминая под себя юный подрост, взошедший из семян дерева-матки и не достигший зрелости. По-звериному ярится и рокочет мотопила, безжалостно вгрызаясь в застывшую на морозе древесину, и путанно тонкий аромат смолы вяжется из бело-желтого спила, венком из опилок обсеявшего еще слабо дышавший пень, опиравшийся на могучие корни, уходящие глубоко-глубоко в матушку-землю. И не встанет в этом месте больше дерево, и не будет косматить его крону ветер и порошить на макушку снежную крошу. Может быть, через много-много лет поднимется рядышком таежный великан, но уже во времена других поколений. А пока прореха в стене тайги. А к весне, когда первые солнечные лучи коснутся снежных пластов, затеплится мартовская канитель, возвращая из спячки все живое, и потечет от живых еще корней белая древесная кровь, боль вернется, и всплакнет горючей янтарной слезой обезглавленный пень, в последний раз переживая страшную рану, навевая на человека печаль!.. Вот отчего не любят лесорубы посещать вырубки. Надолго в сердце вклинивается потеря, коснувшаяся души ранней весной… Грусть непогодит сердце! И все проходит с первыми заморозками, с первым сокостоянием, душа приходит в состояние успокоенности, заботы. Руки тянутся к топору и летят щепки, скашивая ту грусть-печаль стальным острием. И так испокон веков!..
Дмитрий Боровой, растроганный весенним душевным разрывом, медленно поднимался на главный хребет, чтобы окинуть взглядом долину, трогая ласково руками столы пней, подогретых солнцем, говорил с трогательной ноткой:
— Вы уж простите меня, дорогие!.. Не по своей воле, а вина на мне!
Он кланялся почти каждому пню, пока не вышел на курумник, забитый еще снегом. Хребет встретил его южным ветром. Дмитрий наглухо запахнул телогрейку, огляделся. Раздетая им же земля в долинных склонах выглядела как после побоища. Начисто исчезли совсем недавно бушевавшие тут боры. Пни, пни!.. Исковерканная тяжелыми траками земля, смешанная с бурым снегом, парила, как будто после огня. Штыками торчали обрубы в завалах мусора и хвойных лап, побуревших, словно проржавевших от первого тепла. «И всего-то делов! — пришла горькая мысль, стиснувшая грудь обручем потери. — А что сделаешь?! Без леса — нет жизни… Но надо бы поумнее! А главные умы там, наверху. Они не видят всего этого безобразия. Они ходят по паркету!..»
Долго стоял Дмитрий Боровой на голой хребтине, каменистым горбом уходящей на север, терзая своими невеселыми мыслями душу, покуривая и вспоминая, как пришел он со своей бригадой сюда четыре года назад и обомлел от красоты! А потом первый волок… И все пошло-поехало, затянули планы и не заметил, как ушла та первая душевная радость. Опомнился вот только сейчас, когда ушли вальщики и растаявшие снега не обнажили голую долину, где еще суетились людишки, добивая последние сосны за отрожком. «И не замечал ведь?! — мысль шла вдогонку за первой. — Хватимся, а уж нет!»
Пение пил за отрожком доходило сюда с ветреными обрывами, но и оно раздражало. Вдруг все стало ненавистным.
— Добыли и бросили! — прошептал он, сбегая напрямик к погрузочной станции узкоколейки, где на парах стоял груженный оборудованием состав. Второй подгонялся писклявым тепловозиком под хлысты, складированные под козловым краном. Алексей Ястребов, дававший последние указания железнодорожному диспетчеру, встретил Борового с укором:
— Где пропадал?! Час ждем!.. Давно бы были за Чертовыми воротами. Смотри, вода как поднялась!..
— Да-а-а! — отмахнулся Боровой. — Душевные заботы…
— Плакался на хребтине. Ты как та баба… День грешит — день кается, ха-ха-ха!
Боровой покривился, но смолчал. Ястребову неведомо это чувство. Он не корежил долину, а доведется, вот так же загрустит, но все же поддел напоследок Алексея:
— У каждого душа по-разному живет. Что на роду написано… Каменное не размочишь!
— Ладно, не переживай, — смиренно заметил Алексей. — Порожняк сегодня гнать наверх?
— Этим обойдемся. Ты гляди на воду… Как бы мосты не снесло, а то проваландаемся до осени. Дуй, Алешка, в низы. Пока!.. — Боровой попрощался с железнодорожниками за руку и пошел к конторе, подставляя лицо потеплевшему дуновению ветерка, несшего запахи талого снега, воды и соляры, от стоявших в безделье трелевочных тракторов. Заботы легли на спину всей тяжестью. Нужно было спустить вниз по железке тысячи тонн оборудования, рассчитаться с работягами и государством, перебросив лес, лежавший в штабелях по долине, на нижние склады и на заводы. До половодья не успели все вывезти, а теперь каждый мостик через Каменку дрожит от напора воды…
Боровой молча поглядел на мысок, с которого вал воды легко и бесшумно смыл кучу хвороста, кинув его в пучину порога, где в летнее время воробью по колено.
— Ловко речка-то разговелась!
Боровой на возглас обернулся. К нему подходил начальник верхних складов, громко чавкая болотными сапогами по грязи, смешанной со щепой и снегом.
— Да-а-а!.. Что-то воды многовато нынче. Ты, Авдеич, на всякий случай, навали-ка дамбочку перед Петровским штабелем, а то, не дай бог, смоет.
— Уж дал задание. Сейчас пару бульдозеров пошли на поворот. Не сдюжат мосты, Дима! Будем мы тут сидеть до разговенья.
— Не каркай!
Как цыганка нагадала. Прав был кладовщик. Вода в Каменке поднялась метра на четыре. Мосты срезало, как пилой, и до середины лета восстанавливали поврежденную железку, на скорую руку ладили временные мосты, рвали бревенчатые заторы в узких местах, спуская скопившуюся в разливе воду. И только-только полетели белые мухи, к последним числам ноября, бригада Борового закончила все работы на Каменке и была расформирована. Крупная сырьевая база приказала долго жить. Мелкие и разрозненные лесосеки такого количества специалистов не требовали. На Каменке осталось около десятка рабочих, снимавших с бывших лесосек лебедки, бревносвалы и транспортеры. Бараки глядели на горы пустыми глазницами окон. Не дымили печные трубы, а сами буржуйки кучей лежали на деревянной эстакаде, приготовленные под погрузку на платформы.
Боровой все больше грустнел и мрачнел, провожая составы, увозившие последние лесины, людей, положивших на этих лесосеках годы и здоровье, а на месте деятельности лесорубов оставалась пустынная гладь горных склонов, словно тут прокатился гигантский каток и смял тайгу. Он еще раз проверил погрузку, спустился к конторе, где в полном одиночестве сидел у рации радист. Обернувшись на стук двери, спросил бригадира:
— Мне когда сматывать хозяйство?
— Тебе еще долго, Коля, ворковать тут. Вот начнет Ястребов снимать рельсы, с последним составом и тронешься. Свяжись-ка со снабженцами. Пусть дизтоплива с бочку подбросят.
Радист сдержанно матюкнулся:
— Выходит, Север мой блеснул, как плотвичка, сорвался с крючка. А в Уренгое меня уже ждут!
— Не паникуй! Что-нибудь придумаем.
— Ловлю на слове…
С закрытием лесоразработок на Каменке люди сразу поняли, что ловить тут больше нечего. Заработком на мелких лесосеках не поживишься, себя и семью не прокормишь. Надо искать места да сматываться, пока есть еще на что уехать. Из дальних поселков, где жизнь теплилась благодаря лесодобыче, не ожидая полного развала, работяги собирали свой бедный скарб, семьи и, пока еще работала железка, уезжали искать лучшую долю в Сибирь, на Дальний Восток, ну и, кому повезло с вызовом, на Север. Многим пришлось поменять профессию и вербовались на стройки коммунизма. Уполномоченные в районе потирали руки. Такого наплыва рабочей силы не наблюдалось с конца войны. Бывшие ссыльные, прижившиеся тут, возвращались на свою родину, обремененные женами и детьми.
Словно цыганский табор, шевелилась и жила в это время таежная глубинка. Безлюдье вновь пришло на обжитые места. А может быть, и правильно, толковали многие: обсеменится и пойдет вверх новая поросль, как когда-то, лет сто назад. И снова зашумят по бересеньским берегам боры и рощи, радуя глаз и давая жизнь всему живому…
* * *
Рядом с чернеющим промывом во льду, на скате ручья, чуть-чуть на взгорке, стоял тщательно припрятанный под лапником снегоход «Буран». Издали не отличишь: что это? Спрятавшаяся под снежком буреломная куча или звериная берлога? От вездехода в одну сторону уходила замаскированная запорошем лента вездеходного следа, а в другую, виляя меж скал и молодых сосенок, карабкалась на крутяк застаревшая лыжня, тоже припорошенная снежком. Но там, где стояло безветрие, лыжня прорисовывалась четко. Но кому надо выслеживать в этих опустевших местах одинокую лыжню, ведущую неизвестно куда. Может быть, туристы пробивались к хребту, а может быть, беглый из Малиновки?! Кто знает?!
С тех памятных послевоенных лет, когда Петр Семенович Березин и Матвей Егорович Ветров срезали в этом заповедном бору лесины для постройки нового дома, утекло много времени. Давно уж нет бора, охраняемого кем-то из центра. С прекращением сплава и лесозаготовок в этих местах постепенно обезлюдел и захирел поселок у Разбойного Камня. Добротные дома и бараки ссыльных лесорубов, оставшиеся без надзора, мужики из соседних деревушек, ныне тоже покинутых, растащили по бревнышку на свои подворья, но не воспользовались. Многие тогда были уличены в воровстве государственного имущества и пошли по этапу. От образцово-показательного лагеря, со знанием и любовью построенного ныне покойным Александром Петровичем Березиным, не осталось ничего, кроме покинутого погоста да ржавой колючки. Так распорядилась сама жизнь. Года через два леспромхозовские путейцы сняли с насыпей последние рельсы, уложив их на новые трассы, разработанные далеко за Сорой, в верховьях Каменки, ныне тоже уходящие в прошлое, как только сырьевая база кончилась.
Алексей Ястребов, покидая эти разработки, как всегда, с последним звеном пути, с тихой грустью глядя на горную голытьбу Каменского ущелья, говорил:
— Когда же сюда люди снова проложат пути?!
Дорожный мастер, грузный и сильный мужчина, с легкостью перепрыгивая через борт платформы, ответил:
— Тогда, может быть, и железка будет не нужна. По воздуху будут вывозить. Только долго этого ждать… Может, наши правнуки увидят. Лес, как человек, матереет с годами. А мы… чик и нет!
— Жалко! Людей жалко. Опять без работы будут мыкаться.
— А ты не жалей, Алексей Павлович. На всех жалелки не хватит. Наша работа по сезону… Трогай! — Махнул флажком мастер и продолжил: — Других такая забота не гложет. План подавай… Когда-нибудь эта гонка нас и прикончит. Помяни мое слово!
Состав тронулся, оставив после себя кучи лесного хлама и брошенную технику, пришедшую в негодность. «Сколько этих железок валяется по лесам?!» — с горечью подумал Алексей, глядя на обочину.
— До снегу не сымем пути! — крикнул мастер, прикрывая лицо от похолодавшего ветра.
Алексей ничего не ответил, думая о чем-то другом. Да, от верховьев подувает сёверком и уже порошит…
Ушли люди, и все тут сразу одичало. Потихоньку возвернулось зверье, спугнутое лесоповалом, заняв свои ниши в прореженной тайге. Неизменной осталась стоять серая отвесная стена Разбойного Камня, все такая же мрачная и нелюдимая, как и сотни лет назад. На утесе веками вьет гнездо и выводит птенцов пара коршунов, нарушающих тишину грозными гортанными криками. К людям они привыкли, видели с высоты птичьего полета все радости и горести ущелья. Теперь они с недоумением взирают на пустоту, на каким-то чудом уцелевшие срубы гниющего штрафняка, всеми забытого, все еще опутанного ржавой колючкой, о которую ранится всяк, кто забредет в эти чащи, недоступные и по сей день простому человеку, на безликий погост, поросший смешанным леском, извитым и скрюченным, как те тела безвестных заключенных, замученных в этом страшном месте…
Рваная хребтина Урала, заваленная по горло снегами, уходила на север, чернея останцами, каменным глыбьем и узкими каньонами, порой переходящими в узкую непроходимую щель. Дико и светло!.. Солнце в морозном ореоле сине-розовых радуг постепенно садилось за горы, окунаясь горбушкой в изморось, висевшую в небе без движения, подсинивая снега логов и склонов, звездочкой играя в макушке Разбойного Камня. Чисто! И словно заноза в живом теле звонкого света, нарушала эту дикую идиллию ржавая труба, дымившая неделю день и ночь в подхребетном увале, сея по округе запахи смолья и снопы искр. Дым стоял столбом, призрачно розовел на закатном солнце и незаметно растворялся в туманной дымке гор.
Из землянки, придавленной снегами, куржавистых и посеченных ветрами, дующими тут временами со страшной силой, вылез грузный и постаревший Виктор Шарыгин. Он поглядел равнодушно полинялыми сливовыми глазами на погружавшиеся в тень увалы, крикнул по-сычиному сипло, с трудом проталкивая морозный воздух в легкие с сипением, словно работали кузнечные меха:
— Вылазь, Дмитрий! Пока спустимся к саням, стемнеет. Самое время… Ноченька, она, как нянька, все укроет!..
Шарыгин, прихвативший на угольных шахтах Воркуты силикоз, задышал тяжело, закашлялся до крови и, матюкаясь на чем свет стоит, спустился к санкам-волокуше, загруженной еще с утра порубленной на куски лосиной тушей. Дней десять, пока зверь кочевал в Зауралье, били без жалости маток-молодок. У них мясо нежное… За неделю, после побоища, сделали семь кругов с мясом до Атамановки и обратно. Воронье, слетевшееся на кровь, растаскивало требуху и обрези, билось с лисами не на жизнь, а на смерть. Как-то даже забрел медведь-шатун, поднятый кем-то из берлоги, но не взятый. Хотели подстрелить, но пожалели. Был он какой-то слинялый и тощий, одни кости. «С лосями кончено до следующего сезона, — подумал Шарыгин, глядя на то, как лиса вышла из бурелома и водила острым носом, принюхиваясь. — Может, на лису?! Тоже уж ушло времечко. Шкурка на третий сорт не потянет…»
В нем всегда жила рваческая жилка, за что и страдал не один раз, шлифуя на зонах нары. Маялся, но не бросал. Бодрили его воровские дела! Вливали в стареющую кровь свежак!.. Оттого и тянуло жить, несмотря на все болячки.
Дмитрий Фролов, задубенный мужик, под два метра, тем временем залил остатки огня в железной печке, подвязал в мешочке соль и полбуханки хлеба к задымленному потолку, пахнущему баней по-черному, взял с нар винтовку и вылез наружу, зажмурившись от сияния вечерних снегов. «Так и ослепнуть можно!» — прикрыл на какое-то время глаза варежкой.
Мороз щекотнул уши. Окинув острым взглядом рыжих глаз местность, задержался щелочками вначале на утесе, а потом глянул на пал, скашивающий с одной стороны долину, где когда-то проходила леспромхозовская узкоколейка, не догадываясь, что поджег тайгу его родной брат Васек, уходивший от погони. И как догадаться?! Мало ли пожарищ в тайге! Горит она испокон веку, принося порой большие несчастья. Правда, когда они впервые после долгих лет пришли на свою старую скрытую заимку, сооруженную еще дедом, сокрытую от глаз непролазным буреломом из чилиги, елового стланика, вилючего высокогорного березняка, обросшую серым мхом, похожую издали на каменную горбину, и обнаружили внутри порыжелую от времени соль, изъеденную мышами шкуру бурого медведя, а под обвалившимися нарами хорошо смазанную жиром винтовку, патроны и истлевший зэковский бушлат, то ворохнулась думка о пропавшем без вести брате: «А не Вася ли тут обитался?! Даже лесорубы сюда не забредали, когда срезали тут лес! А вдруг он бежал и где-то живет себе поживает!»
Дмитрий поделился своей надеждой с Шарыгиным. Тот недоверчиво покачал кудлатой головой, лысеющей с макушки, проговорил задумчиво, взвешивая каждое слово:
— Дал бы знать, коли живой был. Малявы нынче не шмаляют, как после войны. Хоть чем-то, а засветился бы… Правда, чем черт не шутит! Страх, он, как лапоть… Нет! Хотя слухи-то ты и сам слышал. Будто бы видели Ваську в Бересеньке после наводнения. И будто бы Катька Березина пальнула в него из ружья. Ну это сказки бабьи! У нас статья была одна… По амнистии Берии и он должон был выйти на волю. А почему не вышел?! Сказывают, в наводнение, кто был в карцерах да кандеях, тот там и захлебнулся. Без дураков. Поживем — увидим.
В ту позолоченную осень, сухую и яркую, они капитально перестроили землянку. Заменили полы и печку, даже сходили на пал за сухостоем, где под пеплом хоронилась маленькая тайна. А винтарь оставили. Шарыгин, всегда вперед глядящий, сказал, глядя в дуло с казенника:
— Трехлинейка! Из нее мы будем зверя щелкать, как орешки!
Вот и сейчас, уперевшись взглядом в утес Разбойного Камня, он снова вспомнил брата. «Где же ты, Вася! А может, тлеют твои косточки в Разбойке? А может, гуляешь ты где-нибудь за Уралом?» Вспомнилось, как они вот тут, у Гремучки, ловили хариуса и пеструшку, бегали втроем в Зауралье. Василий уже был парнем и таскал нож в голенище сапога. Однажды отбили от табуна пару жеребят-двухлеток, гнали через перевал без роздыха. Думали, что отец заругается. А он посмотрел на красавцев-жеребят, жавшихся на арканах к березняку, сказал без похвалы:
— Следующий раз сюда не гоните. Через Каменку да в Яр, к цыганам…
— И было ведь все! — со слезой на глазах прошептал Фролов.
— Че, опять в старое подался? — грубо разрубил его мысли Шарыгин. — Смотри, а то пойдешь по материной стежке. Вошкается. Давай трогаться, а то задуло… Мечтатель! Был у нас такой на зоне…
— Заткнись ты!.. — Фролов со злостью выдернул еще теплую трубу из горловины, бросил ее плашмя на черный от копоти снег, присыпал свежаком. Потом, обвалив надув над входом и оценивая свою работу, пошел боком к волоку. Шарыгин уже впрягся в лямки, притоптывал от нетерпения, словно рысак, глядел на подходившего племяша без одобрения, пробуя в одиночку сдвинуть груз с места.
— Многовато набросали мясца. Может, еще один оборот сделаем? Ежели ты по бабе соскучился, то я один…
— Я тебе сколь раз говорил, чтобы ты не лез в душу?! Еще вякнешь — урою!
Шарыгин дрогнул: «Фроловская порода! Оне слов на ветер не бросают!» И вслух проговорил без заискивания:
— Че распекся-то? Больно мне надо! — Он обиженно отвернул лицо к ветру.
Что есть силы упираясь снегоступами в плотный снег, утрамбованный ветрами, они через час скатили груз к снегоходу, торопливо разбросали лапник и побросали мясо в прицеп. Пока в резко наступившей темноте Фролов возился с промерзшим движком, подсвечивая себе фонариком и на чем свет стоит матеря технику, Шарыгин, пятясь, замел пихтовой лапой волокушный след, а саму волочь затолкал в клокочущую промоину ручья. Крестясь, шептал молитву: «Слава тебе господи! Теперь бы до дому? добраться!» Набожным он стал после последней отсидки и регулярно посещал церковь. Он глядел на черную воду, нахохлясь и поеживаясь от холода, пробиравшегося к потной спине. И казалось старому вору, что чернота эта натекла от его жизненных следов. Сладость сердечная затерялась где-то в далекой юности и уже забыта начисто. Неистощимая жажда рвачества перекрыла тот кислород, пахнущий чистотой…
Наконец-то мотор чихнул и ожил, железным тарахтеньем наполнив тишину ущелья. Шарыгин очухался, пошел вперевалку к саням. Сели. Поехали, с трудом выбираясь из снежных заносов. На проселке понеслись быстрее. Морозный вихрь, завыв в лобовом стекле, ударил в лицо колюче, обжигая сразу затвердевшие губы. Шарыгин безуспешно прятался от ветра за широкую спину Фролова, затянутого в черный добротный полушубок, мямлил онемевшими губами: «Ну!.. Пронеси и на этот раз!..» Больше всего Шарыгин боялся снова сесть, зная, что там, в местах не столь отдаленных, зароют его бренные кости.
В Атамановку въехали уже заполночь. Перед самой Шоломкой, где дорога окручивала скалу, неожиданно начался снегопад, сразу же подровнявший все следы.
— Это хорошо! — выкрикнул Фролов, не оборачиваясь.
На церковной площади, возле клуба, еще гуляла молодежь. Святки!.. У чугунной ограды парни щупали девок. Полупьяная компания мужиков и баб, приплясывая, орала под гармошку, сбившуюся с ладов:
Когда весна придет, не знаю, Пройдут дожди, сойдут снега. Но ты мне, улица родная, И в непогоду дорога…Мигали папиросные огни, визжали женщины, скатываясь с яра на лед Бересени.
— Машка, не потеряй! — орал басом мужик.
— Не боись!..
Фролов, не желая себя афишировать, резко свернул в проулок и объехал улицу задворками, подкатив из-под берега к самым воротам. На онемевших от долгого сидения ногах, прихваченных морозом, Шарыгин бегом раскрылил тяжелые створки. В большом доме, построенном на месте развалюх и бурелома Дмитрием Фроловым, сразу же вспыхнули светом широкие окна в резных наличниках. На крыльцо выскочила жена Фролова в накинутом на плечи тулупчике, ткнулась к тяжело поднимавшемуся навстречу мужу, охнула:
— Долгонько чаво-то ноне, Митенька?! — по-волжски окая, торопливо спрашивала она, заглядывая в глаза. — Вчерашней ночью еще ждала. За мясом приезжали мужики из Междуреченска. С ними Иван Климов… Ночевать не оставила… Тыщу рублей привезли. Бает, что еще подъедет. А еще…
— Правильно сделала. Нечего тут объедаться! — прервал с похвальбой жену Фролов. — Ну, а еще чего?
— А еще Витя письмецо прислал…
— Вон че?! — удивился Фролов. — Сколько лет, сколько зим. И че пишет?
— Деньги на памятник матери выслал…
— Спохватился! Сами уж давно справили! Отписала?
— Сам отпишешь.
В сенях Фролов снял с гвоздя ключи от амбара, привлек жену к себе, любовно похлопал по спине.
— Иди, Грунюшка, в дом… Не мерзни. Стол застели и выпить поставь. Угорели в дороге… Детва спит?
— Спят. Все ждали папку.
— Ну и хорошо! Мы скоро управимся…
Младшенький из семейства Фроловых, Дмитрий, ведавший Атамановским сельским потребсоюзом, обличьем и характером удался в отца. А уж на старшего братца Василия был похож один к одному, как срисованный. Рослый, широкоплечий, правда, не как Василий, немного трусоват. Ну да!.. Жизнь стращала… Насмешливо рыжие глаза всегда смотрели на собеседника с превосходством. Да и характер был тяжелый, как кувалда, с вывертами, а когда напьется, то становится тише воды и ниже травы, не в пример Василию. Тот сатанел от выпивки. Ну а прижимистость и вороватость, видать, досталась от шарыгинского корня. Хотя и отец, работая в заготскоте, не брезговал тем, что плохо лежит. Правда, придерживал себя, помня, что он из славного казачьего рода. Но жили богато! Что до войны, что после. Первыми были на селе, конечно, не считая председателя сельсовета и начальника поселкового орса.
После того несчастливого для Фроловых года, когда неожиданно и быстро порушилась их крепкая и зажиточная жизнь по вине Василия (так считала вся родня, отказавшаяся от страха перед властями принять в свои семьи двух братьев-сирот), братья-погодки были отправлены в Красноярский специальный детский дом, созданный еще в тридцатые годы для «осколков», где воспитывались до совершеннолетия. Быть бы им впоследствии ссыльными и валить лес где-нибудь на Соре, но к тому времени вышла всем амнистия, не только взрослым и ворам, но и детве, наполняющей до отказа детские тюрьмы, спецдома и детприемники…
Красноярский детский дом стоял высоко на глинистом яре над полноводной в этих местах Бересенью, как крепость, запирая серыми каменными глыбами бывшего мужского монастыря подходы с правобережья, лугово уходящего к синеющим вдали горам. Старые мшелые стены монастыря укрывали от посторонних глаз внутренние дворы, где неистово муштровали воспитанников, выбивая из детских душ дурь, вражеские и воровские гены. Жили Виктор и Дмитрий вместе в одном отряде, хотя младший учился на класс ниже. Тайно помогал братьям политрук этого учреждения, когда-то стыковавшийся со старшим Фроловым, скупая в заготскоте всякую обрезь за бесценок, а навар делили пополам.
Общежитие первого Краснознаменного отряда располагалось в бывшем молельном зале монастыря. Под высокими сводами стояли рядком кровати, словно в строю, а на белые квадратики «гробиков» смотрели скорбные лики святых, еле-еле проглядывающие сквозь вековую пыль…
Учился Дмитрий ни шатко ни валко, словно отбывал срок на уроках. Не любил надзирателей и учителей, а больше всего ненавидел он эти высоченные стены. С такими же сорванцами Дмитрий частенько убегал на волю, проделав под северной стеной лаз через подвалы, где были свалены в кучу иконы, кресты и старинная утварь бывшего монастыря. Дмитрий быстро смекнул, что иконки эти на досках и медные кресты можно сбыть старьевщику на местном рынке. Так и поторговывала пацанва подсвечниками, кадилками, иконами и всякой всячиной, пока в подвалах не осталась только гниль. Знающие толк в старине люди платили хорошо, но хлам уже никого не интересовал. А вкус к дармовым деньгам азартен и в ход пошли простыни, одеяла из спален, бушлаты. А когда милиция подловила одного из воришек, Дмитрий приутих. Где-то перед самым выпуском свела его судьба с браконьерами. Банда рыскала не только по уральским таежным урманам, но и делала набеги за хребет, хищнически истребляя косуль и сайгаков в казахстанских степях…
Виктор, в отличие от хулиганистого и драчливого брата, больше всего походил на мать. Рассудительным с детства был не в меру, прилежным в работе, а уж в учебе преуспевал лучше всех. Старший воспитатель, по прозвищу Бобон, из-за чиряков, поселившихся на тощей шее, отчего носил голову криво, бывало, говорил воспитанникам, накачивая умы по-военному:
— Смирно! Учитесь у Виктора!.. Строен, силен и прилежен! Я бы вас в разведку не взял, — намекал он на короткую службу в хозвзводе в Тоцких лагерях. — А вы что?! Охломоны?! Подметалы!.. А у тебя, Дмитрий, пример налицо!.. Так себя будешь вести, ждет тебя тюряга с нарами и небо в клеточку…
Как в воду глядел воспитатель! Виктора чуть ли не с выпускного вечера призвали в армию, а Дмитрий, как плохо воспитуемый парень, был забракован и угодил в ремеслуху, готовившую плотников для колхозных строек. А в армию он и не рвался, но перспектива работяги его не радовала. И подался он к браконьерской братве: ловил осетров на Каспии, торговал икоркой на волжских пристанях. Но когда «рыбачков» прихватила рыбинспекция, сумел улизнуть на родину. И тут не остановился, привыкнув к дармовым деньгам. И к тому времени, когда Виктор заканчивал службу в мотострелковом полку, накатавшись на броне боевых пехотных машин вдоволь по казахстанским степям и пустыням, Дмитрий оказался на нарах в Красноярской капэзухе, этапированный из Челябинска, где он вместе с подельниками устроил перестрелку в Светловском заказнике с егерями, подловившими воров на отстреле косуль. По тем временам за вооруженное сопротивление властям грозил немалый срок, вплоть до вышки. Дмитрий не на шутку струсил, когда принялся выбивать из него дознание злой и жестокий капитан, знавший еще старшего брата Дмитрия Василия. Тут и вспомнились все байки Шарыгина о прелестях и невзгодах лагерной жизни. Всплыли в уме и редкие плаксивые письма брата, с трудом доходившие до интерната с лесоповала.
— С одной яблоньки плоды! — зловредно усмехаясь аскетичным лицом, вкрадчиво говорил следователь, пронзал скалистыми глазами Дмитрия, сидевшего на холодном железном стуле посреди дознавательной камеры с серыми бетонными стенами. «Сейчас вломит, ментяра!» — вертелось в воспаленном мозгу. — Дружки на тебя валят, — продолжал следователь еще суровее. — Ты подстрелил Веселова?! Ну признавайся!.. А то!.. — следователь извлек из-под стола плотный резиновый шланг, погрозил. Фролов похолодел и завизжал:
— А-э-а!.. Не я это!.. Не видел!.. Врут все, гражданин следователь!..
— Врут, говоришь?! — уже спокойнее произнес следователь. — А ты трус!.. Не чета братану… Но тот хоть и воровал по-крупному, но на мокрое дело не шел. А ты влип по уши и дотянулся до вышки… Ты понял, пентюх, что тебе грозит. Стенка!
Дмитрий тихо сполз со стула на пол. После этого допроса он три дня не слезал с параши. Сокамерники прозвали его поносником. Но на следующих допросах он, как и ранее, на себя ничего не брал и подельников не оговаривал, помня наказы: «Пикнешь — рой себе могилку!» Длилось это до той поры, пока к нему на свиданку каким-то образом не пробрался Шарыгин. Дядька выслушал сбивчивый и плаксивый рассказ племяша, посоветовал со злобой:
— Ты че-е-е делаешь, урод?! Залетел, так колись! Егерь-то помер… Понял?! — торопливо шептал Шарыгин, косясь на надзирателя, поигрывающего возле железной двери связкой ключей. — Тут махра и совет на газетке… Мне следователь сказал, что ежели ты расколешься и высветишь всю малину, то вышкарь тебе не грозит! Посидишь лет пять… Умнее будешь. А может быть, пинкарем вылетишь отсюда. Думай!.. Такая масть человеку редко выпадает. А тебе сама в руки идет. Или у стенки хочешь постоять?
— Нет! — чуть не крикнул Дмитрий.
В маляве все сказано… Торопись, а то в область отправят, а там уж не подмажешь…
— Пришьют меня мужики!
— Ну это еще как глянуть? Пан или пропал… Выбора у тебя нет, Митя!
— Шарыга, кончай базарить, — бас надзирателя вспугнул беседующих родственников. — Скоро смена…
Дмитрий не избежал суда. Топил подельников везде по-черному! Пока он плавал в мутных омутах, зарабатывая себе жизнь и условные пять лет чистосердечным признанием по наущению Шарыгина, Виктор демобилизовался из армии, но на родину не захотел ехать. Встречаться с братом-уголовником ему не хотелось, да и партийная совесть не позволяла. И он сменил военную форму на милицейский мундир, заняв беспокойную должность участкового на огромной территории целинного совхоза, равного площади всей Франции, созданного неподалеку от бывшего Карлага, вдобавок соблюдая законность в старинных поселениях казачества Красная полянка и Спасск, соблюдающих традиции вольницы. Забот хватало. Помимо приехавших со всего Союза целинников, рядышком окопались бывшие зэки и ссыльные, перемешавшись с вольнонаемной охрой, служившей верой и правдой много лет в лагерях, а теперь за ненадобностью кинутых. Вершил службу Виктор Фролов жестко, но справедливо, плохо еще зная и понимая нравы преступного мирка, царившего в этих степях, больше надеясь на свою силенку да удачу.
Осенью тысяча девятьсот шестидесятого года он накрыл на месте преступления большую банду из Спасска, терроризировавшую казахов, угоняя их отары за пределы Казахстана и там по частям распродавая скупщикам из заготскота. За мужество и сообразительность Министерство внутренних дел наградило Виктора именными часами и путевкой в один из крымских санаториев. Правда, воспользоваться отдыхом на пляжах Ялты ему не удалось. Оставшиеся на воле бандиты устроили засаду на удачливого старшину, подкараулив его в глухой степи, когда он возвращался на своем мотоцикле из Долинки на головную усадьбу совхоза. Возле небольшого соленого озерца, заросшего по низкому берегу редкой стеной камыша и осоки, его поджидали. Рыжие метелки тростников, как хвосты диких рыжих котов, жутко оравших ночами в тугаях, извивались на ветру, шебурша и плотно прикрывая посторонние звуки. Вдали, за озером, по целинной супеси, высвечивали осеннюю зябь фарами трактора, плывущие в темноте, словно корабли по бесконечному морю. Натянутая над проселком веревка, мягкая от только что прошедшего дождя, хлюпко ударила по ветровому стеклу, соскользнула вверх и сбила с головы фуражку. Фролов инстинктивно приник к рулю, потянулся к кобуре за пистолетом, поняв, что это засада, и в это время полыхнуло громом из-за куста. Первый выстрел прошел картечью над головой, вторым обожгло бок. И он уже не слышал выстрелов и не видел, как его расстреливали почти в упор из охотничьих ружей. Сквозь бред и боль все же услышал: «Сдох! Мотаем!»
Виктор Фролов остался жив только благодаря трактористам, нашедшим его, истекающего кровью, на белом от соли бережке озерка. Тот еще был в сознании и принял своих спасителей за бандитов, выпустив по ним всю обойму.
— Свои, дуролом!
Из бедра и груди хирург военного госпиталя в Караганде извлек одиннадцать свинцовых картечин. Провалявшись больше двух месяцев на госпитальной койке, выжив на удивление всем, Фролов в звании лейтенанта и с медалью «За отвагу» на лацкане новенького кителя, вернулся в свой отдел и возглавил борьбу с бандитизмом. Вот тут-то и проявилась фроловская натура. Способный от рода к мщению, ощущая еще пронзительную боль в теле от тех ружейных выстрелов, что грохотали над ухом, словно ураган, носился по району. Вышколенные за полгода бойцы спецотряда шныряли по степи, как волки, наводя страх не только на конокрадов, но и на рецидивистов, организованных авторитетами в бандитские и воровские шайки, осевшие по поселкам после бериевской амнистии в пятьдесят третьем году. Браконьеры, промышлявшие на диких степных козлов и сайгаков, загнанных пашней в неудобные для проживания места, испятнанные голыми солончаками, приутихли и грозили:
— Кончать надо!..
До Виктора доходили бандитские угрозы, но он не утихал. Поприжал сборщиков наркоты. Ночами по отрогам и лощинам полыхали заросли индийской конопли и мака, сгоняя сборщиков дури с насиженных мест, питавших подогревы в зонах с давних пор. Анаша и опиум-сырец полезли в цене. Законники выли на зонах: «Замочить падлу!»
Дерзко и смело нес службу Виктор. Желающих подстрелить ментяру было много, но все обходилось, и победы были на стороне Фролова. Вновь наткнулся на пулю Фролов в городе Темиртау, где начал возводиться крупнейший по тем временам металлургический комбинат. Город, не рассчитанный на огромный наплыв людей, приехавших сюда добровольно по комсомольской путевке и по вербовке, распухал, как гнойник, вот-вот готовый прорваться. Чья-то дурная голова, а может быть по вредительству, кинула клич и пошло-поехало российское батрачество, рассчитывая на длинные рубли. Но все упиралось в бесхозяйственность и равнодушие чиновников. Город рос! Палатки, палатки по песчаному косогору, а в нем, как норьк, чернели чревом землянки, за бараки еще не брались. Все загажено! Прижимали людей болезни, голод и безработица, чем, не мешкая, воспользовались преступные элементы и всякая воровская шушера, лепившаяся всегда туда, где нет хозяина. Не зря русская пословица гласит: «В распертые двери — лезут все звери».
Бунт спровоцировала у палаточного городка группа развязных молодых людей, когда в очередной раз привезли ржавую протухшую воду, непригодную для употребления. Люди, вооружившись чем попало, смяв жиденький заслон местных милиционеров, лавиной двинулись к горсовету и горкому партии. Власть перетрусила и долго бездействовала. Уголовники воспользовались этим и, пока народ орал на площади, бросая камни в окна государственных учреждений, принялись громить магазины, склады и квартиры. Ситуация с каждым часом становилась угрожающей. Мародерство приняло огромные масштабы, и только тогда руководство городом опомнилось. На подавление беспорядков был кинут полк солдат внутренних войск, пока еще расквартированных в бывшем Карлаге, и срочно перебросили отряд особого назначения Виктора Фролова из-под Марьинского, где он мотался в районе Сарысу, поджимая наркокурьеров, шедших тайными тропами на север.
Уже закончились рукопашные схватки на улицах города, а «воронки» умчали повязанных зачинщиков прямым ходом по застенкам, примкнувших к восставшим работяг пешим ходом гнали, как баранов, в степь, где уже успели натянуть колючку, опутав сухую балку, безводную и заросшую верблюжьей колючкой, трупы увезли в неизвестном направлении, подобрали раненых, вот тогда-то и нашла пуля Фролова…
Солнце уже давно зашло за безлесые холмы. Усталые спецназовцы делали перекличку своих бойцов. Выстрел прогремел глухо с крыши дома, стоявшего напротив городского управления внутренних дел. Виктор, куривший возле автомобиля, сразу переломился в поясе и, скрючившись, опустился на землю. Поначалу все оцепенели, а потом кинулись к командиру. Тот окровавленной рукой показал бойцам на дом.
— Там!.. — и потерял сознание.
До утра бойцы отряда обшаривали весь город, но стрелявшего не нашли.
И вновь Фролов выжил, хотя пуля снайпера, пробив каску, застряла в черепе. Видать, не суждено было ему погибнуть от руки бандита. Потом, в разные годы, он еще много раз был на грани смерти, подавляя беспорядки в Алма-Ате, Усть-Каменогорске и в Рудном, всякий раз получал горячую метку. Друзья говорили:
— Ты, майор, заговоренный!.. И награды сыпятся…
Весной тысяча девятьсот семьдесят первого года, после очередного ранения в Таджикистане, он наконец-то появился на Урале, в родной Атамановке. Дмитрий, младший брат, к тому времени уже увернулся от всех напастей, шедших с юности, остепенился, завел семью, но продолжал незаконно промышлять в тайге зверя, спарившись с родственничком Шарыгиным, старым вором. Встретили Виктора как героя. А он раскатывал на новеньком «Москвиче», подаренном ему Министерством внутренних дел Казахстана за особые заслуги, щеголял в новеньком кителе с заслоном орденов и медалей на груди, смущая местных красавиц, купаясь во славе по полной, запросто входя в круги районной элиты. На вечеринке, устроенной не без расчета начальником районного отдела государственной безопасности Пыльновым Андреем Алексеевичем, Виктор был сведен с дочерью Пыльнова Ритой. Слава гулены уже давно вилась за ее шикарной юбкой, соблазнительно обволакивающей ее стройные ножки. Яркая блондинка с глазами-океанами, где утонула не одна мужская душа, не торопясь, со знанием дела окрутила геройского майора. «Прибрала Ритка мужика! Заарканила!.. — завидовали бабы. — Гулящая, а такого мужика отхватила! Ишь, вертит задом, как кобыла!.. Тьфу!.. Шалава-а-а!» Мужики и парни языки не распускали, хотя было о чем рассказать счастливцу, опасаясь длинных и жестких рук кагэбэшника. Так, втихаря, поговаривали возле пивнушки:
— Подвалило счастье майору! — язвили мужики. — Липучка! Еще спохватится!..
Виктор Фролов изменил, свои планы и не поехал на юга, а использовал отпуск полностью на родине, наслаждаясь неожиданно вспыхнувшей любовью. На фоне уральской природы это чувство еще больше разгоралось, до боли в груди давило страстью.
— Ты мое счастье! — шептал он в маленькое ушко женщины, стоя в обнимку на плоской вершине горы Шоломки. Сквозной ветер, дувший с юга, по волосинке распускал мягкие и пахнущие ромашкой волосы Риты, улыбавшейся сдержанно и в то же время загадочно, неся в своей головке смутные мысли. Эта загадочная улыбка и молчание еще больше ворошили душу майора, забывшего про свои нелегкие дела, про жизнь там, в Казахстане. И домогался он ее с опаской, сдержанно проводя ладонью по чуть выпуклому животу, теплому и вздрагивающему. Но Рита решительно отводила настойчивую руку майора, говорила игриво:
— Поженимся — тогда! Витенька!.. — дышала в лицо горячо.
Поженились они перед самым отъездом. Пыльнов, понимая, что пройдут золотые деньки, а Фролов окунется в свои дела, то дочери не сдержать свой неуемный темперамент в отсутствии мужа, и на новом месте найдется дружеская поддержка. Пока он будет мотаться в горах и в степи, вылавливая браконьеров, преступников и беглых, западет на уральскую красавицу какой-нибудь местный ловелас. Отведя дочь в стройку, жестко взяв ее за локоток, говорил сурово, глядя в шалые глаза, выдававшие ее порочность:
— Гляди, Ритка! Виктор не тот мужик, что спустя рукава будет глядеть на твои шалости. Пристрелит… Да и я тебя не прощу, если ты упустишь такого человека по своей дурости! Узнаю…
Рита сморщилась, вырвала локоть, проговорила со злобой, сузив большие глаза:
— Хватит учить меня! Ты думаешь, что рвусь я в этот Казахстан из-за большой любви. Да надоели вы мне со своими наставлениями. Поглядим, а Виктор меня любит! — она тряхнула головой и вошла в вагон…
2
В замороженном иссиня-черном небе, по далекому, рваному горизонту, там, где дико оскалились горы Кара-тау, уползающие горбом динозавра к поднебесью Тянь-Шаня, медленно плыло к закату большое желтое солнце, купаясь в обрамлении радужных сфер, выжатых из космоса чудовищным холодом. Хорошо, что нынче степь забелела глубокими снегами еще по осени, по теплой мокроте, а то бы повымерзали целинные озимые и фруктовые сады, любовно разведенные вокруг голого Марьинского директором целинного совхоза Брянцевым Сергеем Осиповичем в местах страшных карьеров. Засыпали навечно косточки усопших и убиенных тут каторжан почитай года три-четыре десятками бульдозеров породой из отвалов, вынутой из чрева вручную и поднятой на гора тачечками. «Господи! — крестились пришлые целинники, глядя и не веря. — Это сколь же пота и крови тут пролито?! А слез и горя?!»
С середины октября ветры, дующие все время с запада, после обильных дождей, что бывает редко, принесли небывалые снегопады, в неделю укрывшие желтые пески Маюнкума, годами пересыхающие в суховеях от безводья. Сарысу после осеннего разлива не успела войти в берега и зазвенела низменной наледью за одну ночь, успокоив до тиши Синегорские пороги. Внезапные сорокаградусные морозы прошили льдом реку до дна, взрывая ее многометровыми фонтанами, расширяя ледовые поля, подтопляя тугаи, разросшиеся неимоверно по обоим берегам с того дня, как только в Марьинское пришел газ и рубить хворост на топку перестали.
Василий Барыкин, постаревший и погрузневший, вернулся домой с железнодорожного перегона промерзший до костей и усталый до предела, когда опаленное солнце, лизнув ширь степи малиновым языком, поспешно нырнуло в сирень заката, облитого по краям оранжевым леденистым пламенем. Весь прошедший день на лютом морозном ветру они с бригадой путейцев меняли рельсы, лопнувшие не то от старого заводского брака, не то от холода, сковавшего все в округе до звона.
Жена, заслышав под окнами, затянутыми паутиной измороси, тяжелые и размеренные шаги мужа, встретила его у порога с тихим укором:
— У-у-у, батюшки!.. Заледенел-то весь!.. Поди, и людей поморозил. Скидай все быстрее!.. Да к печке… Давай, помогу…
Она тонкими ловкими пальчиками живо расстегивала заиндевелые в тепле латунные пуговицы военного бушлата, подстеганного рыжей овчиной, поглядывала на улыбавшегося по-детски мужа с легкой тревогой, сурово прищуривая черные глаза, окантованные тонкими стреловидными бровями.
— Рельса, как струна, лопнула! А менять на таком морозище — это тебе не кашу варить… Так вот, Розонька!
— Ну, ладно! — подобрела она, проведя теплой мягкой ладонью по щеке мужа. — Жалко, вот погреться-то тебе нечем. Может, к Машке сбегать?!
— Валяй! — тягуче и громко зарокотал Барыкин отогретыми губами, суча промерзшими валенками по крашенному желтой охрой полу, пытаясь их снять. — Вначале помоги… Примерзли они, что ли?!
Валенки ледышками шмякнулись на пол. Роза отдыхивалась, накидывала полушубок. Проводив жену, Барыкин взялся умываться, благо вода была горячая из газового титана и ванна. «Для че она мне?! — размышлял Барыкин. — Баня есть… Детишки баловались, а теперь выросли и разлетелись, как скворчата!» Да, после того как дети разбрелись по белу свету, в доме стало скучно и пусто, как в былые времена, когда жил тут бобылем, работая на зоне. Те дни давно уж канули в вечность, а сейчас опять прилипла скука. Поэтому дневал и ночевал Барыкин на своей железке, со страхом думая о близкой пенсии. «Турнут с дороги, чего делать буду, куда подамся?! — брызгал он в лицо водой. — А-а-а, нет! — успокоил он себя, может, ледяная вода подействовала. С мороза горячей нельзя… — А работать-то кто будет? Сейчас все норовят улизнуть туда, где полегче да вольготнее. А тут привязан к шпалам да рельсам…»
Растирая до красноты широкую шею махровым полотенцем, встал перед овальным трюмо, вокруг которого в рамках висели фотографии родни и детей. Особенно задержался на детях. Первенец! В летной форме, с погонами лейтенанта на широких плечах, стоял среди выпускников Омского вертолетного училища. Сейчас подполковник… Быстро подрос званиями в Афгане. Такой же рослый и сильный, как отец, он возглавлял правый фланг и резко выделялся среди однокурсников. «Как в кабине умещается? — ухмыльнулся Барыкин. — Ему бы гаубицы таскать!.. Я тоже правофланговым был!.. Барыкин надолго задумался, вспоминая свою службу, войну, потом вот здесь, в каменоломнях. — Судьба! Кидала она меня в ямы и в чисто поле!.. Катала по степи, как верблюжник! Барыкин с трудом оторвал взгляд от широкого лица сына, перевел медленно на дочь. Больше всего он гордился своей любимицей и умницей, схожей статью и лицом с матерью. Перемешалась татарская кровь с русской да выдала красавицу, какую не сыщешь по всей Азии. Настена — ученая, растениевод, доктор наук в двадцать-то с небольшим лет. Об ее опытах с хлопком на землях Узбекистана писали даже в центральной газете. Мать бережно хранит вырезки в семейном альбоме. А вот внуков-то Барыкин так и не дождался еще, даже обижен был, когда Олежка заявил, приехав на короткую побывку в Марьинское: «Какие дети, батя?! Я уж два раза горел и чуть в лапы не попал к духам! Ладно, Ястребок, рискуя жизнью своего батальона, отбил!..»
Больше об этом Барыкин не заикался. Настена, так та посмотрела на него, как на чудика. Барыкин с полгода раздумывал над жизнью нынешней молодежи: «Бывало, торопились обжениться да детей нарожать. Хотя, я сам… Но я Розу ждал!»
Заговорил он с женой об этом только тогда, когда наконец-то удалось вырваться в отпуск, раздобыть путевки и махнуть в Крым. Роза давно толкала его на это. Жизнь катится, как колесо, а бабе хотелось хоть глазком глянуть на далекую родину, уже полузабытую, но в сердце оставленную навсегда. Крымчане, сосланные после войны в Казахстан, оттрубив положенные ссыльные сроки, еще при Хрущеве, получив разрешение, неспешно, с опаской, семья за семьей трогались в дальний путь, в неизвестность, обещая прислать весточку о житье-бытье, как только устроятся. Но в письмах утешений было мало. А потом и вовсе замолчали. Уехали и как в воду канули! До кончины матери у Розы мысли еще теплились, а с уходом последнего родного человека как-то иссякли. И уж не манила к себе земля предков. Напоследок мать, уже лежа на смертном одре, с трудом прошептала: «Не мучай себя более, дочка! Видно, не суждено!.. Живи и помни…» Но Роза стала забывать. И только тогда выплыло детство из далекой туманной невиди, когда они сели с Василием в поезд. Как-то сразу ей показалось, что жизнь, в которой она жила до войны, в оккупации и в Казахстане, не уходила, а была рядом. Барыкин заметил беспокойство в глазах Розы, оглядывающих перрон, где шумно лезла в вагон детвора, отправляющаяся на отдых в «Артек». Он подумал, что Роза сожалеет о тишине в доме без детского шума, поэтому и скатываются слезинки по ее щекам.
— Да-а-а! Застоялись Олежка и Настена! Ну, ничего! Будет и в нашем доме внучатый писк!.. Попомни мои слова… — Он ласково обнял жену, пытливо глянул в лицо, добавил: — Радуйся!.. Через четверо суток Крым-пески…
— Кончился бы уж скорее этот Афганистан! Душа вся изболелась…
Василий смыл с лица улыбку, шевельнул желваками скул, твердо сказал:
— Кончится! Скоро кончится… Замирятся… Да и Олежка наш не лыком шит! Не пропадет. Давай-ка мы на дорожку тяпнем наливочки. Брянцев мне удружил. Пока, говорит, доедешь, пересохнешь весь.
Барыкин достал из сумки бутылку из-под шампанского, медленно разливал по стаканам, радовался:
— Вишь, вишенка-то играет! Брянцев стращает, что добудет за любые деньги виноградаря и вырастит тут лозу…
Поезд тронулся. Роза проводила взглядом Марьинский перрон, сказала задумчиво:
— Померзнет, поди?!
— Про сады тоже так говорили. А смотри, сколь в прошлом году яблок и вишни было?! Груши, правда, померзли. Ну, за путь-дорожку! Брянцев всего добьется!..
— Крепкая, поди, — Роза боязливо коснулась края стакана, но потом, по-доброму улыбнувшись мужу, выпила.
Вместо четырех тряслись до Симферополя шестеро суток. Ладно, Василий сумел пробить в управлении место в командирском купейном вагоне на два человека, а то бы окочурились за дорогу. Роза всю дороженьку, пока не садились сумерки на чужую землю, просиживала у окошка, как могла припоминала путь, виденный тогда сквозь проволоку, колючками опутавшими маленькие оконца краснух-телятников, но вспомнить ничего не могла. Даже Симферопольский вокзал с новым пристроем, шумный и полный отпускников, она не признала. А уж когда приехали в родное село Раздольное, Роза разочарования скрыть не могла. «Господи! Как все изменилось за годы?!» Покидали они тогда село, раздрызганное войной, утонувшее в грязи, в сырости и в отчаянном всплеске людских душ, покидавших родную землю, может быть, до скончания века. А сейчас цветущий городок, аллеи каштанов, толпы отдыхающих в скверах и парках. Они до вечера бродили по улицам, искали дом, где жили Умеровы, но на том месте раскинул свои корпуса санаторий, весь в буйно цветущих розах и акациях.
— Да никого искать не надо, — поджав губы, проговорил Барыкин, выискивая глазами, где бы хватануть холодного сухого винца. — Поехали в Евпаторию… Отдохнем и в Казахстан…
Дорога широкой асфальтовой лентой, блестевшей на солнце зеркально, бежала к морю через голые склоны Тарханкутской гряды. Все оказалось незнакомым. А помнится, еще до войны, когда была малышкой, отец возил на конной бричке всю семью в город-курорт к родне по пыльному каменистому тракту, будто перепаханному огромным плугом…
И все!.. Не стала Роза искать тут связей с бывшими ссыльными. Накупались вдоволь в теплом море, подлечились и домой…
Барыкин с трудом оторвался от воспоминаний, стал деловито собирать стол. Все в поселке знали, что у Машки можно добыть любую выпивку. Богатенькая стала бабенка, уж все реже и реже вспоминала своего дорогого Марьина, упокоенного на огороде в обихоженной могилке, придавленной камнем. Время вставало между ними неумолимо. А Роза вое так же легка на ноги, как и в молодости, что-то подзадержалась у соседки.
— Рассплетничались! — проворчал он, медленно и с неохотой одеваясь. Выходить на мороз ему очень не хотелось. — Кишка кишке бьет по башке… А тут!.. Кажется, Паляй вчера приезжал. Жалуется, поди, что он сынка к воровскому делу пристроил. Ну, да! С кем поведешься — того и наберешься. Пройдоха вырос! Весь в отца да и, пожалуй, выше прыгнет…
У окованных ворот Марии Марьиной дорогу Барыкину преградил низкорослый первогодок-милиционер, одетый в модную ныне камуфляжную форму и с автоматом на груди. «По следочкам Паляя приехали!.. Сорокин, наверное? Все не успокоится и рыщет, как волчара!» — подумал Барыкин и спросил у милиционера:
— Ты чего, — Ромка, тут ошиваешься да еще с Калашниковым?
— Дознание с обыском делаем, — важным тенорком пропел тот, поправляя шапку. — Накнокали наркоту… Тетка Маша повязана…
— Серьезное дело пришили, — перебил его Барыкин. — Ты подвинься с тропки, а я пройду.
— Не положено!.. — взъерошился было Ромка, но не успел моргнуть глазом, как очутился под забором в сугробе.
— Да я!.. Да я!.. — захлебывался от злости парнишка, живший за прудом. — Стрелять!..
— Отдохни малость!
Барыкин, тяжело топая, пошел к крыльцу, давя подошвами валенок морозную кроху, взбитую коваными ботинками милиционеров. «Видать, много народу?!»
В раскрашенных морозными узорами окнах горел свет и слышались мужские голоса. На резкий звук примороженной двери в избе все обернулись, насторожились.
— Свои! — добродушно пробасил Барыкин, разом окинув помещение, забитое людьми и табачным дымом. В переднем углу, прямо под старинными образами, прижавшись к друг другу, сидели испуганные Роза и Мария. У Марии взгляд был вымученный и страх сковал тело. По полу раскиданы вещи. Дубовый массивный платяной шкаф, приобретенный еще живым Марьиным у ссыльных краснодеревщиков за бесценок, сиял черной пугающей пустотой. На столе куча документов и фотографий. Тут же поблескивали ордена и медали покойного мужа. У порога, где потягивал ветерок в дверные щели, на табуретке прел начальник поселкового отделения милиции в синей шинели, подбитой лисьим мехом. Страх и жара выжимали из тучного тела последние соки. Во рту наждак, а мысли скачками мчались, охваченные запоздалым раскаянием в мозгу: «Дурак, позарился!.. А ежели Машка расколется, что я в деле, то мне кранты!» Начальник не брезговал брать по-малому и по-крупному, а Петр Паляев ходил по Марьинскому открыто, проталкивая наркоту по всем направлениям.
— Ну, так что, товарищ Марьина?! Будем и дальше запираться! — устало допытывался у еле-еле живой женщины подполковник Сорокин, бывший сослуживец Барыкина по спецотряду. Настырный и жестокий Сорокин посмотрел на вошедшего Барыкина холодно. В его серых глазах стыла давняя обида. — А ты чего, Вася, приперся?
— Как чего?! — удивленно ухмыльнулся Барыкин, проходя вперед. — Жену задержали, а я без ужина сижу… Пошли, Роза…
— А ты кто такой тут командовать? — рыжеватый незнакомый майор впился в лицо Барыкина суровыми зрачками. — Выйдите вон!
Барыкин недобро ухмыльнулся. Сорокин заметил, как ссучились огромные кулаки Барыкина, поспешил встать между ними.
— Погоди, Фролов. Это Барыкин… Служили вместе. Помнишь, я тебе рассказывал? Знакомься… Здорово, что ли?!
В это время за спиной Барыкина выросла в дверном проеме испуганная мордочка Ромки, оскорбленного таким отношением к себе.
— Товарищ подполковник…
— Потом, Киселёв! — сморщился начальник милиции, вытирая мокрым платком обильный пот с лица. — Не путайся…
— Но!..
— Шагом марш!
Милиционер вывалился за дверь.
— Ну, здорово, — Барыкин с неохотой пожал руку Сорокина, а тот деловито заговорил:
— Присаживайся, Вася. Понятым будешь… Тут вот товарищ Фролов паляевские следы давно приметил. Помнишь, наверное, паханка по Карлагу да по Яме? — он хитро сощурился.
— Ну?! — Василий не до конца понял намек.
— Этот гаденыш тут где-то крутится и сюда заходит проветриться. Сожительница!.. Сынок у вас совместный, молоденький Паляйчик, тоже по тропе ходит!..
— Не знаю я никакого Паляя! — устало проговорила Мария. — А сын… от моего погибшего мужа. У кого хотите спросите, — она с надеждой посмотрела на начальника поселковой милиции. — Антон Петрович не даст соврать.
— Не замечалось, — просипел тот, совсем потеряв голову. Синие льдинки глаз Марии прокалывали насквозь. «На пенсию надо было давно уйти!.. Домик-то конфискуют, ежели дознаются, на чьи деньги вырос… А Машка ушлая!.. У муженька-то сколь лет ростков не было…» — простреливала мысль майора Наседкина, закончившего два класса и три коридора. Рос в звании он медленно да благодаря ссыльным, за которыми устанавливал жесточайший надзор, отправляя в Яму за малейшую провинность. «Ну ты и жила, Антон!» — удивлялся даже Марьин.
— Как так не знаем?! — настырно лез в душу женщины постаревший и какой-то сморщенный Сорокин. — А вот люди подсказывают, что наведывается к тебе Паляев…
Барыкин, присаживаясь рядом с женой, проговорил:
— Все еще не успокоишься?! — широкое лицо Барыкина тронула ехидная улыбка, и он гадал, чем все это кончится. — Паляй-то, наверное, как ты, Боря, постарел, а то и коньки где-то давно отбросил. С формуляра сняли, — он кивнул на блеклую фотографию, лежащую перед Сорокиным. — Старье… Даже раньше Ямы. Осторожен вор! И кто теперь признает… Говорят, сейчас запросто нарисуют лицо скальпелем, какое захочешь. Родная мать не узнает. Мимо стреляешь, опер!
На последнее Сорокин втайне обиделся, но виду не подал, а подумал с еще большей злостью на бывшего однополчанина: «Знает Васька все!.. И малину у соседки… А может, тогда и побег организовал? А что?!» Вслух Сорокин выразился сдержанно:
— Малина тут!.. Чую… А ты бы, Вася, заткнулся! А то и тебя притянем к этому делу…
— Да-да! — резко выкрикнул Фролов, все время приглядывавшийся к глыбистому Барыкину, ведшему себя уж слишком нахально. — Надо тебя тоже пощупать!..
Наседкин побледнел, зная крутой нрав бывшего опера. Роза ухватилась за дрогнувшую руку мужа, а тот, не почувствовав усилия жены, поднял кулак и погрозил опрометчивому майору, видевшему Барыкина впервые:
— А если я пощупаю, майор, то от тебя даже перьев не останется. Понял, вахлак?! Слышал я о твоих подвигах… Но на мне ты килу заработаешь! Пошли, Роза, домой… А Марию оставьте в покое. Она вдова орденоносца! Советую!..
— Все-все! — забеспокоился Сорокин, зная по опыту, что Барыкин запросто может устроить тут потасовку и шум на весь поселок. — Все свои!.. А ты, Вася, поосторожнее с заявлениями. Фролов вел след от самого Афгана…
Фролов, посверкивая глазами, курил возле порога, что-то горячо говорил Наседкину, тот согласно кивал головой, Барыкин тронулся к двери, Фролов неожиданно встал на его пути, прошипел:
— Еще увидимся!
— Ладно, Витя! Пропусти его… Протокольчик сами занесем. Гостей примешь? — Сорокин пытливо прищурил карие глаза.
— Ну, ежели ты все это конфискуешь, — Барыкин кивнул на батарею бутылок, выставленных из шкафа при обыске. — То милости просим. А то я что-то устал ныне…
— Не положено! — встрял опять Фролов.
— Берите, берите! — неожиданно ожила Мария, колыхнув потучневшим тело. — Берите!..
Через час Сорокин и Фролов, так и не добившись ничего от Марии, конфисковав выпивку, сидели в чистой и тесной избе Барыкина. Роза потихоньку ушла к Марии помогать прибираться после милицейского разгрома. Сидели одни мужики. Наседкин, слабоватый на выпивку, уже мычал на диванчике, все пытаясь дотянуться до руки Барыкина. Тот грубо отмахивался и, несмотря уже на бежавшие годки, как в молодости, пьянел медленно, словно дожидаясь, когда все полягут, внимательно прислушиваясь к развязавшим языки Сорокину и Фролову. Больше всех тормошился Фролов, не забыв обиду, не скрывая неприязнь к Барыкину:
— Какой ты бывший опер?! — гудел он, обшаривая остекленевшими глазами сидевших за столом. — Опер!..А по нашим данным, тот самый Паляй бывает у тебя. Кстати, кто-то ведь помог в давнее время совершить побег. А ты там служил! — он погрозил пальцем. — Бо-о-о-ог шельму метит!..
«Ох и повалял бы я тебя, майоришко!» — зло подумал Барыкин, а вслух глуховато и угрожающе проговорил:
— К чему клонишь, товарищ майор?!
— А что?!
Назревала нешуточная ссора. Сорокин, вздыбив черные густые брови, космато висевшие над помутневшими от водки глазами, остановил мужиков, уже готовых взяться за грудки:
— Тихо-тихо! А все же, по нашим данным, Вася, Паляй тут бывает, — вкрадчиво продолжал Сорокин. — Торговлишку наркотой всю держит от самого Хорога… Ты не знаешь, а нам выдалась удача. Сынка Марии мы взяли!..
— Ну-у-у-у! — Барыкин откинулся на спинку стула, покачал удивленно головой.
— Вот те ну! — продолжал Сорокин. — А ты-то отлично знаешь, что это Паляя ублюдок! Ты тогда, когда он рванул из Ямы, прихватив Ястребова, помалкивал и не больно-то усердствовал, хотя знал пути беглых, как и Марьин. А щенка-то без груза взяли… Сумел кинуть в Пянж!..
— А к чему это ты все мне поешь, а?! Уж не подозреваешь ли ты меня в чем-то? — Барыкин с ехидной улыбкой смотрел на пьяных собутыльников. — Березин мне все вопросики задавал, подкатывался. Времени-то сколько ушло, Сорокин?! — навалился на стол грудью Барыкин.
— Ладно!.. — Сорокин отвернулся, взялся за стакан. — Березин был настоящий опер. Помянем!.. А щенка расколем, а сегодня Марию возьмем. В области заговорит…
— Та-а-а-ак! — Барыкин поднялся, отнес пустые бутылки на кухню, постоял у окна, вглядываясь в темень. «Машку надо спасать!» Он вернулся к столу, распечатал новую бутылку, разлил по стаканам всклень.
— Ну, вздрогнули, мужики!
— Не-не, хватит! — повел рукой Фролов.
— Да вы чего?! Возьмете и Машку, раз Геночку притиснули…
— Споем?! — Сорокин выплеснул водку в рот, встал рядом с Барыкиным, обняв его за широкие плечи. — Какие наши годы… Успеем, Фролов! Повяжем!..
Барыкин спокойно отвел тяжелую руку Сорокина, проговорил равнодушно:
— Запевай, а я по нужде схожу…
Барыкин выскочил на улицу. Сквозь промерзшие окна вразнобой тянули пьяные голоса:
Раскинуло-о-ось море широ-ко! И волны…У калитки Барыкин столкнулся с женой, зашептал:
— Ты вот чего, — Барыкин притиснул жену к забору, оглядываясь на милиционеров, приплясывающих возле сугробов, — пусть Машка низами через огороды уходит!.. По тропке… Рыбаки проложили… Скоро автобус идет до Синегорки, а там на электричку и в Рудный! Да пусть не мешкает!.. Я их еще минут тридцать придержу. Давай!..
Роза, размахивая руками, побежала в дом Марии, а Барыкин вернулся в избу, подпел. Выпили еще, по-российски до капельки. Сорокин скрипел зубами, сжимал кулаки, говорил с пьяной злобой:
— Я не забыл, Вася. Ты помнишь, как меня кинули?
Барыкин, обгладывая баранью косточку, повел широкими плечами.
— А-а-а, сказать нечего, — злобствовал Сорокин. — Ежели бы не Паляй, я, может быть, академию бы кончил, как Харламов… Кинули меня!.. И Куракин все знал… Ты, мент поганый, — повернулся он к Наседкину, — веди сюда бабу!.. Погоди, я сам!..
Сорокин потянулся через спинку стула к валявшейся на полу портупее с кобурой. В темных глазах бессмысленная бель. Рядом зашевелился Фролов, толкая начальника милиции. Барыкин заиграл кистями рук, произнес угрожающе:
— Ну, это ты там разберешься, полковник Сорокин. Мой дом не сизо…
Вошла Роза, незаметно кивнула мужу головой, ушла на вторую половину избы. Барыкин повеселел, снова взялся за бараньи ребрышки. После выпивки у него всегда разгорался аппетит. Он прислушивался к гомону во дворе, глядя на то, как последним выползает Наседкин, оставив дверь открытой.
— Уехала? — спросил громко Барыкин жену.
— Проводила на попутку… Расхлябали, как дома! — Роза не успела прикрыть дверь, как Сорокин ввалился в избу, выкрикнул, потрясая пистолетом:
— Я понял!.. Собирайтесь! Оба!..
— А это видел?! — Барыкин сорвал со стены охотничий карабин. Глаза его потемнели. Видны были только горящие зрачки. — У меня не заржавеет! Вначале клади решение прокурора об аресте…
— Вон ты как?! — Сорокин попятился к двери. — Сопротивление властям!
— Ты еще не власть, — Барыкин спокойно повесил оружие на крюк, добавил без злобы: — Иди-ка ты к…, пока я тебя не вышвырнул!
— Ладно! — Сорокин сунул пистолет в карман полушубка, наклонившись, прошипел: — Ты еще у меня попляшешь, Вася!
— Иди, иди! — лениво отозвался Барыкин, присаживаясь за стол рядом с испуганной женой, прижал ее за плечи. — Успокойся!..
Сорокин, топча унтами, вывалился в сенцы, оставив дверь распахнутой настежь. Вскоре по поселку пронеслись две милицейские машины и на полной скорости помчались в сторону Синегорки, вздымая клубы снежной пыли и рассекая темноту пляшущими лучами фар.
* * *
Заснеженная и утонувшая в холоде степь уже начала розоветь. На востоке из-за белых холмов скупо прорвались короткие лучи восходящего солнца, уперевшись в тусклое звездное небо широкими голубоватыми раструбами.
В передней машине, уставившись в лобовое стекло, сидел за рулем сам Сорокин, злобно и нещадно придавливая газ до упора. Машину кидало из стороны в сторону по заснеженной трассе, словно по волнам. Желчь еще клокотала в Сорокине, горечь вязко сушила рот, смешиваясь с перегарным похмельем. «Урою гада! — неслись переметные мысли, разжигая еще большую ненависть к Барыкину, к Паляю да и ко всему роду человеческому, некогда стоявшему на его пути. — Дай только случай!..»
Рядом с Сорокиным трясся Фролов, его клонило в сон. Следом, едва поспевая, ехал со своими милиционерами Наседкин, ругая на чем свет стоит заезжих оперов. Вскоре с бугра показались огни Синегорки. Справа прятался в курже Говорухинский курган, прозванный в народе в честь похороненного опального генерала. За курганом машины сразу нырнули к водохранилищу и возле плотины догнали рейсовый автобус. Сине заиграла мигалка, булькающе взревела сирена, и автобус приткнулся к обочине. Пассажиры с испугом и тревогой косились на наглых милиционеров, бесцеремонно шныряющих по салону.
— Что за безобразие? — возмутился было высокий и худой мужчина интеллигентного вида.
Пассажиры зашумели, но тут же примолкли от окрика Фролова:
— Заткнитесь!..
Возле дверей плевался и визжал Сорокин:
— Ушла, сука!.. Она где-то в Марьинском! Барыкина бы тряхануть!..
Поиски в Марьинском не увенчались успехом. На другой день Сорокин с Фроловым еще раз встретились с Барыкиным в мастерской путейцев, среди железа и инструментов. Пахло креозотом и маслом. Барыкин выключил сверлильный станок и, поигрывая тяжелой латунной втулкой, глядя на офицеров исподлобья, раздельно проговорил, чтобы сразу поняли:
— Вот что, мужики! Зря вы возле меня крутитесь… Идем к тому, что власть скоро возьмут воры. Развелось мафии!.. А вы все за Паляем гоняетесь. Со стыков медь сымают и рельсы запасные пропадают. Паляй и раньше дурью руки не марал, а теперь шестерок завались, — Барыкин выразительно глянул на начальника милиции. Тот засопел и вышел на улицу, как будто покурить.
— Речи твои, Барыкин, враждебные, — зашипел на него Сорокин. — Заслуг у тебя много, а то бы давно залетел на нары. Раньше бы…
— Раньше я бы помалкивал в тряпочку, — усмехнулся Барыкин, ставя втулку под сверло, поглядывая на навостривших уши рабочих, возившихся возле дрезины, стоявшей на рельсах. В широко распахнутые ворота мастерской потягивал обжигающий морозцем ветерок, закручивал по полу поземку. — Мужики! — крикнул он. — Притворили бы ворота-то!..
Опера, поспорив еще с Барыкиным несколько минут, ушли. Когда машины отвалили на шоссе, к Барыкину подошел пожилой путеец, предложил папироску и спросил, кивая в сторону ворот:
— Че это они к тебе привязались? Даве возле твоего дома крутились и ноне?!
— Зайцев ловят, — отшутился Барыкин. — Ладно, ребята, загружай инструмент. Вертушка прошла и балласт насыпала. Надо кончать работу в распадке. Кто знает, когда эти морозы закончатся. А до оттепелей нам тянуть нельзя. Поплывут пути…
Вскоре дрезина выкатилась за стрелку и побежала к долинке, падающей в тугаи, где еще совсем недавно Барыкин охотился на диких козлов. Ныне тут людно и свободно. Давно уж нет путающей все склоны колючки, совхоз обработал земли до самого уреза Сарысу, приспособив их под огороды, снабжая овощами весь сельсовет. Барыкин уже в который раз вспоминал, как по лощинке, где сейчас проложена железная дорога, уходящая в Рудный, в шахтерский молодой город, построенный после того, как прикрыты были тут зоны, Петр Паляев и Алексей Ястребов бежали по промозглой сырости к камышовым зарослям, а он ждал их возле лодки. «Рисковый был совершен побег, — подумал он. — А я так и не знаю, что они чувствовали, когда лежали рядом с мертвяками в Яме, наблюдая потом с кромки карьера за расстрелом своих товарищей. Да-а-а!.. Ястребову были близкие друзья, а Паляю… Кто знает, может быть, и у пахана трепыхнулось тогда сердце. Только он молчит об этом».
3
Мария Марьина вернулась в Марьинское ближе к весне, когда вот-вот наступили оттепельские деньки, вместе с Паляевым Петром и сыном, вытащенным каким-то чудом с нар Хорогского СИЗО, где он томился под следствием с июля прошлого года за контрабанду наркотиков. Может быть, следователи не накопали достаточных улик и доказательств его виновности, а может быть, лохматая рука Паляя запросто выудила его из камеры. Приехали они на белой «Волге» с ташкентскими номерами в полночь, когда село уже заснуло под неожиданную февральскую капель, журчавшую с крыш совсем по-весеннему. Тепло, дохнувшее с юга, разом поглотило и слизнуло морозную изморось, и зашевелились по степи снежные пласты, ухая со склонов гор легкими лавинками. Люди удивлялись: «Раненько тепло грянуло! Как бы морозы в мае по голу не вернулись?!» И спешно окучивали яблоньки и груши в садах снегом…
Мария, с бьющимся от волнения сердцем, открыла дверь в нахолодавшую избу, пахнущую нежилым духом, мышами и сыростью, присела на холодный диванчик и, тяжело вздохнув, расплакалась. Родимое гнездо! Тут вся жизнь, а придется все кинуть!.. Могилку отца, эти стены и память, глубоко засевшую в сердце. Она только сейчас поняла, как тут все дорого. «Господи! — прошептала она. — Помоги мне осилить все!»
Петр Паляев, погрузневший и вальяжный, все еще в лоске, как подобает настоящему законнику, вершившему большие тайные и явные дела в воровском мире на широкую ногу, тихо заговорил, понимая состояние своей сожительницы:
— Ты, Маша, больно-то тут не рассиживайся. До света надо слинять… Собирай барахло… А я пока навещу мента, да и к Барыкину надо заглянуть. Много узлов не вяжи… Все у нас будет внове. С домом и могилкой позже решим.
— Как же так?! — развела руки Мария. — Прибраться бы… А кто за могилками присмотрит?! Ну, Миша на кладбище, там не тронут, а батя?! Дом растащат, могилку сроют. Народ ныне…
Паляй поморщился. Он не любил, когда она вспоминала своего бывшего мужа-вохровца.
— Летом выроем косточки Озера и похороним на московском кладбище с почетом, — проговорил нервно Петр и шагнул к двери, в которой встречно показался Геннадий. — Пойдем, сынуля, поговорим кое с кем…
Петр с сыном долго стучались в железные ворота начальника местной милиции майора Наседкина, никак не могли добудиться.
— Может, батя, гранату кинуть, — проговорил Геннадий, озорно блеснув синими, но с волчьим отливом глазами. — А то шмальнуть?! — он сунул руку в карман, где тяжело тянул правую полу дубленки парабеллум.
— Дурочку не валяй!.. Вся кодла милицейская сбежится.
Наконец-то в большом каменном доме из красного кирпича сразу во всех окнах зажегся свет. Прежде чем выйти на резное крыльцо с фонарями на столбах, хозяин вперед себя выпустил степного волкодава. Кобель молча подбежал к воротам, потянул широким носом воздух и, почуяв чужаков, сдержанно зарычал.
— Кого принесло?! А ну, кончай баловать!..
— Открывай, мент! Паляй…
— Петя! — испуганно засуетился Наседкин, сбегая с крыльца. — Вот радость-то! — задыхался и трясся от страха Наседкин, пристегивая кобеля к цепи. — Сей минут!.. — распахнул калитку. — И Геночка! С прибытием!.. Заходите…
— Не прыгай на цырлах, мусорок, — грубо остановил Наседкина Паляй. — Веди в дом, но без шухера. Баба пусть спит…
Наседкин знал, что рано или поздно встреча эта с Паляем произойдет. «Напела Машка!» — вертелось в мозгу. Тот декабрьский шмон, который он делал своими руками в избе Марьиной, он хорошо запомнил и побаивался законника.
— Вот радость-то! Вот радость-то!.. — беспрестанно толмил Наседкин, с ужасом ожидая приговора. «Может, зашуметь?! — неслось в мозгу. — Кнопочка-то рядом…»
— Ты не базлай, мусор! — угрожающе проговорил Геннадий.
В просторный зал, увешанный дорогими коврами, Паляй вошел первым. Из-за занавески выглянуло испуганное лицо хозяйки и тут же скрылось.
— Коньячку, Петя?! — качнулся было хозяин к роскошному буфету, белому, как лебедь, но Паляй его остановил, подняв вверх правую руку.
— Ты лучше скажи, сука, — Петр Паляев не мигая смотрел в потное лицо хозяина, — я за что тебе плачу?!Счета не знаешь да еще приворовываешь. Отметелить бы тебя, да вонять будешь. Ты не понял, что тебя легавые на понт взяли?! Барыкины власти тут не имеют и то помогли… А ты?!
Наседкин тяжело и прерывисто дышал, медленно опускаясь на колени, бормотал:
— Понял!.. Прости!.. Отслужу!..
— Ладно, живи!.. — Паляй поднялся с кресла, глядел в розовую плешину на голове Наседкина. Зла не было. — На дом покупателя найди к лету, а пока охраняй. Приедем позже косточки Озера вынем… Понял?! — голос Паляя помягчел.
— Так точно! — вскочил, с пола Наседкин, поняв, что битья не будет. — Услежу за всем!..
— Легавым скажешь, — продолжал Паляй, — если они тут снова появятся, что Мария не рисовалась дома с тех пор. Наври… А еще лучше, если сумеешь их кокнуть!.. Товар ушел? — переменил он тему.
— Ушел… Можно еще подсуетиться…
— Пока попридержим, а то Геночка только-только отмазался. Но товар жди!.. А вообще-то тебе пора, ментяра, срок мотать, а то зажирел, — Паляй шутливо, но ощутимо ткнул Наседкина кулаком в сползавшее через ремень пузо. — Ха-ха-ха!..
Ночные гости ушли так же неожиданно, не попрощавшись, а Наседкин все стоял у ворот. Ноги неожиданно отказались служить. Подошла жена, и Наседкина прорвало:
— Водки тащи сюда, шалава!..
А Паляй с Геночкой месили в это время талый снег к дому. Возле мостков, перекинутых через застывший во льду пруд, Паляй проговорил сыну:
— Валяй до дому. Мать поторопи… А я к Барыкиным зайду…
Барыкины встретили ночного гостя по-дружески. Паляй снял дубленку, прошел к столу, приглаживая сивые волосы с затерявшейся там сединой, улыбаясь говорил, поглядывая на сонных хозяев.
— Вы уж, извините меня, что прервал ваш сон!..
— Все едино через час вставать, — буркнул Барыкин.
— Ну, ладно, — проговорил Паляй, окидывая бедное убранство избы. — Зря ты в дело не идешь, Вася. Жил бы сейчас, как Наседкин в хоромах, а эту хату пустил бы на дрова…
— Зато я сплю спокойно, Петя, — в ответ отозвался Барыкин, ставя на стол самовар. Роза принесла с кухни пироги и варенье, Барыкин, кивнув на стол, продолжил: — Спиртное сейчас в дефиците. Чайком побалуемся…
— А я завязал! Печенка пошаливает… Свое я выпил. Сын-то у тебя, наверное, в Афгане? Он же летун…
— Там! А не надо бы… Я за всех навоевался. Хотя там звания куют и монеты тоже.
Петр закурил, отвел папиросу в сторону, глянул на Розу, присевшую с ногами на диван, сухо заговорил:
— Кто-то кует на чужой крови, а кто-то ею умывается и гробы себе цинковые напахивает. Вот так, Вася!.. Всякое фуфло там законы правит… Земля крутится, времечко бежит, а на ней, в натуре, ничего не меняется. При Сталине так не курвились! Правда, мы все тогда чалились… Сейчас воля, а свободы не видать. Я не о себе пекусь, Вася… Мне свобода давно заказана… Кстати, о подельнике моем по побегу ничего не слышно?
Барыкин поставил пиалу на стол, потянулся за куском сахара, раскрошив его зубами с хрустом, что даже Паляй поморщился, только после этого тихо проговорил:
— Как Березин погиб, то слухов нет. А так, че?! Семья!.. Фролов с Сорокиным икру мечут… Фролов как раз с тех мест… Правда, там где-то Харламов, но он не прикроет. Генерал!.. Друг-то друг Березина, а только золото погон слаще… Далеко мы ушли от того времени, а у Сорокина до сих пор чесотка на вас! Чую, до гроба копать будет!..
— Поторопим…
Барыкин метнул взгляд на Паляя и понял, что уже приговорили подполковника, а с ним и Фролова. А Паляй, отхлебнув чай, зло проговорил:
— Большие дела, Вася, движутся! А эта шалупень путается под ногами. — Мы ведь не отцы-командиры, которые летают из Афгана… Мы дурь ножками через границу носим…
Барыкин качнулся на стуле, закурил, сказал задремавшей на диванчике Розе:
— Ложилась бы ты спать…
Роза встрепенулась, подошла к Паляю, положила теплую и мягкую ладонь на его голову, все еще сивую, но уже подернутую пеплом прожитых лет, сказала по-домашнему просто:
— Пока, Петя! Машу-то куда увезешь? Адресок хоть оставь. Как-никак, а подружки мы…
— Пришлем маляву!..
— Женился бы ты на Машке, — со вздохом проговорила Роза.,
— Дела сдам и женюсь, а пока закон не велит…
— Дикие у вас законы!
Паляй развел руками, поднялся из-за стола. Барыкин вышел его провожать. Возле калитки подзадержались. Нависнув глыбой над Паляем, Барыкин спросил:
— Слухи идут, что в гробах наркоту и меха возят. Правда?!
Паляй, отворяя калитку, проговорил сухо:
— Ты знаешь, Вася, мне один умный человек сказал однажды на беломорканальской зоне: «Анархия — мать порядка, а демократия — мать беспорядка». Так вот, властям все можно. Ты думаешь, воры пентюхи? Не-е-е-ет!.. Мы мертвых не оскорбляем… Пока! — Паляй пожал руку Барыкину и вразвалочку пошел к машине, где его поджидали Мария и Геннадий. Не доходя до нее метро вдесять, он внезапно остановился, крикнул сипло, с трудом выталкивая слова и воздух из перехваченного горла: — Прощай, Вася!.. Может, больше не свидимся!.. За все спасибо! — он поклонился как-то боком.
Барыкин горько подумал: «Прощается! А прямо не ответил… Подлючья жизнь!» Он стоял возле крылечка долго, не решаясь ступить на подметенные женой ступеньки, прислушиваясь к одинокому гулу мотора, удалявшемуся в сторону Синегорки, гадая, куда будет править Паляй, на Джезказган или на Кызыл-Орду? Дохнула скрипом и теплом избяная дверь полного гнезда. Роза разогревала вчерашние щи. Мужу пора на работу.
— Проводил?
— Уехали…
— А Машка не зашла, — обиженно проговорила Роза.
— Забурилась баба! Вот и забыла все и всех на свете, — проговорил Барыкин. — Тут и мужик растеряется…
С той ночи Барыкин с Петром Паляевым больше никогда не встречались. Развела жизнь по сторонам, словно отгородила каменной стеной навеки. Ближе к маю, когда уж вовсю цвели по степным увалам подснежники, дошел слух через Наседкина, что нашли тело подполковника Сорокина в купе скорого поезда с простреленным затылком. Соседи по купе, вышедшие в Талды-Кургане, толком ничего сказать не могли, хотя Фролов рылся с пристрастием…
— Паляй зря слов на ветер не бросает, — проговорил Барыкин в спину Наседкина. — Приговорчик-то приведен в исполнение… Теперь Фролова очередь…
Наседкин ничего не ответил, только еще больше ссутулился. Он-то точно знал, чья рука сделала этот выстрел.
В августе в дом Марии Марьиной въехали новые хозяева: муж с горластой женой да две девочки-погодки семи и восьми лет, приехавшие работать в совхоз откуда-то из России. А чуть раньше, в ночь перед Троицей, Роза, вышедшая ночью по нужде во двор, услышала торопливый звон лопат о каменистую землю на усадьбе Марьиных, тихий мужской говор и позвала мужа.
— Вася, никак могилу роют?!
Барыкин в подштанниках вышел во двор, тихо подкрался к забору. Ночь была пасмурная. Чуть-чуть накрапывал дождик. В дыру, проделанную еще мальчишкой, он увидел, как тщательно ровняют землю три мужика в черном одеянии на том месте, где стояла белая мраморная стела, а рядом был виден большой чемодан. «Косточки Озерова вырыли, — ворохнулась мысль. — Где они найдут новое прибежище?! А памятник-то, видать, зарыли!..»
Мужчины поспешно закончили свое дело и спустились к реке. Барыкин слышал, как шлепнули весла по воде, а потом, уже за тугаями, перед железнодорожным мостом, свет фар выхватил желто степь, вспугнув отару овец, ночевавшую в старой кошаре. Чуть-чуть погодя подошла успокоившаяся Роза, все время стоявшая на крылечке, дрожа от страха, прислонилась головой к Василию.
— Господи!.. И косточки-то уж прахом покрылись, а все ему покоя нет. Лихо! Лихо!
— Да не трясись ты!..
— И то ладно… А то я боялась все, — сдавленно продолжала Роза. — Покойник рядышком…
— Да-а-а, — протянул Барыкин. — Тем же путем ушел, как и пришел!..
— О чем ты?
— Так! — Барыкин вспомнил такую же влажную и темную ночь. Марьина, готового схватиться за оружие… Бившуюся в горе и слезах Марию… И озноб прошелся по спине колючей сыпью. «Все идет к закату!» — пришла неожиданная и непонятная самому себе мысль.
На другой день Барыкин пришел на работу хмурый и не выспавшийся. До самого утра не мог сомкнуть глаз. Память не утихомиривалась, и картины прошлого, словно в кино, вставали явственно, вонзаясь в сердце, пожалуй, больнее, чем в те годы, давно уж, казалось, канувшие в неизвестность. Раздражительность помимо его воли захлестнула мозг. С порога мастерской он накричал на путейца, правившего на станке старые костыли:
— Не нашел другой работы?! — грубо проговорил Барыкин, проходя к своей каморке. — Пора дрезину выкатывать…
За ним вошел мастер, сел напротив начальника.
— Ты чего сегодня такой заводной? Дрезину выкатывать рано. До окна еще целый час… Не с той ноги встал, Вася?!
— Точно, — усмехнулся Барыкин, немного отходя. — С этой жизнью психопатом будешь, хоть с какой ноги вставай…
— Ты о чем?
— Все о том же! Ладно давить. Пусть мужики готовятся…
Мастер ушел, а Василий еще долго поглядывал в стену, обитую фанерой, поджав губы и насупившись…
4
С низов поддувал по Бересени влажный ветер, упрямо клоня к непросыхающей земле кроны прибрежных березовых колков, вздымал на витой стремнине реки белогривые волны, схожие с лебединой стаей, а в небе, сокрытом от глаз низкой облачностью, изредка вырисовывалось низкое осеннее солнце, скакавшее меж клочкастых разрывов туч рыжегривым конем. На хребтинах, где ветер был особенно силен и пронзителен, мгла упиралась мокретью в завывающие расщелины, сочилась к останцам сквозь низкорослые, извитые высокогорьем, замшелые березняки и ельники, обросшие нитяными бородами древних лишайников, уже тронутые первым дыханием надвигающихся холодов, украшенные серебристой холодной росой.
На Лонгин день, как и каждую осень, испокон веку, по давней традиции бабы вышли полоскать белье в реке, на глыбистых камнях, пропускающих жгуче-холоднющую воду, чтобы очиститься от сглаза, а больше посудачить о деревенских новостях. Грея покрасневшие, как у гусыни, руки в юбке меж колен, Марфа злорадно подсмеивалась над давней своей соперницей Марией Зыковой, пытавшейся когда-то еще в девках отбить громилу Трифонова, а ныне в который уж раз выскочившей замуж за косматого бича, приблудившегося после химии на Малиновке на подворье, подправленное предыдущим мужем Марии, работящим мужиком, но пьющим все подряд, что льется в горло и приводит организм в состояние хмельного кайфа.
— Машка, ты бы хоть тетрадку завела, — похохатывала Марфа. — Поди, уж имен-то не помнишь?!
— Хи-хи-хи!.. И-и-и-и!.. — повизгивали бабы, ожидая бесплатного концерта. Зыкова могла и по роже заехать мокрым половиком, а то и вцепиться в косы бабе да потаскать ее по мокрому песку. — Машка! Ты че не отвечаешь?
— Была нужда связываться. Придешь в магазин, я те отоварю!..
— Чать гамазин-то не твой! — ехидно поддела Круг-лова.
— А ты молчи, старая карга!
Мария в серой телогрейке и мужниных черных штанах, заправленных в широкие голенища резиновых сапог, с шумным плеском ворочала половик в струе воды, на ядовитые шутки пыталась не отвечать, зная свой взрывной характер, таила злобу в себе, только глаза выдавали крайнее возбуждение. Большие синеватые глаза, томные и всегда по-коровьи влажные, теперь блестели сухотой.
— А вот скажи, Машка, — приставала к Зыковой молоденькая бабенка, сестра Любы Боровой, не замечая, что соседка на грани. — Все одинаковы?! А сколь было? Правда!..
— Сколь было, все мои! — наконец-то прорычала Мария, взваливая на коромысло половики, покачиваясь, пошла в гору и уже с яра ядовито выкрикнула, сорвав голос: — А на тебя, мокрощелку, ни один мужик не глядит. Сдохнешь яловой!..
Бабенка зевала ртом, потеряв дар речи от такого оскорбления, а бабы клонились к белью, пряча смех.
— Хи-хи-хи!.. — повизгивали они. — Ох и уела!..
— Ну че разбазлались?! — вступилась за молодку Марфа, быстро собирая в тазик простыни и наволочки. — Не слушай ее, дуру! Она уж захимилась вся… Все Малиновские урки…
Катерина Ястребова с улыбкой прислушивалась к деревенским дрязгам, обычным, как всегда, не спеша развешивала на штакетник палисада уже прополосканное белье, озабоченно поглядывала на хмурое небо, опасаясь дождя.
— Хоть бы пронесло, — проговорила она, закрывая затсобой калитку.
Возле тына отец шкурил топором сосновое бревно, намереваясь поменять нижние венцы коровника, подгнившие начисто, отчего сарай грозился съехать в старицу.
— Снесут скоро, батя, а ты ремонтировать собрался, — проворчала Катерина, поднимаясь не верандочку и не одобряя затею отца.
— Когда еще снесут, а скотину может придавить, — отозвался Петр Семенович на замечание дочери и выдохнул со скрытым сожалением: — А можа, вовсе и не станут нас тревожить. Дай-то бог!
Петр Семенович шкурил, а сам думал о другом. Жизнь потекла, как беспроточное озеро, постепенно зарастая и мелея, усыхая, как лужа после дождя. Алешка вон сказывает, что производство в комплексе почти совсем упало из-за нехватки сырья. Да и сам Петр Семенович видит, как люди бегут отсель на строительство нового закрытого города в Малиновке. Вон и Круглова брат, мастер мебельного цеха, зафитилил на Байкало-Амурскую магистраль. А многие тронули на севера, где нефтяные рубли растут в длину, а снабжение не чета нашим торговым точкам. Там не воруют, а тут весь дефицит уплывает по мохнатым рукам… А, может быть, и там так же прут. Только там много денег и не так заметно… А у нас…
— Пустыня! — в сердцах воткнул топор в податливую древесину Петр Семенович и полез в карман за куревом. — А опустеем, и буря все сметет… Цепляться-то ветру горемышному не за что будет!..
Очень заедала его горечь при виде обветшалых дворов, покинутых хозяевами навечно. Кукуют в деревне почти одни старики, решившие закончить тут свой жизненный путь, зная по опыту, что всякие переселения до добра никогда не доводили, да вот такие работяги, как Алексей Ястребов, присохший к первому и главному в своей жизни пристанищу всей душой и телом. Но и он больше стал склоняться к тем людям, которые уже завязали узлы, подобрав барахло.
— Не дури, Алешка! — ругался Петр Семенович. — Колька вон обжегся, а теперь мотается по стране, следы вроде бы прячет. Позор, он как огонь!.. Прожжет, и шрам останется… Давай, бегите, как тараканы!.. Я уж один тут свой век доживу, — вспылил он. — Бросить все, а потом кусай локти!..
Алексей в спор не вступал, знал, что тестя переспорить невозможно, раз уперся.
Слух о том, что сына перевели из области в Москву, достиг бересеньских дворов быстрее, чем родни. Петр Семенович зашел в поселковый магазин за махоркой, которая еще сохранилась на прилавках, хотя по всей стране все уж давно было сметено и куряки перешли на самосад. Трифонов, теперь работавший на роспуске лесин по вызову самого директора завода, покуривал с Дмитрием Боровым на крылечке магазина.
— Кончился табачок, Петя! — обрадовал его Трифонов. — Вот делимся последней пачкой… Закуривай…
— Хотел с утра прийти, — горевал Петр Семенович.
— Не страдай. Сегодня смотаюсь в Яр, а там мою норму выдадут, — успокоил его Трифонов. — Выгодно быть героем! Завсегда пьян и нос в табаке! Ха-ха-ха!..
— Сто лет назад, как ты геройничал. Слава, слава! — ворчал Петр Семенович, не любивший бахвальства друга.
— Ладно вам на дыбы вставать, — остановил спорщиков Боровой. — Слух пошел, что Николая Петровича в Москву забрали… Теперь Темирязевке каюк. Некому будет помогать..
— Как в Москву?! — опешил Петр Семенович. — За что же?!
— Ха-ха-ха! — закатились мужики. — Дурень! На повышение пошел Колька! До те доходит, как до жирафа…
— О-о-о, ну да-а-а! — протянул Петр Семенович, не зная, то ли радоваться ему, то ли горевать. Волнение толкнуло его домой, поделиться известием с родней.
— Ты чего заторопился?! — пытался остановить его Трифонов. — Покурили бы…
Петр Семенович даже не обернулся. В душе у него творилось непонятное: то ли обида, то ли радость.
— Обиделся, — проговорил задумчиво Боровой. — Теперь уж полный разлад!!.
Петр Семенович, проходя мимо гривы, разъятой и голой, остановился на минутку, глядя на торчавший из воды ковш экскаватора, проржавевший до красноты, думал: «Это че же с Колькой творится?! Петька Самохин два пустых вагона утопил на Соре, так ему десятку влепили!.. А тут!.. Нарыл, напортил, технику завалил, а его в Москву? Ой, Колька, путь-то твой опасный!.. С властью породнился и попортился!.. Вот ведь горе!..»
Старик стоял и смотрел на рукотворное болото. Теперь уж о расширении Айгирского завода в сторону деревни никто и не вспоминал. Похоронили затею, а место попортили. А Петр Семенович все время переживал за сына, думая, что припаяют ему печатку за такое безалаберное хозяйствование. А оказалось, что зря волновался. Николая Петровича еще и повысили. Тут же Петр Семенович вспомнил, как весной, когда разлив был особенно яростным, Бересень ворвалась на гриву, смыла все, что накопали строители, образовав болотистое озеро, которое сразу же начало зарастать талом и камышами… Да и держаться за усадьбу, рядом с которой дышала с натугой раненая земля, стало труднее. Ко всему, прошлым летом быстро осиротела веселая усадьба Ветровых. Дом после смерти Анны и Матвея Егоровича начал обрастать зеленым мхом, корежиться и коситься без хозяйских рук. Алексей и Петр Семенович общими усилиями с соседями сохраняли усадьбу, но с гибелью в Афганистане Сони Ветровой, последней из их рода, бросили стараться, охладев к месту.
— Слизнула жизнь родовое, а уж теперь чего маяться. Продать? Кому нужна развалюха?! Да и жалко терять память… Все же моя зарубка есть в этих стенах. А земля теперь не в почете, — сдавленно говорил Петр Семенович Алексею, глядя с тоской на то, как зять забивает крест-накрест ставни досками, кои готовил Матвей Егорович для палисада. — А может, Леха, еще сгодится?! Может, дети и внуки вернутся?!
— Не вернутся, батя! — Алексей со злобой вогнал последний гвоздь в доску, поглядел на свою работу, подытожил: — Ну и все!
Их семья тоже поредела за эти годы. Словно ветром выдуло молодую поросль из деревни. Маринка так и не вернулась из Карелии, где она отрабатывала положенные два года после техникума. Выскочила замуж за местного ученого-лесовода и уж выращивает двух сыновей-погодков, навещая Бересеньку раз в пять лет да на похороны родных. Петр Семенович не ожидал такого от любимой внучки, вначале возмущался, но потом притих, махнув на все рукой.
— Гробится все!.. А почему? И раньше ведь выезжали люди, но потом вертались на свою землю. С головы начало государство гнить и до низов дошло. Разлетелись!..
— Чего же, батя?! Они должны всю жизнь возле нас просиживать?! Свет не на Бересеньке сошелся…
— А че же ты тут сидишь? — потом неожиданно притих и согласился. — Ну, да… — но в душе кипело, и он, отодвинув чашку со щами, вышел во двор остудиться.
Все вроде бы уж понахватали годков, а Зоя Березина и не старела. Правда, когда-то охваченная солнышком копна волос заметно посерела, посеклась и поредела, но все еще притягивала взгляд своей яркостью. Родня, съехавшаяся в прошлом году на похороны Матвея Егоровича и Анны, умерших почти в один день, все в один голос восхищались Зоей.
— Зойка, как законсервированная!..
— Да!.. Горюшка хватила, а себя соблюла…
Павел Ястребов, прилетевший из Москвы, где он учился в университете, передав привет от Николая Петровича Березина, вручая московский подарочек, шелковую полушалку, восхитился:
— А вы, тетя Зоя, вовсе не стареете!
Зоя, примеряя полушалок, ухмыльнулась.
— Чего это ты, племяшка, завыкал-то?!
Павел смутился, а Маринка подколола брата:
— А он дипломат! Вот и манежится… Хо-хо-хо!..
— Хвосты-то еще не разучился быкам вертеть? — похохатывая, поддел его дед, любуясь внучком, одетым в черный костюм.
— Чего пристали? — Зоя отвела племянника в сторонку, выспрашивала: — Николай Петрович не женился?
— Холостяк! А вы бы, тетя Зоя… ты, — поправился он, — заехали, когда были у Егора в Рязани. Рядышком… Он вспоминает тебя…
Зоя ничего не ответила, только скрытно улыбнулась и ушла в избу, где бабы готовились к поминкам…
* * *
Матвей Егорович Ветров, после того, как его поднял с недужья Трифонов, каждое лето не сходил с мостика. Правда, болезнь нет-нет да скрутит не на шутку. Но он скрывал, хорохорился и бодрился, стараясь скрыть от родных и особенно от начальства, боясь, что его турнут с работы на пенсию, а еще хуже припаяют инвалидность. Тогда прощай все!.. Но годы брали свое, подминали, как катком, последние силы. И он частенько отсиживался на палубе, а не за штурвалом. И словно предчувствуя свою близкую кончину, оставив под присмотром Катерины Анну, слегшую еще зимой от точившего ее желудок рака, ушел на несколько дней в низы, к Синельникову порогу, хотя в этом никакой надобности не было.
— От подножья хочу глянуть на Синельников утес да кое-что вспомнить… — с неохотой пояснил он Петру Семеновичу, приставшему к нему с расспросами. — Ну и новый мотор испытать.
— Смурной че-то ты, Матвей, ноне! Сидел бы на печи да ел калачи.
— Калачи-то у меня, Петя, горькие. Анна уж не встает, — Матвей Егорович махнул в сердцах рукой и пошел к катеру, поджидавшему возле моста.
С низов встречно шел стеной свежий ветер, ударяясь в железную рубку, стелил на стремени крутую волну, бросал ее на пологие щеки обшарпанного носа. Катер безжалостно кидало из стороны в сторону, заваливало рули, но Матвей Егорович весь путь пробыл на мостике, с трудом удерживая штурвал, отполированный его руками за долгие вахты, пристально вглядываясь в берега, как будто прощаясь с ними, что-то шептал сухими губами. Волнение захватило старика. Григорий, бессменный его помощник, стоял рядом, силился разобрать слова старика, но их сносил ветер, рвавшийся во фрамугу со свистом.
На старом месте, возле крутой ложбинки, окантованной бело-красными известковыми скалами, где когда-то местные казачки жестоко покосили отряд, Матвей Егорович сошел на берег, медленно побрел в сторону горла узкого ущелья, стиснутого стенами Синельникова Камня, там сел на травянистый бугор и, выставив на солнышко крутой лоб, проговорил распевно, словно читал молитву:
— Ох, солнышко!.. Родимое! Красишь землю во все цвета, и она живится. Скоро и меня примет… Живу-то только для Анны!.. Вот приберет ее Бог, и я следом!.. — голос подсекся. — Она-то, бедная, больше меня мучается! Не верил я в тебя, Боже! Ты уж прости!.. Но все же погляди на землю и на людей, и помоги им… А теперь прошу и кровью… моей, вот тут пролитой, ослобони Анну от боли и прибери ее поскорея!.. А то я уж и сам умаялся жить!.. Да и не хочется глядеть на то, как все зорят то, что мы строили и оберегали. Веры нет в будущее… После войны и то легче было… Потому что видели свет, а сейчас, как кукушки… По чужим гнездам… Помоги! Знаю, трудно, но надо!..
Совершив свою просьбу, он раскурил трубочку, хотя врачи давно ему запретили баловаться табачком. Матвей Егорович воскрешал в памяти разное, но уперся, как в стену, в судьбу дочери, выбравшую путь воина. «А Сонька ведь там!.. — переживания перекинулись на это. — Да уж, поди, баб-то не подставят под пули душманов?! О-о-о!.. Кто знат?! Русские бабы никогда не ошивались в тылах да штабах… А Сонька не постелется под начальство! А значит — впереди!..»
Обитали в заводи долго. Сварили ушицу из пойманных тут же окуньков. Под жгучий от перца навар распили поллитровку. И в обратный путь тронулись только к вечеру. Ночь подкралась незаметно на полпути и, чтобы не напороться на обмелевших шиверах и порогах на камни, решили заночевать в уцелевшей сплавной избе. Избушку кто-то из рыбаков обихаживал. Матвей Егорович не спал до рассвета. Стояли, словно наяву, прожитые годы, когда молодая Анна встречала его баркас в этих протоках, стоя по колено в воде, цвела улыбкой, и игравшие солнечные блики на воде пятнали ее оголенные ноги яркими зайчиками…
Вывалились из заводи чуть свет. Матвей Егорович встал за штурвал. Моторист, здоровенный малый, из флотских, на корме возился с лебедкой, ломиком прокручивая тяжелый барабан, обвитый тросом в заусеницах от старости. Григорий в тесном кубрике заваривал чай. Внезапно он услышал тяжелый топот по палубе, вскрики и выскочил наверх. Катер шел полным ходом на серый прижим. Матвей Егорович висел на штурвале, а моторист орал, пытаясь оторвать его руки, чтобы выправить ход катера:
— Дядя Матвей!.. Дядя Матвей!.. Гришка, помоги!.. Глуши движок!..
Григорий кинулся в моторный отсек. Наступила тишина. Только булькала и плескалась за бортом вода, катер, потерявший сразу ход, медленно и боком сваливался на отмель. А Матвей Егорович, оторванный от штурвала, с остановившимся взглядом, завалился на руки моториста, оравшего:
— Тащи аптечку!
Григорий ухватился за руку, нащупывая пульс.
— Вася, пульса нет!.. Он умер!.. — сдавленно проговорил Григорий. — Аптечка не поможет!.. Врача бы…
— Где его взять…
Отяжелевшее тело с трудом опустили на пол рубки.
— Ты что?! Как умер?! Стоя за штурвалом… Может, он еще жив?! Сознание потерял… Давай делать искусственное дыхание!..
Григорий медленно стянул с головы фуражку, сжал ее в кулаке так, что треснул лаковый козырек.
— Нет, Вася! Помер! — он закрыл глаза старому капитану.
Тело вынесли на носовую палубу, расчистив ее от разного хлама, прикрыли брезентом и включили ревун, баламутивший берега. Люди высыпали к реке, с беспокойством смотрели, как катер с приспущенным флагом резал бешено стрежень, толковали тревожно:
— Катер-то Ветрова…
— В сорок первом он так же гудел… Уж не война ли?!
— Типун те на язык!
— Не к добру… И флаг спущен! Кто-то помер!..
Уже в полных сумерках судно ткнулось в галечный берег возле Бересеньки, и ревун заглох вместе с движком, будто обрезанный. Селяне все высыпали на крутояр, как только узнали, что ушел из жизни Ветров, и не верили, не представляли деревню без этого человека…
Старушки обмыли уже затвердевшее тело, а мужики осторожно уложили в горнице на стол, пока Петр Семенович с Алексеем и Трифоновым строгали в сараюшке доски из кедра и ладили гроб. И как только солнце кинуло первые лучи на землю, Анна, до этого часа не проронившая ни единой слезинки, неожиданно очнулась от тяжелой болезненной дремы, поразившей ее усталое сердце, неожиданно завыла по-звериному от безысходности. Откуда взялась такая сила в беспомощно лежавшей на кровати женщине, уже почти потерявшей речь?!
— У-у-у-у-у!.. А-а-а-а!..
Вой этот прошиб всех, стоявших у гроба. На шум прибежала Зоя, загремела ванночкой со шприцами, но Анна оттолкнула ее тощими руками, позвала трескуче брата:
— По-дой-ди, Петя! — лицо ее было в капельках ледяного пота.
Петр Семенович склонился над Анной.
— Чего тебе, сестрица?
— Кладите меня-я-я ря-до-ом с Матвеюшкой, — под-кошенно и с придыхом проговорила она, вцепившись намертво сухими пальцами в запястье брата, глядя на него большими просящими глазами, глубоко утонувшими в темных болезненных глазницах.
— Да ты в уме?! — прохрипел Петр Семенович, отшатнувшись и глядя на окружающих, так же пораженных ее просьбой.
Катерина замахала руками, в ужасе пятилась к дверям, глядя на тетку, пытавшуюся подняться с пролежалой постели, протягивая руки и мучительно кривя лицо.
— Положите ее, как просят, мужики! — выкрикнула Зоя и выскочила следом за Катериной в сени, не в силах смотреть на все это.
Трифонов и Алексей положили невесомую Анну рядом с мужем. Петр Семенович, приткнувшись к печному борову лбом, плакал. А Анна, прижавшись всем телом к мертвому мужу, гладила его лицо, невесомо касаясь белой бороды, о которой долго спорили мужики: «Брить или не брить!» Решили оставить, как есть.
— Я с тобой, Матвеюшка! — еле-еле слышно шептала Анна иссушенными и покрытыми белью губами. — Я с тобой!.. — Она глубоко вздохнула и замерла навечно, уносясь с любимым человеком в неведомую людям даль…
«Железный лесоруб», сделанный, казалось, из кремня, второй раз в жизни рыдал, подвывая, на белом камне у порога, где он так же горевал много лет назад по ушедшему из жизни вождю, думал, глядя в текучие воды: «Утекли, как эта вода! Почти враз… Так-то лучше…»
Хоронили их всей деревней. Люди, знавшие старого капитана, тянулись на старое кладбище из поселков, стоявших по берегам Бересени. Приехал из района Назаров с военкомом и военным духовым оркестром. Не было Сони, воевавшей в Афганистане да Николая Петровича Березина, редко посещавшего свои края…
Скотину на другой же день раздали, часть порезали на поминки. Дом не забивали до весны. Петр Семенович почти каждый день приходил на подворье, сидел, пригорюнившись, на крылечке. Все еще не верилось, что быстро так ушли близкие люди. «Сонька вернется, может, оживит… А может, так и останется в городе. Пока пусть живет дом и окнами глядит на улицу, на реку… Все веселее… Осиротели мы!..» Петр Семенович никак не мог смириться с потерей. Пусто стало в душе и сердце, как по осени в поле, когда жнивье уже начинает ложиться на землю и превращаться в прах…
5
Вдоль широкой улицы Темирязевского поселка, в березняках и ельниках под окнами домов, южный ветер гнал пыльную поволоку, подвывая в электрических проводах, и чешуйно серебрил стремительные воды Бересени. На пологом взволоке, где обычно зимовали малые катера и лодки, гусеничный тягач, задрав железную ребристую морду, побитую лесинами, к небу, по-октябрьски прозрачному, натужно вытягивал из воды на тросах полузатонувший дебаркадер. Шкипер, бородатый низенький мужичок, приседая, суетливо командовал, сдабривая горластые крики солеными матюками:
— Вира!.. Вира!.. — подгонял он рабочих, подкладывающих под плоский форштевень березовые коротыши. — Так-перетак!.. Витек, что телишься, как корова!..
А так стояла тишь. Поселок за последние годы как-то притих и посерел, словно в старческом забытьи. Редки стали свадьбы… И молодежь уже не крутит хороводы возле клуба, а магазины и вовсе опустели. Незачем туда ходить. Зато вовсю разросся и хозяйничал рынок, заваленный барахлом и продуктами, недоступными селянам, как в войну, где из-под полы можно купить, что душа пожелает. Спекулянты и барыги снова воспрянули духом…
Алексей Ястребов, прикупив из-под полы пачку «Беломора», миновав центральную улицу, топал прямиком проулками к железнодорожному депо. От дымившей на бугре пекарни тек сладковатый дух свежевыпеченного хлеба. Алексей еще с детства был влюблен в этот запах, щекочущий ноздри и выбивавший во рту текучую слюну.
За горбатым хребтом, там, где стояли облака над Шоломкой, реактивный самолет выписывал узкие следы, уйдя за горизонт мгновенно. Мысли Алексея только на миг унеслись следом за самолетом и снова обосновались на земле-матушке. В последнее время, после того, как в Темирязевском комплексе побывала областная комиссия, приезжавшая неизвестно с какой целью, стали плодиться разные слухи о том, что вскорости лесоразработки прикроют совсем, а значит, и железка будет не нужна.
Утром Алексею позвонил председатель профкома и попросил зайти в депо:
— Народ бузит, Алексей Павлович, и требует объяснения. Локомотивные бригады отказываются выезжать на линию. Слесаря бастуют… Сами знаете, чем это пахнет и как может кончиться!..
Алексей знал! Попахивало дурнотой. В такой обстановке обязательно найдется сексот, и тогда доказывай, что ты не верблюд. Органы обязательно найдут стрелочника…
Людей Алексей еще издали увидел возле широко распахнутых ворот депо. В глубине цеха пыхтел паровоз. На передней площадке возвышался машинист и, махая рукой, рубил слова отрывисто, краснея от натуги, срывая голосовые связки:
— От нас скрывают, товарищи! Грянет как гром с ясного неба сокращение!.. И все! Чем семьи будем кормить?! Массовые вырубки привели к тому, что кругом пустыня. Надо писать письмо в Цека.
Между людьми по толпе ловко лавировал начальник депо и, тряся толстыми губами, слезно увещевал:
— Мужики!.. Расходитесь! Как запрут всех кормильцев, тогда не так запоете!..
— Не стращай! — галдел народ.
— Тебе чего надо?! — подступил плечом вперед к начальнику депо здоровенный путеец. — Ты заодно! Тебе завсегда работенка найдется!.. Катись отсель!..
— Видел?! — встретил Алексея начальник депо, вытирая ладонью пот со лба.
Алексей ничего не ответил. Он стремительно взлетел на площадку паровоза, потеснив замолкшего машиниста.
— Подвинься, Андрей Сергеевич, — и, повысив голос, выкрикнул: — Не надо никуда писать! Соображалка должна работать… Возьмут вас потом за белы ручки и в Малиновку… Там, говорят, таких говорунов и писак кишмя кишит в шахтах. Ну, а если случится закрытие нашей железной дороги, то уж наверняка сообщат. Кто-то бузит, а вы уши развесили. А ты, Андрей, — повернулся он к машинисту, — прежде чем речи толкать с паровоза, подумал бы о семье. Ленин нашелся!..
— Да я че? Все орут! — виновато пробубнил машинист и спрыгнул с площадки.
— Расходитесь по рабочим местам, товарищи, — попросил Алексей. — Разберемся…
Рабочие разводили руками, с неохотой потянулись в депо, все еще судача:
— Алексей Павлович верно подметил! Кто-то нас толкает?
— Да понятно все!.. — взмахнул рукой турбинщик. — А ловко нам лапшу на уши кто-то навесил!
Алексей тут же собрал в кабинете начальника депо руководство, профсоюзных, комсомольских и партийных вожаков. Он стоял за замызганным столом, сурово отчитывал:
— Вы что же, друзья?! Сами не могли все вопросы решить без шума и огласки. Забились по кабинетам! Мышей не ловите. Хорошо, что еще до района не дошло. Слышали, наверное, как на юге с демонстрантами расправились. Узнают органы, с нас спросят по полной катушке! Совсем дисциплина расшаталась, — закончил он устало, понимая, что этим разговором не обойтись. Придется отчет держать…
— Надо зачинщиков выявить, — проговорил секретарь парткома.
— Не надо никого выявлять, — сдержанно перебил секретаря Алексей. — Людей надо успокоить, а не ворошить… Лидочка, а ты чего в угол забилась? — обратился он к секретарю комсомольской организации, миловидной крашеной блондинке. Та, надув полные яркие губки, тихо проговорила:
— Да!.. Тут забьешься!.. Когда грозят…
— Кто? — подался вперед Алексей.
— Да Пастухов с водокачки. Пригрозил: «Вякнешь и схлопочешь!» Вон, Геннадия Васильевича чуть не побили, — кивнула она густой шевелюрой на начальника депо. — У вас авторитет… И член райкома…
— Ну, вот, — повеселел Алексей. — А вы ищете зачинщика.
Руководство затихло. Все знали Пастухова, но жалели, считая его придурковатым мужиком.
— С Пастуховым разобраться, — продолжал Алексей. — И доложить лично мне.
Совещание продлилось еще около часа. Разбирали производственные дела. А с этим стихийным митингом решили пока бури не раздувать. Алексей вышел из депо в сопровождении парторга, говорил вяло, думая надсадно: «Этот же Пастухов и доложит куда надо. А мне отдуваться!..»
— Плохо, товарищ Арютин, что тишина эта временная. Так что нам еще припомнят при случае об этом событии. Такое не утаишь. А вообще-то народ прав. Все идет к тому, что прикроют нас, прихлопнут, как мух. Сырьевой базы кот наплакал. Ну, пока!
В конце сентября после бюро райкома Алексея Ястребова пригласил в свою резиденцию руководитель госбезопасности района майор Пыльнов:
— Зайдем, побеседуем, Алексей Павлович!
У Алексея пробежали мурашки по спине: «Вот она, судьба! У всех кагэбешников и мусорков один прием и одна манера», — мелькало в уме. Он прямо смотрел в лицо Пыльнова, на котором стыло подобие улыбки, а глаза жестко пронизывали. «Профессионалы, — роилась мысль. — Кум так же по-змеиному лыбился».
Пыльнов отпустил молоденького лейтенанта, перебиравшего дела в шкафу. Когда тот тихо прикрыл за собой окованную дверь, Пыльнов широким хлебосольным жестом пригласил Ястребова сесть в кожаное кресло, проговорил мягко и вкрадчиво:
— Устраивайтесь поудобнее, Алексей Павлович. Может, коньячку? — Пыльнов кинул пытливый взгляд на спокойного Ястребова.
— На работе не пью…
— Ну, ладно. Тут вот поступили оперативные сведения о том, что в депо произошли массовые выступления рабочих. И там звучали антисоветские речи. Особо отличились, — Пыльнов заглянул в бумажку на столе, — термист из литейки Васин, механик с водокачки Пастухов и машинист паровоза Симонов. Скрыть от органов невозможно такое. Как это понимать?! Вы же член райкома, коммунист…
Алексей, не отводя взгляда от бесцветных глаз Пыльнова, сдержанно заговорил, хотя внутри все кипело «Как были сексоты, так и остались!»
— Ну-у-у, это слишком громко сказано! Да какое выступление?! Собрание… Мужики на нем немножко поспорили, поругали нас. Антисоветчины не было. Люди требовали ясности. Слухи носятся, подливают масла в огонь, а никто ничего конкретно не объясняет. Людям жить надо на что-то? Сокращение — это как пожар! А о каждом собрании мы никогда не докладывали в район.
— Но там была настоящая забастовка! Люди отказывались выходить на работу! — настойчиво заговорил Пыльнов. — Это ли не антисоветчина?! Что-то вы не понимаете, товарищ Ястребов.
— Мы все понимаем. Машинисты часто отказываются выезжать на линию, когда плохо сделан ремонт. Все-таки железная дорога. Не дай бог авария! Они правы… Завалы зимой, весной паводок разрушает пути. Как поведешь состав?
— Ну, это чисто технические проблемы, — Пыльнов поджал тонкие и сухие губы, отчего лицо его еще больше окаменело. Он понял, что начальник лесхозовской железки просто темнит. — Еще вот что! Вы уж предупредите своего тестя… Сыновья заслуженные люди, а он черт-те что орет по пьяни. С Трифоновым я уже поговорил. — Все!.. Не задерживаю… Но вы уж не стесняйтесь, докладывайте обо всех проявлениях…
Поднимаясь с кресла, Алексей косо глянул в непроницаемое лицо кагэбиста, молча вышел в длинный коридор. «Хитер-бобер! Ха!.. Жди, мусорок!.. Гладко подъезжает, сучок! А все же он меня подцепил на крючок. Эти друзья просто ничего не говорят и не делают. Поосторожнее надо бы… Забылся, — размышлял Алексей, выходя на площадь, где стоял его потрепанный москвичок, не оглядываясь на окна, точно зная, что Пыльнов следит за ним сквозь красные тюлевые шторы. — Ну, а что делать?! Жизнь у меня такая скрытная».
Пыльнов действительно не отходил от окна до тех пор, пока Ястребов не сел в машину и не выехал на тракт.
— Ничего, — проговорил он тихо. — Гонорка много! Собьем…
Пыльнов сел за стол, нажал кнопку вызова. В двери мгновенно появился пожилой капитан, вытянулся:
— Слушаю, товарищ майор!
— Вези сюда деповских говорунов. Да без шума!
— Сделаем, не впервой. Разрешите исполнять, — тряхнул капитан седеющей головой.
— Давай!..
День подходил к концу. Пыльнов вышел из кабинета уже поздно ночью, поодиночке вызывая к себе деповских рабочих. Допрос он вел тихо и мирно. Мужики тряслись от страха, но молчали, поняв, что слова Алексея Ястребова вылились в правду, в горькую правду. Выйдя к утру из предвариловки, поклялись перед собой языки больше не распускать…
6
День выдался нудный и дождливый. С северо-запада, с «гнилого» угла, как говорят в народе, тянуло темно и беспросветно. Петр Семенович Березин с утра уплыл на плоскодонке к камышовому заливчику ставить морды. Он опустил две штуки под камень, а одну за коряжиной, где водичка тихо подгибала водяную осоку, надеясь тут заманить щучку. Долго ждал, зябко съежившись на корме. Река уже дышала холодком, да сверху сыпало туманно и мелко-мелко, пробивая прорезиненную ткань плаща. Дымок самокрутки сине вился из-под капюшона. Темнота мало-помалу рассасывалась, и уж стали видны прибрежные тальники. «Можа, хватит? Кто-нибудь уж залетел!» — подумал он, высвобождая руку из-под старенькой плащ-палатки, сохраненной еще с войны, приглядываясь к светлеющей постепенно воде. Оставлять морды в заводи без присмотра он побаивался. Сопрут, как пить дать, а плести уж не те годы. Выбросив окурок на течение, думая о рыбацкой удаче, Петр Семенович выволок одну за другой морды. В одной, той, что стояла под корягой, билась щучка килограмма на полтора, другая была пустая, а в третьей шелестели плавниками два подъязика и полосатый окунишка. «Ну и ладно! На ушицу хватит, — обрадовался он. — Теперь бы к ушице-то!..»
Отталкиваясь багром, Петр Семенович с трудом преодолевал течение, стараясь править по мелководью. Возле ворот Катерина подбирала остатки поленьев, привезенных Алексеем в зиму. Увидев отца, промокшего и хромавшего еще больше, заругалась:
— На кой сдалась тебе эта рыба?! Кашляешь, а все норовишь не слушаться! Есть, что ли, неча?
— А куды денешься, коль рыбки захотелось! Без нее скука… Ныне рыбаков нет. Эва, как жизня жучит! Матвей, покойничек, сейчас бы завалил щуками… Царство ему небесное!.. Ладно, Сонька погибла посля их смерти… А может, раньше, кто знат?! Ящик-то железный когда привезли? Кровушкой отдается любая война. Вон и Зойка покуривает… Егорка-то в Афгане!.. Не дай бог! А тут мы крутимся, как бараны! Сахар по талонам… Разлад. Алешка почернел весь от производственных забот! Корнилович говорит, что завод скоро встанет… Леса нет! А ты есть неча, — укорил он дочь. — Может, мне в радость!..
Катерина промолчала и ушла в дом, зная, что отец от такого разлада в жизни деревни, поселка да и всего комплекса только быстрее стареет.
Дочь Ольга, теперь на правах старшенькой, учила Веруньку решать задачки. Зоя, краем уха прислушиваясь к наставительному голосу племянницы, писала письмо Егору, укоряя его в том, что редко и мало пишет.
— Вчера, вроде бы, отправила? — удивилась Катерина, снимая телогрейку и шаль, поправляя волосы, блеснув синевой глаз. В прорези цветастого халата бело светились полные ноги, стоявшие на полу твердо, как столбы.
Зоя не обернулась, а только напевно произнесла:
— То было вчера, а это сегодня…
— Да пиши… Не жалко бумаги, — махнула рукой Катерина и ушла на кухню готовить завтрак.
В большой тревоге жила Зоя с той поры, как только стало известно, что Егор воюет в Афгане, но виду домашним не показывала. Всякий раз, как только от сына приходила долгожданная весточка, Зоя расцветала, подолгу и несколько раз перечитывала короткие и скупые строчки, роняя слезы, молила: «Господи! Сохрани мне сына. Хватит уж в нашей семье горя!»
Как-то, не выдержав, она поделилась своими тревогами со свекром. Петр Семенович, засмолив толстую самокрутку из собственного самосада, выращенного на грядке, которую ему выделила Катерина под «отраву», важно пробасил:
— Ты че хошь?! Это же военная тайна! Где, чего, говорить нельзя, а уж в письме и подавно. Тише, бабуся, враг услышит! Ха-ха-ха! — захохотал он. — Тут, Зойнька, надо правду ловить в намеках, как бывало в войну. Ежели в штабе — портянки всегда сухие! А ежели в окопах, то мокрые… Это я к слову говорю. А Егорка не пропадет, даже ежели на передовой! Десантник!.. Зря, что ли, его учили три года… Молись!..
Петр Семенович, вспоминая этот разговор с невесткой, перетащил морды под навес, почистил рыбу у старицы, а потом, старчески покряхтывая и покашливая, пошел топить баню. Благо, сегодня суббота… Шел он по тропке с охапкой хвороста для растопки. Банька утопала в туманной кисее дождя. Шел, а радости не испытывал. Бывалоча, такой день, как праздник! Съедутся сыновья, прибегут соседи на парок, хлещутся вениками до умора и ныряют к всеобщему удовольствию родни в воды старицы. А потом за стол, к ушице… Благодать! Две сотни березовых веников, нарубленных обязательно сразу после Троицы, чтобы лист держался и был здоровым, не хватало до нового сезона. А ныне двадцать штук заготовил Алексей, а они почти все целехоньки. «Вот такая ныне жизнь! — вздыхал горестно старик. — Мне-то уж тяжко переносить большой пар, а Алешка потерял интерес в заботах».
Он подпалил в топке бересту, глядя пристально на то, как занимается и сворачивается березовая кора, брызжет чернотой. Глядя на пламя, мысли завсегда роятся, топятся перед жаром, как воск. Да-а-а!.. Меняется жизнь, лепится, хватается за что попало, где-то и обрывается, а иногда только наносит глубокие сердечные раны, ущербины да обиды, от которых бывает человеку еще горше на душе. За последний год от Николая пришло всего одно коротенькое письмецо, как записочка. Алексей говорит, что звонит ему в контору Николай Петрович каждый месяц. Врет, поди! Успокаивает. Да и что звонок и голос издалека?! Письмецо-то тепло несет. Бумага руками согрета… Павлик и то чаще пишет, хотя тоже уросный растет. Но тот ученый!.. «Как же быстро все разлетелось?! — размышлял Петр Семенович, не отрывая взгляда от жерла печи, где березняк тек жаром. — Разве мог кто подумать! Думал, до конца жизни будет так, как поначалу слажено. Ан нет!.. Токмо Алешка верен своему гнезду… И он, пожалуй, дороже всех на свете! Вот кому надо славу-то трубить! Судьба за ним такая, а то, может быть, давно бы смотался. Ох-хо-хо!..»
Петр Семенович вышел наружу. Дождь перестал. Дым пошел столбом, а не стал сваливаться к востоку. «Поправится еще погода!» — промелькнуло в уме. Долго глядел на то, как плывут по темной воде старицы рыженькие листочки, сорванные ветром с березок, начинавшихся золотиться с макушек. «Зима будет суровая…» — вспомнилась примета.
От кучи картофельной ботвы, превшей на меже, несло приторной горьковатостью и увяданием. Земля заметно холодала, уж не покрывалась после дождя росной испариной, а темнела и жухла, подкашивая бурьяны на корню. Скоро, очень скоро завьюжит и завоет северок, покроются тайга и горы сверкающей белью снегов, и все уснет под тяжелыми пластами снега до весны…
За рекой, на молодой луговой отаве, по пологому косогору пасся жидкий косячок скота вперемешку с овцами, козами и свиньями. Пастушила ныне по очереди Марфа Трифонова с подпаском, поселковым мальчуганом, лазившим по кручам за козами, шугая их подальше от железной дороги, где то и дело проходили поезда. Баба что-то кричала своему помощнику, но разобрать было трудно, сколько ни силился навострить уши Петр Семенович.
— Загоняет Марфа пацана, — сказал Петр Семенович Зое, вышедшей на крылечко. — А ты куды намылилась? Чать, у тебя выходной.
Обдав свекра из-под пухового платка нежно-ласковым взглядом, тепло произнесла:
— Да письмишко Егору написала, а после почты в больничку забегу…
— Ты долго-то не задерживайся. Ушицу заварим, — и, пригнувшись, тихо, заговорщицки добавил: — Можа, спиртику поднаживешься, а?
Зоя, прищурившись, пропела:
— Ладно уж…
И опять во дворе тишина. Только мартын, с белоснежными подкрылками, низом пронесся над усадьбой и упал на мелководье, подхватив плотвичку. За тыном неожиданно загоготали мужики. Петр Семенович выглянул за калитку. Возле остановки заводчане, возвращавшиеся со смены, приставали к Зое:
— Эй, красавица, подойди к нам!
— Надо, так сам подойди, — ухмыльнулась Зоя, ускорив шаги. Юбка еще сильнее забилась меж стройных, слегка пополневших ног, будто бы нечаянно завлекая. — А-а-а, че ж ты, Коля? — приостановилась она. — Бабы испугался!
— Баба дома, а ты тут, да обрыблюсь, мужики засмеют! — выкрикнул шутя черный парень, оскалившись белозубой улыбкой.
Зоя махнула ручкой и спустилась в лощинку, обходя по сухому накопанные строителями траншеи, залитые водой.
Петр Семенович довольно усмехнулся:
— Не для тебя, шаромыжник, лакомый кусочек, — удовлетворенно причмокнув губами, он продолжал тихо нашептывать: — Многие губки распускали, да вхолостую ими шлепали!
Петр Семенович неожиданно вспомнил, как ухлестывал весной за Зоей темирязевский ухажер. Дело было на майские праздники. Алексей увез всю семью в Темирязевское. Давно они не гуляли по-правдашнему. После череды смертей да отъезда детей и внуков, как-то ушли былые шумные гулянки. Готовились прилежно. Бабы приоделись в самые лучшие одежки. Даже Петр Семенович напялил на себя серый костюм, висевший без дела в шкафу лет пятнадцать, подаренный ему Алексеем еще в те времена, когда жизнь светилась и нежилась в достатке и доброте. Приехали пораньше. Алексея сразу же пригласили на трибуну, где стояло в ряд все руководство поселка и промышленного лесного комплекса, а также герои труда и войны. Петр Семенович со своей семейкой гили в колонне с флагами, транспарантами мимо, поддерживали крики:
— Слава Коммунистической партии!..
— Ура-а-а-а!..
Трифонов на трибуну не полез, сославшись на плохое здоровье. Секретарь парткома шутки не понял, участливо спросил:
— Поправляйтесь! Вы нам нужны…
Теперь шагая рядом с Марфой в колонне, похохатывал:
— Мне бы стаканчик… Ха-ха-ха!..
Он нес в руке высоко над головой небольшой флажок, где был изображен в овале Сталин. Этот вымпел лесоруб привез из Москвы, где в бытность своей славы стоял на Первомай на гостевой трибуне возле Мавзолея Ленина и даже что-то провякал в микрофон корреспонденту радио.
Когда колонна поравнялась центром с трибуной, ее остановили, и начался митинг с речами и восхвалениями партии и государства. Первым выступал директор комплекса товарищ Кедров. Он уже, видимо, изрядно принял на грудь, и лицо его горело, как новый пятиалтынный.
— Ты погляди, Корнилович, — сипел в ухо Трифонову Петр Семенович. — Речам-то он мастер, а вот то, что сыплется все кругом, помалкивает. Гля, микрофон заглотит! Хи-хи-хи… Раньше речь толкали без всяких микрофонов, а за версту было слышно. А теперь охрипли…
— Водку не пьют, а жрут! Ха-ха-ха! — закатился Трифонов громко. На него зашикали из колонны:
— Разбазлались… Тише! Дайте речь послушать…
— Во-во!.. В самую точку попал! — прошептал Петр Семенович, поскрипывая протезом. — А че там слушать-то?! Приходь к нам в Бересеньку, мы те такую речь толкнем!.. Хи-хи-хи…
После митинга люди разбрелись кто куда. Алексей же, заранее уплатив полсотни рублей, повел все семейство на банкет в столовую. Мужики, в том числе и Петр Семенович, от банкета отказались, сколько ни уговаривали бабы. Петр Семенович видел, как «железный лесоруб» еще до демонстрации добыл в итээровской столовой три бутылки коньяку и круг копченой колбасы. Марфа подозрительно глядела на мужа, притягивала к себе за руку:
— Ну че ты взбрыкнул, как жеребец? Опять нажретесь!.. А тут чин-чинарем шампанское и люди воспитанные…
— Шампанское мы не пьем! — сморщился Трифонов, подмигивая Березину. — От него изжога… Правда, Петька!
— Да уж…
К ним примкнул Боровой и новый муженек Машки Зыковой, корявый мужичок ростом метр с кепкой, которого еще возле площади сразу же отшили.
— Смотри, Валька! — стращал его Трифонов, пяля большие черные глаза, словно от испуга. — Уведут Машку! Там ухари такие! Зря ты ее одну оставил. Машка баба сладкая!
Тот хмурился минут пять, гадал, не разыгрывают ли его мужики, и все же повернул назад к своей зазнобе, действительно уже успевшей подцепить местного землеустроителя Витолова, одетого в стильный бежевый костюм.
— Катись, баламут, а то харю намылю! — грозно прорычал ему мужичок на ухо. — Понял?!
Тот спорить не стал и подхватил Зою Березину. А тем временем деревенские мужички запаслись на рынке закуской и тронулись в дорогу. Пили почти у каждого поворота проселка и нагрузились в конце-то концов до такой степени, что еле-еле доползли до околицы, где их подобрала Люба Боровая, ехавшая из Плакучки на попутке…
А на банкете вовсю гремело веселье. Витолов держался за юбку Зои крепко, угощал ее и Катерину всякими сладостями из буфета, пьяно бахвалился:
— Я люблю жить широко! Не то что некоторые, — косился со злорадством на зыковского мужика, лакавшего портвейн. — Со мной не пропадешь!..
Катерина, тая ироническую улыбку, шептала на ушко золовке:
— Ух, Зойка! Хахаль, что надо! Потряси его!
— Да ну!.. Споем, что ли?! А то уж все ноги оттоптали…
— Запевай, Зоя!
Зоя, раскрасневшись от выпитого вина и ласковых слов ухажера, бархатисто запела, приложив ладонь к сердцу, затрепыхавшему от неожиданной радости:
Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о чем…Бабы подпевали тоненько и жалобно. Алексей гудел басом, а Витолов по-козлиному блеял, не в силах поймать мотив, и фальшивил, как петух. Кедров не выдержал, приказал сухо:
— Перестань гнусеть! Песню портишь…
Витолов обиженно замолк. Но вскоре все опять засветилось рядом с такой женщиной. И он уже не чувствовал себя обделенным. И в конце банкета, когда Алексей засобирался домой, проводил Зою до автобуса, нежно придерживая ее за локоток, склонив лысоватую голову, шептал:
— Вы прелесть! Жажду встречи!
Зоя шутя ответила, придерживая в глазах смешинку:
— А вы приезжайте в Бересеньку…
С того дня Витолов зачастил в деревню, каждый раз даря женщине цветы и конфеты в больших коробках, обязательно перевязанных голубой ленточкой. Где уж он добывал такие дорогие сладости, одному богу известно.
Его броневичок-запорожец колесил от Темирязевки и до Бересеньки почти каждый день. Селяне посмеивались. А Зоя манежила ради забавы мужика, кокетничала:
— Ой, товарищ Витолов, задарили уж!.. Я уж старуха! А вы вон какой молодец! Чай, девки помоложе сохнут?!
Витолов не замечал иронии в ее словах, говорил с пьяной откровенностью:
— И на старуху бывает проруха!..
Петра Семеновича Березина он избегал, помня еще те времена, когда по хрущевскому указу резали усадьбы по крылечко. Тогда Петр Семенович гонял с колом в руках землеустроителя. Огороды все же пообрезали, а Петру Семеновичу за хулиганство присудили пятьдесят рубликов штрафу. Другому бы и вовсе непоздоровилось, но тогда директором леспромхоза был сын и дело замяли. Но Петр Семенович помнил те пятьдесят рубликов, вынутых из кармана. А земля что?! Несколько лет пустовала, пока Петр Семенович не нанял тракториста и не вспахал отдохнувшую землю. Вся деревня последовала за ним. Зря только шумели и бились. Оказалось, что никому эта земля была не нужна, окромя жителей.
Но однажды Витолов все же попался на глаза мстительному старику. Броневичок подкатил к околице и замер в рябиннике, где было назначено свидание с Зоей. Рябинки уже заблестели первыми соцветиями. Вот-вот распахнутся белым-белым облаком. Настроение у Витолова было приподнятое. Он вышел из машины и лицом к лицу столкнулся с Петром Семеновичем, тащившим удилища. Неподалеку, на старых навозных кучах, Трифонов копал червей.
— Здрасьте, товарищ Березин! — прохрипел Витолов, сраженный неожиданной встречей. Лицо его сразу забурело, пошло свекольными пятнами, а большие глаза зазыркали как у вора, пойманного на месте преступления. Он чуть не выронил букет из ярко-красных тюльпанов.
— Почем цветы-то брал? — ошарашил его еще больше вопросом Петр Семенович, тая в уголках губ вовсе не доброжелательную ухмылку, думая одновременно о том, как бы пронять этого шпыня, чтобы он больше не катался сюда. Правда, внучатам и бабам услада от его подарков.
— Трояк! — выпалил Витолов, готовясь к позорному отступлению.
— У-у-у, переплатил, — протянул Петр Семенович, присаживаясь на коряжину. — Их, тюльпанов-то, ноне на Айгире косой коси.
Подошел Трифонов, воткнул лопату в землю, тоже присел и, поддев пальцами из банки шевелящихся червей, произнес:
— На хороший клев хватит…
Витолов брезгливо поморщился и уже было развернулся в полный ход к машине, как Петр Семенович остановил его:
— Погоди-ка! А свадьба-то когда? Мы бы погуляли. Правда, сосед?
— А то!.. — подхватил Трифонов. — Мы на это дело мастаки!
Витолов еще больше смутился, расстроенно подумал: «Вот влип! Хромой еще женить задумал!»
— У нас ведь как?! Пощупал бабу за бока… Женись! Мы люди лесные… У нас права особые… Верно? — снова обратился Березин к Трифонову.
— Само собой! — Трифонов пыжился, еле-еле сдерживая рвавшийся наружу смех.
Витолов больше не стал испытывать судьбу. Прыжком подскочил к машине, ужом проскользнул за руль и ударил по газам…
Мужики хохотали до упаду. За ужином Петр Семенович рассказал домашним, как он перепугал Зойкиного ухажера. Та не то шутя, не то серьезно укорила свекра:
— Завелся заводящий мужичок и то батя дал отворот поворот. Господи! Прости меня грешную! — и залилась в бабьем смехе.
С того дня еще долго подтрунивали домашние над Зоей. А Витолов больше не появлялся.
Петр Семенович ухмыльнулся и полез в сенник, там выбрал самый большой веник, помахал им, стряхивая «листья-мертвяки», гоня сухой березовый дух и снова вернулся к баньке, перебирая нынешнюю жизнь по листикам, словно читал книгу. «Присосались мыслишки!» — раздраженно подумал он, вспомнив спор с Алексеем о том, класть ли трубку в гроб Матвея. Петр Семенович тогда кричал на всю деревню, растопырясь у порога:
— Газеток-то там нету-ти!.. Из чего он будет крутить цигарку?! То-то…
— Рехнулся, батя! — урезонивала его дочь. — Да разве там курят?!
— А ты че думала? — уже тише кипятился Петр Семенович. — Там все бросят курить?! И меня с железкой на ноге в гроб кладите. Как я появлюсь в раю-то перед матерью! Она хоть и видела меня без ноги… Ну а все же…
Он оглядел всех, ища поддержки. Катерина, крестясь, ушла в сени. Зоя прикрывала рот ладошкой, чтобы не видели люди ее губ, искривленных в немом смехе. А Алексей полушутя-полусерьезно говорил:
— Тебя, батя, близко к раю-то не допустят. Там дыми! А дядя Матвей святой. Ему-то покурить не придется…
Трубку все же положили вместе с наградами. И вообще хоронили не по закону…
Петр Семенович заварил крутым кипятком веник, сел в предбаннике на лавку, усмехнулся, поглаживая щетинистые щеки: «Хм!.. Че, уж я такой грешник?!» — На губах отпечаталась тень самодовольства.
Жизнь в деревеньке потихоньку волочилась своим неровным руслом, огибая с трудом порой неодолимые препятствия, выходя на тот единственный путь, который уготован судьбой от рождения каждому человеку. Веками менялись времена года, текла вода в Бересени, не старея и не иссякая. А жизнь не так!.. Она то улыбалась, то корчила рожи, иной раз жестоко насмехаясь над простодушием и честностью человека. И травилось из души и памяти прошлое, оставляя какие-то случаи…
Алексей в это время совсем высох и задубел от забот. Посерел, словно тронутый холодами репейник. В производстве все валилось… Все сидело на голодном пайке, как в войну. Дорогу потихоньку и помаленьку прикрыли, и лесные поселки остались отрезанными от внешнего мира, покинутыми навсегда, словно утонули в море равнодушия властей. Пока еще действовала железка до Атамановки и Плакучки. Один раз в два дня ходила вертушка с тремя пассажирскими вагонами да спецвагоном, где перевозили деньги, почту и хлеб. В горах, особенно на косогорах, где были начисто подчищены хвойные породы, поперла сорная поросль: осина и береза с цепким подлеском липняка, кустарникова стланника и малины. Алексея мучила и не давала покоя слетевшая с губ фраза, что не дадут погибнуть леспромхозу и не бросят людей власти. Обманул деповских на стихийном митинге. Все получилось, как всегда, наоборот. Никто заранее не предупредил людей. Пришел приказ! Двухнедельное пособие, и гуляй парень на все четыре стороны. Холостым проще, а семейным хоть в петлю лезь. Чем кормить детишек?!
Алексей тогда впервые в жизни напился до чертиков и ночевал в тупичке, где отстаивались перед отправкой на металлолом старые паровозики, служившие верой и правдой всю войну да и в послевоенные годы. Так же брошенные и безликие стояли они на поржавевших путях. Алексей нашел тот самый паровоз, на котором он совершил с Федорчуком первую поездку, сел на сиденье помощника, на котором просидел много лет в качестве помощника машиниста. В боковом бардачке осталась запыленная алюминевая кружка. Алексей открыл бутылку:
— Ну что, старина! — обратился он к паровозу, как к живому существу, держав в одной руке наполненную водкой кружку, а другой взявшись за потускневшую латунную ручку реверса. — Кинули нас по-подлому! То ли еще будет!.. Раз пошла такая пьянка!.. За упокой всех наших дел…
Алексей выпил до донышка и долго глядел в окно на заросший бурьяном тупик, на ржавые останки паровозов, отживших свой век.
К вечеру небо затянуло тучами и закрапал мелкий дождичек. Алексея сморило, и он прилег в лотке на остатках угля. Все, что было с ним, он передумал этой ночью, смурной и ненастной. Утром чуть свет проселками пошел в Бересеньку, зная, что это его вечная пристань, вечный прикол…
А дождь все сыпал и сыпал. Бересень ядрилась всплесками капель, но упрямо несла свои воды вниз. И Алексей шел по мокрым проселкам, опасаясь встретить на пути человека. Он впервые боялся смотреть людям в глаза…
7
По вечерам возле поредевших дворов все еще собирались старики, сидя на лавочках и обсуждая события в стране. Теперь каждый свинарь стал политиком. Толковали, спорили, но больше всего травили анекдоты, залетевшие сюда неизвестно из каких уст. Трифонов, приняв на грудь, тихо рассказывал, поглядывая на то, как пацаны, сплавившиеся на шитике с верхов, таскали на перекате ельцов:
— Брежнев спрашивает мальчика: «Кем ты будешь, когда вырастешь большим, как я?» «Генеральным секретарем!» «А на хрен нам два генеральных секретаря?»
— Ха-ха-ха! — ржали старики.
— Хочет вечно править…
Посерела жизнь в деревне, победнела да и быт завернул не в ту сторону. Алексей как-то с горечью заговорил об этом с Кедровым да и задел словечком, что промышленным заготовкам леса придет скоро конец, встанет завод, последний оплот.
— Вот подчистят лесосечные волоки и все! Сырья нет!.. Анекдотики, анекдотики, а что впереди?!
Директор комплекса посмотрел исподлобья на начальника так же погибающей железки, ответил развязно, колыхнув пивным брюшком:
— Не паникуй, Ястребов! Партия не даст упасть… На наш век работы хватит. Уже разрабатывается проект о доставке сырья из Сибири. А анекдоты?! Раз народ смеется — значит, выживем! Нам с тобой бояться нечего. Номенклатура!..
— А люди?! На их плечах разруха…
— А-а-а, брось! — раздраженно ответил Кедров. — Мест по стране навалом, где нужны руки… Не принимай близко к сердцу.
— Как бы партии самой не рухнуть, — подытожил разговор Алексей. — Рыба-то с головы гниет.
Кедров встал из-за стола, подошел к окну и глядя на то, как движется по площади пионерский отряд, глухо проговорил:
— В иные времена нам бы с тобой, Алексей Павлович, созерцать лет двадцать небо в клеточку. Ну, а ныне в дурдом можно угодить… Иди, работай.
«Я уж там побывал. Правда в дурдоме не довелось покукарекать!» — подумал он, выходя из кабинета.
После этого короткого разговора с начальством, Алексей еще больше потускнел. Наконец-то до него дошло, что люди в этот момент для руководства — скот, который можно перегонять с места на место. «Катится все в тартарары. А партия?! Смотрит сквозь пальцы. Как, к примеру, Кедров… Засели рвачи и бездельники… Нет крепкой руки! И застоялись мы, как кони в конюшне… Тут и вспомнишь Сталина».
Куда-то исчез боевой настрой, а постепенно прижилась вялость и лень. Ночами спалось плохо, хотя и выматывался в заботах о семье, о детях да и работа еще влекла по инерции. Алексей брал курево и тихонечко, чтобы не разбудить домашних, выходил во двор, садился на крылечко и подолгу сидел там, думая свои невеселые думы, глядя на то, как переливается и мерцает Млечный путь, звездная дорога, россыпью терявшаяся в космическом пространстве. «Вот и мы в пространстве! — текла тихая мысль. — А казалось — все тут вечно!.. Отчего так получается в жизни? Николай Петрович умная голова. Давно понял это и смылся!.. А ведь казалось, что все его начинания на благо. Или это только казалось?! Трифонов, наверное, был прав, когда говорил, что соберут тут награды да звания и забудут про нашу землю. Кончатся леса и все, мужики!..»
От тревожащих мыслей его оторвал стук костылей тестя, покинувшего свое любимое ложе на печке. В темноте не видно было его лица, но по нервному стуку костылей и сопению Петра Семеновича он понял, что душа его так же в разладе.
— Дай-ка присмолить, — попросил Петр Семенович, кладя костыли вдоль приступка и, кряхтя, усаживаясь рядом с Алексеем. — Спички забыл… Да не чиркай своей зажигалкой! — и пыхнув дымом из волосатых ноздрей, продолжал сипло: — Все переживаешь. Да-а-а!.. Опростоволосились мы! Ежели бы занимались еще до войны посадками, то лес бы и сейчас был… Думали, тайга вечна…
— Не хватило бы, батя. Человек жаден! Много… Давай еще больше!
— Твоя правда!..
Замолчали надолго. Сырость пробиралась по спине мурашками, но Алексею не хотелось идти в дом. Осенняя ночь была тиха. Только воды Бересени шуршали о берега, бился не очень-то напористо порог, уже присмиревший после обильных дождей, да на старице раз за разом билась щука, пластая в кустах темную воду.
— Карпа доканчивают хищники! — наконец-то нарушил молчание Петр Семенович. — Протоку разрыли и жерех да щука пришла. Лет через двадцать вода из реки старицу сровняет. Будем мы на острове. Завтра жерлицу поставлю…
— Мало тебя штрафовали! — усмехнулся Алексей, вспомнив, как пионеры-юннаты, охранявшие водоем, разгадали секрет старика и поймали с поличным. Петр Семенович тогда чуть не перетянул по хребту поселкового инспектора, наложившего штраф.
— Я те денежки, Алеша, давно оправдал. Пудиков десять выловил. А ныне всем по причиндалам. Тут вот чего, Алеша?! — старик пристально поглядел на зятя. — Корнилович баял, что комплекс вот-вот рухнет, как старая башня, и завод встанет. И говорит, что Бересенька-то золотая… Дно-то устелено лесинами, особенно в старых запанях. Ну, березняк там и всякая другая сгнили, а лиственница да сосна лежат целехоньки. В старые времена люди пользовались и комоды ладили… Предлагает Корнилович поднять да распустить на пробу… Везувий на лиственницах стоит… Пятьсот лет!
— Везувий — вулкан! — заухмылялся Алексей. — Венеция…
— Ха-ха-ха! — заржал старик. — А хрен с ней!.. Трифонов в долю зовет… Подработать можно, говорит!
— Этот левак может боком обойтись!
— Бросовое же добро. Бери… Да и не все себе! — горячо зашептал Петр Семенович, оглядываясь, как будто кто-то стоял за спиной и подслушивал. — Мебелишку ладить на пустых станках да продавать по деревням. Ноне шаром покати в магазинах. Ты сам сколь стоял в очереди за шкафом?
— Года четыре…
— То-то! Озолотиться можно!
— Не ввязывайся в это дело, батя. Все государственное. Ныне цеховикам головы напрочь сносят.
После этой ночи все же нет-нет да придет в голову разговор. «А что?! — думал Алексей. — Сократят, так и будешь строгать в сараюшке. А Трифонов, как всегда, головой думает. Вот бы его в министры. Но все же светиться перед органами еще раз не хочется. Попадусь с подпольным производством мебели, раскопают все! Вот попробовать бы организовать все это на законном основании!»
Как-то будучи по делам в районе, Алексей зашел к секретарю райкома Наварову и рассказал ему о топляках, назвав затею трифоновской. Тот выслушал со вниманием, потом пошарил в трубочке спичкой и заговорил, внимательно глядя в глаза собеседника:
— Это еще в старину было известно. Мебельщики морили дерево в воде лет десять, а потом сушили целиком лет пять. Зато какая фактура!.. Ну, а как ты объяснишь, где взял лес? Те топляки давно списаны. Нет их, товарищ Ястребов… И все это попахивает нехорошо. Пришьют теневую и залетишь. Может получиться, как в зверохозяйстве, где открыли цех по производству шапок из бракованного меха, никого не спросясь. Директору дали вышку, а остальные в шахтах на Малиновке гробятся. Вот так! Все, что не планово — карается! В любом деле прилипалы найдутся. Только почуют свободу… Они-то увернутся, а ты останешься один на один с властями. Я вот что думаю, Алексей! — сделал короткую паузу. — Пора тебе выходить на большую дорогу. Мужик ты деловой. Народ тебя знает… И в партии не первый год… Пора тебе в райком и кресло секретаря по промышленности занимать, — Назаров постучал ладонями по подлокотникам старинного кресла, сотворенного умельцами из вяза, продолжал: — Пора нам вливать в партийную кровь новую, не зараженную выросшей бюрократией. Нас, старых коммунистов, мало осталось. Выщелкали!..
Алексей внимательно слушал и в голове вертелись тревожные мысли. «Опять наверх! Уже бывало… Да!..» Наконец он перебил Назарова, глядя прямо в глаза:
— Не справлюсь я с таким делом, Анвар Галимзянович! Одно дело — железка, а другое — промышленность всего района, которая на ладан дышит… Ну и грамота-то у меня не весть какая…
Назаров недовольно поджал губы, проговорил, думая о том, что другой бы по-волчьи ухватился за такое предложение. «Его и надо рекомендовать на промышленность».
— Ну это не беда, что грамоты нет. Пошлем тебя по-первой в областную партшколу, там поднатаскаешься, а уж потом на бюро вынесем. Ну, ладно, Алексей. Думаю, что мы договорились. А?
Алексей уехал из Яра расстроенный. «А ведь пошлют учиться, как пить дать! — думал он. — Потом на бюро и тяни лямку… А вдруг откроется мое прошлое?! И снова небо в клеточку…»
Он рассеянно следил за дорогой. Разные мысли скакали впереди голубого капота москвичонка. Ругал себя за то, что в который уж раз суется с предложениями.
Утром Алексей проснулся вроде бы посвежевший, но разговор с первым секретарем райкома партии вновь вернулся и преследовал его целый день. «Смотаться, что ли, куда? — толкалась назойливая мысль. — А куда?! Партия не Яма… Сам от себя не сбежишь! Да и семья…»
Так вот просто уж в который раз в его жизнь вмешивается удивительное везение. Лети в гору! Вот он, простор!.. Но старый груз, уже давно покрывшийся пеплом, как и голова, все еще тянет назад, как будто старается повернуть течение жизни к тому страшному прошлому. Так невидимая глазу закрепощенность мешает жизни, затеняет сердце, словно туча солнце. И в минуты раздумий о прошлом, висевшем жестким ярмом, становится тревожно за близких. С таким тяжелым наследством трудно жить! Только поднимись на вершину, как тут же начнут копаться…
Через неделю, к вечеру во двор Березиных вошли Боровой и Трифонов и вызвали из избы Алексея. Тот вышел на крыльцо и, сразу же приметив сияющие лица мужиков, спросил:
— Червонец нашли?
— Червонец да золотой, Алешка! — загудел Трифонов, выставляя на приступок что-то завернутое в мешковину.
— Чего это?!
— Ловкость рук и никакого мошенства! Оп!.. — Боровой сдернул мешковину театральным жестом, словно с памятника. — Оп-а-а!
Открылась узорчатая поверхность розоватой доски, отшлифованная до блеска, играющая завораживающим каким-то небесным светом, хотя сумерки уже легли на землю. Последний лучик солнца играл зайчиками, постепенно затухая в закате.
— Вот это да-а-а! — только и смог вымолвить Алексей, любуясь необычной красотой фактуры дерева. — Из топляка?! — осенило его.
— Из него-о-о! — Трифонов присел на приступок, гладил доску нежно, словно бабу, продолжал рассказывать: — Выловили мы девять стволов. Скользкие, заразы! Целый день вошкались у старой запани.
— А чем же вы их вытаскивали?
— Митька кран добыл на заводе, а я нырял. Ночью распустили втихую, подсушили малость и вот. В печи, конечно, хуже. Вот если бы на воле годик-два. Тогда фактура еще бы лучше играла! — Трифонов пучил глаза, Боровой молча покуривал.
— Ну, а дальше что? — спросил Алексей.
— А дальше! — встрял в разговор Боровой. — Летом, как спадет вода, очистим старую запань. Там сплошная лиственница… Из девяти топляков шесть лиственниц, два кедра и одна береза. Кедра-то не стало в наших краях лет семьдесят назад. Вот и считай, сколько времени лежит этот клад! И мебелишку наладим выпускать…
— Не боитесь? — тихо спросил Алексей. — Назаров не советует. Говорит, опасно. Привлекут…
— За что?! — резко выкрикнул Трифонов. — Бросовый лес! Пошли они все! Ладно!.. Давай обмоем почин!
У меня в доме пусто…
— Не боись. Не с пустыми руками притопали…
Пока женщины снаряжали стол, Петр Семенович не переставал любоваться доской, крутился, прихрамывая, причмокивал.
— Ох! Раскрасавица!..
Алексей, расчесываясь у большого трюмо, думал: «Сейчас фоловать начнут в долю. Соглашусь, чтобы не злить мужиков».
— Хватит марафет наводить! — смеясь проговорила Зоя, неся на блюде пельмени с грибами. Широкий кружевной подол юбки вился меж полных ног.
Трифонов, старательно разливавший самогон, добытый у старого знакомого, запросто дотягиваясь длинными клешнятыми руками до противоположного края стола, где стоял стакан Борового, мельком глянул на коричневую ложбинку груди нагнувшейся над столом Зои и плеснул мимо стакана.
— Гляди, куда льешь! — выкрикнул раздраженно Петр Семенович, всегда ценивший каждую каплю. — Ноне на вес золота водяра!
Трифонов поправился, ухмыльнувшись, разгладил усы и, боченясь, словно кочет, проговорил:
— Ты, Зойка, как моховинка горная! Вечно не стареющая и цветущая. Что в холод, что в жару, что в горе, что в радости!
— Скажу Марфе!.. Она те даст жару!.. Будешь знать, как на баб заглядываться. Старый черт! — Зоя, играя глазами, слегка подтолкнула локтем Трифонова.
— Все стерплю из-за такой крали! — балагурил Трифонов.
— Я помоложе! — выкрикнул шутя Боровой. — Давай с тобой снюхаемся. — Надоела мне Любка!..
— Ага!.. А потом она меня поганками накормит, — не то шутя, не то серьезно проговорила Зоя, уходя на кухню. Вскоре оттуда послышался сдержанный женский смех. Петр Семенович крутил головой, но молчал. Женщины вынесли сметану и уксус в чашках для пельменей, уселись на свои места, все еще пересмешничая лукавыми взглядами.
— Так за что?! — Петр Семенович поднял стакан.
— Чтобы не было войны…
— Ха-ха-ха! — громче всех заржал Трифонов, увесисто хлопнув лопатообразной ладонью по спине Борового, предложившего тост.
— А че! — вылупил тот глаза.
— За начинание… А за это потом!
Засиделись допоздна. Под выпивку переговорили обо всем. Небо расчистилось, и выплыла луна из-за Айгир-горы, словно надкушенная сбоку. Алексей вышел провожать гостей. Трифонов дождался, пока Боровой ушел в свои ворота, покосившиеся, как и вся постаревшая усадьба, сказал:
— Сколь ни крутился Митька, а в деревню вернулся. Тут хоть картоху вырастишь и то хлеб, — и, чуть подумав, предложил. — Зайдем на мой двор… Что-то покажу… — Он ухватился цепко за руку Алексея чуть выше локтя, и тот, словно на поводу, невольно тронулся к усадьбе Трифонова. В это время в проеме калитки появилась Катерина в накинутой на плечи шали, проговорила вызывающе:
— Куда еще намылился? Хватит, поди!
— Минутное дело, Катерина, — за Алексея отозвался Трифонов. В другое время он бы вернулся, но вызывающая настойчивость жены возмутила его: «В молодости не пасла, а тут!»
— На диване ляжешь! — обиженно выкрикнула Катерина в спину мужа и ушла в дом.
Трифонов усмехнулся своей иронической ухмылкой и пропустил Алексея вперед. В пахучей и сладковатой тишине деревенского подворья стыла тишина. Звуки с улицы замирали и копились под темными углами навеса. Старый волкодав, гроза для лихих людей, пытавшихся проникнуть за высокий тын, лишь поднял голову и шмякнул в позевоте беззубыми челюстями. На звон калитки на крыльцо вышла Марфа. Поеживаясь и зевая спросонья, проговорила ворчливо:
— Наконец-то явился не запылился. Прорва, а не мужик!
— Шла бы ты куда подальше! — огрызнулся Трифонов, открывая тяжелые двустворчатые двери амбара, срубленного еще дедом, куда свободно въезжали на подводе.
В лицо пахнуло застойным духом, старым деревом, мышами и мятой, подвешенной к потолку рядом с березовыми вениками. У стены, на тяжелом верстаке с железными тисами, что-то громоздилось под брезентом чуть ли не до потолка. Трифонов бережно стянул брезент, и перед глазами Алексея в слабом свете запыленной электрической лампочки предстал большой бюст Сталина, пропавший в шестидесятые годы с центральной площади Айгирского поселка бесследно.
— Вот он где! — воскликнул Алексей, трогая ладонью холодную бронзу. — По-до-зре-вал я!.. Что ты его спер… Раз задумал, думаю, значит, сделал! Тут и хранил?
— Да ты что, Леха! У тына в яме лежал. Марфа, как могилу, то место обходила. Ха-ха-ха! Марфа, вынеси-ка нам. Там я отлил самогону…
Марфа, застывшая в проходе, проворчала:
— В сарай боюсь идти! Снится почитай кажну ночь, проклятый!
— Но-но!.. Ты на вождя резину не тяни!
Допивали бутылку возле амбара, курили, беседуя.
— Ну что с ним будешь делать? — спросил Алексей, притирая к земле окурок каблуком ботинка. — Почтут за вора и могут статью приклепать… А если бы тогда поймали, то вышечка по тебе плакала!
— А-а-а, мутота все это! — махнул рукой Трифонов. — Если бы да кабы… А не поймали! — Он сверкнул озорно глазищами. — Хочешь, тебе подарю. У тебя же портрет к стенке прибит… Поставишь во дворе… Шутю! Думаю в грот над Айгиром затащить… Туда ходу никому нет… Не сбросят… А ежели еще карнизик счистить, тогда вечно стоять будет… Ежели только из пушки! Сейчас не будут. Брежнев сталинистов жалует пока. Пусть смотрит с высоты и кое-кому напоминает…
— Там клинья в щели забивать понадобится. И лебедка нужна. В нем килограмм триста…
— Лебедку я присмотрел в Плакучке. В самый раз… А клинья в кузне выкуем. Эх, жив бы ты был, батя!.. — Трифонов кинул взгляд в амбар, где светился отчищенный лик вождя.
Свет уже еле-еле забрезжил на востоке, когда Алексей вышел из ворот соседа и медленно тронулся к дому, раздумывая над предстоящим делом. На скамеечке приметил Катерину. «Все ждала!» — удивился он с теплотой.
— Замерзла, наверное?! Чего не ложилась-то? Постельку бы повела. — Алексей подсел рядышком, притянул жену за плечи к себе. — Дурочка ты у меня!
— Какая есть! — Катерина обидчиво шевельнула плечами, но с места не стронулась. — Опять пили? Скоро пропьете все на свете.
— У Трифонова бюст в амбаре стоит, — заговорил о другом Алексей. — Тот, что пропал в поселке еще при Хруще…
— Да ты что?! — Катерина неожиданно прижалась к мужу, а горячие полные губы коснулись щеки. — Это новость!.. Прощаю!.. Соскучилась я… Пойдем на сеновал, как ранее, в молодости.
— Катерина! Прохладно же?!
— А я тебя, миленок, так разогрею!.. Ленивый стал!.. А бывало…
— Сумасшедшая!.. Погоди во дворе, я одеяло притащу потихоньку…
— Ночка наше одеяло!..
Они влезли под крышу сеновала. Пахло нынешним разнотравьем и сыромятиной от старого хомута, повешенного на клин да и забытого с тех пор, как не стало лошади во дворе. Тишина стыла!.. В сараюшке вздыхала корова… В прореху крыши заглянуло лунное облачко и рассыпалось серебром…
Петр Семенович вышел под утро глянуть на скотину, но возле сеновала замер, услышав сдержанный горячий шёпот. «Зорюют Алешка с Катериной! Ну и слава богу!..»
8
К седьмому ноября морозец закрутил не шуточно. Правда перед самыми праздниками голую землю прикрыл пушистый снежок, но все же не прикрыл кочковатую от грязи улицу, заляпанную осенней слякотью. Бересенька как-то сразу отяжелела, потемнела, покрывшись хрупкими закраинами вдоль берегов рваных и голых, одетых в умирающие рубища. Любители подледного лова все же с опаской выходили на лед, сковавший тихие омута, выхватывали щучек да жереха. В Чертовой прорве, сразу же за Айгирским порогом, поселковые мужики выловили сетью сома пуда на два и ходили по домам, меняя на спиртное рыбье мясо. Но пустовали ныне подполы у селян. Сахарку детям на кашку не хватает, не то что на самогонку. Да и гнать-то стало опасно. Близилась борьба с самогоноварением и пьянством. Правда эта борьба началась еще тогда, когда товарищ Хрущев приказал снести все пивнушки и приучал пить заморскую кислятину…
Рыбаки отрядили двух мужиков в деревню, поручив достать самогону. Машка Зыкова, недавно осужденная условно на два года за спекуляцию в буфете водкой и колбасой, выгнала мужиков кочергой, хотя в подполе у нее хранилась заветная бутыль.
— Шмаляйте отсюда! — орала она на всю деревню, чтобы слышали все. — Продали меня!.. Честную и одинокую женщину под суд подвели! — всхлипывала она притворно, но глаза были сухие, как у змеи.
— Зараза! — ругался помощник машиниста прессовочного стана. — Мало тебе дали!
— Иди-иди, шаромыжник!
— Кончай заводить бабу, — равнодушно посоветовал другу другой посыльный.
Петр Семенович, по давнему обычаю, как только встала Советская власть в этих местах, прибивал к карнизу дома древко с красным флагом, подумывал, глядя на расстроенных мужиков: «Может, отоварить мужиков? Все же праздник!»
— Эй, бедолаги! — окликнул их Петр Семенович, осторожно ставя протез на перекладину лесницы. — Зря вы суетитесь вокруг Машки. Она теперя тележного скрипу боится. Да и пасет ее участковый… Баба думает, что хитрит, обводит всех вокруг пальцев! На самом деле у нее все на морде написано да на одном месте. Да и то там давно замок сломался!..
Мужики, гогоча, подошли к палисаднику, закурили. Петр Семенович отнес лестницу во двор и вернулся с лукавой улыбкой.
— Теперича, мужики, сухой закон на все. А вам че? В сельпе-то не досталось. А говорят, что на всех по пузырю завезли…
— Завезли-то завезли, только не про нашу честь. Начальство все захапало! — ругались заводчане. — Пошли, Серега…
— Погодите немного, — остановил их старик. — В ведре-то чего?
— Пять кило сомятины…
— Сойдет… Пошли за мной.
Мужики тронулись следом к старице. Петр Семенович с ведром исчез на дворе. Ждали долго. Вскоре он вернулся с ведром, прикрытым тряпкой, где покоились две бутылки самогона. Один заглянул, скривил губы.
— Маловато, дядя Петя!?
— Не сошлись, так сейчас верну рыбу…
— Все-все! — засуетился второй. — Сошлись!..
Они поспешно пошли к поселку. Петр Семенович поглядел им в спину, подумал с радостью: «Вот и рыбкой на праздничек разжился! Бабы пирог сварганят…»
Еще на прошлой неделе они на пару с Трифоновым выгнали на дальнем кордоне сорокалитровый бидон первача. Кордон уже заброшен давно, но сохранилась банька. Тишь да гладь! Хоть ракету собирай. Банька притулилась к самому ручью вдали от всяких дорог. В случае чего, можно было бросить все и переправиться через ручей вброд, и затеряться в тайге. Сам черт не сыщет! Правда от бидона осталась половинка, но все же остаток сохранили к празднику с великими муками и разделили остаток. Петр Семенович каждый день прикладывался помаленьку к своей доле, масленно блестя глазами за ужином. Приметил это один Алексей, но молчал, ожидая, когда догадается женская половина семьи и начнется скандал. Но все сходило гладко. Только однажды Катерина, подозрительно принюхиваясь, спросила:
— От тебя дымкой несет, батя. Где подхватил?
— Ты что! — гневно вскинул брови отец. — Уж коий месяц маковой росинки во рту не было! Придумала!.. Зойка болячку под носом мазала йодом…
— Пахнет-то не йодом…
Зоя только всплескивала руками.
— Когда же это было-то, батя? Уж недели полторы прошло… Не зря вы с каланчой в тайге дня три торчали.
— Йод, он въедливый, — оправдывался старик. — Рассыпались! Все вам хиханьки да хаханьки. Мотрите, а то опозоритесь! — и гневно глядел на смеявшихся женщин. — Смешинка залетела!.. Лучше картошку переберите… Хабалки!..
— Да уж давно перебрали.
Петр Семенович остановился как вкопанный, а потом закостылял во двор. Алексей краем уха слышал перепалку, спросил тестя:
— Все выдул?
— Хватит на праздник…
Алексей ходил от безделья по двору хмурый. С утра он объехал два перегона, закрытых еще летом. Пути уже успели зарасти бурьяном, к осени пожелтевшим. Сторожей на разъездах давно сняли, и все, что можно было унести, растащили. «Надо искать работу, — колыхалась беспокойная мысль. — А где? На заводе сокращения… Может, действительно организовать что-то? Трифонов и Боровой — мужики деловые. Все эти подряды начало и неизвестно чем все кончится. Россия!..»
На предпраздничном партийно-хозяйственном активе Алексей все же поддался уговорам Назарова и дал согласие на учебу в высшей партшколе. Но этому не суждено было сбыться. Неожиданно грянули события, которые перевернули жизнь и судьбы людей в стране…
Праздник в этом году отмечался в Темирязевке вяло и как-то безрадостно. Туманные и беспроглядные наплывали деньки, и это чувствовалось везде: в пустующих магазинах, настроении людей и какой-то всеобщей беспомощности. В Бересеньке, бывало, гуляли по неделе, а ныне многие даже не поехали на демонстрацию в головную усадьбу, хотя Айгирский завод предоставил бесплатный автобус. Накануне агитаторы шлялись по домам, навязывали обязаловку.
— Видел я в гробу эту демонстрацию! — сдержанно ворчал Петр Семенович, когда зять предложил ему прокатиться до Темирязевки. — Душа не лежит, как раньше…
Зоя сослалась на дежурство в больничке. Алексей по долгу службы и партийной принадлежности, обязывающей присутствовать на таких мероприятиях, стоял рядом с Кедровым на том самом месте, которое раньше занимал ныне отсутствующий герой труда Трифонов. У него внезапно заболела жена, и он повез ее в обкомовскую клинику в Междуреченск.
С Бересени подувал порывистый и холодный ветер, неся редкие снежинки. Они, словно белые мухи, садились на спины продрогших людей, слушавших длинную и сумбурную речь директора комплекса, медленно продвигавшуюся к концу, которого демонстранты ждали с большим нетерпением, как манну небесную:
— …Товарищи! У нас создались временные трудности… Иссякли живые запасы наших лесов. И мы вынуждены будем закупать сырье в сибирских леспромхозах. Договора уже в работе, — он угнул голову, словно набычился, готовый кого-то боднуть. — Партия и правительство не оставит нас…
Народ зароптал.
— На партию надейся, а сам не плошай! — выкрикнул кто-то из толпы, нестройно стоявшей перед трибуной, над которой трепыхались красные флаги и раскачивались поблекшие портреты членов политбюро и правительства.
— Да-да!.. Почему вы людей кинули?!
Начальник местной милиции покраснел, глядя сверху на людей, но на враждебные слова не откликнулся.
Кедров на злобные выкрики не ответил. Только гордо глянул поверх флагов на вершины сосен, патетически выкрикнул, сорвал голос:
— Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, руководимая верным ленинцем товарищем Брежневым!.. Ура-а-а-а! — раззявил он влажный рот во всю ширь.
Народ вяло проблеял:
— Ура!..
Сходя с трибуны, Алексей краем уха услышал, как кто-то из приезжих руководителей тихо проговорил:
— Ильич уже на ладан дышит… Ленинец нашелся…
— Тихо!.. Еще не время…
Жиденький оркестрик заглушил дальнейшие слова.
Демонстранты, как обычно, прошли мимо трибуны и разошлись кто куда, бросив лозунги и портреты во дворе управления прямо на землю.
Боровой, получивший накануне расчет в лесхозной бухгалтерии, догнал Алексея возле автобусной остановки, хмельно похохотал.
— Отрапортовал начальничек. Эх-ма!.. Выпить даже негде…
— Заходи к нам вечерком. Батя самогон сохранил…. Да там поговорим. А?! — проговорил Алексей.
— Заметано!..
Представителя обкома, лысого мужичка, приехавшего в передовой когда-то комплекс больше не на праздник, а на разведку по поручению главы области, обихаживал лично Кедров. Банкетик на десять персон, куда пригласили только близких, был не таким обильным, как в былые годы расцвета предприятия. На столах не было дорогих коньяков. Их заменила простая «Московская». Жиденькие бутерброды с красной икрой ярко высвечивались посреди домашних закусок…
* * *
Всю ночь и утро над ущельем шел снегопад. Растворилась тайга в пушистой бели, укрывшись до весны. Главный праздник остался позади, как мираж, и будни вершились медленно и тягуче. Петр Семенович потолкался по двору, задал корму корове и заглянул в курятник. «Что-то куры ныне молчат?» — забеспокоился он, отворяя двери. Сквознячок кинул в лицо охапку пуха, Петр Семенович поспешно сунулся в сумрак.
— Что такое?!
Перед глазами встала картина разбойничьего разора. Пять оставленных на зиму кур-несушек как ветром сдуло. Петух, еще живой, кряхтел, словно под грузом, раскинув крылья на земляном полу. Голова на прокусанной шее не держалась, а падала клювом вперед. «Видать, до последнего сражался! Лиса, курва!» Он взял израненную птицу, вошел в дом и опустил на пол, сказал плаксиво опешившим женщинам:
— Без кур ныне остались! Ну че вылупились?! — зло выкрикнул он. — Лису завтра же прижучу… Поглядите! Может, еще выживет?
На другом конце деревни все еще кто-то наяривал на гармошке. «У Машки гуляют с вечера!» — промелькнула мысль. Снег пошел густо, заволакивая пространство меж гор белью. Петр Семенович, погоревав возле курятника, взялся за укладку дров в поленницу, наколотых еще до праздника, как в калитку просунулась почтальонша.
— Здравствуйте, дядя Петя! Газетки принесла.
— Чего там новенького в миру-то, Нюрака?
— Брежнев помер!
— Ну-у-у?! — Петр Семенович с газетами прошел под навес, развернул «Правду», выписываемую Алексеем по партийной разнарядке. На него глянул портрет молодого Леонида Ильича с пятью золотыми звездами. — Чать, тогда их у него не было. Вон че!.. Теперя готовься, народ. Опять все по-новой… «Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров СССР с прискорбием сообщают, — шевелил он губами, — что десятого ноября в восемь часов тридцать минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев…» — Петр Семенович читать дальше не стал, покашлял, удивляясь скорой смерти, свернул газеты, сунув, их между балясинами крыльца, добавил недовольно: — Че это они все мрут скоропостижно? Косой, что ли, их косят?!
Вечером, сидя в кругу семьи за ужином, полюбопытствовал:
— Кого же теперь, Алеша, генеральным поставят?
— А кто там председателем похоронной комиссии?
— Андропов!..
— Вот его и поставят, — усмехнулся Алексей. — Правило такое. Кто главный на похоронах — тот и страной руководить будет.
— Вон че-е-е?! — протянул Петр Семенович. — Ты бы хоть телевизор отвез в мастерскую. А то как кроты в темноте. Человек еще вчера помер, а мы только сегодня узнали. Теперь дележ будет…
— Тебе-то чего, батя?! — насмешливо проговорил Алексей.
— Ага!.. По Сталину так плакал! А теперь чего… Народу-то снова да ладом затирка.
— Ну, то Сталин!
— Коммунисты ноне пошли, мать их! Главарь ихний помер, а они хоть бы хны! Даве встренул заводского секретаря и спрашиваю: «Когда траурный митинг у нас намечается?» — А он мне, так это, с ехидцей: «Уважаешь?!» — А чего?! — разошелся не на шутку Петр Семенович, подрагивая на столе пальцами левой руки. — В конце хрущевского правления на мякину перешли… Забыли, что ли?! А Брежнев пришел — сразу все появилось. Откель взял? Но заслуга, потому и зауважали все!..
— Чего ты сказал секретарю? — полюбопытствовал Алексей.
— А ниче! Охломон он…
— Не заводись, батя, — остановила отца Катерина. — Ешь, а то щи простынут. Он же и отнял, чтобы потом вылупиться перед всеми…
— Ты-то чего в политике разбираешься?
— Да уж не лаптем щи хлебаем, — подлила масла в огонь Зоя. — Все они одного поля ягодка…
— Да вы! — Петр Семенович бросил ложку, закостылял к двери, на ходу хватая с вешалки телогрейку. В проеме замер: — Вот придет Андропов! Он кагэбист! Выведет всех на чистую воду… Возьмет кое-кого за тепленькое местечко!..
Дверь всхлипнула от удара. Алексей, пригнувшись к столу, смеялся. Зоя морщила высокий лоб, сверкала взглядом озорно, приговаривала:
— Давно батя у нас так не заводился. Горит весь!
Петр Семенович, поостыв на ветру, взялся было подчищать от свежего снега дорожку к калитке. Снег пушисто высвечивался в ноябрьской темноте, играл в отсветах окон серебристо. Дойдя до калитки, он приметил сизый дымок из трубы Трифоновых, обрадовался: «Корнилович вернулся. Пойду узнаю, как там Марфа, а заодно покалякаем о событиях».
А снеговая стена становилась все непроницаемей, покрывая неровные шаги Березина, пересекавшего наискосок улицу, охапками…
В избе еще пахло холодом, но Трифонов сидел за столом в одной рубашке и закусывал водку луковицей с хлебом.
— О-о-о, сосед! — образовался он. — Садись!.. Чем богат… А то один, как бирюк! Приехал вот!..
Обнялись. Сели. Трифонов наливал другу в стакан, по-бирючьему супился, как-то тягостно сник после радостной встречи. Петр Семенович, прежде чем взяться за стакан, проговорил:
— Не намечал я ноне выпивку. Как там Марфа? Трифонов поднял опечаленные глаза, уже вдоволь захмелевшие.
— Плохо! Надежи нет!.. Профессор один сказал. Пока лечат, — коротко отчеканил он. — Давай выпьем, что ли, за ее здоровье! А то ведь я никогда за это не пил. — Он всхлипнул, но тут же оправился. — Жизню прожил с ней, а вот здоровья не обещал! Как понимать?! Грех это али нет?
— Все мы грешны… Ты-то в бога никогда не верил…
— А я окромя сталинских дел ни во что не верил. Сейчас, там, в больнице, попризадумался, Петя. Я все прошел… Вот так! Но тем делам я верен, потому что сам их вершил! Выпьем!
А две недели спустя после этих событий в Бересеньке появился Николай Петрович Березин, пополневший и обласканный властью. Петр Семенович, забыв все обиды, приткнулся к плечу сына.
— Ну вот и встренулись, Коля! — прошептал он слезно.
9
Николай Петрович Березин проснулся еще затемно, но вставать не хотелось. Давно он не купался в домашней сонной одури, беспечной и не скованной заботами, борьбой. По дому обычная утренняя колготня: снуют шаги, хлопает дверь, сдержанный говор — все это сочилось сквозь тонкую дверь спаленки, куда его уложили, как великого гостя, на большую перину. В передел звуков вплетался бешеный визг поросенка из сарая и тут же оборвался, как отрезанный. «Алексей ударил! — промелькнула короткая мысль. — Он и раньше бил точно в сердце!..»
Вчера посиделки и толкования о жизни затянулись далеко за полночь. Дотошно перелопачивали времена с того дня, как вернулся с фронта, словно альбом с фотографиями. Посмеялись над первой любовью Николая Петровича, над тем, как перся пешком из Плакучки… Да мало ли!.. Отец поначалу стеснялся вытащить из-под пола четверть самогона, плохо очищенного и вонявшего сивухой, но после того, как кончился коньяк, привезенный сыном из столицы, хлопнув в ладоши, проговорил:
— А нехай партейные боятся, а нам с бабами нечего! — Петр Семенович самолично выволок посудину, водворив ее на стол, продолжал, не обращая внимания на переглядки домашних: — Алешку в Яре чуть за кружку пива не посадили… Кагэбэшники там с мильтонами ярятся. Гонют народ!.. Для че же варят?! За водкой, как за хлебом в войну… Срам! Погоди, доживем еще до че-нибудь…
— Ты, батя, такие речи кончай базарить! — строго проговорил Алексей. — Времечко суровое. Николай Петрович не даст соврать.
— Верно! — подтвердил тот.
— Да я и сам не дурак, вижу по телику. А Катька все жучит: «Белены объелся… белены объелся!» — проворчав, Петр Семенович вытащил деревянную затычку, начал разливать пахучую влагу бережно. — Чать, сынок-то не продаст нас?!
Вспоминая ночные разговоры, Николай Петрович потянулся, подумал горько: «Да закручиваются гайки похлеще, чем в сталинские времена…» Как-то сразу всплыли те годы, когда Брежнев был еще жив, но бездеятелен, а Андропов уже раскачивал страну, пугая чиновников, распустившихся в безвластии, новой чисткой, пожалуй, самой громкой после сороковых годов. Дотянулся он и до минлеспрома. Многие департаменты стали худеть, как будто ветром сдувало чиновников со своих насиженных за долгие годы мест. А слухи секли, словно топором. Все сильнее замелькал страх после смерти «серого кардинала» Суслова, который, говорят, сдерживал порывы подступавшего террора. Стеной пошли самоубийства высоких чиновников. Люди шептались с опаской о беспределе близких родственников Брежнева. Дыма без огня не бывает! Золотишко-то и бриллианты уплывают из государственных карманов неизвестно куда. Говорят знающие люди, что верхушка из царской посуды жрет! Из Эрмитажа вывозят… Монархии захотелось!»
Березин чутко реагировал на это. Верил и не верил! Откровенничать даже с близкими друзьями стало опасно. Можно потерять все. А когда генсеком избрали Андропова, то пересуды разом оборвались, как будто обрубило. Челюсти у многих так и не успели закрыться, а аресты, словно лесные пожары, пошли верхами и низами… Снова затребовались расстрельные команды, чтобы разбить затылок вору или крупному политику, запятнавшим себя в грехах перед народом и государством…
Николай Петрович никогда, наверное, не забудет тот день конца ноября, когда его вызвали на Старую площадь. «Ну вот, и до меня дошло!» — страшная мысль прошлась мурашками по всему телу. Нет! Он испугался не за себя, а за родных! Тут же вспомнились слова отца, который втолковывал ему, когда он полез вверх по служебной лестнице: «Возле власти жить завсегда страшновато, Коля! Особо не рвись… Там друг друга жрут, как звери, за первое место. Запомни это!»
В правом ящике письменного стола, под бумагами, давно лежал у Николая Петровича дамский браунинг, подаренный ему одним милицейским начальником еще в Междуреченске, с которым он дружил еще с фронта. «Штука, конечно, опасная, но, может быть, когда-нибудь пригодится. Спрячь до времени», — посоветовал он.
Игрушечный пистолетик еле-еле умещался в большой ладони Березина. Патроны, как стальные шарики, с шелестом перекатывались по столу, падая из гнезда узкой обоймы. Большой палец выдвинул последний патрон. Николай Петрович сгреб их в ладони и сунул в карман пиджака, а пистолет положил обратно.
— Не пригодится, Леня! Я чист и не рвусь к общему пирогу, стараясь урвать лакомый кусочек!
Березин по пути заехал вначале на набережную Москвы-реки, озираясь, высыпал патроны в воду, а потом отправился на свою холостяцкую квартиру, надел парадный костюм, к которому были прикреплены ордена и медали. Перевесил золотую звезду и депутатский значок… «Ну, кажется, готов!»
С Юрием Владимировичем Андроповым Березин был знаком с тех пор, когда тот работал вторым секретарем ЦК ВКП(б) Карелии. В лесной республике в ту пору частенько проводились совещания и партийно-научные конференции по проблемам леса. С тех пор много воды утекло и жизнь во всех сферах переменилась. Правда, и тогда чувствовалась в этом высоком и красивом человеке стройность и крепость духа. Но тогда, при Сталине, многие подражали вождю. «Какой он сейчас?! А от Цека до Лубянки рукой подать… Если арест, то прямым ходом… — думал он тревожно, выходя из машины. — Что ожидает меня за этими стенами?» Он окинул взглядом площадь, дома и остановил взгляд на высоком портале подъезда. Сердце снова дрогнуло и Березин прошептал:
— Ну, с Богом!
Встреча была короткой. Березина встретила та же улыбка слегка прищуренных под очками глаз. На первый взгляд, она мягкая, но жесткость проглядывалась в глубине. А может быть, скрывали линзы очков? «Поседел и похудел, а так… и болезненность. Значит, слухи не зря идут о болезни генерального», — коротко подумал Березин, шагая по мягкому ковру к массивному столу, возле которого стоял Андропов.
— Здравствуйте, товарищ Березин! Садитесь… — жестко произнес Андропов, присаживаясь в кресло. — Вам нужно вернуться в Междуреченск. Решение цека принято. Объяснять не буду. Вы и сами все знаете, если не потеряли связь с родиной.
— Не потерял…
— В области прогрессирует упадок. Наведите порядок!.. На переднем плане — это укрепление трудовой дисциплины, начиная с низов и до верхов. Борьба с пьянством… С коррупцией!.. Ржа разъедает страну! Идеологическая борьба не закончена. А мы опустили руки!.. Документы в секретариате… Мы на вас надеемся. Вы же фронтовик. Прощайте!
Андропов вышел из-за стола, пожал руку и проводил Николая Петровича до двери.
В министерстве на Березина посмотрели, как на выходца с того света, зная, что такие свидания для многих заканчивались трагически…
— Что же? Будем закручивать гайки! — проговорил твердо Николай Петрович, поднимаясь с постели. — А Зоинька по-прежнему хороша! — вздохнул он, перекидывая мысли на другое. — Хотя талия уже не девичья… А так — красавица!
С тихой сладостью он вспомнил дол под Айгирским утесом, чуть повлажневшую траву на луговине и торопливый жаркий шепот женщины с горящими глазами… И все, как в туманной невиди!.. Словно в сказке! Мелькнула молния страсти и ушла без следа! То все прошло, но любовь к этой женщине не исчезла…
Николай Петрович одевался медленно, растягивая приятные воспоминания. В окно пыхнул со стороны двора желтый отблеск горящей соломы, на которой мужики опаливали зарезанного боровка. А вокруг стояла тишина. Пахло от сруба смолой… Старые таежные лесины еще жили, вливая в комнату таежный сладкий дух, который вливался в тело радостной бодростью. «Родное гнездышко! — пронеслись добрые мысли. — Да!.. С этим расстаться нелегко! А придется… Выхода нет!.. Ну да ладно…»
За стеной взвыл стартер, а потом взахлеб зарокотал мотор стоявшего в проулке трактора, который ставит Боровой на ночь. «Клапана шалят, — машинально подумал Николай Петрович и ухмыльнулся. — Еще не забыл…»
В зале его встретила заспанная Катерина, несшая на животе большой эмалированный поднос, полный замороженных пельменей.
— Ты чего, Коля, вскочил? Отсыпайся… Поди, в Москве-то не до сна было? Там, говорят, все куды-то бегут…
— Верно! — улыбнулся он, целуя сестру в пухлую щеку. — А я привык издавна рано вставать.
— Помню… Чуть свет и уж в Междуреченск…
Из-за кухонной цветастой занавесочки выплыла Зоя.
Со смешинкой на глазах, она щурилась на пополневшего в столице деверя, невольно сравнивая его с тем бравым парнем, таскавшимся за ее юбкой и даже сумевшим соблазнить ее на любовь. От нее шло какое-то пахучее тепло, разжигающее чувство, да печным дымом. Давно уж готовили на газу, но ныне отец, отстоявший свое сокровище, когда Алексей собирался ее разобрать по кирпичику, настоял, желая угодить сыну:
— Холостая еда на газу! — рычал он на женщин. — Из загнета к вечеру щи, как конфетка! И жаркое на поду…
Зоя повела крутым плечом и, пряча в синих глазах лукавинку, спросила:
— Как в родном доме-то спалось, Николай Петрович?
— Как в раю! — воскликнул он, широко улыбаясь и глядя на Зою испытующе. Жар, как и в молодости, плеснулся в лицо. Ведь были женщины, которые с готовностью разделили бы с ним и хлеб, и кров. Ан нет!.. Засела в душу, как заноза, женщина, похожая на подсолнух, с васильковыми, какими-то завораживающе бездонными глазами. «Вот и Сашка перед ней не устоял», — подумал он коротко, шагнув за перегородку, где стоял умывальник. Катерина подала ему чистый рушник, хлопнув ладонью по широкой спине, озорно сказала:
— А ты, как медведь к осени, наел калган. Многовато, братишка, жирка накопил на сдобных хлебах!
— Растает на новой работе! — угрюмо отозвался Николай Петрович, не любивший разговоры о его полноте.
— Ну-ну!
Николай Петрович костюм надевать не стал, а облачился в джинсы и свитер. Затягивая на поясе ремень, думал, как сказать отцу о новом назначении. Вчера он промолчал, зная, что отец не любит высокие посты. Такой уж характер. Всю жизнь он старался придержать детей возле себя, чтобы жить большой семьей. «У тебя, батя, и так полон дом людей! — говорил отцу, бывало, Александр. — Все мы рядом…» Петр Семенович недовольно поджимал губы, сдерживая раздражение, помалкивал, а только розовел щеками.
После завтрака Николай Петрович, накинув на плечи черную дубленку, приобретенную в спецмагазине, вышел во двор. Под подошвами ботинок весело хрустнул снежок, тронутый легким морозцем. Отец с Алексеем загружали на ручные санки свиную тушку, чтобы обмыть ее на холодной стремнине. Николай Петрович сунулся было помогать, но отец отстранил его:
— На те шуба, как на барине. Не пачкайся… Поди, стоит-то деньгу?
— А-а-а, для чинов копейки! — усмехнулся Алексей. — Ты, батя, на такую дубленку за жизнь не накопил…
Петр Семенович крякнул, а Николай Петрович перевел неприятный для него разговор на другую тему:
— Что-то Трифонова не видно? А то ведь он издали выпивку чует. Живой он?
— Он-то живой, — отозвался отец, раскрывая калитку. — А вот Марфа болеет. Возил в Междуреченск. Денег кучу истратил, а все бестолку. Не помогли профессора. Отвез по ее просьбе в монастырь. Говорят, там бабка-монашка все болезни излечивает. Ну и он с нею рядышком обитается. Даве приезжал на день. С Алексеем Сталина поднимали в грот. Сходи, посмотри.
— Какого Сталина?! — вздернул брови Николай Петрович.
— Какого! — усмехнулся Алексей. — Помнишь, как все искали бюст вокруг Айгира? Так вот. У Трифонова он во дворе спокойно полеживал. Ха-ха-ха! Спер он его средь бела дня! Ну а недели две назад мы его в грот поставили, а тропку к нему разрушили за собой. Теперь его не достать. Разве пушкой!.. Седни не видно, — Алексей махнул рукой в рукавице в сторону утеса, занавешанного пыльной изморосью. — Сходи, посмотри.
Тушку опустили на толстой веревке в прорубь. Вокруг женщин крутился кобелек, пытаясь ухватить требуху, хотя глаза уже подернулись сытой поволокой, а живот был туго набит обрезями.
— Пошел, Полкан! Рухнешь в прорубь, — гнал его Алексей.
Николай Петрович, внимательно оглядев деревенскую улицу, тронулся к утесу. Любопытство толкало его вперед. С детства помнил он эту темную нишу в скале на большой высоте, прикрытую сверху каменным козырьком, похожим на клюв хищной птицы, доступную только самым отчаянным пацанам, с каждым шагом рискующих сорваться с сорокаметровой высоты на валуны бушующего порога. Протоптав в свежем снегу дорожку к краю порога, Николай Петрович долго смотрел на грот, где вырисовывался бюст Сталина, припорошенный у основания белью. Бросились в глаза перемены в стенной глади утеса. Карнизик, шедший наискосок к гроту, хрупкий и еле-еле державшийся, был обрушен начисто. «Поработали! — усмехнулся Николай Петрович. — Теперь его взять трудно!..»
Еще постояв минут десять возле затихшего слива порога, усеянного обледенелыми камнями, Николай Петрович вернулся в деревню.
По дому разносились запахи масленых блинов, мясного отвара. Катерина прокручивала на мясорубке мясо, Зоя жарила селянку из осердия. Возле них крутился пестрый кот, терся о ноги и мурлыкал громко. Алексей колдовал со спиртом, добытым Зоей в больнице. Петр Семенович обдирал у окна сушеных язей. Чешуя прилипла к рукам, рассыпалась по полу.
— Присаживайся, Коля. Вот попотчую сушеной рыбкой. Как помер Матвей, так некому стало ловить свеженькую. Когда на кладбище-то пойдешь?
— А вот позавтракаем…
— Леш, сходи к Димке, попроси лыжи, — развернулся к Алексею тесть всем телом. — У нас две пары… Ох-хо-хо!.. Жизня… Прости, Господи! — Петр Семенович перекрестился. — Сходи сейчас, пока бабы стряпают, а то за разговорами-то забудем.
— Не забудем, — отозвался Алексей.
С кладбища вернулись часа через два с хвостиком, промерзшие и уставшие, пока греблись по снегу к Белому берегу на старых снегоступах. Бабы запустили в кипяток пельмени и снова сели за стол. Под холодец помянули всех родных и близких, усопших в разные годы. Потом уж чокались рюмками со звоном. Под завязь женщины подали селянку из осердия с салом. Николай Петрович, отяжелевший от непривычного обилия смен, вышел покурить во двор. За ним потянулся отец, заговорил с ходу, катая неуклюже пальцами папироску в портсигаре, протянутом сыном:
— О делах-то все некогда спросить, сынок. На побывку аль как? — Он кинул пытливый взгляд. — Ты как-то оторвался от нас! И все пошло кувырком в лесхозе. Хозяева плохие, отчего людям робить негде… Так че?!
— Знаю, батя. Многие на меня в обиде, — тихо заговорил Николай Петрович. — Не моя воля, батя! Куда пошлют… Я же коммунист!
— Это понятно. Но…
— Теперь времена другие наступили, — перебил отца. — А сейчас вот на прорыв. В Междуреченский обком меня направили.
— Вон как! — протянул Петр Семенович, с трудом сохраняя душевное равновесие. «Скачет, как козел, туды-сюды!» — пронеслась неприязненная мысль. — И кем же?
— Первым секретарем…
— Ясно! А я, старый дурак, надеялся, что ты к нам комплекс подымать. Ошибся! Значит, первым. Хмы… Поживешь у нас?
— Нет, батя. Завтра дела принимать.
— К Назарову зайдешь?
Николай Петрович, ничего не сказав, пошел в дом. За ним тронулся и отец. В избе, только-только перешагнув порог, выкрикнул сипло:
— А че молчим-то?! Ну-ка, бабы, заводите!
Женщины прекратили разговор. У Зои озорно блеснули синеватой искоркой глаза, она проговорила распевно:
— Когда-то миленочку моему Саше пела я одну песню. Когда нонче поминали, то сердце подсказало. Вы ее не слышали. Одному Саше ее пела, — она выразительно глянула на Николая Петровича, тот понял и подумал: «Верна Зойка Сашке до сих пор!» А Зоя продолжала, припоминая тот день, когда они с Березиным рыбачили на Сарысу: — Миленочка уж нет, а песня осталась. И камешек из тех далеких времен на комоде лежит!..
Зоя умолкла и через некоторое время запела тихо и проникновенно, печалью окутывая комнату:
Пленительная, злая, неужели Для вас смешно святое слово: друг? Вам хочется на Вашем лунном теле Следить касанья только женских рук…Песня неожиданно оборвалась, словно закатилась в ту тьму, что занавешивала когда-то жизнь. И Зоя, закрыв лицо руками, убежала в свою комнату.
Наступила тревожащая тишина. Петр Семенович хмурился. Катерина пошла утешать Зою, а Николай Петрович попросил Алексея:
— Налей-ка всем, а то что-то скучновато стало без выпивки. А Зоя все страдает!.. Да-а-а! А ты, батя, все хотел нас спарить.
Петр Семенович только развел руками.
Утром, походив по цехам Айгир-завода, Николай Петрович выехал в аэропорт. Вез его на своем «Москвиче» Алексей. Дорогой почти не говорили. Уже за Темирязевкой, когда машина выскочила на степной простор, Алексей спросил:
— Я смотрю, ты все приглядывался к старым траншеям. Не успокоился еще?
— Надо же как-то вдохнуть в завод новую жизнь…
— Жизнь — это хорошо! Но ты же раз уже обжегся на этих плывунах. Зря деньги зарыли…
— Да! Поторопились! Не проработали как следует проект. И геологи подвели…
— Спросили бы стариков…
— Я смотрю, Алексей, ты, как батя, против?! — криво ухмыльнулся Березин, доставая папиросы. — Но я все же сделаю! А кто встанет на пути… сотру в порошок!
— Ты, как брательник, покойничек. Тот по трупам гулял, а ты по живым душам. Ну-ну!.. Наблотыкался в центре! Мы еще посмотрим!
— А я пересажу всех, кто смотреть вот так будет! — сурово произнес Николай Петрович.
Алексей от неожиданности таких угроз чуть не заехал в кювет, затормозив на самом краю снежного вала. Холодные мурашки сыпанули по спине. «А что?! — промелькнула тревожная мысль. — Если надо, то посадит. Гаечки опять крутят!»
Дальнейший путь прошел в тягостном молчании. Непримиримость сквозила во всем, словно они давние враги. Перед зданием аэровокзала, пришлепнутым снегом, Алексей остановился. Николай Петрович, чуть помедлив, вышел, захватив с заднего сиденья портфель, тронулся к зданию, не сказав ни слова, прикрываясь от ветра воротником. Потом, что-то вспомнив, вернулся и, приоткрыв дверь машины, сказал:
— Ты ждешь вызова в партшколу? Не жди!.. — и, оставив дверцу открытой, продолжил путь.
— Вот так, Алексей Павлович! — насмешливо проговорил Алексей вслед. — Не хотел — так и не получилось! Еще бы годик продержаться, пока Верунька не закончит школу… Ну, где наша не пропадала! А Березин раскрылся, как на ладошке. Ох и наломает новая власть дров!
Алексей тут же вспомнил все разговоры о наступившем времени, когда жизнь стала шаткой, как подгнивший забор. «Ворья развелось, конечно, — думал он. — Но эта стихия может захватить и честного человека». Отматерившись трехэтажно, Алексей с силой захлопнул дверь и повернул ключ зажигания.
Вернулся домой Алексей уже заполночь. По пути заехал в монастырь к Трифонову. Тот глядел на Алексея вымученным взглядом, не похожим на взгляд разгульного «железного лесоруба». По посеревшим щекам стекала невидимая грусть, словно линька со зверя. У Алексея дрогнуло сердце: «С Марфой плохо!»
— Все, Леха! — проговорил Трифонов сдавленным шепотом, глядя в белую заволоку оконца в прихожей монастырского дома. — Не сегодня — завтра помрет!.. Привези, Леха, доски, те, что напилены из топляков. В погребице они. Как знал, в дело не пустил. Гроб тут сам слажу и похороню тут… В монахи подамся. Прошение подал. Мастера и в божьем деле нужны. Более я в своем доме жить не смогу. Пусто стало там! Похороню, а потом с хозяйством разделаюсь. А вы че надо возьмите… Скотину и утварь разную на монастырь отписал. Ежели покупатель на дом найдется, то продайте за любую цену…
Больше Трифонов ничего не сказал, ссутулившись, ушел, прикрыв за собой высокую дверь. Оцепенение Алексея длилось недолго. Взмахнув рукой, словно крылом, вернулся к машине. «Да-а-а, без Марфы и деревня заскучает».
— Чего мрачный, чернее тучи? — спросила Катерина Алексея, встретив его у ворот, распахнутых настежь. — С Колей полаялись?
— С Колей ладно! Заезжал в монастырь. Марфа помирает. Трифонов посерел, как волк!
— Господи! Вот уж напасть! Батя спьянел и спит. Зоя ушла на работу в ночь. Тебе ужин поставить?
— Поставь и налей, ежели что осталось…
Ночью Алексей долго не мог уснуть. Катерина, приткнувшись к боку мужа, посапывала, как ребенок, умаявшись за день по хозяйству. Прокручивая весь разговор с Березиным в пути, размышлял над своей жизнью, порой волочившейся тихо и мирно, а порой скакавшей стремительно, словно упиваясь радостью свободы. «И годы все же прошли не зря! — тянулась непрерывная нить воспоминаний. — Все было! И многое достигнуто… Хотя! Что еще будет впереди? Неизвестно…»
Поднялся Алексей задолго до рассвета. Осторожно высвободившись из-под теплых рук жены, отяжелевших в роздыхе от дневного труда, вышел во двор к скотине. Буренка потянулась мокрыми толстыми губами к куску хлеба, протянутому Алексеем. Пахучая тишина коровника успокаивала. «Наверное, от этого уйти нельзя! — Алексей улыбнулся. — Не сравнить ни с чем!» Он кинул в ясли охапку сена, вышел под навес сараев. Ветер дул с гор, мел поземку, закручивая у тына снег в легкие, как пух спиральки. Даль была размыта в бело-серой темноте раннего зимнего утра. Айгир-завод бросал отблески огней на утес. В низине пыхтела кочегарка, но цеха еще стояли. Не слышно было визга, циркулярных пил и натужных вздохов пилорам.
— А раньше в три смены работал завод. Ветшаем!.. — проговорил Алексей с горечью, вспоминая, как угарными темпами строилось предприятие, включенное в план Всесоюзной комсомольской стройки, как люди тянулись сюда со всех концов страны. — Что было, то прошло…
Вышел по нужде Петр Семенович. Увидев Алексея, прислонившегося к опорному столбу навеса, удивился:
— Ты че тут кукарекаешь?! Курить будешь?
— Нет, батя! В такую рань да на голодный желудок…
— А мне вот все едино… — тесть проскрипел протезом за свинарник.
Просветы в небе светились звездно и ярко. «Мороз будет, — подумал Алексей. — Машину бы погреть…»
Петушиный голосистый зов спугнул тишину, поднял с насестов своих сородичей и пошел гулять по порядку: «Ку-ка-ре-ку-у-у!»
10
За три недели до нового тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Дмитрий Фролов завершил последнюю браконьерскую охоту на старой тайной заимке, упрятанной в глухих урманах за Разбойным Камнем. Добыча была скудной на этот раз. Зверь ушел. По восточному склону главного хребта подстрелили старого сохатого, уже потяревшему половину зубов. Рассерженный Шарыгин срывал злость на землянке, намереваясь столкнуть полыхавшую вовсю печь на пол, но Дмитрий его вовремя остановил:
— Ты че, дядька, придуриваешься! Эта землянка — память об отце, брате!.. Я те башку сверну!..
Шарыгин оскалился зло рядом железных зубов, проговорил уже в дверях:
— Уж пошутить нельзя! Сразу башку…
— Такие шуточки… Уго-ло-вник!
Помирились спустя полчаса и вернулись домой благополучно, если не считать заглохший два раза движок снегохода. Ладно морозы в этот день спали, а то бы заледенели на ветру. Уже глубокой ночью, подкатили к воротам. Подвешивая в сенцах к стропилам тощую, как мочало, лосятину, чтобы промерзла еще крепче, Дмитрий говорил молчавшему от обиды Шарыгину:
— Все!.. Лафа кончилась… Зверь ушел, а заповедник власть стережет и метет шершаво. Мясо отвезешь на зону в Малиновку. Зэки изгрызут… Винтарь сегодня же заберешь с собой. Припрячь до времени. И пока все дела прикроем. Ныне вышку можно схлопотать… В Яру чистят, как тротуары метут. До нас скоро дойдет. Будем сидеть пока тихо и мирно. Неохота по Васькиному пути идти. Ежеле бы тогда вовремя не остановились, то по-другому бы все вышло. Теперь локотки кусать… Жадность губит фраера.
— Продали вас, Дима, а вы и уши развесили!
В сени вышла из избы жена Дмитрия, спросила у мужа:
— Из лосятины бы холодца наварить…
— Из нее бронежилеты только делать! Сварим из свиной головы. А-а-а-а, сама думай, Грунюшка. Не мешай пока.
Груня ничего не ответила и покорно ушла в жарко натопленную избу собирать мужикам стол. Следом поспешил Шарыгин, поставил за печку винтовку и двуствольное ружье двенадцатого калибра, глушившего любого зверя, чтобы побыстрее отошло оружие от холода и можно было бы почистить, коротко спросил Груню, жарко глядя на широкий развал бедер молодой женщины, нагнувшейся над столом:
— Помочь? — голос сел от волнения. Он не мог оторвать взгляда, облизывая сразу замокревшие губы.
— Ты чего так глядишь!? — Груня почувствовала спиной желание Шарыгина. — Ты че?! Вот скажу мужику…
— Да ладно, — Шарыгин отвернулся.
После последней отсидки, когда жена, собрав кули, уехала за Урал к родителям, он так и не женился, перебивался с хлеба на воду. Бабы не интересовали его. А вот Груню бы взял! Нравилась ему эта женщина, обиходная и скромная. Был бы помоложе, то потягался бы с племяшом. А так! У Дмитрия рука тяжелая, а в случае чего и на мокрое дело пойдет. Давно он затевал накатать телегу да отправить родственничка туда, где Макар телят не пас, но побаивался. У самого рыло в пуху…
Груня снова занялась ранним завтраком. Шарыгину очень хотелось лапнуть ее за бока. Он уже примерился, но вошел Дмитрий, и он поспешно отошел к окну. Фролов давно замечал эти жадные взгляды, но молчал пока.
— Ты вот чего, дядь Вить?! — заговорил Дмитрий, желая сплавить дядьку из дома. — Скоро уж утро… Спать некогда. Первой же вертушкой смотаешься в Плакучку. Возьмешь в гараже у Михайлыча газон и сюда за грузом. Заедешь в Ленинское… Скажи Горохову, пусть из Айгира весь лес срочно отправляет. Там скопилось кубов двадцать вагонки. Не до сушки… Доберутся до тайного склада органы… Пиши пропало! Бугров еще три дня назад звонил. На иголках сидит! А потом, когда все сделаешь, может быть, заберешь свое барахло да у нас поживешь. Нечего тебе там куковать! Да не забудь, ворам скажи, чтобы затаились на время. Будешь жить в избе деда Григория, покойничка…
— Сделаю! — коротко отозвался Шарыгин, но на предложение переехать сюда ответил сдержанно, пряча в глазах злость. «Сука, а к себе в дом не хочет!» Вспомнилось, как сам Фролов, будучи уже немощным, все сманивал их с женой переехать в Агамановку — «Переезжай!» — думалось ему, а вслух сказал — Там, Митя, хата и работенка какая-никакая! Лапу сосать да и на твоей шее сидеть… У тебя детишки. Да и дом тот надо почти заново ладить. В нем, как в решете. — Говорил, а мысли бежали в другую сторону: «На-а-а, подлюга. Шестеркой хочет заделать, но не на того напал, не наколюсь. Грыжу тут зарабатывать. Земли ему Витолов гектар нарезал». — Не-е-ет, Дима, — заговорил он снова. — До лета там прокантуюсь, а там видно будет. Может, еще так случится, что когти рвать придется…
— Не каркай! — Фролов недовольно поджал толстые губы, поняв, что дядьку сюда никаким калачем не заманишь. Он шумно сел за стол, пододвинув вплотную к себе большую тарелку щей, паривших жаром и пахнущих одуряюще квашеной капустой и чесноком, спросил жену, все еще думая о разговоре с дядькой:
— Выпить найдется, а то промерзли до костей!
— Ежели только ту, что на встретины Виктора запасли.
— Давай!
Хлебал щи неистово после стакана водки, а мысли все лились и лились. «Хозяйство большое, а где взять свободные руки? Не управиться нам с Груней. Не управиться! Неплохо бы Шарыгу рядышком иметь! О делах моих знает почти все и отыграется, ежели паленым запахнет. Уговорить!» — думал он глядя исподлобья в широкое лицо Шарыгина, где выделялись, лежа веером, большие густистые брови. Поначалу Дмитрий бил на то, что, дескать, близкая родня, и мать в последний путь снарядил, обихаживая немощную до самого конца, но потом понял, что этим дядьку не потревожишь, и ныне сменил пластинку:
— Мы бы тут, дядя, с тобой такое закрутили?! — говорил Дмитрий ласково, тот удивленно ухмыльнулся, но тут же лицо снова закаменело, заметив в глазах, рыжих, как сноп, каменелость и что-то звероватое, недоброе. — Ты же классный работяга, дядя! — продолжал Дмитрий. — А у меня в конторе машина чахнет. Наладил бы и в шофера подался. А то меняются, как перчатки. Да и довериться нельзя чужому человеку. У Чеснокова из гаража поэтому и беру машину. Все не к делу. Да и Чеснок может скурвиться! Подумай внове…
Шарыгин не произнес ни слова. После отсидки на северных зонах, где здоровье его заметно пошатнулось, выйдя на волю, снова вернулся к старым воровским привычкам, хотя теперь такого богатого доступа к государственным ценностям не стало, но все равно хотелось дотянуться до бывалых высот. Но тут все знали Шарыгу, как облупленного. После конфискации имущества остался домик под железной крышей, записанный на жену, да десяток кур во дворе. «А ведь было! — мечтательно вспоминал он богатый двор и его закрома, холодильничек, всегда набитый до отказа. — Было… Было!.. Да все сплыло…» Да и не разгуляешься с новой властью. Начали чистить от верха до низа. Посмеиваясь на нешуточные страхи Фролова, говаривал:
— Село для дворов, а тюрьма для воров! Не бзди, Митька, я тебя научу чалиться…
Фролов шуточки эти не понимал, а на слуху по району или сплетни, как сажали то одного, то другого. Многие, говорят, схлопотали по четвертной, а то и по вышке. А цеховиков как заразу выметали подчистую… Богатство стало не в моде! Но Шарыгина это мало занимало. Он знал, что сейчас метут по-крупному и на мелочишку ноль внимания. Сразу же после обильной бериевской амнистии приехал в Атамановку, заранее зная, что дом его в Ленинском пуст, а жена уехала со ссыльным, получившим вольную, куда-то на Украину. Маляву с этой вестью еще в пятьдесят втором году доставил на зону вольнонаемный каптер родом из Яра, прибившийся в холодных краях с тех пор, как по судебной путевочке уехал этапом строить железную дорогу на Воркуту. «Сука!» — только и вымолвил тогда Шарыгин, отдав «красненькую» за добрую весть. И тут же об этом забыл, словно не было посиделок вечерами на Бересеньке и пяти лет совместной жизни. Он и сам удивился, как у него не дрогнуло сердце. Заколотилось оно тогда, когда он увидел развалы усадьбы Фроловых. «Куда теперь?! — болезненно колотилась мысль. — В Ленинском голые стены и никто не ждет!» Через знакомых узнал всю подноготную трагедии Фроловых: Дарья тронулась умом, хозяин усадьбы помер, а братья в детдоме…
— А что?! Может быть, все это на мое счастье! — произнес он тогда.
Поехал в монастырь и до самой смерти женщины обихаживал больную, таскал на закорках в нужник, подмывал и подтирал с брезгливостью. Поначалу драло, выворачивало, как Сидорову козу, но потом привык. А Дарья забыла не только родню, но и собственное имя. Знал Шарыгин еще с довоенного времени, когда был еще пацаном, что копит золотишко брательник. Видел он, как однажды ссыпал в чугунок Фролов монетки. Золото текло ручейком меж пальцев. Вспомнил он об этом золотишке на зоне и, вернувшись, ходил кругами по двору, нюхая, как пес, идущий на след. Поэтому и ухаживал он со рвением за Дарьей, пытаясь хоть что-то выведать, найти небольшую зацепку. Но Дарья ничего не помнила, а может быть, и не знала. Она только толмила целыми днями, тряся головой, словно ехала на паровозе:
— Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-у-у-у-у!..
О смерти матери он сообщил братьям, когда те еще были в спецприемнике. И сразу же после похорон ринулся снова в Атамановку. Малолетние наследники дали ему доверенность на хозяйствование, хотя хозяйствовать было нечем. Шарыгин целыми днями рылся в развалинах, как крот. Не добившись результата, Шарыгин перекопал весь огород. Соседи дивились такому усердию Шарыгина, не знавшего ранее никакой заботы кроме воровства, толковали долго:
— Витек-то исправился…
— Горбатого могила исправит. Тут какая-то выгода?
— Да ну, мужики! Какая тут может быть выгода?
— Не зря! Не зря!..
Вместо золота Шарыгин нашел в подполе старого дома поржавевшую казачью шашку в ножнах, оправленных серебром, да иконку Божьей Матери, когда-то сверкавшую сусальной позолотой, а ныне потерявшую всякий блеск. Шарыгин и этому был рад. В кармане шиш да дыра, а кушать хочется, как поговаривал он сам. Шашку он привел в надлежащий вид и продал ее барыге из-под полы за три сотни в Красноярском базаре, а икону ему заново обчернил старый цыган латунью, лудивший в районе кастрюли и самовары. Латунь сверкала, как золото, а лик святой светился свежестью. Подсунул он икону приезжему антиквару за полтыщи рублей, скупавшему церковную утварь по Уралу, имея тайные связи с контрабандистами.
— Все не зря старался, — оправдывал свои заботы Шарыгин, но о золоте нет-нет да вспоминал. — Должно оно быть!.. — свербила мысль.
Позже, помогая Дмитрию Фролову строить новую большую пятистенку о семи комнат, он не забывал заглядывать в самые потаенные места, копался в гнилье, как навозный жук. «Где же он припрятал?! Искать, искать надо!»
Вот и сегодня, глядя на то, как ловко отсчитывает Дмитрий деньги на расходы, вспомнил о кладе и проговорил, надеясь из дела сэкономить для себя копейку:
— Сотни не хватит. Тому дать в лапу — другого подмаслить… Вохра народ жадный.
— Хватит им! — отрезал Дмитрий. — Они с зэков шкуру дерут. Шуруй!..
Вернулся Шарыгин в Атамановку на другой день и застал Дмитрия с гостем за столом. Поначалу Шарыгин не признал в широкоплечем полковнике своего племяша Виктора Фролова, даже немного перетрухал: «Чекист! По наши души!» Но страхи рассеялись, как только вошел в комнату.
— Витька! — прохрипел он.
Виктор поднялся навстречу, облапил дядьку ручищами так, что хрустнули косточки, пробасил:
— Ну, здорово, Шарыга. Ты чего, дядька, пятишься, как бычара?!
— Да не признал сразу… Витька! Погоди, задавишь… Здоров стал на казенных харчах. Когда прибыл?
— Да уж пятые сутки. Садись, выпьем…
— Не-е-е, я за рулем.
Попозже, когда Виктор Фролов уехал в Красный Яр, Дмитрий спокойно выслушав обстоятельный доклад Шарыгина о делах, сказал:
— Витька на Новый год к нам приедет гульнуть. Сколь лет с братаном за столом не сидели. Ты по пьяни язык попридержи. Хочу людей деловых пригласить. А Витька служака еще тот — не пожалеет и родню, коль узнает о наших делах. Ты машину заправил? — перевел разговор на другое.
— Под завязку, — Шарыгин ребром ладони провел по своему морщинистому горлу, с кадыком, увязшим в складках. — Все по делу, Митя. Как в аптеке. Машину оставил на задах…
— Ну, хватит базарить! Поехали…
* * *
Виктор Фролов приехал на родину в отпуск вместе с женой в начале декабря. Уже вовсю на Урале потрескивали морозы и тайга, одетая в куржу, стояла белой, как будто посыпанная сахаром. Из Яра было хорошо видно главный хребет, завязанный узловыми отрогами у горы Шоломки, упиравшейся в блеклое небо плоской вершиной. Фролову не очень-то хотелось ехать на родину. Долго он сманивал жену отдохнуть в Медео. Там, среди гор, неподалеку от знаменитого на весь мир катка, упрятался уютный дом отдыха МВД. Но капризная супружница, державшая все время мужа на поводке, упрямо заявила:
— Не поедешь, уеду одна. Надоела мне эта Азия!..
Одну Виктор жену отпустить на Урал не решился. Слишком много было у нее там друзей. Да и дело потянуло, хотя и было не неотложное, связанное с гибелью, вернее, исчезновением старшего брата. Еще в детстве, находясь в спецприемнике, расположенному в стенах древнего монастыря, Виктор делал попытки разрешить эту проблему. Но тогда это было просто глупостью. Сейчас же есть у него возможность проникнуть в святая святых архивов. А тогда он подбивал на это дело Дмитрия, но тот был занят воровскими делами и попросту отмахнулся: «Чалится где-нибудь братан! Появится…» Не появился. Сгинул… А теперь уж прошло много лет, а все тревожит думка и с возрастом все сильнее, и сильнее возникает желание разгадать дальнейшую судьбу брата. «Кто-то ведь знает!» — толкалась назойливая мысль.
Еще летом Фролов получил письмо от тестя, занимавшего должность начальника районного отдела кэгэбэ. Тот коротко намекнул в письме, что, дескать, кажется дело Василия проясняется, и надо вместе разобраться во всем. Летом задержали дела. После гибели Сорокина, командование спецподразделением по борьбе с бандитизмом и наркодилерами принял на себя Виктор Фролов.
Нетерпение зятя побыстрее узнать о том, что раскопал он в архивах, Пыльнов осадил сразу же, как только встретил Фролова на вокзале:
— В отделе поговорим, — хмуро проговорил Пыльнов, пристально и изучающе разглядывая дочь, все так же легко спорхнувшую со ступенек вагона. «Цветет! А жаловалась, что вся иссохла в Азии!» — подумал он.
Пыльнов, по давней привычке старого чекиста, не любил заводить разговоры при посторонних, даже в присутствии родной дочери, о делах секретных, тем более связанных с архивами бывших врагов народа.
Устроившись в маленькой комнатушке у зятя, бывшей спаленке Риты, посидев с тещей за самоваром, Виктор Фролов все же уговорил Пыльнова поехать в управление, глянуть на копию акта о смерти брата, хранившуюся в сейфе.
Пыльнов включил настольную лампу, перед этим занавесив окна в просторном кабинете, молча достал тоненькую папочку, где всего лежал один лист бумаги, положил перед Фроловым, коротко произнес:
— Читай…
Виктор с трепетом в сердце раскрыл папочку.
«…Восемнадцатого июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, — про себя читал Виктор написанные от руки строки, — на жителей деревни Бересень, косивших траву для скота, было совершено вооруженное нападение беглым заключенным Фроловым Василием Демьяновичем, отбывающим пятнадцатилетний срок на Чернореченском лагпункте Ленинского управления лагерей (Ленлаг) по ст. 58 — II переводом через ст. 16 и 17 со статьи…»
— Он же за воровство осужден?! — изумленный Фролов оторвался от бумаги, погон на кителе вздыбился. — Как так? Его же должны были освободить!..
— Да нет, Виктор! — Пыльнов подошел к шкафу. — Кто-то не хотел его свободы. Ты читай пока, а я поковыряюсь в кодексе. Те статьи уже давно забыты. Тут вырисовывается хитрая арифметика!
«Был убит из табельного оружия системы «Кольт» №-11212789… - шевелил губами Виктор. — Березина Н. П., директора л/х «Темирязевское» машинистом паровоза Темирязевской ж. д. Ястребовым А. П., родственником Березина Н. П. Заключение в/ча Роскурина С. Т. пуля попала…»
Дальше Фролов читать не стал, тяжело дыша, он медленно положил лист бумаги в папочку и, еще больше бледнея, отошел к окну. На скулах играли переливаясь жесткие желваки, а глаза заволокла жгучая пелена. «Вот как?! Выходит, Ваську Алексей грохнул!» — и тут же вспомнилась драка у ворот, свадьба у Березиных и клятва, соединенная кровью двух братьев о жестокой мести обидчику, — Все шито-крыто!.. Сказать или не сказать Димке? Горяч! Дров наломает!.. А не сказать, сам маяться буду всю жизнь!..»
— И где его закопали? — хрипло спросил Фролов.
— Захоронили его у Разбойного Камня, в бывшем штрафняке, — ответил тихо Пыльнов понимая состояние зятя. — Ездил я летом… Заросло все… Место еще считается закрытым. Чащоба!.. А мне повезло. Пришла из центра бумага поворошить архивы и поискать многих нынешних цеховиков. Чего тебе объяснять?! Сам знаешь.
Фролов смотрел на тестя внимательно, а тот жег над пепельницей списанный им акт. Бумага краснела и свертывалась, бросая дымные язычки пламени. «Вот так и Вася сгорел!» — мысли скакали, как лошадь неука, сорвавшаяся с коновязи. Сколько прошло времени, а в сердце осталась боль, когда все пошло кувырком. Тревожные давние задумки мщения медленно всплывали на поверхность, как мусор в стоячей воде. Пыльнов разгадал настроение зятя, проговорил задумчиво:
— Забудь все это, Витя. Цыплаков не успел подкопаться, а сейчас время ушло. И все, как было на самом деле, не дознаешься, хоть под пыткой. Род тогда был силен: Николай — депутат Верховного Совета СССР, член обкома КПСС, директор крупнейшего в стране лесного предприятия, а Александр, брательник, поднаторел в таких делах на зонах. Тогда человеческая жизнь ничего не стоила…
— А сейчас дороже?! — перебил его хрипло Фролов.
— И сейчас, — отозвался мгновенно Пыльнов. — Че в цене? Я не об этом, Виктор, думаю, Ястребова не поворошишь. Он член райкома и депутат облсовета… Забыть — вот мой совет! Можно и свою карьеру подпортить.
— Ясно! Может, в ресторанчик закатимся, а?
— Да нет, Витя! Дельце есть… Посижу за бумажками, раз ты меня сюда вытащил.
Фролов не настаивал, вышел из кабинета Пыльнова и на сухих ногах, словно опутанных путами, пошел к ресторанчику, стоявшему напротив памятника Ленину. Сейчас, когда все стало известно о брате, хотелось побыть одному, поразмыслить над жестокостью бытия. «А что изменилось? С приходом Андропова ниточки вновь потянулись. А может быть, так и надо! Распустили народ, особо стоявших у власти!» — думал он, пересекая площадь.
11
Виктор Фролов с женой прикатили в Атамановку на служебной машине тестя впритык к Новому году, когда Фроловы уже отчаялись ждать самого главного гостя. Шарыгин, стоявший за воротами на стреме, подморозив ноги даже в валенках на жгучем морозе, падавшего вместе с леденистой изморосью со склонов горы Шоломки, вернулся в дом, со злостью кинул полушубок в прихожей на лавку, прошел в зал, где вокруг наряженной елки прыгала детвора, сказал хозяевам, словно отрубил:
— Не приедет Витька! У него жена кобра!.. Ей теплый сортир надо… Стервоза! Так и хочет от нас Витьку отшить! Полковница!
— Иди ругаться вон в сени! — проворчала Груня. — Дети тут! Маня, Аннушка, — подпевайте.
В лесу родилась елочка! —вступила в хоровод Груня. Дети вразнобой запели:
В лесу родилась елочка, В лесу она росла…— Елки-палки, — зло проговорил Шарыгин, выходя на кухню, где Дмитрий обливал поросенка чесночным соусом и вытопленным на противень жиром. Зажаренные бока поросенка лоснились, круто пахло чесноком.
— А теперь потомим его еще чуток, — проговорил Дмитрий, засовывая поросятину обратно в духовку, пышущую жаром. — Говоришь, не приедет Виктор! Брательник не обманывал!.. Зря кипятишься.
— Посмотрим! — упрямо мотнул головой Шарыгин. — А приедет, так выбери минутку, пощупай обстановочку в их ментярском мире…
— А чего ее щупать-то?! — Дмитрий посмотрел на Шарыгина в упор. — И так все ясно как божий день. Андропов не даст никому покоя: ни ворам, ни органам! Беречься надо, дядька. И вязами ворочать из стороны в сторону. А не приедет, так и не надо. Вон Королевы во дворе шумят. Встреть! Гостей хватит. Обойдемся ноне…
В промерзших сенях послышался тяжелый скрип полов. Вошел начальник поселковой милиции. Пригнувшись тучной фигурой в дверях, кряхтя снял папаху, перекрестился. Из-за его широкой спины выпорхнула тощая, как осенняя вобла, жена Королева, подала Шарыгину блюдо с пирогом, прикрытое расшитым полотенцем, вошла в зал с дробью, постукивая каблучками сапожек по крашеному полу, пропела тонко и пронзительно:
Эх, расстилай столей, Принимай, хозяева, гостей Да рюмашечку налей…Груня выплыла навстречу с подносиком, на котором сверкали хрустальными гранями две рюмки с водкой и копченым салом, прикрытым плюшкой. Она низко поклонилась, хотя в душе ненавистна ей была вреднющая женщина, пропела фальшиво:
— С радостью, гостенечки! С Новым годом! Саша, Галочка, до дна!
За Королевыми гости повалили валом, только успевали встречать да валить шубы на лавку. Вешалки не хватало. Груня увела детей в другую комнату, где под елкой лежали гостинцы.
Этот Новый год для Дмитрия Фролова должен быть главным. Надо успеть ухватить хороший кус. Поэтому решил отметить праздник на широкую ногу и пригласил весь свет поселка, считавшегося самым передовым сельсоветом в районе. Во-первых, хотел похвастаться братом полковником, служившим в органах, и намекнуть кое-кому, что связи с властями прочные. Во-вторых, не исчезла с новой властью давняя задумка расширить свою усадьбу до старой межи, прокопанной еще дедом, когда владели землей до самого подножья Шоломки, а баня стояла у Гремучки, где, по рассказам отца, в старые времена работала Фроловская водяная мельница, разрушенная во время Гражданской войны…
Пока еще праздник не наступил и все были лишь чуть-чуть навеселе. Дмитрий обходил гостей, потчуя водкой по городскому с подноса. Видел как-то по телевизору. «А чем мы хуже!» — думал он. Председатель сельсовета Востриков пить отказался:
— Язва открылась. Врачи запретили.
Дмитрий особо не настаивал. «Знаем, какая язва! — подумал он неприязненно. — Ждет стола!..»
Отходя от мастера Атамановского лесоучастка, стоявшего спиной к начальнику гаража в Плакучке Чеснокову и кладовщику Айгирского склада готовой продукции красномордому Горохову, что-то тихо обсуждавшим, Фролов заметил, как при его приближении они враз замолкли. Обида кольнула сердце: «Скрытничают, гады! Шебуршатся, как кроты, втемную!» — и нарочито громко спросил подельников:
— Чего же вы, мужики, сторонитесь-то? Все уж остограмились.
— Да че, да мы! — растерялся Горохов, а Чесноков решил не темнить перед Фроловым, все едино узнает, заговорил, кривя губы влево:
— Решили мы пока порвать с заказчиком. Деньги за лес до сих пор не пришли. А там полсотни кубов и лес первый сорт. Ну и твоя доля рыбкой блеснула…
— Врешь же, Чеснок! — лицо Фролова покрылось бурыми пятнами. — А зачем же тогда приезжал рижанин?
— Сказать, что денег нет…
— Ладно, потом поговорим! — с угрозой прошипел Фролов, следуя дальше. Поверх голов гостей Фролов видел, как голощекий бабник и гуляка землеустроитель Витолов, не пропускавший в селе ни одной пьянки, ухватив за пышные бока хозяйку, испуганно пялившую глаза на мужа, волочил ее по комнате в фокстроте. Фролов ревниво усмехнулся, волновало его другое: «Пусть пока тешится! Человек нужный! — подумал он мельком. Мысли голготились возле другого. — Подарочек под Новый год. Сучье рыло! Решили кинуть! А может и правда? — закралось сомнение. — Не-е-ет! Прибалты хоть и гнилой народец, но слово держат! Поглядим!» — Решил сразу же после праздника послать Шарыгина к покупателю и выяснить все самому.
Гости уже шумели по-доброму. Груня с трудом освободилась из цепких рук землеустроителя, убежала на кухню, где соседка нарезала хлеб, рассказывала бабе, задыхаясь от смеха и волнения, забытого с девичества:
— Витолов, аж весь изошел. Уперся глазищами!
— Бабы сказывают, мужик горячий! Смотри, как бы Димка не заприметил. Ишь скраснелась!
— Подумаешь! — повела крутым плечом Груня, а в душе проскальзывало довольство: «Мужики еще глаза пялят!»
Тем временем Фролов потчевал возле окошка Горохова, воспользовавшись тем, что Чесноков вышел покурить во двор с начальником милиции. Горохов после каждой рюмки еще больше краснел и плел языком все, о чем говорили с Чесноковым.
— Да все в норме, Митя! — басил он, похлопывая Фролова по плечу. — Вагонку еще загнали, туда же, на мебельную фабрику. Просто Чеснок волнуется!.. И доля твоя будет… Ты не переживай!
— Я и не переживаю. С чего ты взял? А все же так кидать друганов нельзя, Николай Петрович, — слащаво говорил Фролов, пытаясь выведать побольше. — Все мы повязаны в звенья, как цепь. Одно звено порвется, и все рассыплется. Тогда загремим не только мы. Мне много не надо. Вишь, голые стены. А Чеснок в коврах живет. Давно бы обиходил, да опасаюсь. Люди спросят: «Где взял?» Завидки у каждого на морде написаны. Нам надо держаться вместе. Братан, может быть, седни приедет. Знаешь же, что он в органах. Подможет, в случае чего!
— Тогда тебе чего бояться? Пыльнов близкая родит…
— Ну, с Пыльновым не договоришься… Знаешь, что брат-брат, сват-сват, а денежки не родня!
Горохов покачал головой, посмотрел в зал, где мужики ставили столы посередь, а бабы накрывали их простынями, скатертей не хватало, заговорил, выдавая совместные задумки с Чесноковым:
— Чесноков подбивает на вырубку березняка в Атамановской роще. Говорит, можно загнать этот лес на спичечную фабрику в Междуреченске. Есть уж покупатель-посредник. Деньги наличными… Тебя решили не посвящать. — Горохов говорил, а сам думал: «Фрола надо держаться! У него заступ есть. В случае чего, можно вывернуться!..»
— Понятно! — Фролов сразу потерял интерес к разговору. Упрятав злобу, закипевшую мгновенно, дополнил тихо, нагнувшись к самому лицу Горохова и глядя на него хищно: — Кинуть хотели?! Но-но, пилите… Только как бы не загреметь. Ну, все! Базара больше нет. Ты мне не говорил, а я не слышал. С Чесноком обойдусь сам…
Дмитрий Фролов, не любивший, когда его обходят так нагло, погасил в себе яростную злобу. «Работайте! — промелькнула злорадная мысль. — Прижучу! На коленочках приползете!»
За столы рассаживались тихо, словно боялись спугнуть богатое застолье, лежавшего на блюде поросенка с надрезами, откуда капельками сочился жир и медленно стекал по коричневым бокам. Замолкла радиола. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Не успел хозяин произнести тост за проводы старого года, как в окна полыхнул свет фар, послышалось рычание машины, подъехавшей к воротам. Шарыгин и Фролов выскочили раздетыми на мороз. Вскоре вошли желанные и самые дорогие гости с подарками в охапках. Мужики онемели, глядя на яркую и высокую блондинку в дорогой норковой шубе.
— Принимайте, гостевочки, моего братана Витю и его жену Риточку! — Дмитрий обнял их за плечи. Рита незаметно отстранилась.
— Раздевайтесь, желанные гостевочки! — ворковала Труня, помогая Рите снять валенки. — Холодрыга такая! Я тебе меховушки дам. Ноги-то, как ледышки…
— Я в туфлях, тетя Труня…
— Ну ладно, ну ладно!
Рита прошлась по залу, как по подиуму, широко виляя узкими бедрами. Синий шелк вечернего платья был ей к лицу и плотно облегал ее стройную фигуру с высоким бюстом. Мужики свернули шеи. Кто-то проговорил вполголоса, но все услышали:
— Королева!
А женщины скрытно заведовали и ревновали: «Кусочек лакомый, — шептались они. — Да подумаешь, невидаль?! Наших баб раскрась да разодень, еще краше будут!»
— С наступающим вас! — пропела Рита, присаживаясь рядом с мужем в красном углу, купаясь в мужских вожделенных взглядах, одаривая всех наигранной улыбкой, а сама думала: «Господи! Зачем ехали? У папы собрался весь цвет района… А тут?! Лощеные рожи да и пялятся на меня, как на кусок ветчины…»
Гуляли, как всегда, шумно. Водили хороводы в доме и на улице, орали песни, потом опять жрали и пили. Уже утром, когда половина гостей укачалась, все стали разбредаться по домам с пьяными криками. Ныне обошлось без мордобоя. Виктор, покуривая с братом на кухне, тихо рассказывал о гибели Василия, вскользь упомянув о подозрении сослуживца Сорокина:
— …Побег был дерзкий. На этом Сорокин немало потерял. И всю жизнь искал беглецов. Один-то был матерый вор-рецидивист. Он и ныне во всей Азии мазу держит… Законник! А второй был пацан. Ястребов его фамилия. Дело складывается так, что тот Ястребов и этот, который стрелял в Василия, одно и то же лицо…
— Да ты что?! — перебил его Дмитрий, схватив за предплечье. — Так брать его надо, братан. Помнишь нашу клятву?
— А то!
— Так чего же телитесь?! Скажи тестю…
— А зачем, Дима? — Виктор глянул на брата с прищуром. — Дела давно минувших дней. Живет Алексей мирно, ну и пусть. У него семья…
— Ну ты даешь! А кровь?
— Ты, наверное, не забыл, как мы пакостили Березиным, а? То стога поджигали, то еще чего озоровали по дурости. Подрались они из-за Катерины. Ну и что? У нас тут вечно драки были да поножовщины. Теперь каждого в кутузку. А Вася сам виноват. Всю жизнь себе попортил воровством… Да и ты за ним следом чуть не пошел.
Дмитрий отвернулся, спрятав глаза. «Не прознал бы!..» — толкнулась мысль, а вслух сказал:
— Значит, Алексей?! А я с ним в районе частенько встречаюсь и думаю, чего это он морду воротит? Думал, из-за старой стычки. Вон оно что!
Злоба подступала к самому горлу, хотя и делал вид, что равнодушен и согласен с братом о прощении. «Тюхтя ты, хоть и опер! Раньше был таким, таким и остался! — злоба постепенно уходила вглубь, сбивала дыхание. — Но я, сука буду, если не прижучу падлу! Не будет прощения, Ястребок. За Ваську…» — И глаза все же выдали волчьи помыслы.
— Ты не пыхти! — предупредил его Виктор. — Об этом ни гу-гу! И брось кулаки сучить! Не пацан! Седина уж в висках. Узнаю, самолично тебя повяжу, чтобы дров не наломал. И еще вот что?! — Он притянул к себе за рукав рубахи, продолжал, пронзительно глядя в глаза: — Сейчас идет кампания… Цеховиков громят. По данным органов, ваш район замешан в продаже леса налево. Если ты в эту кучу попадешь, то вышка обеспечена. Смотри, Митя! Я тебе в этом деле не заступник…
На кухне появилась слегка в подпитии Рита, прервав разговор братьев. Устало прислонившись к спине мужа, кинув красивые оголенные по локоть руки ему на плечи, загадочно улыбаясь, вспоминая, как красномордый мужик только что целовал ее туфельки, ползая на коленях; а его жена, дородная баба с плечами молотобойца, колотила мужа по жирному загривку кулаками, шипела, как змея, больше излучая гневные взгляды не на пьяного мужа, а на Риту:
— Старый пень! Туда же… Вы уж извините… Напился!
Рита вздохнула. Хоть какое-то происшествие, а то скукота!
— Ты что, Ритуля?
— Домой хочу! — она капризно вздернула подбородок, надула пухлые губки. — Поехали, а!
— Погостили бы еще, — встрял в разговор Дмитрий. — В кои веки…
Говорили рвано. Дмитрий обиженно упрашивал гостей не торопиться, но потом понял, что ведет бесполезный разговор, замолчал. А тем временем Шарыгин грубо выпроваживал захмелевшего Витолова, упиравшегося в двери:
— Канай, хмырь! Пока тебе морду не набил!
— А где эта, как ее, рюмочка?! — мычал Витолов, волнообразно водя в воздухе руками. — Чудо!
— Тебе за это чудо башку свернут!
Витолов ушел вместе с Гороховым. Чета Фроловых тоже засобиралась. Груня таскала в машину гостинцы: вяленого хариуса, домашнее сало и банки с вареньями. Виктор напоследок предупредил:
— Про наш разговор не забывай, Митя!
Вдоль по улице внезапно закрутилась пыльная поземка, срывая морозную куржу с деревьев. Сорванная с горы Шоломки лавинка, тонюсенькая, как ручеек, прошипела по склону, дыхнула в село пыльцой и утолила свою ярость в скалах. Мороз потрескивал в срубах домов. Пока прогревался мотор машины, кучно пыхтя выхлопом, розовая зорька проклюнулась над хребтом, плавно легла загадочным цветом на тайгу, на заснеженные долы, стекающиеся из ущелий. Провожать гостей вышли всей семьей. Рита, прижимаясь к Груне боком, говорила:
— В Караганду не поеду. Отец Виктору работу предлагает, но тот, как баран, упирается. А там полно бандитов и ветра, Грунюшка!.. Степь…
— Без мужа-то, чать, скучно будет! — Груня любовно гладила пушистый мех шубки. — Я так не чаю!
Рита ухмыльнулась.
— Вот там я совсем одна. Гоняется по степи за урками. Сорокина убили. Да и сам весь в ранах. Страшно, Грунюшка! Не поеду!
Уазик вильнул за ограду церкви. За леденистой Бересенью пропищал редкий теперь гудок тепловозика, тащившего состав из трех платформ с дровами. Где-то за площадью, возле поселкового клуба, все еще задыхался баян. Праздник на селе только-только начинался, разгорался, набирая обороты. Мороз дышал жгучим поветрием. Дмитрий, поставив правую ногу на комел, лежавший возле ворот лет сто, не гниющий от того, что весь пропитан лиственничной серой и со временем становился еще крепче, костенел, звенел железно, вспоминал тот мартовский утренник, теплый и веселый, омраченный дракой Василия с Алексеем. Вот тут, в таком же сугробе, выкинутым со двора валялся брательник, рыгая кровью. Остывшая было за годы вражда, всколыхнулась с новой силой. И Дмитрий понял, что добром все это не кончится. Тоска пронзила сердце, захотелось еще пить. Подтолкнув жену в проем калитки и захлопнув ее за собой, Дмитрий пошел вразвалочку к резному крылечку, не в силах отринуться от дремучих, как тайга, навязчивых и горячих мыслей о мщении…
Шарыгин уже сидел в одиночестве за столом. Подмигнув вошедшему племяшу, проговорил, усмехаясь:
— Давай, Митя, шарахнем еще по малой! А то эта орава, как грачи, налетела. Даже кусочка поросенка не оставили. Косточки погрызли. Шакалы! Ну, жрут?! — он хохотнул. — А Ритку были готовы на кусочки разодрать!
— Да брось ты это! — вяло проговорил Дмитрий, изнуренный недобрыми мыслями о Березиных. — Наливай!..
Так и тянуло Дмитрия рассказать дядьке о Василии, но помешала Груня, присевшая с уголка.
— Может, солененького чего? Аль щей? На дармовщину сколь добра пожрали.
— Неси щей. А жратву не жалей. Живы будем, еще добудем. Матка вон пузатая ходит. Да и телки подрастают, — проговорил Дмитрий. — Зато знаем, кто чем дышит… Ну, с удачей! — поднял он рюмку. — Витолов обещал нарезать клин за Гремучкой… Это уже дело. Там земля богатая и луговина покосная. Земли много бесхозной. Главное, умело ею воспользоваться. Мельницу бы восстановить…
— Быки там стоят еще добрые и жернова валяются без дела в речушке. Если взяться, то быстро можно наладить, — вторил Дмитрию Шарыгин.
— Вот тебе и дело, дядя! — метнул взгляд Дмитрий на жену. — Зову-то не зря!
А над горами уже вовсю вставало солнце. Ветер притих и мороз зазвенел еще шибче. Все еще впереди. Зима вошла…
12
Жизнь, как точильный круг, крутится-вертится, искрясь хвостатыми искрами, веселыми, но не жгучими. Но стоит времени поприжаться поплотнее, как распалится и выметнется чадящее полымя, обжигающее не только сердце, но и душу.
Менялись с удивительной быстротой времена года. Пришла весна, а за ней и лето. Томились длинными светлыми ночами туманы, восхищали людей восходы и закаты, высветливая пути к дому призрачными всполохами, к вечному пристанищу, чем силен человек, по неписаному закону от дня рождения…
Неожиданно для селян закончилось мирское существование Трифонова, дала глубокую трещину жизнь, прошедшая в тяжелом труде, гульбе и свободе. Нашел он свое пристанище в Сорочинском монастыре. Большие и жилистые руки русского мужика, поросшие дремучим волосьем, никогда в жизни не искавшие покоя, тянувшиеся к делу во благо, неожиданно научились креститься, а спина, таскавшая на себе тяжелые лесины, отбивала поклоны плоским ликам святых, изображенных на иконах. Не гнулся он ранее ни перед кем. Так уж скроен был железный лесоруб, прозванный с легкой руки любимого вождя. Не в его правилах было прозябать в тиши и покое, прятаться за спинами в уютном местечке, куда не заглядывают жизненные сквозняки, довольствоваться честно заработанной славой и достатком. Сверкала его грудь золотыми звездами Героя, добытыми на лесоповале. Тогда ему нужна была свобода!.. Вот ради нее он не жалел себя, надламывая хребет, ради вольницы, ну и слову, данному дорогому и любимому вождю, в которого верит до сих пор, как и Алексей Ястребов. Правда, бросив работу на лесосеках после смерти Сталина еще в полной силе, он и на Айгирском заводе стал передовиком, распуская вековые лесины на пилорамах с той же любовью и мастерством, словно это было не умершее дерево, выловленное из сортировочного бассейна и просушенное на ветрах Бересени, а живое существо, требующее душевного подхода и ласки… И завистников у него тайных было хоть отбавляй! В глаза боялись!.. Конечно, помимо наград и славы, деньга лилась в его клешнятые руки, не знавшие покоя, золотым ручьем, но надолго не задерживалась. Буянил по пьяни, ерничал, а в молодые годы учил Марфу, как нужно с ним жить и ублажать, и сор из избы не выносить, а прибыток не прятать в чулки… Ради куража мог всю получку спустить за один день! И все у него было в руках… И море водки… И бабы на стороне, когда ездил по санаториям да домам отдыха… Побывал на свидании со смертью, когда на лесосеке неожиданно провалился в незамеченную лесорубами под хребтом медвежью берлогу. Поднявшегося бурого зарезал ножом, но тот успел-таки ему вырвать ребра и чуть-чуть не достал когтястыми лапами до сердца…
Горластая Марфа, любившая своего мужа до большой ревности, многое прощала ему, сносила молча обиды и побои. И успевала урывать из получки деньгу, но копила не за образами да под матрасом, как многие на селе, а в Темирязевской сберкассе. Книжку на предъявителя она хранила в иконе Святой Богородицы, отмыкая с обратной стороны подложку. «Силушка-то у Корниловича не вечная, — думала она, делая очередной тайный от мужа вклад. — Утекают денежки-то беспризорно, как водица. А тут на старости лет подмога!»
А старости Трифонов, как казалось, совсем не ждал. Да и не трогали его пока никакие болезни, хотя годки торопливо бежали под уклон, словно с гор ручьи. И как-то незаметно для себя и для селян перескочили за седьмой десяток. А он все гулевал и купался на Крещение в проруби. «Пора бы уж утихомириться мужику, — поговаривали родные и знакомые. — Годки уж!» А он еще больше бахвалился, не ждал горя ни с какой стороны. И вот!..
Невероятными стараниями мужа, Марфа сумела протянуть всю зимушку и ушла из жизни под Троицу, когда луга кроются звоном кос, песнями косарей и бабьими цветными косынками. Умирала она тяжело и долго. До самой кончины была в ясном уме, полном сознании. Говорила-говорила, впадая в легкое забытие. Чувствуя, что близко косматая, напоследок попросила мужа вынести ее за ворота монастыря на луговину, еще не тронутую косами монахов и монахинь. Цветущая пахучим клевером лощинка сбегала косо к берегу Бересени веселым разноцветьем.
— Душно мне в келье, Корнилович! Хочу на солнышко глянуть в последний разок!
— Да ты чего, Марфушка?! Живи, а?!
— Неси!..
Трифонов впервые нес на руках жену, легкую, как перышко. И сердце обручем каленым сковали жалость и раскаяние, что вот не так любил! Суров был… Дышал он тяжело, словно надсадился под тяжестью горючих мыслей, выбивающих слезу…
На горячем песочке, под неусыпным солнцем боль куда-то ушла и потянуло в сон. Трифонов нарвал цветущего клевера охапку, положил ей в беспомощные руки.
— Подыши клеверком, Марфушка! — прошептал он горячо.
Марфа погладила нежно небритую щеку мужа, склонившегося над ней, и прошептала:
— Принеси мне, Корнилович, Бересеньской водицы. Испить хочу!.. В ладошках… Помнишь, как ты поил меня, когда любились еще не женатые?!
Трифонов вспомнил, но выговорить ничего не смог, а только кивнул головой. Спазма сжала горло мертвой хваткой.
— Иди!..
Марфа с тоской смотрела в широкую спину мужа сквозь постепенно наплывающую на глаза темноту. Мысли отрешились от сознания, но что-то важное, недосказанное в этой жизни, еще ворошилось в закоулках. Вот на темном-темном занавесе вспыхнула яркая звездочка, словно путеводитель во мраке. Марфа вскрикнула коротко, как подраненная гусыня, и улыбнулась в последний раз не болезненной улыбкой, а ликующей, солнцу… реке… горам и всему белому свету…
Трифонов не слышал этого слабого возгласа и вернулся не спеша к Марфе, неся в широких ладонях душистую июньскую воду, сочившуюся сквозь пальцы хрустальными каплями…
В Бересеньку Трифонов приехал из монастыря на второй день к вечеру после скромных похорон жены, где кроме монастырской братии никого не было. Деревня уже окунулась в закатный туман, наплывающий в улицу из Айгирского горла белым валом. Тишина встретила его в собственной усадьбе. Двор был как выметен. В углу осиротело стояла «Победа», подаренная ему правительством за труды. Скотину хозяин свел в монастырь еще в прошлую осень, как только Марфа слегла. За мебелишкой, скроенной по-старинному любовно своими руками, должен приехать Леднев из Светлого, родственник по жене, а мелкую утварь решил раздать соседям. Перебирая старый кованый сундук, доставшийся еще от деда, в котором хранились разные документы, почетные грамоты, алые ленты стахановца лесного дела с прикрепленными к ним орденами и медалями, Трифонов надолго задумывался над каждой, вспоминая по сверкающим эмалью и золотом наградам свой путь в жизни, порой трудный, в корявых изгибах, но счастливый. «Куда все деть? — гадал он. — Иконы заберу, ну а это не потащу же в келью?»
Только сейчас, сидя на венском стуле, Трифонов сполна осознал свое сиротство. Жалость к потере всего, что было, вспыхнула с тоскливой силой и стало душно в просторном доме, где еще не покрыла паутина рук хозяйки в занавесках, подушечках и кружевных накидках. Так разукрашивать избы могут только деревенские бабы.
Побродив по дому, Трифонов тщательно собрал в мешок вещи из сундука, снял со стены иконки, связал их бечевкой и вышел во двор. На него снова глянули распахнутые двери сараев, успевшие за это время выдохнуть скотиний дух, оставив лежалый запах застарелого сена. Солнце косо бросало последние лучи сквозь щели в заборе на утрамбованное подворье, выглядевшее мрачно и стыло. «Чуть больше полгода прошло, а все уже начало покрываться тленом, темнеть, как в могиле, — думал он, закрывая ставни, лишая света жилье. Потирая саднившую грудь, он со страхом вдруг осознал, что все уже утеряно, не будет у него больше дома. Бересенька останется на месте, будет глядеть в светлые воды реки, а его ждет другая жизнь, над которой он никогда не думал и не гадал. — И остаться не могу!..» — глубокие рыдания сотрясали большое тело.
Трифонов вышел за ворота, когда в домах деревеньки, где еще колыхалась жизнь, засветился свет. Он проводил взглядом редкое стадо, растекавшееся по дворам, привычно вдохнул запах молока и скотского пота. Последней прошла пастушка, светловолосая соседская девчушка. Мотнув косой, звонко выкрикнула:
— Здрасьте!
— Здорово, попрыгунья, — наконец-то насильно улыбнулся Трифонов, направляя свои стопы к Березиным, решив все же попрощаться с друганом да попросить Петра Семеновича распорядиться оставшимся хозяйством.
— О-о-о, Корнилович! — встретил его возгласом Алексей, ставивший корову для дойки. С крыльца с подойником сходила Катерина, тоже поприветствовала и спросила:
— Как там Марфа?
— Померла Марфуша третьего дня! — глухо вымолвил Трифонов. — Похоронил вот!
— Господи! Вот горе-то! — у Катерины подкосились ноги. В изнеможении она опустилась на приступ, выронив подойник, загремевший по крыльцу. Алексей, хлопнув ладонью по перилам, хмуро спросил:
— Чего же не позвал?!
— Ни к чему это, Алеша, — Трифонов махнул горестно рукой. — Страшная она после болезни. Пусть помнится такой, какой была ранее…
— Заходи в дом, — Алексей ступил на крыльцо, подняв подойник. — Катерина, ты чуть попозже подоишь. Ольга у нас замуж выскочила. Привезла мужа показать. Сидим за столом. Зайди, поздравь! — Алексей слегка подтолкнул Трифонова. — Не к месту, конечно, гулянка…
— Что же?! — Трифонов вошел в избу следом за Алексеем. Петр Семенович обрадованно вскочил, закостылял навстречу дружку, обходя молодых, сидевших под образами. Поднялся шум.
— Соседушка! Вот Ольгу пропиваем!.. Прошу к нашему шалашу, — старик медленно поклонился.
— Марфу похоронили! — погасил веселость Алексей.
Сразу же наступила тишина. Петр Семенович легонько обнял Трифонова, проговорил, вытирая выбившуюся из уголка глаза слезу:
— Земля ей пухом! Хорошая баба была. Что же, помянем!
Сидели за столом тихо. Трифонов выпил рюмку и сразу же засобирался, виновато улыбаясь.
— Вы уж простите меня. Ныне мне не до весельев! И вашу компанию портить не хочу. Да мне еще до монастыря добираться. Ты, Петя, посмотри за моим хозяйством, пока Леднев не приедет за мебелишкой. Деньги возьмешь с него, сколько даст. Он крохобор! Не больно-то раскошелится. Ежели на дом покупатель найдется, то продай. Я, может, еще загляну. А это вот вам, молодые, — он вынул из мешка иконку, положил перед Ольгой. — На счастье! — на секунду замешкавшись, достал из кармана сберегательную книжку. — Счастье, говорят, без денег не построишь. А это вам подарочек от меня и от Марфы. Обзаводитесь домом. А это Сталину! Трифонов смыл улыбку с лица, уставившись на портрет вождя. Потом навесил ленты с орденами и медалями на портрет с угла на угол. На одной из них горели золотые звездочки. — Пусть у вас хранятся. Он мне их давал!.. Прощавайте!
Трифонов взвалил мешок на спину, тронулся к двери и молча скрылся в сенях. Все сидели в расстройстве, прислушиваясь к тяжелым шагам по двору. Привычно звякнула калитка. Ольга раскрыла сберегательную книжку и побледнев проговорила:
— Батя!.. Дед!.. Тут столько денег?! Десять тысяч! Надо вернуть…
— Не ходи, внучка, — тихо проговорил Петр Семенович. — Не возьмет. Он и раньше был щедр… Решил со всем порвать. Ему сейчас ничего не надо. Больно-то не тратьте. Приберегите…
Через неделю молодые уехали в Челябу, где они оба учились в институте. И снова в доме наступила спокойная тишина. Петр Семенович, прощаясь, прослезился:
— Навещайте почаще. Не велико расстояние. Утром сели в поезд, к вечеру в Бересеньке. А деньгу-то больно не тратьте. Не сорите…
— Дедуля! Мы книжку оставили у мамки. Надо будет, возьмем…
— Правильно поступили, — одобрил дед.
Катерина, обнимая дочь, как-то болезненно всхлипнула и прижалась крепко к ее плечу. Ольга гладила мать по широкой спине, приговаривала:
— Не навечно же уезжаем! На каникулы приедем… Правда, Валя? — повернулась она к мужу. Тот кивал головой, улыбался, когда Петр Семенович пытался ему всучить бутылку самогона….
* * *
Леднев засобирался в Бересеньку сразу же, как только узнал о смерти Марфы.
— Слава богу, успокоилась! Земля ей пухом! — перекрестился он на образа. — Ехать надо, Танюшка. А то найдутся сородичи…
В Бересеньку Леднев наезжал очень редко да и то по настоянию жены. Не ладились у него отношения с Трифоновым после крупной ссоры и драки на лесосеке, когда «железный лесоруб» изметелил его, как цуцика, выбив два передних зуба и поломав три ребра. Да и за дело отлупил его бригадир. Не любил он подленькую душонку родственничка, хватавшего все, что плохо лежит: браконьерствовал, продавал лес налево, доносил начальству чуть ли не на каждого. Не изменился он и сейчас. В прошлом году, как только пошла волна арестов в районе, он накатал на свое начальство телегу куда надо на трех тетрадных листах, расписав все до капельки, как те незаконно сбывали пушнину на сторону, как преподносили дорогие подарки и были в деле с руководством меховой фабрики в городе Островном. К весне все было кончено. Директор и вся руководящая знать, вплоть до завхоза, ушли по этапу на Малининские шахты и на северные стройки. Отчего Светловское специализированное охотхозяйство потеряло свой блеск. Тихо стало. Дачки опустели, в загонах уже не щелкали выстрелы верховных чинов по подставному зверю. Егеря разъехались от безработицы кто куда. Остались только те, кому деваться некуда. Тут хоть какое-то жилье. Леднев за тайные заслуги перед органами попал в струю и вылез в начальники, захватив особняк директора. Огорчало его только то, что мебелишку, всякие ценности и барахлишко руководящего состава хозяйства конфисковали подчистую, а заодно прихватили государственную технику, вездеходы, снегоходы, включая и персональные легковушки, оставив лошадей на конюшнях, которых нечем было кормить, разрисованные пролетки для троек да сани, предназначенные для хозяйственных работ.
— А-а-а, черт с ними! На нашу долю хватит… Обогатиться можно! — жарко шептал Леднев ночью в ухо разомлевшей от ласки жене. Днем он решительно заявил: — Теперича хороший костюм надо покупать, штиблеты и галстук. Как Марфа помрет, то дылда обещался все отбрить на нас. У него там мебели куча из красного дерева, самим слажена на старинный манер. Такая сейчас на вес золота. Пока он не очухался, надо брать. А Березиным шкурку отвезть… Спирту нацедим. И мы ноне не лыком шиты! Ладно, успели до обыска припрятать кое-чего…
— Марфа-то еще не померла…
— Помрет вскорости!
Весть о смерти Марфы Трифоновой не заставила себя долго ждать.
— Ну, все! — потрясал телеграммой Леднев. — Завтра едем!
— Вдвоем, что ли?!
— Собирайся!
— Ага!.. Мы уедем, а шаромыжники дом займут! — взвилась Татьяна, ворочая белками черных глаз, всегда выпученных, словно от испуга. — Поезжай один…
— Теперь я тут хозяин, — развязно ощерился Леднев. — Кого хошь заткну! Спиртягу для Березина налей.
— А Березины тут при чем?!
— А при том, что Петька по заяве Трифонова расчет вести будет. Поняла, дура? С ним торговаться по трезвой нельзя. А у них еще две бабы. Шкурки тащи… Угодить надо!
Еще до восхода солнца в растрепанный шарабан уцелевшего грузовичка, на котором уже давно никто не ездил, отремонтированный силами Леднева, загрузили полные корзины со всяческими подарками: грибки в брусничном соусе, закатанные в банки еще для партруководства, кадушечку меда, кабанью солонину и мешок вяленых карасей. В сумку с пушниной с проверкой заглянул Василий, зная прижимистость супруги, обнаружив посеченные молью шкурки, заорал:
— Ты чего насовала, дура! — он сжал кулаки. — За энту гниль!..
Татьяна от страха зевала, как оглушенная рыбина. Впервые мужичок окрысился на нее так, а то верх всегда был за ней. Водитель, белобрысый паренек, ходивший у Леднева в шестерках, тоже удивился. «Власть переменилась! Ну держись, Танька!»
Татьяна наконец-то опомнилась, пришла в себя. Поджав тонкие злые губы, подкрашенные ради поездки старой губной помадой, найденной в особнячке, схватила сумку в охапку и зашипела на мужа:
— Ты че сказал?! Ты че сказал?! Разорался!.. Дареному коню в зубы не смотрят, — подступала она все ближе и ближе, вращая глазами. — Больно много на себя берешь, Вася! Мы наследники всего добра! Понял?
— Цыц ты! — просипел Леднев, — готовый уже сдаться, но все же уже тише проговорил: — Повезем все доброе.
— Нужны им эти шкурки, как собаке пятая нога, — ворчала Татьяна, вытаскивая со дна чемодана провонявший нафталином заветный чистый мех норки, припасенный для себя. Жалея до слез добро, вспоминала, с каким трудом вырвала мужика из Бересеньки. «Сгинул бы на лесосеках. А еще — цыц! А дылда-то на чужом горбу в почет-то въехал и орденов нахватал. Кланяться всем?!»
Детей отвели под присмотр к бабке Калужихе, пообещав покос ближе к поселку, и выехали через железнодорожный переезд на Сибирский тракт, уползающий серой лентой в ущелье. Мелькнул березовый колок, поляна, побитая скотом, река Урал, еще резвая и с перекатами, озеро с ожерельем из поспевающего черемушника…
В Бересеньку приехали к вечеру, изрядно натрясшись на дороге. Леднев торкнулся в ворота трифоновской усадьбы, аккуратно забитые гвоздями Петром Семеновичем, выругался матерно и круто развернулся к Березиным. Петр Семенович, наблюдавший со двора, ухмыльнулся:
— Ведь знал же, зараза, что попервой к нам надо. Нет, сунулся. На-ко, выкуси! — он сунул руку с кукишем в сторону Леднева, шагавшего вразвалочку. — Катька! Леднев прикатил. Встреть бабу его, чем-нибудь ей глотку заткни, чтобы не базлала!..
Катерина тяжело вышла из ворот. В последнее время у нее побаливали ноги и синие жилки, словно болотное растение путаница, обвили когда-то гладкую кожу, бархатистую, как васильковая роса.
— Как знала, пирогов наготовила! — пела Катерина, заводя Татьяну в избу. Та изображала из себя, поджимала тонкие губы.
— Ну и погодка ныне?! — притворно удивлялся Петр Семенович, пристально приглядываясь к Ледневу, тянувшему Березину широкую ладонь. — Как доехал? Не ждал, что ты так быстро прикатишь.
— Да вот, освободился на три дня! — всплеснул руками Леднев. — Слышал, поди, я теперича в хозяйстве главный. Забот полон рот!.. А че тянуть-то?
— Конешно, конешно… Пошли рядиться…
— Че рядить-то?! Трифонов сказал: по наследству!.. Бесплатно… Отчиняй ворота!
— Не торопись, — степенно заговорил Петр Семенович, стараясь еще больше разозлить мужика. — Где бумага, в коей отписано тебе, а? Нету?! — Петр Семенович невинно уставился в раскрасневшееся лицо Леднева. — А так токо ныне воздух… А говорят, что в Америке и воздухом торгуют. Вот жизнь пришла…
— Такого уговору не было, Семеныч! — Леднев застыл на месте, заорал: — Танька, тащи корзины!..
При виде пятилитровой бутыли со спиртом Петр Семенович размяк. За столом сговорились быстро. Катерина с Зоей посмеивались, провожая гостей уже под утро. Петр Семенович отяжелел и провожать не вышел. Ехали в Светлое Ледневы довольные. Добро не уместилось в кузове, решили нагрянуть на той неделе. Леднев трясся в кузове, усадив Татьяну в кабину. Болтались у борта опустевшие корзины, Леднев думал: «Продешевил Петька! Всего добра-то тысяч на десять. Спирт все сделает!.. Валюта!..»
Остатки вещей Леднев перевез в Светлое только глубокой осенью. Следом за Трифоновым деревню покинули Боровые, в который уж раз меняя место жительства, съезжая из родового дома в Темирязевку.
Время мечет дни вперед, как будто торопится куда-то. И все так вроде бы при деле, но что-то не хватало. В провале звездного неба, Петр Семенович, страдавший в последнее время бессонницей, сколь ни старался, не видел ту недостачу в своем пути. Он пускал на ветер дымок. Самосад, смешанный с донником, пахуче уносился к обмелевшей старице, с того времени, как ушла вода по траншеям в Бересень. Строго и тяжко было на душе, как будто чувствовал, что все движется к концу, к закату. Петр Семенович частенько стал подумывать о переселении на Белый берег к своим родичам, сыну, жене…
13
Над городом Междуреченском, стоявшем на бугристой пойме двух рек, нависла непродуваемая жара. Солнце, забираясь все выше и выше по блеклому, словно полинявшему небосклону, к полудню легко плавило асфальт на улицах, отражалось от бетонных высоток, придавливающих человека своей бездушной тупой глыбой.
Пока Красноярская делегация народных депутатов областного совета добиралась до гостиницы, Алексей Ястребов взмок и с огромным нетерпением ждал, когда аэропортовский автобус припаркуется возле колонн, облицованных белым мрамором.
В фойе, широком, как стадион, заставленном пальмами в кадках, шустрый молодой человек в строгом черном костюме тянуче распределял делегацию по номерам, согласно рангу. Алексей быстро заполнил анкету и, не дожидаясь лифта, махом взбежал по широкой лестнице на третий этаж. Кинув чемоданчик на диван, торопливо нырнул под струи душа, остывая, вспоминал прохладную Бересеньку, где водичка не пахла хлоркой, а человеческое тело принимала с чистым звоном. Отдыхая в душе от жары, Алексей не слышал, как в номер вошел владелец второй койки, а когда вышел, растирая широкую грудь полотенцем, то увидел майора, разбиравшего покупки на кровати.
— Наконец-то соседа мне подселили. А то скукота одному, — весело проговорил майор, щуря серые глаза с яркой смешинкой. — Андрей! Будем знакомы, — протянул он руку.
— Алексей!
Обычно делегации одного района расселяли вместе. Алексей даже обрадовался: «Меньше разговоров о делах. Да и примелькались свой лица».
Еще внизу, когда оформлял вид на временное жительство, Алексей приметил в гостинице Николая Петровича Березина, который быстро увлек за собой Назарова вглубь длинного и узкого коридора, где находились люксы, для партийной и государственной номенклатуры. Дубовые высокие двери перед ними распахнул детина в штатском, но с военной выправкой. «Ну и хрен с ним! — подумал Алексей, задетый тем, что родственничек не удосужился поздороваться. — Взлетел и теперь не замечает людей!»
— Не хотите прогуляться? — прервал свои мысли Алексей, обращаясь к майору. — Пивка попьем…
— Набродился. А с пивком ныне напряженка. В депутатском буфете есть, да не про нашу честь. Документы не забудь, а то примут за тунеядца. Праздно шатающихся ныне не любят. А вообще-то давай на ты…
— Давай! А я думал, что только у нас в районе шустрят органы. А пивка к вечеру добудем. Я все же депутат…
— От какого района?
— Красноярского…
— Соседи. А я из Малиновки, но не депутат, — майор улыбнулся широкой улыбкой.
— Харламова хозяйство. Как же, знаем. Лесок туда поставляем. В охране? — Алексей глянул на майора пытливо. Отношение к вохровцам у него с годами не изменилось. Наплыло внезапное отчуждение, но майор разом развеял неприязнь:
— Снабженец. Оборудование для шахт отгружал. Две недели маялся. Послезавтра отвалю…
Алексей прервал разговор. Захватив пачку сигарет и бумажник, вышел на Ленинский проспект. Улицы были в эти дневные часы полупустые. «Шляющихся без дела подбирают, — подумал он. — Интересная жизнь!» В лицо сразу же пахнуло чужеродным духом размягченного асфальта, пружинящего под подошвами ботинок, бетоном, выхлопом от автомобилей, медленно проплывающих мимо гаишников, стоящих на перекрестках. Многочисленные лоточки, торгующие мороженым и газированной водой, приткнулись на перекрестках, за которыми стояли полногрудые и раскрашенные продавщицы, все единого крупного калибра, как гвардейцы.
Покуривая, Алексей некоторое время размышлял, стоя под колоннами главного входа гостиницы, куда направить свои стопы, приглядывался к редким прохожим, куда-то спешащим, перебирая по памяти заказы домашних. Вспомнил, как Зоя рассмешила все семейство. Тряхнув снопом рыжих волос с редкой проседью, хитро глянув на свекра синими глазами, проговорила с напевом, ласково подхватив шурина под ручку:
— А мне, Леха, купи черные колготки и шляпу с бантом на боку. А еще перчатки черные кружевные до локтей. Буду форсить, как Машка, и мужиков завлекать…
— Это еще зачем?! — выпялился Петр Семенович, не понимая, невестка шутит или нет. — К Буренке, что ли, ходить?!
Домашние прыскали в ладошки, зная, что Зоя нарочно заводит свекра.
— Как зачем? — Зоя глянула в глаза старика невинным взглядом. — Сошью юбку под самое-самое и пойду! — Зоя прошлась по избе, виляя бедрами.
— Тьфу ты! — плевался Петр Семенович, страшно не любивший гулен из Айгира, щеголявших почти в чем мать родила. — Да ты хоть голышом шастай!
— Зойка рада бы, да грехи не пускают! — хохотала Катерина.
Алексей посмеялся, но пообещал заказы выполнить. Петр Семенович, чуть позже, провожая Алексея до калитки, с опаской поглядывая на расшалившихся баб, шептал:
— Не вздумай Зойку ублажать. В печке сожгу. Только деньги зазря потратишь…
Возле телефонной будки стояла, обнявшись, парочка. К ней поспешили дружинники. «Все, заметут!» И действительно, через минуту подкатила милицейская машина. Парочку бесцеремонно втолкнули вовнутрь.
— Дуролом! — проговорил зло Алексей. — А еще Сталина поносят!
В гостиницу Алексей вернулся только к вечеру с покупками. Побродил по магазинам, посмотрел кино. Правда, Зою судьба обделила: не нашел он ей ни черных колготок, ни шляпы, ни перчаток, а хотел для смеха. Зато купил ей прозрачную шелковую кофточку, а жене махровый халат, тестю курева да детишкам всяких настольных игр.
В вестибюле его встретил руководитель делегации Назаров.
— Ты где шляешься? — строго посмотрел он на Алексея. — Регистрация прошла. Талоны на питание и документы в папке в номер положил. Обедать можно в ресторане и в буфете, но время ужина уже прошло. Приходи ко мне в номер, перекусим. Николай Петрович просил, чтобы ты на его квартиру пришел…
— Да нет, — перебил его Алексей. — Намотался! А тут еще тащиться на Коммунистическую. Завтра зайду.
— Сегодня, Алексей Павлович! Сегодня, — настойчиво проговорил Назаров, сощурив хитро миндалевидные глаза и поджав тонкие губы. — Сегодня… Не велели говорить, но уж ладно. Егор приехал… Завтра уезжает в Бересеньку.
— Да вы что?! Ну, спасибо!.. Брошу вещи!.. Может, и вы?!
— Я уж повидался…
Алексей взлетел галопом на свой этаж. «Егорка! Ну, дает!» В номере майор и черный, как цыган, капитан сидели за журнальным столиком и резались в подкидного.
— Давай к нам, земеля! — громко проговорил майор.
— Некогда…
— В ресторан торопишься? А то тут делегации заходили. Все тебя искали. Популярен, как артист, — майор говорил, а сам внимательно смотрел на тонкие и ловкие пальцы капитана, тусовавшие колоду карт со сноровкой кидалы-профессионала.
— Дела… дела… вояки. В другой раз, — Алексей, кинув покупки на кровать, вылетел из номера.
Алексей подъехал к дому Николая Петровича только через час. Долго ждал автобуса, да и поблуждал немного. На звонок вышел Егор в домашнем халате Николая Петровича и кинулся обнимать дядьку. Треснули косточки. Алексей еле-еле вырвался из жестких объятий племяша, с придыхом говорил:
— Ну ты бугай стал, Егорка! Здорова!.. Мать с ума сойдет! Ты хоть позвони…
— Сюрприз хочет сделать, — проговорил Николай Петрович, появляясь в прихожей. — Проходи… Мы уж думали, что не приедешь. Собирались звонить.
Алексей сразу приметил, как изменился Егор. Особенно его глаза, обдававшие темным холодком, пронизывающие точкой, словно целились. Алексей разулся и прошел по мягкому ковру в комнату закоренелого холостяка. Со времени прошлогоднего посещения тут ничего не изменилось. Егор, обнимая за плечи Алексея, чуть клоня стриженую наголо голову, говорил с радостью:
— Хотел прямиком в Бересеньку… Ладно, позвонил Николаю Петровичу. Тот и сообщил, что ты здесь…
Сели за стол. Николай Петрович молча разливал по маленьким рюмочкам коньяк. Алексей с интересом приглядывался к возмужавшему Егору, которого не видел больше пяти лет, после последней побывки. Лицо будто закопченное и жесткое, возле уха шрам. «От пули… Значит, в Афгане воюет! — промелькнуло быстро в уме. — А Зое пишет, что в Душанбе… Заливает!»
— Ну, за встречу, майор! — перебил мысли Алексея Николай Петрович. — За тебя! За родню потом выпьем. А сейчас за тебя! За воина-интернационалиста!..
Егор улыбался, крутил в больших рабочих пальцах хрустальную рюмочку, утонувшую в мозолистых наплывах, говорил, немного смущаясь:
— Ну, Николай Петрович. Так и прет из всех политика. А интернационала мы там не поем… Вот кровь лакаем! Ты налей-ка коньячку мне в стаканчик, а то из этого наперсточка и губы не замочишь.
Николай Петрович достал из буфета фужер, налил его до краев.
— Вот это дело. Лучше выпьем за живых и мертвых!
— Это святое, Егор, — проговорил Алексей. — Чокаться не будем.
Выпили и долго разговаривали. Егор рассказывал скупо о войне, под конец предупредил Алексея:
— Дома не проговорись, что я в Афгане. Николай Петрович знает с той поры, когда я валялся в госпитале имени Бурденко.
— Само собой! — заверил Алексей. — Я догадывался. Ты вот скажи, Егор, при всем патриотизме, правильно ли все делается? Ведь гробики-то давно прилетают! Черные тюльпаны…
— Правильно! И не было бы войны, если бы не вмешались западники. Особенно американцы… Это они войну разожгли. А поначалу нас афганцы встречали с хлебом-солью… Да и наши политики из-за угла бьют почище Калашникова…
Враждебность афганцев к беспечной жизни в Союзе, к тому сумбуру в верхах, проявлялась очень жестко в последнее время, когда одни политические силы поощряют афганскую бойню, а вторые, подпевая западным радиостанциям, жалят в самое сердце, открыто не замечая геройства солдат и офицеров, относясь к калекам на местах, пораненных душевно и физически, с тупым равнодушием, а то и с раздражением. Все это Егор знал. Он сурово посмотрел на Алексея и продолжал уже тихо:
— Не было бы войны! — в голосе звучала убежденность. — Америка — ярый ненавистник всего советского. Они давно живут и видят, что весь мир живет по их поганым законам. Гнилье они и гады!.. А наши некоторые политики пытаются лизнуть их в самое срамное место. А это пострашнее войны!.. Не знаю, как дальше будет, но попомните мои слова, лягут многие наши правители под них… Оттого и разжигается рознь между народами. Если наше государство рухнет, то все мы пойдем с котомками по миру… Вот вам и ответ!
Егор рывком выпил коньяк, пошел покурить на балкон. Николай Петрович, глядя в широкую сутуловатую спину племяша, говорил Алексею тихо:
— Ты эту тему не задевай. Они все чокнутые!.. Их братства никакой водой не разольешь, а за родину глотку перервут. Один за всех — все за одного! Когда навещал Егора в госпитале, наслушался там всякого.
— Ладно! — Алексей поднялся из-за стола, пошел к Егору на балкон. — Все заметано, Егор!
— Да чего там?! — устало отозвался Егор. «Нервы, нервы! — промелькнула мысль. — Частенько срываюсь». А вслух продолжал: — Тянуть да тянуть нам, Алексей Павлович, кровавую лямку еще не один годик. Попомни мои слова… Пошли за стол.
Он первый опустился на стул, но пить больше не стал, внимательно прислушиваясь к деловым разговорам. Сутулясь над столом, Николай Петрович расспрашивал Алексея:
— Как ты думаешь, если мы все же расширим Айгирский завод, то сохраним на плаву комплекс? С лесозаготовкой все ясно. Сырье на исходе… Лет пятьдесят, а то и больше придется ждать. Но можно сейчас завозить лес из Сибири…
— Мы уже процентов на сорок работаем на привозном сырье, — сказал Алексей. — Все еще тебя эта тема с расширением гложет?
— Да! Иного выхода нет! — резко ответил Березин.
— Думаю, что это не спасет положение. Ты вот первый человек в области, глава, а до простого дойти не можешь…
— Это до чего я дойти не могу?! — Николай Петрович сверкнул глазами. Неугасшую со временем враждебность к его проекту расширения Айгирского завода за счет сноса деревни Николай Петрович приметил еще тогда, когда приехал принимать дела и заглянул в Бересеньку. Стало ясно, что снова вспыхнет борьба за насиженные места. «А что делать?! Изыскания скоро начнутся и возникает новый проект, более проверенный, а не с бухты-барахты, как тогда. Партия обязывает! — Так томились мысли Николая Петровича, скользя то по склону, то по ровному, казалось, без препятствий, но с далекими сомнениями. — Может, действительно мне только кажется, что иду по правильному пути. Да! Второго тупика не должно быть! И все надо ненужное обрезать, как с лесины…»
— Вы как хотите, товарищи, но я бы рухнул поспать, — проговорил Егор, разбивая мысли беседующих на тонах родственников. — Да-а-а, у нас любят рубить с плеча не только на гражданке. Такая уж русская натура. Вперёд и ура! У нас в училище был старшина… Умный, как бог! Хоть и грамота-то у него ниже средней. Бывало говорил: «Тяжело поднимешь — живот надсадишь». А Алексей, пожалуй, прав…
— Ладно! Иди спать… Ты в нашем деле ни бум-бум!
На следующий день невыспавшийся Николай Петрович, продумавший всю ночь о разговоре с Алексеем, на своей персональной машине с хмурым на вид водителем, завез сначала Алексея в гостиницу, а потом Егора на вокзал. Он сухо попрощался с племяшом прямо в машине, а затем поехал в Дом Советов, где проходила областная сессия народных депутатов.
* * *
Солнце повернулось к югу, когда пассажирский поезд влетел на полном ходу в Уральские горы. В приспущенное окно вагона дохнуло разморенной тайгой, нагретым солнцем камнем скалистого ущелья. Хребты гор плыли изогнуто по горизонту, сваливаясь к северу, словно огромные волны разбушевавшегося океана, отсвечивая в голубизне реки, томившейся в полуденном мареве. Под полом вагона мягко постукивали скаты колес, поскрипывали рессорные системы, позвякивала в пустом стакане чайная ложка и пахло искусственной кожей облицовки стен.
Егор лежал на сундуке двухместного мягкого купе на спине и следил за солнечными зайчиками, трепетавшими на белом потолке. Сосед, видимо чиновник высокого ранга, подсевший в купе недавно, похрапывал, отвернувшись к вздрагивающей стене. Егор мельком глянул на сытый бритый затылок, снова ушел мыслями в свое житье-бытье, самое важное в карьере военного. Его учили воевать, а значит убивать. Он знал твердо, что любая заварушка его не минует. Тем более к концу века горячих точек в мире зажглось хоть отбавляй. Но что такая жуткая боль от цокнувшей в голову пульки, маленького кусочка свинца, пронзит его до сердца, об этом он не знал. Оказывается, все это познается только в жизни, как ни гадай и ни томись, только на практике, на своей собственной шкуре. Горячий Афганистан! И гордость, и боль, грязь и кровь. Первый же бой разведки, куда был направлен Егор, стал испытанием не только на прочность человеческих тел, но и на моральный дух. А поначалу все было обыденно и просто, как на учении. Взвод, которым командовал Егор, десантировался в узком ущелье, без единого выстрела был окружен и взят караван с оружием, пришедший из Пакистана. Ненависть тогда еще не одолела людей. Война только-только разгоралась, как трут от выбитой искры. С добродушием отнеслись к людям, скучившимся вместе с верблюдами и лошадьми возле темной и пыльной скалы. Парочку новеньких гранатометов английского производства, заряды к ним и автоматы Калашникова, побывавшие видимо не в одном бою, подорвали в расщелине, а караванщиков, глядевших не на десантников, пряча ненависть, отпустили. К точке шли легко, где их должна подобрать вертушка.
— Зря мы их пожалели, товарищ лейтенант! — тихо, но со злобой проговорил высокий разведчик, служивший последний год. — Не надо было оставлять!.. Вы приметили взгляды душманов?
— Отставить разговорчики, сержант! Подневольные, батраки, нанявшиеся провести караван, чтобы прокормить себя и семью…
— Это не простые люди!.. Ну глядите, командир!..
Ненависти еще не было. Она появится потом, когда кровь друга брызнет в лицо…
Сухо и ветрено. Обледенелые пики гор, сверкали лазуритовым блеском. Но ледниковое дыхание гор не несло сюда прохлады. Иссохшая долина, выбитые скотом склоны, испятнанная скалами и камнями, забитая верблюжьей колючкой, выморенными солнцем до невесомости травами, наводила тоску. Сухо на земле, сухо во рту. Кустики карагача, словно израненные, припадали к желтой земле, пустынной и чужой…
Кончилась во фляжках вода, а вертолета все не было. Вот и точка: развод ручейков на такыре, холодных, ломивших зубы, старая кошара, белые камни курумника. Остановились за песчано-земляным валом. Вот на горизонте появились черные точки вертолетов, летевших низко над волнами предгорий, как вдруг из каменного мешка полыхнула первая пулеметная очередь в спину залегших десантников. Егор еще видел, как огненные стрелы из-под фюзеляжей вертолетов пронзили скалы, грохот разрывов не потушил звон в голове. Стало жарко и больно во всем теле, и все пошло косо, словно на вираже. Одна пуля пробила мякоть бедра, а вторая прошила шею возле уха, и кровь хлестала на бронежилет. Сознание еще не покинуло его, когда в конце боя, разъяренные десантники пристреливали пленных, тех самых караванщиков, отпущенных с добром.
— Сволочи! — прохрипел Егор, теряя сознание. Он уже не помнил, как грузили в чрево вертолета убитых и раненых, и как сержант, сунув в рот душману гранату-лимонку, выдернул чеку…
Егор вздохнул, сел на сундук, поставив босые ноги на вздрагивающий пол, застеленный дорожкой в рыжих разводах. Часто ему снятся бои, которых было множество. Крутятся в памяти разные дни, когда после коротких и жестоких стычек, не оставляли жить в кишлаках или на караванной тропе. А тот первый бой всегда видится очень ярко. Первое ранение и первое разочарование в людях. Потом уже, поднаторев, Егор переживал травмы и ранения как что-то обыденное. Притупилась боль и притупилась жалость. Госпиталь и строй, госпиталь и строй…
В динамике прошелестел голос проводницы: «Через десять минут станция Айгир. Стоянка две минуты…» Егор вынул из чемодана мундир с аксельбантами через плечо, увешанный орденами и медалями, долго думал: «Одевать или не одевать? Дед все равно заставит. Лучше сразу, чтобы потом не канителиться!» Проснулся сосед, потянулся и сел, с восхищением проговорил, глядя на ордена и медали Егора:
— Здравия желаю, товарищ майор! Где мы едем?
— Здравствуйте! К Айгиру подъезжаем… — ответил Егор. А мужчина, кинув на плечо полотенце, мыча какой-то мотивчик, спросил:
— Афган? Да ты не тушуйся! Война — есть война, и награды должны быть. Это наши придурки не чтут, а то и явные предатели. Случись чего, побегут ведь спасаться. Западные голосишки вопят, а наши им подвывают, как голодные шакалы. Шестидесятники! Чмо они! Пока, майор!.. — он вышел из купе.
— Ну, спасибо, дядя! — тихо произнес Егор, поняв, что не все думают об этой войне одинаково. И мысли, как-то неожиданно снова вернулись туда, к усталости от боев. И каждый солдат и офицер думал и ждал приказа вернуться на родину. Опостылела эта сухая и пыльная земля, кровь и боль, болезни, выстрелы в спину из-за угла, равнодушие к смертям и враждебность населения. Мысли эти не покидали и Егора. Топча горные тропы Гундукуша в американских кроссовках, купленных на местном рынке за доллары, задыхаясь от недостатка кислорода, спасаясь от пуль душманов в глубоких ущельях, прогибаясь под тяжестью снаряжения, Егор мечтал о мире…
Поезд замедлил ход. Егор с легким чемоданчиком в правой руке поспешил в тамбур. Вот показалась справа по ходу поезда плоская вершина Шоломки. Проводница открыла дверь и Егор полной грудью вдохнул запах родины, несший в себе ароматы реки и таежных урманов. Вот мелькнула серебром Бересенька и захватило дух от пришедшей радости. «Красотища-а-а! Хорошо!.. — и тут же подошло беспокойство: — Как сказать родным? Опять врать, как в письмах. Деду скажу… Павел, поди, не проболтался?!» Он вспомнил тяжелый спор в Москве с двоюродным братцем, не похожим по характеру на род Березиных и Ястребовых, нахватавшийся в Москве идей, называвший себя продолжением шестидесятников-демократов:
— На черта тебе нужна, Егор, эта война?! — с жаром убеждал его Павел. — Тебя Николай Петрович запросто отмажет. Он член правительства… В цинке хочешь на «черном тюльпане» вернуться? Ордена и тут клепают!
— Паша, ты превратился в простого обывателя, которому теплый сортир дороже родины. А может, ты так же шестеришь и подлизываешься?!
— Ты кончай, Егор, задираться!
— Не задирайся. — Егор поджал губы и продолжал спустя некоторое время уже поспокойнее: — Квартиры, мебель, высший свет! Ты почему в Москву подался?
— Ну, во-первых, не в Москву, а в Черноголовку, а во-вторых, потому что тут научный центр. Можно было в Новосибирск… Ну, уж так получилось. Кандидатскую я тут защитил…
— Сашка погиб в горячей точке…
— Нечего было соваться в Чехословакию, — Павел пожал плечами.
Егор тогда, на госпитальной койке, еще долго перекручивал разговор с братишкой. Больше Павел его не посещал, хотя часто наезжал в Москву по делам…
… - Сашка бы меня понял, — тихо проговорил Егор, вглядываясь до слез в глазах в родные места, и все как-то ушло в сторону.
Айгирский утес вынырнул неожиданно, словно встал с земли. Вот и деревенские крыши, мост, по которому тащился желтый автобус. Ворохнулись далекие детские воспоминания. Проводница нажала на педаль платформы, глухо звякнув, открылись ступени подножки. Позади переговаривались обыденно пассажиры, приготовившиеся к выходу, но Егор уже не слышал, о чем толковали они. Он до напряженной рези в глазах вглядывался в набегавший перрон, станционные постройки и луг, на котором они гоняли мяч до упаду. А вот и родня! Взгляд сразу выхватил непокрытую рыжеволосую голову матери, прижимавшей руки к груди и поддерживаемой Катериной. «Откуда узнали? Алексей Павлович!» Навстречу рвалось радостное лицо матери, позади всех похрамывал дед, а впереди мчалась Верунька, крича что-то и размахивая белой косынкой. «Родина!» Егор набрал побольше воздуха в грудь, заражаясь любовью…
14
Сессия областного совета народных депутатов закончилась в четверг, восьмого июля, а на пятницу была назначена партийно-хозяйственнай конференция. Назаров и Ястребов задержались еще на два дня. Алексей возмущенно поделился с Назаровым своими заботами:
— Егорка приехал, а я тут торчу.
Назаров ухмыльнулся своей небрежной ухмылкой, пристально глядя Алексею в глаза, нервно курившему возле окна, сказал:
— Ну, партии претензии вредно предъявлять. Сам знаешь… Ну, а в конференции ты кровно заинтересован. Ясно, что будут вестись разговоры о нашем Темирязевском комплексе. Поэтому больно-то не гунди и не возникай. Понял?
— Понял… — вяло отозвался Алексей, думая о том, что вся эта говорильня толку не принесет.
Конференция проходила в Доме политического просвещения, в большом, но мрачном зале, задрапированном бордовыми бархатными занавесями. На небольшой полукруглой сцене разместился президиум. Николай Петрович Березин восседал в центре, рядом расположился Назаров, а дальше незнакомые Алексею партийные и государственные чины, все недоступные и твердолобые, как камни на Бересени. Алексею уже надоело за неделю бесполезное времяпровождение и он слушал вполуха выступление секретаря обкома по промышленности. Хотя ораторствовал тот громко и достойно, поглядывая широко раскрытыми и немигающими глазами поверх голов:
— …Директивами нашей партии и лично товарищем Андроповым предусматривается широкая кампания по укреплению трудовой дисциплины и борьбы с пьянством. Принятые законы о трудовых коллективах способствуют росту и развитию промышленности, экономному использованию в нашей области лесных богатств, открытию новых месторождений нефти и газа, повышению горнодобывающей и перерабатывающей отраслями своих потенциалов…
Алексей тихо перелистывал документы конференции, думал отвлеченно: «Неплохо бы в спецмагазине отовариться продуктами. Николая Петровича попросить? Неудобно!..»
Оратор тем временем коснулся темы, которая заставила прислушаться Алексея к словам.
— …Дальнейшее развитие получит лесная промышленность в нашем богатейшем районе Урала. Мы начинаем строительство новой ветки железной дороги, соединяющей юго-восточную часть области с северной, где еще нетронутыми остались богатейшие залежи полезных ископаемых и лесные угодья…
— Вот-вот, — наклонился к уху Алексея сосед, рослый мужчина. — Урал скоро будет плешивый, как пустыня. Дорога ничего не даст да и строить ее не на что…
Алексей ничего не ответил, а только моргнул глазами, думая о радужных картинках, нарисованных выступающим:
— И здесь особо важно, чтобы предприятия работали производительно и были рентабельными. В этом большом деле неоценимую услугу мог бы оказать накопленный опыт известного на всю страну Темирязевского лесодобывающего и обрабатывающего комплекса, рожденного в годы семилетки уважаемым Николаем Петровичем Березиным, ныне первым секретарем обкома партии. Это предприятие и ныне является флагманом лесной промышленности края…
Зал зааплодировал, некоторые делегаты даже встали со своих мест. Алексей смотрел на закаменелое лицо Березина, думал: «Нравится Николаю Петровичу. Идиоты! Комплекса-то собственно уже нет!»
Сосед толкнул локтем Алексея, спросил лукаво:
— Правду бает? Или загибает? Всегда так… Ты же из Темирязевского…
— Им отсюда виднее, — ответил Алексей.
— Ха-ха-ха! — заржал мужчина. На него шикнули делегаты, он зажал рот ладонями.
Березин выступать не стал. С заключительным словом на второй день конференции выступил представитель ЦК партии товарищ Колосов, прибывший из поездки по стране. В своем выступлении он обещал, что в самом скором времени будет оказана помощь в развитии и строительстве новой очереди Айгирского комбината…
Вот так! Нового ничего вроде бы решено не было, но Алексей понял, что руководство областью уже растиражировало проект Николая Петровича. Вот тебе и новая метла. Каждый хочет начать свое дело и не в правилах продолжать дело предшественника. Каждый талдычит свое и хочет чем-то отличиться, а народ страдает. В расстроенных чувствах возвращался Алексей домой. Он даже отказался от приглашения Назарова заехать в райком партии, чтобы обсудить новые задачи. Когда самолет приземлился в Красноярском аэропорту, Алексей шутя проговорил:
— Боюсь, что Егор без меня весь самогон выпьет!
— Ну-ну! — посуровел Назаров. — На неделе соберемся. Нам решать!
На другой день Алексей отвез Егора и Петра Семеновича за Синельникову дачу, где стояла старинная березинская заимка. Егор сразу же увлекся рыбалкой на хариуса, а Петр Семенович настроил возле ручья самогонный аппарат, приспособив для этого старую буржуйку, говорил Алексею, собиравшемуся в обратный путь:
— Привези дрожжей да сахарку. Маловато я прихватил барды. Тут, на воле, быстренько поспеет.
— Хватит вам два бидона. А то перепьетесь…
На насмешку зятя Петр Семенович только хмыкнул и махнул рукой вслед. Алексей сел за руль и выехал по вилючему летнику на хребтину увала, скрывшись за пихтовником, сине-зеленым, как майское небо на закате. К обеду он уже был дома. Катерина встретила мужа у ворот, спросила:
— Наказал, чтобы батя больно-то там не баловался выпивкой? А то сердечко-то у него побаливает.
— Наказал. — Алексей улыбнулся. — Только подействует ли?! Батя до меры туго доходит. Егор сразу за рыбалку взялся. Может, оттает от войны. Зойка как? У бати язык, как помело…
— А у самого-то! С утра не плакала. Уехала в Атамановку, в церкву.
— Виноват! — Алексей улыбнулся. — Батя, как ужак, все вытянет. Съезжу в Темирязевку, отгулы возьму и закатимся к бате. Дрожжей у Машки выпроси, а сахарку я добуду сам…
* * *
Светлую радость Зои затемнил свекор, в тот день, когда вернулся из Междуреченска Алексей, привезя с собой литр водки, подарочек Николая Петровича ради такой радости. Тут-то и брякнул Алексей во время курева во дворе, что Егорка воюет в Афгане. Глаза старика засветились.
— Я знал, что он там! Березины еще никогда от боя не уклонялись!..
Алексей уже был не рад, что рассказал о службе Егора, но назад пятками не пойдешь. Слово не воробей — вылетит, не поймаешь. Поэтому он строго-настрого предупредил развоевавшегося старика:
— Смотри, не ляпни при Зойке!
— Ну-у-у, могила! — развел в стороны руки Петр Семенович.
Горело все внутри у Петра Семеновича от того, что хотелось хоть с кем-то поделиться своей радостью. И когда уже изрядно захмелев, он забыл о своей клятве. Обведя всех коршунячьим взглядом, он заорал так громко, что спугнул кота с окошка:
— Десантнику ура-а-а!.. — вскочил, пошатнулся и чуть не упал навзничь. — Молодец, внучок!.. Даешь жару душманам!.. Так и дальше…
— Ты чего? — оборвал его Алексей.
Петр Семенович, поняв, что опростоволосился, замолк и только рот продолжал раскрываться, как у щуки, выкинутой на берег.
— Каким душманам?! — Зоя обмерла и схватилась за грудь: «Врал!» — Егорушка, милый, правда?
Егор опустил голову.
— Отца забыл?! А Саша!.. Доколь все терпеть?! Да что вы со мной делаете, изверги! Не пущу больше никуда! Хоть убейте!..
— Мама!.. Мама!.. Успокойся! Ну, что ты? — он обнимал ее за вздрагивающие плечи, целуя замокревшее от слез лицо. — Я же солдат!.. И братан, и батя были солдатами… Ну, как же мне поступить? Спрятаться за твою юбку?!
Верунька, глядя на всех темными глазами, наконец-то разрядила обстановку:
— Чего плакать-то, раз уж воюет? А ты, дед, орешь, как резаный! Уря-я-я! Сам бы шел да воевал!
Все замолчали. Только дед искал слова:
— Да ты… да ты, шмакодявка! А ну, выйди из-за стола. Научись сначала со старшими разговаривать, а потом уж встревай в чужой разговор! Ишь ты!
Верунька выскочила из-за стола, в дверях показала деду красный язык.
— Ах ты! Где мой костыль? Еще дразнится, короста!
Ссора деда и внучки рассмешила всех. Даже Зоя улыбнулась тихо, вытираясь платочком. «Может, все обойдется?! Ах ты! Вот уж судьба! Куда же от нее деться!..»
15
Егор отдыхал на вольной воле душой и телом. Здесь все было знакомое и родное до боли с самого детства. Отца он не помнил, родился уже после его гибели, но помнил, как Алексей таскал его на закорках по тайге, когда усталый, с разбитыми ногами мальчишка валился с ног. Сашка был выносливее да и старше, руководил им строго и безжалостно. Когда Егор чуть-чуть подрос и пошел в школу, они с братом частенько наведывались сюда, за Синельников Камень, бродя с дедовской двустволкой, стоя в перекатах в охоте за хариусом. Сашка всегда упоминал отца и говорил:
— Вот тут мы с батей выхватили хариуса чуть-чуть меньше моей руки… А тут грибов насобирали кучу…А тут!..
Завидовал Егор каждый раз брату. Тот знал отца, говорил с ним, охотился, и печаль покрывала его детское личико. Вот и сейчас печаль светлой памяти ложилась на загорелое мужественное лицо, вливалась в душу, расслабляя ее, делая мягче и добрее. У ног текла вода Бересени, шумела и журчала на перекатах и сливах, гремела в порогах, но всегда была ласковой воркуньей, словно голубка. Если пойти по летнику вверх по течению, то через некоторое время уткнешься в белую Синельниковую дачку. А тут, в логу, взросшем не кошенными уж сколь лет травами старая заимка, каждый год подправляемая Алексеем и дедом, сокрытая от посторонних глаз с реки и с суши частоколом ельника, пихтовника и березняков. Уж и дед не помнит, сколь лет этому лиственничному срубу, где варено-переварено самогону в разные годы да и дичи постреляно, рыбы переловлено… Егор вспомнил, как Матвей Егорович Ветров, ныне покойный, и Трифонов завалили за островом сохатого, но попользоваться дичиной не удалось. Еще не успели освежевать тушу, как пала на тайгу страшная по своей силе пурга. Ветер неистово срубал вершины деревьев, летал лапник, словно стая хищных птиц. Свету белого не видно! Пришлось срочно ретироваться на заимку, пока еще были просветы. Два дня ярилась и бушевала буря, а когда немного улеглось и утихло, тронулись к туше, но зверя и след простыл. Поначалу думали, что промахнулись, но когда наткнулись на остяк лося, обглоданного до блеска, и клочья шерсти, то поняли, что попировали возле их добычи волки… Рассказывали дома со смешком, а на самом деле было не до веселья…
Егор стоял в перекате босой. Вода приятно холодила и щекотала ноги, обтекала, словно нежно обнимала. Егор улыбался и то и дело вырывал хариуса со струй, поспешно работая нахлыстом.
— Не разучился рыбачить, Егорушка?! — донеслось с берега. Егор на секунду отвернулся от слива. Дед блаженствовал на берегу, кинув на песочек одежду и протез, сверкавший на солнце никелем, опустив свою культю в небольшую заводь, где сновали пескаришки.
— Пока нет! — тихо отозвался Егор, боясь спугнуть такой богатый клев, махнув рукой, дескать, отвяжись, дед.
Петр Семенович, посидев у уреза, перебрался повыше на теплый и сухой песочек и задремал. Егор почему-то вспомнил Трифонова, поражаясь несгибаемой человеческой натуре. «Все было у мужика! — мысли текли медленно. — Жена умерла, и тут не согнулся, а принял другой образ жизни с трудом и болью. Кремень, а не мужик! Вот на таких держится государство во все времена! Надо бы навестить его! А вообще-то зачем?! Жалость он не любит и сразу увидит, с чем пришел человек. Не зря ушел из этого сплошного мира, утонувшего в грязи! Не зря!.. Он и там будет великим!..»
Клев неожиданно кончился, как обрубило! Егор еще выхватил пару ельчиков и смотал удочку, да и ноги занемели на галечном дне, омываемые прохладной водой. Откуда-то взялся над водой рой слепней и пикировал на Егора. Тот прыжками выскочил на берег, потрясая радостно кошелем, набитым рыбой.
— Видел, дед?!
Тот приоткрыл один глаз, спросил:
— Нарыбалился? Ранее здесь бочками солили хариуса…
— Клев кончился, а то бы еще похлыстал да и слепни налетели…
— Дождик будет, — Петр Семенович повел носом, горбатым, как спина окуня. — Слепень к дождю да и парит, парень. Че, чайку попьем али первача? А то чай не пьешь и силы нет…
— Ага! А попил — совсем ослаб.
— Ха-ха-ха! — закатился дед, не торопясь пристегивая протез. — Надо малосолку сварганить… Ты сходи за сушняком, а я хариуса вспорю…
К вечеру приехал со всем семейством Алексей, окромя Катерины, оставив ее ухаживать за скотиной. Машину Алексей загнал под скалу, а сами расположились на лужке, где полыхал длинными красными языками костер, освещая затемневшие урманы. В казане булькала уха. Запахи лаврового листа, рыбы и лука повисли под логом, утекая по первому легкому туманцу вдоль Бересени. Петр Семенович по старшинству разливал по стаканам самогон, говорил со скрытой тоской:
— Бывалоча, сойдемся тут семьи три, а то и больше, поляна не вмещала. Поредели ряды да и могилки на погосте разрослись. Марфа Трифонова в чужой земле лежит! И Сонюшка Ветрова вовсе на чужбине, — голос старика дрогнул.
— Да ладно тебе, батя, траур-то наводить! — проговорила тихо Зоя. — Все мы смертны… Одни раньше — другие позже, а все там будем… Грибков вот, Егорушка, попробуй. Вчера по грибы ходили. Да маловато ноне. Сушь!
Костер разгонял комарье. Верунька подкладывала в огонь сырой лапник. Подсыхая, он вначале дымил серно, но потом вспыхивал, словно порох. Искры вились меж вершин, туда же вздымалась песня, будоража округу:
Что стоишь, качаясь, Тонкая рябина. Ох, головой склоняясь До самого тына — а-а?!Егор, замирая, слушал голос матери, всматриваясь в ее раскрасневшееся лицо, и тревожно было за нее: «Голова седеет. Тяжкая судьба у наших матерей!..»
Провожали Егора на службу через неделю. Снаряжая машину в аэропорт, Алексей ругался на баб, собравшихся провожать Егора до самого Яра:
— Ну куда?! Долгие проводы — лишние слезы! Там еще вашего воя не хватало!..
Наконец-то те сдались. Алексей проводил племяша до самолета. Егор сдерживал волнение, как мог, говорил с хрипотцой, пятясь к трапу:
— Ну, до встречи, дядька! На следующий год ждите!
Алексей не тронулся с места до тех пор, пока самолет, превратившись сначала в точку, не исчез за горизонтом. С севера подуло, дохнуло грозой, запахло озоном.
Алексей по пути заехал в райком, но там Назарова не оказалось. Секретарь сказал, что уехал по району. Гроза застала Алексея в горле ущелья, где Бересень впервые входит в горы, и дальше ее путь становится стремительным и грозным. Дождь шел непроницаемой стеной, и Алексей, прижавшись к обочине, пережидал неистовые порывы грозового урагана. Целых полчаса била в лобовое стекло лавина дождя и ветра. За это время Алексей успел передумать многое. Особенно его волновала непримиримая настойчивость Николая Петровича вернуться к старому проекту…
16
На той стороне Бересени, заросшей тальником и черемушником, у излучины, где река делает крутой поворот и входит в Атамановскую шиверу, тракт, минуя серпантин по склону горушки, бежит вдоль самого уреза реки. Весной его частенько подтопляет, хотя дорожники из Темирязевского стройуправления каждый год валят на дамбочку строительные отходы; кирпич, бетон и всякий мусор.
В эту весну вода была в половодье малая и берег отодвинулся метров на двадцать, оголив галечный плес, а обрыв на левом берегу, стоявший напротив, откуда атамановские пацаны ловили на проводку голавлей и жерехов, оказался совсем на суше. Корневища черемух висели в воздухе, словно щупальца осьминога. Тут-то и высиживал уже вторые сутки Дмитрий Фролов, выслеживая дорогу, покуривая и, для отвода глаз, приткнув бамбуковое удилище на рогульку. Леска уже давно запуталась в мусоре, а поплавок и вовсе унесло прижимом. Не давала покоя Фролову дикая волна мщения еще с прошлого года, как только узнал о том, что брата Василия застрелил Алексей Ястребов. Терзала она сердце холодком и туманила мысли. Он даже бросил выпивать, хотя ящики с драгоценной по нынешним временам влагой стояли в тайном погребе, под полом дома и ждали покупателя. Когда пришел к власти Андропов и начались громкие судебные разборки над теми, кто хоть малую толику был замешан в коррупции, в цеховских делах, Дмитрий потерял покой, трясся как осиновый лист каждую ночь. Все его подельники уже созерцали небо в клеточку, а он каким-то чудом гулял на воле. Потом он понял, что держали его на плаву всесильные родственнички, ну и топить его подельникам было невыгодно. Вся тайная касса была в руках Фролова. Посоветовал друзьям-товарищам ее создать Шарыгин, зная блатные законы воровского мира. «Все в кучу, мужики, на черный день! — говорил он на сходке с выпивоном. — Каждому своя доля! А ежели кто загремит, то на нарах легче будет да и когда воля блеснет…» Там же Шарыгин предложил Фролова:
— У Дмитрия есть хватка!
Некоторые возмутились, особенно противился начальник милиции:
— Мы что, паханы?! Будем принимать ихние законы!
— Верно…
— Как хотите, я умываю руки, — поджал губы Шарыгин.
Все же потом согласились. Вскоре деньжата из чулков перевели в золотишко и серебро. Металл всегда в цене, хоть при какой власти. Кладку никто не знал кроме Фролова. А соорудил тайную храну еще отец Дмитрия в давние времена, храня там накопленное. Перед арестом сына Василия старый жулик почуял неладное, попросил Дмитрия отвезти его на телеге под Шоломку, в Вербовое ущельице, крутое и мало посещаемое людьми из-за того, что еще в старые-престарые времена хоронились там от властей разбойники и беглые каторжники, которых казачки регулярно вылавливали, ежели те уж больно сильно шалили в округе. Он рассказал двенадцатилетнему пареньку, что его дед скрывался тут от красных, пока на рану не накинулся антонов огонь, и то, что взял его Березин…
— Гробовая семья, Дима! Подальше от нее!.. Васька вон из-за Катьки жизню сломал…
Веселый ручеек спадал водопадиком на большую известковую плиту. Вода скатывалась тонко по бело-розоватой глади зеркально, играя на полуденном солнце изумрудно-сине.
— Подвинь, Митя, ее сюда вон за тот конец, — попросил отец, указывая корявым пальцем на выступ.
— В ней, батя, с тонну будет?! — удивленно выпялил глаза на отца Дмитрий. — Да ее трактором…
— А ты попытайся, сынок! — хитро щурил рыжие глаза Фролов. — Пойдет как по маслу…
Дмитрий ухватился, и плита, на удивление, легко сдвинулась. Вода, уркнув, словно лилась из бутыли, ушла в землю…
— Сунь-ка руку под козырек…
Дмитрий достал из-под водопадика совершенно сухой котелок, заткнутый в горловине деревянной пробкой, которую хотел тут же вытащить, но отец остановил его:
— Сейчас не надо. Когда уж больно приспичит, то возьмешь, а пока не тронь. Будь осторожен, когда сюда пойдешь. Шарыга все в душу лезет. Береги тайну. Васька пьяница… Пропьет! Витька уж больно чистенький… Не для него это. А пока забудь об этом! На дело бери…
Дмитрий забыл на долгие годы. И коснулся заветной кубышки, когда начал восстанавливать усадьбу. А потом кубышка уже перестала вмещать золото, и Дмитрий приспособил под это дело трехлитровую полиэтиленовую канистру с широким горлом. А котелок, изъеденный временем, навесил на кол плетня. Шарыгин тысячу раз проходил мимо, не догадываясь, что это и есть та самая кубышка, о которой он не переставал думать…
За выступом поворота надсадно загудел движок машины, взбирающейся на петлю серпантина. Сегодня прошло тут около двух десятков машин, но эта почему-то принесла волнение. Почуяло сердце, что ли?! Дмитрий поглубже на глаза натянул фуражку и взялся за удилище левой рукой. «Он!..» — мысли сразу потекли другим руслом, по спине пошла колкая холодная рябь. Рука потянулась за спину, где лежал винтарь, из которого он бил зверя. Но сердце подвело… К реке лихо скатился почтовый уазик, за рулем которого сидела почтальонша, отважная деваха, колесившая в одиночку зимой и летом по проселкам и деревням, изредка подсаживая знакомых селян, мерявших таежные километры на своих двоих после закрытия железной дороги.
— Фу, черт! — выругался Дмитрий. — А может, грабануть ее?! Деньга у нее в сумке немалая. — Но увидев торчавший с почтальоншей рядом ствол ружья, передумал: — Пришьет!.. Она стреляет, как снайпер!
Место для засидки он выбрал не случайно. За овражком, который тянется вдоль берега, плелся летник. По нему можно было умчаться на мотоцикле от погони, если выстрел будет неудачным. Да и звуки тут не рассыпаются эхом, а гаснут в пихтовнике.
Сидел он еще долго. Солнце уже поднялось высоко. Нервы были натянуты до предела и внимание начало рассеиваться на постороннее. «Че, он сегодня не едет?! Зараза!..» — подумал он и тут совсем неожиданно на плесу появился москвичок Ястребова. Фролов даже растерялся сначала. Поднаторев в убийстве зверей, он не сомневался в том, что так же легко попадет в человека. Но тут воинственный дух из него сразу выпалился. Руки отяжелели, да и глаза замутились каким-то белесым туманом, а во рту стало сухо и горько, как с глубокого похмелья. Далее было еще сложнее. Алексей неожиданно съехал на обочину и затормозил возле большого белого камня, лежавшего на взгорке, на котором крутила хвостом сорока и стрекотала без умолку, будто пулемет.
Дмитрий напрягся, а Алексей вышел из машины, спустился к воде с ведром и, увидев рыбака и не признав в нем Фролова, крикнул шутливо:
— Рыбак душу не морит, рыбы нету, кол сварит! Э-э-э, как клев? Ты зря тут сел. Правее надо…
Фролов похолодел, спаяв губы намертво. Мысли испарились, как вода в котелке. Только жаркий страх, всесильный и пожирающий, пришпилил его намертво к земле. Фролову казалось, что черные глаза Ястребова пронзают его насквозь, несмотря на расстояние, отделявшее правый берег от левого. Стрелять Фролов уже не мог. Так и тянуло нырнуть в чащу. «В другой раз, — решил он. — По-другому надо!» Как только Алексей нагнулся над водой, Фролов на одеревеневших ногах вылез на яр и, проклиная себя, весь березинский род и вообще все на свете, пошел к проселку.
Алексей, выплеснув воду из ведра на капот, тронулся обратно, а рыбачка как ветром сдуло, даже следочка не осталось.
— Странно! — удивился Алексей, поглядывая на опустевший яр, на то, как мелюзга бьет у берега на лету мошку. Тишина стояла до звона в ушах. Среди трав соревновались в стрекотании кузнечики, над ельником вился коршун и, не найдя добычи, косо свалился к склону горы. Алексей, помыв машину, протер насухо и тронулся в Темирязевку…
А Дмитрий Фролов сидел возле мотоцикла и нервно курил, глядя прищуренно на изгибы хребтов. Только сейчас он понял, что никогда не сможет убить Алексея. «Шарыга!.. Тот стрельнул бы!.. Повязан!.. С Шарыгой нельзя на эту тему разговор вести. Телегу накатать?!» В тот же день, сидя на диване, диктовал жене, заранее подготовленный текст:
«…Сообщаю, что Алексей Ястребов, начальник лесхозовской железной дороги, не тот человек, за которого он себя выдает. Он находится в розыске и с подрывными целями затесался в партию…»
— Зачем это, Дима?! — Груня подняла на него печальные карие глаза. — Ведь посадят!..
— Пиши, пиши!..
Утром Фролов сам отвез письмо в Красный Яр и опустил его в ящик в подъезде дома, где жил Пыльнов, стараясь сделать это незаметно…
На другой день поутру, как только муж ушел на скотобазу, Груня, проводив его взглядом до конца улицы, накинув на голову платок и поручив присмотреть за детишками соседской бабке, пошла на тракт ловить попутку.
— Куды ты намылилась, Грунюшка? — сморщила сухой нос старуха, тыкая клюкой в землю.
— Хочу родителей проведать в Плакучке. Че-то сердце колотится?! Ты уж за девками-то присмотри. На речку не пускай.
— Езжай. Справлюсь.
— Ежели Митька раньше меня придет к обеду, то скажи, что с бабами ушла к табуну, лошадей проведать, а то как бы не ломанулись они на огороды. Про Плакучку ни-ни!
Тайга уже скинула росу, когда Груня наконец-то прикатила в Айгир. Вышла она у завода и сразу же тронулась к Бересеньке, поглядывая по сторонам, со страхом думая: «Вот дура, баба! На кой поперлась? Митька узнает — убьет! Ну, а я добро не забываю».
Да, Груня не забыла, как выхаживала ее Зоя, когда после родов своего первого ребенка она чуть-чуть не отдала Богу душу. Да и отец, работавший на леспромхозовской железке путейцем, всегда отзывался об Алексее с почтением: «Добрый мужик! Справедливый! И машинистом был, помогал путейцам… А уж начальником стал, то зарплату повысил всем!»
Обойдя старицу, Груня долго не решалась постучать в калитку. Два раза прошлась мимо дома. Наконец-то ее приметила Зоя, возвращавшаяся с дежурства:
— Груня, ты чего потеряла? Заходи…
— Да я!..
— С детишками че?
— Да нет, — Груня опустила голову и так вошла в калитку, возле крылечка остановилась. — Дело у меня есть. Тут скажу. В дом уж не пойду. Алексею опасаться надо! — выдохнула Груня. — На него кто-то письмо накатал, что он беглый!.. — врала она, не желая подставлять мужа.
— Откуда ты-то знаешь? — сурово спросила Зоя, вперив потемневшие зрачки в растерявшуюся женщину. — Ну?!
— Сказала и все! — выкрикнула Груня и, выскочив со двора, чуть ли не рысью тронулась прочь, часто оглядываясь. Зоя видела, как та обогнула старицу и скрылась за березняками. Она долго не могла прийти в себя. Ноги неожиданно онемели, и она опустилась на приступок. «Кто же раскопал-то?! — стремительно роилось в мозгу, терзая сердце, надсаженное в зонах. Сейчас эти болезненные рубцы вспыхнули огнем. — О-о-о, Витька в Казахстане!.. Вот что?! Значит и Пыльнов знает! Леха, Леха!..»
Вечером, когда вся семья была в сборе, держали нелегкий совет, отправив Веруньку в кино с ребятишками. Все уже все знали. Петр Семенович, стуча кулаком по столу, сипел, как сыч, подсаживая голос чуть ли не до крика:
— Дожили! Мать их растуды!.. — он обозревал всех сидящих за столом по-соколиному: — Опять в бега! Кольке надо позвонить… Зараза какая эти Фроловы. И живут ведь, сволочи!..
— Погоди, не кипятись, батя! — проговорила Зоя. — Ты че думаешь? — повернулась она к Алексею.
— А чего тут думать?! — вяло проговорил Алексей, нарушая запрет на курево в избе, пуская дым в сторону от женщин и замолкая, думая о происшедшем со спокойствием: «Пожалуй, надо сматываться. Сейчас время пришло жестокое. Не разбираясь, могут вышку припаять. Не отмажусь!.. А куда бежать?! И Катя болеет. Батя уж совсем старый… Как все бросить. Вот она, заноза!» — он с тоской глянул на жену, та запричитала:
— Что ты молчишь? — голос сорвался в рыдания. — Господи!
Зоя уговаривала Катерину, поглаживала плечо:
— Не все еще потеряно! Вывернемся!.. Не впервой!
Петр Семенович тряс головой, выкрикивал, сурово пяля глаза:
— Говорю, к Кольке надо!.. Он прикроет, как ранее!.. У него власть! Али к Павлу в Москву. Там народу много… К Маринке в карельские леса…
— Еще скажешь в Финляндию! — рассержено перебил его Алексей. — А что детям скажу? Что я беглый?! Не дело говоришь, батя. Не надо никого впутывать в это дело. Органам сейчас до лампочки, кто на каком месте находится. Сейчас и министры плачут. А уходить действительно надо, пока не поздно. С Кедровым надо поговорить и трудовую книжку взять. Без документов не скроешься…
— А вдруг он тебя выдаст! — вскочил Петр Семенович.
— Думаю, не выдаст. Нет резона… Тогда и его потащат.
Петр Семенович больше не спорил, вышел на костылях во двор, думал: «Эх, зазря деньгу на поросенка потратили! Пригодились бы ноне. А-а-а, сами пусть думают. Я бы к Кольке зафитилил!» Он с горечью воспринимал неожиданно подступившую беду, вспоминая невольно то время, когда встал горой за Алексея и не ошибся. «Вот как все обернулось! — терзали его мысли. — Может, врет Груня?! Слышала звон да не знает, где он! Вот напасть!»
Алексей в тот же час уехал в Темирязевское, несмотря на позднее время. Гнал по тракту, не жалея машины, служившей много лет верой и правдой, утопив педаль газа до самой железки. «Как все бросить?!» — застолбила в мозгу мысль.
Катерина, проводив мужа, добралась до постели и прилегла. Света решили в доме не зажигать, хотя сумерки надвигались вместе с ненастьем. С главного хребта сползала в долину тучка, и сразу же заморосил теплый, и вялый дождик. Верунька вернулась из клуба уже в темноте, долго шушукалась с подружками возле калитки, пока дед не загнал внучку домой.
— Ишь, полуношница! От горшка — два вершка!..
Встретила ее Зоя, спросив:
— Ужинать будешь?
— Не-е-е, — мотнула кудрявой головой Верунька. — А че это вы без света?
— Много будешь знать — быстро состаришься! — Зоя легонько подтолкнула племянницу к двери.
Петр Семенович не ложился, все торчал на улице, прислушиваясь, вглядываясь в темневший в дождливой мороси Сталинский бугор. Но только россыпь дождя да пыхтевший машинами завод нарушали тишину. Вернувшись в дом, сказал сумерничавшей возле окошка Зое:
— Котомку надо собирать. Ежели приедет, то до света надо Алешке смотаться. Катерина спит?
— Спит…
— Буди да в погреб слазьте.
Я вот чего думаю, батя, — тихо заговорила Зоя. — Мне надо попервой с Алексеем уезжать. Лучше всего на лодке до разъезда…
— Ты чего, дуреха?! Куда тебе? — сдерживая раздражение заговорил Петр Семенович, притушив голос до шепота. — Одному сдобнее!
— Наоборот. Меня не будут ловить, а помогать некому. Нет, батя! Сейчас Катерину разбужу и решим. Пошли в погребицу, крышку подержишь.
Придерживая тяжелую крышку, Петр Семенович злобно ругался:
— Шпыни — эти Фроловы! Как были сволочи, так и деткам передалось. Ишь, сколь лет прошло, а все мстят. У Васьки не вышло, так братья евойные к делу приступили. И с Пыльновым породнились! Один Витька у них похож на человека, а бабу прихатил такую, что после отжима семя…
— Тебе-то чего? — спросила Зоя, вылезая из проема с куском сала. — Не тебе жить. Пусть снюхиваются хоть с кем, лишь бы других не трогали.
Чуть позже разбудили Катерину.
— Что? Приехал… — вскинулась она.
Поговорили еще около часа и прилегли, не раздеваясь, сговорившись, что Зое надо уезжать с Алексеем, хотя бы на первое время, пока не доберутся до Междуреченска.
Алексей вернулся из Темирязевки ближе к рассвету и сразу же приступил к сборам, послав тестя на берег, готовить лодку. Петр Семенович вернулся вскоре, спросил:
— Ну че там выгорело?
— Оформили командировку в Томский лесхоз задним числом… Трудовая в кармане…
Катерина, укладывая в рюкзак смену белья, проговорилась сразу же:
— Порешили мы, Леша, что тебе надо вдвоем ехать. Зоя тебя и проводит. Я-то плохая помощница, — она всхлипнула.
— Это еще зачем?! — Алексей изогнул бровь.
— Не шебурши, Алеша! — встрял в разговор Петр Семенович. — Тебе светиться-то нельзя. У кассы постоять али еще что? А баба поможет. У них лучше получается всякие тайны делать. Да мало ли?
— В общем-то, наверное, так и надо, — после некоторого раздумья проговорил Алексей. Ну, а ты-то тут не особо страдай! — повернулся он к жене. — Знакомое дело, бега. Правда возраст уж не тот, но еще отмахнемся!
Катерина уже не плакала, а только шумно вздыхала, держась за сердце, покусывая подернутые сухостью губы от большого волнения и страха за любимого человека. Сама бы тронулась с милым в бега, да ноженьки побаливают. «Как же я буду жить?! — думала она, припадая лицом к плечу Алексея. — Ой, что это я? Пусть вдали, но на воле! Хватит уж ему в жизни этих тюрем… Дети ведь!.. Им-то будет каково!..»
— Чуть забрезжит, и в путь-дорогу! — проговорил Петр Семенович. — А то в темноте-то напоретесь на камень. Еще перевернетесь…
— Знаю я русло! Надо сейчас трогаться, — Алексей взвалил рюкзак на плечи. — Вы к речке не ходите. А то толпу сразу кто-нибудь приметит. Да, зарплату получите. Я там, в кабинете, оставил доверенность. И еще!.. Никому не пишите, что я уехал… Веруньку будить не буду. Ну, прощевайте!
— 354
Алексей тронулся к Бересецьке первым, за ним шла Зоя, накрывшись платком. Деревня была пустынной, словно вымершей. Айгир все так же подпевал шумами заводским вздохам машин. На востоке проклюнулась синяя зорька. Трава на поляне после дождичка была мокрой и скользкой. Пахло одурманивающе папоротником из черемушников, и в чаще, укрытой туманной заволокой, защебетала пичуга: «Чу-чу-чу-фиють-фиють-фиють!» Алексей улыбнулся: «На счастье!»
Зоя топтала росный след Алексея, думала о своем, перебирая в памяти маленькие и большие радости в жизни тут, в Бересени, деревеньке, которая приютила их с Алексеем на счастье. Она глянула на утес, стоявший все так же непоколебимо, как и много лет назад. Вспомнила, как после гибели Александра бежала по луговине к Камню и стояла там, глядя сверху на долину, над которой вот так же витал туманец, выплясывая причудливые коленца на ветерке. «Сколько лет прошло, а все помнится!»
Мысли ее оборвал Алексей:
— Пришли! Лезь в лодку, ставь весла, а я столкну…
17
Пыльнов, глядя прямо перед собой, задумавшись, медленно переходил центральную площадь села к своему учреждению. На стоянке, чуть сбоку от райкома партии, выстроился ряд разнокалиберных автомобилей. Сегодня съехались со всего района руководители предприятий, колхозов и организаций на районное совещание, где ему положено выступить и разъяснить цель широкой кампании, проводимой партией и правительством по укреплению трудовой дисциплины и борьбы с коррупцией на местах. Тема ныне актуальная, но не это волновало сегодня руководителя районной госбезопасности. В кармане брюк лежала анонимка, вынутая еще вчера из почтового ящика. «Реагировать или пропустить мимо?! — думал он, скользя взглядом по большой клумбе, где местный садовник из районного зелентреста возился среди только-только распустившихся голенастых гладиолусов, похожих на подиумных красавиц, демонстрирующих свои небесные наряды. «Ястребов, Ястребов! — настойчиво долбило в мозгу. — Завистник!.. Накатал телегу? А может быть, Виктор проговорился и его брательник хочет отомстить за Василия?! А если это действительно правда?!» Эти мысли вносили раздражение и разлад в душу.
— Подумать надо! — проговорил он твердо, ставя ногу на приступок крылечка.
В длинном коридоре управления районной госбезопасности было сумрачно, пахло табаком, краской от недавно покрашенных стен. Дежурный, молоденький сержант-срочник, торопливо вскочил, кинув к синему околышу фуражки ладонь, поприветствовал строго:
— Здравия желаю, товарищ подполковник!
Пыльнов, кивнув головой, прошел в кабинет. В раскрытое настежь окно, сквозь железные решетки, доносился со двора голос лейтенанта, занимавшегося строевой с солдатами внутренней службы. «Делать ему нечего! — раздраженно подумал Пыльнов. — Старшины это дело…» Он подошел к окну, хотел крикнуть, но раздумал, сел за стол и прочитал еще раз злополучную анонимку.
— Та-а-ак, и что будем делать?
Пыльнов положил листок тетрадной бумаги в папку, захлопнул ее и вызвал заместителя по оперативной работе по внутренней связи:
— Капитан, зайдите ко мне и захватите данные, кто сегодня должен присутствовать на совещании. И еще…Скажите Краснову, что пусть занимается делом, а не дерет горло во дворе…
— Слушаюсь! — прохрипел динамик.
Через минуту капитан принес список людей. Пыльнов сразу же отпустил офицера и впился глазами в колонки фамилий, напечатанные на машинке. Ястребова среди них не было. «А должен быть, — Пыльнов поджал губы. — Спросить у Назарова? — он потянулся к телефону и тут же отдернул руку: — Подожду».
Совещание высшего и среднего звена руководителей проходило в актовом зале райисполкома. По пути Пыльнов зашел в райком партии. Назаров готовился к выступлению, пробегая быстро глазами страницы своих тезисов, стоял у окна. Неподалеку покуривал директор Темирязевского комплекса Кедров, загораживая большой фигурой пол-окна. Они повернулись к двери разом, как только вошел Пыльнов, поглядели вопрошающе. Пыльнов теперь редко навещал партийную организацию. В дни, когда страна жила под жестким контролем кагэбэшников, посещение этого человека, вносило тревогу.
— А-а-а-а, товарищ Пыльнов! — со скрытым недовольством проговорил Назаров и легонько помел его: — Редкий гость! Присаживайтесь. Покурим, время еще есть.
Пыльнов присел на стул, потянулся в карман кителя за сигаретой. Кедров, не любивший Пыльнова, пошел было к двери, но тот его остановил и, пыхнув дымом в сторону окна, спросил:
— Слышал, что вы закрыли движение до Плакучки? Ястребов снимает уже пути… Да, кстати, где он?
— Верно! Есть распоряжение минлесхоза о прекращении заготовок, — произнес Кедров и подумал: «А не зря Алексей Павлович торопился!» А вслух продолжил, стараясь быть спокойным: — В командировке Ястребов…
— А что у вас за ресурсами ездят начальники железки? — Пыльнов вздернул брови.
— Так нужно было, — развел руки Кедров и тихо вышел.
— Что вы думаете по этому поводу, Анвар Галимзянович?
— А что тут думать, подполковник, — произнес Назаров, после того как набил свою трубочку табаком и раскурил. — Он начальник, ему виднее, кого посылать. А Ястребов — хороший коммунист и хозяйственный мужик.
— Ну, да! — кивнул большой головой Пыльнов. — Я помню, что рекомендацию в партию Ястребову давали Козырев и Березин, — слащаво продолжал Пыльнов: — Березин близкий родственник. Нарушение партийной этики.
— В уставе это не записано, — резко ответил Назаров, понимая, к чему клонит подполковник. — А что ты так о Ястребове всполошился? Учти, он лицо неприкосновенное…
— Ну это… Да так, — с деланным равнодушием махнул рукой Пыльнов, поднимаясь с кресла. — Знаю, что работник хороший.
— И коммунист…
На другой день, раненько, чуть только выглянуло солнце, Пыльнов послал в Темирязевское двух офицеров разузнать, когда вернется Ястребов и что это за срочная командировка. Глядя в глаза одному из них, говорил строго, словно сквозь зубы:
— Только без шума!.. И без широких огласок. Если же Ястребова застанете, то пригласите по повестке…
Пыльнов видел в окошко, как офицеры сели в служебный уазик, захватив с собой солдата с автоматом. «Ну это уж зря!» Он еще некоторое время посидел за столом, листая бумаги, делая размашистые пометки цветными карандашами, потом пошел в подвал, где в старых камерах содержались директор швейной фабрики и его заместитель, ожидая этапа в областную тюрьму госбезопасности. С цеховиками он поговорил по-дружески, уверив, что им особо ничего не грозит, если они будут соблюдать все его инструкции, а потом собрался обедать, но его задержали офицеры, вернувшиеся из Темирязевки.
— Ястребова, конечно, нет! — зло прищурился Пыльнов, поняв, что офицеры проездили зря.
— По документам, он в командировке еще со среды.
— В Томске… Кажется, все законно. Поговорили с нужными людьми.
— Готовьте срочную ориентировку на задержание Ястребова. Ястребова из-под земли достать! — почти кричал Пыльнов, поняв, что своей неуверенностью прохлопал дело.
Офицеры ушли, тихо матерясь, а Пыльнов заехал домой, переоделся в гражданское и поехал прямым ходом в Бересеньку.
Горы лежали в полуденном мареве, подернутые летней голубоватой дымкой. Дорога вилась меж отрогов, веселых и светлых, уткнувших свои лохматые морды в реку. Пыльнов сам сидел за рулем, попыхивал папиросным дымом, злобно посматривал на ласкающие глаз склоны, украшенные цветущими луговинами. Не видел он этой красы, да и никогда не был сентиментальным даже в добром расположении духа. А сейчас он сгорал от гнева: «Сколько лет морочил он всем головы?! А ведь я где-то видел бумагу о всесоюзном розыске Ястребова! Да и то происшествие с убийством Василия Фролова не всколыхнуло меня. Но кто же знает? Анонимщик — это ясно! А где его искать?»
Поездка в Бересеньку ему ничего не дала, а еще больше разозлила. Дома был старик Березин, который, не выходя за ворота, послал Пыльнова куда подальше. Пыльнов в ярости пнул крепкие ворота ногой, зашибив пальцы, и уехал в Темирязевское, пытаясь еще раз расспросить Кедрова:
— Что поделаешь? — развел руки в стороны Кедров, наивно глядя серыми глазами в жесткие глаза Пыльнова. — Приходится… А что это вы Ястребова ищете? Приезжали уже два молодчика. Он украл что?!
Пыльнов в ярости хлопнул дверью. Кедров усмехнулся: «Злой! Попади такому — калекой сделает!»
Пыльнов вернулся в Красный Яр к вечеру уставший и злой. А тем временем багровый след заката встретил плоскодонку с двумя людьми возле пологого мыска с одинокой сосной, распустившей свои лапы над завадинкой, где крутилась воронка, затаскивая в свою голубовато-зеленую горловину всякий мусор. Лодку занесло задом к берегу. Алексей выпрыгнул на берег, громыхнув носовой цепью, завел лодку в тихую воду.
— Надо было чуть правее пристать, — говорила Зоя, вылезая из лодки при помощи Алексея.
— Сойдет и тут. Зато сразу на тот берег плоскодонку утянет струей. А нам это на руку.
Ветер сдувал рябь, завивая беляки в кудерьки бело-синие, словно подкрашенные изнутри. Алексей с силой оттолкнул маленькое суденышко. Рассвеченный наискось мощный перекат принял лодку и швырнул ее в самый слив. Через несколько минут она уже скрылась за излучиной. Где-то вздыхал и тужился на подъеме грузовой состав. Вскоре он обдал ветром мужчину и женщину, двигавшихся к разъезду, хранивших в душе верность, родившуюся на далекой земле много-много лет назад..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале зимы, когда плотно улягутся молодые снега на уральскую землю, укрыв белым-белым покрывалом горы и тайгу, то все задремлет в прозрачной светлой курже, лохматистой, как елочная канитель. В это время года перекаты и пороги на Бересени еще не впали в спячку и тихо поджидали ядренистую стужу, которая могла бы до весны сковать стоки. Чистая ото льда вода на стремнине, темная, как патока, заленившаяся и вялая, облизывает каменные лобины, свертываясь в бархатисто-ажурные наледи, схожие с бабьими занавесками на праздничных окнах. На мелких шиверках и плесовых горловинках успело уже приморозить до дна, и там лед вспучился под напором, словно вулканчики. Вот-вот рванет столб воды, и потечет она по затокам, по шелестящим жестко на холодном ветру тальникам, по низинам, растрачивая студенистое водополье неумолчной трескотней, жадно заедая снега в прибрежных урезах. Протяжное эхо пронесется над вершинами гор, упадет где-то в глухих таежных урманах и тихо умрет. И после долго будет парить по берегам сыпучий туман, сухой и прилипчивый, как снежная буря. А кругом ровно!.. Все огрехи земли подровнял недавний снегопад, запорошив звериные и людские следы. А возле жилья, еще на езжих дорогах, редкий автомобиль оставит колею. Узоры прожектора по-змеиному потекут через железнодорожный переезд к станции, жившей так же вяло и бедно уж который год. А за мостом через Бересень и совсем пути нет. Вилюче тянется меж целины и сугробов тропка к поникшему в безработье Айгир-заводу, а влево от моста — к деревеньке, дымившей всего одной трубой, казалось, затерянной в этом белом и молчаливом пространстве…
Былое ушло, пролетели годики, разнеслись по ветру мотыльковыми всполохами. Пало навзничь целое государство, как подпиленная лесина, вздыбив горькую и едкую пыль, потянув за собой ниточку несчастий, опустившихся на головы людей, словно погребальный пепел, отозвавшись невиданной болью в сердцах, стоном в душах и растеренностью в умах, словно после дикого погрома, толкнув многих и многих в неизвестность…
Алексей, сойдя с поезда, задержался возле развилки, где когда-то была остановка и стоял указатель, поглядел на остывшие заводские трубы, не пыхтевшие дымом и облепленные с севера снегом; на каменные корпуса цехов с выбитыми стеклами и растащенным оборудованием, которое вывозили неизвестные люди целыми составами; на деревянные бараки и безликие коробки многоэтажек, где на сей день ни осталось ни одной живой души, кроме одичавших кошек и собак. Разруха!.. Разруха!.. Как после мора!.. Тропили теперь огромные псы следы, выли по ночам, спарившись с волками, да каркало воронье, казалось, слетевшееся со всей округи на стервятину…
Алексей горестно вздохнул, созерцая одичавшую местность, пустынную, как первозданную глухомань. Припомнилось, как много лет назад его встречала тут стая волков. И мост был деревянненький для гужевого транспорта, но зато полнокровной жизнью дышала Бересенька. Он шел тогда к любимой по санному пути мимо снежных бугров, а впереди светился огонек, который согрел его душу навечно… Все было!.. Потом строился завод… И надежды, и силы, оправдавшиеся, как было когда-то в мечтах на тюремных нарах… И тут счастье! Но кто думал, что все это рухнет когда-то лавиной, сомнет, искалечит, соскользнув на устоявшийся и счастливый быт людей, живших в этой долине. Раздумья стелились сегодня вязко, как дымок из родного дома, принесшего ему радость семейного гнезда. Все самое родное и близкое за этими бревенчатыми стенами, срубленными его руками и согретыми семьей. Правда, разруха помогла ему вернуться из бегов, но цена эта неравноценна. Да!.. Не стало государства, исчезло словно Атлантида. Кагэбэшникам, от которых он скрывался много лет, стало не до беглого каторжанина. Самим пришлось уносить ноги от демократического всплеска, рушившего на своем пути не только памятники коммунистическим вождям, но и весь быт, созданный не вождями, а руками честных работяг, откупаясь государственными секретами от бывших закордонных врагов и своих жертв, обогащаясь ценностями, созданными другими для всех людей на свете. Сотни захватили обманом все ценности, а что осталось простому человеку? Рубища и голодное существование!.. «Хорошо, что батя не дожил до всего этого: до Беловежской пущи, до расстрела Верховного Совета и ареста сына, стоявшего до конца за стенами Белого дома, — колотнулась жалкая мысль. — Не видел он перестроек, захватов ценностей жуликами и разной гадости… Умер своей смертью, думая наверняка, что труды его на земле достанутся детям и внукам. От такой несправедливой и лихой нужды сердце его бы разорвалось на части, как бомба…»
Мысли Алексея одолели, и он не спешил к дому, хотя отсутствовал целую неделю, побывав в Яру и в Междуреченском, а потом задержался на день в Темирязевском, везде наблюдая вопиющие беспорядки, нищих у помоек и бомжей, вспоминая послевоенные тяжелые годы. Но тогда был впереди просвет, огонек, который манил к светлому будущему. А четвертый его побег, отсюда, из Бересеньки, как раз совпал с тупой перестроечной волной, которая катила не туда, куда надо, а в анархию, в тупик, возглавляемая ограниченными людьми, думающими больше о власти и своей корысти. Уже тогда, когда он мотался в одиночестве по всему Союзу, ускользая от сетей Пыльнова, давая о себе скупые весточки родным через третьи руки, Алексей видел надвигавшуюся серость. Даже воздух был горьким и непрозрачным в Междуреченском, где его приютил Николай Петрович Березин на свой страх и риск, устроил его в междуреченское депо, нашел комнатку в тихом районе, помог материально на первых порах. Зоя тогда сразу же вернулась в Бересеньку. И все, может быть, остановилось бы разом на месте, жизнь вновь обрела реальность, правда вдали от близких и родных, если бы не случайная встреча с Пыльновым, произошедшая на привокзальной площади, когда Алексей возвращался с работы и ждал автобуса. Пыльнов, сойдя с поезда, медленно шел от подземного перехода, направляясь как раз к той остановке. На мгновение у Алексея приросли ноги к асфальту и стало сухо во рту, как в пустыне, а по жилам потек холодок. «Влип!» — пронеслось в мозгу. Он знал по коротким весточкам из дома и от Николая Петровича, что Пыльнов рвет и мечет, подняв снова всю свою службу и стукачей, обшакалившихся на воле и на зонах, оживив бессрочный розыск. Стронул его с места все тот же страх, что и пригвоздил к месту. Алексей, пятясь на ватных ногах, ощущая дрожь во всем теле, словно его бил холодный колотун, нырнул в гущу пассажиров, а потом скрылся за углом камеры хранения. Ему показалось, что Пыльнов его все же заметил и послышался набатом окрик: «Стоять, Ястребов!»
В тот раз Алексей, уволившись, опять-таки при помощи Николая Петровича уехал в дальние края на строительство Байкало-Амурской магистрали. Там, в глухомани далекой, он работал на маневрушке машинистом, откатывая платформы с породой, выданной на-гора проходчиками. Здесь и застала его телеграмма от Катерины, сообщавшей коротко на чужую фамилию о смерти Петра Семеновича, человека, давшего ему новую жизнь, свободу и науку блюсти честь и имя, а также семью…
Помогали ему все, и Алексей, перескакивая с вертолета на поезд, с поезда на самолет, не щадя себя, все же успел проводить в последний путь Петра Семеновича. Осень в тот год стояла на редкость сухой и теплой, хотя в конце сентября порошило снежком и ночами подмораживало. А потом вдруг пришло второе бабье лето, даже теплее и прозрачнее первого. Оно как будто подыгрывало людям, собиравшимся хоронить человека, чтобы не было большой печали…
Алексей, сойдя с поезда, почти бегом преодолел путь от станции до деревни, собираясь с духом, дыша рвано, словно от перегрева. В избе в этот ночной час народу не было. В слабом свете свечей, горевших в изголовье у икон и в подернутых желтизной старческих руках покойника, сложенных на груди, Алексей едва узнал сидевшего у гроба верного друга Петра Семеновича громадного Трифонова, облаченного в черное с головы до пят, с бородищей, пластом лежавшей на широкой груди, читавшего нараспев сдержанным басом:
— …Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. — Слова псалома гулко отдавались в стенах. — Дай мне услышать радость и веселье, и возродятся Кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все Беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от Лица Твоего, и духа… — монах перевел дыхание, краем глаза заметив застывшего у порога Алексея, продолжил, лишь кивнув косматой головой: — Духа Твоего Святого не отними от меня…
Алексей встал в ногах гроба, не шевелясь, ждал, когда Трифонов закончит. А тот дочитал псалом до конца, захлопнул молитвенник, встал и истово перекрестился, проговорил тихо, не здороваясь:
— Подойди, Алеша. Мы уж думали, что ты не приедешь, где-то застрял. У тебя засек в мире много… Сподобился, друг Петя! Царство ему небесное, — голос его слегка подсел. — Человечище был!..
— Здравствуй, Степан Корнилович! — поприветствовал его Алексей, криво улыбнувшись, коснувшись пальцами холодных темных одежд монаха. — А ты наблоты-ался по-поповски говорить…
— Не наблотыкался, а понял истину, до которой ранее не доходил, Алеша! Ты безбожник, знаю… И я таким был, да опомнился. Марфа призвала! — Он подтолкнул Алексея к изголовью, откинул плат, прикрывавший окаменелое лицо покойника. Алексей нагнулся и притронулся губами к холодному лбу, уже пахнущему тленом. Холод смерти передался Алексею, прошелся по жилам и в душе зародилась горечь. Откуда-то изнутри волной подступили глухие рыдания, сотрясавшие все тело. Стоял долго, пристально вглядываясь в родные черты лица, застывшие в скорбном молчании смерти. Ушел человек, заменивший ему родителей, исчезнувших с лица земли в круговороте кровавых бурь. Сердце саднило, а мысли мчались словно сквозь туман, просвечивая сквозь него собственную прожитую жизнь, в заботах, но счастливую… «И батя был, наверное, счастлив, хотя об этом никогда не говорил. Любил он жизнь просто, как любой деревенский житель…»
Мысли его оборвало тихое и нежное прикосновение рук, он резко обернулся. Перед ним стояла Катерина с черным платком на голове, из-под которого слезно блестели синие капельки глаз, потемневших от горя и печали. И время враз встало!.. Алексей прижимает ее голову к груди: все потекло вспять, как половодье, пьяня и дурманя в круговоротах. Алексей поверх головы жены смотрит на темные в ночи окна, на черную ткань, занавесившую зеркала, на портрет Сталина, все так же увешанный наградами Трифонова, застывшего рядом в молитве над другом, на теплившуюся в уголке божницы лампадку. Медленно топится ночь, как воск в руках покойника. До слуха Алексея доносится слабый голосок Катерины:
— Не болел… Только тосковал!.. Ходил все окрест… Часами просиживал на берегу. Чуть ли силком заставляли поесть. А в субботу-то вдруг попросил нажарить картошки на сале и чекушку водки достал из своего сундучка. Видать, давно припас. — Катерина тяжело вздохнула, переведя дух, продолжила все так же тихо и проникновенно: — Ну, попотчевал и нас с Зойкой, а потом заставил попеть. Смеялся так!.. Ну, думаем, ушла тоска-печаль-кручинушка. А к ночи лег на диван и нас призвал. Помру, говорит, седни… — Катерина всхлипнула. — Алексей еще крепче прижал ее к себе, попросил:
— Рассказывай!
— …Отпевать позовите Корниловича, — продолжала Катерина. — Чать, Бог-то уже дал ему такие права. Ну мы ему: «Да что ты, батя!» А вспылил, как всегда, аж скраснелся: «Цыц!.. Когда говорят, то слушайте! Учить еще!.. Сказано, помру! Запоминайте, что к чему…» Так и помер при нас. Угас, ровно свечка. Напоследок уже тихо-тихо, просил, чтобы собрали всех, особливо тебя. Не хороните, приказывал, пока Алешка не приедет. Всех-то вот не получилось. Павел на Кубе, а Егор — кто знает где?! Остальные еще вчерась приехали…
С Айгир-Камня упал вниз порыв ветра, запуржив в воздухе белой легкой канителью, светлой, как паутинка. Воспоминания тревожили, но не хотелось Алексею от них отрекаться. Алексей сгреб с перил снег, прислонился боком. Хорошо! Ох, хорошо-о-о! Воздух чист и прозрачен. Завод больше не красит снега в темно-бурую поветь. Он уже собирался снова взвалить рюкзак, наполненный гостинцами, как память тут же услужливо подсунула ему такое же предзимье, мягкое и сугробное, когда бродячая судьба снова занесла в те степи, в те казахстанские города, которые были на слуху, когда гнулся в Яме, катая тачку с рудой. Тысяча девятьсот восемьдесят шестой годик, полный всяких техногенных и людских катастроф: взорвалась атомная станция в Чернобыле, занавесив многие области невидимой смертью, а тут, на алма-атинских улицах, злоба затемнила рассудки людей, громивших все подряд на своем пути, сея быструю смерть на улицах. А Алексей хотел поработать в Чонпаре на железной дороге. Но куда в таком бунте, вихреватом и безрассудном, спрятаться и ожидать чего-то тихого и спокойного. Алексей, бывший все время настороже, сразу сообразил, что вскорости местные власти начнут хватать каждого подозрительного и начнут разбираться с дотошностью. Он в ту же ночь, сел на поезд и укатил в Марьинское, в надежде, что Барыкин там его прикроет.
В семье Барыкиных был тяжелый траур. В Афгане погиб сын-вертолетчик, нарвавшись на стрингер, когда прикрывал отход разведчиков, попавших в засаду. Несмотря на большое горе, посетившее их дом, Барыкин нашел в себе силы и принял его по-родственному, а на другой день свозил Алексея в Сады, так называются теперь бывшие карьеры лагпункта Ямы, перемалывающей в своем нутре тысячи людей…
Барыкин, исхудавший и черный, сутулился, словно под тяжестью, и говорил, разливая из бутылки водку в стаканчики, поглядывая на то, как жена срывала с шелестящих на морозном ветру кустов вишен сохранившиеся с лета ягоды, потемневшие и сморщенные, но сладкие и душистые:
— Весной тут, Алексей, теперь белым-бело! Видать, на косточках-то хорошо садам… Многие побывали тут, поклонились местам, а Паляй, хоть и заезжал частенько, пока тут жила Мария, но ни разу не заехал, хоть и звал я его… Старый страх, видимо, еще не ушел из сердца. Хотя, что ему, урке?
— Не знаешь, где он теперь? — спросил Алексей, принимая стопку.
— Не слыхать! Как Марию увез и все!.. Правда, какие-то люди в весну глубокой ночью выкопали останки Озерова и увезли куда-то. А сады разводили всем Марьинским. Правда, помогали люди, но тайно. Я говорю, страх!.. Директора совхоза сняли за то, что поставил памятник генералу Говорухину на кургане и всем там лежащим… Березина памятка!.. И Марьина… Курбан там все обихаживал. А ушел из жизни и все бурьяном поросло… Никому нет дела!.. В шальное времечко живем, Леха!
Алексей ничего не ответил. Стоял он среди деревьев растерянный. И не верилось, что вот тут, где растет эта яблоня, когда-то была страшная пасть Ямы, и он тут катал тачку, укладывая последние силы на настилы трапов… Барыкин, понимая состояние бывшего каторжанина, износившего тут не одну пару «четезух», не торопил, отойдя к жене, которая смотрела в синюю высь, может быть, надеясь там увидеть сына, улетевшего навсегда в чужое небо. А Алексей гонял тяжкие воспоминания через сердце, вспоминая людей, деливших с ним зэковскую пайку, и нары, отшлифованные телами в горячках и муках, озверевшую охру, кумовьев, Березина, подцепившего на свое счастье каторжанку и погибшего здесь за Сарысу, лагерных придурков и конечно же, свой побег из Ямы…
Барыкины подошли через несколько минут. Потеря сына отпечаталась нестираемой болью на лице Розы, когда-то прекрасном и светлом, несмотря на горести ссыльной поселенки. Алексей поднял стакан повыше, проговорил срывно:
— Помянем всех!.. И в первую очередь Олега, вашего сына!
Алексей прожил в Марьинском до весны. Уезжая, на безлюдном перроне он неожиданно для себя спросил:
— А ты вспоминаешь свою службу, Вася?
— А зачем?! — Барыкин строго посмотрел в глаза Алексея. — Не вспоминаю и не каюсь. Да и другие заботы! — Он взял Алексея за локоть, притянул к себе и продолжал, пристально впиваясь в зрачки Алексея, почуявшего все ту же власть этого великана над человеком, хотя и присогнутым горем: — Винить себя в чем-то легко, а пережить трудно. Службой моей ни враги, ни друзья не оденутся и не обуются. Я присягал!.. И совесть моя чиста! Сейчас те самые уголовники, что были роднее власти, чем политические, стали еще ближе и зачислили себя в списки обиженных. Ты вот, Леха, все бегаешь от властей, как заяц. А Паляй наверняка поживает как кум королю и в ус не дует… Вот и соображай, что к чему?
Алексей наконец-то поднял рюкзак и медленно тронулся к дому, оступаясь на узкой тропке в целину. Пока шел до дома, стоявшего в снегах, как будто укутанного от всех невзгод, выплыла еще одна веха, напрямую связанная с прошлым и своим подельником по побегу из Ямы, с вором-рецидивистом Паляем. Прошлым летом ездили всем семейством на свадьбу Егора, жившего в Тольятти после того, как вывели войска из Афганистана, а проливший немало крови в той стране десантник, оказался не у дел, попав под какую-то непонятную акцию срочного сокращения. Скотину оставили под присмотром далекого родственника и укатили своим ходом на стареньком «москвиче», работавшем исправно стараниями Алексея.
Егор, к тому времени оттаявший от войны и неблагодарностей властей, кинувших афганцев оскорбительными заявлениями: «А мы вас туда не посылали!», благодаря белокурой волжанке Настене. Пока он не встретил Настену, глядя на бестолковый беспредел, разрушающий страну, хотелось ему взять гранатомет и жахнуть по чиновникам и ворам!..
Гостевали на Волге целую неделю, а когда пьянки закончились, тесть Егора на своей моторке повез на свою дачку порыбалить, но рыбалка не удалась. То ли погода стояла пасмурная, то ли другая какая причина, а только возвращаться домой с пустыми руками было стыдно. И тесть завернул свою дюральку к селу Стременному, стоявшему у подножья Жигулей, где в рыбачьей артели работал бригадиром свояк. Берега вокруг поселка, растянутого по косогору, полыхали цветущим подсолнухом, покрыв отрожки. золотой кипенью.
Развалистый нос моторки ткнулся в бережок возле небольшой, но опрятной пристаньки, вспугнув верховую баклешку, рассыпавшуюся веером по замутневшей воде. Егор с тестем, захватив садок, вылезли на берег, подтянув лодку.
— Ты, Алексей, пока тут покарауль лодку, а мы пойдем половим рыбки на бумажный крючок, — проговорил Егор, усмехаясь. — Самая надежная рыбалка.
— Да уж, не сорвется! — поддакнул тесть. Алексей сидел в разогретой солнцем лодке, мучился.
А мужики где-то пропали. Прошло уже часа два. За это время солнце уперлось в зенит и стало припекать еще больше. От воды, тихой и игравшей солнечными бликами, парило духотой. К бортам не притронуться. Алексей вышел на небольшой косогор, где в тени под развесистой ветлой тек ветерок, сел на бревна. Рыхлая тень от кроны дерева, укрывала небольшую сплотку, на которой сидел старик с удочкой. Поплавок нет-нет да нырял в теплую воду, начавшую уже зацветать изумрудной ряской, и тогда дремавший чутко рыболов оживал, ловко подсекая красноперую сорожку.
Алексей от нечего делать спустился к нему, присел на качающиеся бревна сплотки, протянул пачку сигарет.
— Курите…
— А че и закурю. — Старик, глядя насмешливо серыми глазами на незнакомца, продолжал игриво: — Из городу? Вижу, что ты ненашенский. Откель приехал к Баяну? Из Самары, что ль?!
— С Урала…
— Вон чего?! Баян-то с Егором к Налиму подались! — старик усмехнулся. — Эта прозвища… Так-то он Венька Конарев… У нас тут без прозвищев нет жителей. Скоро и Егору пришлепают…
— Откуда вы их знаете? — удивился Алексей.
— А тут все друг друга знают. Не велика земля… Я Сова… В молодости зрение хорошее было. Бывалочай, ночью за версту вижу. На войне-то снайпером был. О-хо-хо! — он вздохнул и снова полюбопытствовал: — Родня, что ли?
— Родня. Егор — племяш…
— Их, афганцев-то, оплевали! Оплевали!.. Нехорошо!.. — он снова вздохнул. — Рыбалю вот для удовольствия от нечего делать. И для зверюги, — старик ткнул пальцем, корявым и изогнутым, как рыболовный крючок, с острым ногтем. Алексей только сейчас увидел большого пестрого кота, сидевшего на берегу и глядевшего мимо хозяина на задок, где трепыхалась мелочишка. А старик через короткую паузу продолжал хрипловато: — Как утро — так на речку! Мышей рылом не чует, а рыбу жрет пропадом! Я ведь тоже в бригаде работал, вот он и привык. Сейчас посократили всех. Так балуются да браконьерничают втихую!..
Из-за залесенного зеленого мыска, с верхов водохранилища, плавно выплыла снежно-белая моторная яхта. Описывая крутую дугу и рассекая водные усы крутыми обводами носа, она шла, как лебедь, гордо и надменно. Сбавила ход она только перед самой пристанью. Поуркивал ровно мощный дизель, плескалась волна между судном и дебаркадером. Два матроса в белых рубахах выдвинули трап. Капитан в короткой матроске и белых штанах сошел с рубки на палубу, где его поджидала женщина вся в черном.
— Хозяин приперся! — не то с восхищением, не то со скрытой злобой произнес старик.
— Мэр, что ли?
— Мэр, парень, у него в шестерках, а это хозяин…
Старик еще что-то толковал тихо, но Алексей его не слышал. Поразило его название яхты. На борту золотом горели до боли знакомая фамилия и имя: «Петр Паляев».
— А кто такой Петр Паляев? — выдохнул с волнением Алексей, перебивая бормотание старика. — Генерал… Герой войны?!
Старик откровенно захохотал.
— Ха-ха-ха! Герой с дырой!.. Петька-то?! Жулик, каких свет не видывал! Еще до войны у старой церквы… Она под водой осталась, когда плотину построили… А эту, — старик обернулся к селу, — Паляев и построил, — он долго смотрел на купола, игравшие на солнце зеленью и продолжал: — Паляй прозвище ему… Он и построил. Его мильтоны крутили возле ограды. Он тогда палец у милиционера напрочь откусил, а другому финкой брюхо пропорол. Ну его все же взяли в Жигулях. И в пятнадцать лет на Беломорканал пошел по воровскому да бандитскому делу. У них на роду было все написано. Отец тоже разбойничал на Волге, баржи грабил. Душегуб! А Петька-то сколь лет не появлялся, уж не припомню. А тут года три назад появился. Церкву построил, маслобойный заводишко и всю округу прибрал к рукам. Где силой, а где уговором. Многие тогда исчезли, кто ему противился. А нынешней весной привезли его откель-то с дыркой в голове. Тути похоронили в церковной ограде да еще отца Марии, его жены. Говорят, большой человек был в воровском мире. Властью, видать, не поделился, вот и укокошили. А сынок-то под стать отцу. Верховодит теперь он. Вишь, мать привез на могилку… Она-то Озерова так и осталась…
По берегу к церкви, стоявшей по-над кручей, медленно шла Мария Маврина с сыном. Не такая, конечно, как в былые годы в Марьинском, когда приезжали за телом Березина, сейчас она сильно постаревшая и сгорбленная, как будто годы и те несчастья придавили ее всей своей тяжестью. «Вот где их обитель! А Барыкин все гадал… Выходит, потянуло Паляя в родимую сторонку?! И все же шлепнули пахана… Ну и спасибо ему, что дал волю мне!»
— Посторожи, дед моторку, а я на церковь гляну, — сдавленным от волнения голосом попросил Алексей. — Десять минут!..
Алексею вдруг страшно захотелось побывать там, где последняя обитель подельника по побегу из Ямы. Какая-то сила тянула его и толкала.
— Валяй! — махнул рукой старик. — Токо не долго… Старуха уж, поди, извелась вся. А за работу чирик.
— Заметано! — Алексей ухмыльнулся: «Ушлый старик!» Он так же медленно тронулся в гору следом за парочкой.
Возле ворот Алексей чуть-чуть приотстал. Купил в церковном ларечке иконку, постоял, потом вошел в ограду. Церковного кладбища как такового еще не было и деревья, высаженные совсем недавно, голенасто разбрелись вдоль дорожек, посыпанных речным песком. На паперть вышел толстый батюшка, низко поклонился Марии, а с ее сыном поручкался и услужливым жестом пригласил в церковь. Дождавшись, когда они скрылись за высоким проемом настежь открытых дверей, Алексей пошел дальше. В конце утрамбованной дорожки он наткнулся на большую чугунную ограду, за которой лежали две толстые мраморные плиты, исписанные старославянской вязью, а над ними два высоких деревянных креста с латунными обоями. Алексей заходить вовнутрь ограды не стал, остановился возле стойки, похожей на винтовочный трехгранный штык. Хорошо были видны фамилии усопших и захороненных тут.
— Озер и Паляй! — прошептал Алексей, называя старых знакомцев по каторге кликухами.
И опять память четко высветлила: тупичок в Марьинском, расстрел Сазоновым краснухи-зэковоза, режущая боль в бедре, лицо Зарубы, а потом в зоне знакомство с Озеровым, Косаревым и побег… Алексей думал, что все это уже стерлось, покрылось пеплом прожитых лет, ан нет! Все рядом! Сердце надрывно екнуло и ледяные ручейки потекли по жилам. И в памяти Маринка, легкая, как перышко, с искаженным от безысходности лицом!.. Ее глаза… глаза приговоренной к смерти! Алексей облизал губы, будто тронутые пустынным суховеем, круто развернулся и пошел прочь. На взгорке встретился ему старый рыбак, несший на одном плече удочки, а на другом — дремавшего от сытости кота. Алексей протянул старику деньги. Тот пожал плечами и молча двинулся дальше, припрятывая четвертак в фуражку. Отойдя, повернулся и крикнул:
— Там твои возвернулись…
Возле моторки копошились мужики, перекладывая не уснувшую еще стерлядь крапивой.
— Нагулялся? — не поднимая головы, спросил Егор. — А мы вот стерлядкой разжились. А тут старый пень с меня на четвертинку потребовал.
— И с меня взял!..
— Ха-ха-ха! — рассмеялся до слез тесть Егора. — Тут еще те мужички! А Сова первый из них…
Воспоминания Алексея оборвал гудок электровоза, тянувшего за собой товарняк. Наконец-то Алексей тронулся к дому, все еще думая о прошлом. Только у ворот родного дома мысли оставили Алексея. У крыльца его встретила Катерина в накинутой на плечи шубке. «Видать, проглядела все глаза баба!» — подумал Алексей.
— Электричка-то минут двадцать как прошла, а ты где-то пропадаешь? Заждались!
— У моста покурил.
— Завод, поди, жалел?
— Да, ну…
— Жалей не жалей, раз все прокакали! Как съездил-то?
— Нормально! Везде побывал, да мало что узнал, — проговорил Алексей, сбивая веником снег с валенок. — После расскажу.
За стол сели сразу же, как только разобрали покупки. Зоя резала хлеб, испеченный Катериной в русской печи. Хорошо, что Петр Семенович не дал сломать печь, когда дали газ. Сейчас и газ-то отключили. Катерина разливала щи по тарелкам, обе бабы посмеивались, поглядывая на Алексея.
— Я чего, картинка? Или соскучились?
— А может, и картинка!
— Та-а-ак! Чего-то вы от меня прячете, чего я не знаю. Что-то случилось, пока я шмынял по району?!
— Случилось и хорошее, Леша! — Катерина взяла с комода телеграфный бланк. — Колю из тюрьмы выпустили! Обещал приехать на побывку…
— Но-о-о! — Алексей даже привстал. — А я уж думал, им всем там светит лет по двадцать, как врагам народа. Выходит, побоялись судить. За такое дело выпить не грех. Пойду в погреб за самогоном…
Сумерничали при свете лампы да лампадки возле иконы, горевшей пахуче. Электричество в деревню обрезали еще раньше, чем газ. А вскоре провода сняли со столбов жулики. Теперь, как в старые послевоенные времена, жгли керосин. Алексей, притулившись возле загнета печи с папироской, рассказывал:
— Шарыгин еще один магазин в Темирязевке открыл. Всякой всячиной торгует. Продавцов нанял. Говорит, что скоро в райцентр переедет. Хочет участвовать в выборах… Уже деньги заплатил… Удачливый, ворюга! Лафа теперь ворам да спекулянтам!..
— Откуда деньги берет? — проговорила Катерина.
— Откуда? Поди, Дмитрия Фролова он кокнул в Вербовом ущелье. Дом его прибрал к рукам, а заодно и Груняху. А у Фролова денежка была-а-а! Еще, что ли, налить?! — Зоя, не дожидаясь согласия, разлила самогон, настоенный на зверобое, потом подправила фитиль в лампе. — Эх, черт возьми! — Зоя поднесла стаканчик Алексею и прошлась по избе, неестественно виляя бедрами и сверкая глазами, начинавшими терять синь. — Старые уж мы, а то бы в путаны записалась. А че, Леха! — она подсела рядом. — Может, нам деляну взять да лес валить, а? У тебя же есть… как они, акции… Сейчас кому не лень в тайге лес кромсают и на доллары продают…
— Кишка тонка! — остановила Катерина золовку. — Это тебе не юбкой трясти. Чего там акции?! И ваучеры были, да сплыли. Все давно куплено и разворовано. Скотину надо заводить да усадьбу поднимать…
— К Назарову заходил, — совсем о другом задумчиво проговорил Алексей. — Еще бодрый. Говорит, что нужно с Кедровым переговорить да завод помаленьку поднимать. Борового встретил. Тот тоже об этом толкует. Деньги нужны…
— Ронять всегда легче, чем поднимать, так говорил батя, — перебила мужа Катерина, а Зоя ее поддержала:
— Опомнились! Маринка писала же, что у них такая же разруха. Хотят, чтобы каждый жил сам по себе…
— А чего это мы все за упокой да за упокой, — Катерина подбоченясь вскочила. — Не такое видели! Споем, что ли?! — и она первой затянула любимую песню отца и Трифонова:
Окрасился месяц багрянцем, Где волны бушуют у скал. «Поедем, красотка, кататься, Давно я тебя поджидал…»Песню, как всегда, подхватила Зоя. Голосище у нее так и не иссяк с годами, а стал еще глубже, манил и звал, как прежде, омутовой заволокой. Алексей подпевал, а в памяти ярились давние годки, когда всей деревней пели ее на поляне возле Бересеньки, сотрясая Айгирский утес. «Куда все делось?!» — пришла горькая мысль.
— Что-то Верунька давно не пишет, — выдохнула Катерина, когда песня кончилась. — Как она там, на Севере-то?
— Сейчас письма-то ходят через пень колоду, — отозвалась Зоя, вставая. — Не переживай! Там она хоть у дела. Северу-то, чать, не дадут засохнуть!..
Утром следующего дня упал сильный мороз на округу и разом остановил незамерзшую еще Бересень, покрыв ее тонким льдом, прозрачным, как стекло. И сразу же притих порог. Только в центральном сливе еще пыхтела и тужилась вода, стараясь перебороть жгучую стужу. Алексей еще затемно встал на лыжи и пошел с деревянной кувалдой глушить на прозрачном льду рыбу. За четверть часа ему удалось возле порожистых ям вытащить из-подо льда щучку и парочку окуньков.
— О-о-о! На ушицу хватит. Надо бы на озера сбегать… — проговорил он, окидывая взглядом широкую пойму Бересени, узкую и скалистую горловину порога, зажатую утесом Айгир-Камня. В его зеркальной стене виделся темным пятном грот, в котором стоял бюст Сталина, припорошенный снегом. Вспомнилось, как районные демократы, шлявшиеся с флагами разных цветов и крикливыми лозунгами, вместо того чтобы приостановить разруху, пытались всячески достать бюст, палили по нему из ружей жаканами, а за спиной у них из последних сил пыхтел и тужился завод, со стоном стараясь продлить свою жизнь, но их это мало интересовало. Не удалось свалить вождя, навеки он сросся с каменной глыбой Айгир-Камня…
Алексей вылез на бугорок. Пора возвращаться к домашним делам, хотя этих дел-то кот наплакал. Перед ним стояла новая жизнь, новые заботы о близких ему людях…
Солнце, пробив морозную куржу, выскочило огромным огненным шаром с радужными кольцами по кругу, резанув по тайге косо ярким светом, по снегам, усеяв их капельками синевато-розовых кристаллов. Алексей понял, что под этим светилом, дающим людям жизнь, они выживут вопреки всему и останутся людьми…




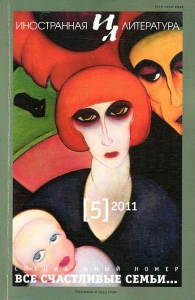







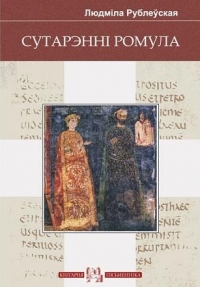
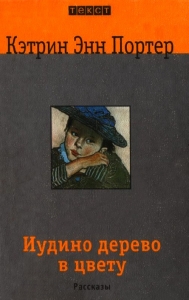
Комментарии к книге «След заката», Леонид Алексеевич Лушников
Всего 0 комментариев