Дмитрий Ефимов СКАЗКИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ДРУЖИЛ С ДРАКОНОМ
БЛАГОРОДСТВО
ород стоит на косе. По сути Коса — одно название, так как узкий перешеек длиной в семьдесят восемь морских миль, соединяющий её с материком, почти полностью покрыт непроходимыми топями. Топи особенно коварны из-за приливов. После каждого прилива топь меняется и там, где ещё вчера была тропа — сегодня оказывалась смертельная ловушка. Ранее, когда по перешейку ещё ходил караван, с учетом пережидания приливов на возвышенностях и ежедневной разведки новой тропы, на преодоление проклятых семидесяти восьми миль уходило почти четыре месяца. Между городом и материком, посередине прекрасной бухты, лежит остров, на котором живут драконы.
Сегодня Город процветает благодаря алмазным копям и единственному кораблю, курсирующему между косой и материком. На носу корабля что-то начертано древними рунами. Каждый раз, когда судно пересекает залив, с острова взлетают драконы, делают круг над кораблём и, узнав капитана, стоящего за штурвалом, никого не тронув, уходят обратно. Капитана, которому Город обязан своим благополучием, зовут Йорган. Несмотря на то, что Йорган самый почитаемый в городе человек, живет он отдельно в домике на мысе с матерью и красавицей женой.
Ходит легенда, что её принесли драконы. Также люди верят, что раз в год Йорган садится в лодку и уходит в сторону острова. Говорят — если ночь выпадает ясной — в подзорную трубу можно разглядеть отблески костра на острове драконов.
Когда-то всё было не так. Город нищенствовал. Караван по перешейку приходил три раза в год, теряя почти половину груза на своём пути. Морской путь был заказан. Драконы сжигали любое судно, осмелившееся выйти в море. Йорган жил на мысе в лачуге вместе с матерью. Кормила его небольшая парусная лодка. Скалистый берег был в изобилии испещрен гротами и пещерами, куда суденышко могло юркнуть при приближении драконов. Рыбача, он всегда пристально наблюдал за островом. В отсутствии судов и лодка могла сойти за развлечение летающим рептилиям. Хотя вокруг было море, из-за драконов даже рыбы в городе не было вдосталь. Лишь отдельные смельчаки отваживались рыбачить у гротов. Если вам кто-то скажет, что даже просто мысль об атакующем драконе изморозью не сводит мышцы — это значит он просто никогда не видел, что такое ярость нападающего дракона. Поэтому лодка и сопутствующая покуда Йоргану удача обеспечивали ему вполне пристойное существование.
Но однажды удача закончилась. Заболела мать. Местный доктор — милый и немного смешной седобородый старикашка в позолоченном пенсне — тщательно осмотрел больную и выписал лекарство непонятными латинскими буквами. Деньги были — лекарства не было. Ближайший караван — через два месяца. Ближайшая аптека с лекарством — на материке. Вроде и рукой подать — да как через реку мертвых — туда пожалуйста, а обратно никогда. На немой вопрос старый доктор только покачал головой и отвёл глаза. Жизнь и лекарство стали единым целым.
Кончалось лето. Ночи стояли тихими, небо — звёздным, луна — полной. На море почти штиль. Человек стоял у лодки и смотрел на лунную дорожку. Сегодня он предпочел бы бурю. В борьбе с волнами был шанс, с драконами шанса не было. Но человек понимал, что если он не выйдет в море — то идти ему более будет некуда. Человек оттолкнул лодку, отгреб и поставил парус.
Сто лет ранее в семье одного из драконов родился белый змеёныш. Чешуя драконов сизо-чёрная. Как воронёная сталь. Хотя чешуя драконов крепче стали. Чешуя этого змеёныша была белой-белой как снег на вершине самой высокой горы острова драконов.
В эту лунную, безоблачную ночь змеёнышу исполнилось сто лет. Детство кончилось. Он давно уже мог изрыгать пламя и пришло время доказать, что ты дракон не только по форме, но и по сути. Пусть и белый. Поэтому когда парус появился в отблесках лунной дорожки — драконы сначала не поверили своим глазам. Это была слишком большая удача чтобы быть правдой. Почти никому не удавалось пройти обряд посвящения в день совершеннолетия. «Удача улыбается тебе! Не упусти её и она будет с тобой всегда», — сказали змеёнышу.
Белый дракон взлетел и низко над волнами пошёл в сторону паруса. Отблески красно-жёлтого пламени, вырывающегося из пасти, играли на волнах, как бы передразнивая лунную дорожку. Подлетев, он сделал круг вокруг лодки, и, прямо с разворота, через нижний гребень, винтом вышел на позицию для атаки. В верхней точке белый дракон на долю секунды величественно замер перед атакой. Лицо юноши в свете луны, несмотря на загар, казалось серебряным. В его взгляде не было ни страха, ни ужаса, ни отчаяния. Он спокойно смотрел в лицо приближающейся смерти и было видно, что мысли его далеко. Белый дракон ещё мгновение заворожено вглядывался в лицо юноши, затем бросил тело в пике, но вместо атаки развернулся верхней петлёй и ушёл в сторону острова.
Рёв ярости вырвался из десяток глоток. Рёв драконов был такой мощи, что в Городе на косе задрожали стёкла, и объятые ужасом горожане высыпали на улицу. Никогда драконы не испытывали такого унижения. Самый громадный черный дракон взвился в воздух и метнулся в сторону лодки, чтобы сжечь, испепелить общий позор. Он даже не стал делать круг над жалким судёнышком, а сделав горку в ярости ринулся вниз. Он почти достиг цели, когда что-то белой молнией упало на него с небес, и сизо-чёрно-белый клубок, объятый пламенем, рухнул в океан. Сноп брызг с отблесками пламени, словно подсвеченный фонтан, взметнулся до небес. Тёмная масса океана разверзлась и снова сомкнула челюсти. Наступило безмолвие. Ни один дракон более не поднялся в воздух. Парус ушёл в сторону материка.
Утром тела обоих драконов прибило к острову. Океан и драконы как две древние стихии чтили друг друга. Утренний прилив, словно друзья несущие гроб, аккуратно положил тела на камни и с уважением отошёл. Тело чёрного дракона перенесли на центральную поляну у пещер, чтобы с заходом солнца совершить обряд погребения, а тело предателя оставили гнить на камнях. Когда темнота, словно покрывало, накрыла море, город и остров — девять самых уважаемых драконов окружили погибшего. Их пламя слилось в единое озеро и поглотило тело умершего, и, казалось, что даже звёзды отражаются в нём. Среди живого пламени драконов пребывало бесконечное пространство, неизмеримое расстояние и великое уединение. В огненном озере присутствовало начало, вечное начало. Была полная уединённость, но не отчуждение.
Чешуя драконов прочнее стали. И только через полчаса из сизо-чёрной она стала сначала матово-красной, потом накалилась и засияла невыносимо жёлто-белым и лишь затем начала плавиться. Через три часа налетевший ветер подхватил раскалённые искры и огненным дождём развеял прах над океаном. И когда угас последний уголёк, в наступившей темноте стали отчётливо видны отблески далёкого костра.
Никогда на острове не было иного пламени, чем пламя драконов. Представшая их взорам картина повергла души драконов в смятение. На берегу, среди камней, у самой воды из прибитых приливами сучьев и обломков мачт Человек пытался соорудить вокруг белого дракона погребальный костёр. Яркое жёлтое пламя отражалось в тёмной воде вместе со звёздами. Кроме потрескивающего костра всё оставалось безмолвным.
Всю ночь человек собирал хворост и поддерживал огонь. Но куда жалкому пламени костра до пламени драконов. Чешуя оставалась по прежнему такой же белой и холодной, как снег на вершине горы. К утру Человек выбился из сил и в отчаянии опустился на камни. И вместе с восходящим солнцем из-за гребня горы вышли драконы и совершили обряд погребения.
С тех пор между городом и материком ходит корабль. И каждый раз с острова взлетают драконы. Разглядев, кто стоит за штурвалом, они поворачивают обратно. А значение надписи на борту корабля и то, как она появилась, не ведает и сам Йорган, так как она начертана рунами древних магов, которые помнят только драконы.
Надпись же гласит: «Благородство — только тогда благородство, когда не требует награды!»
ВОЛК
а третьи сутки волк завыл. Три дня он молча метался по яме. Три дня он боролся в полном безмолвии. Первые два дня он пытался выпрыгнуть. Снова и снова падал. И снова и снова вставал и снова пробовал. Когда кончались силы, волк ложился, вытягивал лапы, клал на них начинающую седеть голову и отдыхал. Потом пробовал вновь. Третьи сутки он просто ждал. Ждал в полном безмолвии. Ждал, сам не зная чего. Когда на небе появилась первая звезда, волк понял, что пришло время умирать. У зверей нет души. Смерть для них — окончательный и бесповоротный конец. Волк не боялся смерти. Он ничего не боялся в этом мире. Он не боялся даже пустоты — что ждала его за смертью. Но от мысли, что он никогда более не увидит этого леса, этих звёзд, этого снега, у него до бесконечности защемило сердце. И волк начал выть.
Наряду с волком последние два дня за жизнь боролась девочка с белокурыми волосами под сбившейся набок заячьей шапкой и в чёрной, с сизым отливом, норковой шубке. Два дня назад она была самым счастливым человеком на свете. Отец, мэр города, на десятилетие подарил ей пони. Серого в белых яблоках. Счастью не было границ. Девочка так увлеклась, что не заметила, как сначала кончились каменные дома, потом пригород. Когда лошадка застряла в глубоком снегу далеко в лесу, девочка даже не испугалась. Выбравшись из выстланных мехом саней, она, как учил её старый конюх, распрягла лошадку и помогла ей освободиться из большого снежного сугроба. Пони был молодой и ещё не привык к новой хозяйке. Оказавшись на тропе, лошадка дёрнула головой, вырвала узду из замёрзших рук, и, оставив хозяйку в сугробе, ушла галопом в сторону дома, выбивая копытами фонтанчики снега. Только серого глупыша в яблоках и видели.
Через час пошёл снег и следы замело. К концу второго дня силы иссякли совсем. Вместе с силами иссяк страх. Девочка уже не вздрагивала при виде блеснувших жёлто-зелёных глаз, или, когда тишину леса вдруг разрывал хруст сухой ветки под чьей-то неосторожной лапой. Поэтому радости её не было предела, когда сквозь стволы забрезжил искрящийся под луной снег поляны. Лес, расступившись, выпустил её на небольшой простор, над которым в безоблачном небе величественно висела полная луна и сияли звёзды. Луна была такой красивой, звёзды такими яркими, а сил и тепла так мало, что впервые ей пришла мысль о смерти. «Если умирать — то здесь, под этими прекрасными звёздами», — подумала девочка. И в этот момент волк взвыл.
Не помня себя от ужаса, она вскочила и бросилась куда глаза глядят. Через четыре шага она упала и чуть не свалилась в яму. Внизу, в темноте ямы прямо ей в лицо мерцали громадные жёлтые глаза. Пробивающийся свет луны серебрил седину на черной морде. Истошный, разрывающий тоской душу вой исходил, казалось, не из пасти зверя, а ледяной волной выплёскивался из чрева земли.
Привели её в чувство — большая изогнутая коряга и пушистые ладони снега, в которые она уткнулась, благодаря последней. Вокруг чёрным безмолвием стоял лес. Злополучная поляна была где-то недалеко — судя по приглушённому, но отчётливо доносящемуся вою. Она попробовала встать, но силы покинули её окончательно. Ей вспомнились слова няни — что умершие дети невинны и попадают в рай. Девочке даже показалось, что она видит свет и ангелов. От этой мысли непонятное тепло разлилось по всему телу. Наверное, она так и осталась бы навечно скрючившись в этом снегу, если бы не доносящийся вой и не громадные жёлтые глаза, смотрящие прямо в душу сквозь шорох белоснежных крыльев пригрезившихся херувимчиков. Няня говорила, что звери не попадают в рай, потому что у них нет души. Ей стало очень жаль этого чёрного, седого волка. «Какой смысл умирать вдвоём?» — сказала девочка сама себе. И хотя сил давно уже не было, она выбралась из снега и вцепилась в корягу с решительностью, напоминающей решительность бывалого воина, поднимающегося в атаку.
Снег был глубоким, а коряга тяжёлой. Обратный путь съел остаток всплеска сил. Чтобы притащить ещё две или три — об этом не могло быть и речи. Поэтому, когда зверь только метнулся прочь от опустившейся палки, девочка прикусив от отчаяния до крови губу — решительно свесила ноги и начала спускаться. В мгновение, когда её ноги коснулись земли, волк прыгнул. От обрушившейся на плечи тяжести она потеряла равновесие и, упав на спину, успела увидеть, как громадная серая тень, на миг заслонив звезды, исчезла, подняв фонтан снега. А потом брызги снега начали плавно оседать, и в свете луны казалось, будто сотни маленьких звёздочек танцуют замысловатый медленный танец. Её только и хватило, чтобы выбраться наверх — под звезды, чтобы умереть на просторе, когда усталость и холод сомкнули веки и погрузили в сумрак сна. Последнее, что запомнил взор — черная цепочка волчьих следов на серебристом снегу, растворяющаяся в бездонной пропасти леса. И Безмолвие расстилалось над миром.
Спустя полтора часа поисковый отряд пересекал поле. Уставшие за два дня собаки уже не оглашали простор непрерывным лаем, а лишь изредка надрывно хрипели. Отряд был почти на середине, когда сбоку на окраине леса показался волк. «Собак накоротко!» — заорал старший егерь и, убедившись в выполнении приказа, с досадой добавил: «Несёт же нелёгкая!» Только и не хватало, чтобы свора, бросив поиски, рванулась за зверем, подгоняемая врожденным охотничьим инстинктом. Зверь же повёл себя странно — вместо того, чтобы скрыться в чаще леса, он, ничуть не изменив направления, начал пересекать открытое пространство. Такого старшему егерю видеть не приходилось. От удивления он даже скинул варежки и, достав подзорную трубу, прильнул к окуляру. То, что произошло дальше, не ожидал никто. Старший егерь побледнел, выронил в снег трубу, скинул ружьё, и, бросив через плечо: «Держите собак», — увязая в снегу, рванулся в сторону волка. Изумлённые егеря, остолбенев, наблюдали, как, словно сквозь волны по белому озеру, сквозь снег рвутся навстречу друг другу волк и человек. И только когда они почти достигли друг друга, стало видно невооружённым глазом — зверь что-то тащил. В свете луны их встреча казалась нереальной мистической картиной. Достигнув зверя человек рухнул на колени, склонился и, судорожно сорвав с себя овечий тулуп, что-то накрыл. И только тогда волк развернулся и начал медленно уходить в сторону леса. И не верящие своим глазам люди увидели как старший егерь, подняв к звёздам лицо, такое же белое, как и окружающий его снег, три раза размашисто перекрестился, а затем подумал и перекрестил вслед уходящего волка.
В канун Рождества ночь стояла как-то особенно тихой и звёздной. Млечный Путь был виден до самой мельчайшей звезды, и создавалось впечатление, что по небу выстелена светящаяся ковровая дорожка. Над искрящимся снежным полотном поля, над крышами пригорода и над чёрной полосой недалёкого леса невидимый фонарщик зажёг луну. В воздухе витало нечто особенное. Ожидание праздника тысячами людей — наряженной ёлки, подарков, огоньков свечей, детская вера в Деда Мороза — всё это наполнило пространство волшебством. И в тихом дуновении ветерка, если прислушаться, можно было различить шелест крыльев ангелов.
С той удивительной ночи прошло два года.
Уже не девочка, но юная девушка стояла по пояс в снегу, всматриваясь в полосу леса. В лунном свете её тень, словно воплощение души, тянулась туда же. Ожидание, засевшее в её душу неугомонным зверьком, часто приводило её сюда. Надежда и это ожидание чего-то удивительного наполняли её душу светом, отчего на лице светилась странная задумчивая улыбка. За этот внутренний свет и озаряющую всё вокруг улыбку конюхи и прислуга стали называть её Светлячком.
Особое волшебство этого вечера перед Рождеством остановило время, и она простояла так целых два часа, пока холод не достучался наконец до неё сквозь норковую шубку. Пора было идти. Скоро накроют праздничный стол, и надо успеть вовремя. Ей совсем не хотелось выслушивать ворчания добродушного егеря, вытащенного на поиски из теплоты кухни. Девочка мотнула белокурой головкой с непослушным хвостиком, выбивающимся из-под шапки, отряхнула полы шубки и, увязая в снегу, заторопилась обратно. Увлечённая борьбой с сугробами, она слишком поздно заметила, как от ближайшей свалки рванули наперерез пять одичавших громадных бродячих псов. Грязно-рыжие псы, с капающей с клыков слюной, взлетая длинными прыжками над снежной коркой, неслись по короткой дуге — чтобы отсечь добычу от спасительных околиц. Девочка, не помня себя от ужаса, рванулась обратно в пустоту поля. Когда хриплое дыхание собак упёрлось в спину, и, словно само дыхание Смерти, изморозью свело мышцы, она истошно закричала и рухнула в снег. Но прежде, чем пушистая подушка снега обожгла щеки, она успела увидеть, как взбив сноп снега, через неё, навстречу псам, словно в замедленном сне, взлетела серая тень с горящими от ярости углями глаз… Её вскрикивания и плач слились с надрывными хрипами борьбы. И лишь когда всё затихло, она осмелилась поднять голову.
Снег вокруг был утоптан и залит кровью. Собаки были мертвы…Умирал и Волк…На нём не было живого места, и, казалось, что вместо шкуры он был обмотан набухшим от крови шерстяным одеялом. Лапы мелко-мелко перебирали — как будто он куда-то бежал. Когда девочка добралась до него, взгляд его уже был мутным и что-то лихорадочно искал, одному ему ведомое, пока последняя судорога не накрыла тело одеялом смерти… И над полем, над девочкой, обхватившей седую голову волка, а может и над самой смертью — распростёрся по небу от края до края белый саван Млечного Пути.
Спустя полчаса четверка ангелов принесла зверя перед лицо Господа. На их веку такое было впервые. Господь долго изучающе смотрел на зверя а потом спросил: «Что бы ты хотел для себя?»
Волк молчал, молчал и снова молчал. Молчание затянулось настолько, что один из ангелов от нетерпения переступил с ноги на ногу. Господь улыбнулся, наклонился вперед и очень тихо произнёс:
«Я спрошу по-другому — кем бы ты хотел быть?»
Волк опустил морду, посмотрел на свою лапу, лизнул ее, поднял голову и так же тихо ответил: «Ангелом-хранителем».
Прошло девять лет. Город сильно вырос и стал знаменит. Среди достопримечательностей горожане особенно гордятся двумя, так как таких больше нет ни у одного города. Первая — это юродивый, который живет при центральном соборе. Говорят он умеет видеть судьбы людей и ангелов.
А вторая — могила волка на городском кладбище.
Однажды в конце бабьего лета Юродивый сидел на кладбище, наслаждаясь последним теплом осени и величием красок. Здесь была какая- то особая тишина и красота, особенно когда порыв ветра срывал красные листья клена и они, как бабочки, парили среди крестов. Он почти заснул, пригретый солнышком, когда его внимание привлекла остановившаяся невдалеке карета. Из неё вышла очень красивая девушка вместе с мужем и они прошли к могиле Волка. В руках она несла громадный букет белых лилий. Она не наклонилась и не положила цветы, как это делают обычно, а просто чуть развела ладони и лилии брызнули из них на могилу белым водопадом. Молодой человек отошёл в сторону и девушка стояла над могилой одна со взором, направленным в себя. Она улыбалась чему-то, что видел ее взор, но на щеках вместе с улыбкой блестели слёзы.
Юродивый пригляделся, и лицо его приняло удивлённое выражение. «Никогда не видел человека с такой красивой и счастливой судьбой», — тихо сказал он сам себе. Потом взгляд его перешёл в иную плоскость, и выражение удивления сменилось выражением крайнего изумления. «Первый раз вижу человека у которого два Ангела-хранителя», — прошептал он и задумчиво добавил после недолгой паузы: «Наверное, поэтому у неё такая красивая судьба!»
Немного спустя Юродивый шёл по центральной улице и чему-то странно и задумчиво улыбался. Прохожий, встретившись с ним взглядом, невольно заулыбался, как бы заразившись, и пошёл далее, улыбаясь и тихонько что-то насвистывая себе под нос. Та же участь постигла и следующего. К вечеру весь город странно и задумчиво улыбался.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДРУЖИЛ С ДРАКОНОМ
огда человек попадает в Рай, к нему на первое время приставляют Ангела-смотрителя. Смотритель помогает выбрать место, освоить простое волшебство и вообще напоминает нечто среднее между нянькой и интендантом. Новый подопечный сильно беспокоил Ангела. Он даже не стал смотреть варианты, а сразу, как рак отшельник забился в самую глушь — одинокую бухту на берегу моря, куда кроме птиц, дельфинов и прибоя никто и не забредал. Место, конечно, было красивое, спору нет, но уж очень глухое. Отвесная скала с пиками, напоминающими башни причудливого замка, возвышалась над бухтой. От её основания вниз, к морю, уходил крутой склон, весь усыпанный громадными камнями и карликовыми дубами и соснами. Небольшой деревянный домик, словно ласточкино гнездо, навис прямо над морем, и в его форточки вместе с ветром залетал шум прибоя о камни внизу.
Неделю Человек гулял по берегу, любуясь барашками набегающих волн и подставляя лицо ласковому бризу. Следующую неделю он просто просидел на камнях, изредка бросая в море белую гальку да кормя из рук неуклюжих переваливающихся бакланов.
Ангел устал от безделья. Человек ничего не спрашивал и ничего не просил. Смотрители отличаются исключительным терпением, но на пятнадцатый день Ангел не выдержал. Стояло прекрасное солнечное утро. Подопечный восседал посередине зелёного плоского камня, наполовину уходящего в бирюзовую воду, в окружении живой очереди бакланов и чаек, и раздавал лакомство. С этой очередью необходимо было считаться. Помешай он раздаче лакомства, и пришлось бы весь день испытывать укоризненные взгляды морских крикунов. Наконец, гогочущее общество насытилось и, ухватив в клюв кусок про запас, разбрелось кто куда прятать драгоценный груз в расщелины и под камни. Главное, чтобы соседи не увидели. Человек остался один.
Подлетев, Ангел деликатно устроился на другом краю камня и стал ждать, в надежде, что подопечный сам начнёт разговор. Но тот только кивнул из вежливости. Тогда Ангел попытался привлечь внимание. Он опустил кончик крыла в воду и начал играться с небольшой золотой рыбкой. Рыбка носилась за белым пёрышком с энтузиазмом котёнка, пытающегося поймать бантик. Рыбке очень хотелось поймать это ускользающее пёрышко и её плюхи после неудачных прыжков взбивали фонтанчики искрящихся брызг.
Человек остался безучастным. Когда тщетность усилий стала очевидна даже отдыхающим неподалёку бакланам, Смотритель стряхнул с крыла капельки воды и напрямую спросил:
— Что-то не так?
Человек ответил не сразу. Он подобрал маленький камешек и начал задумчиво подбрасывать его в ладони, как бы взвешивая, стоит ли вообще затевать разговор. Затем изучающе взглянул на Ангела и, по-видимому, приняв решение, запустил камешком в воду.
— Я представлял Рай по-другому, — как бы нехотя начал он, — домик на берегу моря и чтобы приходили друзья.
И снова замолчал. Смотритель выждал некоторое время, пока не понял, что если он сам не продолжит разговор — всё на этом и закончится.
— О ком речь? Может, я смогу помочь?!
И снова Человек ответил не сразу.
— Я дружил с Драконом.
От неожиданности Ангел аж поперхнулся.
— Там внизу, в вашем мире, нет Драконов!
Человек согласно кивнул. Достал кусок лакомства и бросил золотой рыбке, которая нетерпеливо выпрыгивала из воды, требуя чтобы с ней снова начали играть. Снова согласно кивнул и продолжил как ни в чём не бывало:
— Я дружил с Драконом! Да!.. В нашем мире нет драконов в смысле змеи с чешуёй, крыльями, когтями, извергающей пламя. Но как набор качеств Драконы существуют! Это очень древняя школа. Драконы владели знаниями, накопленными тысячелетиями. Владели остатками древней магии. Умели видеть суть людей и ведать их внутренние мотивы. Были великими воинами. Чувствовали Природу и умели с ней общаться. Наверное, они и были детьми природы, её стихий…Как и в природе, в них было и хорошее, и плохое…По легенде душа умершего превращалась в этом мире в Дракона. Но… что-то он не приходит.
— Попробую навести справки, — вспархивая, через плечо бросил Ангел. Ему не терпелось. Наконец у него было дело. Причём такое необычное.
На следующее утро Ангел нашёл Человека на том же камне. Встретившись взглядом, Ангел только покачал головой и отвёл глаза. Потом добавил:
— Его здесь нет.
— В нём было и хорошее! — не поворачиваясь, прошептал Человек.
— Да! — согласился Ангел. — Но было и плохое.
— Было и хорошее! — настойчиво повторил Человек.
— Чёрного было больше, — вздохнул Ангел и замолчал. Говорить было не о чем.
И воцарилось молчание. Даже чайки замолкли, и был слышен лишь шум прибоя. Смотритель сидел сложив крылья, и их кончики иногда подёргивала набежавшая волна. Оставлять Человека одного не хотелось, но и помочь было нечем. Даже иногда. Во Тьме выходных не бывает.
— Я хотел бы посмотреть!.. Туда! Где Он! — вдруг наполовину попросил наполовину потребовал Человек.
Пришло время задуматься Ангелу.
— Попробую. Но не обещаю, — ответил Смотритель и исчез.
Вернулся он к вечеру. Заходило солнце. Громадный багровый диск на горизонте уже коснулся кромки воды, и можно было подумать, что солнце принимает вечернюю ванну.
— Добро дали. Завтра утром, — Ангелу было почему-то очень грустно.
— Спасибо!
В этот момент, бросив на зеркало воды последний луч, зашло солнце. И человек добавил после паузы:
— Жаль, что закат кончился так быстро.
Вместо ответа Смотритель прошептал нечто про себя и солнце стало садиться вновь.
— Оно будет заходить, пока пожелаешь, — и оставил его наедине с закатом.
Утро и Ангел застали Человека любующимся закатом. Одуревшие от этой чехарды чайки засунули головы под крылья и сонно качались на волнах, словно поплавки рыбацких сетей. Даже ветер запутался окончательно и от греха подальше просто затих.
— Ещё налюбуешься! — нарушил тишину Смотритель. Пора было идти. Человек бросил взгляд на заходящее солнце, на поплавки чаек и поднялся. И, уходя из бухты, он не обернулся ни разу.
Они стояли на самом краю пропасти — Человек и Ангел — а далеко внизу расстилалась Мгла. Изредка чёрное безмолвие нарушали сине-фиолетовые вспышки. Ангел знал, что фиолетовый оттенок — это энергия ненависти. Постояв немного, Ангел деликатно отошёл и, присев на обломок скалы, стал ждать. Человек стоял и смотрел вниз — там где-то в нижних слоях был его друг.
Когда пришло время возвращаться. Ангел деликатно кашлянул. Реакции не последовало. Тогда Ангел встал и тихо позвал:
— Нам пора возвращаться.
Стоявший как изваяние Человек повернул голову и еле слышно произнёс.
— Спасибо!
— За что? — не понял Ангел.
— За закаты, — ответил Человек и прыгнул.
Крик ужаса застрял в горле Ангела. Оказавшись у края, он успел только увидеть, как, словно падающая звезда, рассекла Тьму и растворилась в ней искорка души.
Спустя два часа во Тьму ушла боевая четвёрка крадущихся. Термин «крадущиеся» не был официальным и его нельзя было встретить в общем употреблении. Но так в своём кругу называли себя ангелы из Гарроты Центруриона. Это была специальная гаррота для проведения разведки и специальных операций во Тьме.
Разведчики вернулись через два дня. Ни один доспех не был помят и ни один маскировочный туман не был порван. В этот раз удалось проскользнуть незамеченными. Ангел-смотритель впервые присутствовал на подобном совещании. Ему было явно не по себе. Принимал доклад сам командир гарроты — странный ангел с грустным лицом и пепельно-серыми крыльями. Если бы не пепельно-серый цвет крыльев, ангел был бы совсем неприметным. Он даже появлялся и исчезал как-то незаметно — так, что потом никто не мог вспомнить ни откуда он взялся, ни когда исчез. Крадущиеся, по аналогии с героем «Алисы в стране чудес», даже за глаза прозвали его Чеширским котом, и это прозвище приклеилось к нему так же прочно, как пепельно-серый цвет к крыльям. Однако, в отличие от Чеширского кота, у которого первой появлялась и последней растворялась улыбка — никто и никогда не видел улыбки на лице этого ангела. Любопытство простых ангелов особенно разжигал цвет его крыльев, но никому и в голову не пришло бы произнести вопрос вслух. Зато каждый крадущийся знал, почему у их командира крылья не белоснежно-белые, а пепельно-серые. Раны, полученные во Тьме, зарастают на крыле седым пером. Командир первый начал спускаться во Тьму, и крылья его были не пепельно-серыми, а седыми.
— Он отыскал Дракона в нижних слоях, — без предисловия начал Старший четвёрки.
От этого известия взгляд Чеширского кота из грустного стал как-то устало-мрачным.
— После такого их должны были растащить в самые тёмные углы. Мы его не то что вытащить — искать будем лет сто… Должен был остаться след. Точнее, два следа.
— Да след есть, — подтвердил Старший. — Один след…Весь в крови. И он шёл наверх. Они смогли пробиться в верхние слои и образовать Гранул.
— Не может быть! — только и выдохнул Чеширский кот.
— Что такое Гранул? — не выдержал Ангел-смотритель. Он ничего не понимал в диалоге крадущихся.
— Гранул — это что-то типа энергетического кокона, — терпеливо пояснил Старший. — Защитная энергетическая оболочка, которую они создали концентрацией своей воли.
И он снова обернулся к командиру. Тот смотрел на него не мигая. Потом хрустнул сплетёнными пальцами и как завороженный повторил:
— Этого не может быть!
— Да! Этого не может быть! — согласился Старший. — Это нас и спасло.
Увидев в глазах командира немой вопрос, он пояснил:
— Нас ждали. И над ним поставили несколько засад. Я тоже никогда бы не поверил… Мы не стали даже оглядываться в верхних слоях, а сразу ушли вниз. А потом подымались по следу… Поэтому смогли их обнаружить.
— Сколько у них времени?
Старший что-то прикинул внутренним взором и, не торопясь, ответил:
— Гранул ещё светится ровным светом. Но очень слабо. Я думаю часов десять-двенадцать. Не более. — Он помедлил и добавил: — Времени на подготовку нет.
Оба прекрасно понимали друг друга. Внешне грустный Ангел остался неподвижен, но даже Смотритель почувствовал, как внутренне он собрался и напоминал теперь взведенную для броска боевую стальную пружину.
— С учетом расклада сил, сколько нужно бойцов?
На этот раз Старший ответил не сразу. Казалось, он боялся сказать то, что был должен. Затем отвёл взгляд и не произнёс, а скорее очень тихо выдохнул:
— Чтобы гарантированно вытащить обоих — минимум полгарроты крадущихся…
И воцарилось молчание. Это была уже не спецоперация, а полномасштабное вторжение. Получить на такое зелёный свет шансов не было.
— Я попробую доложить. Всё что могу… — и Чеширский кот исчез так стремительно, что только небольшое седое пёрышко начало оседать на его месте, кружась и выписывая замысловатые пируэты.
Старший кивнул и ничего не ответил. Его внутренний взор был направлен вниз, в темноту, туда, где угасал Гранул. Время неумолимо бежало. Его было мало — так безнадежно мало. И вместе с Гранулом умирала Надежда. Ему почему-то вспомнились слова японского режиссёра Акиры Куросавы: «Человек должен бороться, чтобы жила надежда в этом безнадёжном мире». От этой мысли Старший досадливо скривился, словно мечом, рубанул крылом воздух и, обращаясь к группе, сказал:
— Пошли отдыхать. Оружие не снимать, а вдруг…
Он осекся, спрятал руку за спину и тихонько, чтобы никто не видел, три раза постучал по растущему рядом дереву.
Громадный Чёрный Дракон висел в Темноте. Леденящее безмолвие Тьмы только изредка разрывал скрежет когтей демонов об защитную оболочку Гранула. Чёрная чешуя местами была разодрана и висела клочьями. На величественном гребне то тут, то там виднелись следы запёкшейся крови от свежих ран, полученных в бою при прорыве в верхние слои Тьмы. Человек нашёл Дракона в нижних слоях и им пришлось пробиваться в верхние слои, чтобы создать Гранул. В нижних слоях Гранул не выдержал бы и часа.
Могучее тело величественными кольцами сходилось внутрь, защищая голову, к которой прильнуло скрючившееся тело Человека. По лицам обоих то и дело, словно шорох волн, пробегала судорога от невероятного внутреннего напряжения. Глаза жадно ловили взгляд другого.
Гранул уже не светился, как ранее, а то вспыхивал, то еле тускнел. Его энергия заканчивалась. Шли последние часы, прежде чем демоны смогут прорваться сквозь обессилившую энергетическую оболочку и растащить их в разные стороны Мрака.
Дракон и Человек не думали о том, что их ждёт. Они просто боролись — боролись из последних сил за каждое мгновение, которое могли быть вместе. И старались запомнить образ друг друга. Запечатлеть, вырезать навсегда в памяти дорогой образ — чтобы потом в бесконечности и одиночестве Темноты этот образ друга, как костёр, освещал и согревал душу.
И ни Человек, ни Дракон, ни окружавшие их демоны не ведали, как над ними восемью группами развернулась и вышла на позиции для атаки в полном составе вся Гаррота Центруриона — Гаррота ангелов, умеющих красться и сражаться во мраке. Ангелы с раскрашенными в темный цвет крыльями и в маскировочном облачении, издалека похожие на демонов, готовились к бою и напряжённо вглядывались вниз — туда, где, словно светлячок во мраке, мерцал Гранул Дракона и Человека, который дружил с драконом.
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ НЕ ПОНИМАЛ ЭТОТ МИР
альчик не понимал этот мир. В последнее воскресенье ему здорово попало от деревенского пастора. Прямо справа от входа в костёл висела небольшая закопчёная икона Георгия Победоносца. Громадный всадник на белом коне, в развивающемся плаще, с красным подбоем и блестящих латах нависал над жалкой, скрючившейся змеюкой. То ли иконописец жил недалеко от моря, то ли сам был родом из рыбацких деревень — кануло в лету — но в руках всадника было не копьё, а длинная рыбацкая острога с тремя зубьями. Всадник был таким большим, зубья остроги такими ужасными, а змеюка такой испуганной и маленькой, что мальчику стало её ужасно жалко. Он поднялся на цыпочках, ласково погладил змеюку и поцеловал её в кончик поджатого от страха хвоста. Выше он просто не доставал.
Этот вопиющий поступок не ускользнул от бдительного ока пастора, читающего воскресную проповедь. Проповедь была незамедлительно прервана, мальчик вытащен за ухо на кафедру, и остаток проповеди святой отец постарался совместить с воспитательным процессом. Воспитательный процесс вышел очень убедительным — малыш залился слезами. Однако присутствующим не было ведомо, что слёзы текли вовсе не из-за раскаяния и не оттого, что крепкие пальцы пастора то и дело дергали сорванца за ухо. Несмотря на строгий вид сельский священник был добр сердцем и больно не было ничуточки. Слёзы текли от жалости — жалости к маленькой, чёрной, испуганной змеюке, пытающейся спрятаться от грозного рыцаря с ужасной острогой.
Церковь расположилась на горе. Точнее, это была не гора, а горное плато, выходящее к океану восьмидесятиметровым обрывом. Деревня же лежала в небольшой низине поближе к причалам. От деревни к церкви вела узкая дубовая дорожка. Доски почернели от времени и от ветров с моря, но было видно, что выложены они с любовью.
Деревня жила морем. Несколькими утлыми рыбацкими судёнышками и всеобщей гордостью — большим паровым кораблём. Это похожее на плавающий самовар судно обслуживало лежащий неподалёку город и было и всеобщей любовью, и, одновременно, общим кормильцем. Поэтому, несмотря на смехотворные размеры, деревня имела собственный волнорез, причал и даже маяк. Выложенная из камня башня маяка притулилась на громадной глыбе, возвышающейся прямо из волн и соединённой с материком шатким канатным мостиком, через который то и дело перекатывался белый барашек волны. В шторм волны допрыгивали до середины башни, и поэтому сооружена она была совсем без окон. В этой, относящейся скорее к морю, чем к деревне, темнице и жил мальчик. Малыш был подкидышем. Нашёл его в дождливый осенний вечер на ступенях церкви деревенский пастор, а приютил смотритель маяка. Смотритель был замкнутым человеком и почти не разговаривал с малышом, однако заботился о нём исправно. И мальчик был благодарен этому суровому одинокому человеку.
Мальчик не понимал и не любил этот мир. Его сердце отказывалось мириться с тем, как было устроено мироздание. Ему было жалко чаек, когда те оставались голодными в сильный шторм и, одновременно, было жалко рыб, которых они ловили. Он не мог принять безнадёжных ситуаций, и поэтому особенно мальчик не любил дождь. В дождь сотни червяков обречённо погибали в лужах. Малыш не мог помочь всем. Устав, он порой проходил мимо очередного озерца воды, встретившегося ему на пути, в которой, извиваясь, умирал червяк. Но уходил он не далеко. Закусив от стыда за проявленную слабость губу, мальчик возвращался, и, найдя палочку, с сопением начинал выковыривать скользкое создание из предательской лужи.
По осени к маяку прилетали зимовать лебеди. Поэтому зимой мальчик никогда не ел хлеб. Его он всегда приносил величественным белым птицам. Но лебедей было много, а хлеба мало, и на всех никогда не хватало. Оставшиеся голодными обиженно гоготали вслед и малыш старался побыстрее уйти, чтобы не чувствовать на себе их укоризненные взгляды.
Зато у мальчика был настоящий друг — громадный белый лебедь. Он никогда не становился в очередь за принесённым малышом лакомством. И, хотя мальчик первое время оставлял ему кусок, белая птица ни разу не позволила себе взять хлеб из его рук. Лебедь как бы подчёркивал, что не может позволить бросить тень на их дружбу — дабы нельзя было заподозрить, что он приплывает к малышу из-за куска хлеба. И даже в самые голодные дни Лебедь не притронулся к принесённой пище.
Однажды мальчик из солидарности не поел сам. Гордая птица поняла и съела ровно половину принесённого хлеба. Оставшуюся половину съел малыш. Но Лебедь потом целый день всем своим видом показывал, что поступил он неправильно. И мальчик смирился.
В ту субботу корабль был зафрахтован, и деревенский священник, с чистым сердцем заперев храм, отправился с визитом к епископу. Поэтому на воскресную службу смотритель маяка прихватил малыша в город. Путешествие в двенадцать миль на переполненном дилижансе само по себе было невероятным приключением, а о службе в городском костёле и говорить было нечего. Позолота статуй, море свечей, наряды прекрасных дам и хор мальчиков — от всего этого просто захватывало дух. Служба промелькнула быстрее чайки, пикирующей в воду. После службы Смотритель не отказал себе в удовольствии пропустить стаканчик-другой в припортовом кабачке, и, посему, в обратный путь отправились вечерним дилижансом. Малыш не остался в накладе — ему перепало громадное пирожное с белыми сливками и бордово-чёрной вишенкой. И вообще день больше походил на сказку, чем на реальность.
Обратная дорога была не менее захватывающе-интересной, покуда на середине пути малыш не увидел пса. Громадный пепельно-бурый пёс лежал на обочине дороги. Он, видимо, попал под лошадь какого-нибудь сорви-головы, потому как на задней ноге зияла страшная открытая рана. Её-то он и пытался зализывать. Псу очень хотелось пить. Дышал он тяжело и часто, язык распух — но воды не было как минимум на две мили вокруг. А люди ехали мимо.
Оставшийся путь пёс не выходил у малыша из головы. Перед внутренним взором всё стояло его тяжелое дыхание и… глаза.
Наступления темноты он дождался с трудом. Тихонько выскользнув из спальни, прихватив украденный с ужина кусок мяса и склянку воды, малыш отправился в путь. Погода была тихая, небо ясное, а луна полная. Из-за полной луны деревья бросали на безлюдную дорогу длинные уродливые тени и, казалось, не тени, а страшные чудовища преграждают малышу путь. Но перед его душой стояли глаза пса — и малыш шёл. Да ещё помогала склянка без крышки. При каждом шаге вода пыталась выплеснуться, и на то, чтобы её не разлить, требовались все его жалкие силёнки. Страх прыгал перед ним взбесившейся кошкой, но собачьи глаза и непослушная склянка помогли дойти до конца.
…Пса нигде не было! Он облазил все кусты и окрестности — пёс исчез. Оставив еду и склянку с водой у обочины, малыш отправился в обратный путь. И тут страх встал перед ним в полный рост. Малышу казалось, что его поджидают за каждым кустом, а любой шорох отдавался изморозью в спине.
На подходе к дому подул ветер. Сначала это были редкие порывы, которые затем превратились в шквалы, а затем в ураган. Небо мгновенно занесло чернотой грозовых облаков. Блеснули молнии. Изредка в окна туч проблескивала луна, но от этого было ещё страшнее. Издалека стал слышен рёв шторма.
Выйдя на гору, нависающую над деревней, мальчик сразу понял, что что-то не так. Вся деревня была в огнях, а причал в факелах. Прямо за толпой людей и линией факелов бурлила чёрная мясорубка воды. Волны высотой в дом грызли волнорез подобно стае взбесившихся псов. И там среди чёрных валов волн боролся за жизнь — корабль.
Судно сносило на рифы под отвесную стену горного плато. И в штиль там невозможно было подняться, в шторм — верная смерть. Машины надрывно выли под стать ветру — но куда им тягаться со стихией. Капитан попытался помочь машинам брошенным якорем, но цепь порвалась с хлопком лопнувшей струны. Лопнувший конец цепи, свисая в воду, полоскал волну, отчего корабль стал похож на пса, сорвавшегося с привязи. И вместе с цепью лопнула Надежда. Корабль в последний раз взревел трубами и… стены волн и край скалы скрыли его от глаз. Никто не шелохнулся. Отчаяние солёными брызгами накрыло людей. Сквозь раскаты обезумевшей стихии то тут, то там прорывался шёпот молитв. Сердца отказывались верить и отказывались расставаться.
Вдруг что-то неуловимо изменилось. По линии, по которой луна должна была отражаться в воде, волны стихли, как по взмаху волшебной палочки, и лунная дорожка засверкала золотым руном по коже воды. Слева и справа волны вздымались и с рёвом падали семиметровыми стенами, а на лунной дорожке гладь воды была тише самого тихого предзакатного штиля. И по этой дорожке, как по ковру, шёл Мальчик. Слева от него величаво плыл белый лебедь, а в правой Мальчик держал обрывок якорной цепи, за которую, словно по весеннему ручью бумажный пароходик из воскресной газеты, он вёл корабль. Нос корабля громоздился за его спиной подобно сказочному чудовищу, но как газетный кораблик слушается каждого подёргивания ниточки, так громадное судно слушалось каждого мановения его руки.
Люди замерли, отказываясь верить своим глазам. Мозг не мог принять то, что видели очи. У всех перехватило дыхание — как будто дыхание могло спугнуть видение. Но то, во что отказывался верить разум, не было миражом. Мальчик сначала завёл корабль за волнорез, а потом подвёл к пристани, и борт ударился о причал. Сверху бросили концы. Подобно тому, как половодье ломает сковывающий реку лёд, толпа сломала оцепенение и бросилась чалить швартовые. Крики, плач, лязг металла, рокот волн, клёкот чаек — всё смешалось с песней ветра.
За чудом спасения, объятиями и слезами радости про Мальчика совсем забыли. А когда спохватились, то никак не могли найти. Нашли его только к утру, вместе с первыми лучами солнца — мёртвым, на ступенях церкви. Мальчик лежал, раскинув руки и устремив взгляд в небо, а на лице покоилась улыбка, какая-то тихая и необычайно светлая. Но особенно всех поразили глаза. Глаза были не потухшими, а наполнены таким невыразимым счастьем, что их никто не решился закрыть. Его так и похоронили — с открытыми глазами и улыбкой на лице. И даже днём казалось, что в его глазах отражается сияние звёзд всего неба.
После отпевания Мальчика похоронили не на кладбище, а на горе прямо за церковью — лицом к кресту, храму и океану. Заходило солнце.
Люди никак не хотели расходиться. Священник сидел на ступенях церкви, обхватив голову руками, изредка покачиваясь из стороны в сторону. И хоть щеки его были сухими, по плечам то и дело пробегала судорога немых рыданий.
Капитан — невысокий человек с широченными плечами, с бакенбардами и изогнутой самшитовой трубкой — в парадном кителе, с начищенными до блеска пуговицами стоял отдельно от толпы и глядел на море и заходящее солнце. Его фигура на фоне заката с трубкой, пыхтящей колечками дыма, походила на стоящий под парами грузовой пароход. В глазах собравшихся людей стояли слёзы и немой вопрос: «Почему он умер?» Каждый повторял его про себя, и было видно, как у многих шевелились губы. Вопрос рос, рос пока не повис в воздухе так же реально, как и заходящее солнце.
«Вы спрашиваете, почему он умер?» — вдруг произнес за всех, не поворачиваясь, капитан. Он помолчал, посмотрел на море, пыхнул своей трубкой и, повернувшись к собравшимся, задумчиво повторил: «Вы спрашиваете, почему он умер?» Наступившую тишину только изредка нарушал удар волн внизу о гальку. «Он умер, — сказал капитан, — потому, что научился ходить по воде! Ему стало тесно в этом мире, и Господь забрал его к себе», — и, отвернувшись, снова запыхтел трубкой.
И постепенно на напряжённых лицах людей, словно бутоны цветов, начали распускаться улыбки. Когда люди гуськом потянулись вниз по узкой тропе по склону в деревню, заходящее солнце, отражаясь на волнах, играло на их лицах нежным алым светом. И казалось, что лица светились изнутри. А может, так и было на самом деле.
САМУРАЙ
«Ему не раз приходилось видеть: человек ведёт себя не так, как должно, с тем, у кого не хватает отваги дать ему отпор. А тот, стыдясь проявленного малодушия, обрушит свою ярость на более слабого, который в свой черед отыграется на безответном — и так вот настоящим потоком хлынет с порога на порог несчастье.
Никому не дано предвидеть последствия собственной жестокости.
И потому воин так осмотрителен, пуская в ход свой меч, и признаёт противником лишь достойного себя. Если же им овладевает гнев, он ударяет кулаком по каменной скале и ушибает себе руку.
Рука вскоре заживет, тогда как у ребёнка, которому попало из-за того, что его отец потерпел поражение, шрам сохранится до конца жизни».
Пауло Коэльоебольшой зал загородного спортивного клуба, с татами посередине, был переполнен. Подпольные бои без правил с тотализатором притягивали многих. Бой чемпионов особенно. Мужчины в дорогих костюмах, дамы в бриллиантах и вечерних туалетах, девицы лёгкого поведения в нарядах подчёркивающих тело — всё вперемежку. А в глазах — в глазах азарт, алчность и жажда зрелищ.
На татами стояли двое. Великан… — борец со смуглой кожей в синем трико. Он представлял собой само олицетворение мощи и физической силы в сочетании с годами упорных тренировок. Напротив — сухощавый человек среднего роста в белом кимоно и чёрной самурайской юбке, из- под которой виднелись лишь босые ступни ног. К нему прочно приклеилась кличка — Самурай.
Хотя татами ничего не отделяло от зала — ощущалось, что между белым квадратом и залом пролегла невидимая стена, такая же реальная, как и кирпичные стены клуба. Борец уверенно разминался, исподлобья поглядывая на противника. Он был уверен в себе. Было видно, что ему не терпится начать и выплеснуть бурлившую в нём силу. Он походил на громадного зверя, почувствовавшего запах крови и рвущегося в бой. Самурай его так про себя и назвал — Зверь.
Самурай стоял спокойно. Руки расслабленно висели вдоль туловища, а подбородок покоился на груди. Веки были прикрыты, и можно было подумать, что он задремал и лишь легкое дрожание кистей рук выдавало внутреннее напряжение. Его внешний вид на самом деле не имел ничего общего с его искусством. Он был носителем древнего вьетнамского внутреннего стиля с двухтысячелетней историей. Он не собирался выставлять напоказ внутреннее содержание. Толпе были нужны зрелище, внешняя форма, яркий образ. Белое кимоно и контрастная чёрная юбка вполне этому соответствовали.
Если бы в этот момент кто-нибудь мог видеть, что происходит в душе Самурая — у него бы от страха на спине выступил иней. Внутри Самурая поднималась громадная чёрная змея. Змея сконцентрировала его волю и забрала её себе почти всю; затем она довела его пульс до двухсот двадцати ударов и перевела тонус мышц в состояние, которое у людей возможно лишь в мгновения транса. А потом из неё к жертве потянулись невидимые чёрные и красные энергетические нити. Нити впились в Зверя, нащупали его тонус мышц, почувствовали его волю, его мысли, его всего целиком — до последнего нейрона каждого нерва.
Звука гонга Самурай не услышал. Он просто почувствовал, как жертва начала приближаться. Змея внутри него раздула капюшон, улавливая через красные и чёрные нити каждый шаг, каждый вздох, каждое намерение жертвы. Змея чувствовала её изнутри, точно знала, что она будет делать, и просто ждала когда дистанция сократится, чтобы можно было ужалить. Слияние змеи и жертвы было настолько глубоким, что Самурай понимал, что жертва даже не увидит момент укуса. Самурай весь собрался. Ему нужна была вся его воля, точнее вся та её часть, которая ещё подчинялась со- знанию, дабы сохранить контроль над змеёй. Главное не упустить контроль над змеёй — иначе она ужалит насмерть. «Только бы удержать змею, только не насмерть, только не насмерть!» — повторял он как молитву.
Зверь сделал обманный финт и нырнул на свой коронный проход в ноги. И абсолютно синхронно метнулась змея. Через его левую руку в сторону шеи. Но это был не удар. Это был укол. Оттопыренный большой палец, словно отравленный шип стальной розы, впился в шею жертвы чуть ниже уха. Змея ужалила. Яд был впрыснут. Спинной мозг жертвы взвыл от боли и впал в шок. Ноги Зверя отказали. Он как летел вперёд руками, так и рухнул на них, застыв на четвереньках.
Теперь главное сдержать змею, чтобы не ужалила ещё раз — иначе конец. И Самурай заставил её медленно отползти на два шага назад. И замер над ужаленной жертвой. Он знал, что теперь должен дать ей насытиться.
Зал взорвался. Мужчины и женщины, позабыв обо всём, повскакивали со своих мест, крича и размахивая руками. Роняя стулья, забыв о хороших манерах, они хватали друг друга за рукава, орали разбрызгивая слюну… и разума не было в их глазах. Кто-то неистово вопил: «Вставай»; кто-то: «Добей его». Всё слилось в единый яростный гул.
Самурай ничего этого не слышал. Он возвышался над поверженным Зверем и змея внутри него, раздув капюшон, медленно покачивалась, впитывая энергию боли и унижения ужаленной жертвы.
Зверь стоял на коленях, опираясь на левую руку. Он изо всех сил пытался подняться, но ноги не слушались его. Он их просто не чувствовал. Даже сама поза была какой-то жалкой и от этого из глаз его текли слёзы. Слёзы тоже не слушались его, и он растирал их локтем по лицу.
Насытившись, змея свернула капюшон и начала медленно опускаться. И по мере того, как она уползала в свою нору, его внутренний взор от узкого луча к стоящему на четвереньках Зверю начал расширяться, пока не охватил и Зверя, и беснующийся зал. Он увидел и почувствовал слёзы на глазах пытающегося подняться противника, кровожадность беснующейся толпы, злобу проигравших на тотализаторе и алчность победителей, ощутил холод заполняющей душу пустоты.
Не было радости победы. Всю энергию, которую можно было получить из боли и отчаяния Зверя — высосала змея. И уползла в свою нору до следующего боя. А он остался один, наедине с противником, не чувствующим ног, отворачивающим от зала лицо, по которому текли слёзы; с душной аурой толпы, от которой воняло, как туманом из гнилого болота; наедине с инеем пустоты в душе. Ему в эти мгновения почему-то вспомнились слова великого рёнина (воин без господина), написавшего Будосё-синсю (Напутствие вступающему на Путь воина):
«Самурай должен прежде всего постоянно помнить — помнить днём и ночью, с того утра, когда он берёт в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги — что он должен умереть. Вот его главное дело. Если он всегда помнит об этом — он будет исключительной личностью, наделённой прекрасными качествами. Ибо жизнь мимолётна, подобно капле вечерней росы и утреннему инею, и тем более такова жизнь воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе — случится то, что заставит его пренебречь своим долгом. Но если он живёт лишь сегодняшним днём и не думает о дне завтрашнем, так, что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своём последнем мгновении, а глядя в лица родственников он чувствует, что никогда не увидит их вновь, тогда его чувства будут искренними.
Тот, кто живёт в этом мире, может потакать всем своим желаниям; тогда его алчность возрастёт так, что он желает того, что принадлежит другим, и не довольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца. Но если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не проявит неуёмности и жадности, станет — прекрасным человеком».
Юдзан Дайдодзи.
Самурай мысленно ещё раз повторил строки и представил, что если сегодня ему бы встретилась Смерть, то с чем бы суждено было встретить Её ему — с душной аурой зала, с плачущим на коленях Зверем, с наполняющей душу холодом Пустотой?
От одной этой мысли на душе стало мутно. Он смахнул её передёргиванием плеч, словно прилипшую паутину, решительно шагнул в сторону Зверя и нанес добивающий удар ногой в грудь. Удар был настолько молниеносным, подобно удару кнута, что юбка звонко хлопнула. Её хлопок разлетелся над залом пистолетным выстрелом.
Хлопок и выстрел ноги был — но самого удара не было. Нога лишь еле-еле коснулась трико. Поверженный исполин инстинктивно, ничего не видя отмахнулся рукой. Самурай поймал вялую отмашку внутренней стороной бедра, на секунду замер, как, если бы получил полноценный удар в пах, и начал оседать. Сначала он согнулся, затем рухнул на колени, держась за низ живота, потом неуклюже завалился набок и весь скрючился, как ребёнок в утробе матери.
Зал не затих. Зал — замёрз! Покрылся коркой льда, как пруд по осени. Было даже слышно, как глотает слюну Зверь. То, что произошло потом, членораздельными словами описать трудно. Ярость бывших победителей, а теперь проигравших деньги; злорадство побеждённых, ставших победителями. Если и есть в мире безумие — то здесь оно сияло всеми своими красками.
Зверь не верил своим глазам. Он по-прежнему ещё не чувствовал ног и стоял на коленях, завороженно глядя на скрючившегося, затихшего Самурая. Потом начал всхлипывать и, наконец, заревел во весь голос, уже не стесняясь своих слёз. Он стоял на коленях посреди татами, подобно бегемоту на арене цирка, плечи его дрожали от рыданий и его всхлипывания и гортанные звуки потонули в общем рёве зала.
Самурай лежал неподвижно, уткнув лицо в колени и сквозь щёлочку глаз глядел на судороги зала, на воющего на коленях белугой Зверя. Он просто лежал и смотрел. А потом даже позволил волоком вытащить себя с татами.
Когда укатил последний мерседес, и на небе зажглась первая звезда, дверь клуба, выходящая на задний двор, распахнулась, и из неё, сильно хромая, вышел Зверь. На левом плече висела увесистая спортивная сумка, а из сжатого кулака правой во все стороны торчали мятые купюры. У видавшего виды оппеля его ждала жена с семилетним сыном. Завидев отца, мальчик вырвался из кольца рук матери и с радостным криком бросился к нему через двор. Зверь выронил сумку и протянул навстречу руки… и деньги, подобно осенним листьям, разлетелись по двору. Но на это никто не обратил внимания.
Из-за угла за ними наблюдал Самурай. Постояв немного он повернулся и зашагал прочь по аллее что-то насвистывая и шурша ранней осенней листвой. Пустоты не было — на душе было удивительно светло.
И, если сегодня ему бы встретилась Смерть, он бы ей — улыбнулся!
КОФЕМАНИЯ, ПОСЕТИТЕЛЬ, БОМЖ И ЕГО СОБАКА
офемания — это название кафе, расположившегося в левом крыле Московской консерватории. Атмосфера там необычная — студенты, случайные посетители, бизнесмены, артисты — все вперемежку. Заходят выпить чашечку ароматного кофе. Отсюда в воздухе витает ощущение свободы и теплоты. И, пожалуй, ещё молодости и беззаботности, свойственной студенческой братии.
За угловым столиком сидели четверо людей спортивного телосложения, с короткими стрижками и что-то обсуждали. За окном падал снег. Он пошёл недавно и, поэтому на газонах снег был не белый, а грязно-серый. Такого же цвета были и волосы у одного из собеседников. Они наконец закончили свой разговор, попрощались и вышли на мороз. Один пошёл в одну сторону; Седоволосый и два других в другую.
У кафе, закутавшись в рваную одежду, мёрз бомж со старой собакой. Собака была совсем дряхлой — у неё даже один бок весь облез от старости и был бережно замотан видавшим виды шарфом — отчего ухо торчало перпендикулярно второму. Судя по всему, на двоих у них было два шарфа и было, потому как бомжу прикрыть шею было нечем, и он кое-как закрывал её поднятым воротником. Люди спешили мимо в тёплые дома и никому до этих двоих дела не было.
Поначалу прошёл мимо и Седоволосый со своими спутниками. Но затем порылся в карманах, вернулся и не глядя Бомжу в глаза, сунул в руку мятую сотенную купюру. И заспешил догонять своих. Бомж лишь успел кивнуть вместо спасибо. На сегодня им Бог послал еду.
Послал им Бог еду и ещё через две недели. Когда Седоволосый с теми же спутниками вновь вышли из Кофемании, бомж рылся в урне неподалёку, пытаясь хоть что-нибудь найти. Собака с перевязанным ухом спала. Под неё была положена старая куртка, а сверху она была накрыта пальто, которое Бомж снял со своего плеча. Сам бомж кутался в драный свитер, но ему очень хотелось, чтобы пёс хотя бы поспал в тепле.
И опять им перепала мятая сотенная купюра.
Кроме еды бомж очень хотел пережить свою собаку. Чтобы она не осталась одна умирать от голода на улице. Кроме него старый облезлый пёс был никому не нужен. Он просил об этом Бога. И Бог послал ему это. А ещё Бог послал за ним Ангела — когда бомж умер.
— Пойдем! — приветствовал Бомжа Ангел. — Нас ждут.
— Моя собака?
У Ангела от удивления аж крыло зачесалось.
— Извини, но там её нет. У собак ведь нет души. Откуда же нам её взять?
— Ну и пусть нет души. Собака же была. И она умела меня любить без этой вашей души. Воскресите такой, как была. Натурально!
— Боюсь это невозможно, — вымолвил Ангел и почесал другое крыло.
— Тогда не пойду я ни в какой ваш Рай. Останусь здесь, — и Бомж сел где стоял.
— Как ты здесь останешься? Здесь в Пустоте — холодно! — у Ангела зачесались оба крыла.
— Я привык, — сказал Бомж. — Мы вместе мёрзли и голодали и мне нечего делать в тепле одному.
— Ладно, ладно! Бог с тобой, — махнул крылом Ангел. — Пойдём! Только мой её каждый день — а то уж больно она псиной воняет.
В качестве эпилога
Человек собирал все свои хорошие дела. За всю свою жизнь. Всё то хорошее, что он сделал за жизнь от чистого сердца. Всё то, что он повторил бы вновь, даже если за них полагалось бы наказание, а не награда. Всё это он складывал к ногам Господа.
Но Он не просил за них награды. Он пытался купить ими у Бога одну прекрасную судьбу — для любимого человека. И просил Господа доложить от щедрот его — потому как положить ему кроме них было нечего.
Пришли положить на весы его добрых дел две мятые сотенные купюры — старый бомж и его собака с перевязанным ухом.
ОГОНЁК
ебольшой французский городок лежит на берегу океана в расщелине между двух скал, загибаясь по краям на склоны гор небольшими виллами и кронами сосен. Внизу центральная часть усеяна небольшими домиками с приоконными садиками, полными нарциссов, живых изгородей и тёмной зелени азалий.
На левой, со стороны океана, скале возвышается церковь, построенная в честь погибших лётчиков и напоминающая краба, взгромоздившегося на пригорок. Только вместо бегающих в разные стороны крабьих глаз — у неё небольшая башенка со входом. Острый колпачок её шапочки виден с любой точки города. Обычно она закрыта — в ней служат лишь по праздникам. А главный костёл расположен внизу, на окраине старого города — посреди кладбища. Он спокойно бы вместил своего собрата-краба, и на верхушке его креста красуется большой медный петух. Над входом расположены церковные часы с боем, и их звон разносит по окнам домов услужливый ветер. В целом костёл напоминает старинную крепость — с дубовыми воротами на кованых петлях и даже вместо левой задней грани центральной башни приделана круглая стрелковая башенка с двумя узкими бойницами и круглой остроугольной каменной шапкой. Двери костёла открыты каждый день. По утрам, идя на работу, горожане заходят в него и ставят свечи — и огоньки молятся за них весь день. Если зайти в середине дня — собор пустынен и безлюден, как и окружающее его кладбище. И только светлячки свечей у статуи Девы Марии тянут к небу молитвы за поставивших их.
В левой галерее, посередине стоит статуя молящейся Девы Марии со сложенными руками. На голове у неё белое покрывало, а белое платье перепоясано голубым поясом, концы которого спускаются до земли. На сандалиях две позолоченные розы да ещё гипсовый крестик на чётках с позолоченными бусами. На сложенные в молитве руки с благодарностью повешены три маленьких крестика с хрустальными и перламутровыми бусинками чёток, в которых отражается пламя свечей.
К стопам статуи благодарные горожане каждый день приносят цветы. То охапку белых лилий, то привезённые издалека мимозы, то кто-нибудь принесёт сорванную веточку начавших распускаться азалий и их пурпурные цветки и набухшие бутоны похожи на положенные к её ногам сердца.
Приносил свои молитвы к стопам статуи и один странный Человек. По утрам он ходил на берег океана кормить хлебом чаек и бакланов, а потом шёл в костёл и ставил у статуи две свечи. Когда он приходил после обеда, свечи сгорали лишь наполовину и их огоньки вновь зажигали фитили его молитв. Человек ничего не просил для себя. Особенно он просил за одну судьбу. Ему очень хотелось — чтобы она была счастливой.
— Господи! — молился он: — Услышь меня!
Всё, что я мог — я положил к твоему порогу.
Человеку оставалось недолго. Больше всего Человек боялся двух вещей — Вечности и что его молитвы не будут услышаны.
— Господи! — повторял он: — Если не будет счастливой судьба, о которой я прошу, то моя жизнь будет напрасной. Я не был счастлив сам и не смог сделать счастливыми тех, кого любил.
В один день Человек взял с собой из костёла небольшую свечу в прозрачном пластиковом стаканчике с нарисованной иконкой Божьей Матери, к которой явился Ангел. Вечером Человек зажёг огонёк и долго сидел перед ним.
— Я не могу молиться пока я сплю, — сказал он огоньку. — Мне не ведомо, есть Бог или нет? Но мне бы очень хотелось, чтобы Он был! И чтобы чудеса хоть иногда случались! Я готов отдать всё, что у меня есть — лишь бы одна судьба была необыкновенно счастливой. И я очень надеюсь, что Он есть, и что Он услышит. Помоги мне. Помолись за меня, покуда я сплю.
Всю ночь молился маленький огонёк. Он то вспыхивал, то угасал, подобно маяку, который старается, чтобы его заметил корабль в пасмурную ночь. К утру пролетал мимо Ангел. Свеча почти догорела и огонёк еле теплился на кончике обуглившегося фитиля.
— Возьми меня с собой! — взмолился огонёк.
— Не могу. Это не в моей власти, — ответил Ангел и полетел своей дорогой.
Возвращаясь вечером после рабочего дня, Господь увидел Ангела, сидящего под цветущей сакурой.
Ангел что-то бережно держал в сложенных лодочкой ладонях и это чем-то напряжённо разглядывал. Ангел был так озабочен этим чем- то, что не замечал ни Господа, остановившегося неподалёку, ни его свиты, ни того, как замер лёгкий вечерний ветерок вместе со всеми. Ни Господь, ни окружающая его свита, ни вечерний ветер не решались нарушить его раздумий некоторое время.
— Что так тревожит тебя? — спросил Господь наконец.
Ангел от неожиданности вздрогнул, а потом с почтением приблизившись, протянул Создателю лодочку рук, в которой горел маленький огонёк.
— Вот! — сказал он. — Я пролетал мимо рано утром, когда он угасал. Он очень хотел донести до Вас молитвы одного человека. И он очень старался, чтобы его заметили с небес. Мне стало жалко его. И я не смог уйти, не взяв его с собой. А теперь… теперь я не знаю как мне быть.
— Дай его сюда! — сказал Господь. — Послушаем, что он нам поведает.
Огонёк радостно заплясал в ладонях Господа, рассказывая, о чём просил его человек.
И повелел Бог принести в свои покои свечу — дабы горел на ней маленький огонёк. И чтобы каждый день, среди суеты дел, напоминал он Господу о молитвах одного человека.
ДЬЯВОЛИЦА
«Если он способен видеть прекрасное, то потому, что носит прекрасное внутри себя — ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение».
Пауло Коэльон был наделён даром верить. Люди верят в разное. Кто в деньги, кто во власть, кто в силу — кто во что. Юноша верил в Любовь. Он верил, что без неё жизнь не имеет смысла. Он умел верить, надеяться и ждать.
За каждой судьбой следит не одна пара глаз. И Светлых и Тёмных. За умеющими верить и любить — в особенности. В канун Рождества Властелин Тьмы вызвал свою самую красивую Дьяволицу. Он восседал на троне и вокруг него туманом клубились сгустки Боли, которую источали его владения. Энергия боли — суть пищи Тёмных. У его ног раскинулся небольшой пруд, наполненный свежей кровью. Его поверхность испаряла тот особенный запах Боли, свойственный только свежепролитой крови. Ноздри его хищно раздувались, вдыхая любимый аромат. Рана на левой ноге перед Рождеством нестерпимо ныла.
Когда-то давным-давно в бою с одним Ангелом Властелин потерял ступню, на месте которой и выросло знаменитое копыто. Это проклятое копыто и ныло перед святым праздником. Время от времени Он опускал его в кровь пруда. От этого ненадолго становилось легче.
— Посмотри! — перстом Властелин указал на пруд.
На его чёрно-красной глади, словно на экране кинотеатра, возникло изображение Юноши. Юноша стоял на площади, любуясь наряженной ёлкой, и изредка уворачивался от снежков, в которые играла детвора. Наконец один удачно пущенный снаряд сбил с него шапку. Шапку тут же подхватили и начали перебрасывать друг другу. Юноша улыбнулся и, к всеобщему удовольствию, начал гоняться за ней подобно молодому щенку. Он бегал и прыгал за своей летающей шапкой, и звонкий ребячий смех разлетался по переулкам серебряным колокольчиком почтовой лошади.
— Добудь мне его Душу. И Я отдам Тебе половину его Боли за первые сто лет.
Награда была неслыханно щедрой.
Малыш поймал шапку и бросил её через ёлку другому. Неожиданно для всех шапка описала крутую дугу и скрылась в темноте ближайшей подворотни. В темноту за ней никто не побежал. Юноша отряхнул полы пальто и направился вслед своему головному убору. Он почти достиг подворотни, когда линию, разделяющую тьму и свет, пересёк элегантный женский сапожок. И вместе со злополучной шапкой на свет появилась прекрасная юная леди. Глаза и волосы незнакомки вполне могли поспорить по насыщенности чёрного цвета с темнотой, из которой она так неожиданно возникла. Она протянула ему шапку и их взгляды встретились одновременно с касанием рук.
Это было незабываемое Рождество. И ещё два дня и три ночи. Три восхитительных ночи — полных страсти и огня. На утро третьей он проснулся и не нашёл её рядом. Она стояла в проёме двери и утреннее солнце, заглянув в окно, просвечивало сквозь её платье, подчёркивая дивную красоту её фигуры.
— Я ухожу. Прощай! — сказала она спокойно, как будто говорила «здравствуй».
— Подожди! Неужели моя любовь ничего не значит для тебя?
— Любовь? А что такое любовь? — усмехнулась она. Нехорошо усмехнулась. — Я ведь не девушка — а Дьяволица. Для нас, Тёмных, Рождество — самый страшный праздник. Вот Я и решила — почему бы не провести его в постели с каким-нибудь миловидным юношей? Мне нужно было лишь твоё тело. Твоё сердце и душа мне ни к чему!
Она коснулась солнечного луча и исчезла.
Без неё Юноша прожил недолго. Он ушёл из жизни коротким выстрелом, без права на отпевание.
Но Добро милосерднее, чем церковь. Когда поджидавшие Тёмные бросились к Душе, на их пути встал Ангел. Тёмные замерли, как стая гончих, у которых отняли добычу. Глаза мерцали ненавистью, из пастей капала слюна.
— Слов не нужно, — вымолвил Ангел. — Я всё понимаю. Но прошу тебя — пойдём со мной!
В ответ Юноша лишь покачал головой.
— Неужели ты хочешь к ним? — Ангел крылом указал на Тёмных. — Посмотри в их глаза! Посмотри, как течёт их слюна! Зачем тебе такая участь? Это же навсегда!
— Нет! — ответил Юноша. — Это Рай навсегда! Они же рано или поздно будут стёрты. Надеюсь и моя Душа будет стёрта вместе с ними. А это то, что мне нужно. Я не готов существовать без неё. Где бы то ни было.
— Она же — Дьяволица!
— Для тебя — да! Но не для меня! Это уж мне решать. Спасибо! И прощай!
Печально смотрел Ангел как он шёл. Было видно, что ему очень страшно. Колени его дрожали. Ноги то и дело подгибались и не слушались его. Но напрасно ждал Ангел, что он повернёт обратно. И даже, когда они навалились на него всей сворой и поволокли вниз, ни один крик о помощи не вырвался из его уст.
Юноша висел растянутый на цепях. Было видно, что он страдает. Когда человек мучается, его лицо искажено болью. Его же лицо, напротив, приняло какое-то удивительно спокойное и умиротворённое выражение — как будто он наконец обрёл покой. Изредка по нему облачком пробегала тень боли, подобно волне по зеркалу пруда, а затем всё вновь успокаивалось. Его лицо напоминало именно поверхность пруда — одновременно спокойное и что-то скрывающее от посторонних глаз там — в глубине. Этот внутренний покой бесил и одновременно пугал мучающих его демонов. Они осязали, что причиняют ему боль, но этой болью нельзя было питаться. Она каким-то необъяснимым образом трансформировалась во что-то внутри него и утекала из их власти по невидимому лучу.
Властелин не находил себе места. Боль миллионов пленников, густыми тучами висевшая у его трона, стала ему не нужна. Ему стала нужна боль лишь одного человека. Но именно её он заполучить и не мог. Он метался подобно Фаусту, которому он когда-то построил город его мечты, в котором не захотели жить лишь два человека. Но если Фауст нашёл выход своей ярости — убив их, то Властелин был лишён и этого. Он не мог убить пленника и не мог вырвать из него боль. Ярость, бушевавшая в нём, подобно одному из его демонов, начала грызть и рвать его изнутри. К вечеру девятого дня даже самому глупому слуге стало понятно, что Господин попал в свой собственный Ад.
На десятый день Властелин завыл. Такого воя не помнили с того боя, когда он потерял левую ступню. В ужасе обитатели Тьмы забивались в самые тёмные уголки. И даже страшная личная четвёрка телохранителей не осмеливалась приближаться. Перед заходом солнца он порвал какую-то подвернувшуюся под руку мелкую нечисть. Это не лезло ни в какие ворота. Властелин не любил своих слуг, но берёг. Зло не плодится. Ни на одного Тёмного не стало больше с того мятежа, когда они были низвергнуты с небес. Однако экзекуция позволила хоть частично вылить ярость и восстановить контроль. И Властелин повелел позвать Дьяволицу.
— Вырви из него боль! Или проклятие! И в награду — проси чего захочешь!
— Всё чего захочу?
— Всё чего захочешь! И ещё Я добавлю от себя. Только вырви из него проклятие. Тогда он мой.
Когда она вошла, их оставили одних. Лицо Юноши никак не изменилось. Только взгляд стал каким-то сосредоточенным. Словно он старался что-то запечатлеть в своей памяти.
— Здравствуй! — улыбнулась она, обнажая клыки.
Юноша ничего не ответил.
— Нечего сказать?
— Нет! — вымолвил он спокойно. — Просто пытаюсь запомнить каждый твой жест и каждую улыбку. Ты так красиво улыбаешься. А ведь, может быть, я никогда тебя больше не увижу.
— Неужели ты ни о чём не жалеешь?
— Я бы всё повторил вновь! Зная всё заранее. И ничего бы не изменил. Никогда в моей жизни не было столько Света, сколько Ты мне подарила.
— Света? Я подарила?
— Просто Ты никогда не знала, что такое настоящая Любовь, — с грустной улыбкой ответил он. — Я бы очень хотел, чтобы тебе когда-нибудь послали полюбить. И Ты бы узнала, что такое Счастье. И Любовь. И Свет.
— И Ты меня не проклинаешь?
— Нет! Я желаю тебе Полюбить и быть Любимой. Домика на берегу моря с любимым человеком, к ступеням которого приходили бы в гости — заря, заход солнца и прибой.
— Я желаю тебе Счастья — С Утра до Вечера, Каждый День, Через Всю Жизнь!
И она почувствовала, что в это мгновение ей не нужны были ни его Страдания, ни его Боль.
И ушла, не дожидаясь Господина.
Властелин метался раненым зверем. Чёртову суку никак не могли найти. Нехорошее предчувствие ныло у него в груди. Кое-как взяв себя в руки. Он вызвал свою личную четвёрку.
— Приволоките её, — тихо-тихо, почти шёпотом прошипел он. И от того, как это было сказано, от этого «тихо-тихо» — веяло ледяным ужасом.
Дьяволица сидела на вершине скалы, нависающей над морем, и любовалась заходящим солнцем. Лёгкий ветерок с моря тёплым потоком шевелил перышки её крыльев, и она расправила их под его поглаживаниями. Впервые красота этого мира не вызывала в её душе ярости, а наполняла душу покоем и гармонией — чего она никогда ранее не испытывала. И ко всему этому примешивался лёгкий оттенок грусти. Грусти и оттого, что никогда ранее не замечала она красоты этого мира, и оттого, что никогда ранее не испытывала этого чудесного состояния души… и оттого, что вскоре всему это- му суждено будет закончиться.
Нет — она не испытывала страха перед грядущим, а именно Грусть — как воин, который вместо того, чтобы винить себя в том, что слишком долго шёл он к цели, радуется, что в конце концов всё-таки дошёл. Дьяволице было всё равно, какая участь ожидает её впереди, но никогда бы более не сделала она того, что привело Юношу в Ад… Хотя — для себя ей теперь хотелось бы повторить всё вновь.
И ещё Дьяволица чувствовала, что в груди появился неведомый ранее комок. Этот комок тревожил её, сильно пугал и одновременно почему-то был ей очень дорог.
Тёмные чувствуют тёмных издалека. Она ощутила личную четвёрку Господина, когда те были ещё в верхних слоях Сумрака. И всё поняла. Бежать было некуда, да и незачем. Не было страха в её душе, только — печаль. Печаль оттого, что ей так и не суждено досмотреть свой первый и одновременно последний заход солнца. И когда их взгляды, словно пиявки, впились ей в спину, она даже не обернулась. Ей не хотелось пропустить ни одного мгновения уходящей из её жизни красоты. Красоты, которой она так долго не замечала.
А заходящее солнце, наконец, коснулось кожи воды. Вдруг пиявки взглядов отпустили её. Она почувствовала сначала их смятение, а потом даже не страх, а скорее животный ужас. В удивлении она обернулась и увидела, как сверху, наперерез Тёмным падает боевая четвёрка ангелов. Ангелы пикировали, развернувшись в линию, и в лучах заходящего солнца блестели короткие кривые клинки мечей со смещённым к жалу центром тяжести. Она слышала об этих мечах. Такие мечи были лишь у ангелов-разведчиков из специальной гарроты, предназначенной для проникновения во Тьму. Тёмные называли их «крадущимися». Глядя на атаку крадущихся она поняла, почему одно упоминание о них вызывало у Тёмных страх. Даже ужасные личные боевики Властелина могли вчетвером напасть лишь на одного, но никогда на двух. О бое четверо на четверо и речи быть не могло. Властелин лишился бы своих лучших демонов. Никакого боя бы не было — просто резня.
Демоны развернулись и врассыпную бросились вниз — в спасительный Сумрак. Крадущиеся не стали их преследовать. Подобно боевым истребителям они сделали суперсложный синхронный переворот через крыло и прямо из пике взмыли в её сторону. Как ни странно, её это не испугало, а скорее обрадовало. Сегодня она предпочла бы смерть от рук Светлых. Сама мысль о том, что жертва достанется не Господину, вызвала в её душе злорадное удовлетворение. Она расправила плечи, развернула крылья, лёгким движением головы закинула назад шикарные чёрные волосы, и они рассыпались по спине тёмным водопадом. И приготовилась встретить Её Величество — Смерть.
Ангелы, подлетев, вместо того, чтобы напасть — замерли неподалёку. Дьяволица ждала — и ждали Ангелы. И лишь когда она поняла, что перед ней не враги — старший почтительно приблизился. Каждый его жест подчёркивал уважение. Он походил на рыцаря, обращающегося к королеве.
— Нас послали за вами. Вас ждут.
— Кто? Меня некому ждать!
— Вы знаете кто! — Ангел из деликатности не произнёс слова «Бог», опасаясь, что это слово для неё пока ещё может быть болезненным.
— Но почему? Я же… — она осеклась.
— Ответ в вашем сердце. Я думаю, вы сами чувствуете в нём то, что вы не ведали ранее. Кроме того, Он молился за Вас. Каждое мгновение Там — он молился. Он даже свою боль научился превращать в молитву. И его молитвы оттуда — достигли небес. Двери Рая открыты для вас, — и Ангел протянул ей руку.
Шагнув во врата Рая, Дьяволица испытала как бы легкий разряд тока, пронзивший её с ног до головы, и что-то почти неуловимо изменилось. Тело и лицо остались прежними — невыразимо прекрасными и соблазнительными одновременно. Когти на ногах и клыки втянулись, а крылья сложились и превратились в легкую шёлковую ленту, которую сорвало и унесло налетевшим ветерком.
И осталась та — та, которую когда-то на берегу встретил Юноша. Только вот глаза — глаза теперь были… другими.
Поселилась она в небольшой бухте, окружённой с трех сторон горным хребтом, в домике у самой воды. Во время прибоя волна подкатывала к самому порогу и, сидя на ступеньке, можно было дать прибою погладить ступни ног. Первый день она так и провела — наслаждаясь красотой природы и во время прилива, присев на пороге — чувствуя как, накатываясь и отступая, ласкает её ступни морская вода.
Беспокоивший её комок в груди рос с каждым днём. Сначала Юноша стал сниться ей по ночам. Потом она перестала слышать шум волн, и крики чаек, и песню ветра. Затем внутренний взор начал видеть лишь Его — растянутого на цепях Там — внизу. И эта картина постепенно заслонила весь горизонт. Комок в груди превратился сначала в Тоску, затем в Отчаяние, а затем в Боль!
Через четыре дня она не выдержала и предстала перед лицом Создателя.
— Я хочу вернуться обратно! Я знаю… знаю, что меня Там ждет!.. Но, может. Ему будет легче… Легче, что он, может быть, не совсем напрасно любил, — и после паузы добавила: — Надеюсь, и мне тоже!
— На это Я не могу дать согласия!
— Разве я не СВОБОДНА?
— Ты свободна! И ты это знаешь! Дело не в тебе — дело в нём! Он может выдержать всё, что бы они с ним ни делали. Но, каково будет ему видеть, как они специально будут издеваться над тобой на его глазах! Таких мучений он не заслужил! Тем более от тебя!
И она ушла, ничего не ответив.
Ещё через неделю она пришла к Создателю снова.
— В моей груди растет боль. Сильнее и сильнее. Скоро она станет нестерпимой. Скажи — это наказание за мое прошлое?
— Нет! Добро — это в первую очередь сострадание и милосердие. В этом его суть — в умении прощать. Здесь никогда никого не наказывают. Тем более за прошлое!
— Но тогда почему — почему мне так больно?
— Здесь даже Я бессилен! Ты влюблена…Рядом нет любимого человека и… и ты знаешь, как он страдает. Ничего не сделаешь — обратная сторона любви. Это Плата — плата за Любовь.
И воцарилось молчание. И снова она нарушила его первой.
— Теперь я понимаю, почему он не захотел жить… и… отказался от Рая. Эта Боль намного ужаснее мук Там… в Аду! — И помолчав, добавила: — Там хоть есть надежда быть стертым после Страшного Суда и обрести покой.
— Да! Я знаю! Но он не просто ждал покоя. Он нашёл в себе силы молиться — молиться за тебя! И превращать боль своих мучений в Свет — для тебя; в Надежду полюбить — для тебя; в возможность обрести Счастье — для тебя! Я не в силах помочь тебе с твоей болью. Ты сама ей хозяйка. Просто надо перестать любить и найти что-то другое. И боль уйдёт. И ты услышишь и шум прибоя с криками чаек, и красоту природы, и любовь и тепло Ангелов… и радость Жизни.
И оба надолго замолчали.
— Этого я не могу! — наконец сказала она. — Точнее, не хочу!..И надеюсь, что мне хватит сил не отказаться. Я не могу разделить Ад с ним Там, и не могу выносить такую Боль Здесь. Я прошу — прошу Милосердия!
— Смерти?
— Да! Смерти! И… Покоя.
— Это в Моей власти. Только… только вместе с тобой умрёт и Надежда для Него. Надежда, что он тебя когда-нибудь хотя бы увидит…Ты настаиваешь на своей просьбе?
— А если… — она осеклась. — А если мне хватит сил вынести, то… то будет хотя бы надежда, что он увидит?
— Если ты его дождёшься — он тебя увидит. Это… Я тебе обещаю!
Два дня она гуляла вдоль моря, борясь с собой. Боль нарастала с каждым днём. На третий день она впервые в своей жизни начала молиться — молиться с неистовством человека, боящегося предать. Она молилась послать ей силы вынести боль, если надо нести её вечно, но только не отказаться от любимого человека, не предать его и не лишить надежды.
Страх не вытерпеть наполнил её молитвы такой силой, что Ангелы видели сияние её молитв над вершинами гор, окружающих бухту с домиком у моря, в котором она поселилась. Отчаяние её молитв окутывало вершины сполохами света, и порой казалось, что над хребтом бушует гроза.
На пятый день боль в груди стала невыносимой. Полночи она пролежала вцепившись зубами в подушку, чтобы не начать выть, подобно зверю. Когда боль переполнила чашу и начала, подобно смоле, тягучими каплями сползать с краев — она сползла на пол и начала корчиться. Ближе к утру силы иссякли. Боль не стала меньше, но из режущих беснующихся осколков стекол превратилась в тупую давящую плиту. Обессилившая, она уже не могла двигаться и скрючившись под этой плитой боли, замерла у двери, вперив взгляд в узкую щель над порогом.
Полоска сначала была черной, потом серой, затем бледно-розовой, из бледно-розовой превратилась в алую, а потом в щель брызнул солнечный свет. Медленно, очень медленно, так медленно, как течет время — солнечные лучики сквозь щель начали пробираться в комнату, пытаясь дотянуться до её лица. И когда они почти смогли коснуться её щеки, кто-то мягкой поступью подошел к двери и остановился. Этот кто-то ненадолго замер у двери, потом открыл её, и солнечный свет теплой волной захлестнул комнату, бережно накрыв девушку громадным солнечным зайчиком. Остановившимся взором она видела, как этот кто-то подошёл к ней, присел, и она почувствовала, как его ладони коснулись её щек. Ладони были удивительно тёплыми и нежными. Эти ладони очень плавно, словно хрупкую драгоценность, оторвали её подбородок от пола и чуть-чуть приподняли — чтобы она смогла увидеть его лицо.
На фоне дверного проёма, залитого солнцем, его лицо показалось темным пятном или как бы скрытым облачком тени. От яркого света, ударившего по глазам, она невольно зажмурилась. Когда, прищурившись, она смогла немного приоткрыть их, то снова на фоне света смогла увидеть лишь овал лица. И постепенно, по мере того как её глаза стали привыкать к свету — лицо, словно фотография в растворе, стало по частям проявляться из тени. И когда тень рассеялась, она увидела его полностью. Это был он — Он! От неожиданности она снова захлопнула глаза и долго не решалась открыть их в страхе, что он исчезнет, как пригрезившийся утренний сон. Постепенно тепло ладоней, державших её лицо, рассеяло сомнения, и она решилась открыть глаза снова. Лицо, смотревшее на неё, было лицом любимого человека. Оно было сосредоточенно — как лицо человека, который бесконечно долго шёл; оно было мужественным — как лицо человека, прошедшего через Ад, но не отказавшегося от своей любви; оно было одухотворённым — как лицо человека, сосредоточившего в одно мгновение всю свою жизнь; и это было лицо человека, по которому текли слёзы.
И она почувствовала, как из его ладоней, через её лицо к её сердцу, вымывая боль и наполняя душу счастьем, хлынула — Любовь!
Из-за открытой двери за ними наблюдали четыре боевых ангела, вытащивших Юношу из Ада. На их лицах светилось выражение, свойственное только детям, когда они дождались счастливого конца сказки. То самое выражение, которое является отражением внутреннего света, переполняющего душу ребёнка — оттого, что он смог почувствовать и сопережить радость и счастье своих героев. Ликование, светившееся на их лицах, так переполняло их, что Ангелы не чувствовали ни тяжесть порванных доспехов, ни вес зазубренных клинков, еще не вложенных в ножны, ни боль ран, полученных в бою там, внизу, во Тьме, ни ручейков струившейся из ран крови. У двоих раны были очень серьёзные, и кровь никак не хотела свертываться, стекая багровыми змейками по белоснежным крыльям.
Кровь набухала на кончиках перьев и каплями срывалась на землю. Долетев до земли, капли крови превращались в цветы — в чудесные весенние крокусы — в розовые и в голубые.
ХРАНИТЕЛЬ
«Да, жизнь — это безумие. Но великая мудрость воина заключается в том, чтобы верно выбрать себе безумие».
Пауло Коэльотот Ангел сам напросился в Ангелы-Хранители. Он хотел защищать. Но в нём чувствовалась какая-то особенная заряженность. Он не стал проходить обычную школу подготовки, а привязался к командиру четвёрки крадущихся. Крадущиеся — особая боевая каста разведчиков, специально подготовленных для действий во Тьме. Он месяцами ходил хвостиком за будущим наставником, уговаривая научить искусству боя. Тот лишь отмахивался, как от назойливой мухи. Но время и настырность взяли своё. Наставник подумал, что единственный способ отвязаться — начать учить. Мол не выдержит привязавшаяся вша суровости подготовки крадущихся и пойдёт стандартным путём — в школу Хранителей. Но не тут-то было. И по мере того, как потихоньку ученик делал успехи, всё более и более привязывался Наставник. И сам не заметил, как научил новичка даже делать Гранул — защитный энергетический кокон. Когда боевой Ангел попадал во Тьме в безвыходное положение — он образовывал Гранул. Гранул был и защитой и саркофагом одновременно. Потому что в нём Ангелу суждено было покоиться до самого Страшного Суда, покуда сама Тьма не будет разрушена. Что-что — а это уж Ангелам-Хранителям было совсем ни к чему. Во Тьму спускались лишь крадущиеся. И когда пришло время Ученику уходить за своей первой душой, Наставник пришёл проводить его в Путь.
— Удачи тебе! — сказал Наставник. — Она никому не помешает.
— Будьте осторожны Там… — ответил Ученик. — Когда я вернусь — я надеюсь, что мы увидимся.
В ответ Наставник лишь улыбнулся.
Минуло сорок лет. Неожиданно Наставника вызвал командир гарроты — неприметный ангел с пепельно-седыми крыльями.
— У нас проблема с твоим учеником.
Наставник молчал. Он знал своего ученика и верил в него. Он просто ждал пояснений.
— Вверенный ему человек покончил жизнь самоубийством, — продолжил седокрылый. — В принципе, он заслужил Рай. Добро милосердно и умеет прощать. Но Рай ему не нужен!..Ему нужен покой. Смерть — полная Смерть. Смерть и для души…Этого мы не можем. Это может лишь Тьма.
— В чём проблема с моим учеником? Он плохо сражался за своего подопечного?
— Нет! Сражался он отважно. Как я уже сказал, его подопечный мог быть в Раю, если бы захотел.
— Тогда в чем?
— Проблема в том, что он собирается последовать за ним.
Наставник застал Ученика недалеко за воротами Рая отчаянно о чём-то спорившего с Душой подопечного. Завидев Учителя, Хранитель прервал разговор какой-то жесткой фразой и подошёл. Остановившись в двух шагах, он с почтением поклонился и по лицу его невольно расползлась улыбка.
— Его решение окончательно? — кивнул Наставник в сторону души.
По лицу Ученика пробежала гримаса боли. В ответ он лишь кивнул.
— Тогда о чём вы спорили?
— Он не хочет, чтобы я шёл с ним.
— И что ты ему сказал?
— Что он хозяин своему выбору. Но также должен уважать выбор других. Он выбрал. Но и я хозяин своему. И я тоже выбрал.
— Окончательно?
Ученик ответил не сразу.
— Ты же знаешь Учитель, что такое Пустота — там во Тьме. Когда он будет задыхаться там без света, без надежды… И никого не будет рядом, кто бы его любил… Я никогда не смогу себе простить, если не буду с ним в эти мгновения… Ему ведь будет легче.
Учитель тяжело вздохнул.
— Я учил тебя искусству крадущихся, и ты знаешь, что тебя там ждет. Когда он умрет — ты останешься во Тьме один. На — возьми!
Наставник сдернул с плеча маскировочный плащ крадущихся: — Он греет во Тьме!
И помолчав, с грустью добавил:
— Я не могу пойти с тобой, хотя и хотел бы. Но… — он достал свой чёрный кривой меч. — Возьми его! Он долгие годы был мне верным другом. Пусть будет с тобой, как если бы был Я…
И долго смотрел вслед уходящей Душе и её Ангелу-Хранителю. А когда они скрылись из глаз, пошёл по узкой тропе на скалу, нависающую над Тьмой. Там сел на камень и начал ждать.
Он долгие месяцы учил Хранителя и точно знал — что будет дальше. И он ждал — пока не увидел как во Тьме вспыхнул и засверкал кокон Гранула. Потом Тьма вокруг Гранула начала сгущаться, затем свет гранула затянуло лёгким туманом и он виднелся, как луна сквозь неплотные тучи. Потихоньку плотность Тьмы усиливалась, пока она не заволокла его совсем.
Долго Учитель не мог уйти. Всё сидел и сидел, вглядываясь во Тьму.
Прошло два года. В утро одного дня часовые ворот неожиданно доложили о появлении Тёмного. Тёмный стоял вдалеке, отвернувшись от света, скорчившись и накрывшись плащом. В поднятой кверху лапе, в когтях был зажат знак парламентёра.
Такого не помнили давно. Для переговоров вызвали крадущихся.
Когда боевой Ангел приблизился к Тёмному, стало заметно, что Тёмный мелко дрожал. Свет был болезен для него, и ему было страшно. Не спасал даже накинутый плащ. Было видно, что если бы не ужас перед пославшим его Господином — он бы просто бросился наутёк.
— Что надо Тварь? — спросил Ангел.
Тёмный, не откидывая плащ, глухо ответил:
— Мы просим забрать Его!
— Кого? — не понял Ангел.
— Два года назад Ангел-Хранитель ушёл в наши владения вслед за Душой и образовал Гранул.
— Я помню.
— Душа умерла полгода назад. Обрела покой. Мы просим забрать Ангела!
— Что-то я не припомню, чтобы вы отдали хотя бы одного из моих товарищей. И в благородстве вас не заподозришь. Выкладывай как есть или проваливай!
— Ты же знаешь, когда крадущийся не может прорваться в Свет, он образует Гранул. И он обречён быть там до Страшного Суда. Но он ждёт и ему темно — это нас радует. А этот ничего не ждёт. Сидит над своей мёртвой Душой — весь ушёл в себя. Ничего не ждёт и никуда не хочет. Просто светит и светит — будь он проклят. Мы уж и так и сяк! И часовых сняли, и коридор расчистили — так он даже глаза не открыл. Никакой радости — лишь один свет. Измаялись мы. Заберите Его! И Вам и Нам легче будет!
Тёмный махнул лапой со знаком и стало видно, как далеко внизу начала расступаться Тьма, образуя коридор — словно лунная дорожка по тёмному морю.
Спустя полчаса по образовавшемуся лучу, сквозь расступившуюся Тьму, ушли вниз к Гранулу две боевые четвёрки во главе с Наставником.
У Гранула восьмёрка на всякий случай заняла оборону. Наставник с трепетом взглянул на своего Ученика. Тот сидел, скрестив ноги, глаза были закрыты и чувствовалось, что он где- то далеко внутри себя. Меч был не в ножнах, а на коленях, а поверх него лежали сцепленные кисти рук. Перед ним, бережно завёрнутая в маскировочный плащ, покоилась мёртвая Душа. Но особенно Наставника поразило лицо. Оно было сосредоточенно и спокойно. Это был уже не Ангел-Хранитель — в нём чувствовалась мощь крадущихся. Такая сила — что он понял, что перед ним ученик, превзошедший своего учителя. И хотя взор Ученика ничего не видел, Наставник почтительно склонился в поклоне. Потом с осторожностью коснулся рукой Гранула — и его оболочка рассыпалась мелкими звёздочками.
И лишь тогда Хранитель открыл глаза.
Из Тьмы по лучу света поднимался Хранитель. Он шёл, неся на согнутых руках завёрнутую в маскировочный плащ мёртвую Душу. Остальная процессия, с обнажёнными мечами, шла следом — чуть в отдалении.
У ворот Рая он в задумчивости остановился, постоял немного и решительно сделав несколько шагов влево от ворот, опустился на одно колено и бережно положил свою ношу на землю. Не оглядываясь, в полном молчании, достал меч и начал рыть им могилу прямо у внешней стороны стены. И никто не осмелился ни остановить его, ни подойти, ни нарушить тишину.
Закончив, и утрамбовав ладонями землю, он молча постоял над ней, а затем резким движением, там где положено быть кресту, воткнул меч. И не оборачиваясь, глухо выдавил:
— Он был воином!..Как и Я.
Затем отвернулся и решительным шагом вошёл в ворота. Остальные вошли следом. Лишь изумлённые часовые ворот остались рядом со свежевырытой могилой и воткнутым в неё мечом.
На следующий день Господь вызвал Наставника.
— Я хочу наградить его. Но Я знаю, что он ничего не попросит для себя. Ты учил его. Тебе ведома его душа. Что бы ты хотел ему подарить?…Твоё решение будет Моей волей.
Наставник ответил не задумываясь:
— Говорят, что для учителя фехтования — счастье это когда ни один из его учеников не был убит на дуэли. Для Ангелов-Хранителей нет высшей награды, чем когда их подопечный попадает в Рай. Потому как их боль — его боль; их счастье — его счастье.
Господь задумался.
— Вам не ведомы судьбы людей, — после недолгой паузы сказал Он. — Но не Мне… Пусть будет по-твоему. Отныне Я Сам буду выбирать ему назначения. Но он знать не должен. Да будет так!
Что касается Хранителя — то все его подопечные попадают в Рай. И с улыбкой на лице провожает он их до ворот. Но каждый раз, прежде чем уйти за новым, подолгу сидит он в молчании у могилы возле стены. И каждый раз стражники ворот заходят внутрь, давая ему побыть одному.
С тех пор Ангелы-хранители, уходя за новой, вверенной им душой, пусть ненадолго, присаживаются у этой могилы. А уходя, кладут правую руку на рукоять воткнутого в неё меча. Говорят, он приносит удачу.
ЧЕЛОВЕК И СМЕРТЬ
еловек ждал Смерти. Он дождался чуда и на душе его было светло и ему хотелось повторить слова: «СЧАСТЬЯ ВСЕМ, БЕСПЛАТНО — ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ!»
Ожидая свою гостью, он в шутку называл её Курносой, представляя под капюшоном пустоту глазниц и косу в костлявой руке. Он часто внутренне улыбался ей, говоря: «Давай, Курносая, — я жду тебя».
Однажды, идя в ночи и представляя Смерть своей спутницей, он, как всегда, улыбался ей и вёл очередной шутливый диалог. И вдруг на мгновение он представил, каково ей. И человек содрогнулся и остановился. Тысячелетиями, встречая людей, она видела в их глазах страх, боль, ненависть, отчаяние. Вслед ей неслись проклятия. Она видела всю Боль и Страдания Истории. Но ведь Смерть — тоже Женщина. Человек ужаснулся. Он почувствовал тьму предназначения жить среди ненависти и боли и безнадёжность тоски по красоте и счастью. Отчаяние оттого, что тебя не могут любить и невозможность даже взглянуть в зеркало без страха увидеть пустые глазницы.
И человеку захотелось стать волшебником. Он увидел в Смерти женщину, и ему захотелось сделать для неё Чудо. Он представил, как после Страшного Суда Бог смоет с неё её предназначение, и она превратится в прекрасную юную девушку с льняными волосами и чудесными зелёными глазами. А вечная спутница коса превратится в друга — громадную чёрную пантеру, которая не покинет её никогда.
Он увидел Её на лугу среди полевых цветов, бегущую — с развевающимися светлыми волосами и бездонными зелёными глазами полными ликования — к замку, где её ждут любовь и счастье. И рядом с прекрасной девушкой по лугу, среди маков и васильков, громадными прыжками неслась к замку чёрная пантера.
Когда человек умер, его встретила Смерть — в чёрном балахоне, с косой в костлявой руке и чёрными впадинами глазниц и носа под капюшоном. В его глазах Смерть увидела своё отражение, но таким, какой её видел он — юной девушкой с зелёными глазами полными Счастья. И Смерть улыбнулась, — и улыбка её была ПРЕКРАСНОЙ.
РАЙ
се истории о животных в этой сказке подлинные и имели место на самом деле.
Повсюду, насколько хватало глаз, расстилалась Темнота. Посредине Темноты возвышалось дерево — корявая цветущая вишня, вся усыпанная белоснежными благоухающими цветами. Под деревом стоял длинный дубовый стол с двумя скамьями напротив друг друга. На столе — кувшин с красным вином, два хрустальных бокала и подсвечники с горящими свечами. На скамьях лицом друг к другу сидели Человек и Ангел.
И не было больше ничего, кроме зияющей чернотой Пустоты, цветущего дерева, стола, двух хрустальных бокалов с багровым терпким вином, пламени свечей, Человека и Ангела.
Да, чуть не забыл. Была ещё тарелка сыра — белого, чуть солёного, нарезанного тонкими хрупкими ломтиками.
— Ну вот ты и умер, — начал Ангел. — Ты в Раю.
Ангел обвёл рукой окружающую их Пустоту.
— Не удивляйся, что ничего нет. Это потому, что Рай у каждого свой. Каким бы ты хотел, чтобы он был для тебя?
Человек задумался. Потом отпил вина, подержал его на языке, чтобы почувствовать всю многогранность послевкусия. Затем отломил кусок белого, чуть солёного сыра. Пожевал. И начал говорить тихим монотонным голосом:
— Когда я был почти взрослым, мне попал в руки рассказ «Лоббо», написанный Марком Твеном по реальным событиям. Это была повесть о волке — вожаке стаи. Он резал овец как хотел. Его никак не могли поймать. Он умел обходить любые ловушки и любые капканы.
Однажды заметили, что в стае есть белая волчица. Альбинос. И она — единственная, кто может его не слушаться. Тогда стали ловить не его, а её. И пришёл час, когда она ослушалась, отбилась от стаи и попалась. Её убили, отрубили лапу и этой лапой наследили дорогу в капкан. Он шёл по следу, обезумевший от горя, забывший о всякой осторожности — прямо в ловушку.
Ни у кого из охотников не поднялась рука его убить. Его посадили на цепь. Поставили еду. Поставили воду. Волк только один раз посмотрел людям в глаза, затем отвернулся, лёг и уставился взглядом в степь. Утром его нашли в той же позе — мёртвым. Без свободы и без любимой эта жизнь была ему не нужна.
— Зачем ты мне это рассказал? — спросил Ангел.
Вместо ответа Человек отхлебнул вина, отломил сыра, упёр взгляд в ближайшую свечу и продолжил, как будто не слышал вопроса:
— Чуть позже я прочитал в газете о лошадях, которых белогвардейцы бросили в Крыму после поражения в гражданской войне. Они сели на пароходы и уплыли в эмиграцию. А лошади остались. Наступила зима. Есть стало нечего. Один громадный конь, не помню какой масти, сначала всё тыркался по околицам — в надежде, что его возьмут или хотя бы дадут поесть. Когда понял, что никому не нужен и есть не дадут — просить больше не стал. Ушёл из деревни. У него было Достоинство.
Он забрался на гору, что возвышалась над деревней, и стоял там. День и ночь. День и ночь. Стоял там много дней. Ни разу не прилёг. Конь боялся, что если ляжет — то может уже не встать. Так он и стоял — пока не умер.
В глазах у Человека что-то заблестело, и он отвернулся. Человек плакал, а Ангел молчал и пил вино. Сказать ему было нечего. Когда Человек смог совладать со своим голосом, он снова уставился на свечу и продолжил опять тихо и монотонно:
— Есть документальный ролик. О том, как охотятся крокодилы. Его сняли для какой-то передачи о жизни животных. Люди с камерами расположились напротив водопоя. Когда на водопой пришли лани, крокодил подкрался, выпрыгнул из воды и схватил одну из них. Схватил неудачно. Не за горло, а за бок. Поэтому лань смогла сопротивляться. Крокодил начал затаскивать её в воду. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Лань билась как могла. Она цеплялась за каждый камень. За каждую песчинку. Но ничего не помогало. Крокодил был сильнее.
Люди не вмешивались. Только снимали. Ролик получался на редкость захватывающим. Когда лань оказалась по горло в воде и начала захлёбываться, неожиданно пришла помощь. Оттуда, откуда её можно было ждать менее всего. Неизвестно откуда появился бегемот. Он бросился на крокодила, отбил лань и вытащил её из воды. И затем восемь часов приносил ей в пасти воду, зализывал её рану и отгонял коршунов. Пока она не умерла.
Человек замолчал. Молчал и Ангел. Человек посмотрел на своё вино, поболтал его в стакане, но пить не стал. Затем заговорил снова:
— И последнее. Я ремонтировал автомобиль. На сервисе в зале ожидания работал телевизор. Показывали передачу из жизни животных. Стая касаток гнала кита и китёныша. Мать и ребёнка. Касатки всё пытались отбить китёнка от матери. Наконец одна из касаток смогла вклиниться между матерью и ребёнком и оттолкнуть малыша от неё. Касатки окружили китёнка. Он попытался пробиться к матери, но ему не дали. Одна из них вцепилась ему в бок и оторвала кусок. И сразу набросились остальные и стали отрывать кусок за куском, пока не разорвали его всего.
Диктор сказал, что перед этим они гнали мать с детёнышем шесть часов.
Недолгая жизнь, шесть часов страха и полчаса боли. Вот и всё, что он нажил.
— Зачем ты мне всё это рассказал? — спросил Ангел. И отхлебнул вина.
— Ты спросил, каким бы я хотел видеть Рай для себя? — сказал Человек.
Ангел посмотрел на свой бокал и кивнул.
— Я хочу, — сказал Человек, — чтобы было море. И бухта окружённая горами, у подножия которых росли бы сосны, кривые горные дубы и стройные, как пламя свечей, кипарисы.
— Я хочу, — продолжил Человек, — чтобы в море жил китёнок. Таким, каким он был. Чтобы у него была еда и ему нечего было бояться. И чтобы он был счастливым.
— Я хочу, — сказал Человек, — чтобы в бухте было болото или что там нужно… В котором бы жил бегемот. Таким, каким он был. И чтобы в болоте было всё, что нужно, чтобы он был счастливым.
— Я хочу, — сказал Человек, — чтобы была лужайка с сочной травой и горным ручьём, в котором журчала бы хрустально чистая вода для водопоя. Там жил бы конь. И я готов сам убирать за ним навоз.
— Я хочу, — сказал Человек, — чтобы в бухте жил волк со своей белой волчицей.
И, помолчав, добавил:
— Только, чтобы они не трогали лошадь.
— Без их счастья, — сказал Человек, — в моём сердце никогда не будет покоя. А значит весь ваш Рай мне будет не нужен.
Воцарилось молчание. Ангел поднял свой бокал. Посмотрел, как в рубиновом вине отражается пламя свечей. Вылил его себе в рот. Сглотнул и тихо-тихо произнёс.
— Исполнено.
И налил себе снова.
Ангелам тоже бывает грустно. Когда Ангелу становится грустно, он берёт багровое терпкое вино и прилетает на скалу, нависающую над морем, у подножия которой растут сосны, кривые горные дубы и стройные кипарисы. Он подставляет свои крылья ветру, пьёт вино и смотрит на море и бухту, в которой живут китёнок, волк с белой волчицей, конь и бегемот, который был милосердней, чем люди.
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
на была не просто красива. Она была на редкость, удивительно красива. Как вокруг головы тёплым июльским вечером клубится тучка комаров, так и вокруг неё постоянно крутился рой молодых людей. Красивых и не очень. Богатых и не очень.
Он не был ни красив, ни богат.
Он вообще не был тем, кого можно назвать успешным. К тому же он любил сказки и верил в них, а она не была сентиментальна. Когда он понял, что даже надежды нет, он ушёл с её орбит вдаль, чтобы остаться наедине со своей болью. Ушёл, как уходит в бесконечный мрак от звезды свет.
Он встретил её через два года. Случайно. На улице. Она шла впереди него, и он узнал её по походке, фигуре и распущенным, спадающим до середины спины волосам. Ему нестерпимо, до боли захотелось хотя бы ещё раз увидеть её лицо.
Он догнал её и окликнул по имени. Она повернулась, и он увидел её лицо. Ранее прекрасное, оно было всё испещрено длинными, глубокими багровыми шрамами.
Девушка гордо подняла обезображенное лицо и посмотрела на него без вызова, но с достоинством, не отводя и не пряча взгляда.
Понимая, что спрашивать нельзя, он всё же не совладал с собой, и, не узнавая собственного голоса, спросил:
— Что случилось?
— Автомобильная катастрофа, — спокойно ответила она и пожала плечами.
Он не знал, что сказать. А потом задал ещё один вопрос со страхом и дрожью в голосе:
— Ты замужем?
Она посмотрела на него недоумённо.
— Кому я такая нужна, — и горько усмехнулась.
Потом она начала разворачиваться, чтобы уйти, но внезапно как будто вспомнила о чём-то, и, повернувшись обратно, спросила.
— Ты говорил, что веришь в сказки?
Он кивнул.
— Какая самая любимая?
— Красавица и Чудовище.
— Это там, — сказала девушка, — где Красавица приезжает в замок к Чудовищу за сорванную для неё её отцом розу. А потом Чудовище умирает от тоски, когда Красавица покидает его. И снова оживает и превращается в принца, когда девушка говорит, что любит его и согласна выйти за него замуж.
Он снова кивнул.
Девушка опять горько усмехнулась, развернулась и молча пошла прочь. А он стоял и смотрел, смотрел ей вслед. Пока она не скрылась за углом. Тогда его что-то подбросило и он опрометью метнулся ей вслед. Он влетел за угол, догнал её, схватил за плечо и развернул. Она холодно посмотрела на него, сбросила с плеча его руку и ледяным тоном спросила.
— Чего тебе нужно?
— Я прошу, — сказал Юноша. Он весь дрожал, — я прошу посмотреть мне в глаза и уделить две минуты. Всего две минуты.
Девушка подумала, нехотя пожала плечами и посмотрела ему в глаза.
Юношу мелко трясло. Потом начало трясти сильнее. Зрачки начали расширяться, и она сначала не поняла почему. Затем всё его лицо исказилось болью. Кожа на щеке лопнула и начала расползаться. Затем начало расползаться мясо. В разные стороны. Потекла кровь. Кто-то невидимым ножом резал ему лицо. Миллиметр за миллиметром. Его зрачки от боли расширились, стали громадными и казалось, что вместо глаз зияет чёрная пустота, в которой не хватает разве что звёзд. Чтобы не кричать, он зубами закусил губу. Из неё тоже пошла кровь. Но из его уст не вырвалось ни звука, ни стона.
Невидимый нож, закончив один разрез, начал другой. Ей никогда в жизни не было так страшно. Ей хотелось кричать, закрыть глаза, чтобы не видеть всего этого ужаса. Но она не могла сделать ни того, ни другого. Словно невидимые тиски сжали её, и она могла только смотреть, как рассекается, истекая кровью, его плоть. А невидимый нож резал и резал, пока всё лицо не превратилось в сплошное кровавое месиво. И ещё из бездны зрачков по нему от боли текли слёзы.
Затем кровь начала сворачиваться и распоротое мясо начало зарастать тёмными, вздыбившимися, безобразными багровыми рубцами. Когда всё закончилось, его лицо стало не просто безобразным. На неё смотрело — Чудовище.
Чудовище улыбнулось, и невидимые тиски отпустили её.
— Ну вот! — сказало Чудовище. И снова улыбнулось. — Спасибо тебе.
Затем оно развернулось и лёгким шагом скрылось за углом.
Испуганная, потрясённая пережитым ужасом девушка бросилась домой. В прихожей она захлопнула дверь и долго стояла, прижавшись к ней спиной. Её всю знобило. Затем, сбросив туфли, она пошла было в ванную, когда нечто замеченное ею в зеркале боковым зрением заставило её остановиться. Она неуверенно сделала два шага назад, повернулась к зеркалу и… закричала. Она кричала, пока не зажала сама себе рот рукой.
Из зеркала на неё смотрело её лицо — такое же юное и прекрасное, каким было прежде.
На работу она вышла через неделю. Когда она вошла, на секунду все замерли, и в комнате воцарилось гробовое молчание. Затем все начали вскакивать, роняя стулья и бумаги. Её окружили плотным кольцом, теребили, радовались и поздравляли. Со всех концов спрашивали:
— Неужели современная медицина такое может? И как так быстро затянулись хирургические швы?
Когда общий гомон стих и все замолчали в ожидании её ответа, девушка улыбнулась, грациозным жестом откинула назад волосы и засмеялась.
— Если я скажу правду — вы всё равно не поверите. Просто мне встретился человек, который поменялся со мной лицом.
В воздухе повисло напряжённое молчание. Все переглядывались. Потом кто-то сказал за всех:
— Ты, наверное, шутишь? Это невозможно!
В ответ девушка лишь пожала плечами:
— Я тоже так думала. Но этот человек умел любить так, что для него, оказалось, не существует слово… «невозможно».
Она нашла его только через полгода. У моря. Он сидел, свесив ноги с обрыва, смотрел на море и пил вино. Она подошла и молча села рядом. Его лицо было безобразным. Он не стеснялся его, не прятал, но чуть отвернул в сторону, щадя её взгляд. Они долго сидели молча, не произнося ни слова. Юноша не выдержал первым. Не отводя взгляда от моря, он глухо с присвистом выдавил:
— Зачем ты пришла?
Его рука, державшая бокал с вином, стискивала его с такой силой, что кисть побелела от напряжения.
Девушка ответила тихо и очень спокойно:
— Я хочу выйти за тебя замуж.
Он шумно вздохнул, судорожно сделал несколько глотков вина и произнес голосом, который показался ей металлическим:
— Мне этого не нужно.
От его ответа девушка вздрогнула как от удара, закусила губу, сглотнула, вся собралась и очень твёрдо спросила:
— Почему?
Он ответил не сразу. Несколько раз пытался начать говорить, но захлёбывался собственным голосом.
— Я не хочу, чтобы за меня вышли замуж из благодарности. Если человек не любит, то он никогда не будет счастлив. А без твоего счастья мне ничего не нужно.
— Знаешь, — ответила девушка, — я хочу попросить тебя о том же… о чём когда-то попросил меня ты. Я прошу… я прошу посмотреть мне в глаза и уделить две минуты.
Он повернулся к ней не сразу и очень медленно. Глаз сразу не поднял, а когда поднял, она поняла, что ему дико больно. Она впилась взглядом в его полные боли зрачки и начала говорить, взвешивая каждое слово:
— Я не сказала, что я согласна выйти за тебя замуж. Это соглашаются из благодарности или чего-то там ещё… Я сказала, — выдохнула она, — что я хочу выйти за тебя замуж. А иначе забери моё лицо обратно. Моя красота мне нужна только для тебя.
До конца жизни её лицо осталось прекрасным и юным. От него невозможно было отвести взгляда. Над её красотой время было не властно. Его же лицо до конца жизни осталось безобразным. Они прожили долгую сказочно-счастливую жизнь. Красавица и Чудовище.
ОСЕЧКА
н считал, что жизнь без любви не имеет смысла. Поэтому, получив отказ любимой девушки, он долго-долго сидел у опушки леса, прощаясь с деревьями, травой, небом и звёздами. Потом помедлил и нажал на спуск.
Через три месяца она позвонила. Утром после свадьбы, прижимаясь щекой к его груди, она тихо спросила:
— Что значили для тебя те слова, когда ты сказал, что не можешь без меня жить?
Вместо ответа он бережно высвободился, что- то взял из ящика стола и, подсев на край кровати, развернул ладонь.
На ладони, поблёскивая золотом латуни, лежал патрон с пробитым капсюлем.
А над ними, над крышами домов, над предрассветным туманом и пологом облаков сидели два Ангела-Хранителя.
— Откуда у тебя седое перо на кончике правого крыла? — спросил один.
— Вставил крыло между бойком и капсюлем одного выстрела. Осечка выбила перо, а на его месте выросло седое. Но, знаешь, когда мне темно, оно освещает мне путь. Хоть и седое — а светится.
От автора
Посвящается моему Ангелу-хранителю.
Теперь его со мной нет. Я попросил его, как друга, быть с другим человеком. Но однажды, я точно знаю, он сдержал мою руку. В тот день из-за моего тщеславия мог пострадать человек. С тех пор мне ведомо, что такое прикосновение Ангела.
ДУША ГРЕШНИЦЫ
вященник был морским офицером. Двадцать пять лет службы наложили на него неповторимый отпечаток, свойственный только морю и армии. Закончив служить богу войны, он начал служить просто Богу. Но с морем расстаться так и не смог. Поэтому поселился в небольшом приморском городке поближе к прибою, солёному ветру и морской пене.
Всю свою службу в армии он разбирал чужие завалы. Не минула чаша сия его и на новом поприще. Достался ему вместо прихода разрушенный до основания храм недалеко от рынка на окраине городского кладбища. И даже на месте фундамента из-за близости рынка образовалась мусорная свалка. Да ещё досталась в придачу маленькая часовенка. Два на два метра. Посему служил он первое время под открытым небом в гордом одиночестве. Время шло, священник не сдавался и постепенно стали приходить на вечернюю службу постоять под звёздами первые прихожане. Дальше больше. Отвоевав расположенный неподалёку сарай, Священник превратил его в храм, надстроив купол. И хоть сарай подремонтировали, а над крышей гордо возвышался купол с крестом, он как был сараем, так сараем и остался. Но людям это было неважно. Им теперь было куда прийти поставить свечу перед убогой бумажной иконой Божьей Матери за близкого человека или перед распятием за упокой души. А также и покрестить, и отпеть. Что ещё людям нужно.
А потом Священник начал строить разрушенный храм. Приход был беден, денег не было. А посему Священник начал обивать пороги. Кто- то давал, кто-то нет. Туда, где отказывали, Священник возвращался вновь. И клянчил, и клянчил, и клянчил — до тех пор пока не получал денег. Строительство храма стало и целью его жизни, и особой гордостью. И постепенно начали расти стены, затем сводчатые окна и, наконец, рванули в небо купола и золотые кресты.
Когда дело дошло до росписи, Священник пригласил художников, а не иконописцев. И то, что начало появляться на стенах, было живописью. На неё тяжело было молиться. Зато было красиво, что вызывало неизбежный восторг у гостей, которых Священник приводил похвастаться своим детищем. Священник был очень тщеславным человеком. Смирение не входило в число его достоинств.
Однажды зашёл в храм-сарай странный человек в чёрной кожаной куртке. Купил две самые дорогие восковые свечи. Походил по храму и, выбрав икону Божьей Матери, поставил свечи. А затем сел на лавочку и стал ждать. Он не молился, не крестился, а просто сидел в молчании, уставившись в середину зала невидящим взглядом.
Через час к нему подошёл церковный служитель.
— Вы кого-то ждёте?
— Да, — ответил Человек.
— Кого?
— Когда догорят мои свечи.
Служитель недоумённо пожал плечами и отошёл. Через час свечи догорели. Сначала огоньки долго теплились на кончиках фитилей, а затем одновременно испустили дух тонкими сизыми струйками дыма. И Человеку показалось, что не струйка дыма, а душа свечи ушла наверх, к Богу. Он встал и удалился в молчании, как и пришёл.
На следующий день он явился снова. Поставил две восковые свечи и сел ждать. Вскоре все к этому привыкли. Его ни о чём не спрашивали и не тревожили его молчание за исключением церковных нищих, которые, завидев его издалека, сбегались стайкой к крыльцу, зная, что он не обойдёт их вниманием. Он быстро выучил их в лицо и всегда оставлял денег и для тех, кто отсутствовал.
Приходил Человек всегда днём, когда все службы закончились, дабы по возможности побыть в храме одному. Священник, целыми днями суетившийся по строительству, был заинтригован не меньше остальных, но не подходил и вопросы не задавал, интуитивно чувствуя, что эту Душу тревожить не стоит.
При церкви была маленькая кухонька. Однажды, когда Человек сидел на своей лавке в ожидании, когда закончат молиться огоньки его свечей, Священник подошёл и будто старому знакомому предложил:
— Пообедаете со мной?
— Да, — просто ответил Человек в чёрной кожаной куртке.
За обедом они разговорились. И с тех пор часто обедали вместе. А ещё чаще спорили. Человек многого не понимал в Христианстве и со многим в Евангелии был не согласен. Как и у Священника, смирение не входило в число его достоинств.
Придя как-то раз днём, как обычно, он с удивлением обнаружил, что служба ещё не закончилась. Он даже не смог войти в храм, так как тот был переполнен, и люди стояли даже в дверях. Такого ему видеть не приходилось.
— Ну что ж. Не повезло! — сказал он сам себе, купил две свечи и стал протискиваться к своей иконе, дабы поставить свечи и уйти. Толкаться в переполненном храме его не прельщало. Однако добравшись до пункта назначения, он обнаружил, что в подсвечнике перед иконой нет ни одного свободного места. Обречённо вздохнув, он забился в самый дальний угол, сел на маленькую деревянную приставку и, положив свои свечи на колени, начал ждать.
Постепенно из песнопений, молитв и разговоров окружающих он понял, что сегодня Родительская суббота — день, когда поминают умерших родителей и близких. Перед проповедью Священник сказал, что всем после службы надо взять с собой святую воду, поехать на кладбище и цветочком окропить этой водой могилы близких. И сделать чего-то там ещё — что именно Человек не понял. А потом была проповедь. Священник говорил долго и нудно. Об усопших, о погибших в бою, об умерших от болезни. И закончил словами:
— Дорогие братья и сёстры. В этот знаменательный день, в Родительскую субботу, нам разрешено помянуть в церкви даже тех усопших, которые покончили жизнь самоубийством по сумасшествию. Естественно только тех, у кого есть справка. Помолимся и о них братья и сёстры.
— Почему только об самоубийцах сумасшедших? — изумился Человек. — Разве милосердие и сострадание должно зависеть от наличия медицинской справки? Надо спросить у Священника.
И он остался.
Священник и Человек сидели недалеко от церкви на лавочке на краю кладбища под большим раскидистым кустом, сплошь усыпанным громадными лиловыми цветами, похожими на лилии. Из-за традиции сажать на могиле горную сосну или кипарис, кладбище скорее напоминало парк, и от него веяло покоем и вечностью. Именно ощущение вечности витало над могилами, и зашедший сюда особенно остро ощущал ту незыблимую истину, что всё, придя однажды в этот мир, уже не исчезает, а остаётся в нём навсегда, пусть и в ином измерении.
— Скажи, Священник, — спросил Человек в чёрной кожаной куртке, — почему в церкви можно молиться лишь за тех самоубийц, которые были сумасшедшими?
— Видишь ли, — Священник на секунду прервался, чтобы стряхнуть с рясы назойливого зелёного жука, — когда человек рождается, Бог даёт ему душу. Человек приходит в этот мир по воле Божьей и уйти может только по Его же воле. Если человек сам уходит из жизни, то это означает, что он ослушался воли Господа. И за это его ждёт Ад.
— Неужели всех? Ведь причины, побудившие к этому, бывают разные.
— Всех! Все без исключения, в Аду! Никому не дано право ослушаться Бога! Независимо от причин!
— Знаешь! — подумав, сказал Человек, — я знал одну девочку, дочь известного артиста. Он развёлся с женой, и по суду ребёнка оставили матери. У женщины же что-то случилось с психикой, и она возненавидела дочь. Она била её, морила голодом и всячески издевалась. Девочка терпела, сколько могла. А когда сил терпеть больше не стало — повесилась. Она тоже в Аду?
— Да! Она в Аду! — подтвердил Священник.
— Как же так? Ты говорил, что Бог, — это Любовь, Любовь и ещё раз Любовь. И что Его любовь к нам сильнее любви любого человека. Ни одна нормальная мать не отказалась бы от своей дочери за то, что та покончила жизнь самоубийством. И никогда бы не отправила её в Ад за то, что та не могла больше мучиться. По-твоему же получается, что Его любовь не только слабее любви матери, но… — Человек запнулся. — Что же это вообще тогда за любовь?
— Она ослушалась Бога. Как ты не понимаешь! ОНА ОСЛУШАЛАСЬ БОГА!
— Мне казалось, — зашипел Человек яростно, — что Бог, это прежде всего Добро, Сострадание и Милосердие. Это деспоты и диктаторы наказывают за то, что их ослушались. Так поступает Зло. Если она в Аду, то такой Бог не является ни Добром, ни Состраданием, ни Милосердием. Она умерла потому, что больше не было сил мучиться. Это слабость. А слабость заслуживает сострадания и помощи, а не наказания. Если Он отправил её в Ад, то такой Бог не заслуживает ни Любви, ни Уважения. Он жесток. И достоин Он только презрения.
— Опомнись! — всплеснул руками Священник. — Ты не должен судить Господа! Ты должен смиренно принимать Его волю! Какова бы она ни была. И молить Его о спасении своей души. А иначе ты попадёшь в Ад!
— Да лучше в Ад, чем к такому Богу, который мог отправить туда девочку только за то, что она не могла… не могла больше страдать.
— Знаешь! — взорвался Священник. — Если ты умрёшь раньше меня, я буду молиться, чтобы хотя бы во сне, увидеть тебя там, где ты будешь мучиться. И чтобы ты мне сказал: «Священник, я был не прав!»
На следующий день Человек в церковь не пришёл. Не пришёл он и на следующий день. А когда через два дня появился, то поставил свои свечи, сел ждать на лавку и не поздоровался со Священником, когда тот вошёл. Человек был зол. Был зол и Священник. И поэтому он полчаса копался в алтаре, демонстративно не замечая плачущую женщину, смиренно ожидавшую его у ступеней Царских Врат.
По всему было видно, что у женщины случилось нечто ужасное. Она стояла, казалось, даже не сгорбившаяся, а вся какая-то сломанная под навалившейся на неё невидимой тяжестью. Рыдания душили её, временами она вздрагивала и то и дело неистово мотала головой, как будто пыталась сбросить что-то липкое и удушливое, но это липкое и удушливое вцепилось в неё намертво.
Она простояла так полчаса, пока её глухие всхлипывания не достучались даже до совести Священника. Священник вышел, спустился по ступеням, поправил на груди большой серебряный крест и с видом человека, привыкшего выслушивать чужие горести, спросил:
— Что случилось?
Женщина подняла на него полные отчаяния и надежды глаза. И начала говорить дрожащим полным боли голосом.
— Моя дочь выбросилась из окна. Я знаю, что самоубийц отпевать запрещено. Но, может, она задохнулась. Может, вы помолитесь за неё. Может… ей будет хоть чуть-чуть… чуть-чуть легче.
Священник отшатнулся от неё как от прокажённой, судорожно перекрестившись.
— Я не могу. Нам нельзя.
Женщина в отчаянии рухнула на колени, вцепилась обеими руками в полы его рясы и, быстро быстро глотая слова, начала умолять:
— Я прошу вас… я прошу… вас, прошу, я умоляю. Ей очень надо… надо… очень.
— Я не могу. Нам запрещено! Запрещено! Понимаете?
Священник попытался вырвать полы рясы, но она вцепилась в них намертво.
Человек, наблюдавший за всем этим из своего угла, встал, неторопливо прошёл через всю церковь, остановился возле Священника и скрючившейся у его ног женщины и уставился ему в лицо немигающим взглядом. Он ничего не говорил. Просто стоял и смотрел. Священник не выдержал:
— Я не могу. Меня лишат сана.
— А мне казалось, что доброе дело только тогда доброе дело, когда человек его сделал бы, даже если за него полагалось бы наказание, а не награда. Просто потому, что так велит ему сердце.
— Я не могу. Меня выгонят, — повторил Священник.
Человек ещё секунду посмотрел ему в глаза, а потом сказал чётко и раздельно. И каждое его слово было подобно удару кнута.
— Твоя вера жестока. Прими моё презрение, Священник.
Человек плюнул служителю под ноги, развернулся и вышел.
Человек шёл через площадь пружинистой походкой фехтовальщика. Шёл быстро, стараясь побыстрее уйти от ставшего ему противным места. Он дошёл почти до середины площади, когда его окликнули. На крыльце, размахивая руками, стоял Священник и кричал:
— Вернись! Я отпою её! Только помоги мне в этом.
Привезли гроб. Зажгли свечи. Народу было немного — кроме матери не более трёх-четырёх человек. Священник начал читать молитвы. Не было больше трепета или страха в его сердце. Он молился так, как молился бы за свою дочь. Время и пространство ушли в сторону, и остались только молитва да биение его сердца.
На середине отпевания он о чём-то попросил Человека в чёрной кожаной куртке. Не получив требуемого, он, не оборачиваясь, попросил снова. И снова не получил ничего. Это сбило его с внутренней струны молитвы, и он раздражённо обернулся. Человек в куртке стоял на коленях ещё более бледный, чем покойница. Уловив взгляд Священника, он только и смог выдохнуть:
— Смотри… там, — и указал дрожащей рукой в сторону гроба.
Священник перевёл взгляд вслед за жестом руки, замер, побледнел сам и выронил кадило.
У гроба, видимые только им двоим, два Ангела бережно вынимали из него Душу. Лица Ангелов лучились счастьем, как у их детей, доставших из-под ёлки новогодний подарок. Из- под купола храма к основанию гроба бил широкий луч света. И по этому лучу, словно два белых лебедя, два Ангела понесли Душу вверх.
Когда отпевание закончилось, женщина никак не хотела уходить. Она всё стояла, что-то шепча про себя и время от времени судорожно вздрагивая.
Священник подошёл.
— Спасибо Вам! — всхлипывая, сказала она.
— Может быть ей теперь будет… хоть немного легче.
— Она в Раю, — не узнавая собственного голоса глухо сказал Священник.
Женщина вздрогнула.
— Я знаю… я знаю… Вы так говорите, чтобы утешить меня. Но… всё равно спасибо. За всё!
— Она в Раю, — снова глухо повторил Священник.
Женщина в ответ только отчаянно замотала головой, закрыла лицо руками и начала захлёбываться собственными рыданиями. Священник с силой развёл её руки, взял её лицо в ладони, поднял и сжал так, что она не смогла отвести от него взгляда.
— Она в Раю. Нам запрещено клясться. Но мне очень важно, чтобы вы не поверили, а точно знали… И поэтому я клянусь! Я клянусь всем, что мне дорого — ОНА В РАЮ!
Женщина шла через площадь. По лицу её непроизвольно струились слёзы. Стекая по щекам, они накапливались у уголков рта, который, вопреки этим солёным искоркам, улыбался тихой ясной улыбкой. Всё лицо её светилось каким- то неземным светом, неистово бьющим из неё ключом и одновременно удивительно кротким.
Дойдя почти до конца, она, сама не зная почему, вдруг обернулась. На крыльце церкви стояли двое и смотрели ей вслед — Человек в чёрной кожаной куртке и Священник.
Они смотрели ей вслед и оба знали, что что бы ни ожидало их в будущем, с ними навсегда останутся — Женщина, идущая через площадь со светящимся лицом, и два Ангела, уносящие Душу.
СЧЁТ
пять лет он увидел по телевизору акул. Немигающий зрачок глаза, белизну рядов кинжальных чуть кривых зубов, хищный стремительный рывок атаки и… кровь. И с тех пор по ночам стал приходить кошмар. Акула подплывала, смотрела немигающим глазом, на мгновение замирала, а затем следовал бросок разинутой пасти. И вода окрашивалась кровью. Его кровью.
Мать забыла, что такое спать по ночам. Она вскакивала на его крик, сгребала в объятия, гладила, покачиваясь из стороны в сторону, стараясь унять его плачь и дрожь. А потом подолгу сидела, держа за руку, иногда до утра, так как он боялся засыпать снова. Знаешь, сказал он ей однажды, если я буду плохим человеком и попаду в Ад, то я знаю каким он будет для меня. Там меня будут каждый день рвать акулы.
Мальчик вырос. Кошмар почти перестал терзать его и приходил всё реже и реже. Он почти забыл о нём. Но природа не терпит пустоты. И на место одного кошмара пришёл другой. Он влюбился. Обычный невзрачный тип в первую красавицу города.
Он боялся даже приблизиться к ней, но с постоянством монаха, приходящего на вечернюю молитву, приходил в подворотню напротив её дома и стоял там часами в надежде увидеть хотя бы силуэт. Приходил каждый день. И в дождь, и в снег, и в пургу. И не уходил, покуда не гас в её окне свет. А потом ещё полчаса. И даже, если шторы весь вечер были задёрнуты, он с мужеством спартанца оставался на посту.
Однажды в кругу товарищей он сказал, что готов отстрадать за неё все её несчастья и беды. Даже всю её грусть. За всю жизнь. Над ним посмеялись и забыли.
Но мир не без злых языков. В насмешку донесли его слова и до неё.
Был тёплый июльский вечер. Небо ещё сохраняло голубизну света, но первые звёзды уже начали заглядывать в этот мир. С летней террасы соседнего кафе нестерпимо заманчиво доносился аромат кофе. С его боевого поста в подворотне был виден целый кусок улицы, но сводчатое окно её комнаты заслонило для него весь мир.
Вдруг всё исчезло. Чьи-то тёплые ладошки вынырнули сзади и закрыли глаза. Внутри всё оборвалось и ухнуло. Он потерялся — никто и никогда в жизни не закрывал ему глаза.
Сзади, о ужас, посмеиваясь, стояла его мечта. Он был готов провалиться сквозь землю с отчаянием ребёнка, застигнутого на месте преступления. В её же глазах, наоборот, бегали озорные чёртики, и было видно, что всё это её очень забавляет.
— Подглядываешь?
Всё, о чём мечтал он в этот момент — это умереть на месте.
— Подглядываешь! Подглядываешь! — сама себе ответила она утвердительно. — Да ещё направо и налево трезвонишь, что готов отстрадать за меня все мои беды и горести. За всю мою жизнь. Все мужчины так говорят, чтобы произвести впечатление. Не так ли?
Он стоял совсем потерянный в этом мире с обречённостью приговорённого к смерти, думая лишь о том, чтобы казнь побыстрее закончилась. В этот момент порыв ветра снова занёс в подворотню аромат кофе. Её ноздри хищно раздулись.
— Мы так и будем здесь стоять? Или может угостишь кофе?
— Я… Я… — он начал заикаться. — Я… Угостишь?
— Ну если какие-то проблемы… — она по детски рассмеялась. — То могу я угостить?
А через шесть месяцев она вышла за него замуж. Первая красавица города за невзрачного типа. Все очень удивились.
Прошло шесть лет. Она шла вдоль витрины цветочной лавки, когда её неожиданно окликнули. На другой стороне улицы стояла и махала руками подруга детства. Подруга вышла замуж сразу после неё и уехала из города. Они не виделись почти шесть лет. Объятия, поцелуи — всё смешалось в пушистый клубок радости встречи. А потом они сидели на летней террасе кафе, сплошь увитой плющом и виноградом, и пили горячий, ароматный кофе по-турецки. Им было о чём рассказать друг другу. Дошла очередь и до мужей.
— Не жалеешь, что вышла замуж за того невзрачного типа? — спросила подруга.
— Нет! Не жалею, — ответила она.
— Ну, и каково тебе с ним?
Девушка задумалась, стараясь подобрать наиболее точное выражение. Потом, видимо, нашла, кивнула сама себе и сказала:
— Трудный случай.
— Что значит «трудный случай?» — не поняла подруга.
— Понимаешь, — сказала Девушка, — я никогда не могу принять душ одна. Если я разрешаю, он моет меня, а если нет, стоит и смотрит. Говорит, что обнажённая я прекрасна, и он не может насмотреться. И я никогда не могу сама вытереться полотенцем. Если я прихожу с работы, и он дома — мне ни разу не удалось самой снять с себя туфли, или надеть их, когда я ухожу утром. Если я читаю книгу или смотрю телевизор, он садится у моих ног, а если я разрешаю, садится сзади, обнимает меня и сидит так, даже если его тошнит от фильма, который я смотрю. А ещё, он ни разу не заснул на другом конце кровати. Он всегда спит так, чтобы даже во сне его рука касалась меня, как будто боится, что я куда-нибудь исчезну. Он может попросить меня надеть самое красивое платье, просто так, и я вынуждена целый день ходить по дому в вечернем туалете. Или, наоборот, приготовит ужин, зажжёт свечи, нальёт в бокалы вино, разденет меня, и я ужинаю обнажённой. А он почти ничего не ест, сидит и смотрит.
— И так все шесть лет?
— И так все шесть лет, — подтвердила Девушка.
— Действительно «трудный случай», — согласилась подруга. И обе задорно рассмеялись.
В конце лета шеф взял его в командировку на побережье Австралии. Принимающая сторона, зная пристрастие его босса к рыбной ловле, организовала на уикенд выход на двух лодках к рифам — половить причудливых обитателей океана. Он не любил ни рыбную ловлю, ни охоту и с удовольствием остался бы в гостинице. Ему было жалко божьих созданий, вынужденных задыхаться ради человеческого азарта, но его никто не спрашивал. Небо было ясным, а шкура океана вылизана штилем и прозрачна как стекло. Через два часа спиртное закончилось. А какая рыбалка без спиртного? Его, как единственного непьющего, оставили сторожить удочки, а остальная ватага на второй лодке ушла, шурша мотором, в сторону ближайшего бара за подкреплением. Стоило им только скрыться из глаз, как он тут же смотал снасти, дабы какая-нибудь глупая рыбёшка не клюнула на лёгкую наживу. Пусть себе плавают, решил он. Затем свернул рулоном брезентовую рыбацкую куртку, пристроил её себе под голову, поёрзал, пристраиваясь поудобнее, и, вперив взгляд в небо, позволил внутреннему взору унести себя к дорогому образу жены. Постепенно лёгкий солёный ветер и убаюкивающее покачивание океана сморили его, и явь его покинула, оставив во власти снов.
Проснулся он оттого, что ему приснился кошмар детства. Он выдернул себя из сна рывком, сев в лодке со смятой душой и ознобом в спине. Он нагнулся через борт, зачерпнул ладонью прохладную синеву, умыл лицо и подняв глаза увидел то, что надеялся не увидеть никогда в жизни. В тридцати метрах, в сторону лодки резал плоть океана нож треугольного плавника акулы.
В пяти метрах акула перестала грести хвостом и, пропланировав, на излёте ткнулась носом в борт лодки. От толчка лодка качнулась и вместе с лодкой качнулась от ужаса его душа. Акула была крупной — не менее четырёх метров — и уж точно более чем на полметра длиннее лодки. Перевернуть лодку ей ничего не стоило. Его шестое чувство безошибочно говорило ему, что будет дальше. Однако акула не нападала. Он понял почему, когда увидел ещё четыре плавника, подошедших со стороны океана. Стая была в сборе, а дичь загнана.
Хищницы долго кружили вокруг, видимо, нагуливая аппетит. Он закрыл глаза и начал готовиться к боли, к смерти. Поэтому момент удара он не увидел, а лишь почувствовал. Один борт навис над другим, и он начал падать в голубую бездну. Эти мгновения падения были самыми страшными в его жизни, так как он знал, что ожидает его там. Вода, поглотив его, сомкнула над ним свои челюсти. Оказавшись в воде, он поймал себя на мысли, что главное — не всплывать. Он боялся, что увидев небо, воля, висевшая на волоске, окончательно покинет его. А он хотел встретить боль и смерть достойно.
И тут он увидел акулий глаз. Точно такой, как в своём кошмарном сне. Потом глаз исчез, и мимо промелькнула серо-голубая тень. Несколько мгновений вокруг была лишь синева воды. Затем он различил что-то смутное, быстро приближающееся, потом, уже вблизи, чётко увидел акулью морду и получил страшный удар в грудь. Его перевернуло, он судорожно всплыл и начал глотать ртом воздух. На третьем глотке его снова ударило, закрутило, снова ударило, ещё раз, ещё и вдруг всё затихло. Потерянный в голубой бездне, не понимающий, где верх, где низ, он выпустил пузырёк воздуха, всплыл за ним и увидел, как уходят в сторону океана треугольные плавники акул. Он был цел. Они его не тронули.
Невдалеке, подобно дохлой рыбине, брюхом кверху покачивалась перевёрнутая лодка. Он кое-как взобрался на неё и распластался, раскинув руки и вперив взгляд в небо. В этой позе распятия его и нашли через полтора часа.
Когда он позвонил в дверь своего дома, то услышал быстрые торопливые шаги, и дверь распахнулась. Увидев выражение его лица, она ударилась о него как о стену, испугано вскрикнула и рванулась навстречу. Он же, переступив через порог, рухнул к её коленям, обхватил их кольцом своих рук и крепко-крепко прижал к себе, уткнувшись в них лбом.
Она теребила его голову, что-то в страхе спрашивала, но он ничего не слышал. Он так и стоял на коленях, сжав её колени в своих объятиях, прижавшись к ним лицом и то и дело целуя их.
Она смогла оторвать его от своих колен только через десять минут. Испуганная, помогла подняться, провела в спальню, усадила на край кровати, пододвинула стул, села напротив и дрожащим голосом скорее потребовала, чем попросила:
— Рассказывай!
И он начал рассказывать. Ровным спокойным голосом. И от этого спокойного голоса и того, о чём он говорил, веяло таким ужасом, что когда он закончил, она сидела с лицом белее, чем мел.
— Ты молился? Скажи, они оставили тебя потому, что ты молился? Молился? Да?
— Нет! Я не молился! — ответил он твёрдо.
— Но почему? Почему?
— Не знаю поймёшь ли ты… Но я всю жизнь считал, что за всё нужно платить. Бог был щедр ко мне. Я родился в городе, в котором родилась ты. И ты вышла за меня замуж. Я не молился потому, что подумал, что пришло время платить по счёту. И думал лишь о том, чтобы встретить смерть достойно. Чтобы достойно заплатить по счёту… ЗАТО, ЧТО У МЕНЯ БЫЛА… ТЫ!
И помолчав, добавил:
— Я никогда не мог себе даже представить, что существует такой Ужас… Но страшнее всего было сознание, что я никогда… никогда тебя больше не увижу.
Из его глаз потекли слёзы. Он пытался сдерживаться. До крови закусил губу. Но не выдержал, запрокинул назад голову и зарыдал. С закушенной губой. Абсолютно беззвучно.
Она подошла, заглянула сверху в его лицо, завела руку себе за спину, расстегнула молнию на платье, выскользнула из него, сбросила всё остальное, нагая обошла его, забралась под одеяло и позвала:
— Иди сюда.
А потом лежала, обняв его обеими руками, и то и дело целуя в ухо.
— Знаешь, — сказал он наконец, — я готов снова пройти через это… даже чтобы они меня разодрали… за каждую ночь, которую я провёл с тобой. Столько раз пройти, сколько было ночей у меня с тобой.
Она ничего не ответила. Только сжала его в своих объятиях крепко-крепко, — как только могла.
Проснулся он оттого, что его рука перестала чувствовать тепло её тела. Не открывая глаз, он поводил ею туда-сюда, но никого рядом не было. В страхе он открыл глаза и рывком сел на постели. У иконы в углу теплился огонёк лампады. В окно заглядывали звёзды и громадный диск луны, отчего вся комната была залита мягким лунным светом.
Она сидела с его стороны кровати, на стуле, обнажённая и в лунном свете была особенно прекрасна. В руке она держала небольшой прямоугольный листок бумаги и улыбалась.
— Ты что? — испуганно спросил он.
— Ничего. Просто решила посмотреть на тебя. Вот смотрю, — она продолжала улыбаться, — и не могу насмотреться.
И она засмеялась как-то по-детски радостно.
— Помнишь, ты сказал мне, что готов отстрадать за меня все мои несчастья, всю мою грусть и боль? За всю мою жизнь.
— Да, конечно, — не понимая, к чему она клонит, ответил он.
— Вот это, — она подняла бумажку, зажатую в руке, — я нашла вчера утром в почтовом ящике. И сначала не поняла, что это значит. Пока ты не вернулся и не рассказал, что с тобой случилось. На! Посмотри!
Это была небольшая открытка с изображением Ангела. У Ангела было детское лицо и озорные глаза. На обратной стороне был напечатан счёт. Таким, каким его подают в ресторанах. Наверху большими чёрными буквами так и было написано: «Счёт». В графе «Блюда» стояло: «За все несчастья любимой женщины». В графе «Цена» было напечатано слово: «Ад».
А поверх всего этого стоял большой, синий, жирный штамп: «ОПЛАЧЕНО».
ОТЕЦ
еловек пил шампанское за летним столиком кафе под открытым небом. Пил уже много дней, пытаясь хоть как-то заглушить боль и тоску, вцепившуюся в его душу. Он, наверное, так бы и провёл остаток дней, отведённых ему на жизнь у моря, если бы из черноты дум его не выдернули две девицы, продефилировавшие мимо. Девицы были явно лёгкого поведения. То, что прикрывало их попы, юбками назвать было никак нельзя. Зато они оставляли на виду длинные ноги во всей их полноте и даже частичку того, что на всеобщее обозрение выставлять, наверное, не следовало.
У одной волосы струились до середины спины чёрным, как смоль, водопадом. У другой — едва касались плеч и золотились ярче пшеничного поля по осени. У Златоволосой была обворожительная фигура. И удивительной красоты ноги. Но больше всего в ней поразило его не это, а необыкновенные сексуальность и чувственность, которые, видимо, достались ей от природы. Кроме того, несмотря на все издержки профессии, в ней угадывалось такое редкое качество, как женственность, также, наверное, доставшееся ей от природы. Человек хмыкнул, расплатился и направился следом.
Девицы бросили якорь недалече, выбрав местом для охоты небольшую скамейку напротив казино. Человек расположился позади на каменных ступенях небольшого одноэтажного дома. Судьба отвела ему немного времени. Через полчаса из казино вывалился клиент и выбрал, естественно, златоволосую. Человек этому нисколько не удивился.
Черноволосая осталась на скамье в гордом одиночестве. Человек потянул ещё немного, поднялся и притулился на злополучной скамейке рядышком.
— Привет, — как старой знакомой сказал он.
— Привет, — в тон ему отозвалась Черноволосая, пытаясь оценить взглядом кто перед ней: клиент или просто так, надуло ветром?
— Сколько стоит твоя подруга? За всю ночь. Целиком.
— Триста долларов.
Человек что-то прикинул в уме.
— Я готов заплатить сто долларов за день. Никакой постели. Просто за то, что она пообедает со мной, выпьет хорошего вина у моря и прогуляется перед закатом вдоль набережной. Мне очень тоскливо. И я просто хочу провести день с очень красивой женщиной.
— Я передам, — пообещала Черноволосая, стараясь никоим образом не выдать своего изумления.
Наутро он зашёл на рынок купить черешни. А выходя, случайно, боковым зрением уловил знакомую фигуру, длинные ноги и узкую полоску материи, которую её хозяйка, видимо, считала всё-таки юбкой. Он обернулся. В ворота рынка входила Черноволосая, держа за руку девочку лет пяти-шести. Ребёнок весело подпрыгивал, то и дело забегая вперёд и радостно заглядывая в лицо матери. Несколько мгновений, и толпа скрыла их от его глаз. А он всё никак не мог уйти и смотрел, смотрел им вслед.
На душе у него было мутно. А ещё очень грустно от того, что в жизни этих двоих не было мужчины, который мог бы о них заботиться. Так, как должно. Чтобы не пришлось Черноволосой зарабатывать на жизнь так. Себе и своей девочке.
На следующий вечер он застал обеих девиц лёгкого поведения за охотой на той же скамейке у казино. Черноволосая завидела его первой, радостно заулыбалась и толкнула подругу локтём в бок.
— Смотри. Это тот, о котором я тебе говорила.
Он подошёл, учтиво поздоровался и отозвал Златоволосую в сторону.
— Прости меня. Я виноват перед тобой. Мне было очень плохо, и я захотел, по слабости, провести день в обществе очень красивой женщины. Просто провести день в обществе очень красивой женщины. Я не покупаю женщин. Не хочу относиться к ним как к вещи. Поэтому прости меня, за то, что я чуть не поступил, как другие, и не попытался купить тебя. Словно вещь. На! Возьми! — он протянул ей триста долларов. — Просто так. Это подарок.
Затем повернулся к Черноволосой.
— Скажи, у тебя случайно нет дочери? Лет пяти-шести?
При упоминании о дочери Черноволосая вся расцвела.
— Есть. А что?
Человек порылся в карманах. Достал стодолларовую купюру и вложил в её ладонь.
— Возьми. Пожалуйста! Купи ей какой-нибудь подарок. От меня.
Потом он развернулся и пошёл прочь, провожаемый удивлёнными взглядами.
Через четыре дня он сидел за летним столиком любимого кафе, смакуя шампанское. Видимо, невесёлые думы роились у него в голове, потому как он не замечал ничего вокруг. И Черноволосую, шедшую мимо, заметил не сразу. Поймав его взгляд, она улыбнулась и приветливо помахала рукой. Он ответил на приветствие также взмахом руки, затем, поймав себя на какой-то мысли, отодвинул стул, встал и направился ей навстречу. Достал из кармана ещё одну купюру и, протягивая, попросил:
— Покатай дочку на водном мотоцикле. Пусть у ребёнка будет праздник.
И собрался было уходить, когда любопытство взяло вверх.
— Ты купила подарок? Какой?
— Нет! — Черноволосая смутилась. — Не получилось. Извини.
— Почему?
— Ну… она попросила купить ей… папу.
— Что купить? — не понял он.
— Папу, — повторила дрогнувшим голосом Черноволосая и отвернулась, чтобы он не видел как она вытирает навернувшиеся слёзы.
Человек задумался.
— Я пробуду здесь ещё девятнадцать дней, — наконец вымолвил он. — Затем уеду и никогда не смогу вернуться. Я мог бы провести их с твоей дочерью. Папой. Я не знаю — может, ей будет потом ещё больнее. Не знаю… тебе решать. Если надумаешь, — он назвал гостиницу. — Я буду ждать завтра утром в холле в десять часов.
В эту ночь он так и не смог заснуть. Ворочался с боку на бок, не находя покоя. А когда утром на час раньше срока спустился вниз, то ещё с лестницы увидел Черноволосую с дочкой.
Сердце ударило в висок с силой парового молота. Он не помнил, как оказался рядом, как взял девочку на руки.
В глазах ребёнка он увидел, что чувствует человек, когда дождался Чуда.
А потом были девятнадцать удивительных дней. Водные мотоциклы с залихватскими бурунами, волны за кормой, разноцветное мороженное, шарики, отпущенные в небо, и, конечно же, сказки по вечерам.
Отпущенные дни промелькнули мгновением, как и всё хорошее.
Когда пришло время прощаться, он поднял девочку на руки и заглянул в глаза.
— Моё время пришло. Мне пора уезжать. Навсегда. Прости… — из его глаз выскользнула и потекла по щеке слеза. — Но я рад, что в моей жизни была ты. Будь счастлива.
— Не плачь, — девочка маленькой ладошкой вытерла его слезу. — Не плачь! И я… не буду.
Когда девочка выросла, она нашла его. Точнее не его, а его могилу. Она не повторила судьбу своей матери, которую любила и никогда не осуждала. Она закончила институт, стала классным специалистом и очень красивой женщиной. Вышла замуж за человека, которого любила до конца жизни. Родила ему двоих детей. Двух замечательных ребят. Когда дети выросли, она отвезла их на небольшое кладбище. Показала могилу. И попросила, когда придёт её час, похоронить её рядом с отцом. Который был у неё целых девятнадцать счастливых дней.
МОНЕТКИ
«Он верит в чудеса — и чудеса происходят. Он убеждён, что мыслью способен преобразовать жизнь, — и жизнь постепенно становится иной. Он не сомневается в том, что встретит любовь, — и вот появляется любовь. Это знает каждый, наделённый даром верить».
Пауло Коэльоутник любовался закатом. Солнце только начало садиться к краю воды, но его диск уже приобрёл те багровые оттенки, на которые можно было смотреть. Море было объято таким всепоглощающим покоем, что, скорее, походило на озеро. Человек расположился у самой кромки воды, любуясь то солнцем, то тем, как ладонь моря гладит плоскую прибрежную гальку.
Сзади, на небольшом пригорке, восседал Ангел-хранитель. Красота природы, словно прибой, залила всё вокруг. Делать было абсолютно нечего, и Ангел позволил себе немного расслабиться, распушив крылья под бархатным веером предзакатного бриза.
Берег, на сколько хватало глаз, был пустынен, не было никого, за исключением супружеской пары, прогуливавшейся за руку вдоль морской пены. От них веяло любовью и счастьем — почище бриза, налетающего с простора моря. Ангел так залюбовался красотой природы, что своего собрата заметил не сразу. Тот шёл с другой стороны от пары вдоль набегающей пены и то и дело, в качестве тренировки, ловил солёные брызги кончиком широкого короткого копья.
Приблизившись, Пришедший учтиво поздоровался и сел рядом. Всё в нём выдавало опытного воина — и манера постановки ступни и вооружение. Тем более было странно видеть, что он может быть так далеко от своих подопечных. Что-то в этом было не так.
— Простите за любопытство… — только было начал Ангел, как Пришедший оборвал его на полуслове:
— Знаю! Знаю! Тебя удивляет, как я могу оставить без присмотра свою подопечную? Так я ей не нужен.
На своём веку Хранитель слышал многое. Но не такое! Вопрос, эмоции — всё всколыхнулось в нём, дыхание перехватило, и он, подавившись собственными словами, закашлялся. Пришедшему пришлось несколько раз стукнуть его по спине. Он снова попытался спросить и снова закашлялся. Вопрос так и повис в воздухе.
— Это долгая история, — понимающе кивнув, продолжил Пришедший, — но время у меня, пожалуй, есть.
Вместо предисловия Пришедший достал из-под кольчуги ладанку и открыл её. Внутри покоилась небольшая светящаяся монетка, сотканная из чего-то сияющего. Полыхнуло так, что путник удивлённо оглянулся, — не приближается ли гроза? Ладанку пришлось моментально захлопнуть.
— В тринадцать лет, — начал Пришедший, — он прочёл «Алые паруса» А.С. Грина и поверил, что существует любовь, которую стоит ждать. Если надо, — то всю жизнь. Он не был наивен и понимал, что в жизни чудес не бывает. Как сказал Сирано де Бержерак:
«Ведь только в сказках и найдёшь, Что вдруг сбываются несбыточные грёзы. Что принц-урод становиться хорош, А мы живём лишь в мире скучной прозы».И что одиночество до конца жизни — вот цена, которую ему, скорее всего, придётся заплатить за свою веру в чудеса. Но это его не смущало. Он знал цену и готов был платить по своим счетам. Его понятия о любви были сформированы тремя его самыми любимыми книгами: «Алыми парусами» А.С. Грина, «Сирано де Бержераком» Ростана и сказкой «Красавица и Чудовище». И он надеялся, что сможет полюбить так, как его герои. Что в его любви будет благородство Сирано де Бержерака. Что он сможет поставить на первое место не себя, а то, что будет нужно любимой женщине. А если любовь будет безответной, — то, что сердце не выдержит, и он умрёт, как Чудовище — от тоски.
Он ждал. Годы шли. Порой он отчаивался, но не сдавался. Но он не просто ждал. Он боролся, боролся с самим собой, старался совершенствовать себя, стать воином, чтобы хоть немного соответствовать той любви, которую надеялся встретить. А ещё он молился. Просил Бога послать ему любовь. Пусть даже безответную. Он так и говорил в своих молитвах: «Пусть даже безответную!» К сожалению, Вселенная не разбирает желаний и посылает так, как просят.
Ему было сорок, а ей двадцать семь, когда они встретились.
Когда она родилась, он уже ждал.
Она сделала свои первые шаги, — он ждал.
Она пошла с букетом цветов в школу, — он ждал.
Так получилось, что он ждал её столько, сколько она живёт на этом свете.
Не каждой женщине дано, чтобы именно её… именно её кто-то ждал с первого её вздоха.
Её — ждали!
Подобно булатному клинку любовь пронзила его сердце, а весь мир схлопнулся в одну точку, у которой было её имя. Поэтому её «НЕТ» прозвучало подобно приговору.
— Дайте мне хоть один шанс! Мне не нужна эта жизнь без вас! — взмолил он.
В ответ она лишь покачала головой, развернулась и ушла, звонко цокая каблучками по асфальту. Он не был её мечтой.
Мужчины часто говорят: «Я не могу без вас жить!» Но, как правило, это пустые слова. Для него эти слова пустыми не были.
— Как бы это тебе объяснить, — задумался Пришедший. — Это, как алые паруса, которых ждали всю жизнь. Вот они появились на горизонте и… проплыли мимо.
Он прожил без неё ещё два года. Два страшных года. Он просыпался в ужасе, что придётся прожить ещё целый день, пока сон не отправит в спасительную пустоту. Жизнь превратилась в сплошной сгусток боли.
Каждый день он приезжал в небольшую церковь, расположенную на маленьком клочке земли в самом центре города за зданием знаменитой библиотеки. Церковь ютилась среди трёх-четырёх крестов могил и цветов небольшого садика со скамейкой. В левом углу у самого иконостаса он зажигал огоньки свечей у иконы Божьей Матери и подолгу молился.
Он просил Господа послать ей очень счастливую судьбу. Судьбу, которой в обычной жизни не бывает. Судьбу, которая бывает лишь в сказках. Чтобы она засыпала счастливой и просыпалась счастливой. Жизнь полную чудес, яркости красок, страсти, любви, нежности, тепла. Чтобы не только ничего плохого, но даже, чтобы лёгкая грусть не коснулась её души. Он ни разу не попросил у Господа ничего для себя. Только для неё. Так, как нужно ей.
Для себя он не просил ничего, кроме милосердия. Под милосердием он понимал смерть и стирание души. Для него Рай представлялся домиком с любимой женщиной. Где бы он её встретил такой же молодой и прекрасной как при их встрече. И чтобы каждый день был, как первый. Чтобы он не мог насмотреться на неё и от касаний замирало и падало сердце.
Без неё же Рай ему стал не нужен. Без неё ему стали нужны лишь смерть и стирание души. Чтобы не быть без неё нигде. Ни здесь, ни Там. Но он не просто молил Бога о смерти. Он точно знал, что жить без неё не хочет и не сможет. Поэтому действовал с хладнокровием воина, встречающего свой конец. Доделал свои дела. Написал завещание. А потом купил себе могилу. На тихом загородном кладбище недалеко от Храма, одинокой сосны и с видом на лес. Поставил себе памятник. Такой, как хотел. И написал на нём то, что хотел написать для себя. На памятнике высечено:
«Прохожий стой! Здесь похоронен тот, Кто жизнь прожил вне всех житейских правил. Он музыкантом был, но не оставил нот. Он был философом, но книг он не оставил. Он астрономом был — средь звёздных далей Затерян навсегда его учёный след. Он был поэтом, но поэм не создал. Но жизнь свою он прожил как Поэт». Сирано де Бержерак«Простим жизни — она нищая перед нами!»
А.С. ГринА ещё вместе с художником вылил бронзовую статую Чудовища, умершего от тоски. Чудовище получилось смесью человека, собаки и дракона. Оно лежало, неестественно подвернув ногу, поверх самурайского меча, обняв руками аленький цветочек. Ему хотелось, чтобы оно также стояло на его могиле. Но сам ставить его не стал. Поставят, если сочтут нужным, решил он.
А затем попросил могильщиков вырыть могилу.
— У вас кто-то умер? — спросили могильщики.
— Нет. Человек ещё жив.
— Этого нельзя делать, — наперебой запротестовали могильщики. — Нельзя рыть могилу живому! Это плохая примета!
— Не волнуйтесь. Всё честно. Это моя могила. А плохая примета — как раз то, что мне нужно.
И сам отследил, чтобы вырыли её глубоко и тщательно. И заглянул на дно своей могилы, прежде чем её засыпали песком.
За него пытались бороться. Свозили во Францию. Показали Париж. И океан со скалами, уходящими в море. Он пожил у голубой бездны, попил в кафе на набережной, яблочный сидр, полюбовался черепичными крышами домов, покормил с рук хлебом наглых чаек и бакланов, но через две недели сбежал. А когда его удивлённо спросили: «Разве тебе не понравилось?», то ответил не задумываясь: «Мне не нужен ни один день, который я прожил без неё!»
Через год, в канун её отказа, он начал задыхаться. Есть такие слова: «Я не могу дышать без тебя». Теперь он знал им цену. Пришлось лечь на месяц в больницу — под капельницу. Дышать его научили. Жить — нет.
Он считал своё сердце гнилым. За то, что оно не разорвалось. И когда понял, что оно не встанет — выстрел и картечь сделали то, что не смогло сделать сердце.
Умер он на своей могиле. В свой день рождения. Положил на памятник свои любимые книжки: «Алые паруса», «Сирано де Бержерак» и «Красавица и Чудовище».
— Вы были мне друзьями всю мою жизнь, — обратился он к ним. — Побудьте со мной и в этот час!
Затем попросил Господа о двух вещах: чтобы судьба любимой женщины была счастливой и чтобы там, в Аду, его болью Тёмные не могли питаться. И ушёл в верхние слои Тьмы — в Пустоту.
Пустота — страшная смесь простора с теснотой гроба. Полное ощущение тесного, сжатого, ограниченного пространства. Ни звёзд, ни света, ни звука. Ничего! Только боль и отчаяние, что он никогда больше не увидит её улыбки.
Но, даже задыхаясь в этой тягучей, липкой, сжатой бесконечности, он пытался свою боль и отчаяние превратить в свет для неё. Он так хотел бы оплатить её судьбу. Но чем? Он понимал, что не может положить к ногам Господа свои добрые дела. Он их делал не для Бога. Он их делал для себя. Потому, что сердце сжималось болью и состраданием. И он повторил бы их снова — даже если Бога не было бы. Их он положить от чистого сердца не мог.
Однажды любовь, боль, страдание переполнили его и стали невыносимыми. Вдруг он почувствовал, как сердце ударило — гулко, подобно молоту по наковальне. Раздался звон и из груди выпала маленькая светящаяся монетка. Снова боль, снова удар — и снова выпала монетка.
Умирала Душа долго. Очень долго. И очень мучительно. Но однажды сон накрыл Душу спасительным покрывалом. Она заснула и больше не проснулась.
И послал Господь за ней четвёрку боевых Ангелов из специальной гарроты разведчиков. Пришёл проводить их в путь и его Ангел-хранитель. Возглавлял четвёрку сам командир гарроты — неприметный Ангел с седыми крыльями. Когда он скинул одежды, чтобы облачиться в латы — стал виден ужасный шрам кое как сросшийся через всю спину. Этот шрам так поразил Ангела-хранителя, что он не выдержал, отозвал одного из крадущихся и учтиво поинтересовался:
— Я слышал, что раны на крыльях полученные вами во Тьме зарастают седым пером. Но у Ангелов не бывает шрамов!
— Это так, — кивнул крадущийся в сторону командира. — Он первым начал спускаться во Тьму. Однажды в верхних слоях Сумрака он столкнулся с самим Князем Тьмы. С того боя и носит он этот шрам. Но и эта тварь потеряла левый глаз и левую ступню. Глаз вырос. Только зрачок стал не чёрным, а зелёным. И он, как ты знаешь, кривит. А вот ступня так и не заросла. Вместо неё выродилось знаменитое копыто. Такие дела.
Крадущиеся скинули одежды и накрыли тела маскировочным туманом. Поверх закрепили латы и ещё один маскировочный туман поверх крыльев. Теперь издалека их можно было принять за демонов. Затем нацепили оружие, тщательно закрепив его. Последними надели чёрные кривые мечи со смещённым к жалу центром тяжести. Во Тьме честных поединков не бывает. Ни один демон не решится напасть на крадущегося в одиночку. Наваливались всегда сворой и неожиданно. Начиналась куча-мала. Поэтому мечи закрепляли на правом бедре у самой кисти. Так, чтобы меч можно было вытащить обратным хватом даже в самой жуткой давке. В отличие от ятаганов, мечи крадущихся изогнуты вперёд. Ими можно и резать в тесноте свалки, и рубить в открытом бою.
Группа попрыгала, чтобы убедиться, что ничто не звенит и ушла в сторону Сумрака.
Вернулись лишь к вечеру. Без происшествий. Клинки не покинули ножен.
Тщательно завёрнутую в маскировочный плащ Душу положили перед Господом. Откинули края. Мёртвая Душа лежала вся вытянувшись с протянутой к Господу правой рукой. Из сжатого кулака что-то сверкало. Когда разжали пальцы так брызнуло светом, что многие от неожиданности прикрыли глаза ладонью. В кулаке были зажаты несколько полыхающих светом монеток, выкованных в Пустоте из любви, боли, отчаяния и благородства. Душа как бы протягивала Господу эти монетки за счастливую судьбу своей возлюбленной.
— Ты же знаешь, — Господь не торгуется и не заключает сделок. Но эти монетки, выкованные им во Мраке, — абсолютно чистые, потому что в них нет ничего для себя… даже Надежды, — оказались обязательны к приёму даже для Него!
И, помолчав. Ангел добавил:
— Сказки и Чудеса всё-таки иногда случаются. Если в них верить… и если за них бороться!
Заходило солнце. Путник любовался закатом. А над ним, на краю небольшого обрыва сидели два Ангела-Хранителя. В лучах заходящего солнца невидимо для человеческого глаза блестели латы, и сизые огоньки играли на воронёной стали коротких кривых мечей. Ангелы смотрели на море, на багровый диск солнца, ложащийся спать под одеяло воды, и… на Девушку, которой Ангел-Хранитель был не нужен.
От автора
Закончить эту сказку и всю книгу я хотел бы несколькими словами. Эта история не выдумана. В ней всё — правда. Я знал этого человека, который из своей любви, отчаяния, боли и благородства выковал такие монетки и положил их за судьбу любимой женщины к стопам Господа. Если Бога нет — то положены они были в пустоту. Но положены они были! За её судьбу и судьбу её маленькой дочери. Я очень надеюсь, что Бог есть, и что монетки были приняты.


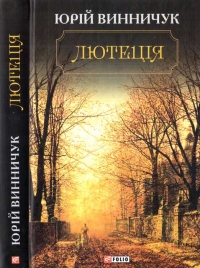
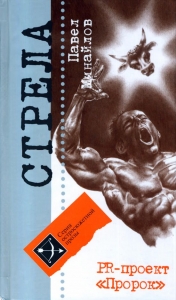





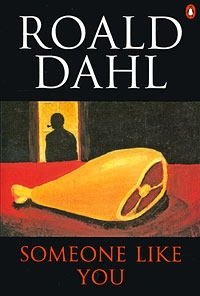




Комментарии к книге «Сказки человека, который дружил с драконом», Дмитрий Георгиевич Ефимов
Всего 0 комментариев