АЛЬФОНСАС БЕЛЯУСКАС Спокойные времена РОМАН
Часть первая ОСЕННИЕ ДИАЛОГИ
Такие были обстоятельства в лета благоденствия…
Повесть о деяниях народа литовского в старину, написана Иоанном Эйнорием лета 1850
Симонас ДаукантасГЛАВА ПЕРВАЯ
Это было как во сне, но в то же время и наяву; это было явственней, чем во сне: человек в комнате, ибо Глуоснис отчетливо ощутил, как он открыл дверь и вошел, даже произнес: «Wash»[1]. Он не кричал: «Зарежу!» — как только что Глуоснису снилось (а может, просто почудилось сквозь сон), он вымолвил совершенно четким мужским голосом wash[2], и это быстрей, чем любые логические рассуждения, вернуло к реальности: стирать? Сейчас? Глуоснис единым рывком скинул с себя одеяло и сел — даже не на кровати, а на самом ее краю, свесил ноги вниз; пальцы машинально нажали кнопку выключателя лампы.
— Wash… — расслышал еще отчетливей и увидел этого человека: он стоял в дверях, плотно сжав губы, на которых как бы навек застыла вычеканенная неприязненная улыбка; широкие уши, смахивающие на бурые листья водяных растений, утопали в угольно-черных, — а от желтого света лампы — даже фиолетовых кудрях; выглядел он как кустарной работы статуя уроженца здешних мест, вроде тех, что Глуоснис видел не то в Лувре, не то еще где-то; даже глаза были знакомые и поблескивали странно злым блеском, от которого у Глуосниса мурашки пошли по спине; мелькнуло недоброе предчувствие.
— Нечего мне стирать, — проговорил Глуоснис, окончательно очнувшись от сна (да какой там, к чертям собачьим, сон, если даже в полночь тридцать выше нуля, да еще такие сновидения) и готовый дать отпор. — Как вы сюда попали?
Он помнил, что заперся с вечера и еще проверил, хорошо ли; а человек тут как тут.
«Отпер? Отмычкой? Или кто-нибудь дал ключ? Да, в этой стране…»
— Вы просили, сэр.
— Я? Просил?
— Вы сказали: «I want to have my linen washed»[3].
— My linen?[4]
— Да. Я стираю хорошо.
— Взял бы да постирал вот это… — Глуоснис кивком указал на белье и даже сморщил нос, точно почуяв что-то неприятное. — Чистотой и чрезмерной гигиеничностью ваша гостиница, честно говоря, не блещет. Даже можно сказать: вы тут основательно погрязли… Как и многое вокруг…
Это, конечно, было неприлично — высказываться в таком роде о стране, где, по крайней мере до сих пор (а находился он здесь уже вторую неделю), как будто ничего дурного не встречал по отношению к себе (кроме мелочей, но где их нет) и куда он прямо-таки рвался, хотя его и предупреждали: тамошние обычаи могут показаться странноватыми («А чего мне надо… журналисту?..»), с кормежкой определенно скверно («А местные что грызут?» — «Ха, местные!.. У них желудки…»), а перед отъездом изволь сделать прививки чуть не от всех известных медицине заразных болезней. Однако и удержаться было нелегко. Он горько улыбнулся.
«А на что ты надеялся? — вздохнул он. — На «Хилтон-отель»? Люкс с бассейном? Баней? Ха-а!.. Зато никаких юбилеев… ничего…»
…«Прошу прощения, мы звоним из Государственного архива…»
«Слушаю…»
«Добрый день! Мы тут по поводу вашего личного архива…»
«По поводу чего? Какого еще…»
«Личного… того, что у вас дома… По действующему законодательству, только мы одни уполномочены…»
«Но ведь я еще жив!..»
«Простите великодушно, умершим мы не звоним… Хотя, с исторической точки зрения, согласитесь, все относительно…»
«Чего вы хотите? Конкретно… Я, признаться, на чемоданах… самолет ждать не будет…»
«Что-то в этом роде мы слышали… Поэтому и поспешили установить с вами контакт… Тем более что в пути будет время подумать: что именно без особого ущерба для своего творчества и быта вы можете отдать… то есть передать на вечное сохранение…»
«Кому, кому?»
«Архиву, да будет вам известно. Истории… Все мы, увы, не вечны, а люди вашего поколения конечно же изнашиваются быстрее, чем другие… И поэтому…»
«Изнашиваются? Как машина?.. Или обувь?.. Или…»
«…Поэтому, по поручению нашего учреждения, я и прошу вас подумать: что именно без ущерба для своего творчества… то есть, вы понимаете, какие… отражающие лично биографическую, общественно-политическую или литературно-художественную деятельность документы, письма, сочинения и так далее… вы могли бы без лишних колебаний передать в паше ведение — ео ipso[5] государству… как нынче принято говорить — безвозмездно и на вечное хранение… Поскольку по действующему законодательству лишь мы одни имеем право…»
«Вы одни? А я сам?»
«Это бессмысленные препирательства, правда… Нам поручено, поскольку мы специалисты… Вы же понимаете, в ваши годы… то есть… когда человеку пятьдесят, то… в наш век инфарктов-инсультов…»
«Спасибо, что напомнили…» — Глуоснис почувствовал, что краснеет.
«Почин есть. Уже… — подумал он, зачем-то поглядев на стену: там, словно запутавшись в упавшем из окна желтом осеннем лучике, сучил мохнатыми ногами паук. — Юбилей начался…»
«Спасибо, спасибо… — повторил он. — Без вас я бы просто пропал…»
«Да что вы!.. Это же наша работа, а по действующему законодательству, вы это знаете даже лучше нас…»
«Вы-то кто сами будете?»
«Я? Служащий… Архивный клерк, так сказать… Ну, ответственный за… но когда… Когда же, с вашего разрешения, мы могли бы встретиться? Видите ли, нам бы надо по этому вопросу, покамест обговоренному лишь предварительно, побеседовать конкретно и по-деловому… Как-нибудь… конечно, по возвращении из вашей заграничной поездки, я бы мог наведаться, и мы бы с вами без спешки, с полным сознанием всей важности этого акта…»
«Но… — Глуоснис старался не раздражаться, хотя это удавалось ему все труднее; разговор — за неполных два часа до самолета — бесил его все больше; лучше кончить сразу, одним ударом. — Я вовсе не собираюсь умирать!»
«А кто собирается, скажите? — по проводам прозмеилась едва слышная ирония, но, возможно, то была лишь настойчивость добросовестного службиста. — Никто не собирается, смею вас заверить. И в то же время мы все прекрасно знаем, что никто из нас не будет жить вечно… Тем более в такой путаный век, когда каждый день, а можно сказать, даже каждый час или минута достается нам как подарок судьбы и когда…»
«Вы очень красочно говорите, но… некогда мне, очень».
«Значит, когда?..»
«После дождика в четверг… вот когда!»
Он с грохотом бросил трубку и сразу взглянул на дверь. Там, склонив набок желтую, точно подсолнух, голову, стояла секретарша Кристе.
«Что еще?» — сдержанно спросил он.
«Машина ждет…» — сказала она и, будто не решаясь что-то произнести, посмотрела сперва на телефон, потом — на часики, висящие на тонкой, словно ниточка, серебряной цепочке у нее на груди; она смотрела на них, держа их на ладони, будто лягушонка.
«Ну, ну? Из дома?..»
«ЭЛЬТА…»[6]
«Зачем?»
«Хочет зайти корреспондент… Гарункштис…»
«После дождика в четверг!..»
«Все насчет юбилея, товарищ редактор…»
«Или в пятницу… или в субботу… Когда делать нечего…»
«Ну что вы!..»
«Ладно! Что тебе привезти из теплых краев? Тигра? Крокодильчика?»
«Лучше всего конфеты…»
«Будет сделано!»
За спиной у Кристе уже маячил шофер…
…К черту! Еле уснул в эту проклятую жару, которая выжимает из тебя пот, точно сок из лимона (если еще осталось хоть сколько-нибудь этого сока), а тут «wash». И эти воспоминания… сны… эти «зарежу!»… И юбилеи… буффонада, игрища, от которых, как от заразы, он бежал аж сюда…
Даже подумал, не снится ли ему все, — нет, где там, ишь как больно себя ущипнул, нет, не спит, и это не сон, хотя в голове и муть, перед глазами рябит, в ушах гулкий шум; что за город, жарища, что за дрожащее и клокочущее, словно снятый исполинскими руками прямо с солнца котел, вечно пульсирующее, днем и ночью бодрствующее, трепещущее, в миллионы глоток ревущее море детей, стариков, мужчин, в буйном реве которого не расслышать ни единого женского голоса — женщины не выглядывают на улицу, даже закутанные в покрывала, кроме разве старух, древних и разъеденных коростой, как та самая Суша-ханум, которая попалась ему на глаза возле гостиницы, — и это сразу, как только он, сойдя с самолета, оглушенный зноем и путешествием (пятнадцать часов в воздухе), сел в машину и с грехом пополам — через кордоны вооруженных желтыми бамбуковыми дубинками солдат, через кучи серых детишек с раздутыми животами-барабанами, через полчища невероятно тощих длинноногих собак с облезлыми задами, мулов со стертыми в кровь боками, но зато с умными, даже, пожалуй, насмешливыми глазами, сквозь необозримые, бескрайние толпы прокаленных наподобие самого бамбука местных жителей с трескуче тощими плечами (мужчин, мужчин, мужчин!) — начал пробираться вперед, словно на лодке плыл через камыши на этом разболтанном, мятом и основательно тронутом ржой (тут было не только жарко, но и сыро, в этой азиатской бане на море-океане) «форде» выпуска сорокового года, будто на некоем желтом, источенном солью корабле, борта которого беспрестанно подвергались щупанью, тыканью тысяч коричневых, сухих, как щепки, пальцев (здешний народ имеет привычку все щупать) и ударам многочисленных обгонявших одинокий автомобиль велорикш; стены колясок, точно лица проказой, были покрыты вырезками из журналов…
«Суша-ханум! Суша-ханум!..» — вдруг услышал он сквозь весь этот хаос криков, красок, зноя, испарений изнемогающей, блестящей от пота, голой, пышущей толпы; «Суша-ханум!..» — сквозь все удушливые, хватающие за горло, выхаркиваемые, выплевываемые, изрыгаемые запахи дыма, масла, бензина; их дряхлый автомобильчик наконец остановился, и Глуоснис еле-еле смог толкнуть дверцу; машину густо облепили детишки и взрослые; все сухонькие и все легонькие, как финиковые черешки, и все (вот ужас: все!) протягивали к нему костлявые руки: протягивали, растопырив красные ладони — точно цветные листья диковинных растений, — и орали на гортанном, неприятном языке: бакшиш бакшиш бакшиш; выделялось английское «сэр», но и оно выговаривалось с непривычным скрежетом и присвистом, словно исходило не из горла, а из самых глубоких недр чрева; Глуоснис снова захлопнул дверцу.
«Ну, бродяга… — улыбнулся он про себя, а может, просто подумал не без насмешки. — Экзотики захотелось? Что ж, получай! Радуйся, радуйся! Улыбайся!
И радуюсь, и улыбаюсь! — немедленно огрызнулся. — Рад до глубины души! Здесь не будет томительного ожидания — все ясно, хотя в то же время и не ясно, не будет предъюбилейного угара, который способен отравить целых две-три недели и после того долго держится в клетках мозга, угнетая их и постепенно, исподволь омертвляя; не будет и того, внезапно вспыхивающего чувства, когда все еще на что-то надеешься, начинаешь вдруг надеяться, хотя и не сознаешь, на что — то ли на чудо, то ли… кто его знает…»
…Глуоснис молча вперил назойливый, выжидающий взгляд в Даубараса.
Холодно-любезно улыбаясь, медленным, но точным, уверенным движением тот открыл светло-желтый портфель-дипломат», который держал на коленях, достал оттуда довольно пухлую, красную, перевязанную зеленой нейлоновой тесьмой папку и, словно раздумывая, что с ней делать, положил на ладонь левой руки и, продолжая пристально глядеть, медленным хозяйским движением осторожно и постепенно приподнял: так обращаются лишь с особо ценными предметами.
Как и положено в подобной ситуации, Глуоснис (редактор!) тоже не спеша проследил взглядом за этой папкой от портфеля до угла стола, куда Даубарас поместил ее, точно бьющийся предмет; тяжелая жилистая рука Даубараса припаянной чугунной глыбой так и осталась лежать на красной пластмассовой корочке.
«Какие мы все одинаковые!.. — подумал Глуоснис, глядя на прилипшую к папке руку Даубараса. — И пробующие свои силы школьники, и завершающие свою карьеру (только как знать, завершающие ли) претенденты на бессмертие… эти, пожалуй, еще упорнее… И чего ему, скажите на милость, дрожать… такому большому начальнику?..»
А рука дрожала — эта тяжелая, точно чугунная глыба, казалось бы созданная лишь для властных повелевающих жестов, подернутая рыжевато-бесцветными волосками рука, которую лучше бы спрятать под стол, чем нахально демонстрировать, да еще кому — Глуоснису; но Даубарас по-прежнему держал ее, крепко прижимал ладонью папку, точно дверцу клетки, за которой, сгорая от желания вырваться и обрести свободу, металась и билась дорогая, не виданная в этих краях птица: поднимешь ладонь — упорхнет; дрожала едва заметно, даже едва ощутимо, но так, что Глуоснис — не редактор, а пишущий сам — это чувствовал как электрический ток; в самом деле, все мы одинаковы…
«Только не смейся… — сказал Даубарас и сам ухмыльнулся, точно кого-то (вдруг самого себя) вышучивая. — И ознакомься незамедлительно. Тут мое мнение по этому самому вопросу… И кое-каким еще. Помнишь, мы с тобой говорили?..»
«Когда?..» — подкатило к горлу, но Глуоснис промолчал. Он вспомнил.
«Памятник народу… — выплыло как из тумана, сквозь мутную дымку лет, в которой колыхались такие же позабытые, подернутые пеленой лица… Книга должна быть памятником народу…»
И еще: «Обожди… услышишь и о Даубарасе… Как только позволят условия и как только товарищ… э… товарищ наконец поймет, что художественное творчество некоего Даубараса важнее, чем…»
А это когда? Эх, да разве имеет значение, когда… В давно забытое время… доисторическое…
«Это низость!..» — выкрикнул Глуоснис, чуть не срываясь на визг. Тогда, в это давно забытое, даже доисторическое время… И «это ни-зость!..» смутным вздохом повторилось спустя много лет в служебном кабинете редактора Глуосниса, когда Даубарас, излучая силу и уверенность, явился с этой толстенной красной папкой, обвязанной зеленой нейлоновой тесьмой; возможно, Глуоснис даже произнес «это ни-зость!» вслух, громко — во всяком случае, ответ Даубараса он слышал вполне отчетливо:
«Если мы всегда будем ломать голову над тем, что низко и что возвышенно… И если только это будет составлять основу наших надежд и практических стремлений…»
«А что будет составлять? Что?» — чуть не выкрикнул Глуоснис, но Даубарас уже поднялся — тогда, — оставив на полу раскиданные бумаги; в трубах выла, шумела вода (забудь, забудь, забудь); это было давно, уже после войны и даже после всего, как любил говаривать Даубарас; вот теперь он здесь, а то, что, возможно, было лишь попыткой… или даже угрозой этакому нерасторопному и бесталанному Глуоснису… этому выскочке… нынче… нынче… когда Глуоснис, похоже, и сам понял…
Понял? А что? То, что он — пшик? (Неужели?) То есть то, чем жил столько лет… все мечты о своей главной (может, самой главной за всю жизнь) книге, в которой романтические порывы юности будут наконец подняты на такую высоту современности, с которой… Ах, лучше помолчать! Лучше уж тебе, старик, помолчать, потому что в жизни, кажется, все же была допущена ошибка… но вот где?.. Какая?..
«Я слышал, мне говорили… — он кивнул, будто избегая думать, думать о том, что его страшило. — Будем читать…»
«Ты, ты сам?..»
«И я… Как все… и как всех…»
«Все-таки, может, как меня?.. Как Даубараса!.. Своего старого знакомца Даубараса… не откладывая в долгий ящик…»
«Да, да, конечно!.. Только вот… уезжаю…»
«Разве я что говорю?..»
«Это о чем? О поездке?»
«Именно… Езжай».
«А тогда о чем речь, товарищ Даубарас?..»
«О том: когда тебе срочно требовалось узнать мое мнение я тоже… не откладывая… твой роман… этот самый…»
Глуоснис почувствовал, как его захлестнуло горячей волной.
Мнение? Мне требовалось? Мне? Позарез?.. Твое, Даубарас, мнение?.. Неужели там, в Ванагай?..
Сглотнул, промолчал. Он был уже не тот, не прежний Глуоснис, бедняга Глуоснис, которого можно было шпынять (или это просто кажется сегодня, что можно было), и Даубарас не тот (хотя все еще его начальник, а уже не тот), несколько грузноватый и раздавшийся, развалился в кресле напротив; и даже рука — эти малость по-стариковски (да, да, Даубарас) подрагивающие пальцы — была убрана с папки; кое-что в мире сем все же изменилось. И прежде всего — люди, неужели Даубарас этого не чувствовал?
«Прочитаем, и как можно внимательней!.. — повторил он, встал и зачем-то как бы свысока (а ведь отлично знал, что так обращаться с начальством не принято) довольно безучастно скользнул взглядом по лицу Даубараса, точно щитом, прикрытому улыбкой. — Сегодня же передаю в отдел…»
«Ну как? — крикнул Даубарас еще от двери, снова заглянув пару дней спустя. — Когда печатаем?»
«Не знаю… Товарищ Юодишюс еще со мной своим мнением…»
«А со мной уже!.. — Даубарас грузно бухнулся в кресло; желтый «дипломат» сразу очутился у него на коленях, накрыв две острые, идеально отутюженные складки брюк, — он был в сером английском костюме. — Свинья!..»
«Кто это?» — Глуоснис поднял глаза.
«Юодишюс твой, вот кто! Я бы такого… с позволения сказать, деятеля… А ты почему не решаешь? Почему не читаешь? Сам?»
«Сказал: собираюсь в поездку… Завтра еду в полчетвертого».
«Вот как!.. — Даубарас зачем-то задрал подбородок. — В поездку?.. Все мы куда-нибудь да собираемся, но работу свою делаем. Свою прямую работу, Глуоснис».
«Ладно, ладно… понял… Когда подать заявление?..»
«Дурак! Лучше призови к порядку своих юодишюсов! Чтобы они знали, за что зарплату получают. И с кем имеют дело… Ведь если мы позволим каждому неоперившемуся птенчику совать свой мокрый нос в то, что нам дорого… попирать священный алтарь творчества… тогда нам с тобой, Глуоснис…»
«Нам с тобой?» И мне тоже? Нет. Все погибло — для меня… Хотя я писал, писал, писал — и вечерами, после службы, и по утрам, перед уходом на службу, писал по ночам, когда другие, мирно обняв своих пышненьких женушек (или по крайней мере пуховые подушки), спали спокойным сном и смотрели весьма обывательские сновидения; я писал в выходные, когда они ездили на рыбалку, на охоту или просто в гости к родне или бывшим однокашникам из своей деревни, — и конечно же писал по воскресеньям, когда наконец умолкали телефоны всех учреждений и когда те, другие, собирались за уютным дружеским столом и, попивая пиво, делились впечатлениями после своих рыбалок, охот, спортивных соревнований, вылазок; писал в пути и дома, даже на заседаниях, на собраниях — в блокнотах, на отдельных листках, даже на учрежденческих бланках казенными шариковыми ручками… И верил, я всегда верил: то будет книга, которая наконец меня… такого, в общем, невзрачного, серого… чьим способностям как будто даже дома не слишком радуются («Все написанное тобой до сих пор… мягко выражаясь…»)… О молодежи, да, напишу о молодежи — о чем же еще, есть ли что важнее этой темы? Писал… писал, писал, покуда… Покуда жизнь — опять-таки, в который уже раз — не гасила мои самые благородные порывы и всю мою патетику, оставляя лишь реальное бытие — лишь то, что имеется в повседневности, — только это, бедняга ты мой Глуоснис, только это… Ибо если у тебя на глазах, Глуоснис… в твоем собственном доме… такое…»
Он вздрогнул — хотя и не от мыслей о доме, откуда — он знал, знал, знал! — снова должен был уехать, — от этого бессилия, пусть тайком и угадываемого, но тем не менее заново изнуряющего все его нутро знобящим ожиданием, уехать хоть ненадолго, сбежать — и даже, быть может, больше, чем от предъюбилейного дурмана (в конце концов, все здесь немыслимо переплелось и перепуталось), — побыть на расстоянии хотя бы до тех пор, когда уймется вся эта лихорадка (какие у нее, у Эмы, были глаза… там… на кухне!.. Какие страшные!.. Глаза и слова… целую ночь… Вбежал и заперся… а то глаза… это берущее за горло «зарежу!..» — о-ох!..), пока он все обдумает — один, без каких бы то ни было помех, вдали от осточертевшей будничной суеты… Вздрогнул, ибо ощутил, что кто-то тронул его за плечо, чья-то горячая рука, — и затрясся, словно в самом деле его щекотнули ножом: ах да — окно, забыл закрыть…
…Бакшиш бакшиш бакшиш — в машинное окно, как пчелы, вылетевши из летка, вмиг ворвались десятки рук, фисташково-розовых, с растопыренными ладонями: бакшиш бакшиш бакшиш; Глуоснис съежился и подался назад, упершись левым плечом в шофера.
— Don’t give! — крикнул тот на ломаном английском языке — Don’t give, sir. It is dangerous![7]
Глуоснис не понял, почему опасно бросить горстку мелочи в эти протянутые ладони — хоть и не в каждую. Шофер уже криком кричал, обращаясь к нему, — встретивший Глуосниса от имени туристской фирмы (таковая уже действовала в этом городе) пожилой, седеющий и, как ни странно, тучноватый шофер, знавший с дюжину английских слов, главными из которых в данный момент были «don’t give» и «it’s dangerous». Глуоснис непроизвольно убрал руку с монеткой.
— Суша-ханум, Суша-ханум!.. — задребезжал чей-то пронзительный, гортанный голос, способный напугать кого угодно, и Глуоснис увидел ее — страшную старуху, которая прямо-таки выхаркнула ему в лицо только что услышанное слово; она к тому же простерла к Глуоснису обе руки — с облезшей, точно вытравленной кислотой кожей; руки были сплошь покрыты язвами.
— Му children! Give back my children!.. Give back!..[8]
Откровенно говоря, он заметил ее слишком поздно — когда старуха, точно привидение из детской сказки, выросла прямо перед ним — и тотчас же отвернулся, охваченный настоящим детским страхом; по спине, в точности как в детские годы, поползли мурашки.
— Вон! Вон! — закричал он по-литовски и сам услышал, как клацнули зубы; руки сами закрыли лицо, а плечи сгорбились, точно их сжали; ничего более отталкивающего, так близко, он еще… как будто не… Нет, нет, не видывал, бог миловал, хотя кое-где и ему довелось побывать — не только за границей; кое-что пережить; это в молодости, на фронте… или там, под Любавасом… ну, еще раньше — этот Старик на Немане… отвратительный, бородатый, в красной, засаленной рубахе, персонаж из детского кошмара…
Но то были воспоминания, вынырнувшие откуда-то из подсознания — точно из какой-то дымки, оставшейся там, в далекой литовской ночи, и ожившие вовсе против его воли; то было на фронте, было под Любавасом и очень давно, а старуха с выпяченными, покрытыми коростой руками — сейчас и здесь; она со злостью забарабанила кулаками по стеклу.
— Children… my children… give give give… — шамкала она беззубым ртом, который даже и ртом не назовешь: черная широченная дыра, лишенная губ, зубов тоже — давно выкрошились, выгнили вместе с деснами; где-то в черноте ворочался красноватый язык; то есть этот предмет должен был быть языком, чем же еще; вдруг он запрокинулся и высунулся во всю длину; носа у нее не было — на его месте (Глуоснис заметил это лишь сейчас, окаменев от ужаса) тоже зияла дыра; и все лицо этой женщины чернело как одна пульсирующая яма, да и та вся в язвах и струпьях, вмятая в череп серая, резкозловонная впадина; сквозь одну из дыр — через нос, вдогонку слову или стону, и вывалился этот мерзкий, похожий на коровьи внутренности, которые доводилось видеть на рынке, с позволения сказать, язык — вместе с ее скрипучим, натужно исторгнутым из самого нутра «give»; Глуоснис ощутил рвотный позыв.
— Give, give, give! — на тысячу голосов ревела толпа, заливая тот жалкий пятачок, который невольно образовался благодаря прорвавшейся вперед старухе, и даже подталкивая обшарпанный желтый «фордик» с мятыми боками, в котором, обмирая от небывалого ужаса, скорченный, мизерный, будто провинившийся невесть в чем, жался Глуоснис; он и впрямь чувствовал себя виноватым, но не мог в данную минуту сказать — перед кем и в чем. «Don’t give, it’s dangerous!» — повторял шофер, нажимая стоптанной, ерзающей сандалией то на тормоз, то на газ (из сандалии выглядывал почерневший, стертый в кровь большой заскорузлый палец) и ругаясь — потихоньку и, безусловно, на родном языке, а то и молясь своему богу; машина не стронулась с места; старуха забарабанила еще яростней.
«Почему не давать, как не давать?! — загудело в голове громко и сердито, точно пробудился от спячки зверь; Глуоснис физически ощутил этот шум в голове. — Раздавят, если не дам… Не дам — сотрут… Сомнут… А если дам…»
Дашь — тоже сомнут, его предупреждали, — даже тот же седеющий шофер туристской фирмы, сотрут еще быстрее, если именно дашь; этих добреньких иностранцев, вы знаете, в этих теплых краях у моря… И потом — неужели всех одаришь…
«Нет, нет, Глуоснис, — подумал он, это не те страницы, куда ты летал трижды — вроде и по делам, а по существу — подстегиваемый все тем же бесом странствий, который преследует тебя с детских лет — как овод кобылу… Это не те страны, это не Европа, интеллигентно покряхтывающая старушка… Frau, lady или madame[9], сгорбленная над палочкой, седенькая… знакомая, как собственная ладонь… И опрятненькая, черт возьми, шуршащая крахмалом, струящаяся нейлоном париков, утопающая в белейшей пене кружев, по утрам — кофе и душистая ванна с шампунем (или бассейн, вспомни-ка…), а что ни вечер — винишко или пивцо (смотря как принято) — она такая, эта старушка… И даже, представьте себе, малость шаловливая… подмечено… И, само собой, не Литва, которую ты снова покинул — неважно почему, не будем вникать, — покинул, оставил за морями, пустынями, горами, облаками — опять — в десятый или тридцатый раз… мирную, зеленую матушку Литву… излучину под крылом самолета…»
Ладно уж, хватит, расчувствовался; не забывай, где ты находишься: на площади, в зной; помечтаем в другой раз… Твоя цель: гостиница… гм…
Уже готовый на все, он поднял к груди обе руки, попытался еще раз толкнуть дверцу машины — резко, любой ценой — и глянул сквозь скопище голов вперед, но вдруг резко уронил руки вниз: неожиданно для него эта бурная и клокочущая толпа качнулась, как вода под мощным порывом ветра, охнула единым вздохом и умолкла, распадаясь надвое и давая дорогу; даже та ужасная старуха в тот миг убрала свое прогнившее — вроде старого, ржавого ведра — лицо от окошка, к которому оно словно приклеилось; приставив к горячечным, запаршивленным глазам ладонь, она впилась взглядом в каменную лестницу за железной оградой и за распахнутой на обе створки дверью: там медленно, пружинящим шагом, словно некая сказочная королева, спускалась вниз другая женщина — точно взяла и выплыла из пены — белым-бела (мраморные с желтоватым оттенком ступени под ее ногами казались серыми) — от белокурых, почти молочного цвета волос, свободно падающих на плечи, и до ослепительно белоснежных лаковых сандалий; на ней были белые брюки, искрящиеся на складках и сгибах, белый блестящий пояс; одни лишь губы были ярко-красными и ленивой змейкой извивались на чуть широковатом, серьезном и будто ничуть не тронутом солнцем лице уроженки севера. От нее прямо-таки исходило белое нерушимое величие и покой.
Эту красивую и как будто знатную женщину здесь, кажется, все знали, ибо не успела она приблизиться к калитке (ее охранял угрюмый как истукан и столь же любезный сторож), как попала в плотное кольцо грязных и совершенно голых детей; некоторые были не так уж малы.
— Ma’am! Ma’am! — вопили они в один голос, увиваясь вокруг. — Give me today![10]
Но она, казалось, и внимания на них не обратила — улыбнулась резко очерченными, пухлыми, ярко накрашенными губами всем сразу и шагнула к автомобилю, застывшему в толпе, как кубик брусчатки среди камней; толпа шелестнула и расступилась, давая ей пройти; некоторые умудрялись переругнуться, подтолкнуть друг дружку.
— Да ползи, ползи ты живей!.. — крикнула она озорно, и Глуоснис не сразу сообразил, что кричит она именно ему и кричит по-немецки. — Аурис! Северный мишка! Привез мне чертенка? Черного, как и ты! Литовского чертенка, спрашиваю, привез? А обещал. Ты что, не узнаешь?
Глуоснис узнал («Обещал? Я?..») и оттого еще больше смутился, толкнул дверцу и выпал наружу. И неизвестно еще, что поразило его больше: неожиданное появление этой женщины (это же она, мадам Эрика из Кельна!) или благоговение толпы; можно подумать, этой толпы просто не было — так быстро она схлынула, точно подхваченное ветром облачко, распалась на множество мелких кучек и одиночных, болтающихся без определенной цели индивидов; куда-то сгинула и страшная старуха.
— Аурис, северный мишка! Почему не написал?
— Я, Эрика, все это время…
— Ах, да, да! Мировая скорбь. Раздумья на пороховой бочке. Неотложные проблемы переустройства общества. Духовный взлет homo sapiens. И кому все это нужно? Им, что ли?
Она показала глазами на улицу и площадь за ней: там бурлила, шумела все та же — нет, нет, другая! — толпа, издалека еще более грозная, незнакомая, жадная, хотя их, Глуосниса и мадам Эрику, эти люди уже забыли, как и многое другое, что представлялось им преходящим и недостойным внимания; один, не сходя с места, таинственно присев, мочился или творил кое-что посерьезнее, другой раскладывал для продажи какие-то побрякушки, иной от скуки ковырял пальцем в носу. «Ma’am, ma’am!» — выкликали дети, может, уже другие, и может, уже другой женщине — тоже белой, а то и желтой или даже черной. «Ma’am, ma’am! give me money, ma’am!» Но все они такие же костлявенькие, голенькие, с раздутыми животами, под которыми, будто обстриженные по узелку джутовые веревочки, болтались более или менее заметные признаки принадлежности к мужскому полу; они дети, они бесстыдны, они не прикрываются ни тряпкой, ни набедренной повязкой, как мужчины зрелых лет, хотя, похоже, у некоторых, более рослых, детство что-то очень уж затяжное. «Ma’am give me…»
— Ну пойдем же, пойдем! — лопотала тем временем мадам Эрика, беря Глуосниса под руку («В Кельне она не допускала такой фамильярности… во всяком случае — со мной…»); пальцы у нее были прохладные, ногти ярко накрашены. — Пойдем скорей регистрироваться. В этой стране главное — отметиться. А уже все остальное…
— Почему же, Эрика?
— Потому что здесь все еще постреливают, понял? И даже среди бела дня. Потому что в этой стране и в этом городе, а мы имеем честь быть его гостями, очень много каналов. И все полны водой.
— Говоришь загадками.
— Вовсе нет. Каждое утро из каналов кого-нибудь вытаскивают. И необязательно живым.
— Ты меня порадовала.
— Предупредила… И потом, здесь не любят, когда что-нибудь плохо лежит.
— Воруют?
— Берут. Разве это воровство, если голый калека возьмет себе кусок ткани, а голодный карапуз стянет лепешку? А если это называется воровством, то воруют здесь все, начиная с министра и кончая вон тем… — она махнула рукой в сторону мыслителя, сидящего на корточках за углом гостиницы; прохожие обходили его, точно кол, вбитый не на своем привычном месте. — Без этого тут не проживешь.
— Без воровства? Да что тут воровать? — Глуоснис горестно вздохнул. — Клюку у нищего?
— Клюку! Здесь только у полицейских палки, для остальных это непозволительная роскошь. Ну, еще у солдат, безусловно… А нищие… Здесь, Ауримас, все нищие…
— Все?
— Ну, может, это не то слово… Не то чтобы нищие… То есть даже вовсе они не нищие!
— Как так?
— Они — хиппи.
— Хиппи? Эти бедняги?
— Да. И самые настоящие. Естественные. У нас только суррогат, Ауримас.
— Это где — у вас?
— В Европе. В Кельне… А эти… они ужасно славные, уверяю тебя. Без комплексов, без наигранной экзотики. Все первобытные, от самой природы. Они и не могут быть иными…
— Такими, как в Кельне…
— Да, как в Кельне. — Она взглянула на Глуосниса своими пронизывающими карими глазами; в этом взгляде мелькнул укор. — Или в Париже. Или на Piazza Venèzia[11]. И, может, даже как в Вильнюсе — ты, между прочим, так и не прислал мне видов вашего города…
— Ну, в Вильнюсе… однако… думаю…
— И я думаю, Ауримас, — она опять взглянула на него своими блестящими глазами, под которыми, наперекор всем кремам, залегло несколько глубоких морщинок. — Хотела бы думать. Но ведь в наше время, когда мир утратил какие-то державшие его основы… сама не знаю — какие…
— Весь мир? — усомнился Глуоснис. — Не забывай, что он не так однороден, как тебе представляется.
— Почему мне? Многие так считают, только не знают, что будет дальше. Потому и мечутся. Ищут. Все чего-то ищут. И, понятно, чаще всего не находят… Но тебе, я вижу, неинтересно?
— Безумно интересно. Народы хиппи, гм… хиппи и аристократов духа. Это мне напоминает дьявольски неприятные теорийки, против которых, да будет тебе известно, я настроен с малых лет и которые отрицаю изо всех сил… Против которых, я, кстати, на фронте… соображаешь?
— Дай договорить, Аурис. Кто же тут классифицирует людей и нации? Неужели я? Это было бы слишком грубо. Хиппизм… Когда начинаешь понимать, что каждый из нас — не более чем странник под этим голубым небом и что каждому к своему счастью приходится топать пешочком… Словом, жители этой страны естественны, никем не выдуманы, не продукт рекламы и, поверь, совершенно первобытны. Если угодно — все они йоги…
— Может, от нищеты, которая из века в век…
— Может, и оттого — какая разница! Суть от этого не меняется. Тут никакого плагиата, они просто неспособны на такое. И человека они понимают куда лучше нас, потому что это тоже вековая мудрость… Ты, конечно, рассуждаешь иначе, но я… старушенция Европа… на все сто убеждена, что уже в недалеком будущем…
— Рассуждаю? Вовсе я не рассуждаю… — Глуоснис пожал плечами; разговор показался ему пустым и никчемным, хотя он и не предполагал, что здесь будет удобно разговаривать — под этими прошивающими кожу полуденными лучами. — То есть, может, как-то и рассуждаю, но не тороплюсь осуждать.
— А я, что ли, осуждаю?
— Похоже на то, Эрика.
— Значит, ты меня не понял.
— У каждой страны, Эрика, свой образ жизни, насколько я соображаю… И даже у каждого поколения, если хорошенько вдуматься… — Он почему-то вздохнул и посмотрел себе под ноги; вспомнился дом… — Хотя зачастую от этого понимания ничуть не легче… И потом, Эрика, есть ценности, которыми не шутят. Вечные. Они существовали до нас и останутся после нас…
— А я что говорю? Разве не то же самое?
— Едва ли… Но, может, нам перейти в тень?
Он отступил в сторону, где росло невысокое куцеватое дерево: здесь в самом деле было чуть попрохладнее; Эрика осталась, где стояла. Наверное, жара была ей нипочем.
— Образ!.. — она всплеснула руками, причем с каким-то внезапно прорвавшимся отчаянием. — Образ жизни!.. А если я проклинаю его? Этот образ жизни, эту торгашескую мораль, это… Проклинаю, проклинаю, давно ненавижу! Золото, золото, золото — зачем? Что хорошего дает оно человеку? Что могут дать человеку деньги, если его душа…
— А без них все-таки, сама знаешь…
— Знаю! Именно потому и говорю, что знаю. Вся фальшь бытия в них, весь маразм…
— И вся сущность вашего строя…
— Строя? Да, это верно: строя. Но не человека. Не личности. Личность они душат, губят, топят, превращают в бесчувственный банковский манекен… Все эти доллары, фунты… марки и гульдены… Коттеджи, яхты, автомобили… что ни год, более новые и дорогие. Эти виллы, дома, замки в горах… разные бунгало… Впрочем, это имеет хотя бы то оправдание, что люди стремятся быть ближе к природе и к первобытной жизни. А прочее… Вещи, вещи, вещи — повсюду они, всюду на них натыкаешься… Они душат меня, Ауримас, душат без петли… И вызывают бешеное желание однажды чиркнуть спичкой… там, где всего больше бензина или газа…
— По-моему, Эрика, это чересчур…
— Неужели? А я говорю: душат! Давят! Эти персидские ковры и картины, эти стены и статуи, вазы и сервизы, эти кубки с какой-то там гравировкой… Prosit prosit prosit![12] Зачем? За какие заслуги? За какие услуги человечеству? Может, за Освенцим? За Хиросиму? Вьетнам? За что?
— Тебе, Эрика, это лучше знать…
— Не смейся. Мне это обидно. Ведь я серьезно, Аурис!
— Medice… cura te ipsum…[13]
— Конечно, у тебя другие проблемы. И у твоего общества тоже. Но учти: человек всегда человек. Когда угодно и где угодно.
— Пока он человек, Эрика.
— Да, пока человек. А когда он превращается в раба самого себя, он становится кем-то другим. Кем? Скажи мне, Аурис.
— Кем-то другим. — Глуоснис невольно глянул на голого мыслителя, который уже справил нужду и, стоя за углом здания, сосредоточенно пытался обвить свои чресла набедренной повязкой из джута; последняя была явно коротковата, и человек, стягивая ее концы, таращил мутные глаза и озабоченно вытягивал шею, точно в поисках дельного совета; у каждого свои заботы. — А кем — спроси у одной умной женщины, Эрика. Умудренной, но поступающей наоборот…
— Уже спросила…
— И что же ты узнала?
— То, что и ты говоришь… Что это распад! Интеллигенции… Поскольку для всех прочих это вполне нормальная модель существования…
— Для всех?
— По крайней мере, для тех, кого я знаю. Подразумевается наше насквозь прогнившее западное общество…
— Общество потребителей…
— И производителей тоже! Ведь производим мы не для кашалотов, Ауримас, а как-никак для себя самих, и потому… Нет, не нужен мне такой образ жизни, как он ни зовись — американский, немецкий, французский, люксембургский… душит он меня без петли… и давно бы задушил, если бы…
— Если бы твой господин Кох не обладал таким солидным дипломом… И таким утонченным восприятием современной урбанистической архитектуры… а его голове сам Корбюзье мог бы позавидовать… Едва лишь светлейшая госпожа Кох начинает задыхаться в своем прогнившем и насквозь порочном Кельне, он отправляет ее в такой райский уголок нашей малютки планеты, где гигиена просто завидная, а туземцы все до одного — чистейшие первозданные ангелы…
— Ирония, ирония! О, как бы она украсила моего Коха… с его лысой макушкой…
— И все же… То благосостояние, которым пользуешься ты и твоя семья… и под покровом которого вы можете рожать очень даже неглупые идеи… без него, без Коха-мудреца, которого я в самом деле уважаю, было бы не более как радуга в мыльном пузыре… Кстати, как поживает господин Милан?
— С ним все кончено.
— Все?
— Почти. На вокзал он меня не проводил, так как заболела его жена. Имеется и таковая, Ауримас… Но ты перебил мою мысль… Что я сказала?.. А, решила однажды топнуть ногой… И…
— И господину Коху пришлось примириться с тем, что чернокудрый красавец Милан… атлетического сложения славянин из Каринтии…
«Копна смоляных кудрей», — вспомнилось ему.
— Все равно прокляла!.. — Она поспешно отвернулась; кажется, на эту тему она беседовать не любила: о красавце Милане. И о муже, об этом лысом, как коленка, последователе или даже конкуренте Корбюзье; Глуоснис это знал, помнил по Кельну.
Он спросил:
— А ты здесь… какими судьбами?
— Теми самыми… — Она лукаво улыбнулась. — И дорогами. Через Москву, как и ты. Я видела Кремль.
— Молодец!
— Пыталась тебе позвонить. Ответили, что ничего не знают: ни где ты, ни в какое время бываешь дома. Очень вежливо: не знают. Интеллигентно. А может, и у вас уговор… как у нас, на гнилом Западе?
— Нет, — он покачал головой. — У нас это не принято.
Марта, вздохнул он, никогда она не знает. И всегда вежлива, особенно с женским полом. Когда звонят женщины. Ей, бедняжке, мерещится, что все они обязательно назначают ее мужу свидания. Ее распрекрасному муженьку. Этому лихому донжуану. Ловеласу. Чей аппетит не знает границ. Ей и в голову не придет, что разговор с женщиной может и не носить интимного характера. Как и отношения. («Ах, не в этом дело!.. Глуоснис, старина, не в этом… ты забыл Кельн?.. Ту ночь в Кельне, о которой Марте, будем надеяться…») Как и многое, существующее между людьми. Иногда, например, достаточно лишь голоса… («Только-то? Почему же ты… столько лет…») Всего лишь обычного, спокойного женского голоса, когда просто говорят с тобой, даже не так уж важно о чем; но говорят, не молчат, что-то произносят, ведь надо чувствовать, что ты не один, что кто-то рядом, и это не как повинность («Да, да, да!»), а как радость, передышка, улыбка, — ты должен знать, что кому-то и ты нужен. И необязательно в постели… А в конце концов человеку здоровому и там…
(«Кельн! Кельн! Кельн! Опять!.. Ты бежал от него сломя голову… через Вильнюс — сюда… Думал, убежишь… куда?.. Из-за этого Кельна, дружище, ты прятал глаза от Марты… будто предатель — в самом деле, будто… ты мучился и злился… и тотчас же, как на пожар, — в самолет…» — «Позвольте, это было предусмотрено — данная поездка… Еще весной, когда никаким Кельном и не пахло…» — «Что ж, может, скажешь — только от юбилея…» — «Да будет уж! Я один! Был и есть! А когда человек один… когда он безнадежно один… может и невесть что…»)
Хватит, хватит об этом! Нечего себя точить. Не начинай сначала. Прекрати.
Ты так считаешь? Прекратить? А как? Посоветуйте, как я должен был все это…
Глуоснис, дитя мое, — из-за того, что осталось в прошлом… что было…
Было? И нет? Ничего? Совсем ничего?
Ладно, хватит! Возьми себя в руки!
— Значит, и ты… самолетом? — спросил он без особой радости.
— Уж не пешком… По пути в Непал.
— В Непал?
— Да. Что тебя удивляет?
— По-моему, ты собиралась в Сиам… Помнишь фильм «Эмманюэль»… уж не с тобой ли я его видел… там молодая француженка… жена дипломата… тоже основательно хлебнувшая радостей западной цивилизации…
— Не бойся, — она улыбнулась. — Я не такая. Не Эмманюэль. И обещаний своих не забываю…
— Каких обещаний?
— А маска? Обещанная сиамская маска… Твоей дочке она сгодится, и не только для новогоднего карнавала…
(Дочке? Эме? Какую еще ей маску?..)
— Аа… — небрежно махнул рукой. — Пошутил, больше ничего. Неужели живем на свете ради какой-то маски…
(Какой маски?..)
— А ради чего же?
— Полагаю, ради самой жизни. Ради ее осмысления. Ясно?
(Попробуй внуши это Эме…)
— Аурис!.. — Она вздохнула. Укоризненно взглянула. — Ты опять всерьез… И опять над твоими словами надо ломать голову…
— Прости, я понял… Поговорим о чем-нибудь другом… Над чем не придется ломать голову… Только есть ли такие темы? В наше время?
— Да, да, в Катманду!.. — воскликнула она, будто что-то припомнив, и карими тревожными глазами глянула куда-то мимо Глуосниса. — Только туда!
— И кто тебя там ждет?
— Все! С распростертыми объятиями!
— Ты полагаешь?
— Да! Все стремятся туда, точно в некий Клондайк. Только, понятно, не за золотом или еще чем-то таким… к чему все это раззолоченное дерьмо?
«Которым ты, мадам, все же не пренебрегаешь, — угрюмо подумал он, — и увешана этими пробрякушками именно здесь, среди этой атавистической нищеты. Будто собралась на бал к Ротшильду! Что это: игра или крайнее отчаяние? А может, только такую — утопающую в роскоши и великолепную — тебя здесь чтут и всюду дают дорогу? Только такую, какова ты на самом деле?»
Вслух, однако, он всего этого не высказал.
Он стоял, притулившись спиной к дереву, ощущал его твердость и думал. Что-то чужое было в этой женщине, в ее словах, движениях рук, во всей ее осанке, даже голосе — и в то же время что-то знакомое, слышанное, многократно проверенное и взвешенное. И что-то очень зыбкое, что-то лишнее, хотя неизбежное и гнетущее, снова встало между Глуоснисом и его мыслями о своем доме, из которого он чуть не бегом убежал, что-то встало между человеком и его жизнью. «И какого дьявола судьба снова подсунула мне тебя, Эрика?»
— Укрепить свой дух, — тем временем продолжала она, не заметив смущения, охватившего Глуосниса, не обращая внимания и на то, что ее слова никак не соответствуют его настроению. — Вот что нужно европейцу. Утвердиться в своей сути. В бытии. В своем праве жить. И не просто жрать, хватать, осквернять, но и быть. Выть человеком, быть достойным других земных тварей… Ведь в противном случае, Аурис…
— Право быть? В Непале? В Катманду?
— Да, а что? Там. В горах, выше которых уже одно небо, одно лишь дыхание вечности, Аурис. Больше человеку, наверное, ничего и не надо…
— По-моему, ты ошибаешься, Эрика.
(Ошибаешься, Эма…)
— Ошибаюсь? Может быть. Но я хочу быть человеком, пойми ты. Хочу возродиться. А где я могу это сделать — в Кельне? Копенгагене? или в Париже?
— Но почему именно в Катманду?
— Потому что сейчас туда паломничество, понимаешь? Центр планеты, пойми ты! И всех, кто ищет смысла жизни. Неясно? Вы, русские, все как-то по-другому…
— Я не русский.
— Все равно. Вы одинаковые. Вам всегда выкладывай мотивы. А если у меня их нет? Если я не желаю их иметь? Доверяюсь интуиции…
— Что же она подсказывает тебе, твоя интуиция? — спросил Глуоснис, чувствуя, Как снова оживает интерес к беседе. И к собеседнице, вполне возможно. — Что она предлагает?
— Все то же… Люди, какими бы испорченными они ни были, всегда оставляют себе про запас надежду. Крупицу истины, сбереженную от насилия хищников и от когтей лжи. Светлый блик, который прячешь в перстне на пальце. И повсюду носишь с собой… Это оберегает нас от одиночества и безумия — вот для чего нужна эта истина. А Катманду… Все сейчас туда рвутся и все на что-то надеются. На что? На обновление. Все хотят почувствовать обновление. Попытаться ощутить. Вызвать в себе этот пароксизм сладостного пробуждения. Азия пробудилась, Азия! Она проснулась в нас! Ее надо познать. Попытаться познать. Для кого-то она — каменный сфинкс, я не отрицаю, но для кого-то — самое что ни есть первозданное бытие. И потому незаменимая и вечная. Познать Азию — это познать самих себя. Свое скрытое «я». То, с чего мы начались. — Она замолчала, будто не то устала, не то наговорила слишком много, и посмотрела на Глуосниса. — А ты сколько времени намерен здесь пробыть?
— Около недели. Может, около двух. Зависит от работы.
— Репортаж?
— Именно.
— Жаль… — вздохнула она, — что не написал мне, когда собирался… Я бы все спланировала иначе… А теперь… Не так-то просто в здешних краях попасть на самолет, особенно на Катманду… Можно подумать, всей Европе вдруг приспичило…
— Как это — Европе? Я ведь, кажется, тоже Европа, но тем не менее…
— Ну, та… джинсовая…
— Я тоже в джинсах, Эрика…
С этой Эрикой не сговоришься… Ее истина впрямь таится в перстне на пальце… Как у Эмы. Но почему у Эмы? Какая истина? Ведь то, что произошло прямо перед его отъездом.
— Европа хиппи? — Он криво улыбнулся: пора было кончать. И без того разговор чересчур затянулся, этот диалог под деревом… — Auch ein Hippy muß mal pippi[14].
(Да, Эма, даже хиппи…)
— Уж ты скажешь! — Эрика нахмурила лоб, который сразу потемнел. — Знание иностранных языков можно продемонстрировать и более удачно… — А та барышня… — она взглянула в упор на Глуосниса. — Нашла?
Это было похоже на издевку.
— Какая барышня?
— Та, из группы… Которая в Дахау…
— Аа… — протянул он нехотя. Ему не все хотелось вспоминать, по крайней мере сейчас. — Не знаю. — По-моему, она никогда…
— И я так думаю, Аурис. Кто ищет таким образом?.. А ведь она хорошенькая. И выглядит моложе своих лет. Совсем почти ребенок.
— Может быть… — Он отвернулся. — Может быть, Эрика. Но вдруг и не это главное?
— Смотря для кого, — засмеялась она негромко, но очень уж понимающе, по-женски; казалось, она добилась чего-то своего и была вполне довольна. — О чем мы разговаривали? О путешествиях? Только они мне и остались, Аурис, больше ничего…
Она как бы безучастно скользнула взглядом по лицу Глуосниса; ого, она была весьма деликатна, эта мадам Эрика, воспитанная в приличных школах, ее манеры были безупречны, хотя в Кельне она и гуляла в заплатанных джинсах и линялой кофте; и она умела поддерживать беседу, в этом ей не откажешь!..
— А все остальное, Аурис, не стоит и выеденного яйца, особенно тот фарс, который мы, жители Запада, называем порядочной жизнью. Ради этого, по-моему, и родиться не стоило…
— Это от нас, увы…
— В том-то и дело, что не зависит! А жаль! Я, во всяком случае, охотно вернулась бы в то состояние, когда была не человеком, а лишь смутной возможностью сделаться им, и охотно осталась бы на этой стадии без дальнейших перспектив… Вот именно, Аурис: хочу в колыбель!.. Тебе странно слышать это? Конечно, я подразумеваю не настоящую колыбель своего младенчества, на какую вроде бы не могу пожаловаться — как-никак то была колыбель почтенного бюргерского семейства, — а прародину нашей общей духовной культуры… На Восток, на Восток, да! Знаю одно: где колыбель, там и обновление, возвращение к себе, в себя самого… Йога? Это игра, Аурис, хотя сама по себе идея через тело к духу — мне нравится. Кому не понравится!.. Будда? Не совсем. И, понятно, не Конфуций, за которого, точно утопающий за бритву, хватались китайцы, и ни в коем случае не эти феодально-христианские стереотипы мышления… Нет, нет, что-то совершенно новое, неожиданное, неизведанное, что мы открываем лишь сегодня, ощутив страх неизбежной гибели, и в то же время древнее, устоявшееся, дремлющее где-то у нас в подсознании еще с тех пор, когда не было ни Конфуция, ни Будды с Христом… Какой-то иной, нам неведомый дух столетий, призванный нас подавить, переварить и заново породить… Конечно, если это гнилое, безнадежно проеденное червоточиной скепсиса яблоко — а Европа, Аурис, такова — когда-нибудь вообще сможет вернуться на ту же, давшую ему жизнь ветку и если…
— Здесь, в этой колыбели мироздания… — Глуоснис повел рукой в сторону площади, где по-прежнему кипел все тот же котел, но чувствовал себя так, будто говорит вовсе не с Эрикой, до нее ему и дела не было, а с Эмой, дочкой своей, или с другими ей подобными, которые, к слову сказать, его обокрали — что-то взяли, что-то безжалостно вычеркнули из его жизни, то ли книгу, которой он, ясное дело, не напишет, то ли нечто большее… — Если, по-твоему, все хиппи… Если все наги, как младенцы, и все нищи… И если ничего не желают даже женщины, и один черт знает, откуда здесь такая прорва детворы… Но так мыслит старушенция Европа, правда? Потому как здесь, куда мы изволим летать, довольствуются малым. То есть они, местные, довольствуются… Для нас же отдельный ресторан… Menu à la Piccadilly[15]. А для них сойдет и первобытный паек… горсть вместо мешка… да что там — зернышко вместо горсти!.. Один банан в сутки: полезно и недорого, а? И брюху легко, и ногам. Многовато? Полбанана! Диета святого Антония, то-то же! А то и вовсе ничего; зачем им вообще питаться? Они — хиппи, живут настоящей жизнью и насущные заботы не для них… Разве что те, первобытные… — он показал движением руки на площадь; и они увидели, как откуда-то зазмеилась зеленоватая змейка жидкости — прямо под колеса машины; шофер дремал, свесив голову на руль; рядом с багажником «форда» тужился, натянув грязную рубаху на колени, какой-то человек, а в нескольких шагах от него еще трое-четверо ему подобных; никто, в том числе и Эрика, разумеется, не обращал на них внимания. — Все прочие дела — ну, разумеется, и потребности — их не занимают. Они счастливы, ибо первобытны. Хиппи по натуре! Какие потребности? Зачем они? Если тут солнце, если пальмы и самый элементарный минимум цивилизации, если здесь — по крайней мере так кажется, когда прилетаешь на сверхкомфортабельном лайнере из нашей старушки Евроцы, — жизнь такая, какой могла быть лишь во времена библейского Адама. Умяв плотный обедец в европейском ресторане, очень даже приятственно обозреть эти первобытные края… (Да, Эма, да!) И все тогда представляется таким далеким — Европа где-то за семью морями, а этим, здешним, решительно ничего не надо: ни Маркса, ни Маркузе, ни… У них свои кумиры.
— Быстро же ты все подмечаешь… даже кумиры.
— Угадала. Хотя бы та старуха, которая пыталась ко мне пролезть. Чем не идол?
— Суша-ханум?
— Ну да. Может, даже помешанная.
— О ней лучше потом, Аурис. У нее отняли детей.
— То есть?
— Забрали. И, пожалуй, это единственное доброе дело, которое за полтораста лет здесь сделали англичане… Подумай сам — разве такая имеет право на детей? Падшая, страшная… Она болела всеми болезнями, которые только мыслимы в этом городе и во всем мире: тут и сифилис, и холера, и черная оспа… И постоянно болеет… Но все рожает, рожает, рожает — одного за другим… А ведь стара… и ни мужа, ни…
— Не всегда эта люлька человечества… пресловутая наша восточная колыбель… приносит возрождение… Сознание определяется все-таки тем, как человек живет изо дня в день… и какие социальные условия формируют отдельно взятую личность, которая… как тебе, должно быть, известно…
— Маркс! — Ее глаза сверкнули. — Опять? Думаешь, он здесь… уместен?
— Как нельзя больше! Маркс, дорогая Эрика, здесь нужен куда больше, чем все их идолы. И я верю, что в наше время, когда человек покоряет космос, он в состоянии победить и атавистическую философию вечной нищеты, которая, как я вижу, чрезвычайно модна в блестящих салонах Европы… И, возможно, в еще более блестящих гималайских льдах…
— И об этом — потом, ладно? Когда обвыкнешься здесь. Зарегистрируешься. И когда хотя бы столько, сколько я…
— Ты здесь давно?
— Не очень. Третий месяц. Сразу после твоего отъезда из Кельна… просто не сиделось больше там… Тогда шел дождь, а тут, видишь, жарища. Мне здесь нравится, Аурис.
— Вижу.
— Больше, чем в Кельне. И если бы я могла… Ах, не будь я бедной, слабой женщиной… никогда бы больше в наши джунгли…
Она не закончила — резко схватила Глуосниса за руку и втащила в холл.
— А чемодан? — спохватился тот, когда толстый, обрюзглый старик с лоснящимся лицом взял у него паспорт и долго, поглядывая по сторонам, будто поджидая кого-то, тупыми, сглаженными от постоянного щупанья бумаг пальцами листал хрусткие страницы; Эрика стояла рядом и равнодушным взглядом обегала просторный, прохладный, но совершенно пустой и оттого неуютный холл. — Где он?
— Надеюсь, давно в твоей комнате, — сказала она, обернувшись к Глуоснису. — Ты забыл его… Стоило только завести серьезный разговор…
— Все-таки чемодан каждому нищему пилигриму…
— Он уже в номере, — повторила Эрика. — Но оставим же мы его на улице… Я подожду тебя здесь, — кивнула на дверь в углу — и не столько на дверь, сколько на кресло рядом и надпись «RESTAURANT». — Пока ты умоешься и соскоблишь с подбородка эту полуседую сивую щетину… Ведь скорее всего и ты не хочешь походить на европейца… хотя бы эти две недели…
— На европейца? Что это значит?
— А то, что европейцы нынче еще более неряшливы, чем эти… Хотя и обжираются сверх меры и мажутся всякими кремами, вазелинами. У них грязь под слоем крема, Аурис. Под их дубленой, хорошо выработанной кожей…
— Иногда и они моются, презренные европейцы, а?.. Вот в Кельне, помнится…
— В Кельне! Кельн далеко. С бассейнами, которых там действительно хоть отбавляй… Да не в этом дело! — Она направилась к двери ресторана. — Ну, я жду. Поспеши.
Он в самом деле обнаружил чемодан у себя в номере; доставивший его смуглый чернокудрый служитель («опять — копна!»), слегка покачиваясь на ходу, как раз покидал его комнату. Глуоснис нашарил в кармане мелочь.
— No, no! — замахал руками парень. — Заплачено. Уже. White lady[16].
— Lady?
— Yes. Thank you[17].
«И пусть… — Глуоснис оставил монетку в кармане. — Пусть. Ему видней».
Когда, покончив с мытьем-бритьем, он смочил одеколоном виски, потом на тарахтящем лифте спустился вниз, дверь ресторана для европейцев была настежь распахнута, и официант с худым, костистым лицом, издали поклонившись ему, показал не столько жестами, сколько глазами место в самом сумрачном конце этого огромного и на удивление пустого зала. Эрика уже находилась за столиком и, глядясь в ручное зеркальце, красила губы. Губы эти подрагивали, точно две переспелые, готовые упасть вишни; глаза сияли. Горели и сверкали глаза и у человека, окаменевшего поодаль, под исполинской финиковой пальмой. От них несло невообразимым холодом, вовсе не свойственным этой стране, где все пышет зноем, и Глуоснису этот холодок показался очень даже знакомым, только он не мог припомнить, почему именно.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«Паук полз по стене, и он видел этого паука, хотя было совсем темно. Хотя лежал с закрытыми глазами. И он знал, что тут есть стена. Это было уже много.
— Марго!.. — позвал он.
Никто не ответил.
— Марго… паук…
— А сам?
— Не могу. Не достану.
Он поднял руку, вернее — попытался поднять. Но, хотя и чувствовал, что рука эта там, где ей надлежит быть — сбоку, ниже плеча, — не мог и пошевелить ею. Пальцы не гнулись. Колени тоже. Все замерло.
— Он задушит меня, Марго!
Полная тишина.
— Марго, он задушит!
— Не задушит. Если Даубарас не задушил…
— Даубарас? Этот чурбан Даубарас! За что? За что? Ведь я передал его письмо… Ведь я оставил Мету ему! Оставил! Оставил! За что ему душить меня… Даубарасу?.. Да где я? Где? Марго, Мета, — где?..»
Женщина оторвала взгляд от бумаги, от листов, разложенных, как карты у гадалки, на коленях. Оглянулась, будто чего-то искала в комнате, — может, голос, который только что услышала: «Марго, Мета, — где?..»
«Здесь, все здесь да здесь, — шевельнулись губы — сухие, бледные, даже синюшные, — куда мне деваться…» И попыталась устроиться поудобнее — в широком и глубоком кресле за столом, заваленным бумагами, книгами, папками, чернильницами, скрепками, дыроколами и прочим хламом, под широким; желтым колпаком торшера, где она сидела, подобрав к самому подбородку колени, обтянутые синим шерстяным тренировочным костюмом; глаза блестят, даже горят. Но не от любопытства и не от волнения от захватывающего чтения — в них светятся лишь колючие, тусклые, застывшие в уголках льдышки угрюмого безразличия; ей и впрямь зябко. «Брр…» — ежится, еще раз пробегает глазами шуршащие под рукой страницы, — может, видит паука, мохнатого и рыжего, а может, что-то вспоминает, совсем иное: скоро три… Уже три — стрелка движется неумолимо, маятник отбрасывает неприветливые осенние блики, секунды тикают глухо, как судьба. Какая? Чья? Три… Женщина тряхнула волосами — давно не чесанными, беспорядочно свалявшимися, жирными, с серым налетом, — поправила их, равнодушным движением усталого человека отвела их с глаз и снова склонилась над листками. Три часа…
«Он раскрыл рот и попытался крикнуть громче, но тут увидел ее — Марго, даже не Марго вовсе, а Мету, которая вошла — вбежала бегом — и одним махом смела со стены поганого паука — разбухшего, волосатого, с множеством ног и щупалец, с четким желтым крестом на спине; глаза у паука тоже были желтые, выпученные, отвратительно безобразные; почему-то у него было круглое человеческое лицо, и улыбка — теперь она пялилась с некрашеного, но добела вытертого деревенского пола.
— Я говорила: не пей.
«Марго? Мета? Нет, Соната; говорила тебе — не пей. Откуда она здесь?»
— Слушай, где я?
— Не все ли равно!
«Не Соната. И не Мета. Кто?»
— Все равно.
— Как все равно?
— Так.
«И не Марго, черт побери!»
— Что?!
— Все равно.
— Нет! Нет! Нет!.. — Он напрягся и попытался сесть, но ощутил дикую, резкую боль в боку — будто насквозь проткнули чем-то горячим и очень острым — и, даже не подняв головы, рухнул назад. — Нет! Нет! Не-ет!..
Пошевельнулся и сообразил: на телеге. Он лежит на подводе, весь закиданный сеном и соломой, как жердь на сеновале, и сам чувствует, как задыхается от пыли и духоты и как кто-то тычет в него острым; тычет словно не в него, а в кого-то другого, но боль он ощущает; телега грохочет и подпрыгивает на мостовой — точно катится по капустным кочанам, рассыпанным по лесу, а то и по сахарной свекле — много ее в здешних краях; он валяется под сеном или под соломой, которая колет лицо, царапает глаза, в пыли и духоте, а острые раскаленные спицы вонзаются в его тело, в его, его, не чье-нибудь — разве чувствуешь боль, когда колют не тебя, а другого? разве тогда больно? — протыкают, точно шкварку вилкой, норовя поддеть и вытащить из этого сена — вон из этой телеги; в глазах потемнело, зубы так и вдавились в десны.
— Убирайтесь! А ну, пошли отсюда! Собаки! Пьяные рыла!.. — расслышал он и понял, что кричит она — та женщина, которая подобрала его на дороге, когда бойцы отряда велели обождать и когда он, так и не дождавшись их до самого вечера, выполз из-за куста можжевельника и попросился, чтобы подвезла эта молодая, круглолицая, закутанная в большой пестрый плат женщина; глаза у нее были удивленные и светлые — задумчивые и малость испуганные глаза уроженки лесистой Сувалкии. «Да побыстрей ворочайся ты, быстрей, студент…» Студент? Почему «студент»? «Все вы такие! Быстро! Быстро!» — повторила она и хлестнула лошадей; те дернули телегу кверху и припустили во весь опор, брызнули мелкие камешки, посыпались искры. «Быстрей!» Но они догнали, те, что палили, а то и другие, ожидавшие в засаде; уже за лесом, в темноте, остановили. Кто?.. Начене. Кто-кто? Оне, что ли? Пора бы знать в лицо. Ишь чего, упомнишь вас всех. Да уж не всех. Всех! Чего везешь? Давай повежливей, бабонька, гробы нынче недешевы. Спроси у Райниса, он тебе скажет, почем. Какого тебе Райниса, ягодка? Того самого, пора знать. Какого тебе еще Райниса, холера тебя возьми, пошуруй, Раполас, душа моя, в сене-то… Крепче, крепче, веселей, добрый молодец, вдруг там бекончик… или бидончик… Не лезь, зараза! Пошел! Ах ты, сука патлатая, да за такие слова… Заразы! Собаки! Пьяные рыла! Вот я Райнису! Райнису? Что, ты его знаешь?! Братцы, да ведь это… братцы, это же сама… язва… его бабонька, говорю… А!..
Это он застонал от резкой боли в боку, и он это знал, но зубы уже как будто вонзались корнями в мозг, пробуравив ледяные десны, а язык был как деревянный, не ворочался, поэтому никто не услышал его стона; грозно шумел, хлестал дождь. Он не знал, откуда эта темень, только что было светло, и откуда этот дождь — здесь, под этим мраком, под духотой и соломой, и что это за вода так шумит — с хлюпаньем и звоном, и откуда этот гром, грянувший как из пушки прямо над ухом; но и через солому он видел желтый кружок фонарика и поблескивающие глаза этой женщины. Гады! Своих не узнаете… меня, сволочи, не признали? Да как тут признаешь, темнотища… А может, найдется, ягодка, бидончик свекловушечки… не порожняком же гонишь на ночь глядя!.. Но твоя забота, пес шелудивый! Не твоя! Не твоя поганая забота! И знай, куда суешь свое вонючее рыло! В чью телегу! Чуешь, что мелет твой поганый язык? Ах ты, хозяюшка любезная, для родины… чего только не…
Но-о! Но-о!.. Запрыгали колеса. Быстрей, быстрей, но-о!..
По камням и ухабам, как по капустным кочанам, а то и по булыгам сахарной свеклы, много ее в здешних краях, по выбоинам и канавам… Вспышки, какое-то полыхание вокруг: не то фонари, не то молнии, не то горящие, злые, полные какой-то белой, накаленной ярости глаза этой женщины с кнутом, в огромном платке… Жив ты или нет, жив или нет — спрашивают эти глаза, а может, ничего не спрашивают, молчат; но-но, черти вы окаянные, падаль вонючая, пошли-и!..
— Где я?
— Не все ли равно тебе!
— Нет!
— Говорю: все равно.
Не телега, нет. Стена. Совсем рядом, прямо у лица. Близко. Черная, невидимая, но ощутимая — стена. И ночь. Тягучая, липкая, вбирающая в себя звук. Точно губка вокруг лица. Склизкая, гадкая, смердящая. Острый запах навоза. Или мочи. Ночь и стена. Тряпье. Закисшее. Насквозь вонючее. Чужое. А то и мое. Все едино: ветошь. Рванье. И еще запах. Что-то гниющее. Может, картошка, еще прошлогодняя. Плесень. Или время. Куда-то сгинувшее. Сгнившее. Проплесневевшее. Кому-то, чему-то отданное. Кому, чему?..
…Студент? Корреспондент? Дурак!..
«Ты, студент, у нас тут…»
«Хочу вместе со всеми…»
«Чтоб со всеми — кишка тонка…»
«Простите, я не согласен…»
«Не дошло? Говорю: кишка у тебя тонка. У нас, учти, постреливают».
«И под Орлом стреляли! — воскликнул он. — И как еще стреляли, товарищ Шачкус!»
«А тут, говорю, компот, да не тот. С книжечкой — на операцию! С блокнотиком!.. А как обороняться будешь, если что?..»
«Найду чем».
«Он карандашиком, товарищ командир… в глаз…»
«Кто это сунется к тебе прямо рылом?..»
«Уж он подденет! Насквозь проткнет!»
«Ха-ха-ха!»
«Не ваша забота!»
«А чья же?»
«Раз уж пристал к нам точно этот самый лист…»
«Я в командировке, ясно? — выкрикнул так громко, что по сей миг слышит. — И вы обязаны позаботиться. Так мне сказали в редакции».
«Сказали… Хорошо им говорить, в тепле, за столом сидючи!.. Был тут один, будка что Пренайский карьер… И все — романтика да борьба… Пошатался бы с ночку вроде нас, ребята, небось, и романтика бы побоку, и вся блажь… Радовался бы, что ноги унес…»
«Эх, товарищ командир, сейчас глоточек бы, для сугреву…»
«Если б вам хватило его… глоточка… Пускай ее кулачье дует… Организмы отравляет… Поняли, братцы?»
«Есть, товарищ командир! Бочками — это пускай кулачье… мироеды проклятые… Хоть цистернами…»
«Давайте, братцы, коли живы будем… соберемся все вместе и закатимся в приличный ресторан… в Каунасе или в столице…»
«Тогда и вы с нами выпьете, товарищ командир… Заставим… А то как же — целы, невредимы, в приличном ресторане…»
«Там видно будет. А пока… — командир стукнул автоматом по голенищу сапога. — Хотя до меня и дошло, студент, что ты тоже стаканчиком не брезгуешь…»
«Не ваше дело!»
«Ого, какой прыткий! «Не ваше»… А если нынче все дела — наши, тогда что? Да знаешь ты, сколько таких вот своей дурной башкой поплатились? «Не ваше»… Так что давай читай свою книжоночку, а мы… А мы заглянем вон к тому кулачишке… Может, и выпьем, если даст… Я этой пакости в рот не беру, а вот другим… И поесть, попить… Ежели поднесут… И об жизни поболтаем… ясно, если хозяин пожелает… Если снизойдет… У него, говорят, студент… ого… Ну, ты обожди тут… Мы сейчас… Раз-два. По-быстрому…»
Шаги. Запах пота. Постукивание оружия — разбирают. Тишина.
Можжевельник, солнце сквозь облако. Осеннее, нелюбезное. Пистолет из фондов редакции, для командированных. «Вальтер». Где-то подобрали. Тронутый ржой и, ясное дело, незарегистрированный. Посмотрим! Посмотрим, посмотрим… Ах, отрава, дает осечку… И кой черт засадил в эту глотку патрон «ТТ»? В гнездо «вальтера»! Ну и грамотей! В потроха бы ему, в потроха, в потроха…
Что делать, а, Шачкус?
Молчишь?
Молчу и я. Пока молчу, хотя ужас как охота завыть!..
А вот и вечер, сунулся к деревьям. Подступает к можжевельнику. Наползает на дорогу. Ложится.
Теперь пожалуйста — можешь выть. Если не боишься. Если это, по-твоему, поможет. Волком вой!
А их все нет. Они там. Беседуют об жизни. Мироедов перевоспитывают. Или шуруют в кулацком амбаре: госпоставки в нашей волости, как вам известно… А то и выпивают… Лопают яичницу с жирнющими шкварками (э-хе-хе). И давно забыли, что здесь, «в можжухе»…
Едут? Они?
«Но-о! У, падлы вонючие, дохлятины, но-о!»
Нет, не они… Не Шачкус… Им не к спеху! Воспитывают. Или шуруют. Или набивают брюхо кулацкой жратвой. Или убрались куда надо…
Забыли!
Что ж, если на то пошло…
«Может, вы, товарищ, меня хотя бы до городка…»
«Товарищ? Тпру! Я-то? Кому ж это я товарищ?..»
И насквозь прошивает глазищами — из-под большого пестрого платка, в который она вся замотана, — злыми, с белым, холодным блеском, неприязненными глазами.
«Будете мне, если хотя бы до городка… бедного студента…»
«Развелось вас нынче… студентов… — улыбнулась из-под платка, криво, сердито. — На каждом углу… знаем таких!..»
«Вот видите… у знакомых и разговор короче…»
«Полезай, полезай… все вы такие! Да побыстрей ворочайся ты, быстрей… студент… Живо! Живо! Но-о! Но-о! Быстрей!»
Тра-та-та!.. Ззз-взм!..
«Я тебе родня, ясно? Двоюродный брат, поняла? Двоюродный брат с тобой! Или просто брат! Племянник!..»
«Но-о! Но-о!.. Ложись! Мордой, мордой вниз, братишечка, на самые доски, племяшечка! Под солому! Быстро! Полезай, полезай! Но-о!..»
Охапка сена. Или соломы, сухого клевера… Еще кучка, еще. Шлеп — попону на голову.
«А книга? Остановитесь! Книгу оставил!..»
«Молчи!»
Тра-та-та!..
Ззз-взм!..
Не телега, нет, — стена. Паук… Скажите, где он, паук, — только что прополз по стене, я его прямо кожей почувствовал… Он с желтыми глазами и с желтым крестом на спине. Его скинули? На пол? Да, я видел. Где он? И пол… где? И где все? Ведь тут ничего нет — ни людей, ни можжевельника, ни телеги… Ни паука, ни…
— Марго! Марго! Ма-ар-го-о!..
Тишина. Тишина. Вязкая. Тягучая. Бесцветная. Как на кладбище. Как на кладбище. Тоска. Тоска. Тоска.
— Ме-е-е-та!..
Взм!.. Тра-та-та!.. Ззз-взм…
Не слышит. Не видит. Не знает, где я. Никто не слышит, никто не знает… Даже я. Даже я. Даже я.
Я жив? Существую ли я? И где? Черт, черт, где же я? В какой кромешной ночи? В какой заварухе? Где?
Ладно, ладно. Молчите. Вы себе молчите, а я обожду. Я шевельну пальцами. Сожму их в кулак. Я… Ай! Ай!
И, кажется, очнулся: весь в поту, весь в лихорадке, весь — сплошная боль.
Умер? Я? Какой вздор! Мертвые, говорят, не чувствуют боли. Говорят, но я не знаю. Еще не умирал. До сих пор нет. Ни под Орлом, ни…
— Жив! Я жив, люди! Ибо знаю это! Ибо мыслю. Cogito, ergo sum[18]. Это еще что? Откуда эти слова? Чужие, невесть откуда всплывшие. Cogito, ergo sum. Cogito… Ax, это из другого мира. Из совсем-совсем другого. Где я был, но где теперь нет меня. Давно нет. Давно. Давным-давно… А!
Штык на карабине, фонарик… Здесь, вот уже здесь, уже… Висит, как на нитке, скользит вниз… Обдает холодом, смертью… Взм… Теперь жаром — внезапно жаркой волной, волной боли через все тело насквозь, едва попытался двинуться, едва лишь подумал… А!
— Мета, Мета! А!.. Марго! Марго! Ме-е-ета!..»
И она отшатнулась, точно пронзили ее самое — женщину в просторном кресле под желтым торшером на топкой ножке: резко запрокинула голову, лицо исказилось гримасой боли: раздраженное и злое. «Марго, Мета, а!.. Марго!» Женщина прищурилась, сомкнула ресницы, точно замыкая ими глаза, увидевшие слишком много; Марго мелькнула и исчезла как сон, как молния или мираж… но Мета… Знаю, знаю, знаю! До малейшей черточки на лице, до последней морщинки, до запаха пота… Хоть и в глаза не видала, избегала встречаться, не хотела, а то и боялась, возможно… Двадцать пять лет боялась я этой встречи с ней и двадцать пять лет ждала. Теперь… спасибо, мой родной, спасибо! Только этого мне и не хватало — этих листков. И знала я, чуяла, что они есть, знала: пишешь, ты все время что-то пишешь, пишешь, пишешь и пишешь, хотя и молчишь, скрываешь от меня; пишешь что-то, чего я не знаю, не должна знать, чего никому не показываешь, — а пишешь каждый день, пишешь для себя; и вот наконец узнала! Что и о чем… Что ты думаешь. И чего по-прежнему боишься. Да, да, боишься, будто не знаю я тебя! И боишься даже сейчас, когда мы все изменились, когда время как будто все сгладило; знал бы ты, как я ненавижу ее! Ее, Мету, которая осталась в тебе, — хотя ты и пишешь совсем о другом, говоришь о другом; хотя и утверждаешь сам, что забыл ее, я и не спрашиваю; ее, прошедшую все дороги, все видевшую, все изведавшую, любившую разных мужчин и вдруг умершую, умершую уже давно, — но умершую я еще больше ненавижу. Потому что знаю: для тебя она никогда не будет ни старой, ни дряхлой, ни некрасивой, ни болящей; она осталась для тебя вечно молодой, манящей и вожделенной, такой, какой была; а я такая, как сейчас. Но и такая я имею то преимущество, что все еще живу — живу, живу, живу! — хотя давно уж не та, что была, когда мы с тобой познакомились, пусть больная, увядшая, скрученная болями, а все живая; я здесь, и уж одним этим нужна тебе. Нужна? Во всяком случае, побольше, чем та, мертвая; живая всегда нужней, хоть ты и бежишь от меня, не хочешь быть рядом, хоть и…
Вдруг она вздрогнула, эта женщина в кресле, похожая на птицу в гнезде, широко раскрыла глаза: шаги? На улице? И будто кто-то в темноте ищет ощупью дверную ручку… Кто?
«Кто там?» — захотела крикнуть, медленно поворачиваясь к двери, но промолчала. Ясное дело, послышалось. Померещилось. Бывает и так. И иначе. Все от одиночества.
Говорят: завести кота. Лучше всего — сибирского, хвост трубой, а за неимением сойдет и простой. Все-таки живая тварь. Все-таки знаешь: дышит рядом. И ты не одна дома. Или собаку. Нет, та много лает, а ты и так вздрагиваешь от каждого шороха. От скрипа двери. От стука ставни. От телефонного звонка, от него постоянно: все-то тебе кажется, что сообщат что-нибудь страшное; от покашливания в кулак, от шелеста деревьев, от… От всего на свете! И всегда. Давно… С тех пор…
Нет, нет, нет! Нельзя обо всем сразу… Человек может вытерпеть многое, но только тогда, когда это нужно. Когда без этого нельзя. А пока…
Лучше скажи; зачем ты здесь? В этой комнате? Зачем засела и ждешь, чего ждешь? Зачем волнуешься, злишься? Что от этого изменится? И почему не наверху, в гостиной, не в спальне, не в кухне. Ведь и там светло, ты оставила свет, потому что тебе всегда кажется, что если вдруг пожалует та самая… безносая с косой, то не осмелится при электрическом свете…
Фу-ты… ну-ты! Поехала! Остановись, душа моя, не забывай: ты совсем одна… думай о чем-нибудь другом… Как советуют врачи: о чем-нибудь другом…
О чем?
Этого они мне не говорят, этого и они не знают…
И лишь в одной комнате — там, наверху, — темно. Как всегда. И — как всегда — я стараюсь туда не заглядывать, потому как там… Да там от одного лишь табачного смрада… от противного густенного дыма можно лишиться сознания… Так и случилось однажды, хотя об этом я и не заикнулась ни ему, ни ей. Встала сама. Меня вырвало. Я растерла виски спиртом. Сама легла в постель. Сейчас, проходя мимо комнаты, стараюсь туда не заглядывать, чувствую, как вот-вот вывернет наизнанку… и сразу мерещится, что там… что там и подстерегает меня нежеланная гостья… которая уже однажды снилась… и как раз в той комнате…
Пора принять таблеточку, дорогая. Самое время. Пожалуй, ту, от бессонницы, а то и…
Ах, знаю, знаю. Давно знаю, от чего. И еще знаю, что никакая таблетка не снимет моей боли. Больше помогает смех — когда сама над собой посмеешься. Над своими иллюзиями. Над неудавшейся жизнью. Над собственной слабостью. Едкий, иронический, горький, как полынь: пусть раздирается рот в улыбке, пусть хоть кишки вывалятся наружу… Но смех этот должен быть злее боли — той, что долгие годы угрюмо и безжалостно, как червь точит дерево, сверлит, грызет несчастное сердце; уж поверьте, горше нее ничего на свете…
Что ж, дорогая, таблетка проглочена, а что толку…
«Мета, Мета! Марго! Марго! Ме-е-та-а!»
Даже имена не меняет. Все оставил. Почему. Зачем?
Пальцы сами заерзали среди листов, будто пытаясь нащупать все эти скулы, щеки, носы, глаза вынырнувших из прошлого людей. Она не читает дальше — зачем? — она видит. Смотрит широко раскрытыми, потускневшими глазами, из которых годы вытравили влажно-фиалковую синеву, которая так нравилась всем (остались одни воспоминания), и отчетливо видит: куст можжевельника, за ним прячется длинноногий парнишка (из Каунаса, из Каунаса он), видит и каменистую, будто заваленную сахарной свеклой, дорогу (о, сколько хожено!), серую тьму, мириадами свинцовых брызг хлынувшую на лес, видит сувалкийскую пароконную телегу… И эту тетку в пестрой деревенской шали с бахромой — не только еще не старую, но даже совсем молодую, круглолицую, смазливую бабенку; и лошадей, и пар, что валит от их морд; и телегу — с длинным, далеко выпирающим вперед дышлом, крепкую телегу, с широкими грядками, меж которых можно уместить хоть два свиных закута, а на поддугах, прямо на гремящих досках, под ворохом сена и соломы — да еще придавленный попоной — судорожно сжимает в руке никчемный редакционный «вальтерок», испуганный, скорченный, весь поглощенный одной-единственной мыслью — выжить; он ежится…
«Кто такой?..» — завела разговор Ирка.
«Этот самый, слыхала? Ну, из Каунаса. Корреспондент».
«Тот, что, говорят, выпивает?..»
«А кто в наше время не пьет, скажи? Какой мужчина?»
«Да хотя бы твой Винцукас. Никогда не видела, чтобы он…»
«Верно. Винцукас другой…»
«Получше?»
«Сама знаешь, какой».
«Знаю: чудной. Хотя сразу видно — талантливый… Послушай, Мартушка, а он, случаем, тебе письма… в стихах… Ну, Винцукас твой…»
«Да, он говорит, так ему легче… Только с чего ты взяла, что мой? С таким же успехом — твой…»
«Твой, твой, не отпирайся… Чтоб мне счастья не видать!»
«Не шути. Винцукас очень добрый».
«Знаю… Вы знакомы с детства, а я с ним только через тебя… Уж, видно, Мартушка, это судьба — чтобы мы втроем…»
«Что ж, мы с ним в один день в комсомол… а это кое-что значит… И потом… Вместе работали…»
«Да что ты оправдываешься, Марта? Твой — вот и держи! А этот, из Каунаса… такой вечно печальный… Хоть бы познакомила… Или ты ревнуешь? Выходит, и этот, Мартушка, твой?»
«Дура!.. За кого ты меня принимаешь?»
«За лучшую подругу… за кого… Хотя говорят, он все больше с Фульгентасом… беседует…»
«Все они…»
«Выгораживаешь? Уже стараешься?»
«Просто говорю…»
«И пожалуйста… Только скажи: почему с Фульгентасом? С этим чертовым старым холостяком Фульгентом? Ты знаешь, Фульгентик… вроде бы собирался жениться… И даже, говорят, женился… да вдруг, моя золотая, выяснилось, что он вроде бы не совсем мужик…»
«Как это?»
«А так, такого женить — что собаку овсом кормить… Хотя он и не виноват — мальчонкой на мельнице в ремни попал… и…»
«Ну тебя! Не болтай…»
«А ты что, в ханжи записалась? В костельный хор, что ли?..»
«Дура ты, Ирка, правда ненормальная… Как можно о таких вещах…»
«А о чем можно? Небось не с малюткой разговариваю. Не с пионерками твоими. Не с костельным хором…»
«Ну тебя!..»
«Ты же не к Фульгентасу бегаешь, Мартушка! Что Фульгентас — ему бы только языком чесать да водку глотать…»
«Ирка! Или заткнись, или я… не посмотрю, что приятельница…»
«В газету пожалуешься? Он стоит твоей любви, этот корреспондентик. Уверяю тебя, Марта… не беда, что уныл… И если бы я жила по соседству, вроде тебя…»
«Ирка!..»
«Что, моя золотая, что? Скажешь, я неправду говорю? Вру, да? Учти, я на три года тебя старше. Ну, на два — это кое-что значит… За мной даже лейтенант Шачкус одно время бегал… Арестую, говорит, когда я с ним на танцы не пошла…»
«Ну, Шачкус!.. Тот и за мной…»
«Вот видишь… Ты представить себе не можешь, какая важная штука — опыт и как он помогает женщине в ее трудной жизни…»
«Ты, Ирка, сегодня треплешься, как наша Дарата… Есть у нас уборщица — эта тема просто ее конек…»
«Разве не ты начала? Ты сама затеяла весь этот разговор!»
«Какой разговор, Ирка?»
«Про корреспондента. Что! Ведь ты его хорошо знаешь, правда? Очень даже хорошо, Мартушка. И ступай, езжай к кому хочешь — мне-то что! К Винцукасу или к… Ведь это правда, что в Каунасе… ты с этим корреспондентом… на вечере или еще где-то там…»
«Опять… Дарата?..»
«Не все ли равно, кто… Если правда… А ведь правда, Мартушка, а? Правда?»
«Верь Даратиным словам…»
«С какой стати! Я тебе верю, подружке своей… И своему чутью, своему женскому нюху…»
«Не знаю… не знаю…»
«Знаешь, золотая, не отпирайся… И еще говорят, ты почти каждый день…»
«Каждый день? Я?»
«Ага… Ты уж не сердись, деточка, люди мигом всё… Ой, дойдет до Винцукаса… тут уж нага поэт… разнесчастный…»
«Что дойдет?»
«Что ты с этим корреспондентом… с приятелем нашего забулдыги Фульгентаса…»
«Ну, завела музыку, Ирена! Хватит! Перемени пластинку!»
«Если тебе так трудно о нем говорить…»
«О нем? Совсем не трудно! Тоже мне! А у тебя малость в голове помутилось, вот что я тебе скажу!»
«У меня? Ох нет, Мартушка, у меня в голове светлым-светло… А могу и помолчать, если неугодно слушать… если, по-твоему, лучшая подруга не имеет права выложить, что о тебе говорят. Ведь в нашем городе, дорогая Марта, и за угол потихоньку не сходишь… сразу все под бабий прожектор… Все у нас как на ладони, и всем до всего есть дело… Ох уж в этом нашем славном деревенском городке…»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Нет, не так, — этот роман надо начать не так, Бриг, потому что сначала играли старое-престарое танго, а я, Бриг, всегда буду неравнодушен к этому танцу, как и в молодости, хотя были в ней не только любовь да розы, но и кровь и слезы, Бриг. И даже не скажу — чего больше, хотя сегодня это уже неважно. Итак, играли танго «Виолетта» — там, в Кельне, хотя роман, поверь, будет не о том; по всегда ли мы знаем наперед, о чем будет наш роман? Что знаем мы о себе самих? Часто, приступая к работе, — ты один, а завершая ее — совсем уже другой, Бриг, и ничего тут не поделаешь; неизменна, как сказал один грек, одна лишь изменчивость. Так и с нами, Бриг. В начале своей жизни мы одни, а ближе к закату — и он, кстати, видится мне, Бриг, хотя я самому себе боюсь признаться, насколько четко он вырисовывается, — совсем-совсем другие; иначе, по-моему, и быть не может и никогда не будет; по почему тогда я так люблю розы и танго? Не потому ли, что хочется опровергнуть все мною же сказанное: что нынче я не тот? Не потому ли, что с детства во мне сидит проклятый демон отрицания, которому все неймется показать свои острые рожки, стоит мне слегка лишь забыться и размякнуть. Но одно не под силу даже ему, рогатому: заставить меня отречься от своей молодости. От такой, какова она была, — этого он не может, Бриг, нипочем, хотя она, как я сказал, не всегда была подобна цветущему саду. Хотя она, быть может, открытая рана… тронешь — и…
Итак, играли, Бриг, а я сидел в Кельне, в кафе, перед чашечкой мокко, и ждал Вингу, «эту, из группы», как выразится позже Эрика, с которой я в тот момент не только не был знаком, но даже понятия не имел, что она может существовать на свете. Разве я виноват, что мир так тесен и можешь встретиться с человеком в самых неожиданных обстоятельствах; так встречался я со многими. Так познакомился я и с Вингой, которую вот жду теперь в кельнском кафе (черт меня туда понес!) и которую лет десять назад видел по ту сторону определенной линии на карте: в Бухенвальде. «Jedem das Seine»[19].
Это казалось мне странным, а возможно и фантастичным (если не выразиться поэнергичнее) — искать в списках того, кого там нет и не могло быть: родного отца. Да разве Винге втолкуешь? «Я должна его найти. Обязательно!» — сказала она, когда я (первый раз? Нет, явно не первый, ведь я уже видывал ее в редакции) заметил ее в Каунасе, у Девятого форта; палило солнце, деревья никли от пыли и зноя, под ногами ксилофонными басами звенели накаленные камни, а в подземельях сводило члены от пронизывающей стужи: ни дать ни взять — зима; школьники двигались гуськом, тихие, подавленные, точно боясь, что дверь захлопнется и они останутся здесь, в заточении, подобно тем пленникам военного времени; Винга шла, чуть отстав от всего отряда, и влажно блестящими в сумраке глазами в который раз перечитывала нацарапанные на стенах слова узников, от которых еще больше, чем от музейных экспонатов, веяло леденящим сердце дыханием смерти… Я поздоровался, узнав юного внешкора: чуть ли не каждую неделю девушка забегала в редакцию с какой-нибудь заметкой; ума не приложу, напечатали мы хоть одну или нет… И лишь позднее узнал, что эта щуплая девчушка с пышными черными волосами и горящими карими, привычными к темноте (почему я так решил? Ведь тогда я еще ничего не знал) глазами — ученица выпускного класса Винга и что она повсюду будет искать отца — того самого, которого никогда не видела, но кого представляла по описаниям своей хворой, покашливающей в кулак матери: совсем еще молодого, но усохшего, точно черствая хлебная корка, с узким горбоносым лицом, темными, но как бы припорошенными пылью волосами и до того печального и одинокого, что развеселить его могло бы разве что известие о позорном конце самого Гитлера, и не какой-нибудь заурядной смерти, и не где-нибудь, а по меньшей мере от удушья в самых что ни есть зловоннейших канализационных трубах города: их этот человек знал как нельзя лучше! Три года подряд изо дня в день, дождавшись полуночи, тщательно осмотревшись, мчался он по улице, рывком поднимал крышку с отлитыми из чугуна знаками городского самоуправления и, осторожнейше водворив крышку на место, спускался по ржавой отсыревшей железной лесенке вниз, на самое дно канализационного люка, где за переплетением обмазанных липким варом труб его ожидала жена; она ждала, покашливая в кулак; между ней и мокрым, склизким цементом находилась пара насквозь пропитанных сыростью досок да вонючий, проплесневевший матрац. Три года подряд уговаривал он ее хоть раз выглянуть наверх и показаться врачу; жена только качала головой и молчала: боялась гетто. А потом случилось то, чего оба боялись пуще всего: она забеременела; жизнь, черт бы ее подрал, есть жизнь даже в самом аду; он все уговаривал обратиться к врачу; она покачивала головой. Было похоже, что она, эта всегда чему-то улыбавшаяся женщина, прежде так горячо любившая солнце и яркие краски, теперь настолько примирилась со своей темницей, из которой, как из вонючего брюха палой коровы, во все стороны расползались разбухшие, осклизлые канализационные кишки, что ни о чем ином и слышать не хотела; в этом заброшенном уголке города прохожий, погруженный в раздумья о собственной участи, не мог слышать ни глухого покашливания под землей, ни — уже много позже — первого крика новорожденного… Лишь одного не предусмотрела она, эта упрямая, вечно чему-то затаенно улыбавшаяся женщина: что ее муж будет арестован именно в тот миг, когда, раздобыв пеленок и детской присыпки (нужда в таковой случается и в военное время), с мылом и термосом горячей воды, упрятанным в купленную на барахолке противогазную сумку, собирался идти к жене — в люк, где теперь, после рождения ребенка, был его настоящий дом; оказывается, нашелся еще более настоящий… Вот такого — поглощенного проблемами вселенского бытия, с трагически поникшим горбатым носом на узком костистом лице, с болтающейся на боку диковинной ношей — его и затолкали в черный гестаповский фургон, поджидавший за углом, и никакой допрос не заставил его выдать свою тайну; впоследствии соседи говорили, будто его вместе с другими отправили в концлагерь; в какой именно? Этого никто не знал, лагерей много; может, и в Бухенвальд…
«Но туда, не забывай, сгоняли главным образом немцев… то есть немцев-антифашистов… ведь были и такие… Наши туда попадали редко…»
«По-моему, он здесь…» — пропустив мимо ушей мои слева, повторила Винга, когда мы — опять-таки совершенно неожиданно — чуть ли не нос к носу столкнулись на гладкой, открытой всем ветрам горе, в самом сердце земли немецкой, в доброй тысяче километров от Вильнюса; я гостил в Эрфурте и, конечно, поехал в Бухенвальд, а Винга, к тому времени уже студентка, прибыла туда с хором или каким-то ансамблем; чуть ли не нос к носу столкнулись мы у стенда со списками погибших; поздоровались шепотом, как на кладбище.
«Не нашла… — вздохнула она, когда час или два спустя и, разумеется, невольно — пути туристские повсюду те же — оба мы очутились в одном и том же небольшом, но уютном ресторанчике все на той же открытой всем ветрам горе; как-то вышло, что оба одновременно подошли к окну, где стоял свободный столик; я попросил разрешения сесть; Винга согласилась. — Нету… Здесь нету…»
«А ты полагала, что есть?»
«В Бухенвальде? Конечно! Ведь его увезли… с другими профессорами…»
«Но почему обязательно сюда? Лагерей было много — по всей Европе…»
«Его увезли в рейх! В Германию, это точно».
И замолчала, отвернулась к окну; я мысленно проследил за ее взглядом, скорбным и чуть с поволокой, устремленным туда, где в таинственной долине у подножия горы, словно выплывший из трепетной глубины столетий дух Шиллера и Гёте, восходил прозрачно-голубой и как будто испокон веков мирный веймарский туман; глаза Винги, мало знакомые мне, показались слишком темными и подернутыми какой-то дымкой…
Она взглянула на меня с каким-то укором, а то и со злостью, и эта злость мигом смыла с ее взгляда тусклый налет — легкую дымку, которая сливалась, перемешивалась с мглистым осенним вечером, с мягкой, колышущейся над веймарскими башнями меланхолией; я не спеша закурил.
«Ну, конечно… — она потупилась явно смущенно. И голос уже был тише, даже спокойнее. — Необязательно здесь… Может, вовсе и не здесь, хотя мама говорила мне… я помню, когда я была совсем маленькая… Вы понимаете, товарищ… ну, товарищ главный редактор…»
«Редактор? И это здесь? В Бухенвальде?»
«Извините… — на круглом Вингином лице показалась застенчивая, жалкая улыбка — так, видимо, улыбалась ее мама. — Сделайте скидку на студенческую незрелость… Я правда не знаю, как обращаться к вам…»
«Просто по имени…»
«По имени? К вам?»
«Разве у меня нет имени?..»
«Есть, но все-таки… Вас — по имени?..»
«Меня все так зовут».
«Не все».
«Почти все».
«Вы — редактор!»
«Ну и что же? Редактор тоже человек, Винга… Даже такой старенький, как я…»
Заигрываешь? — спохватился я, удивляясь своей развязности. — Чего тебе от нее надо? От этой девчушки? Мало тебя учила жизнь? Мало била, корежила? Забыл, что такие безобидные фразочки — страшный джинн, которого нельзя выпускать из бутылки?
«Вы не старый».
Вот видишь! Ликуй, пляши — тебя заметили, даже отметили; получил что хотел.
«Смотря для кого…»
Пошло-поехало — хвастай, набивай цену. Раз уж ввязался в игру…
«Для меня — не старый!»
Что я говорил!
«Для тебя?»
«Я и сама старуха… Если бы вы знали, товарищ Глуоснис, какая я старая… Какая дряхлая…»
«Ты? Детка, какая ты…»
«Кокетка», — чуть было не закончил я, но удержался: к чему эти рифмы? Детка-кокетка — ну и пошлятина! В общем, нечего нести чушь.
«Да, да — старая… — Она улыбнулась сама себе. — Полная развалина… — Невольно тронула рукой пачку сигарет, которую я положил на стол, отодвинула подальше от себя. Возьмет? Ждет, когда предложу? Сигарету она не взяла, и у меня отлегло от сердца: не люблю, когда женщина курит, особенно та, с которой… Если ты, Глуоснис, сам предлагаешь закурить, значит, отдаешь себе отчет, что с этой… все… Да, ставим крест — бывало такое в молодости… с такими дальше дружбу не водим… — И говорю ужасные глупости… Что вы подумаете обо мне? Что?»
Для нее это имеет значение, старик: что ты подумаешь. Хорошо это или плохо, а?
«Подумаю, что нас свела судьба, Винга…»
«Судьба?»
«Именно. Иначе как объяснить нашу встречу?.. За тысячу километров от дома… в каком-то Бухенвальде…»
«Для меня он не какой-то!»
«И для меня, конечно! Для меня тоже…»
Вот болван, подумать только: и для него! И для него это имеет значение — что встретились в Бухенвальде; что еще сморозишь? Еще пошлее, еще глупое и неуместнее?
«Что закажем? — спросил я, полистав меню и строго глядя на Вингу. — Индейку? Она тут значится…»
«Для студенческого кармана…»
«Это уж не твоя забота, я угощаю. Имею я право, а?»
«Разве что как редактор… внешкора-неудачника…»
«Брось ты это!.. Люди как люди. Просто люди, ладно? Туристы… Ну, на худой конец — сотрудники… Итак?»
«Все равно…»
«А что пьем?»
«Минеральную воду».
«Отлично…»
Я подозвал кельнера.
«Две отбивные, — сказал я: это было самое дорогое в меню. — И два коньяка…»
«Коньяк я, товарищ Глуоснис…»
«Разумеется, стакан минеральной воды со льдом… кофе… А коньяк выпью я. Обе порции. А то и целых три…»
«Три? — Она ужаснулась. — Почему целых три?»
В ее глазах в самом деле мелькнуло что-то вроде страха, в этих блестящих карих, по-детски расширенных глазах; она даже поглядела по сторонам.
«Почему три? Потому что не одну и не две, поняла? От немецких коньячных доз еще никто не скатывался под стол. А тем более — не умирал».
«Ужас!»
«Что тут ужасного, Винга? Надо же что-то делать!.. Для чего же тогда рестораны? И потом, настроение сегодня какое-то муторное… Когда окажешься в таком месте, как сегодня… где человек вдруг понимает, что он не больше чем песчинка…»
«Ну из-за этого не стоит огорчаться! Надо только стараться, и все… А остальное, товарищ Глуоснис…
Я не понял.
«Я найду его! Вот увидите! Ведь мама говорила… Я помню хорошо…»
И вдруг умолкла, смешалась, отчего-то испуганно глядя на соседний столик: там собралась группа таких же молодых людей, — возможно, из того же ансамбля или хора; разговаривали по-литовски и с таким оживлением, что не заметить их было невозможно, — после посещения Бухенвальда, пожалуй, слишком оживленно и громко; я перехватил негодующий Вингин взгляд и, разумеется, согласился с ней.
«Ты что-то хотела сказать? — спросил я, глотнув пива (не спрашивая, как нечто само собой разумеющееся, официант поставил передо мной запотевшую кружку «Радебергера»; коньяк он принес потом), пиво было ароматное, но холодное и пощипывало горло. — Винга, ты собиралась что-то сказать…»
«Да, да! — встрепенулась она и, словно радуясь, что моя слова избавили ее от необходимости думать о соседнем «литовском» столике, откуда в нашу сторону постреливали весьма любопытные — в особенности девические — взгляды. — Один раз, помню, когда я еще была малюткой, мама мне сказала…»
«Смелей, смелей! — подбадривал я. — Они не услышат… далеко…»
«Они? — Винга нахмурилась. — Да хоть и услышат — все равно не поймут… И даже не знаю, поймете ли вы…»
«Постараюсь…»
«Только не смейтесь, ладно? Обещаете?..»
«Обещаю. И что же твоя мама… царство ей небесное…»
«Ну, что я… может, я и сама… в этих канализационных люках… Не понимаете?»
«Н-нет», — сознался я, хотя что-то как будто смутно забрезжило из того, что она собиралась сообщить, — пусть очень и очень смутно; нет, я знал, что это невозможно, то, что она скажет.
«Что я… что, может, и я… тоже родилась там… уже после того, как отца… гестапо…»
Я не выдержал.
«Винга, — произнес я как можно более спокойным голосом, — человек не в силах назначить себе час и место рождения…»
«Что ж… — вздохнула она. — Вы не поняли… Вы меня не поняли…»
Она подчеркнула слово «вы», и я невольно нахмурился — прямо-таки почувствовал, как по складкам на лбу будто темной тенью промелькнули мои, откровенно говоря, немолодые годы; Винга почему-то улыбнулась — печально, разочарованно.
«Что ж… — повторила она. — Разве надо родиться в канализационной трубе, чтобы прочувствовать ее в полной мере?.. В конце концов, это никому не помеха…»
«Что не помеха, Винга?»
«То, что я ищу… повсюду ищу его… Если не своего отца, то просто мужа моей матери. Ведь сама она не может… не смогла… Я еще тогда так решила…»
«Решила?»
«Когда была маленькая… Я решила разыскать его, своего отца… Он мне так нужен, вы верите?.. И тогда, и сейчас… Ведь мамин муж, как я вам уже сказала, мне как бы и…
«Да, да! — заторопился я. — Но ведь первый муж… то есть тот, который был, когда тебя даже в самых приблизительных маминых расчетах и в помине…»
«Не все ли равно! — перебила она меня. — Теперь-то уж точно все равно. Особенно теперь, когда никого из них нет… и когда я чувствую, как мне их не хватает… Ведь искать не возбраняется, правда? Я имею право узнать, где он? Имею или нет? Скажите, имею?»
«Имеешь, — ответил я. — У каждого есть это право…»
«Вот видите!.. — просияла она. — У всех моих подруг есть отцы… А я… как душа неприкаянная…»
Словно увидев за окном нечто на редкость интересное, я загляделся на веймарский туман — в надежде, что Винга не заметит смущения на моем лице: я, конечно, решил, что отца своего она не знает. Ни того, которого ищет, ни подлинного, родного отца; мать умерла, когда Винге было девять лет, и об отце мать никогда ни словом… Конечно, жизнь есть жизнь, ничего не попишешь, — кто-то, стало быть, утешал эту болезненную, печально улыбчивую, но с горячей кровью профессорскую вдову в полуночные часы другого, послевоенного времени; это, конечно, моя догадка, и доказательств у меня никаких; этот «кто-то» мог, например, оказаться тем самым доктором, что проживал в двухэтажном особнячке неподалеку от вышеупомянутого канализационного люка, — тоже вдовец, к тому же с трехлетним мальчуганом на руках; это он, врач, вытащил из канализационного люка полуживую женщину (выяснилось, что он все видел и понимал) и, плотно завесив окна, безотлучно днем и ночью находился при больной, выхаживал и прятал ее вплоть до освобождения города; ребенок все-таки не выжил. Знал я и кое-что больше: что сын сердобольного доктора, по имени Абдонас, флейтист, формально является Вингиным мужем (это вселяло некоторую тревогу, поскольку это супружество можно было расценивать по-разному); полагаю, она и сама не могла бы с точностью сказать, когда от детских игр они перешли к взрослым; почтеннейший хозяин дома, доктор, ни на миг не выпускавший деток из поля зрения, чудом воспитал себе сноху в собственном доме…
«Ты найдешь, Винга, — сказал я и зачем-то пожал ей руку, сам удивившись своей фамильярности; мы сидели на длинной рыжей лавке за длинным рыжим столом, на котором рыжеволосый официант, флегматично сдвинув брови, раскладывал тарелки, ножи и вилки; рядом на небольшом рыжем сервировочном столике дымились румяные отбивные, золотился и отливал рыжим коньяк в трех скромных рюмках; одну я осушил немедленно. — Ты молодчина».
Она вспыхнула. От этого ярче стали ее печально горящие глаза.
«Не говорите так, ладно?» — негромко попросила она.
«Почему? Ведь это правда…»
«Вы ничего не знаете… Ни про меня… ни…»
«Мне и не надо всего знать, Винга… Ты мне нравишься…»
Вот уж чего в самом деле не следовало говорить: «Ты мне правишься». Но, к моему великому удивлению, эти слова сами вырвались у меня — слово не воробей… что тому виной коньяк, или тысяча километров, отделявшая меня от дома, или две недели туристского житья (если так, дорогой товарищ Глуоснис, то делишки твои плохи); но сказанного не воротишь, и нет смысла сожалеть, как и о том, что мы двое: редактор солидного журнала и начинающий искусствовед, да что там — просто студентка, хористка! — сидим рядышком, а может статься, что сожалеть поздно; и я снова пожал ей руку.
«Давайте уйдем отсюда! — сказала она, убирая руку и вставая. — Уйдемте! Скорей!..»
Привстал и я.
«Из-за них?.. — я кивнул на соседний столик; Вингины хористы-однокашники, очень оживленные, лихо чокались бокалами пива. — Боишься?.. А ведь беседовать ты можешь с кем угодно, правда? Даже с таким древним старцем, как я…»
«Не в этом дело! — Она махнула сумкой. — Нет! Вовсе не в этом…»
«А в чем? Предрассудки?..»
«Какие?» — она уставилась на меня.
«Такие… мол, замужняя женщина… в ресторане с чужим мужем…»
Это было вовсе бестактно, хотя я и сказал сущую правду, и сказал с уверенностью; но правда-то была довольно бестактной, и я сообразил это сразу, едва лишь произнес эти слова; однако Винга, судя по всему, нимало не смутилась, а возможно, и ждала этих слов — «замужняя…»; возможно, давно к ним привыкла, как к воде из крана; она снова села.
«Тогда посидим!.. — проговорила она, не глядя на меня, и от этого мне стало еще больше не по себе. — Если ты думаешь, что я боюсь… если ты так…»
Она сказала «ты» впервые за весь этот вечер и вообще первый раз, и уже за одно это (о, незадачливый старый донжуан!) я был готов простить ей гораздо больше, чем гневную отповедь студентки, от которой всего можно ожидать, не найдя слов для ответа, я пожал плечами и еще раз бережно коснулся ее руки; у нее были совсем холодные пальцы; я убрал свою руку и выпил еще одну рюмку.
«Дай и мне, — сказала она. — Что-то голова моя…»
Мы поели.
Заиграла музыка — неожиданно и совсем некстати: фортепиано, скрипка, флейта; Вингу передернуло.
«Правда, хватит… Пойдем». — Она встала и, не произнося больше ни слова, быстрыми, стремительными шагами направилась к двери.
И впоследствии, я обратил внимание, на нее странно действовала музыка — всякая, в особенности камерная, которой она, очевидно, наслушалась предостаточно: флейта же просто бесила ее. Не любила она и танцевальную музыку, я даже сомневаюсь, чтобы она умела танцевать, Абдонас танцы презирал, считая их, как и многое прочее, пустой тратой времени и бессмысленным тисканьем на людях, предаваясь которому человек, по его мнению, уподоблялся своему косматому предку и, само собой, отдалялся от нравственного самоусовершенствования, к каковому он причислял прежде всего собирание почтовых марок; даже на своей замызганной старенькой флейте Абдонас упражнялся, превозмогая кромешную скуку, которая в свою очередь, подобно зевоте, передавалась остальным; Винге даже казалось, что он всегда играет одно и то же. Однажды она так и сказала мне: все то же самое — — —
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Итак, Бриг, сидел я в Café am Dom[20] на террасе, в Кельне, по меньшей мере десять лет спустя, в конце августа, под вечер, и, потихоньку попивая колу, смотрел на утопающую в дымке Hohe Strasse[21], откуда, словно из некоего белого нейлонового рукава, всё валили люди, ползли пестрыми шевелящимися клубами; и все с сумками, свертками, всевозможной расцветки целлофановыми пакетами и мешками, даже с чемоданами; и растворялись в желтом мареве среди домов, деревьев и бетона площади, все еще пышущего зноем после жаркого дня; где-то их ждали квартиры, гостиницы, автомобили, жены, мужья, дети; словом, их ждали; меня не ждал никто. Я уже привык, что меня никто не ждет, и это не вызывало у меня никаких эмоции, никакого душевного смятения, как когда-то, — просто было пусто и гнетуще на душе и хотелось с кем-нибудь поговорить, в общем выговориться, вот как сейчас с тобой, Бриг; человеку всегда нужен человек. Речь идет не о служебных делах, в сотрудниках тоже никогда нет недостатка, не говорю о недоброжелателях, которых почему-то чем дальше, тем больше. И, возможно, оттого было приятно знать, что где-то в Вильнюсе, в свернувшейся ужом серой улочке старого города, во дворе за толстой стеной, крытой черепицей, за старыми каштанами, одно окошко светит мне ярче остальных, — не беда, что это окно Абдонаса (жили они в разных комнатах, хотя и были женаты, в подробности вдаваться не будем), который до глубокой ночи раскладывает марки, а иногда наигрывает на флейте — когда остается время; мы с Вингой часто беседовали. Это была дружба без каких-либо расчетов — и, понятно же, ничего похожего на легкий, но не слишком невинный флиртик, какой позволяли себе некоторые мои сослуживцы и коллеги; и уж совсем в нашей дружбе не было корысти, мне просто надо было с кем-нибудь разговаривать свободнее, чем с сотрудниками, тем более с подчиненными, — без скидок на положение, без тех неизбежных умолчаний и тайного желания перехитрить кого-то или опасения, что перехитрят тебя; иными словами — разговаривать обо всем, что взбредет в голову, без всякого стеснения и притворства, зная, что твоя искренность, обычная человеческая откровенность, не будет использована во зло. Мы встречались в редакции, у всего честного народа на виду, никогда не уговариваясь о встрече загодя и никогда не помышляя о ней; а то обстоятельство, что с Вингой я беседовал дольше, чем с другими, никого особенно не удивляло; виделись мы также на собраниях, совещаниях. Устраивались подальше, где-нибудь в последних рядах, хотя по рангу мне полагалось быть если не в президиуме, то, во всяком случае, впереди; поглядывая время от времени на председательствующего или оратора, порой прислушиваясь, а иногда и вовсе не обращая на них внимания (речи в основном одни и те же, слова и те повторяются), мы не спеша обсуждали все события за то время, что не виделись — месяц, два или целых полгода, — и все больше из области искусства, которое она знала лучше, чем что-либо другое. Иногда я подбрасывал ее на служебной машине (водитель привык, что я всегда кого-то подбрасываю), иногда, особенно если собрание проходило ближе к ее дому, мы добирались пешком; мне нравилось идти рядом с ней — такой юной и женственной (не скажите, мужчине надо куда-то выйти с женщиной!), а в хмурые осенние или морозные зимние вечера — и поддерживать ее (женщину, женщину, женщину) под руку; с женой мы так гуляли давным-давно. Затрудняюсь сказать, когда именно она перестала ходить со мной куда бы то ни было («нездоровится», «платье не готово», «не уложены волосы», «не тянет…»), и понятия не имею — почему; возможно, это случилось после ее возвращения из Москвы (годовая стажировка в академии), а возможно, и раньше; по-моему, она просто не выносила соседства других женщин, особенно тех, кто помоложе и поздоровей, — а скажите на милость, где их нет… И молодых, и здоровых (жена все чаще хваталась за грудь и бегала по врачам), и, быть может, более привлекательных. Но разве оттого она переставала быть женой? Были в нашей жизни, особенно в самом ее начале, и вовсе безоблачные дни, были общие радости и общие заботы, особенно когда мы оба учились и жилось, право, нелегко; порой (такова она, жизнь семейная) пробегала промеж нас и всем известная черная гадкая кошка… Постепенно мы так свыклись друг с другом, что даже недостатки начали казаться не изъянами, а просто личными качествами человека, с которыми надо мириться, как и со многим другим, чего не изменишь; а то, что ее здоровье, словно яблочко, пусть медленно, исподволь, но упорно и методично стал подтачивать желтый червячок болезни, вызывало у всех вполне понятную жалость и решимость сразиться с еще далекой, но очень к нам не благосклонной — не только к нам обоим, но и ко всей нашей семье, ибо была еще и дочка Эма, — потихоньку грозившей из своего мрачного убежища судьбой. И жена приняла этот вызов судьбы, эту медленно, но неумолимо ползущую к нам опасность, которая ни с того ни с сего возникла как бы в самом воздухе и грозно встала поперек дороги, черной тенью вползла в наш дом, готовая помешать нам жить как люди даже тогда, когда казалось, что наконец-то можно начать жить… Но лихо не дремало, оно подкрадывалось все ближе, грозило обоими кулаками; незваная, неумолимая беда намеревалась в корне изменить многое в нашей судьбе; словно голодный, но опытный старый зверь, подобралась она к нашему дому вместе с быстро уходящими годами, с безбедным житьем и удалением от войны, от послевоенной разрухи, где, казалось, остались и канули в вечность бедность, мытарства, мечты о лучшей доле; все успокоилось. О, как невыносимо спокойно бывало порой у нас в доме, на улице, на службе, во всем городе, как святотатственно тихо; приходя домой с работы, не знал, что и рассказать, — до того серым и бесцветным был день! Не докладывать же, что худред Кишкис снова опрокинул кипящий кофейник (он варит кофе прямо на чертежном столе) на ватман, а типография тянет с номером; или что машинистка Люда отрастила такой длинный ноготь на указательном пальце, что он мешает ей печатать вслепую; потом, вечно она рвет копирку; а секретарша Кристе… Постой, постой, о женщинах — нельзя, к этой теме жена чувствительна; кажется, в этой области она слегка утратила уверенность в себе; к тому же в редакции женщин явное меньшинство, коллектив почти сплошь мужской, поэтому нет ни тайной ревности, ни свары, ни пикантных ситуаций; жены сотрудников, обычно бдительные ангелы-хранители, любящие проинспектировать женскую половину рабочего окружения своих благоверных (как-никак восемь часов подряд теснейшего общения!), в нашем благословенном учреждении оказывалось прямо-таки не у дел. Жены изнывали от скуки и переключали свое внимание на моды, мебельные гарнитуры, новые образцы холодильников и телевизоров, вязание — на службе у их мужей было тихо-спокойно; однако это не мешало женам время от времени напоминать мужьям, что не худо бы в той же, милой редакции зашибать на сотенку больше; Петрайтисы, между прочим, уже купили…
Но на такие темы у нас в доме говорили редко: кто да что купил; жили мы скромнее, чем можно было ожидать (зарплата, гонорары за книжки), к вещам чрезмерного интереса не питали; жена не питала его и к людям. С годами она все больше замыкалась в себе, не только никуда не ходила, но и отказывалась приглашать к себе; жизнь ее становилась похожей на затворничество. В чем-то она разочаровалась, моя жена, на чем-то обожглась, в чем-то обманулась или оказалась обманутой; некогда смело заявлявшая о своих правах, она выглядела теперь остывшей, безмерно усталой и как будто не представляла, как эти права отстаивать и сохранять за собой; она была недовольна и лично мной. Это выяснялось всякий раз, когда я пытался предложить ей куда-нибудь сходить со мной — в кино или театр («Там тебе не надо на меня смотреть»), на праздники пригласить кого-нибудь к нам в гости («Конечно, тебе удовольствие, а мне стряпать и мыть посуду») или съездить вместе на пару недель в Палангу или Ниду («Перестань, мне нельзя в холодном море»). Такие разговоры почти всегда кончались размолвкой и долгими неделями безмолвной «холодной войны», во время которой мы ночевали спиной друг к другу, боясь ошибиться даже во сне; бывало, что она хватала в охапку свои подушки, простыни, одеяло и среди ночи перебиралась в другую комнату, целыми днями ходила в синем тренировочном костюме или полеживала на диване — унылая, безнадежно мрачная, демонстративно высокомерная, неумолимая и, по сути дела, достойная осуждения, если бы не подлая ее болезнь…
Потом это стало чем-то обыденным — ничем не объяснимые ссоры, раздражительность по мелочам, — настолько обыденным, что у меня пропала всякая охота разговаривать с ней о чем бы то ни было, кроме домашних дел и, может, — может, ибо вскоре я заметил, что именно здесь было всего труднее найти с ней общий язык, — воспитания дочери; тут она была непреклонна.
«Ты подавил мою личность, — сказала она однажды; меня пот прошиб от ее слов. — Ты не дал мне стать человеком, заставил разгребать свои авгиевы конюшни… Можешь не сомневаться, я добилась бы больше твоего, если бы не ты!.. С Эмой так не выйдет!..»
Разговор этот происходил после приступа, когда Марта выписалась из больницы, и она просила прощения, сославшись на болезнь, лекарства, побочные явления, о которых, мол, и сам профессор толком не знает, — медикаментов она, кстати, потребляет целые горы, и тут я не в силах что-либо изменить; но я уже понял: наша дальнейшая жизнь будет несладкой; я окончательно пал духом. И все же не мог махнуть рукой: будь что будет! Или поступить подобно некоторым другим. Совесть не позволила, Бриг, — все-таки она мне жена, кто смеет вычеркнуть совместно прожитые годы? Никто. Я это знаю и знал всегда, когда запирался в кабинете с гудящей после ссоры головой, и всегда — встречая Вингу в редакции или где-нибудь на собрании: жена есть жена. И потому не мог позволить себе перейти определенную границу в отношениях с Вингой или с кем-нибудь еще (в паше время такая возможность передка); иногда мне даже казалось, что я и так слишком далеко зашел. То есть с кем — с Вингой?
«Послушай! Говорят… А ты не рассердишься? — как-то заговорила жена после очередного выхода из больницы или из своей комнаты (мы называли ее «зеленой»), где она, натянув свой обожаемый тренировочный костюм, дни и ночи полеживала на переправленных из спальни подушках-одеялах. — Будто бы ты… ну, вроде с какой-то студенткой…» — «Студенткой?.. — удивился я, в тот миг начисто позабыв о существовании Винги. — С какой студенткой?» — «Вроде с той, которая провалилась у меня на экзамене… И ушла из института…» — «Что-то я такой не знаю…» Я в самом деле не слышал, чтобы Винга ушла из вуза после провала на экзамене по злосчастной этой эстетике; мы с ней уже месяца три как не виделись. «Знаешь, знаешь… Да смотри не обознайся… Она — не я… Да и ты…» — «А я? — переспросил я машинально; всегда интересно услышать что-то о себе самом. — Ну, а я?..» — «Ты уже не юноша, Ауримас… Я и советую: подумай… хорошенько все продумай и тогда только прими решение…» — «Да я никаких решений не принимал! И обдумывать мне нечего. Что за бред? Дурацкие мысли…» — «Дурацкие? — Она вздохнула и улыбнулась язвительно своим затаенным мыслям. — Не очень-то… Хотя… я прошу тебя: но предай… Не предай меня, Ауримас… ведь и я не предала тебя… когда все остальные… помнишь?»
Я ничего не ответил, промолчал, удивляясь тому, что сегодняшний разговор не перешел в склоку, как это водилось у нас в доме; ушел к себе в комнату, откупорил «три звездочки» и единым махом проглотил граммов триста; ночью то и дело просыпался…
«Не предай…» — это слово слышалось мне всякий раз, когда, измученный очередной ссорой, а еще больше — многозначительным молчанием, я выбирался куда-нибудь развеяться (без жены, разумеется), чтобы без помех обдумать самое главное для себя. Несмотря на все, я писал, Бриг, писал, писал, писал, но иногда даже осмеливался сходить в кино или театр — там появляться без жены или мужа считается особенно дурным тоном; иные граждане, проторчав в ложе или партере со своими супругами все три длиннющих действия, безукоризненно, с лучезарной улыбкой исполнив обряд в гардеробе, чуть ли не от самой вешалки направляются в разные стороны; что для публики, то публике, а мое — мне… Я тосковал по людям, по самым разным, по всяким; кроме тех, что работали со мной в редакции, мне требовались и другие люди, я испытывал потребность видеть их лица, глаза, фигуры, слушать, что они говорят, и мысленно — что думают и что скрывают за гладкими, морщинистыми, высокими или низко нависшими лбами, под модными прическами из аккуратнейше уложенных или нарочито разметанных волос. Я испытывал необходимость понять их, острую потребность — узнавать и постигать, ибо без нее, я уверен, ничто не могло существовать, вся моя жизнь (я давно понял) стала бы бессмысленной и пустой. А работа журналиста… Она не терпит застоя, ох уж эта работа — она сразу мстит: хочешь оценивать — учись все видеть, знать, чуять, испытывай все на собственной шкуре; где уж тут сидеть дома! Но всюду, даже в кафе (разумеется, в одиночестве), я слышал это глуховатое «не предай» и мгновенно трезвел, расплачивался и шел домой; атмосфера там, ясное дело, была все та же… Но на душе у меня бывало легче, чем до ухода из дома: я не предал, вернулся…
«Не предай»… — отдавалось в ушах, стоило мне где-нибудь увидеть Вингу, почему-то именно ее, так как при встрече (разумеется, по рабочим делам) с какой-нибудь другой женщиной колокольчик этот молчал, не подавал никакого сигнала; но достаточно было увидеть Вингу или просто подумать о ней, как в ушах отдавалось это тихое, жалобное «не предай»; я снова оказывался где-то далеко от сегодняшнего дня, от города и этих людей, где-то в послевоенной разрухе или в военном времени, где эти слова всегда имели четкий смысл: «…ведь и я… тебя… когда все остальные…»
И все же я не мог без нее, без Винги, хотя мы и встречались от случая к случаю, без всякого плана; не мог, хотя и старался никак не обнаружить это; в ее пышных черных, всегда с каким-то остро пряным ароматом волосах, в стремительной, чуть напряженной, даже чечеточной походке, во взгляде ее живых, но непонятно печальных карих глаз, в грустноватой улыбке, блуждающей в уголках ее почти всегда подрагивающих, точно готовых раскрыться для крика, губ (видимо, так затаенно сама себе улыбалась ее мать, которой я никогда не видел и не знал), в ее упорной, годами вынашиваемой мечте виделась мне моя собственная юность: еще живая, но отдаленная, кому-то отданная, где-то оставленная и все равно моя, все равно нужная мне; к очарованию юности, как и к ритму танго, я навсегда останусь неравнодушен. А может, человек просто ищет то, что окончательно, безвозвратно утрачено? Или вдруг понимание той огромной, опасной для всех на свете угрозы, которую мы оба ощутили там, в Бухенвальде, сближало нас больше, чем какие бы то ни было другие флюиды?
Не знаю, не берусь судить. Но чувствую, что женщины меня (впрочем, может, и остальных) всегда понимают лучше, чем мужчины, которые склонны все истолковывать в свою пользу, и что только с женщинами можно быть полностью откровенным, хотя им эта откровенность зачастую вовсе ни к чему; и потом — я ведь рос без отца, и женщины, насколько помнится, сочувствовали мне больше, чем мужчины; для этих я значил не больше, чем камешек при дороге, чем серый заячий орешек, да-да, не больше; в этом я прекрасно отдавал себе отчет. И понял я это еще в Любавасе, куда прибыл из Каунаса, мрачный, потерянный, весь ушедший в себя, с разбитым сердцем; я строил тогда самые жуткие, мстительные планы — с женщинами я расквитаюсь (и главное, с ней — с ней, с Метой!»; женоненавистник!) Не стоик я, нет и нет, и зря вы меня таковым считаете; можете и дальше принимать меня за стоика, раз вам так нравится, — но я не такой; хватит с меня ударов, хватит и рабской покорности, ослиного терпенья; мне нужно не то. А что? Мне нужна борьба, деятельность, сопротивление — всем, кто только тронет, и в первую очередь… В первую очередь, разумеется, им, женщинам, которые сделали меня таким вот — беглецом, что ли (хотя сам я и верить тому не хотел); но от себя ведь не убежишь. От себя, уважаемый, ты никуда не скроешься и никуда не денешься — от себя-то самого, а? — словом, если ты, дурак, еще когда-нибудь… Нет, нет и нет! Да будет вам известно: Ауримас Глуоснис, который только что прибыл из Каунаса и попросился на службу в редакцию уездной газеты (его намерение поступить в отряд народной защиты почему-то вызвало смех, да и Гаучаса там уже не было), — женоненавистник, пуще всего на свете презирающий женскую ласку и любовь (если таковая вообще существует), ибо последняя — не что иное, как злейший яд или коварная ловушка, призванная окончательно лишить тебя самостоятельности и сделать из достойного, то да се повидавшего на своем веку мужчины никуда не годную тряпку для вытирания пыли с лакированных туфелек; не бывать тому, слышите! И не думайте, это не козни некоего Фульгентаса, и не друг он мне вовсе, а если я у него живу, если он дал мне койку, это еще не… И хотя ты, учительница с обрызганными дождем глазами, ты, пионервожатая и оплот нравственности здешних мест, чуть ли не каждый вечер бегаешь сюда за книжками (у Фульгентаса и они имеются), учти: Ауримас Глуоснис уже никогда…
Как все это смешно сегодня! Особенно когда вспоминаешь ту сырую осень в Любавасе… и тот бесконечный, ежедневный (должно быть, не имеющий конца) диалог с самим собой… да, диалог с собой, порой, правда, разбавленный сиянием чьих-то глаз во тьме, чьим-то вздохом, — словом… когда знаешь, что случилось потом… особенно…
Но тут уж лучше помалкивать, никому ничего не выкладывать, а если и вспомнить, то, во всяком случае, не сегодня, когда сидишь — в десятый или тридесятый раз — черт знает где и черт знает в каком городе, далеко от Литвы и еще дальше от всего того мира войны и послевоенной смуты; нынче, дружище, спокойные времена, вот почему всякие там разные воспоминания, сам понимаешь…
«Опоздала… — услышал я вдруг и вздрогнул: до того неожиданным показался мне этот голос, которого я здесь, на террасе am Dom[22], ждал уже добрый час. — Вот, смотри, что я купила…»
Я поднял голову и увидел у нее в руках рыжую плюшевую обезьянку с блестящими стеклянными глазками; чем-то эта обезьянка была на нее похожа. Я так и сказал.
«Спасибо, — ответила она, ничуть не обидевшись. — А мороженого обезьянке можно?»
Да, сегодня Винга была не такая, как обычно, — гораздо веселей и разговорчивей, болтала почти все время сама, не обращая на меня внимания; такой она мне нравилась.
«Понимаешь, — стрекотала она, беря миниатюрной посеребренной ложечкой (опять-таки с монограммой «Café am Dom») мороженое из вазочки. — Иду по улице, и вдруг: гав-гав! Что такое? Смотрю: скачет по тротуару обезьянка… Вот эта самая, — она показала обезьянку, которая отдыхала на стуле у нашего столика. — Носится, ну прямо как живая… Сначала я и подумала: живая… И собаки, целых три или даже четыре, правда на поводках, но огромные, как бегемоты, и все лают, заливаются! Я ее пожалела, бедную обезьянку, ну и… сколько было марок, все…»
«Теперь пешком до самого Вильнюса…» — улыбнулся я.
«Почему пешком? Я с группой… Завтра едем в Дахау…»
«В Дахау?»
«Ну, в Мюнхен, осматривать олимпийскую деревню… А оттуда… уж я, во всяком случае, любой ценой…»
«Ну да, конечно. — Я принялся разглядывать стул возле нашего столика. — Обезьянка просто загляденье…»
Не хотел я говорить ни о поездке в Мюнхен, ни о Дахау, где я уже побывал. Я знал, что человека, которого ищет Винга, нет в списках этой адовой фабрики (бетонные рвы с водой, ограда из колючей проволоки, по которой идет смертельный ток, собаки, наблюдательные вышки по углам, камеры-душевые с черными решетками над водостоком в полу и черными дырами в потолке — для подачи смертоносного газа; сгоришь и пепла не оставишь; кирпич, трубы, стальная арматура — все по четкому проекту, «Arbeit macht frei!»[23] По крайней мере среди тех трех тысяч литовцев, которые промаршировали по этим страшным коридорам (шестнадцатого апреля их здесь было 3211 человек), такой фамилии я не нашел. Но мог ли я сказать это Винге? Я был вправе осудить ее обезьянку, ее наряд, ее писания, наконец, ее легкомысленное упрямство, но заикнуться хотя бы единым словом о… Нет, нет, пусть сама! Пусть сама поймет, чего она ищет, пусть до нее дойдет, насколько это бессмысленно, а я уж… Я лучше пережду в сторонке, в тени, не стоит разбивать иллюзии прежде времени; и потом, я не хочу потерять нашу так странно начавшуюся и, я бы сказал, в последнее время еще более странно — главным образом за границей — поддерживаемую дружбу. (Я уже позволил себе так выразиться: дружбу, ибо с Вингой мы не только много беседовали — человеку надо говорить с человеком, Бриг, и не только о погоде или базарных ценах, в последнее время я это осознал, — но и целовались… когда-то весной, возвращаясь с одного юбилея, возле ее дома: те слова «ты мне нравишься» возымели свое действие; окно Абдонаса было распахнуто настежь, и он наигрывал на своей флейте, сидя на подоконнике: этакая бледная тень менестреля в освещенном электрическим светом позднеготическом окне; потом он заметил нас, а может, только одну Вингу, не знаю. «Винга! — крикнул он, чрезвычайно весело крикнул, и она вдруг отскочила от меня. — Винга, будь так мила, иди скорей сюда… Что я тебе покажу… Я достал новозеландскую марку… самую первую, слышишь, Винга!» После того я не видел ее чуть ли не полгода.) Лучше уж я ничего ей не скажу о Дахау, ведь есть вещи, которые человек должен прочувствовать сам, без чьих бы то ни было принуждений и тем более без помех; возможно, лишь осознав всю бессмыслицу своей затеи, человек в конце концов…
«Очень славненькая…» — повторил я и погладил грубоватый рыжий плюш: было бы за что последние свои марки…
«Видел бы ты, как она прыгает!.. — Винга снова оживилась. — У нее в животе элементы…»
«Элементы? В животе?»
«В животе — что тут смешного? Это вполне современная обезьянка… Обезьянка двадцатого века… И не такая неуклюжая, как ты…»
Или Абдонас, мелькнуло у меня, да стоит ли о нем думать в таком месте?
«Почему ты считаешь, что я неуклюжий, Винга?»
«Откуда мне знать, — она пожала плечами. — Неуклюжий, и все… Может, это просто литовская лень в тебе сидит…»
«Лень?»
«Благополучная литовская лень-матушка, которая когда-нибудь возьмет да и задушит нас, как зоб… Деревенское самодовольство, знаешь: всегда доволен сам собой, своим обедом и женой…»
«Ты, как всегда, глобально…»
«Не смейся… не надо… Сам видишь…»
«Смотря что, Винга. Что-то вижу, а что-то…»
«Чего не хочешь, того и не видишь, да? А если всерьез…»
«Только всерьез, всерьез сейчас и всегда…»
«Тогда слушай… Разве у нас мало чванства? Того самого, первородного… никому не нужного?.. Ну, того, в которое часто вырождается пресловутое человеческое достоинство…»
«Занятно, что же ты дальше…»
«Это еще, Ауримас, у кого как… Таким самодовольным может быть лишь деревенский мужик, он веками гнул спину перед барином и вдруг вошел во вкус новой жизни, но в глубине души, по сути своей, остался все тем же, вчерашним…
«Как это?» — я заморгал глазами; сегодня Винга меня удивила.
«Да очень просто: взял и ни с того ни с сего выгодно продал полудохлого телка… или подлепил к своему участку еще полсотки… А уж эти мне интеллигенты!.. Еще вчера не знали, что за штука радио, а сегодня все сплошь Канты и Спинозы… А в каком экстазе хватают всякий хлам!.. Да поскорее, побольше, чтобы ближнему не досталось!.. Вот этот кулацкий строй ума у нашей интеллигенции, по-моему, и отпугивает молодежь, Ауримас…»
«Ишь ты, кулацкий!.. — улыбнулся я, зная пристрастие Винги к умствованию — иногда вовсе не к месту и не ко времени. — Стремление к благополучию свойственно кому угодно. Что было бы без него, Винга?»
«Смотря к какому благополучию! — воскликнула она. — К благополучию его величества брюха?..»
«Ну, когда пресловутое брюхо заявляет о своих правах, и самые высокие материи меркнут…»
«Наоборот: именно эти самые материи и обнажают свою сущность…»
«Когда человек голоден?»
«Нет. Когда жив не только брюхом».
«Понимаю, понимаю… — я закивал головой; Вингу переспорить нелегко, это я знаю. — Но сейчас, Винга, не война, когда все подчиняешь одной, самой высокой цели… И не то тяжкое послевоенное время, когда вовремя сказанное слово утешения значило больше, чем кусок сала…»
«А сегодня? — Она прищурилась. — Сегодня меньше?»
«Прошу тебя: не лови на слове! Сейчас, Винга, спокойное время, когда как будто можно пожить и для себя…»
«Для себя?»
«Разве мы не заслужили это?»
Я понимал, что говорю вовсе не то, что нужно, и не то, что думаю я сам, а что-то совсем другое, но мне нужно было во что бы то ни стало поддержать этот разговор, такой далекий от Дахау и от всего, с ним связанного; хотелось быть веселым. Беззаботный, бывалый журналист, стреляный воробей, все ему трын-трава. Работа работой, а личная жизнь — личной жизнью. А пожить он умеет, будьте уверены. Отринуть все лишнее и жить в свое удовольствие. Радоваться любой безделице, если она твоя и никто ее у тебя не отнимет. Хотя тебе вот-вот и стукнет пятьдесят. Хотя где-то и прищелкивает оскаленными зубами та самая, знаете… И пусть ее! Я еще поживу, ей-богу, поживу, и сегодня я это чувствую лучше, чем когда-либо. Разве что давно, в юности, было нечто подобное. Заботы и невзгоды далеко, за тысячу километров отсюда; конечно, никуда они не денутся, они поджидают тебя (я вздохнул), но неужели всегда и всюду только о них? Они там, а я здесь… на террасах кельнского кафе… где-то на берегу голубого Рейна… Близ той тусклой клоаки, которая несет в океан отходы со всей Европы. И пусть себе несет; я — здесь. Я здесь и сегодня. Здесь сегодня и с Вингой; я даже прикидываю, куда бы нам податься сегодня вечером (она пойдет, она пойдет со мной куда угодно), в «Ринг», где, говорят, ночью светло, как днем («Nacht am Ring»[24] — было такое танго, а то и фильм, не помню точно) или в «Die Bastei»[25], которая в наше время, разумеется, не крепость, а ресторан; фантазию обуздывали лишь мысли, связанные с бюджетом восточного туриста… Что ж, сходим, почему бы нет, если только Винга не будет стесняться своей группы; сегодня я даже подумал, что здесь, в городе, насквозь пропитанном изысканной элегантностью (к женщинам тут обращались, называя их не «фрау», как всюду в этой стране пива и сочных колбас, а на парижский манер — «мадам»), мы с Вингой могли бы…
Однако прежде всего нам надо закончить разговор.
«Говоришь, заслужили, Ауримас? Да все ли?»
«Хотя бы некоторые…»
«Ну ты, в самом деле, всю жизнь…»
«Всю свою жизнь ленивого мужика…»
«Не язви, тебе не идет… К тому же в тебе и правда сидит что-то неисправимо мужицкое… как и во всех нас…»
«И в тебе?»
«И во мне… как в любом литовском интеллигенте… И это надолго, по-моему…»
«Но, может, это не наша вина, Винга?»
«Конечно! Это атавизм. Пережиток давних времен… Но мы не о том; вот ты, Ауримас, всю свою жизнь что-то делал. Чаще всего что-то полезное…»
«Чаще всего?»
«Ну, конечно, не всегда… Если бы мы всегда занимались только полезными делами… ого, какими бы мы были скучными…»
«И ты… в точности как Эма…»
«Эма?»
«Да. Как моя дочь Эма. У нее тоже один разговор…»
«Какой же?»
«О том же — о скуке… Ей фейерверки подавай… И тебе тоже, да?»
«Ну, в мои-то годы…» — она улыбнулась печальной улыбкой.
«Но кокетничай!.. Женщины, Винга, в любом возрасте питают пристрастие в основном к…»
(А Марта?.. Я подавленно умолк, но Винга не обратила на это внимания.)
«Развлечениям, да? — иронически улыбнулась она. — О, вре-мя-пре-про-во-жде-ни-е!.. Ты, конечно, ошибаешься, но спорить я не буду… А зубы ты мне не заговаривай, ничего не выйдет! — Она погрозила пальцем. — Ты не то что я, можешь не прибедняться…»
«Я и не пытаюсь… видит аллах!..»
«Слепец твой аллах… особенно когда тебе это на руку… В общем, будь у меня хотя бы часть тех заслуг перед обществом… Да, да, это не пустые слова, я не подлиза… не дождешься! Пока я заимею хотя бы часть тех заслуг, которые есть у тебя, хоть ты и не всегда сознательно к тому стремишься, Ауримас… и которые иногда остаются незамеченными… или забытыми…»
«Не все ли равно», — отмахнулся я.
«У тебя большие заслуги, Ауримас… — продолжала она, будто не расслышав; я прощал ей эту странную привычку. — Интересная жизнь… Но пока миллионы людей в мире, миллионы угнетенных прозябают во тьме и невежестве… пока в основе их существования нет ничего, кроме повседневного стремления продлить свое бытие…»
«Нам положено терпеть, так, что ли? Приспособиться к чужому страданию и ждать?.. А тем временем наша собственная жизнь… наши быстротекущие деньки…»
Я вздохнул и безотчетно провел ладонью по волосам: седели они быстрей, чем можно было ожидать, хотя пока только на висках; Винга однажды сказала, что седина делает меня более солидным.
(«Ты бы не мог быть моим отцом…» — как-то обмолвилась она. «А почему? У меня дочка почти твоих лет…» — «Тебе еще не хватает солидности…» — «А почему ты считаешь, что твой отец… был таким уж солидным? С чего ты взяла?» — «Я знаю… — категорически заявила она. — Потому и говорю…» — «А может, ты и впрямь хотела бы… чтобы я стал тебе… ну, этаким добродушным седеньким папашей, с которым разве что… Словом, тем, кого ты разыскиваешь?» — «Что ты!.. — Она будто бы испугалась. Во всяком случае, покраснела. — Конечно, нет! Ты был бы другим… Таким, какой ты есть». — «Таким? Спасибо, уважила, Винга. Хотя я и сам знаю, что слишком стар для тебя. Папаша…» — «Ну, не дуйся. Все мужчины мне кажутся слишком молодыми. И все для себя стараются. Один только отец, быть может…»)
«Вот отчего ты сегодня так раскис!.. (А я, балда, считал, что сегодня мне весело!..) — Она покосилась в мою сторону. — Сводишь счеты с совестью?.. Заговорила?»
«Что с тобой, Винга?
«Ничего особенного. Как обычно».
«Обычно?»
«Ну, всегда так бывает…»
«Ты-то откуда знаешь, что да когда бывает?»
«По-твоему, я из другого теста… — Улыбнулась — сперва чуть-чуть, едва заметно, потом — широко и радостно, отчего просветлело все ее круглое лицо. — Иногда, Ауримас, и я задумываюсь о времени…»
«Каком таком времени?»
«Быстротечном. Которое убегает — не поймать. И которое смеется над нами. И сколько бы ты, горемычное существо, ни старался спрятаться за своим удобным мышлением духовного обывателя… залезть в улиточную скорлупу… замотаться в шкуру… накрыться с головой и отсиживаться… пока вокруг все кипит, клокочет, меняется на глазах…»
«Винга! — перебил я ее. — Я ждал тебя…»
«Знаю. И я как будто пришла…»
«Ты позвонила и обещала быть в семь. А появилась после восьми… Если тот час, что я прождал тебя, можно назвать отсиживанием в скорлупе, то я могу… во всяком случае, другой раз смогу…»
«Ты же не видел их!»
«Это кого же, Винга?»
«Ну тех… парней… с большущими звездами на рубашках… они торгуют книжками там… на…»
«Видал, и не раз…»
«Нет, нет… ты не видел… Как они схватились с полицейским!.. И как потом тот одного из них за волосы!.. И как другой из их же компании… ножом…»
«На это они мастера… — проговорил я. — Это, Винга, проще всего… И фашисты, если помнишь, играли ножом… Что, накормила свою обезьянку? Тогда в путь?..»
Мы расплатились, встали, придвинули ближе к столику плетеные белые стулья и направились к выходу…
ГЛАВА ПЯТАЯ
«Очнувшись, он почувствовал себя так, как будто находился в колодце. Глубоко, темно и сыро. Но колодец, он знал, бревенчатый.
— Где я? — выкрикнул он те же слова, что и во сне, а вдруг он все еще спит, хотя чувствовал, явственно чувствовал, что нет. — Где?!
— Где надо… И не вертись… нельзя…
— Говори!
— У меня. Лежи тихо.
— У кого?
— Говорю тебе: у меня. Не все ли равно тебе, у кого…
— Значит, не все равно, раз спрашиваю…
— Не бойся. Не продам.
— А если… кто вас всех… черт возьми…
Но… кто уже так говорил? Чьи это слова? Где он их слышал? Когда?
— Молчи! Тебя нет!
— Меня… нет?..
— Раненого… Прошитого пулями…
— Штыками…
— Ой, пулями… больше налили, чем тыкали… ух и палили… Особенно когда по лесу гнали… Я уж думала — пропал…
— Значит, там была… ты?
— А то кто же… Коли попросился…
— Где ты? Я не вижу твоего лица…
— Слышишь — и хватит с тебя.
— Не хватит! Где ты? Покажись.
— Я и не прячусь. Тут я.
— Наклонись! Ко мне! Ко мне! Ближе! К лицу… ближе…
— Как же, разлетелась! Жди!
— Кто же ты?
— Человек…
— А… какой?
— Какой есть…
— Скажи, где я? У кого? Мне надо знать. Ты понимаешь: надо…
— Не ори! Нельзя! Радуйся, что жив…
— Скажи, скажи! Ведь я…
— Молчи!.. Лучше помолчи, умная голова! Тут тебе не редакция!..
— Какая редакция? — Он скрипнул зубами нечаянно, но получилось громко. — Разве я говорил? Говорил?
Послышался тихий смешок — глуховатый женский голос.
— Заливай, заливай! — произнес голос как бы не до конца раскрытыми губами. — Заливай и дальше! Только не мне. Ладно?..
— Почему не тебе? А кто ты такая? И кто я? Кто?!
— Прошу тебя: не ори! Ладно? Если и плохо тебе — все равно не ори. А то услышит кто… Такие делишки быстренько… Вот тогда и узнаешь, кто я… и еще кое-что, очень даже может быть…
— Еще? То есть что еще?
— Откуда ножки растут, узнаешь. Да почем нынче мука! И сколько стоит громко крикнуть…
— Не пугай… я уж пуганый… Куда вы меня запихнули? В какую дыру? Говори сейчас же, не то я… разбираться не стану… раз-два — и…
И он в самом деле рванулся вперед что есть силы и даже сел, опершись на правую руку, но яростная боль хлестнула наискосок по всему телу, в глазах потемнело; он мешком рухнул наземь.
— Ч-черт!.. — простонал он, чувствуя, как рвутся губы, сухие как бумага; лоб облился холодным знобящим потом. — Неужели я правда… Марго! Ме-е-ета-а!..
Пришел в себя уже поутру; понял, что утро, потому что пропел петух — далеко, протяжно и тоскливо, точно накликая беду; но пропел отчетливо, и он проснулся в действительности; кто-то был здесь еще. Здесь, в этом заполненном тьмой дощатом колодце; он почувствовал это сразу же, едва разлепил сомкнутые веки и попробовал шевельнуть солеными, трескучими, как пересушенная бумага, губами, даже дернулся всем телом на досках, накрытых каким-то тряпьем, где невесть сколько часов или дней — да, дней — опять провалялся без памяти; кто-то здесь находился и даже, может, сидел рядом с ним, хотя разглядеть что-нибудь было невозможно; он весь напрягся и ждал того, что должно было произойти, только все еще не знал — что именно. Как-то очень уж внезапно, в единый миг, точно боль или зов отчаяния, осознал он всю бессмысленность своего существования — здесь, в этой сырой дощатой клетке, куда его сунули помимо его воли и желания; он, это ясно, у кого-то в рабстве; уж не у наглой ли этой бабы? Сомнений быть не могло: эта она, та самая, упрятавшая его в ту ночь под солому и сено на поддуги этой подпрыгивающей по камням телеги; почему она так бешено гнала? Начене? Оне? Райнис?.. Какой Райнис? Что здесь, в конце концов, творится? Что за чертова карусель вертится у него в голове? Что за неразбериха?
— Начене…
— Она самая, — услышал он и даже испугался: думает вслух. — Оно. А ты Глуоснис.
— Черт из пекла.
— Глуоснис. На, возьми…
Что-то ткнулось в его руку шуршащее, но жесткое и неожиданно холодное.
— А это что? — Он убрал пальцы.
— Удостоверение. Корреспондентское… Убери.
— Куда?
— А куда хошь… — проговорила она. — Мне-то что? Сам сторожи свое добро… А ту штучку…
— Какую штучку? Говори прямо.
— Пушку, вот какую! Пистолет. Выкинула я. Он тут не поможет.
Тут, почему тут, не понял он и опять услышал петуха — еще явственней, чем за несколько минут до того, — и ощутил лицом дуновение прохладного утреннего воздуха; даже закашлялся.
— Тише… грохотун ты… еще кто-нибудь…
Кто-то в самом деле завозился, зашуршал, как бы вздохнул, — возможно, он сам; и вдруг сообразил, что здесь, в этом дощатом ящике, не так темно, как было до того, то есть как ему казалось; он даже различал грубые, нетесаные доски, белевшие прямо перед глазами, и толстую деревянную балку над головой; там висела керосиновая лампа, она не горела и была совсем без стекла, а свет, дрожащий и дурманящий, беловато-молочными нитями сочился откуда-то сквозь щели в досках. И воздух, прохладный и бодрящий, шибко рвущийся внутрь, и этот женский голос, глуховатый и плывущий словно из-под земли, и грозная тишина в промежутке между двумя петушиными песнями — все это показалось ему новым и нежданным. А еще новее и еще нежданнее — его осознание, что все это подлинное, явное, не сон и не бред, что это он, подлинный Глуоснис, а она — та женщина в платке, которая правила пароконной сувалкийской телегой; он узнал ее! И не сейчас узнал, в это утро, под петушиное пение, когда вдруг отпустила трепавшая много дней лихорадка, а гораздо раньше: он всегда знал, что она будет! Всегда, даже в самые трудные минуты он где-то в тайниках души верил в свое счастье, верил, даже теряя надежду, и в то, что этим счастьем будет женщина, даже там, в обществе Фульгентаса, когда оба они, зажав в зубах по папиросе, сидели перед бутылкой, выложив прямо на щербатый стол по краюхе хлеба и с пяток рыжих лохматых луковок, и наперебой уверяли друг друга — обиженный судьбой стареющий бухгалтер местной газеты, вечный холостяк Фульгентас и стукнутый тою же судьбой черноволосый «корреспондент из Каунаса», — что всегда и везде корень зла — женщины, они и только они, а примеров тому в окружающей жизни больше чем достаточно, да хотя бы и поведанная Глуоснисом история его разнесчастной («Я бы сказал: детски трагикомической», — слова Фульгентаса) любви… Но там был Фульгентас, у которого Глуоснис квартировал и волей-неволей был вынужден слушать его разглагольствования, а тут она, довольно сердитая баба в большом платке, которая притащила его в свой (а то и чей-нибудь чужой) дом и, безусловно, выхаживает его — ведь кто-то поил его лекарствами! Он знает — поил, потому что кто-то не раз больно раздирал ему рот, запекшиеся, растрескавшиеся губы и силком запихивал гремящие сильнее, чем голова, таблетки, омерзительно горькие; кто-то, раскрывая ему рот, как малому ребенку, вливал туда воду. И кто-то (он знает, знает, кто!) теплыми трепетными пальцами — будто что-то хрупкое — осторожно поглаживал простреленное плечо и бок, в который пырнули штыком (бандиты, конечно) через попону, солому и сено; кто-то сдирал бинты (темнело в глазах) и кто-то перевязывал снова; не в больнице же он! И знает все. Теперь-то уж все, даже фамилию и имя — она выговорила их, круглолицая женщина с низким голосом, то ли во сне, то ли наяву; теперь-то уж он…
Повернулся, взглядом ища ее, свою спасительницу, и даже протянул руку; резко кольнуло в боку — в левое плечо будто полоснули тупым ножом, хотя руку он протянул правую; он подавил готовый сорваться стоп.
— Где ты? — спросил уже в который раз, испугавшись внезапно навалившегося одиночества. — Отвечай! Мне надо поговорить.
Не отвечает. Никто. В чем дело? Он прищурился и попытался что-нибудь разглядеть в сумраке.
— Да скажи хоть что-нибудь!.. — воскликнул он, превозмогая боль, в полном отчаянии. — Не молчи… Сколько можно»… Так…
— Как?.. — услышал он и обрадовался, пожалуй, тому, что вновь слышит этот голос; голос донесся из отдаленного уголка; повернув голову, он различил и темную полосу у стены — близ этих неструганых колючих досок, которых мог касаться рукой.
— Как теперь… Мне надо в город.
Тень не шелохнулась. Молчала. Будто ее и нет вовсе.
Но она была. Глуоснис это знал.
— Слышишь? Ведь я тебя вижу.
— Это хорошо.
— Я хочу в город.
Тишина.
— Сейчас же вези меня обратно!
— Обратно?
— Да, в город. Сейчас же!
— Прямо сейчас? А как, интересно?
— Как привезла.
— Так — нет…
— Тогда как хочешь. Только вези. Только поскорей!
Молчание, молчание…
— Слышишь?
— Не глухая…
— Тогда… ну…
— К… Мете?
— Не твое дело! Я прошу… требую!
— Или к Марго? Имя как из книжки…
— Вози! Сейчас же!..
Снова тихо. От этой тишины еще больше горит плечо. Саднит. Дергает.
— Может, впрямь оглохла? Вот встану, тогда…
Тень шевельнулась. Шорох. Скользнула подальше.
— Сейчас же? И быстрый же ты!.. Куда спешишь? Отсюда…
— В город! В уезд! Я же сказал… Тут кругом бандиты. Знаю…
— Знаешь?
— Вези! Литовским языком тебе говорю: вези…
— А все-таки не ори, парень… — Голос становится еще тише и потому так отчетливо слышен. — Какие тебе еще бандиты? Где ты их видишь? Во сне?
— Чувствую… Они всюду.
— Да уж возле тебя их вроде бы…
— Врешь! Знаю! Не ври!..
Он вспомнил: Райнис. Только слово «Райнис». Выплывшее из дымки. Из ночи. Той самой.
— Райнис!
— Какой… Райнис?
— Тот… про кого ночью…
— Какой ночью? Опять бредишь?..
— Который каждую ночь… Который здесь каждую ночь…
Тень молчит. Маячит возле серых досок и молчит, как бы погруженная в свои мысли. Не знает, что Райнис всегда здесь? Всегда с Глуоснисом? С этим сумраком. С этими снами. Бредом. С постоянной яростной болью… Знает! Ведь если это знает он, Глуоснис…
— Поняла? — выкрикнул он.
— Нет уж… — дошелестело от стены (слышит!) ни тихо, ни громко, но уверенно. — Но поняла… Чего орешь, не поняла… И при чем тут я… Коли привезла… не испугалась…
— Вези в город!
— Потише, потише… тсс… Тихо…
И тогда он почувствовал, что тень исчезла, растворилась в глухой темени, которая внезапно хлынула черными черни-ламп в это сырое и пропитанное закисшим человеческим запахом помещеньице, его убежище; хлопнула дверь. А может, это окошечко за лампой, в которое, точно сквозь носик чайника, еще миг назад внутрь сочился молочно-сизый, перемешанный с солоноватой утренней свежестью свет; теперь света не было — тончайших пальцев, трогавших его и сближавших с жизнью. И женщины не было. Его охватила тревога, даже страх.
«Когда она ушла? — подумал он. — И как? И где я все-таки нахожусь? Где?..»
Превозмогая тупую боль в висках, он напряг слух, насторожился — ничего не услышал, протянул вперед руку, желая снова нащупать стену, убедиться, что не спит, что чувствует, — пальцы нашарили хлебную корку на ближней доске, рядом с его ложем, затем бутылку с остывшим, но щедро подслащенным чаем; зажмурился и жадно, почти не жуя, заглотнул несколько крупных кусков…»
«Не приходила она долго — так долго, что он, чувствуя, как возвращаются силы, заметил, что задыхается от голода. Он старательно обшарил доску (а может, лавку), которая находилась около его ложа и где недавно нашел чуть не полбуханки хлеба — не беда, что черствого и грубого помола, выбирать не приходится; сегодня же… Он даже пришел в удивление, не найдя ничего съестного, так как уже привык находить каждый день, просыпаясь, — и не только хлеб, но и сыр, творог, кусок сала, которое как бы само таяло во рту, не успеешь откусить, и уже — как в детстве жевательную резинку — жуешь, посасываешь солененькую шкурку, пока не засыпал снова; хлеб и остальная еда возникали как бы сами собой, в точности как и лекарства, таблетки, которые он проглатывал, не разгрызая, только запивая водой или молоком, которое тоже находил на досточке рядом с собой; сегодня здесь ничего не было.
«Вот так красота… — Он свесил голову и пошарил здоровой рукой внизу, под досками, пощупал и пол — тот был сырой и холодный. — Забыла?.. Ага, вот!»
Хлеб валялся на полу, приличная краюшка, видимо скинутая во время его беспамятства, а рядом — какой-то сосуд с гладкими стенками и двумя ушками; да ведь это… Цепенея от стыда, на какой-то миг позабыв о свирепом голоде, раздиравшем нутро, он подумал: ведь все это делалось и раньше, все эти дни, недели; по фронтовому опыту он знал, что при такой ране днями не обойтись, и сердито сжал губы; они уже не были такими сухими. И в голове не гудело, не стучало в висках, и боль в боку унялась, и плечо, и все прочие раненые места не так болели, как все эти дни; он чувствовал, как жизнь возвращается к нему, как прибывают силы.
Это все благодаря сну, подумал он, куснув хлеб и торопливо проглотив его, давясь от голодной жадности, — ведь он спал дни и ночи напролет, просыпаясь, лишь чтобы поесть или перевернуться со спины на бок: это, уверяю вас, уже достижение; но кто, скажите на милость, выносил этот сосуд?.. Он нахмурился, глядя на этот предмет — ни видеть, ни вспоминать его не хотелось, — и громко чихнул сквозь забитые, ссохшиеся ноздри; ну и дух: умопомрачительный! Странно, до сих пор он не чувствовал, не различал никаких запахов — все это было слишком далеко от него, — разве только один: прокисший запах присутствия человека и отдающей грибами плесени; тут, однако, совсем другое!.. Сейчас он четко ощущал этот только что изведанный мерзейший запах, идущий из-под досок, не одним лишь нюхом, но всем своим отдохнувшим, отлежавшимся, основательно обленившимся телом; он вдыхал его и мучился, не в силах избавиться; захотелось встать.
— Ты чего это надумал? — раздался голос вместе с порывом свежего воздуха, мазнувшего по лицу, рукам, груди. — Что-то больно смел!
Но он и сейчас не успел ее разглядеть, так как дверь (только она вошла) уже была захлопнута, а голос звучал уже где-то у стены, у его изголовья; руки, теплые и пахнущие молоком, он чувствовал, поправляли подушку.
— Надо же, вздумал гулять!
— Где ты так долго?.. — спросил он.
— А что… — Она выпрямилась и обеими руками сдвинула досточку у него над головой; ворвался сноп света. И снова глоток воздуха: прохладный, влажный. — Нельзя мне, что ли…
— Я спрашиваю: где?..
Он даже зажмурился, настолько резко и больно ударил свет в глаза.
— Картошку копала.
— Ночью?
— Почему же ночью? — удивилась она и подтянула одеяло к самому его подбородку. — Накройся!.. Простынешь!.. Так почему, говоришь, ночью?
— Потому что ночью картошку не копают…
— Ишь ты!.. — Она засмеялась; блеснули белыми зеркальцами зубы, уже совсем рядом, сбоку от него. — А ты меня, что ли, ждал… ночью?
И снова засмеялась глуховатым отрывистым смешком. Он повернулся к ней лицом и теперь уже совершенно четко разглядел — даже растерялся, до чего он отчетливо видит ее, впервые так ясно, — в этом свете, ножом пронзившем насквозь всю землянку (землянка это, землянка, можно не сомневаться); ее глаза сияли. И так ясно, по-женски и скорбно, так неожиданно для него высветляя нежной заботой это круглое, молодое, здоровое деревенское лицо, что он испугался — не то ясной чистоты этого лица, не то еще чего-то пока не осознанного им; в памяти промелькнуло еще одно лицо, тоже когда-то светившееся в сумраке: тогда, в дождь…[26] когда он, налегая на стол редактора Грикштаса в помещении городской газеты…
Но то было там, в Каунасе, в теплом и уютном кабинете, а это — здесь, в лесах, в землянке, наполненной его собственным тяжелым духом; он сожалел, что разговаривал с ней так грубо.
— Никого я не ждал, — сказал он. — Ты все знаешь.
— Слыхала… — Она потупилась. — Ты ведь все кликал…
«Эх, зачем все это?» — он поморщился. Неужели воспоминания, точно какие-нибудь бездомные собаки, все тащатся… тащатся следом за ним?..
— Не надо о ней, ладно? Ее нет… И уже никогда, понимаешь, никогда не будет…
— Ты звал обеих…
— Обеих?
— Да. Марго и Me…
— Не надо, не надо! — Он взмахнул здоровой рукой, точно обороняясь. — И ничего больше не говори… не надо… Только одно: когда я смогу уйти отсюда?
— Уйти?
— Да. Это самое главное.
— Самое?.. — переспросила она.
— Ну конечно.
Она помедлила.
— Ты спрашиваешь, а я вот не знаю… — проговорила она. — Ничего я, парень, не знаю…
И вздохнула.
— А кто знает?
— И этого не знаю…
— Я уже могу ходить.
— Пробовал?
— Пока нет, но…
— А ты не спеши, а? Успеется.
— Как сказать! Вдруг опоздаю?
— Успеешь…
— А если…
Он так быстро и с таким остервенением сорвал с себя одеяло, которое она только что заботливо подоткнула со всех сторон, и так живо спрыгнул с лежанки на пол, что женщина едва успела отшатнуться; холод отсыревших досок лизнул подошвы точно шершавым собачьим языком. Зазнобило, и Глуоснис понял, что стоит в одних трусах.
— А где всё?..
— Одежа? Там, в углу… постирала я…
— В углу?
— Ага. На стуле. Видел бы ты — вся в крови была…
— В крови?
— А ты думал! Хорошо, что под соломой мешки были, не то…
— При чем тут мешки?
— При том! Кабы не они, не пришлось бы и тащить тебя сюда — незачем было бы…
Он пригляделся и увидел на лавке аккуратную стоику одежды. Его вещи. Рядом стояли и сапоги. Он обнаружил, что рубашка на нем определенно с чужого плеча, и обнаружил это сразу, как только вскочил с лежанки, — слишком просторной была эта белая холщовая рубаха, особенно поверх его сатиновых трусов; он стыдливо потупился и шагнул вперед.
— Не бойся! — Она подставила свое плечо. — Придержу.
И еще крепче подхватила его женская теплая рука, и даже наклонилась над плечом, почти дыша ему в лицо; он почему-то вздрогнул.
— Значит… не бояться? — прошептал срывающимся голосом. — Совсем… ничего?
— А чего бояться? Коли сам соскочил с койки…
Он и впрямь словно ожил и, будто подгоняемый ее близостью, шагнул еще малость вперед; вдруг остро кольнуло где-то под ее ладонью; голову захлестнуло дурманящей слабостью; наверное, и пот прошиб. Но это было вовсе не похоже на то, что происходило с ним прежде, стоило лишь шевельнуться на ложе; он ошалело замер.
— Говоришь… — повторил он не то ей, не то себе самому, — не бояться, говоришь?.. И совсем ничего?.. Так-таки ничего?.. Ни-че-го?..
И взглянул на нее — жадно, с тоской, хотя и сам не сознавал того, — кажется, впервые он так отчетливо видел ее всю, хотя в глазах и рябило, и двоилось. Но он видел ее, и это было много, а в данный миг — может, даже все; и он знал, что слабость, залившая его словно теплой волной, не та, какой можно ожидать после стольких дней лежания, — вовсе не та, а другая, до сих нор неведомая ему; так, правда, когда-то уже было — как будто в Каунасе, — все так близко и такое нежданно свое, и все сливается в какое-то мглисто-ласковое дрожание; но в то же время все было такое внезапно удивительное, новое, неповторимое: и то, как медленно, будто с сомнением, она опустила и убрала свою ладонь, под которой встрепенулась та сладостная, совсем не такая, как прежде, боль, и как устало, будто спросонок, она вытаращила круглые глаза, и как тускло, но влекуще сверкнули у самого его лица ее ослепительные зубы… Вдруг он почувствовал, что теряет сознание, когда горящие во тьме глаза полыхнули по его лицу каким-то особенно тревожным, но и решительным взглядом; зачем-то — кто ее знает зачем — она куснула зеркально отливающими зубами свои пухлые, подчеркивающие округлость лица губы… те как будто приоткрылись и сомкнулись снова, дрожащие и позабывшие, что хотели сказать… Она закрыла глаза и, будто куда-то торопясь, отпрянула к стене.
И тут случилось то, чего ни он, ни, быть может, она не ожидали и что трудно выразить словами — обыденными, привычными: точно подхлестнутый какой-то невидимой, неумолимой и непобедимой силой, он протянул к ней здоровую руку и привлек ее к себе, затем, вовсе того не желая, словно противясь себе самому — главное, себе! — жадно впился в эти сочные, полные одного лишь внезапного ожидания губы, весь, целиком, ныряя в колеблющееся перед его глазами марево ее лица.
«Что ты делаешь? Что ты!» — кольнуло где-то в подсознании. Он, Глуоснис, он, Ауримас, не в Каунасе и не у себя в уезде, где все так ясно и просто, он здесь, в чужих местах, среди лесов, под Любавасом, и делает то, чего не делать не может; здесь все сложно и неопределенно, лишь одно это лицо… вот это одно, окутанное сладковатой дымкой лицо… эти зеркально слепящие зубы и эти твердые, упершиеся горячими камнями в его холщовую рубаху груди…
— Тише… тише!.. — выдыхала она, отворачивая свое лицо — такое горячее; он не понимал, зачем она отворачивается. — Нельзя!.. Знаешь такое слово — «нельзя»?.. Запрещается!.. Ты больной… слышишь?.. Тебе еще… Послушай, правда… в другой раз… слышишь… потом…
Но он не хотел слушать. Он и не слышал ее слов.
— Сейчас! Сейчас! Сейчас! — ревел кто-то, и этот зов перекрывал все голоса; неужели это был он сам? — Я здоров, видишь! Ведь ты видишь? Видишь? Я хожу! Я все могу… все…
— Нет, нет, нет! — Она пригнулась и выскользнула из его объятий, как нить из игольного ушка, и даже подтолкнула его — осторожно, но достаточно крепко: так отталкивают внезапно осерчавшего, но слабосильного, явно дряхлеющего старика.
Он пошатнулся и боком рухнул на доски. Но руку не убрал, не отнял этой приросшей к ее стану ладони — к жаркому, гибкому стану; глаза горели зелеными огоньками.
— Да отстань ты, ну тебя!.. — воскликнула она с укором и досадой в голосе; он нехотя покорился. — Ведь не затем я… все это время тебя…
Точно холодной водой окатила этим своим «не затем»; но ведь все, в конце концов, затем, он знает, и хотя этот осел Фульгентас…
— А зачем? — спросил он, не слыша ни ее глубокого дыхания, похожего на вздохи, ни собственного голоса, но резко убрал руку. — Зачем тогда? Раз уж подобрала…
— Да ведь просто ты… несчастный… Они бы тебя… одного, в лесу…
Несчастный? Он? И это знакомо, где-то он уже слышал это слово…
— Значит… больше… никто?.. — вымолвил он, чувствуя особый смысл этого слова; болью отозвалось в боку. — Никто не знает?
— Что ты здесь? Конечно!.. — Она неожиданно спокойно взглянула на него и опять отвернулась. Сидела она рядом, на краешке лежанки, а он, лежа поверх одеяла, грудью своей чувствовал тепло ее тела — тепло это струилось по потной, в мурашках спине; тепло это словно укачивало и усыпляло, как и ее тихий, умиротворенный голос. — Совсем никто… Ведь если узнает он… Райнис…
— Райнис?
— Ну да, а что?..
— Райнис? — повторил он снова, будто не веря и мгновенно освобождаясь от мглистого тумана, которым только что было окутано все кругом. Райнис? Это имя он слышал, его называли в отряде, слышал и еще где-то. Оно не радовало ничуть. «Райнису не попадись… — сказали ему в волости, когда он попросился в отряд, чтобы написать о бойцах, — быть может, о Гаучасе (того там не было, но другие ведь остались). — С этим шутки плохи…» («А с кем хороши? — улыбнулся он сейчас, позабыв то, что произошло с минуту назад, и стараясь разобраться во всем этом смутном хаосе, завершившем его престранную командировку. — С кем, скажите, они хороши?») — А что нам он, Райнис этот?.. Нам с тобой!
Она ничего не ответила, молчала, лишь ее спина застыла в холодном напряжении.
— Почему ты молчишь?
— А что я тебе скажу? Главное, ты знаешь: я тебя никогда и никому… это давно решено…
— Давно? И кем же?
— Да, решено. Как только я тебя привезла… и увидела, какой ты еще совсем малыш…
— Малыш? Я?
— Да, ты… — Она безотчетным движением протянула руку и погладила его по щеке — в самом деле по-матерински. — Ведь ты не только ее… Мету… или какую-то Марго звал, но и маму свою…
— Маму? Я? Ну, знаешь…
— Ты не сердись… чего обижаешься? Мамку звать никому не воспрещается… Да еще когда никого больше нет…
— А что я говорил… ну, во сне? В бреду?
— А, многое!.. — Она тихонько засмеялась, медленно отняла руку от его лица; стало как-то прохладней. — Мало ли чего раненый человек болтает… А еще кричал: Шачкус, Шачкус!
— Шачкус?! Я его и видел-то всего раз в жизни… Когда он оставил меня под можжевельником…
— Ну и что же… Он был здесь…
— Шачкус?
— Он самый. С компанием своей.
— Когда? Давно?
— Нет, недавно… — Она задумалась. — Дней десять назад…
— Целых десять дней!
— Около того. А может, две недели. Время идет быстро.
— Искали меня?
— Не-а… — она помотала головой; пахнуло ее волосами. — Зерно… они всегда зерно ищут… пшеницу… Да мы в прошлом году не сеяли… не до того было… А я все равно боялась… Уж я все время… третий год… прямо как на иголках…
Она резко отвернулась и закрыла лицо ладонями. Не плакала, он знал, что она не плачет. Сидела, боком прижавшись к его груди, и молчала, закрыв лицо руками, о чем-то думала; когда обернулась, в глазах не было ни слезинки; она погладила его по руке.
— Но знай, я не сказала! — Она тряхнула головой — взметнулись черные, пахнущие ветром волосы. — И не скажу!
— По-моему, надо бы…
— Выдать?
— Не выдать, а сказать. Сообщить!.. Меня искали. Я знаю.
— И я знаю, будь спокоен… — Она, будто извиняясь, осторожно тронула его пальцы. — Если бы с ними не заявилась эта самая… училка…
— Кто такая?
— Да Купстайте же! Комсомолка…
— Учительница Купстайте?
Он и сам не почувствовал, как уперся ногами куда-то в шершавые, необструганные доски и, точно пополам перегнутый, сел; она и не шевельнулась.
— Что же ты молчала, а? Ну, знаешь…
— Знаю…
— Все делаешь по-своему, да? Ведь я мог сразу с ними…
— Потому и молчала, — вздохнула она, — что мог… А если я… Пойми ты, если я не хочу…
— Чего не хочешь?
— Чтобы они узнали… Ты ведь еще ничего обо мне…
— О, много! — воскликнул он. — Даже очень много!.. Особенно сейчас, когда ты сказала…
— Ничего… — Она словно не расслышала. — Ни обо мне, ни о мужике моем — Райнисе… а от него мне прятать тебя куда трудней, чем от милициантов или даже от…
— Твой муж — Райнис?
— Муж, муж… Чего уставился?! Мой муж Райнис, которого ненавидят все кругом и которого мне… тоже жалко, пойми ты… Ведь и он несчастный… как и ты… хоть все его и боятся… даже этот проклятым Шачкус… А все-таки, пойми ты, шесть лет под одной крышей…
— И под одной периной…
— Ну, парень, ты о жизни… об любви да жалости… совсем еще…
— Ты бы мог понять… каково мне… ну, нам обоим… когда кругом…
«Точно как Мета! Мета! Опять она!.. — Он стиснул зубы, не слишком вслушиваясь в то, что говорит эта женщина, — сцепил накрепко, до скрежета. — Всюду, всюду ты!.. Твои слова… поступки… «Несчастный!.. Об жизни…» Однако сколько их, добрых самаритян… развелось! Милосердных… с крестиками на платках… И без оных… Вот еще один экземпляр… полюбуйся!.. Еще одна на твоем пути… Тоже мне, женоненавистник!..»
Она говорит? Все еще говорит? Доказывает? Ему? То, что и без всяких слов… любому…
— Ох, замолчи ты, слышишь? Ты слышишь, что тебе говорят? — вдруг выкрикнул он и здоровой рукой, всей пятерней, изо всех сил тряхнул ее за плечо; это уже была злоба. — Молчи! И запрягай лошадей! Сейчас же! Больше я здесь ни минуты… В этом осином гнезде… Ни секунды! Да! Да! Да!
И встал, прямо соскочил на пол, даже топнул ногой, словно уверяя себя самого или ее, что действительно поступит, как обещал, и еще злее махнул здоровой рукой, чересчур тощей в просторном рукаве чужой холщовой рубахи; во рту пересохло, в глазах щипало, грудь давила резкая боль…
— Ты слышишь?..
И насторожился, будто чуя беду.
— Ну?!
Никто не отвечал.
Никто?
Куда же она подевалась? Ишь… кикимора! Лесная баба, которая с ним… точно с тряпкой какой-нибудь…
В злобе и отчаянии он шарил перед собой здоровой рукой… Там было пусто…
И в тот же миг вместе с черным горячим вихрем в голове, вместе с острой, одуряющей болью, пронзившей грудь, и вместе с уловленным каким-то отдаленным закоулком сознания гулким стуком захлопываемой двери землянки звонко и как-то жалостно, точно заплутавшись в годах, лесах, туманах, бухнул одинокий, тоскливый выстрел…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Та самая — это я, Марта… «Училка». Это я чуть не всю ночь напролет (скоро четыре, вот-вот пробьет) торчу здесь, за его письменным столом, в его кабинете, в Вильнюсе, на первом этаже нашего дома, скорченная, почти уткнув подбородок в колени, ладонями стиснув виски (ломит, ломит, ломит), тупо уставясь в заляпанную тенями стенку, и пытаюсь хотя бы мало-мальски разобраться в том хаосе лет и событий, который привел меня сюда… Куда, как, когда протянулась та невидимая ниточка, которая связала мою судьбу (это могло быть и иначе) с жизнью этого холодного, капризного, ко всему, казалось бы, равнодушного человека? Что его интересует? Семья? Благосостояние нашей семьи? Жена? Только не я, знаю, и не Эма, — ведь если бы он интересовался дочерью, не пришлось бы мне корчиться здесь до утра, вздрагивать от каждого шороха за дверью… И если бы ему было дело до меня, он не оставлял бы меня одну так часто, что это уже всем бросается в глаза: одну со своими страхами, болезнью, сомнениями, отчаянием, одну с самой собой… Он понял бы, какое это страшное, убийственное одиночество: без человеческого голоса, запаха, без звука шагов по паркету, без злобы и страстей, без шума газа в открытой этим человеком горелке, без стакана воды, поданного в постель, — особенно когда об этом и не просишь; без зудения радиоприемника — назойливого, свербящего, но вызванного все тем же человеком; без шуршания его одежды у шкафа, без щелканья выключателя и острой вспышки люстры; без тихого чертыхания — не ко времени и не к месту, без повода, просто так, машинально; без хлопанья дверей, без подхваченной ветром занавески, без шума спускаемой воды — без всего того, что именуется человеческой жизнью и чего не хватает, когда остаешься в одиночестве… Да, да, я знаю: он живет в свое удовольствие, всегда жил, не может не жить, ему это необходимо; а я — чего надо мне? Не знаю, но думаю: немногого. Мне надо только, чтобы он… Хотя он полагает, что он вовсе не таков — более покладистый, участливый, человечный, каким, по мнению многих, и должен быть человек искусства (человек искусства — он?) — этакий, как нынче принято выражаться, со всеми коммуникабельный.
(Он-то? Ауримас? С кем? Сам с собой. Исключительно. А со всеми остальными на свете…)
А виновата небось я, «училка»… Тусклый деревенский светец (велика важность — в гимназии преподавала!), возомнивший себя лучом света в темном царстве… С какой стати я вас спрашиваю!.. И о чем я думала, пока еще было время, пока не было этих страниц (успеть бы дочитать), и этого постылого одиночества (брр…), и этих таблеток, которые теперь вечно при мне, и этих грустных мыслей, грустных, но верных… Когда же был сделан роковой шаг и рухнули мосты, соединявшие с прошлым? Когда запахло ложью? Впервые? Этим дымком, где впоследствии смешались все и всяческие обманные запахи и их оттенки?
Вот этого-то я и не знаю — когда, как не знаю, зачем сижу здесь, чего жду-пожду… на что еще надеюсь… Жизнь опустила передо мной свой черный полог, а что там, за ним, мне разглядеть не под силу. Порой мне кажется, что я так и родилась с этой черной завесой перед глазами, просто долго не чувствовала ее, не умела или не могла почувствовать. Я тосковала по солнцу! Тянулась к нему. Мне всегда представлялось, что жизнь стоит того, чтобы ей только радовались, гордились, восхищались, чтобы воспевали ее в стихах, песнях. А молодость — представлялось мне — бескрайний, пестрый, весь усеянный цветами луг, где от цветка к цветку перелетают белейшие как пушинки, легчайшие как мотыльки, воздушно прозрачные сборщицы нектара — юные, прекрасные, мечтательно одухотворенные; такой сборщицей была и я. По крайней мере, хотела быть. Пыталась, хоть и бушевало ненастье, хлюпал дождь, а вдоль дорог, точно давясь своим собственным гулом, стонали и раскачивались на ветру телеграфные провода, свистели, напевали нули. Одна из таких пуль впилась в плечо отцу — серому, вечно озабоченному, перепачканному землей моему отцу; и я думала, что не вынесу, не переживу этого; потом умерла мать. Я поняла: все это вынести можно, но в тебе навсегда останется эта особенная тоска, с годами все нарастающая, переходящая в непрестанную боль у сердца; эта горькая капля извечной боли где-то в складке говорящих, улыбающихся и даже целующих губ; эта скорбь в глазах, голубых и, как говорили, красивых, и это одиночество, эта смутная пустота вокруг, когда знаешь, что никогда больше не надо будет никому докладывать, куда идешь: на танцы в местечко или на комсомольское собрание (чуть не тайно) в гимназии, и не придется коченеть босиком в ледяной мартовской воде — в прудике позади дома, где еще плавают темные льдышки, — чтобы поскорей скрутило окаянным воспалением и не надо было стирать эту груду белья, которое мешками, взвалив их на плечи, откуда-то притаскивала мать… (Уж не тогда ли забрезжило в юной головушке: выйду замуж — дочке никогда такой работы; не допущу, умру, а не допущу!) Теперь все это не имеет значения, не изменишь, а тогда… Никогда, конечно, никогда ничего этого не будет нужно, потому что отца с матерью больше нет, как нет и похожей на черную баньку лачуги на самом краю деревни, точно ивушка возле дуба, присоседившейся рядом с добротной усадьбой Начасов — с каменными подстенками и черепичными крышами — близ убегающего по глинистому косогору сада; как нет упоительной весенней зелени, что дурманила и куда-то звала, в желтую одуванчиковую даль, и нет той осенней печали, той тревоги вьюжистых зим, всего, что шаг за шагом, день за днем по извилистой зыбкой дороге вело к сегодняшней ночи — пусть незримо, неощутимо, исподволь, но неотвратимо и отчаянно верно… Не нужно будет слов, которых ждала, и ждала с надеждой, и тепла, какого не заменят никакие камины в дорогих изразцах, ни виллы, ни машины; не нужно злости, слез, ревности (ко всем, всем, всем — ибо ко всем как будто лучше), была бы только надежда, крупица надежды, что весна не кончилась и цветы не отцвели. И что солнце светит. Не для тебя, так хоть для других. Для дочери. Для Эмы. Для нее. А с тобой — всё. Всё, Марта, душа моя, всё.
И все же: неужели? Так-таки все? Так просто: толчок крови в сердечную стенку. В обызвествленную вену. В обуглившийся сердечный клапан. Соболезнование в газете… кому? Ему, разумеется, кому больше… И всё. И всё. Боже мой, всё!..
Однако… разве для этого мы живем? Для конца? Чтобы явилась она — старуха, до поры до времени скрытая за черной завесой? Чтобы явилась и увела за руку, увела к матушке… родной мамочке… а то и к Мете, которая… Что Мета?
При чем тут Мета, если он пишет вовсе о другой… если та, другая, внушила ему такую страсть, о которой жена его может только мечтать — и всегда могла лишь мечтать, не будем втирать очки самой себе, — ибо все, что имело отношение к ней, Марте, всегда несло на себе какой-то особый отпечаток, вызывало совсем иные мысли. И у других мужчин? Именно… в первую очередь… у них, так что высказать все это возможно совсем иными словами, иным языком; при чем же тут Мета? А при том, что отовсюду она смотрит на меня — та, кого я в жизни своей не видела, но которая стояла рядом со мной и с ним; та, Мета, это имя навсегда запечатлелось в его глазах, я отлично понимаю это, хотя и не говорю, молчу, хотя… а эта Оне… Начене… Уж если в таких выражениях о ней, дуре…
Она вся содрогнулась, эта скорчившаяся в кресле женщина, встала, посмотрела по сторонам, точно раздумывая, где же она оказалась. Улыбнулась. Все там же. Там же. И все то же. То же… Где мои таблетки? Вода?
Господи, до чего все глупо: эти мысли, эти ночи, таблетки! Марта, душа моя, ты понимаешь? Россыпи лекарств! Как тоскливо! Как пусто вокруг!.. Будто мигом погасли все солнца, все мириады огней, что сияли тебе в юности, водили по тому цветущему лугу; сгинуло девичье томление в теплые майские вечера, исчезло и то, подступающее с первыми августовскими туманами уныние ранней осени; осталась лишь эта ночь в Вильнюсе (но почему, почему в Вильнюсе? Ведь могла быть и в Любавасе, Паневежисе, Москве — где угодно), это просиженное, старомодное широкое кресло, этот стол с выдвинутыми ящиками и весь усеянный желтоватыми шуршащими листами, эти часы… да хотя бы и другие, привезенные откуда-то… его подарок себе самому…
Динь, динь, динь… динь… Четыре… Уже? А может, давно уже было четыре и только сейчас бьет?..
Страх… Страшно, потому что тихо. Потому что я все слышу. Даже тишину. Даже свои собственные мысли. Ах, дайте сюда шум!..
Чуть не бегом она подбегает к камину, где на полке блестит в темноте полированный радиоприемник, лихорадочно нажимает на клавиш.
«Lass mich noch einmal… in die weit’re Reise gehn…»[27]
Довольно! Довольно! Этих странствий, поездок… И всего остального. С меня хватит… Слышишь, Ауримас, — хватит! Слышишь, Эма? Да слышишь ты, несчастная?
«Что это? — она опирается ладонью о выступ камина. — Ответила? Эма отозвалась? В висках словно молоточки застучали: тук-тук-тук. Она? Да, да: шаги. Ее! Эмины!»
Позабыв все на свете, Марта в один прыжок кидается к окну. Совсем как молоденькая. Как здоровая. В висках стучит, колотится, в сердце покалывает: спокойней! Спокойней, спокойней, спокойней… Возьми себя в руки!..
Но… как взять себя в руки, как? Не заговорить? Совсем? Это невозможно. Это совершенно немыслимо. Оно разорвется, если она будет молчать, оно разлетится в клочья — это жалкое, многострадальное сердце. Или лопнет голова, этот сжатый в тугую пружину мозг… Молчать нет никакой возможности!.. Марта!..
А разговаривать? Думаешь, это легче? И что ей сказать? С чего начать? Как? Столько раз беседовали… как будто всё… сказано… Какими словами начну? Сегодня, вот-вот, сейчас. Чем эти слова будут отличаться от вчерашних или позавчерашних? От высказанных неделю, год назад? Чем?
А от них, от первых моих слов, зависит все. Весь дальнейший разговор. Даже, может, судьба. Даже моя судьба, ведь силы все убывают… убывают… и слова… слова кромешных ночей…
А шаги — рядом. За окном. За дверью. Знакомые. Острые, как удары молоточка. Опасливые, как по льду. Ее шаги.
Эма! Ты?
(Чей это голос? Мой?)
Открой И что за манера запирать дверь Сопрет вас кто-нибудь что ли тоже мне сокровища
Эма опять ты по ночам Что с тобой творится Эма
Молчит. Она. Эма. Вешает плащ и молчит. Вешает с трудом, неловко ощупывая вешалку. Не находит, натыкается, выпускает плащ из рук, он падает на ковер. Зеленый, в широких кляксах свежей уличной грязи. Эма смотрит, как плащ, шурша, падает; наблюдает мутным, совершенно чужим, каким-то нездешним взглядом и ничуть не пытается ни подхватить плащ, ни поднять его с пола. С какой стати! Ха-ха — смеется. Поворачивается на одной ноге на каблуке, мнет, скручивает ковровый ворс. Топает по коридору в сапогах, как была, оставляя за собой отвратительные грязные следы. Это грязь со всего города, изо всех гнусных закоулков. О-ля-ля — натыкается на зеркало. Вяло мотает головой, точно сонная молодая кобылка; дергает оголенным плечом, выглядывающим из прорехи порванной блузы. Ха! Где это я? Приглядывается. Дома? Уже дома? Странно… Где бы ты ни была, скажу я вам, люди добрые, все едино угодишь в родное гнездо. К священному очагу. Go home! Go home![28]
А это кто? Маманя? В тренировочном? Спортивный журнал пятидесятых годов! Что смотришь — прицениваешься?
Эма, ты опять…
(Нет слов, совсем нет никаких новых слов, эх!)
Ха…
…Нет, нет! Марта выпускает гардину: все это время мяла ее в руке, в разгоряченной руке. Не-ет! Это не она, не Эма. Еще нет. Пока нет… Не пришла…
Шаги минуют, удаляются — осторожные, точно по льду. Те самые, знакомые. Как удары молоточка. Ее шаги. Мимо, мимо. Мимо ворот. Мимо нашей вылизанной лестницы с кровелькой, похожей на козырек кепки. Мимо двери. Крепкой, дубовой. Мимо окна, у которого я стою. Мимо балконов — предмета всеобщей зависти. «Ух и балконы у вас, Глуоснене…» Мимо них, итальянских… Уже далеко, уже далеко, уже… За липами. Теми, давно сбросившими листву. За каштанами — и те без листьев, облетели. За соседним домом… Даль-ше, даль-ше, даль-ше…
Жжж!..
А это что? Припадает к окну. Неужели?..
Такси, такси — ночное пассажирское такси; она отступает от окна. Эма на машине?.. Ее Эма? В самом деле? Но кто? Кто привез ее на такси? Откуда? И за что катает? За что? За что?
Тебя на такси Эма Который уже раз Позволь спросить кто
Это мое дело Почему только вам одним можно
Матери полагалось бы сказать
Как раз матери-то и нет доложу я вам Родной матери ни за что Во всяком случае такой
Какой Эма Ты опять как-то
Нет нет нет никогда
И за что же тебя катают Эма За что Ты мне и этого не говоришь да и этого
За то что тебя не катают. И не катали. Чего тебе еще. Ну чего тебе чего mother[29].
Правда: кто и за что? За что? За что? И кто знает — откуда?..
И прилипает, присасывается к стеклу, к другому, где потемней; кто же выйдет из машины? Кто? Кто?
Не разглядеть. Ничего — ни машины, ни людей. Лишь ночь, одна ночь, одна…
Где же все-таки такси? За деревьями? За домами? Где?
А может, его и нет вовсе? И не было? Почудилось? «От этих таблеток, вы знаете, иной раз…» И не только от них… говорят же врачи, что ее головушка… обремененная думами и повседневными тяготами…
И все-таки она есть! Стоит! Она здесь, эта машина, с Противоположной стороны улицы. Поуркивает. Дрожит, вибрирует мотор, бьет по натянутым нервам. И мысли всякие… Скребущие под черепной коробкой. Будто мыши или жуки-древоточцы. И будто вырывающиеся. Словно сжатый газ. Бурлящие. Вот-вот взорвутся, взорвутся!
Спокойнее, спокойнее, Марта. Постарайся спокойнее. Машина пусть пофырчит, пусть подрожит. А ты обожди. Ты не спеши, особенно — думать. Это слишком трудно, зачем спешить, погоди. Погляди, помедли. Вот и машина ждет. Такси. Урчит, вибрирует, а ждет. Ждет, ждет, ждет…
Но, скажите на милость, чего? Пока выйдут пассажиры. Пока один пьяный вытолкает другого. И пока мотор не рявкнет погромче, а машина не умчится восвояси.
Но куда? Куда они спешат, ночные такси; я на них никогда… Кого возят? Эму?
И ее, Эму, — ее тоже… И многих… да откуда тебе все знать… Зачем все это? Не бери в голову! Разбухшую, готовую лопнуть…
Однажды она видела: вышел кто-то, вынес на руках женщину. Даже не на руках, а на плечах: точно мешок с мукой. Пьяную и безвольную. Как тряпка. Не она ли то была, ее Эма?
Глупости! Нет, нет, нет! За такое кому угодно — глаза!.. Кому угодно выцарапаю глаза, пусть только про Эму такое!.. Быть того не может! Не бывать тому! Погибнет, кинется наперерез, но спасет! Она спасет! Спасет! Никому и никогда не позволит, чтобы такое с Эмой… даже подумать об этом… никакого права…
Ладно, почему же никто не показывается: не садится в машину, не выходит из нее, чего же ожидает таксист? Понятно, понятно: по вызову. Отвезет к поезду. Ночному. Ваготас, из дома напротив. Скорее всего, он или жена… Ваготене… Тоже иногда возвращается со своей базы или из финской бани… а то из ночного бара, поразвелось их теперь… Бедняга Ваготас! Говорят, у него тоже сердце…
А может, кто-то спешит на самолет, тот, утренний? Вдруг все тот же Ваготас, он часто летает… Вроде Ауримаса, хотя… Хотя Ваготас, все это знают, только приземлится, уже названивает домой — своей завбазой — и, само собой, из гостиницы — прямо с порога, не разложив вещей; а что касается Ауримаса… Ох, опять! Не думай! Разве он один такой? И ведь спешит, спешит… а куда? Куда они все торопятся: и Ауримас, и Ваготас, и…
Зато наша Эма — никуда. Никогда и никуда — по крайней мере дома. К подружкам она — стремглав, на всякие там дни рождения, в «компашки» (ну и словечко, господи, помилуй!) — закусив удила, а уж дома… когда вернется. И куда ей, скажите на милость, спешить? Может, стряпать, стирать, проверять тетрадки? Подписывать на заем? Раскулачивать? Гоняться за беглыми ученичками? Вступать в разговоры с бандитами — пьяными и злющими? С их женами и кралями? (Поглядывает на листы, лежащие на столе.) С их детьми?
Эма — никуда… Эма полеживает, валяется до обеда; с какой стати ей торопиться, нет, вы скажите. Все вымыто, выстирано, проглажено — пока Марта еще в силах, она еще… Не смотреть же неделями на всю эту сваленную в ванной грязь… А Эма… Она ведь студентка! Учащаяся молодежь, то-то же!.. Можно себе позволить, почему бы нет… сегодня таким лафа… До обеда, правда, все закрыто, позаткнуты все дырки. И не все чуваки могут, как она. (Скучно, тоскливо нашей Эме в первой половине дня.) Смотаться на лекции? («Что-то вашей давно не видать…») На практические занятия, надо же — выдумали! («Фу, там спрашивают…») В кружок? Какой еще кружок? Вы что, смеетесь — кружок!.. К этим уродливым очкастым обезьянам?..
Х-хо! Никуда? Как сказать, маманя. Как сказать, любезнейшая. Как сказать, моя золотая-бриллиантовая: это по утрам Эма никуда, а после обеда… под вечер… И под вечер, впрочем, тоже, ибо уже давно этой нашей Эмы… дома по вечерам…
…Нет, нет, нет! Не Эма. Отец… Сползает с постели в одном исподнем, живот выпирает из-под голубой майки, вислые трусы мятые, застиранные. Ноги кривые и волосатые. Глаза запухшие, маленькие. Тоже от бессонного ожидания, ясное дело…
Пора кончать эту игру Эма.
(Ну, теперь будет!)
Какую Чего вам всем от меня надо
Эту самую Ночную Дурацкий ночной танец вокруг котла с непристойностями.
Скажите пожалуйста какой образный язык Я и не знала что ты так можешь Говори говори
Эма что за тон
А у тебя
Я разговариваю спокойно
И я
Где ты была Эма Три ночи подряд И три дня Мама так беспокоилась Так нельзя Эма Порядочная девушка никогда по ночам
Замолчите замолчите хоть раз Заткнитесь Кончайте
Эма Я кажется твой отец
Не ори на меня.
Эма
Идите вы все дражайшие родители знаете куда Не знаете Сказать по-народному
Эма
Всё всё всё
(Хлопнула дверь. Массивная, дубовая, Эминой комнаты.)
Всё
(Это балконная дверь.)
Всё
(Голос уже на балконе.)
Всё
(Отец заливается краской — опухшее от бессонницы лицо. Волосы всклокочены, как после драки. Колени дрожат Руки сжимаются в кулаки. Глаза моргают. Не знает, что делать, что говорить. Даже он. И мне жаль, его. Даже мне.)
Эма если ты думаешь что в твои годы девушка может так
Я уже сказала
Что сказала Не слыхал
Что мне на это плевать На ваши слова На вас
Эма
Начхать На каждом углу Где угодно и когда угодно Начхать
Это на что же Эма
(Теперь уже я. Не вытерпела, открыла дверь. Торчит у окна, в темноте, смотрит на улицу. Хорошо, что хоть без сигареты…)
На все И под все На все что вы думаете Что думает папаша Человек который считает себя отцом Что он подумает об мне и что подумаешь ты мужняя раба и разгребательница грязи
И твоей грязи Эма как тебе известно
(Я.)
И разгребай разгребай Ты больше ничего не умеешь
Что ты Эма Перестань Если мы просим тебя быть человеком это еще не значит что можно с нами так
А мне все равно Все равно мне Кто что думает кто что говорит все равно Что хочу то и делаю И буду делать И буду И что захочу поняли Ясно вам мои драгоценные Что хочу Что хочу И не буду чего не хочу Что не нравится Никогда не буду Не заставите вы меня никто не заставит Я свободный человек свободный А теперь может изволите
Чего же ты хочешь Эма Ты хоть знаешь чего хочешь
Не ваше дело любезные
А чье же
Не ваше А сейчас говорю вам милейшие предки дуйте вон Поговорили и хватит Уйдите из моей комнаты Сгиньте сгиньте Вы слышите убирайтесь Катитесь Проваливайте
Эма Что за словечки
И живо живо Дайте отдохнуть Слышите я устала и мне надо отдохнуть Я тоже человек Советский
Ты не человек Эма Ты свинья
(Отец. Голос дрожит. Руки дрожат.)
Плевать Чихать Говорю сгинь
(Шевельнулся. Он. Отец. Подался вперед. Глаза горят. Ударит. Он ударит. Чую. Знаю. Ударит.)
Не смей отеееец (Это я. Это мой голос.) Не имеешь права Никакого Она моя Не твоя а моя Не смей Не смей Не смей
Идите вы к черту Оба К черту Так и знайте
Фрр… Уехало. Такси. Укатило с Ваготасом. Или высадило Ваготене. Выгрузило кого-нибудь. Какое тебе до этого дело? Какое?.. Повезло кого-нибудь на вокзал. В аэропорт. В финскую баню. Или в ночной бар. Или в Каунас. В Тракай. Владивосток. Мало ли куда! Куда кому надо, Мартушка.
А ты здесь, старушка, ты все здесь да здесь — точно пес дворовый. Этакий гав-гав. Уже не у окна, нет уж, — с какой стати торчать там ночь напролет, больно много там разглядишь. Ведь знаешь, что ничего не увидишь… И так уже вроде пожарника: в полной готовности. В своем знаменитом тренировочном. Ты ведь, Марта, похожа в нем не на женщину, а на пожарника в снаряжении. Не хватает только каски. Так говорит он, муж. Мой муж, который в данный момент… ну, далеко где-то опять. Ты, Марта, ложишься в полном снаряжении, точно ждешь пожара. Или… что нападут бандиты. Будто без мужа. Будто в старое время… когда ты была без мужа и когда… В те годы это годилось, а сейчас… И всегда возле двери, Марта. Ждешь звонков — телефонного и дверного. Ближе ко всяким звукам. Ближе к улице. К гулу моторов. К голосам. Шагам. Напоминающим стук молотков. И дальше от спальни. Ты, Марта, с каждым днем все дальше от нашей общей спальни.
«Спальни?»
«Именно. Все дальше и дальше».
«Зато ближе к Эме».
«Здесь?»
«Да… Отсюда до нее ближе, чем от спальни…»
«А может, не это главное, Марта?.. Где ее ждать…»
«Кому как, Ауримас».
«Ну, для нас… Во всяком случае, нельзя же… каждую ночь…»
«Я не понимаю, Ауримас, чего ты хочешь».
«Не понимаешь? Неужели? Мы же с тобой… Муж и жена… И мы уже начинаем стареть… И потому…»
«Теперь поняла! Тебе главное — спальня… А то, что дочь… подпала под чье-то влияние… приходит поздно и вообще… И что я…»
Так? Или иначе? Скорее всего говорилось это другими словами, к тому же гораздо раньше, когда они еще довольно часто беседовали, когда были моложе и когда Эма, пылая розовыми щечками, порхала от одного к другому, ластилась к ним обоим, о чем-то спрашивала, что-то просила — чаще, разумеется, у Марты; порой малышка Эма с отцом, с Ауримасом, безмерно довольные ею, Мартой, и, понятно, самими собой, заводили песенку про черного кота; это было воздаянием за все. Блаженство жизни. Дар судьбы: подлинной, невымышленной судьбы…
Дар? Что за дар, Мартушка? Старушка ты моя. Ты, всеми позабытая…
Самый большой дар. И единственный. Все в себя вместивший. Другого мне и не надо… И никогда не надо было. Довольно и того, что она… Эма… что она есть…
Эма?
Да. Что она есть. Что я получила ее… Как дар…
Эму как дар. Это правда, Мартушка?
Правда: Эму как дар…
А за что… ты подумала?.. Этот дар… тебе?
Я сказала — за все:
за черные беззвездные ночи;
за цыпки от ледяной и грязной воды;
за проклятую стирку;
за пулю в отцовском плече;
за материнские слезы;
за смерть;
за годы страха, ужаса послевоенных лет…
И только?
И только. Разве мало?
Мало… Этого еще мало, Мартушка…
Тогда еще: за те полевые цветы, которые так любила. Кто? Она, Марта. Белокурая девчушка в лугах. Которые всю жизнь ждала: цветов юности. На какие надеялась. Ромашки, которых так и не было…
Но ведь что-то было!..
Не то, чего ждала. На что надеялась. Не то.
А что?
Не то…
Но… за что-то тебе воздалось, Мартушка? Знаю — воздалось… Ты все-таки чувствовала себя вознагражденной… Ибо все же родилась дочка… мечта, твоя радостная слезинка… Ты ее породила, Марта, — и сразу почувствовала себя вознагражденной за все… Ибо в твоей жизни более важной цели, чем эта… что ни говори…
Да, да… я согласна! Вознаграждена! Неужели за то, чего не было? Могло быть, Мартушка, а не было… Да, да, за это!
Чего не было?!
Да: за те слова, которых не услышала.
Какие, Марта?
Самые главные. Самые нужные. Хотя и ждала, ждала, ждала…
(Потом услышала: «К черррту!..»)
За провалившиеся куда-то вдруг, разом, годы. Растаявшие. Разом, а то и постепенно…
Неужели?
…несбывшиеся мечты…
Какие? Всякие. Почем я знаю. За всякие, Марта!
За те годы… которые сейчас… все на этих вот страницах… голые и безжалостные… на страницах, которые ты здесь… здесь… поджидая их обоих… листаешь — —
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«— …Райнис…
— Стрелял?
— Нет… В него.
— Народная защита?[30]
— Милицианты… Шачкус… Как-то я танцевала с ним на вечере… Давно…
— С Шачкусом?
— Да, а почему ты спрашиваешь? Думаешь, я не умею танцевать? Не танцевала?
Но глаза ее больше не горели в сумраке, как бывало прежде, и в эти минуты она казалась бесконечно далекой, хотя и сидела рядом, на скамеечке у дощатой лежанки, и даже поглаживала его руку теплыми, умиротворяющими пальцами. И голос у нее был подчеркнуто спокойный, даже безразличный, будто разговаривали не о том выстреле, испугавшем их обоих, а о сенокосе или дожде.
— Не думаю… но…
— Говори, говори.
— Зачем он тут ошивается?..
— Кто? — ее пальцы дрогнули. — Шачкус?
— Не будем играть в прятки: Райнис.
— А с чего ты это…
— Ладно, не будем!..
— Что ж, не будем. Тут ведь все его…
— Райниса?
— Начаса, понял? И ты на его лежанке… и…
— На его? Бандитской?
— На тебе и рубашка его…
— Его рубашка? На мне? — ужаснулся он. — Убери! Скорей! На!..
Он отдернул руку от этих пальцев — резко, точно обжегся, и отвернулся к стене — хватит! Этих разговоров, этих новостей. Этих поглаживаний… И как она смеет так говорить — с ледяным лицом, без всякого выражения, эта упитанная, пышущая здоровьем крестьянка, с которой так неожиданно его свела судьба и которая играет его жизнью, как кошка пойманным мышонком! Жена Райниса! Игра, выходит, неравная! Неужели она думает, что большая радость валяться вот так дни и ночи, точно кролик в клетке, смертельно напуганный кролик, которому иной раз подсунут горстку травки; попробовала бы сама! Тогда бы узнала, что это значит, когда вымаливаешь жизнь, точно нищий подаяние, — свою ничтожную, никому, кроме тебя самого, не нужную жизнишку, — а выклянчиваешь. Пусть без слов, а все равно просишь, ибо если не постоянное, ежеминутное унижение, то как еще можно назвать все его пребывание здесь, в этой чертовой яме, провонявшей старой картошкой и твоими же собственными испражнениями, это постоянное возбуждение, этот страх быть пойманным: и врагами, и своими, будто он сделал что-то дурное, тем паче — по своей воле; это дурацкое, никому не нужное раскаяние и эти медитации на парах, когда ничего другого на твою долю и не остается: Jedem das Seine! Похоже, ой как похоже на концлагерь — с той лишь разницей, что там никогда не будешь одинок, даже если угодишь в одиночку: тебе всегда остается надежда. Твоя судьба, твоя надежда. Даже когда тебе, бегущему, стреляют в спину, есть шанс, что промажут, выстрелят мимо, — словом, что-то человеку все-таки остается, а тут… Одна лишь холщовая рубаха — его, бандита — и та жжет спину, точно каленое железо, припаивается к торчащим, обтянутым желтой пупырчатой кожей лопаткам; одна лишь муторная неизвестность, сплошная неопределенность, в какой он мается вот уже которую неделю или который месяц. Если раньше было просто тяжело, то сейчас невыносимо, дальше некуда! Сейчас, когда он вроде бы поправляется и вроде бы уже все знает, — во всяком случае побольше, чем ему докладывает эта баба. Потому невыносимо. И когда в тот раз…
«Женщина! — отзывалось в ушах, доносилось вместе с отзвуком того выстрела. — Ты еще пожалеешь, женщина…»
А ей хоть бы что. Явилась как ни в чем не бывало…
— Сними! Живо забери у меня эту рубаху. Или я сам… знаешь что…
«Или я сам… ну, женщина!..»
Победил — да, второй раз победил он — свою собственную внезапно нахлынувшую слабость, когда в каком-то непостижимом, неистовом порыве набросился на нее и впился поцелуем — неожиданно для самого себя, превозмогая и боль, и стыд, и оторопь, и когда уже казалось, что никакая сила не вырвет ее из накаленных его рук; сладил и сегодня! Он должен победить и ее, и себя самого; ему ли не знать, что женщины хитры, у них одна забота: опутать, поработить мужчину, повергнуть его к своим ногам, сделать из него трогательного котенка-подлизу, трущегося о ноги, а то и попросту тряпку у Двери в спальню. Желторотые, вытирайте ноги![31] Да он не новичок, нет уж, простите, он их знает! Благодаренье богу, у него была возможность хорошенько изучить эти экземпляры в юбках, и, знаете ли, он никогда и ни за что… не допустит… да…
«Женщина!..»
Этим словом, которое он с усилием процедил сквозь зубы ей вдогонку, кажется, закончились все их разговоры. И слава богу, что кончились. И как же он сразу не сообразил, что закончатся? И неужели этого не понимает она? А вдруг понимает — и слишком даже хорошо? Вдруг она знает, что делает? И зачем. Да, черт бы побрал, зачем!..
Так рассуждал он, Глуоснис, подопечный и узник, угрюмо поглядывая на дощатую дверь, на чуть светлеющее пятно в густом сумраке землянки, прижимаясь к стене, у которой совсем недавно сидела она, а сейчас он собственной спиной ощущал, как сырость этих грубых, шероховатых досок проникает в него сквозь спину, — и, растерянный, ошалелый, в сыром ознобе, он не хотел снова растянуться на дощатом ложе, где его, вполне возможно, подкарауливает смерть.
Но… что изменится? От его размышлений? Что?
Ничего, ясное дело, ничего, если тебе самому плевать на свою участь. Если тебе кажется, что кто-то другой обязан заботиться о твоей особе. Разыскивать тебя. Извлекать из этой смрадной, протухшей дыры. Ведь сам ты до сих пор и пальцем не пошевелил…
А может, тебе тут нравится? Каунас далеко. И уезд далеко, и Фульгентас. Все далеко. Тебе, кажется, дьявольски приятно валяться на досках, чувствуя своими боками каждую зазубринку, каждую занозу, ворочаться в этом вонючем тряпье, вдали от всех на свете, и думать — тебе-то, злосчастному женоненавистнику, — думать? думать? думать, да все больше о ней; об этой Начене, Оне, чьи руки умеют так ласково гладить и к которым — не спорь! — ты привык; и привык к ее шагам у двери, к перестуку шагов по ступенькам, к ее голосу; но ведь так, мой друг, вообрази… Так, Ауримас, теленок привыкает к веревке — вот оно: быть бычку на веревочке… И так — да будет тебе ясно! — придут они… те самые, кто в лесу, в можжевельнике…
Он весь напрягся, набрал полную грудь воздуха — впрямь как-то по-бычьи; стремясь вырваться на свободу, приблизился к двери, зачем-то зажмурился и изо всей силы ударился об эту дверь правым плечом…
Очнулся на полу, возле того самого архиполезного горшка; в лицо шибануло вонью… С трудом поднялся на ноги, постанывая и повизгивая от боли, кое-как добрался до ненавистных досок и громко, не узнавая собственного голоса, застонал. Но столько от боли, которая с удесятеренной яростью накинулась, вгрызаясь, впиваясь и ввинчиваясь в рули, плечи, ребра, — сколько от неизбывного отчаяния, от тоски, пронявшей его до последней клеточки мозга: он узник! Он, Ауримас Глуоснис, — обыкновенный пленник, узник, брошенный в эту вонючую келью, в камеру без окон, без единого глоточка чистого воздуха, в эти адовы леса под Любавасом; бесправный пленник, хоть его и кормят, а в изголовье стоит кувшин с водой, и хотя в этой водице плавает несколько долек сушеных яблок (вот он откуда, слабый аромат, который ощущаешь, стоит лишь дотянуться губами до горлышка кувшина), хотя эта женщина, Начене, да, Начене, навещает его, заговаривает с ним и даже слегка ласкает его выпростанную поверх одеяла руку; лучше бы не ласкала! Лучше бы запрягла своих лошадок и вывезла поутру в город, где в сером каменном доме сразу за базарной площадью, в комнате с двумя длинными лавками подле ветхого стола, с растрескавшейся, отставшей фанерой наверху, с очень большой, раскачивающейся, точно шар на ветру, лампой, помещается товарищ Шачкус — если не выходит на операцию, сидит, посасывает цигарку толщиной с ружейный ствол и загрубелыми пальцами зимогора теребит черные, всклокоченные волосы, — и весь он ощетинился, как осеннее жнивье, угрюмый, землисто-черный; когда-нибудь Глуоснис его опишет. Когда-нибудь, ибо уже давно его занимает, совсем другое… «В огонь, в огонь, в огонь!» — вспомнил собственные слова… Не надо мне никакой писанины, ничего мне больше не надо; долой!.. В Любавас! К Гаучасу!.. А судьба привела его в эту зловонную дыру, в эту кучу тряпья, в которой он барахтается, не зная, как выбраться на волю; но верно ли: не зная?
Оперся рукой о подушку, поднялся и, не обращая внимания на боль в спице, подтолкнул кверху доску в потолке; хлынула струя воздуха — обыкновенно, точно так и должно быть, не вызывая удивления, — струя прохладного, осеннего, чуть сыроватого воздуха; блеснули звезды; ночь. Ночь под Любавасом, пропитанная сладковатым запахом прелой листвы, лаем далеких собак, шагами…
Шагами? Напряг слух, будто снова ожил. Шагами?
Впервые за много дней он снова услышал чужие шаги — совсем близко, где-то почти у себя над головой, — и ничуть не испугался их; ни испугался, ни обрадовался; придвинул скамеечку, кое-как встал на нее и попытался выглянуть в только что проделанную щель; никого. Но все же кто-то шел, он слышал шаги — тяжелые мужские шаги, и где-то совсем близко, рядом, — он отчетливо слышал, — как и лихорадочный стук своего сердца; даже больше — он как бы воочию видел эти грузно бухающие в осенней ночи шаги, шаги и дыхание: это торопливо заглатывающее воздух лицо, которого, конечно, не разглядишь в темноте, но которое можно представить себе; человек спешил. Куда? Туда, в глубь двора, мимо двери, которую Глуоснису не удалось открыть, мимо его тайного убежища с запертой или заложенной снаружи дверью; человек был вооружен…
Глуоснис сразу смекнул, что вооружен, — по этому въевшемуся в мозг еще с фронтовых времен металлическому звуку, который возникает при трении автомата или карабина о пуговицу или ремни, по напряженности шага и остальных звуков, которую ничего не стоит уловить искушенному уху, по неровному, прерывистому дыханию, какое бывает, когда идешь при оружии; смекнул и весь напрягся: что-то должно было произойти.
Начас? Он же — Райнис? Бандит, который держит в страхе всю округу? Муж. Он?..
А что, если он направляется сюда? В убежище? Ведь не для Глуосниса оно строилось… А если он, проведав от своей женушки…
Нет, нет! Нет! Этого не будет! Этого не может быть! Она не выдаст!
А если может? Если выдаст?
Не выдаст.
Ты ведь не знаешь ее!
Знаю! Лучше, чем Ийю. Чем Мету! Чем… Все эти дни с ней… с ней одной и со своими мыслями… далеко не такими, какими делился с Фульгентасом… с недотепой из бухгалтерии провинциальной газеты, старым холостяком Фульгентасом…
Чшш… что это? Мочится? На дверь? На дверь убежища? На твою, Глуоснис, дверь. Чшш… Дьявольщина!
И вздох — там, за дверью. Глубокий, из самого нутра. Управляется с брюками. Застегивается. Смотрит на звездное небо и обстоятельно, без спешки, застегивает штаны. При этом, разумеется, что-то думает. Обмозговывает. Порядок, прежде всего порядок. Полная готовность. Такова солдатская жизнь. Таковы будни. «Партизана». Бандита. Подонка, убийцы детей. У, жаль, что не вижу.
Наконец-то застегнулся. Все приведено в порядок. Можно отправляться. Шагать дальше. И плевать тебе, тьфу, на какую-то дверь, за которой… Тьфу-у! Уходит. Бум, бум, шаги удаляются.
К дьяволу!
Ничего не вижу. Не вижу его, гада ползучего!
Хотя чувствую: топает туда, откуда приходила она. Откуда ее шаги… домой идет!
Тук, тук, тук!..
В окно. Костяшками пальцев по стеклу.
Тук, тук, тук… О-не-е!..
Это я, Оне! Я, я! Я!
Не вижу. Ничего, черт подери, не вижу. Только звезды. Блестящие звезды в вышине. (И зачем они мне, люди добрые?!) И голос — резкий, нетерпеливый. Не слышу, а вижу. Вижу его!
Оне!..
Невнятный шорох: не то за что-то зацепил, не то что-то оттолкнул. Споткнулся…
Пьян?
Навряд ли.
Дверь раскрывается. Хлопает, затворяясь. Тишина.
Тишина —
Тишина — —
Тишина — — —
Но что там теперь, в этой тишине? В мертвом безмолвии? Что творится, что происходит? На хуторе под Любавасом…
Что!.. Спрашиваешь!.. Оне. Оне Начене, жена. Оне. И Начас. Райнис. Гроза округи. Райнис. Ее муж.
Сейчас они целуются. А как же, обнимаются и целуются. Она — в рубахе, босиком, вся теплая (жаркая, жаркая, жаркая), пахнущая можжевельником (всегда этот запах), озаряя все вокруг своим румяным лицом; он — скинув у стены автомат (ясно: автомат, так и грохнул под стенку), сдвинув на макушку картуз (чтоб не мешал козырек), наспех расстегнул ворот. Может, где-то и хватил малость, а может, и нет… может, нет… не важно… Целует, целует, целует… стиснув в объятиях и весь дрожа… И она целует — и тоже вся охвачена дрожью… как тогда, когда он, Ауримас… И гладит пальцами его щеки, своими нежными, трепетными пальцами, гладит жесткие, поросшие щетиной, давно не мытые щеки бандита, бандита, бандита… гладит и жмурится, точно кошка… А потом… А потом она поведет его в постель — куда еще, возьмет за руку и поведет; а потом — за стол, где его заждался давно остывший ужин; все равно остыло, так что… А он и слова не вымолвит, он, бандит, он, Онин муж, бандит, — только скинет с себя пропитанные осенней сыростью вещи, скрипучую портупею, все пошвыряет как попало; Райнис, Райнис, да; и больше ни о чем не будет думать — такой дубоватый (таким представлял его Ауримас, никогда не видя его в глаза), с грушевидной, сужающейся к затылку коротко остриженной головой; только о ней, о своей Оне, об этих круглых, нежно-румяных, от долгого ожидания чуть запавших щеках, о крутых, выпирающих двумя тугими клубками грудях, о крепких, точеных, давно ожидающих тепла и прикосновения ногах, об этой остро пахнущей аиром, уже издалека пахнущей аиром постели, о которой он тосковал больше всего; о ее пышных, с запахом ветра и можжевельника волосах… о сочных ее губах… Их счастья ничуточки не омрачает, что в двух шагах отсюда, за обгаженной Райнисом дверью, задыхаясь от вопиющей, творящейся у него на глазах несправедливости, мечется какой-то Глуоснис, комсомолец, корреспондент, тот, что пишет про госпоставки, кулаков и бандитов — таких, как Райнис; тот валяется, а может, уже и дрыхнет и даже не подозревает, что в землянке… в его собственном тайнике… в этом вонючем картошнике… вот-вот треснет, лопнет от обиды…
А вдруг подозревает? Вдруг знает?
Нет, нет, нет!.. Ведь если бы он знал… если бы он хоть что-нибудь подозревал… если бы этот чертов Райнис хоть сколько-нибудь…
Пока не радуйся! Погоди! Придет… Вот отдохнет… а уж тогда… Не пропустит случая, не думай! Возьмет свое… покуражится… Особенно над таким… с пролеженными боками… А куда тебе деваться? Некуда. Куда бежать? Как? Уж не через эту ли щелку? Эту щелку, с ладонь шириной, сквозь которую ты глядишь на мир. И куда побежишь? В какую сторону? А далеко ли убежишь?.. На твою долю остается одно — метаться, злиться, яриться, терпеть и исходить отчаянием, тоской… И все… Ты пленник — больше ничего. Пленник Ауримас. Студент… Корреспондент… Онин «двоюродный братец». Дурак. Вечный неисправимый дурак. Узник Райнисов.
Ну, Онин… Если бы только ее…
Не смеши!.. На что ты ей сдался — Оне! У нее Начас. Райнис… Муж… Эх ты, женоненавистник…
«Она не стянула, не сорвала с него эту рубашку — рубашку Райниса, в которую одела его; на лице у нее не дрогнул ни один мускул. И все лицо казалось как бы высеченным из цельного куска камня, на нем не было глаз, таким Глуоснис ни разу его не видел. Она по-прежнему сидела на краю лежанки, выставив круглые, белеющие в темноте колени, и ее рука, по обыкновению, искала его руку, однако в этот миг она казалась ему такой далекой, что и представить себе трудно, где она; Глуоснис даже застонал.
— Я больше так не могу, — вымолвил он, стараясь не глядеть на это каменное лицо. — Не выдержу.
— С чего ты вдруг? Никто же тебя не видел.
— Никто?
— Никто.
— Зато я, Оне, кое-кого видел…
Она медленно растянула губы в улыбке — в этом каменном, безглазом лице сегодня не было никакой жизни; и улыбка, тоже холодная, застывшая и далекая, даже не изменила холодных щек, казавшихся еще холоднее в сумраке; улыбнулась, отняла свою руку и положила к себе на колени, белыми кругляшками выглядывающие из-под юбки. Глуоснис отвернулся.
— И кого же ты видел… скажи на милость… — донеслось издалека. — Начаса? Его… Райниса?..
— Видел.
— Радуйся, что не он тебя.
— И слышал!
— И что такою ты слышал?
— Все! Как стучался в окно, как звал…
— Только-то? Мало же ты видел, мало слышал… Ой, мало… Да можно скачать, ничего… Потому что если бы видел и слышал…
Она вдруг снова поймала его руку и прижала к своим глазам.
— Что ты! — испугался он. — Ты плачешь?
— Нет, нет!
— Оне!.. Ты дрожишь вся… И глаза у тебя…
Она выпустила его руку и закрыла лицо ладонями.
— Ай, не смотри, не смотри… Дура, дура я…
Плечи затряслись, заходили.
— Оне, перестань!.. — крикнул он. — Что с тобой, Оне? Что случилось? Неужели из-за меня?!
— Нет, нет, ничего… — Она медленно отвела волосы со лба. — Наверное, ничего… Смотри!
Он подался ближе и увидел на лбу у нее темное пятно, прежде спрятанное под волосами. Содрогнулся.
— Он?.. — хрипло спросил.
— Кто же еще… — Она поправила волосы, старательно скрыла ими синяк на лбу. — Муженек…
— Да за что?.. Если не из-за меня, то…
— За книжку… За крылья.
— Какие еще крылья?
— За белые сильные крылья… из-за которых я… совсем сдурела… За то место, которое ты отчеркнул карандашом… ну, в книге…
— В какой книге? Да что ты, Оне…
— Я ведь тоже училась в гимназии… не думай…
— Что за книга, Оне? Не пойму…
— Которую ты оставил… в телеге, в соломе. Я все читаю ее, читаю. А он говорит: это из-за книги я ему есть не принесла куда надо. Читаю, мол, а про дело забыла. И медикаменты не отнесла.
— Медикаменты?
— Конечно. Им ведь тоже нужно… там, в лесу… А мне обрыдло все это, понимаешь!.. Мне все это уже — во… — она провела ладонью по горлу. — Я жить хочу. Как человек. Как баба. А книга — красота. Письма такие душевные. Я и не думала, что можно такие письма писать. Выходит — можно… И когда прочитала то место, про крылья…
— Аа… — он опустил глаза. — Аа…
«Любовь — это сильные белые крылья…» — вспомнилось; он собирался показать это место Фульгентасу — в книге, которую читал совсем недавно… «Письма» Чюрлёниса… но Оне… Ей-то зачем? Зачем ей Чюрлёнис… здесь, в лесах, когда вечером, ложась спать, не знаешь, проснешься ли…
— А не за «вальтер» он тебя? — спросил он, вспомнив, что она будто бы «эту штучку выкинула». — Не за пистолет?
— «Вальтер»? — В ее глазах сверкнули колючие льдинки; ему показалось, она ожидала именно этого вопроса. — Ты-то… откуда об этом?..
— Вижу по глазам… По твоим глазам, голубка… И потом, такими «штучками» в наше время не кидаются…
— Почем ты знаешь, что я не отдала ему? — повторила она свой вопрос.
— Говорю тебе: вижу по глазам.
— Оставила тогда в телеге… недоглядела… а он… мой мальчонка…
— Какой мальчонка?
— Мой… какой!.. Ализас. Нашел и сцапал… Засунул куда-то и не говорит, хоть ты ему… А я, дурная башка, в тот раз… честное слово…
— Какой раз? Договаривай, Оне. Ничего не пойму.
— Как приехала… тебя когда привезла… И правда думала отдать Начасу… пистолет… Хотела сказать, что в лесу нашла… А надо было спрятать, себе оставить…
— Себе? На что тебе оружие?
— Защищаться, вот на что.
— От кого? Уж не от меня ли, Оне? От меня, большевика…
— Молчи… ты! — Она нахмурилась. — Ишь, выискался!.. Начас чуть не забил мальчишку… да тот ловкий… В окно…
Она осеклась, закусила губу, чтобы не расплакаться, а глаза глядели по-прежнему холодно, отчужденно.
«Что-то произошло этой ночью, чего я не разгадал, когда услышал угрюмую поступь тяжелых шагов по осеннему двору и увидел его, Райниса, — в мыслях своих и под окном дома, за дверью — тук тук тук; что-то, чего я не понял до конца, не сообразил, не хотел вникать — да, я не хотел! — ведь я думал только о себе, о себе на его месте, о мужских делах, так не похожих на разглагольствования Фульгентаса, о своей внезапно вспыхнувшей и заявившей права страсти и ничего не слышал, что творилось в их доме, не чуял, даже не угадал… Бился головой о стенку, а ничего,
А что бы ты сделал, если бы слышал? Если бы знал всю правду?
Что-нибудь!
Голыми руками? Вот этими тощими граблями? Одной правой?
Вот обнять ее… облапить своей единственной рученькой… Это ты сумел… Да прижать к молодецкой груди… Так что молчи уж…»
— В окно?.. — переспросил он хриплым голосом. — А этот… Райнис?.. Он что?..
— Ты же видел, — она поднесла руку ко лбу.
Вот она, правда, подкатила к горлу, вся правда, и другой не ищи. Виноват один ты. Кругом виноват. Если бы по ты… никакой этой книжки, никакого «вальтера»… никаких побоев… Впрочем, побои, видно, достаются ей и так… Этот лесной садист Райнис… налакавшись самогонки… свекловухи или сивухи… А вдруг они всегда так — точно собака с кошкой… волк с косулей… загнанной в загородку, мечущейся в клетке… Хочешь — грызи, хочешь — приласкай…
«Как и ты, Оне, меня… как ты меня…» — пришло в голову, и так не ко времени, что он даже покраснел от этого неуместного сравнения, непроизвольно мелькнувшего в его сознании, и почувствовал, как жарко стало в груди — вдруг, резко вспыхнуло в этой издерганной болью груди; и жар, и ненависть, угрюмая, удушливая ненависть, но не к тому, увешанному оружием бандиту, топающему по двору, не к Райнису с его грушевидной головой в картузе, который сперва мимоходом обмочил его дверь, затем… когда ему открыли… К себе, к себе самому — каунасскому шалопаю, не то студенту, не то корреспонденту (ой, держите, — «писателю»!), любителю сильных ощущений («Вот отгрохаю книжечку про бандитов — закачаетесь!»), бросившемуся когда-то к Гаучасу — соседу и фронтовому другу Матасу Гаучасу, своему «солдату», что ушел с фабрики в отряд народной защиты, но уже отвоевался и лечился в городе после тяжелого ранения, и потому никакого Гаучаса не встретившему, а просто застрявшему в провинциальной редакции и окопавшемуся в жилище этакого мыслителя бухгалтера Фульгентаса; ненависть к себе самому, обожавшему судить других, но почему-то на редкость медлительному, когда приходилось действовать самому (взять хотя бы вчерашний случай, когда притащился этот чертов бандюга); этой ночи он никогда себе не простит! Струсил, ясное дело, — как еще можно назвать его бесцельное торчание под узкой щелью в этом ящике, бессмысленное созерцание клочка неба с щепоткой звезд, соседство с черной лесной ночью, в которой творились такие события, когда рядом, в нескольких шагах от него, бандит (хоть и муж ей, а все равно бандит) избивал женщину, которая для него, Ауримаса, столько сделала, можно сказать — вырвала из когтей смерти, спасла, выхаживала, не боясь разоблачения, мыла, кормила, пичкала лекарствами, выносила горшки, оберегала от опасностей, дрожа и за своих (кто — бандиты ей свои?!), и за чужих (ну, за этого Шачкуса, разумеется, ей чужого, за эту училку, то есть Купстайте), и которую этот подлый бандит, ввалившись среди ночи… А ты-то, дурак, думал… воображал… сочинял…
Впрочем… Что ты можешь знать, Ауримас? Как было на самом деле? Что и как? Вот именно — как…
— Хватит! — в отчаянии выкрикнул он, резко вскидывая здоровую руку; потом обнял Оне за плечи и с жадностью заглянул в лицо, которое сейчас было как никогда близко; она вздрогнула, чуть поежилась, но не отодвинулась. — По-моему, хватит!.. С нас обоих! Давай убежим отсюда! Хватит!
«Кому он уже кричал такое? — мелькнуло в голове. — И когда?»
Не все ли равно! Теперь важно лишь это ее лицо… эти печальные глаза, обведенные темными кругами, и эта шишка под прядью темных волос, лишь эти дрожащие, будто испуганные, будто готовые что-то произнести, по-деревенски большие губы и лишь этот, словно идущий из-под земли шелестящий голос:
— А куда? Куда, Ауримас? Куда?
Ауримас. Она сказала: Ауримас. Не парень, не малый, а просто Ауримас. И каким невероятно знакомым, где-то слышанным голосом…
— В волость. В уезд… Куда угодно.
«Куда угодно, куда угодно! — колотилось в висках. — Важно бежать отсюда. Из этой клетки. Из неволи. И как можно скорей! Как можно скорей!»
— А он? — Ее глаза заблестели прямо перед его лицом. — А как же он, Ауримас?
— Он? Кто такой? Этого еще не хватало, чтобы мы… чтобы ты… из-за подлого этого бандита…
— Куда же он денется, бедняжка… мой козленочек…
— Козленочек?
— Я ведь сказала: сын…
— Когда сказала? Я не слышал.
— Ну… сейчас… недавно…
— Сын?
Он оторопел. Сын?
«А тебе-то что? — закусил губу, будто лишь сейчас сообразив. — Ну, есть. Ну, сын. И что же?»
— Это не помеха, — проговорил он с усилием. — Да-да, не помеха. Не-ет!
Она промолчала. Потом вздернула подбородок, заглянула ему в глаза, точно чего-то ища в них.
— Да неужели, Ауримас? Неужели правда? То, что ты только что сказал?..
— Да, да, да! Ты же не бросишь здесь ребенка… Здесь, в лесу… Иначе быть не может! Если он твой… и если ты без него…
— Никуда, конечно! Куда я без него! Я и сюда… к Начасу… но одна…
— К Начасу? Как — не одна?
Широко раскрыв глаза, она ошпарила его Жарким взглядом, будто удивленная тем, как мало знает о ней он, Глуоснис. О ней и о всей ее жизни…
— Да, — кивнула она и уставилась куда-то в пол. — Да, Ауримас: с приданым. С приданым дурехи гимназистки… в подоле… Видно, рановато расправила эти самые свои крылья…
— Вот тебе их и топором… Твои крылышки…
— Нет, Ауримас, не говори так! Не хочу я, чтобы ты так говорил!
Она вся дрожала, произнося эти слова, под его рукой; ее волосы щекотали ему лицо. И слеза, ее слеза, горячая и соленая, упала ему на лицо, как своя собственная; он сказал:
— И я не хочу, Оне… Я только предлагаю… Разве можно допустить, чтобы этот бандит… заваливался в дом ночью… и своими кровавыми лапищами…
— Ой, не надо, не надо! Перестань!..
— Что ж… — Он слегка ослабил напрягшуюся, как струна, руку, обнимавшую ее плечи. — Раз уж боишься…
Она чуть отстранилась.
— Боюсь?
— Похоже…
— Я?!
— А то кто же? Не даешь и слова сказать о своем Райнисе…
— Какой он мой?!
— А чей же еще?.. А Шачкус… ты, кажется, говорила…
— Говорила, говорила! — горько улыбнулась она; ему показалось, что от этой резкой и недоброй улыбки ее пылающие глаза вмиг помрачнели. — Говорила: на вечере танцевала. И что сюда приезжал. Вместе с этой… училкой… И не зерно они тогда искали…
— Меня?..
— Мальчонку моего. Ализаса.
— Твоего сына?
— Да… Из школы удрал. А все потому…
— Почему?
— В пионеры не желает, вот почему! Отец забьет — ясно. Насмерть заколотит.
— Какой отец?
— Начас — какой! Все он.
— Да ведь ты сказала: неродной…
— Потому и забьет, Ауримас. Родной небось не стал бы. Ну поколотит, ну отругает, за вихор оттаскает… — родной… Пожалеет… Да чего тут развозить… Какой нам толк от этих разговоров?.. Мне да тебе?.. Особенно, Ауримас, тебе. Тебе, детка, тебе…
Он даже зажмурился от этих слов. «Детка…» — в точности как мать; это Оне? Та Оне, о которой он столько думал последние дни…
— Почему же мне?.. — спросил он, думая о чем-то совсем другом и в то же время пытаясь уловить ускользающую нить разговора: нечаянно, совсем невольно коснулся рукой ее колена. — Почему? — Ему не понравился его собственный голос — внезапно, будто от этого нечаянного прикосновения охрипший и как бы чем-то подернутый, каким-то липучим клеем, и такой, какого он, можно сказать, и не слышал, а лишь чувствовал, как и трепетное тепло колена под своей ладонью, как дыхание: и свое, и ее. — Почему?.. Оне, почему?
— Потому что ты слишком добрый… пока… Слишком хороший… Если человек бредит и зовет маму… все еще зовет маму…
— Слишком?..
— Да, — она ласково сжала его руку, точно гладя, но в то же время пытаясь убрать ее подальше; ладонь и пальцы у нее тоже были теплые и пьянящие, как и лицо, глаза, как и прерывистое, взволнованное дыхание. — И слишком молод… Ты, Ауримас, еще совсем молоденький, чтобы… о таких делах…
— Слишком молод? — воскликнул он, теряя самообладание; он уже не соображал, что говорит, не мог и ручаться, что это говорит он, что это его голос: настолько голос был незнакомым и глухим. — Слишком молод?! — повторил он и крепко обнял ее; она всплеснула руками и подалась ближе. — Я слишком молод? — прохрипел он, весь подбираясь, а его горячие, обметанные жаром губы уже искали ее лицо. — Слишком молод?! Ты так думаешь?.. Думаешь?.. Думаешь?..
Она ничего не ответила, осторожно, будто боясь задеть или как-нибудь еще причинить боль, наклонила голову, выскользнула из его объятий, выпрямилась, тряхнула головой, снова нагнулась, чуть взбила подушку и, встав у изножия топчана, будто рядом никого не было, неторопливо, расправляя все свое крепкое, налитое тело, начала раздеваться…»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Я, Бриг, понятия не имею, кто первым крикнул: «Gib ihm zu!»[32] — и кто кинулся с ножом на полицейского; об этом еще напишут «Kölner Anzeiger»[33], если вообще об этом будет написано, hier herrsht Zucht und Ordnung, klar?[34] Но я еще успел оттолкнуть Вингу и отскочить от стола сам; стол опрокинулся, Винга хлопнулась об стену; это на Гогенштауфенринге, близ площади с непривычным названием «Барбаросса» (вспомнилось начало войны), в пивнушке «Früh am Ring»[35]. Откровенно говоря, мы не собирались и заглядывать сюда, в эту пивную, просто бродили по ночному Кельну, чуть поутихшему большому городу, выбирая наиболее освещенные улицы, и наконец настолько выбились из сил, что надо было где-то присесть; подвернулась эта самая «Früh am Ring». И кто мог знать, что около полуночи здесь собираются те, кому трудно попасть в другое заведение, или те, кому вовсе некуда деваться; а хваленые Spezialitäten aus amerikanischen Geflügel[36] соблазняли заглянуть сюда и многих других. Итак, я изо всех сил оттолкнул в сторону Вингу, прежде чем на наш столик упал тот смуглый, весь залитый кровью человек и прежде чем полицейский (когда и откуда он здесь взялся?) выстрелил второй и сразу же третий раз; свет погас. И пока я, крепко держа Вингу за руку, старался плотнее прижаться к стене (в углу, заметил я, стояла огромная пальма в кадке; скорей, скорей туда!), в помещение ввалились новые полицейские с фонариками; опять выстрел. «Отец! Отца моего убили! Ай!..» — завопил пронзительный детский голос по-немецки или еще как-то, на непонятном мне языке; в тусклом свете я успел разглядеть мальчишку лет десяти, воздетые над головой тонкие детские ручонки; он пробирался к столу, где только что сидели мы с Вингой, — сейчас этот столик напоминал мертвую лошадь на поле боя. «Ай!.. отца!.. убили отца!..»
Винга рванулась вперед, к мальчишке, который, пробегая мимо, чуть не задел ее своими воздетыми руками, сухими, как спички, растопыренными пальцами; он был голым по пояс, глаза горели ужасом — никогда прежде я не видел таких глаз; резкий свет направленного на него фонаря, точно длинный язык фантастического чудища, мельком лизнул торчащие детские ребра. «Raus! Du verfluchter Türke — raus!»[37] — крикнул полицейский и, схватив мальчугана за сухие руки-щепки, крутанул вокруг себя и, точно мешок, отшвырнул прочь, обратно во мрак; Винга дернулась у меня в руках. «Не лезь! — зашептал я. — Не вмешивайся, Винга! Это их дела! Только их!» — «Ведь они убили человека! Правда убили!..» — «Разберутся. Сами. Полиция разберется…» — «Полиция?.. Вот эта?..» — «Да. Без нас с тобой. Это их дела, Винга…»
«Нет, нет, немыслимо! — содрогнулся, едва лишь зажегся свет, худощавый джентльмен чрезвычайно одухотворенной наружности, в золотом пенсне на длинном тощем носу; похоже было, что он, вроде нас с Вингой, попал сюда случайно и так же случайно очутился рядом с нами; его бледные, тонкие, как карандашная линия, губы выглядели, право, как нарисованные на сером, тусклом лице. — Господа, это же просто уму непостижимо!..»
«И часто здесь такое творится?» — поинтересовался я, и человек, по-моему, уловил иностранный акцент.
«Вы еще спрашиваете!.. Каждый божий день! С утра до вечера и целыми ночами. Днем, впрочем, они иногда работают…»
«Это о полиции?» — чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя спохватился, что такая реплика прозвучала бы довольно глупо с точки зрения моего лощеного собеседника.
«Иногда?»
«Именно. Бывает и у них нужда в заработке. У меня таких деятелей ошивается около тысячи…»
«Сударь, вы богатый человек…»
«Сомнительное богатство, смею вас уверить. — Джентльмен вздохнул. — Тысяча гуннов, господа, вовсе не такое сокровище…»
«Гуннов?»
«Что-то в этом роде, сударь… — Он мрачно покосился на нас с Вингой. — Видите ли, я архитектор. Под моим началом крупная стройка. Возводим университетское здание со всякими там лабораториями и прочим… А вы откуда сами?»
Я сказал.
«Рига?»
«Нет, что вы! Вильнюс!»
«Ja, ja. Wilno. Adam Mickiewicz. Ja-a![38]
Я ничего не произнес, мы с Вингой переглянулись. Прижавшись к моему плечу, она испуганными карими глазами разглядывала зал, где по-прежнему валялись стулья, перевернутые столы, на полу белели скатерти, салфетки, под ногами у посетителей, в спешке покидавших зал, хрустели осколки: кто-то, бранясь (я разобрал несколько славянских слов), двигал стулья. Полицейских уже не было — ни их, ни тех людей, которые с ними дрались; близ двери, у буфета, широко расставив ноги, торчал дородный верзила в черном фраке и с большой, чуть съехавшей набок желтой «бабочкой» под раздвоенным подбородком, — видимо, владелец этого превеселого кабака; он подозрительно косился на нас.
«Мадам, может, желает воды? — спросил он, учтиво кланяясь. — Быть может, мадам нужно…»
«Нет, нет! — Винга еще больше перепугалась, заморгала глазами и даже закусила губу; кажется, она в полной мере вкусила от радостей этого вертепа. — Пойдем!..»
«Правда, Винга, у тебя такое лицо…»
«Нет, нет, нет!»
Теперь уже и архитектор, который по-прежнему топтался возле нас как пришитый, окинул Вингу взглядом своих тусклых глаз и поморщился: по левой щеке у нее ползла струйка крови.
Я без слов подал Винге платок, кстати вполне чистый.
«Нет, нет! — она замотала головой. — Только не здесь! На улице. Там».
И чуть ли не бегом бросилась к выходу. Мы с архитектором поспешили за ней.
Нельзя ее отпускать!.. — Он с подозрением глянул на меня; этот его взгляд показался мне неприятным. — Это вам не Вильно, сударь. Это Кельн, наш маленький Париж, где дамы ночью не гуляют в одиночестве. А бывает, что иной мужчина, этакий смельчак, теряет бакенбарды…»
«Как так — бакенбарды?»
«Очень просто — вместе с головой. Снимут, понимаете? И бакенбарды, и голову заодно. Рисковать может лишь тот, кому эта самая голова не дорога. А я, уважаемые… Моя головушка еще мне послужит… Коль скоро я принес ее на плечах из-под самого Сталинграда…»
«Вы там побывали?»
«Я побывал во многих местах, сударь… А ныне строю университет… Вон там мой «форд». Тот, черный. Куда вас отвезти, господа?»
Не ожидая ответа, он распахнул заднюю дверцу машины и пропустил вперед Вингу с прижатым к щеке носовым платком, за ней меня; поклонился обоим сразу. Включил зажигание; мотор едва слышно заурчал.
«Отель «Ленц», — сказал я. — Урсула-плац, девять… Там остановилась наша дама…»
«В гостиницу? — наш новый знакомец повернулся к нам с Вингой; в темноте я не видел его лица, но хорошо расслышал удивление в его голосе. — Такая… в гостиницу… То есть… я хочу сказать… в таком виде…»
«Там есть вода…»
Он призадумался, бросил взгляд на часы на приборном щите (без пятнадцати час ночи); потом обернулся.
«Едем к нам! — тряхнул он головой. — Там приведете себя в порядок… Мадам умоется. А тогда, если угодно, я на авто… Не бросать же мне иностранцев в таком плачевном положении… Да еще таких, чье барокко славится на весь мир… я говорю о Вильне, проезжал его в войну… Да и вам, пожалуй, занятно будет взглянуть, как живут интеллектуальные буржуа в городе Кельне… Ведь вы, сударь, говорите, что вы писатель?..»
«Скорее журналист…»
«Для меня это не имеет значения… — он улыбнулся карандашной чертой губ. — В гуманитарных нюансах я не слишком, знаете ли, горазд… Все, кто водит пером, для меня, слепого раба техники, одним миром мазаны… Итак, решено? Эрика будет безумно рада. Да и я, вы понимаете, не могу вас так бросить…»
Так я познакомился с Эрикой Кох, женой архитектора, Эрикой Кох из Кельна, — вошел к ней в дом под руку с Вингой, которая не отрывала платка от лица, поднимаясь по белой, как ослепительная улыбка, винтовой лестнице на третий этаж (на втором, на светло-зеленой двустворчатой двери медная табличка: «Dr. jur. Fritz Clemens, Privatdetektiv». «Ловит неверных женушек, ха-а…» — осклабился бумажный рот архитектора); комната походила на музей. Вдоль обитых светло-голубой кожей стен похожего на зал просторного коридора, откуда во все стороны расходились массивные, покрытые резьбой двери с медными оскаленными мордами львов — в данном случае дверными ручками, — были расставлены мраморные и гипсовые скульптуры, побольше и поменьше, на полу и на полках, в нишах; стены были увешаны керамическими рельефами, какими-то металлическими блюдами и прочими красивыми и, надо полагать, отнюдь не дешевыми вещицами; тут были мечи, старинные мушкеты, рыцарские доспехи, изъеденные вековой ржавчиной алебарды; сардонически улыбались, тараща огромные желтые глазищи и отверзши багровые и зеленые зевы, маски неких диковинных неземных существ; были здесь и престранные, причудливо растрепанные парики, и по-разному ухмыляющиеся, в натуральную человеческую величину, куклы (они показались мне достойными внимания), и похожие на змей блестящие косы на желтых, почему-то покрытых лаком черепах; что-то вроде театра ужасов. Имелась еще одна, неожиданно очень простая дверь, белая, но покрытая лаком, я заметил ее не сразу, а лишь тогда, когда, представив нас жене (та смотрела на гостей сквозь прищуренные, крашенные голубыми тенями веки сонным, отвыкшим удивляться взглядом), в нее устремился наш тощий спаситель-архитектор; это, как я скоро определил, была кухня — просторная, с несколькими белыми раковинами (понятия не имею, для чего столько раковин), остекленными буфетами у стены, набитыми серебром и фарфором, а еще какими-то диковинными черного дерева статуэтками; Эрика пожала плечами.
«Всегда так, — сказала она, испытующе глядя на нас из-под густо намазанных ресниц — больше на Вингу, чем на меня, — и словно извиняясь за столь неожиданное исчезновение своего мужа. — Вернется за полночь и бегом в кухню… зверский аппетит… И ведь говорила, чтобы ел в ресторане… на ужин еще как будто зарабатывает…»
Из кухни в самом деле послышалось бодрое бряканье тарелок.
Я улыбнулся про себя, так как на лице, надо полагать, не дрогнул ни единый мускул: что-то уже заинтересовало меня в доме, похожем на музей, — заинтересовало гораздо больше, чем рядового туриста, и даже больше, чем журналиста, намеревающегося дать репортаж для своего журнала; дело в том, что поужинать вашему мужу, мадам… в том самом «Früh am Ring…»
И я куда смелее взглянул на нее, на Эрику, столь критически отозвавшуюся о своем муже, который определенно вызывал мою симпатию (возможно, именно по причине его благоговейного отношения к домашней кухне с целой батареей — что-то около пяти штук, но не берусь утверждать, не сосчитал — белых раковин и буфетами, смахивающими на музейные стенды), чего, честно говоря, я не сказал бы о его жене; в ее поведении было что-то явно нарочитое. Ни слишком молодая, ни чересчур пожилая, лучше сказать — неопределенного возраста, но с весьма гибкой фигурой, белокурыми, почти белыми волосами, беспорядочно падавшими на небольшой лоб, в потрепанных латаных джинсах и застиранной блузе, из-под которой без всякого стеснения выглядывала розовая (а может, и желтоватая) полоска кожи ее спины или живота (смотря куда она поворачивалась или наклонялась), — мадам Эрика походила на схваченную где-то на улице и ненадолго пригнанную в музей (пусть Даже мелкобуржуазного быта города Кельна) уроженку Алжира или Палестины (белый цвет кожи не в счет), вынужденную провести здесь ночь, возможно, даже с тем самым старцем, юркнувшим в кухню и энергично брякающим там тарелками, вилками, ножами; в ее глазах и впрямь сквозил укор или понятная лишь ей одной жалость к самой себе, едва лишь, перехватив мой взгляд, она поворачивалась лицом к злосчастной кухонной двери…
«Наверное, вы тоже без ужина?.. — спросила она, зачем-то покачав головой и устремив на нас сонный взгляд. — Я могу сделать сандвичи».
Мы с Вингой дружно замотали головами.
«Разве что воды…»
«Одну минутку!» — Эрика схватила Вингу за руку и увлекла за собой куда-то в глубь квартиры — мимо дверей с медными мордами львов; одна из многочисленных дверей осталась приотворенной. Оттуда доносилась музыка — возможно, даже то самое танго, которое я слушал в «Cafe am Dom»; я пригляделся и в глубине той комнаты в мягком полумраке заметил копну черных волос, склоненную над журнальным столиком; впереди краснел огонек сигареты; под копной волос как будто расплылась улыбка. Это был, как я узнал позже, Милан из Бледа, из этого ослепительного изумруда предгорий Альп в Словении, — дюжий, широкоплечий горец-славянин тридцати лет от роду, настолько утопающий в своей буйной растительности, что разглядеть можно было лишь широкие чувственные ноздри и бойкие, цепкие, подозрительно изучающие обстановку глаза; они светились зеленоватым блеском, по-тигриному; да, и еще зубы — когда Милан улыбался. Так я и не узнал, ни где работает сей молодец, ни чем он вообще занимается; в конце концов, это меня не касалось. Но весь его облик — чуть грозноватый, подозрительный, но в то же время вызывающий (эта поза на диване у журнального столика) — красноречиво свидетельствовал, что перед вами вельми уважаемый мадам Эрикой, а то и всем домом друг, ein Leibhaber[39], который чувствует себя здесь куда свободней, чем тщедушный Кох, доставивший нас стада приверженец техники, возводящий гигантский университет со всеми надлежащими лабораториями и кафедрами; питался означенный Милан не одними бутербродами: на журнальном столике рядом с рюмками и сигаретами стояла баночка черной икры и початая бокастая бутылка «мартеля».
Тем временем возвратились Эрика с Вингой; первая почему-то вытирала ладони о свои заношенные ветхие брюки, над которыми, выпирая из-под узкой — словно хозяйка из нее выросла — коричневой блузы, виднелась неприкрытая полоска кожи шириной с ладонь; вторая — опустив глаза и покусывая губы; кажется, Винга еще не совсем четко представляла себе, как держаться в таком доме.
«Садитесь, садитесь! — Эрика придвинула к столику два пестрых пуфа и, махнув нам с Вингой, сама развалилась на диване рядом с пышной копной черных волос. Милан торжественно, как священник на мессе, наполнил все четыре рюмки; рука ниже закатанного рукава джинсовой рубашки была покрыта густыми черными волосами. — И для начала давайте выпьем. Отметим первое знакомство».
Я довольно наивно посмотрел на дверь.
«Нет, нет! — замотала головой Эрика; ее скорее белые, чем белокурые волосы, похожие на сухие пучки пакли, подпрыгнули над невысоким, безжалостно тронутым морщинами лбом. — Он не придет. Еще будет просматривать чертежи. Завтра рано на работу… И потом — что ему здесь делать?»
И довольно лукаво улыбнулась — больше Милану, мощной копне черных волос, нежели мне с Вингой: улыбка, кстати, старила ее еще больше.
Мы выпили кто сколько смог. Но и этого оказалось достаточно, чтобы землистое лицо Эрики (сам того не желая, я все время наблюдал за ней; возможно, она это почувствовала) порозовело, и румянец ярко заиграл на ее отлично промассажированной, умащенной кремами привядшей коже, а речь сделалась более бойкой и категоричной; может, она была вовсе и не так уж стара.
«Нет, нет и не думайте! — Она трясла своими пакляными волосами, пока мы с Вингой усердно благодарили за помощь (ума не приложу, как это Винга умудрилась раскровенить себе щеку) и участие. — В гостиницу? Это же на другом конце города, господа! И такси лучше не вызывать… В нашем городе таксисты, знаете, в основном южане… — она метнула взгляд на Милана, на эту живую копну, словно проверяя, как он станет реагировать; копна жевала и при этом намазывала икру на ломоть хлеба. — Словом, мы приготовим для вас комнату».
Винга покраснела и зачем-то уставилась в пол.
«Не унывай, — сказал я. — Господин архитектор обещал подвезти».
«На машине? О, нет!.. Он устал… Мой папочка очень устал. Но завтра… в семь часов… само собой… До гостиницы или…»
«Нам обязательно, — сказал я, стараясь не глядеть на Вингу, поскольку и без того представлял себе ее лицо… — Мадам уезжает в Дахау…»
«Дахау?»
«Ну, в Мюнхен… А оттуда… Может, в Дахау она найдет своего отца…»
«Он там работает? Лечится?.. Да, тамошние грязевые ванны у нас славятся… И, кажется, там болота… И еще какая-то химия… Карл мне в свое время…»
«Нет, нет… Он там, может быть… погиб…»
«Умер?»
«Да… Возможно, что там, в этой преисподней «новой Европы», он был узником Гитлера…»
«Отец? У такой молоденькой? Странно…»
«Мне тоже странно, мадам… На свете странного куда больше, чем мы думаем… Может, даже больше, чем простого, обыденного… Я утверждаю это, исходя из своего, увы, уже не самого скромного жизненного опыта…»
Архитектор постучался около семи и пригласил позавтракать; в кухне на столе валялось несколько засохших вчерашних бутербродов и сопел электрический чайник. Кох был чисто выбрит, в безукоризненно отутюженных брюках (и когда он спал?), в другом, ярко-желтом, галстуке и белом жилете — не знаю, для чего летом так одеваться; его сухие, казалось, шуршащие, точно целлофан, губы с усилием жевали похожий на кусок картона хрусткий сандвич; тусклые глаза смотрели на часы на стене.
«Очень приятно… мне было очень приятно… — бормотал он, ведя нас с Вингой вниз по той же беломраморной, ослепительной лестнице, мимо ловца неверных жен Фрица Клеменса, через небольшой чистенький, вымощенный светлым камнем двор к просторному гаражу, где без всяких замков и задвижек, почивал ночью его «форд»; рядом отдыхала еще одна, похожая, но только белоснежная, машина, — видимо, то было авто мадам Эрики. — И моей жене было приятно… Эрика — современный человек… И она, знаете, любит русских… А я… вы поймете…»
Не знаю, что должны были означать его слова; уж не сталинградские ли впечатления?.. А может, неловкость из-за их несколько своеобразной семейной жизни — я не успел об этом как следует подумать.
Отель «Ленц» оказался гораздо ближе, чем мне представилось ночью, еще издалека я заметил красный туристский автобус. Винга молча подала мне руку.
«Лучше не провожай, — сказала она, избегая смотреть на меня. — Не надо… И потом, ты ведь обещал… Ну, этой Эрике… когда проводишь меня…»
«Обещал? Да, да… Подождет!»
«Женская доля — ждать да ждать… Но не все такие, как…»
Ну вот! Начинается… А ведь я… кажется…
«Как ты? Нет… ты неповторима…»
«Я не о том… я вообще…»
«И я, Винга, вообще… — Я тронул ее за локоть — осторожно, совсем легонько, и все равно она вздрогнула. — Ну, вернемся в Вильнюс, там и…»
«Что там?» — она раскрыла большие глаза.
«Поговорим…»
«Там?..»
«Ну да… Как всегда, обыкновенно…»
«Как всегда? Обыкновенно?..»
«Ах, Винга, только не сейчас… Тебя ждут… — Я нахмурился, почему-то хотелось поскорей кончить этот разговор, эту ночь; и в самом деле, уже было утро… — Не здесь… понимаешь?..»
«Понимаю… — вздохнула она с досадой и взглянула на красный автобус: в ту сторону жидкой цепочкой тянулись люди с чемоданами и сумками. — Понимаю, Ауримас… мне ведь еще чемодан…»
И бегом помчалась в гостиницу.
«Желаю тебе удачи!.. — крикнул я ей вдогонку. — Жду! Винга, знай, что я тебя с нетерпением…»
Но она уже была на противоположной стороне, вот ухватилась обеими руками за массивную ручку гостиничной двери, толкает…
«Да, да, чемодан… Тебе еще, Винга, чемодан… чемодан…» — бормотал я, очень и очень собой недовольный, направляясь в сторону Кафедральной площади, где находилась моя гостиница и, разумеется, телефон: мадам Эрика, видимо, уже встала и ждет моего звонка. И, может быть, та черная волосатая громада ей уже не очень-то и нужна…
«Ты не удивляйся, — сказала она, когда мы встретились на площади перед гостиницей; Эрика была в замызганной голубой кофте и все в тех же убогих джинсах — таких протертых, наверное, больше не найти в Кельне; дверца белого автомобиля была распахнута. — В Кельне это принято… И не только в Кельне…»
«Что принято?» — Я удивленно посмотрел на нее: знает?
«Иметь друга дома, — the darling[40],— ответила она, и у меня отлегло от сердца. — Особенно в такой идиотской ситуации, как у меня…»
«И что же в ней идиотского?»
«То, что Карл на двадцать лет старше меня».
«Подумаешь, возраст!..» — улыбнулся я, разумеется, мысленно, поскольку вовсе не желал обидеть мадам Эрику, бодрого гида, которого мне послала сама судьба; вспомнил о Винге: и я небось лет на двадцать… «При чем тут годы, Ауримас, — сказала она ночью, когда мы с ней остались одни в большой комнате, где вдоль стен в одиночку и группами были расставлены всевозможного размера статуи и статуэтки, а у окон помещались две широченные тахты; за окном полыхали неоновые огни. — Не в годах дело… Абдонас ведь почти одних лет со мной… друг детства… а что за радость…» — «Он, кажется, филателист…» — промямлил я. «Ага… — Винга вздохнула; я словно воочию увидел, как она вздыхает, озаренная неоновым светом. — Ага… Он весь в марках… Его только марки и занимают, Ауримас, дни и ночи напролет…» И ночи, теперь уже вздохнул я, и, наверное, она это подметила — в отблесках неоновых огней; женщинам этого мало, филателии этой самой.
Женщинам? Почему же только женщинам? А мужчинам?
«Замолчи ты, женоненавистник!» — я поспешно загнал внутрь себя желание излить душу — глупое, никому не нужное, какое-то совсем не мужское, с какой стати… Жалобы. Стоны. Кто тебя поймет?
Это, видите ли, такие интимные мелочи, что о них и говорить… О таких делах, Ауримас, почему-то принято молчать, словно никому до них и дела нет…
Мелочи… Что мелочи? Почему мелочи? Кто это решил: мелочи? И это волнение, когда, кажется, ничего на свете больше не существует, кроме…
С кем я спорю? С самим собой? Или с Мартой — оставленной где-то далеко женой Мартой, там, за тысячу километров, закутанной в пледы, погруженной в свои заботы, в болезни; лежащей (так и вижу) на диване у самой двери… дежурит, как пожарный… лежит и ждет… кого? Знаю: кого угодно, только не меня; и это, кажется, самое главное: не меня, а если когда-нибудь и меня, то опять-таки не так, как хотелось бы… как другие своих мужей… и не так, как Эрика — этого косматого великана; Марта ждет, досадуя, куда же он подевался, этот предмет домашнего обихода, без которого и впрямь чего-то в доме недостает, привычного, собственного, единственный прок от чего — сознание, что оно имеется; подлинная же ее жизнь вот уже сколько лет не в том; а в чем?
Только без притворства, ладно, Ауримас? Ты знаешь — и не морочь себе голову, во всяком случае здесь; знаешь — вот и ладно, не растравляй себя, не сыпь соль на рапы; виновных нет, во всяком случае сейчас уже нет, сейчас — спустя двадцать с лишним лет; не будем переводить стрелки часов назад. И давайте не будем подбирать листки календаря, нет смысла: ветер содрал их со стены, ветер, именуемый жизнью, развеял по чисту полю промелькнувших лет, изодрал в мельчайшие клочки, дожди да снега сгноили; так канули в вечность не только унылые, постные дни — были и солнечные воскресные утра, и радостные праздники, и молодые пиры; бывали и улыбки, бывала любовь… И любовь? Неужели? Бывала, глупый ты человек, — бывала и любовь, поскольку была молодость; и не только дурацкое женоненавистническое фрондерство в обществе Фульгентаса, но и настоящая любовь, которая стремится к ясности, даже к вечности, к тому высокому постоянству, которое должно вдохновить человека на борьбу и победу, на утверждение себя в этом мире и которое, пусть не в полной мере, еще осталось в тебе; никто не виноват в том, что судьба, закутавшись в черный плащ не изведанных до конца страданий и горестей, подкралась к самому порогу вашего дома и…
Но кто же тогда виноват? Судьба? Одна лишь она?
А ты?
А я?
А я — ангел я, что ли? Был ли ангелом? И ангел ли сейчас? Эх, опять… Чем же я виноват, если… Скажите, чем, если время для нас обоих прошло по-разному, эти бешеные годы людские: одного состарило прежде времени, другого оставило чуть ли не таким, каким он был прежде, лишь увело — подальше, подальше! — подальше от Фульгентаса и странной, быстро преодоленной апатии? Чем я виноват, если жизнь во мне сейчас — именно сейчас, когда пора, казалось бы, остепениться, — бьет ключом как никогда? И если я, сам не знаю отчего, порой чувствую себя прежним юнцом давних, минувших дней? Особенно отчетливо я сознаю это, когда остаюсь один — в поездках, а я, видимо, рожден путешественником, или в творческих грезах, зачастую сугубо потаенных, слишком смелых даже для себя самого; а они, как и в юности, все еще реют белыми птицами над моей головой, пусть седеющей, пусть лысеющей, но все еще неугомонной, все ищущей чего-то на этой земле; чего же? Смешно? Когда, казалось бы, давно примирился со всем на свете и когда… Не спешите смеяться, нет! Не надо потешаться; кому-то, быть может, и смешно, только не мне. Не Глуоснису. Не тому мальчику, который с малолетства воюет со страшным Стариком[41]; за перо — то, от синей птицы, — в видениях и снах; ибо тот, кому достанется… Что?.. Перо синей птицы!.. Нет, мне ничуточки не смешно, уверяю вас! Я не нахожу покоя. О, кто бы мог понять, как это тяжело — чувствовать, как что-то — какое-то дурацкое неистовство — кипит, клокочет во мне все сильней и сильней, и что я уже давно-давно, Марта, давно — быть может, с самого начала — чувствую, что обязан что-то совершить, что-то важное, что-то, быть может, выше моих сил; а мне и рассказать об этом некому. Чего уж там, я вынужден это глушить в себе, как и многое другое; боюсь тебя напугать. Боюсь, ибо для тебя не это главное, и не потому ты выходила за меня; боюсь, ибо то, что я чувствую, — еще не дыхание старости, которая, чего греха таить, тоже не за горами; и не предчувствие неизбежного, той черной завесы, которая неумолимо опустится за нами, — нет, это совсем иное, ради чего стоит жить и петь; я не хочу стариться! Я не намерен стареть, Марта, я всегда буду противиться старости — даже и в тот миг, когда почувствую ее костлявые пальцы на своем горле; мне еще надо жить! Что-то сделать, что-то недовершенное, важное; знаешь ли ты, что самое главное всегда впереди? Даже для тебя. Даже для меня, Марта, для меня, столько разбазарившего на своем веку, — быть может, больше, чем кто-либо; надо жить. Ощущать жизнь, ее аромат. Постигать. Чуять. Понимать. Да, обязательно понимать, хотя это, конечно, самое трудное, ибо узнать огонь можно, едва лишь взглянув на него, а вот понять — для этого надо коснуться пальцами… Пусть это будет эгоизм, я согласен, подлый мужской эгоизм, Марта, но он придает мне силы — сегодня, когда нет больше молодости; в конце концов, человек живет не только для себя. Живет он ради других, более высоких целей, прежде всего — ради них, Марта, даже тогда, когда со стороны может показаться, что в его жизни этих целей нет; есть они! Только мой путь к ним идет по другим траекториям, не таким, как у остальных, как у тебя, Марта, хотя и твоей судьбе задали направление все те же послевоенные годы, — но это какое-то другое, женское направление, что ли… А я, помимо своего желания, чувствую те молодые годы, как издерганные нервы, как шум крови в висках, я продолжаю ими жить, хотя и думаю, будто живу не ими, а иными, что ложатся на плечи новым: бременем; кто докажет, что те годы для меня — не теперешняя жизнь? Нас кроили, нас лепили те годы, это они сделали нас такими, каковы мы сейчас, по своей неподражаемой мерке; а все, что было после них, скользнуло мимо точно тень… Кто же тут виноват, Марта?
Я перебирал мысли минувшей ночи, усаживаясь в белый автомобиль рядом с мадам Эрикой, которая захлопнула дверцу, завела стартер и из тесной цепочки машин на стоянке резко выскочила на широкий, только что политый асфальт — словно назад, в черную блестящую ночь; мимо понеслись дома. Белые здания, ослепительные, точно вынутые из туристского проспекта и чем-то похожие на дом, в котором я ночевал с Вингой; мои ноздри еще словно ощущали свежий запах ее кожи, а щеки — дразнящее щекотание ее пышных кудрей; перед глазами стояла она вся — точно статуя у стены, поразительно холодная, я не мог ее оставить там. Я должен был обнять ее и отнести на тахту, на ее место у окна, недалеко от другой такой же тахты — моей, усадить ее, потом уложить, укрыть одеялом и согреть в своих руках ее руки… я должен был…
«Это не для тебя!» — помню, крикнул кто-то, едва лишь я проснулся, еще не соображая как следует, где нахожусь. Не для меня? Что? Все! Хотя бы и Винга, какое ты имеешь право на нее? Никакого! И не только право, но и… Что ты можешь ей дать — сведенные артритом суставы? Ломоту в висках? Растущий с каждым днем холестерин? Или это уродское брюхо, которое ты безуспешно маскируешь жилетом? Больно много ты ей…
Это Винге-то? Почему Винге, если я только что думал о Марте, которую оставил в Вильнюсе и о которой, возможно впервые, так хладнокровно размышлял — как о находящейся далеко; что она сказала еще? Да конечно же она, Винга, не Марта, — когда мы вошли в комнату и выбрали каждый по тахте; речь, естественно, зашла об Эрике и удалившемся в добровольное кухонное изгнание архитекторе; я почему-то посетовал на возраст… «При чем тут годы, Ауримас, не в годах дело…» Не в годах, это верно, а все же… — подумал я; так я подумал тогда, Бриг, вспомнив белобрысого творца новелл из моей же собственной редакции Юодишюса (в моем столе, мелькнуло в мыслях, все валяется его повесть, которую он просил меня «пробежать от нечего делать»; по я так забегался, что все не мог выбраться и «пробежать» ее), в последнее время, насколько я мог заметить, Винга никогда не обходила его кабинет на первом этаже (как, впрочем, и мой); поговаривали, будто бы они вдвоем пишут драму, которая, вполне возможно, потрясет мир; я-то уж, во всяком случае, никого потрясать не собирался. Он и дома, я слышал, побывал, у Винги дома, в старом городе: не думаю, чтобы он туда забрел с целью послушать флейту или полистать альбомы Абдонаса с марками (когда-то вместе учились)…
«А тебе-то что? — простонал я, точно меня душили. — Тебе-то какое дело, старикашка? Чего ради ломать голову? Было бы над чем! Было бы, слышишь?! Абдонас и мой сотрудник, творец новелл… этот самый Юодишюс… Дались они тебе, честное слово!»
Я почувствовал, что встаю, сам удивился и повернулся к окну: погоди! Постой, любезный старичок, ждал до сих нор, подожди еще — не спеши и сейчас, одумайся, не будет ли это глупо. — Что? — То, что задумал… То, что делаешь… Столько, старый пень, повидал, столько испытал. И пожил, слава богу. Да знаешь ли ты, что будет потом? Подумал об этом?
Потом? Это когда — потом?
Неоновые огни светили теперь прямо в глаза — голубые, страшные, — и я повернулся на другой бок, спасаясь от их тревожного света, и даже закрыл глаза, чтобы ничего не видеть; погоди же ты! Ну, сегодня ночью. В эту странную ночь. В странную ночь в городе Кельне — возьми да пережди. Завтра будешь сильней.
Завтра? Или послезавтра? А вдруг через месяц или год?
Эх, не все ли равно, когда? Ведь не с сегодняшнего дня эти мысли, и не первый день вы с Вингой общаетесь, хотя никогда об этом не задумывались и, разумеется, никогда не ночевали в одной комнате… И не впервые ты этак о Марте… о своей Марте в нелепом голубом тренировочном, которой не нужен муж, а если и нужен, то лишь как давняя привычная вещь… предмет домашнего обихода… хозяйственная принадлежность…
Хватит, хватит, хватит! И я сел, точно кто-то подтолкнул. Непостижимое беспокойство, от которого меня всего трясло перед тем, и сейчас цепко держало, точно в капкане, но ломота в висках отпустила, голова была ясная, и я мог думать четко, без помех. Мог что-то понять.
«Винга!.. — позвал я тихо. — Ты спишь, Винга?»
Никто не ответил, и я, приподнявшись на руках, глянул на тахту у соседнего окна. Винги там не было, и это окончательно вывело меня из состояния полусна. Я вскочил на ноги.
«Винга! — воскликнул я громче. — Где ты, Винга? Отвечай!»
Но и сейчас было тихо, и тишина эта вливалась в меня вместе с голубым неоновым сиянием и трепетным дыханием большого города, пробивающимся сквозь жидкий тюль занавесок; в этом трепете громко, словно призывая кого-то, стучало и гремело мое сердце… Отчего-то я торопился, непонятно куда и зачем, я ощущал в себе эту спешку; то была все та же тревога, то же беспокойство. А возможно, и страх, обычный человеческий страх: где Винга? Куда она исчезла из этой огромной, зловещей, с голубыми тенями по углам комнаты, где прячется? Что означает ее исчезновение? И что делать мне?
В одном белье, белый как привидение и жалкий даже для самого себя, я поспешно зашарил по стене в поисках выключателя; не нашел; взгляд сам заскользил по соседней стене, как назло загроможденной большими и малыми статуями и статуэтками, и уже было устремился к двери смежной комнаты, куда я намеревался двинуться, когда послышалось что-то похожее на рыдание.
«Винга? Ты? Это ты?! — Я бросился к застывшей в углу, подле каких-то гипсовых слепков, Винге; я от души радовался, что нашел ее быстрее, чем потерял. — Чего ты плачешь? Ну, не плачь…»
Она молчала. Только плечи, по-моему, задрожали еще сильнее, словно она глотала слезы, загоняла их внутрь, голые мокрые плечи под моими ладонями; я сказал::
«Не надо плакать, Винга… какой толк…»
И погладил эти плечи.
Дурак, дурак, дурак!.. Кровь ударила в виски; разве так утешают женщин? Так пошло? Ты и сам не соображаешь, насколько ты глуп сейчас!.. И жалок!..
«Винга… не сердись… ладно?.. — залепетал я, не очень-то понимая, что я такое говорю; будто за меня говорил кто-то другой. — На эту Эрику…»
«На Эрику?! — воскликнула она с каким-то незнакомым мне отчаянием в голосе, вся дрожа и прижимаясь к стене. — Эрика!.. Думаешь, я не знаю, что все это безнадежно?!»
«Ну… что именно, Винга?»
«Всё!.. — Она подалась ко мне, и я снова судорожно схватил ее за плечи. — Всё, всё!.. — твердила она, задыхаясь. — Мы уже десять лет женаты… боже мой!.. Десять лет!..»
Ах, вот оно что!.. Старый дурак, вот!..
Непроизвольно, словно так и полагается, я обхватил ее всю, целиком, в тот же миг снова ощутив пронзающее все тело, словно ток, не дававшее мне уснуть волнение; я изо всех сил стиснул зубы.
Теперь она вся обмякла у меня в руках и, точно утопающая, обхватила за шею; грудь мне обдало зноем. «Дурак, дурак, дурак!.. — застучало во мне. — Будешь распоследний дурак, если…»
«Не буду!.. — выкрикнул кто-то в ответ, хотя мои губы были плотно сомкнуты, и зубы, и челюсти, эти клещи, обязанные зажать рвущийся наружу вздор. — Нет, Глуоснис, не буду!»
Голубые неоновые огни созвездиями били в глаза, когда я поднял Вингу, точно тяжелый свернутый ковер; потом вспыхнули где-то сбоку, потом приглушенно, в подсознании… Куда ты ее несешь?! Куда ты несешь ее, старый, жалкий дурак?.. — полыхали огни. — Разве она твоя?! А то чья же, бестолочь, — не Абдонаса же… если он так… если она сама тебе… Сама? Ты говоришь: Винга сама?.. А Марта?!..
А Марта?.. Это было как ревматическая боль в ненастье; я съежился; как же так, а, Глуоснис, — Марта?.. Гипсовые фигуры, как мне почудилось, затопали тяжелыми ногами, услышав тот стон. Вот, значит, как ты ее, Марту… ай да Глуоснис… И Мету… Искрой взметнувшуюся в памяти Мету…
И все-таки, стиснув зубы, с каждым мгновением все больше ощущая идиотизм своего положения, я нес Вингу по огромной, похожей на музей комнате, потом уложил на свою тахту; и — словно острый укол в сердце…
«Не предай! — воскликнул голос, но чей, Бриг, чей? — Не предай!.. Ведь и я тебя… когда остальные…»
Остальные? На мгновение я будто очнулся и отстранился от лежащей на тахте почему-то очень спокойной Винги с широко раскрытыми глазами и чуть округленным ртом, — казалось, она вот-вот заговорит, но не находит слов, — от Винги, с которой… чуть ли не всю эту ночь… бодрствуя во сне… я…
«Не предай!..» Я чуть не задохнулся от нахлынувшей ярости, от злобы: на себя, разумеется, на кого больше, — по и на Вингу, потому что она, казалось мне, была виновата, пожалуй, еще больше, чем я; не заведи она этот разговор о своем Абдонасе… «Да, да, если бы, Винга, не ты…» Я внезапно ощутил слабость во всем теле, которое еще за секунду до этого было тугим, как струна, и как будто звенело, а сейчас — опять-таки все, целиком, начиная от темени, затылка, плеч и кончая подошвами, пятками, — изнывало от боли, точно истыканное иглами; ощутил свинцовую тяжесть своих босых ног; и, уже без единой мысли в голове, опустошенный, как опрокинутое ведро, оставив Вингу на своей тахте, без малейших, даже ничтожных поползновений, поплелся к другой тахте и лег… На ее, Вингину, постель, пропахшую лучшими кельнскими духами и еще чуть тепловатую, но отчего-то совсем чужую…
И все же было у меня чувство, будто я совершил предательство, — особенно сейчас, когда я незаметно, искоса поглядывал на Эрику, пытаясь изгнать те впечатления, которые нам с Вингой суждено было пережить минувшей ночью; все это выглядело теперь как серый, кому-то чужому привидевшийся сон. Или фильм — еще более серый и никому не нужный. Это дошло до меня сразу, едва лишь я проснулся и глянул издалека на Вингу; она лежала все так же, по-детски округлив рот, словно чему-то удивившись и уже позабыв о своем удивлении, бледная и совсем спокойная, странно бледная и странно спокойная, хотя, определенно, не сомкнула глаз этой ночью; я отвернулся. Даже и сейчас, утром, я чувствовал эти влажные, дрожащие, стиснувшие меня как клещами Вингины руки — словно некий обруч или петлю, — чтобы зажать мне горло (почему-то именно так), а еще больше — странную, невыразимую пустоту в себе, пустоту, которой я боялся еще пуще, чем той жаркой петли; кого-то я все же предал минувшей ночью…
Это чувство предательства точно голодный приблудный пес преследовало меня все утро: пока я жевал высохшие, как щепки, бутерброды Коха, пока спускался по лестнице, ожидал, когда сухарь архитектор выведет из гаража машину… Но особенно сдавило горло — точно вспухли давно вырезанные, давно позабытые, но неожиданно отросшие гланды — там, возле «Ленца», при прощании; мадам Эрика должна была выручить меня… И именно она, ибо все, что со мной и Вингой произошло минувшей ночью, случилось не без ее вины. Зачем она закрыла нас среди гипсовых статуй? Ведь мы собирались в гостиницу! Это было детски наивное оправдание, я и сам ему не верил; однако то, что она (во всяком случае, мне так представлялось) не проявляла никакого особого интереса, успокаивало и позволяло обрести утраченное сегодня ночью равновесие и уверенность в себе; я был ей благодарен уже за одно это. И она интересовала меня не как один из немногих встреченных здесь гидов, о которых я бы хотел кое-что написать для нашего журнала, а как поводырь, ниспосланный мне самой судьбой, в затрепанных джинсах и линялом голубом свитере; зато ее белоснежный «форд» мчал что надо. И водила она машину не хуже мастера спорта, ибо, я думаю, нет в мире больших помех для автомобилиста, чем эта кельнская «Ринге» в дневные часы; более оживленно разве что в Париже. Но я мог нисколько не беспокоиться, видя, как ловко мадам Эрика «срезала углы» под самым носом у высокомерных «кадиллаков» и как решительно она тормозила, чувствуя, что какой-нибудь обнаглевший «шевролетик» намерен дать нам тычка в бок; кое-кому она не стеснялась показать кулак… Довольно быстро пересекли город по трем или четырем направлениям (ясное дело, центральную часть, так как весь Кельн сразу не охватишь) и снова очутились где-то недалеко от Hohe Strasse; машина дернула, колеса словно вжались в асфальт.
«В чем дело?» — поинтересовался я, так как уже вошел во вкус — хорошо было кататься в тот утренний час по Кельну, — остановка же означала некое возвращение в минувшую ночь; я не хотел останавливаться.
«Забыл? Лекарство для жены…»
«Аа… обязательно. Хорошо, что напомнила…»
«Такое забывать нельзя! — Она погрозила пальцем; («Смотри-ка ты, напомнила!») сверкнул крупный, дорогой перстень. — Ни в коем случае…»
«У каждого свой случай, мадам…» — Я нахмурился, но ничего не сказал и не торопясь вышел из машины.
Стояло ясное августовское утро — такое, как бывает, когда уже издалека начинаешь чувствовать приближение осени и когда больше ради моды, чем ради надобности, стремишься надеть на себя что-нибудь потеплее; мой джемпер остался в гостинице.
«Ломит стариковские косточки… — проговорил я, словно оправдываясь. — Ведь, что ни говори, мне под пятьдесят…»
«Мальчишка!.. — лукаво улыбнулась Эрика. — Уверяю тебя, это школьный возраст… ну, студенческий… Особенно в наше время…»
«Против возраста и юмор бессилен, мадам».
«Возраста? А он тебе мешает? Нам — мешает?»
«Не в годах дело, Ауримас!..» — вспомнил я и отвел глаза; женщины все похожи. И всюду. Вот разве что Марта…
У меня снова екнуло сердце, но я промолчал, не сказал ни слова — это не для Эрики. Не для нее, мадам из Кельна; у каждого своя беда, и не всех в нее посвящают, — своя беда и своя радость, Бриг, ибо вот она, эта самая мадам Эрика, видимо что-то припомнив или что-то не к месту придумав (возможно, даже обо мне), взяла да рассмеялась — сама себе, хотя, кажется, не так громко, как могла бы, — попробуй тут разберись; какое-то мгновение она так и сидела с широченной улыбкой на своем широком лице, с улыбкой, которая, откровенно говоря, не очень-то к ней шла, лучше бы ей все время сохранять серьезность — волосатый Милан любил бы и такую; хотя и дурнушкой ее не назовешь, но могла бы изредка расчесывать свои волосы: ни дать ни взять — кучка соломы на сером асфальте плоского лба; и лишь губы, ярко-пунцовые (неизвестно, помада ли это) и вечно трепетные губы мадам Эрики сияют влагой, здоровьем и вожделением.
«Тебе бы стоило съездить куда-нибудь в теплые края… — Она резко повернулась ко мне. — Например, где зимуют ваши аисты?»
«Кажется, в Египте… Я как-то не интересовался этим… А ты почему спрашиваешь?»
«Я, видишь ли, люблю передачу «Хочу все знать». Наше телевидение показывает по пятницам. Единственная передача, которая чего-то стоит. А ваши края я очень слабо знаю…».
«Наверное, наши края лишены особой экзотики…»
«Как это?»
«Для туристов, я имею в виду. И, возможно, там нет того комфорта, без которого вы… жители Запада…»
«Не знаю… Карлу у вас понравилось… Тот город, который он видел… Он любит барокко… А меня больше тянет в другие широты… Европа — не то; здесь, даже когда цветет сирень, попахивает войной…»
«Войной?»
«Да. Ведь все войны начинались здесь. Все большие войны.»
Она умолкла и зачем-то засмотрелась на свой перстень. Искристый камень, дорогой. Вздохнула.
«Но понимаю, — проговорила она, — что вы находите здесь, у нас?»
«У вас?»
«В нашей Германии. В этой пивоварне?»
«Мы… журналисты… — ответил я. — Куда пошлют…»
«Да, да… работа… культурные связи…»
«Вот именно».
«А нам бы — подальше отсюда!.. Каждый год. А то и чаще».
«Со своим darling?»
«Почему? — она пожала плечами. — С Карлом. С моим старичком… Это одно из немногих удовольствий, которые еще ему остались… В прошлом году мы были на Балеарах. Потом в Мекке. Только не паломниками, не бойся. К религии я равнодушна… И от войны она не спасает…»
«От войны? Ты помнишь ее?»
«Не льсти, это ни к чему… — Эрика скривила губы. — Я ведь не гимназистка… Мой отец был генералом…»
«Генералом?»
«Да. Его повесили».
«Нюрнберг?» — спросил я; рука невольно потянулась к блокноту, который я носил в кармане: журналист во мне не дремал.
«Почему? — нахмурилась она; по бледному лбу скользнула тень. — Гитлер. «Белая роза». Слыхал? Хотя я в то время была очень юна…»
Она снова вздохнула и устремила взгляд куда-то далеко, за крыши зданий, где плавал прозрачный утренний туман. Первый раз сегодня эта женщина не улыбалась и первый раз она мне чем-то понравилась… «От войны она не спасает…»
«Войны не будет, — сказал я. — Во всяком случае, пока».
Я даже удивился, что в моем голосе было столько уверенности. (Не так ли звучал он тогда, в первые дни июня сорок первого? Но тогда я был совсем зеленый юнец.)
«Ты гарантируешь?»
«Полагаю, да».
«И я так полагаю… — сказала она, почему-то с грустью глядя на меня. — И Карл. Второго Сталинграда он бы не вынес…»
Мы купили нужные для жены таблетки — аптеки уже работали, хотя большинство других магазинов еще было закрыто; действовал и двухэтажный «Beata Uhse. Sex shop», возле которого два коренастых турка в оранжевых передниках драили тротуар большими белыми щетками, тараторя скороговоркой; рядом стояли два красных пластмассовых ведра; брызгала пена.
Откровенно говоря, то было место, которое в моих заграничных поездках всегда вызывало у меня неприязнь: все так вещественно и пошло и все имеет цену в деньгах; я зашел сюда просто, движимый странным любопытством: хотел узнать, как в таких магазинах себя чувствуют женщины, — все же, сами понимаете, такое место… Мадам Эрика никак особенно себя здесь не чувствовала и даже приобрела какую-то мелочь в одном из киосков — какую именно, я не разглядел (мне, очевидно, и не полагалось этого знать;) мне попалась на глаза девочка-подросток, лет этак двенадцати, от силы тринадцати, нездоровая полнота, возможно, делала ее более взрослой; она с нескрываемым любопытством разглядывала оборудованную посреди зала пикантную витрину. Угрюмого вида пожилой продавец, надорвав кожуру большого банана, почавкивая, жевал ароматную мякоть…
«Ладно, пойдем…» — улыбнулась мадам Эрика, кидая свою покупку в пакет.
Эрике вздумалось потащить меня в кино. Когда мы вошли в зрительный зал, показывали хронику. Кто-то кого-то преследовал, стреляли — я не сразу сообразил, в кого; лаяли собаки; человек забрался на стену; я понял, какую… Он был в белой развевающейся рубахе. Он распростер руки, как старинный аэроплан — крылья, он ликовал, что-то выкрикивал — я не разобрал слов — и уже было пригнулся для прыжка вниз (собачий лай приближался), как… Выстрел грянул так громко, что я вздрогнул и зажмурился, а когда открыл глаза — человек лежал ничком на колючей проволоке, которой был оплетен край стены, руки-крылья бессильно свешивались вниз… текла кровь… И вдруг раздался еще один залп — какой-то совсем другой, веселый и бойкий, а через весь экран — ярко-голубого цвета — пронеслась белая пробка; следом за ней взлетела и зеленая бутылка.
«Пойдем отсюда…» — взмолился я; на сегодня хватит, да и на завтра, пожалуй, тоже; вдруг вспомнился Вильнюс. Почему-то в этот миг я вспомнил Вильнюс, но не свой дом на Заречье, в переулке, обсаженном старыми липами, с изящной итальянской галереей, широкими окнами и кровелькой над белой, всегда ослепительно чистой лестницей (Марта считает, что получить эту квартиру нам помог некий Даубарас), и не Марту или Эму, о которых в данный миг мне было бы просто тяжело подумать, а площадь Гедимина, старую колокольню с курантами (мне она всегда представлялась наклонной, вроде Пизанской башни) и проспект за нею, улицы, запруженные народом: люди куда-то идут, спешат, и все друг другу нужны, а их лица в тот миг мне представились умными, понимающими, добрыми и предельно далекими от того, что я видел здесь сегодня, хотя и у них, надо полагать, сверх меры всяких неотложных буничных дел, забот; я хочу домой! Знал бы кто, как сильно в этот миг я хотел вернуться к себе, в свой город, на свою землю; я хочу, вы понимаете, хочу домой! Мне надо — поймите, надо! — снова приземлиться в московском аэропорту, вдохнуть сыроватый, сродни далекому дыханию Балтики воздух; снова сказать «здрасте». Понравилось за границей? Да… а дома лучше; понимаете — дома; мне надо — и как можно скорей — опять лететь, теперь уже в Вильнюс, в свой город; снова плыть над облаками; надо взглянуть на Вильнюс сверху, на эту широко распластавшую над рекой — точно над веткой диковинного дерева — свои белые крылья белую птицу, в чьем оперенье затерялось и мое крохотное перышко, даже пушинка; надо сойти по трапу, ждать автобуса, потом получить багаж, ловить такси, болтать с водителем о погоде, о баскетболе, рыбалке и ценах на яблоки, поглядывать в окно (вот этой рекламы не было, а тот дом, гляди-ка, уже красят), слушать, как, отсчитывая гривенники, щелкает таксометр, и наконец остановиться там… Да, скорее в редакцию, снова войти — вернее, вбежать бегом — в свою редакцию, где я работаю (чуть не ляпнул: живу) уже двадцать лет и где, гм, состарился; бегом вбежать в большую комнату, где трудятся усердные пчелки, художники, стилисты, корректоры; в секретариат; воскликнуть: «А вот и я!» — и высыпать на стол дешевые, зато заграничные, завезенные «оттуда» карамельки; высыпать рядом с еще горячим кофейником; угощайтесь; такова уж традиция. И еще; сразу же всех созвать и рассказывать — рассказывать — рассказывать, что видел, что узнал, словно можно так откупиться за те недели, что отсутствовал, когда другие за тебя здесь вкалывали; и хотя Чапек как-то сказал, что номер выйдет даже в том случае, если в редакции останутся лишь курьер да машинистка, — редактор есть редактор! Рассказать о том, как живут и работают за границей, как одеваются, что едят и о чем разговаривают на досуге. И вот уже снова заботы и тяготы Заречья (забудь, не думай о них — хотя бы здесь!), все те же грызущие сердце домашние заботы…
(И еще мне хотелось домой из-за минувшей ночи, потому что такое могло произойти между мной и Вингой только вдали от дома.)
Сам не заметил, как мы вышли из кинотеатра (на экране опять лаяли собаки), сели в машину и очутились где-то на берегу Рейна; Эрика остановила машину возле какого-то низкого круглого здания.
«Не помешает и тебе…» — небрежно бросила мадам Эрика, поворачивая ключ в дверце машины.
«Что именно?»
«Искупаться. Смыть грехи. Это бассейн».
«Вот оно что!» — Я исподлобья глянул на Эрику: смеется?
«А что! — У нее заблестели глаза. — Думаю, после свежих впечатлений…»
«Как-нибудь утрясется… — думал я все о том же, все о минувшей ночи, когда мы, уплатив по марке, взяли билеты и направились каждый в свою кабинку: я — исключительно для того, чтобы посмотреться в зеркало (что видит мадам на моем лице, что она читает в этой блеклой книженции?) и самую малость побыть наедине со своими безрадостными мыслями, а Эрика — переодеться; вскоре она уже плескалась в голубоватой воде огромного бассейна, ловко ныряя под вполне всамделишние и даже по-настоящему набегающие друг на друга «волны»; с кем-то (разумеется, мужского пола) она уже держалась за руки. — Должно утрястись… К тому же как будто ничего особенного… Ничего из ряда вон… ничего, выходящего за…»
Я уже сожалел, что не бросился следом за Эрикой в клокочущую воду бассейна, а остался здесь, унылый и одинокий: тогда не пришлось бы предаваться мыслям, которые так меня гнетут, как и многим другим делам, которым мы предаемся, причем совершенно зря, — например, сожалеем о прошлом, которого все равно не вернуть и не изменить, пусть даже это будет самое недавнее, независимо от того, приятное или нет; в конце концов, в моем будничном существовании как будто ничего не…
Ты уверен, тут же усомнился я, что не изменилось? Так-таки ничего? А что, если Винга…
Возымеет претензии? Какие же?
Женские… Что тогда? Разве не ты сам ее ночью на руках…
Ишь ты, святая невинность!.. А она сама? Зачем встала у стены, рядом с гипсовыми статуями? В одной сорочке, чуть ли не голая. У стены! Чего ждала? Зачем смотрела, как я сплю? Таким взглядом.
Каким? Ты что, видел?
Видел… То есть чувствовал. Так смотрят, только когда решаются… Когда знают, что будет. И хотят, чтобы так было.
Но ты ей обещал!..
Обещал? Как так? Я ей как будто ничего…
Ну да — еще руку положил на плечо… потом нес по комнате… Думаешь, обещают только словами?..
Обещал?!..
А потом обманул… разочаровал…
Обманул?!..
Именно… Это точно, точно, точно. Точно, старый пес, совершенно точно!
«Это Поль из Эльзаса…» — вдруг расслышал я и обрадовался, что Эрика здесь, что она, словно зная, как это нужно, поспешила подать голос, и весьма кстати, а то моя дурацкая совесть… В смелом оранжевом бикини, мадам Эрика стояла рядом и, стянув с головы бирюзовую резиновую шапочку, издали махала своему партнеру по бассейну и даже послала ему воздушный поцелуй; Поль из Эльзаса ответил тем же.
(Я сидел за столиком на террасе за бутылочкой «Kölsch»[42] и смотрел на бурлящую внизу воду и людей; последних было не так чтобы мало, особенно если учесть, что время было раннее, — в основном пары…»)
«Вот эти, — Эрика показала на женщину вроде нее самой (если не старше), только более широкую в кости, и черноволосого, совсем еще молодого горбоносого юношу; он поддерживал обеими руками выходящую из бассейна грузноватую нимфу, — тоже die Verliebten[43].— Эрика полгала плечами. — Костос, грек из Салоник, работает ночным официантом в «Am Tanzbrunnen». А мадам Шарлотта. Ее муж знаменитый хирург, вовсе еще не старый, но с головой ушел в дела…»
«А мадам Шарлотта не работает?»
«Что ты! Она обожает купаться и ездить верхом…»
«И ты любишь купаться и гонять на машине…»
«И я. До обеда еще далеко…»
«Почему до обеда?»
«Потому что Карл иногда… когда у него начинаются рези в желудке… сам готовит обед…»
«Сам?»
«Да. Служанку мы не держим. А мне он не доверяет… Вернее, не полагается на мой кулинарный вкус… Он считает, что особенно нельзя доверять женщинам готовить мясо… Ну, а обедать мы должны все вместе… То есть я, он и, разумеется, Милан… Изумительно, правда?»
Она засмеялась — сухо и отрывисто, будто откашливаясь смехом; я не понял, что тут смешного; потом издали поклонилась еще одной паре — смуглому мужчине с тяжелым квадратным подбородком и стройной, очень длинноногой даме в малиновом бикини; дама послала Эрике привычный здесь воздушный поцелуй.
«Лоретта. Ты пьешь пиво ее мужа».
«Как — ее мужа?»
«Так. Он известный пивозаводчик. И ужасный толстяк. Лоретта говорит, к кровати надо привязывать гамак специально для его пуза…»
Она снова улыбнулась и сама плеснула себе пива.
«Сплошь одни пивовары и кондитеры… рабы брюха… И вы воевали с ними!»
«Нет! Мы воевали не с пивоварами и кондитерами. Мы воевали с фашизмом. С могучей военной машиной…»
«Боже мой, до чего все-таки глупое это слово — раса!.. Но если даже когда-то раньше лидировала вот эта, наша… ну, европейская порода… то сейчас, после всех катаклизмов, нет… Скорее они… более темные, чем мы, или желтые… А немцы, да будет тебе известно, окончательно обожрались, зажирели… у них дряблые, хилые мышцы… разбухшие, обмякшие от таблеток и шоколадов… К тому же эта «сексуальная революция»… Неверно понятая эмансипация… Понимаешь?»
«Что здесь понимать… — я пожал плечами; почему-то вспомнилась Эма и книги, которые она читала не то в шестом, не то в седьмом классе: Керуак, Вульф… Она глотала книги, даже Марта не могла уследить, какие. — Ведь я, Эрика, уже взрослый… Кто-то даже сказал, что скоро мне стукнет полсотни…»
«Говорят тебе, не беспокойся… Это с каждым бывает. И не заговаривай мне зубы, не люблю, когда петляют…»
(Да, все женщины похожи…)
«Извини».
«Мир сходит с ума, ясно тебе или нет? Неизбежно и полным ходом… И не только война песет безумие, нет!.. К тому же ведет и неверно понятый, ложный мир… То есть когда ни война, ни мир… Тебе странно?»
«Странновато».
«А мне ничуть… Раса! Боже мой, раса, чистота крови, гены!.. А вот Лоретта недавно родила. И ее Liebhaber турок. Пивовар своего ребенка не состряпал. Младенец раскосенький, половина города знает. И пивовар знает… Но молчит, разыгрывает счастливого папашу: заимел наследника и рад-радехонек, плевать ему на гены! А Мустафа купил «фиат» — вот так. Он ученик на складе лампочек».
«Послушай, Эрика, не все же такие пресыщенные… И не все женщины таковы».
«Конечно, не все… Однако, знаешь, чистокровный немец в наше время не на всякую работу…»
«Не на всякую? А безработные?.. Те, у кого никакой работы?..»
«Я говорю о тех, кто обеспечен… Немцы избалованы той иллюзией благополучия, которую они, во всяком случае многие из них, принимают за подлинную жизнь и богоданную судьбу…»
«Судьбу? В каком смысле?»
«Как воздаяние за муки. За поражение в войне. За то унижение, которому вы, русские, подвергли эту «расу»…»
«Занятно…»
«Не слишком. Ничто так не развращает людей, как иллюзия благополучия. И, конечно, демагогия: мы да мы, у нас, паше… И это тогда — ты прав, — когда биржа труда работает не покладая рук… когда для инакомыслящих запрещаются определенные профессии… Когда мы позволяем себе импортировать людей с цветом лица потемнее нашего, которые за гроши согласны чистить наши ватерклозеты и мыть автомобили… и даже делать ребят белокурым нордическим арийцам… пусть черномазеньких, зато полноценных, красивых… и, разумеется, здоровых… В конце концов, важно, наверное, не то, кто кому дает работу, а кто с чьей спит женой…»
Она подняла свой бокал.
«Да, политику ты понимаешь странно, Эрика…» — улыбнулся я.
«Зато правильно. По-немецки».
«По-немецки?»
«Да. Или по-женски; странно, но верно. Разве странное не может быть верным? Кстати, у вас есть дети?»
Она сказала «вы», хотя до сих пор весьма демократично и в соответствии с эмансипацией обращалась ко мне на «ты» такая перемена, видимо, была карой за мой интерес к ее политическим воззрениям. А может, она захотела напомнить мне, что у меня есть семья и дом? Что она все понимает и знает?
«Вот… — я показал фотокарточку Эмы с Мартой; за границей хорошо иметь при себе подобное фото. — Нравятся, а?»
«В точности как мои девочки!.. — просияла Эрика; осветилось ее землистое лицо с глубокими канавками морщин пониже глаз. — Одна у меня уже замужем… За дантистом в Гейдельберге… А вот другая…»
«Что с ней?..»
«Ты не поверишь: ушла в монастырь… Святой Клары, в Трире… В городе, где родился Маркс…»
«Знаю. Я даже был там в музее».
«Тогда, наверное, видел и монастырь на горе… Там совсем не разрешается разговаривать. Она вздумала искупить материнские грехи, и вот…»
Я промолчал. Даже не посмотрел ей в глаза.
«Но вообще-то ей там неплохо… — продолжала Эрика. — Уже два раза побывала в Риме… Даже целовала руку папе… Разве не изумительно? И все равно жалко девушку, правда?»
«Конечно, жалко! Особенно если есть способности…»
«Хоть отбавляй. Она очень любила путешествовать… И еще она любила… — Эрика задумалась, словно взвешивая, сказать или не сказать, потом покачала головой. — Что ж… — Она вздохнула, откинула со лба спутанные волосы. — Я пришлю вам сиамскую маску… Полечу в Бангкок и пришлю… И не вам, а вашей дочери. Как ее зовут?»
«Эмилия… Эма…»
«Значит, Эма… Хорошо».
О Винге она и не обмолвилась. И о Марте. И, разумеется, о Милане.
В самолете, уже на пути в Москву, я вынул из портфеля «Kölner Anzeiger», развернул и стал просматривать происшествия. В самом углу полосы, рядом с анонсами, оказалась маленькая заметка:
«Драка на Гогенштауфен-ринге. Полиция стреляла трижды, Двое турок убиты. В порядке самообороны полицией были убиты два турка: повар Ахмед М. (36) выстрелом в висок и Муамар К. (26) выстрелом в грудь. Оба скончались в больнице».
И более мелким шрифтом:
«Вчера, сразу после полуночи, полиции было сообщено о массовой потасовке среди gastarbeitern[44]. Драка завязалась в тот момент, когда турок Али Г. (33) из Роденкирхена со своей приятельницей немкой Эдельгард X. (44) и своим другом Петровиц З. (34) выходили из «Früh am Ring». Сразу по выходе из кафе подруга оказалась без всякого повода избитой, а Али Г. получил удар железным ломом по голове, вследствие чего потерял сознание. Семеро турок втащили истекающего кровью Али Г. обратно в ресторан. Вызванным по сигналу тревоги полицейским не позволили войти в здание, и полиция была вынуждена взломать дверь. Однако когда один из полицейских чиновников пытался вывести из помещения кафе задержанного в подвале злоумышленника, он подвергся нападению другого злоумышленника, вооруженного кухонным ножом. Защищаясь, полицейский выстрелил, а когда погас свет и он почувствовал, что полицию атакует целая банда, выстрелил еще два раза… Полиция озабочена ухудшением порядка в городе и ведет тщательное расследование причин, вызвавших упомянутый инцидент. Задержаны пятеро турок».
Что ж, изложено вполне четко: репортер знал ночную жизнь Кельна куда лучше, чем я (чего уж там…) и, возможно, чем мадам Эрика, не говоря уже о «той из группы» — о Винге, которую интересовало совсем иное; но и он, бывалый кельнский репортер, позабыл описать мальчика (мне кажется, его зовут Мустафа) — дрожащие, в отчаянии простертые вперед руки и полный ужаса крик: «Отца!.. Моего отца!..» И эти глаза, точно две раскаленные головни, пронзающие кромешный мрак… глаза, забыть которые… даже через два месяца…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«А может, это те самые глаза? — подумалось сейчас. — Те, из Кельна. Или из Вильнюса… И уж вне всякого сомнения — те, из-под финиковой пальмы в ресторане». Отливающий фосфорическим блеском взгляд был обращен прямо на него, и Глуоснис физически ощутил этот взгляд — будто острую иглу; взгляд был устремлен с порога, от двери, хотя Глуоснис отлично помнил, что на ночь заперся; сообразил, что парень вломился не просто так.
— Как и многое, что здесь происходит… — пробормотал Глуоснис, опуская босые ноги на пол; было ясно: поспать не удастся.
— Отель не мой, сэр… — человек-изваяние мотнул головой; черные — а при электрическом освещении даже лиловые — волосы пружинками подпрыгнули кверху. — Я только стираю гостям белье. Сагиб Али стирает себе сам.
Сагиб Али был тот самый толстяк портье (или как тут называют такого человека?), столь старательно изучавший мой паспорт в день прибытия и под конец все же соизволивший вручить мне ключ от номера (хотя отпереть его можно было пальцем без особого усилия); большего начальства для этого косматого парнюги, застрявшего в дверях, точно кость в горле, кажется, не было в целом свете.
— Зачем же ты пришел? — спросил я. — Ворвался среди ночи?
— Но ведь уже утро, сэр. Скоро солнце встанет.
— Ты ведь разбудил меня — я спал. Ты не подумал, что я могу и пожаловаться?
— Подумал.
— И что же?
— Сэр не станет жаловаться.
— Не стану? Еще как! Захочу — и пожалуюсь. Ого!
— Не позволит белая мэм.
— Мэм? Какая еще мэм?
И здесь она, подумал, белая благодетельница с севера. Мэ-эм!
— Какая? — задумчиво переспросил, чтобы оттянуть время.
— Которая за стенкой, — ответил человек-изваяние.
— За стенкой?
— Да… Которая ждет сэра. Ждет и ждет. Ночью, и вчера, и раньше… К которой сэр не идет. Я все знаю.
— Однако не слишком ли? А?
— Да нет, не слишком.
— Но… какого черта? Зачем тебе все знать?
— Такая моя работа, сэр.
— Работа? Чем же, черт, ты здесь занимаешься? Здесь, в гостинице?
— Всем. Но больше всего… wash…
— И у нее, у белой мэм…
— О, сэр знает!.. — просиял парень. — И у нее! Да, да, каждую ночь.
— Ночь? И прямо каждую?
— Да, у меня ключ!.. — тот брякнул металлом. — Сэр знает, какая мэм добрая… Ведь знает? Знает?.. Сэру нельзя не знать, нельзя…
Это, право, было слишком — вторжение среди ночи, дурацкий разговор; Глуоснис с досадой крякнул.
— Я знаю? — его голос дрогнул. — С чего ты взял? Кто это тебе сказал — она?
— Да, сэр: мэм. Белая мэм сказала мне: сэр знает. Все знает. Сэра не надо бояться.
— Потому ты и приперся ночью?
— Потому… — парень покорно кивнул головой. — Днем Сэра нет. Сэр днем в городе. Днем сэру меня не надо. А ночью сэру не надо мэм. Почему так, сэр? Мэм все спрашивает про сэра. Много спрашивает. Это мне не нравится, сэр.
Глуоснис взглянул на него внимательней. Что-то угрожающее, непреклонное было в речи этого туземца, во всем его облике, что-то труднообъяснимое, не понятное до конца. И что-то жутковатое; по спине скользнул холодок.
— Послушай, может, кончим эти разговоры, а? — произнес он как можно более миролюбиво. — Мне бы еще хотелось поспать. Работа ждет. У меня не так много времени, как у тебя.
И показал глазами на дверь.
— А…
— В другой раз. Вечером.
— Нет, сэр, — парень замотал головой, своими черными космами. — Сейчас!.. Вечером я wash у мэм. Там! — он ткнул пальцем в стену, за которой, Глуоснис знал, жила мадам Эрика. — Там, сэр, очень хорошо wash. Сэр не знает, какая мэм добрая. Или знает… Я не дам ей уехать никуда.
— Ты? — Глуоснис вытаращил глаза. — Почему ты? Какое ты имеешь… право?
— Потому что я wash. Каждый вечер, сэр. И мэм говорит, что хорошо.
— Гм… верю… А как тебя звать? Пора как будто познакомиться… Раз уж все равно не уходишь…
— Рахман… Один Рахман такой, — парень поднял руку, почти касаясь пальцами притолоки, — а другой вот такой… — он присел на корточки и показал ладонью чуть выше пола. — Есть большой, есть маленький. Есть богатый, есть бедный. Но я умею wash. Хорошо умею. Хорошо-хорошо wash. Мэм знает. И сагиб Али, этот шакал…
— Али?
— Я ему каждый день даю два деньги. Когда получаю от мэм. Али это нравится, но он хочет иметь все четыре деньги… А я не дам! Не дам и не дам, нет!
И он так крепко сжал кулак, что захрустели пальцы, а он еще помахал кулаком в воздухе.
— Но ведь мэм уедет, — сказал Глуоснис, косясь на этот черный, повисший у тощего бедра кулачище. — И ты останешься ни с чем… Али, может, даже выбросит тебя на улицу… А если ты еще будешь так ломиться в номера… без приглашения и без спроса… пугать гостей… то можешь быть уверен на сто процентов…
— Я говорю: не уедет! — вдруг яростно топнул ногой парень, этот Рахман-маленький; кажется, он не слушал, что ему говорят, думал о своем. — Не пущу!
— Ишь ты! А что ты ей сделаешь? Мэм — свободная личность. Захочет — уедет… куда угодно и когда угодно… Привяжешь, что ли?
— Задушу!
«Зарежу!.. — отозвалось в мыслях, и я вздрогнул. — Приду, когда будешь спать и…» Это же ее слова, слова моей Эмы…
— Задушишь? Ее? — сдавленным голосом спросил я, стараясь отогнать прочь воспоминания. — Неужели посмеешь?
— Да! Эту белую мэм. Своими руками. Вот так! — Он протянул вперед обе руки.
Глуоснис попятился.
— Только попробуй! — крикнул он. — Соскучился по веревке? Или что тут у вас — секира?..
— Я испорчу автомобиль! Украду! Тогда она никуда…
— А сам сядешь в тюрьму!
«Зарежу!..»
— Я? Не-е… — парень осклабился всем своим простоватым лицом; впрочем, кажется, он был вовсе не так прост. — Украду и не сяду. Или проколю покрышку. Сниму колеса. Посмотрим. И не сяду… Меня здесь все знают: Рахман wash.
— По-твоему, знакомых не сажают?
— Еще быстрей, чем незнакомых! Только не меня. Не такого, как Рахман… — он снова присел и показал ладонью, какой он ничтожно маленький человек. — Даже если и посадят… — Парень снова улыбнулся — непонятно и даже мечтательно.
— А что, если посадят? Сбежишь?
— Я? Не-е!.. Там, говорят, кормят. Каждый день, весь год.
— Кормят?
— Да, сэр. А разве это тюрьма, если кормят? Кто ее боится?
— А мэм кормит?
— Мэм? О да, да! И кормит, и дает пить. И пить, сэр: такое что-то очень сладкое… Мэм очень добрая! И wash велит совсем немного… не так, как другие… Особенно этот шакал Али… А потом, сэр… если бы вы знали… Но ведь сэр и так знает все?
— Что «потом»? — Глуосниса начала раздражать болтливость этого нахала. — Что значит «потом»?
— Потом мы спим, сэр. Вместе…
— Вместе? В одной постели?
«Вот дурак! — мысленно выбранил он себя. — Нашел о чем спрашивать!.. Раз уж по ночам wash… И если мадам Эрика еще в своем любезном Кельне…»
— Да. Кровать большая, сэр. И мягкая-мягкая… Сначала, сэр, я боялся, но потом… как попробовал этих сладких напитков… Но про это, сэр, сагиб Али… или еще хуже — наш мулла…
— А при чем здесь мулла?
— Мулла запрещает пробовать сладкие напитки. И горькие тоже — те, что как огонь. Но разрешает жевать бетель… такие листья. Потому что бетель… эти листья… от них человек не хочет есть, вот…
— Значит, говоришь, вместе… — Глуоснис встал, подошел к окну и отвел занавеску: на улице еще было темно, хотя в сторону рынка уже двигались, погромыхивая, тележки, раздавались резкие, гортанные выкрики рикш; эта перекличка, видимо, не прекращалась и ночью. Глуоснис, будто желая размяться, несколько раз прошелся по комнате. — Каждую ночь? И всегда вместе?
— Да, да. Wash. Ну, немножко… А потом… Если бы сэр знал, какое тонкое белье! Не простыни, а облако с минарета нашей мечети… А как пахнет мэм! Нет под солнцем таких благовоний, которыми не пахнет эта мэм, сэр! Только одна вещь мне, сэр, очень не нравится… вы ей скажите…
— Кому? Белой мэм?
— Да. Ей. Ведь вы знакомые, и она сэра послушает. Зачем она заставляет меня мыть ноги, сэр? Ноги!.. Зачем, сэр, мыть ноги, если я и так целый день мокну в воде? И кто это, сэр, сказал, что вода чище воздуха? И так все время wash и wash, все кости ноют… Коран велит, я знаю, и я делаю, что велит коран, сэр, а ноги… Моя работа чистая, вы видите, и всегда с водой…
— Вот зачем ты сюда явился! Чтоб я ей передал?
— Но только для того, сэр.
— А что еще? — Глуоснис стал посреди комнаты в полном недоумении; глаза как бы сами собой скользнули к кнопке — ему советовали: если что, не преминуть воспользоваться ею; похоже, что случай представился… — Что тебя интересует… еще?
— Когда сэр уйдет. Когда уедет. Потому что пока сэр тут, белая мэм все спрашивает, спрашивает…
— А тебе, значит, не нравится? Не нравится, что спрашивает?
— А кому такое нравится? Какому джентльмену, сэр? Я даже думаю: может, подкараулить сэра вечером с ножиком… но нет, думаю… Тогда мэм может правда убежать, и потому…
— Что «потому»?..
Слово застряло в горле. Глуоснис невольно попятился, уже всерьез намереваясь нажать на спасительную кнопку, но все же воздержался — в самый последний миг — и даже улыбнулся. «Früh am Ring!» — осенило его. Да, да, те же глаза, только не того Мустафы, ребенка, а другого, взрослого, и голос тот же, и ужас в зеленоватых зрачках: «Убили, убили!..»; стальной молнией вспыхнул нож — где-то в сознании, хлопнул выстрел, еще один… а может, сначала выстрел и лишь потом нож, хотя это уже все равно. «Али Г. (33) из Роденкирхена со своей приятельницей немкой Эдельгарт X. (44) и своим другом…»
«Зарежу!..» Это сказала однажды Эма…
Он вздрогнул.
— Знаешь что, — сказал он. — Не надо мне ничего стирать. Совсем ничего. И уезжаю я скоро. Может, даже сегодня. Или завтра. Завтра утром, ясно? Возьми!
Он кинул монетку, которую Рахман ловко поймал на лету; парень уже не ломался, не строил из себя тихоню, схватил, посмотрел на свет — подлинная ли? — подкинул на ладони, точно проверяя вес и, необычайно широко осклабившись, довольно урча, убрался из номера; было в его поведении что-то непонятное и ребячливое; возможно, в эту минуту он чувствовал себя вполне счастливым; Глуоснис, выждав, когда закроется дверь, дважды повернул ключ в замке. Но оставаться в номере не хотелось, он оделся и сошел вниз, проверить свои счета у портье. Проходя мимо двери мадам Эрики, вспомнил Эму, опять почему-то ее, свою дочь («Пришлю сиамскую маску…»), замедлил шаг и прислушался — ненадолго, всего на миг, — там, клокоча, завывая, сотрясая трубы, шумела в ванной вода…
Часть вторая ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ
— Правда только в дружбе!
— Эма, доченька, — с кем?..
Из домашней беседыГЛАВА ДЕСЯТАЯ
«Дзинь-дзинь-дзинь» — задребезжало прямо в голове; Марта, как сидела, застыла на диване: кто? Кто напугал так резко и неожиданно, что она, вмиг облившись холодным липким потом, с трудом прогоняя трескучий, сродни самолетному гулу, вибрирующий звук где-то в висках, словно некий невесомый отбойный молоток расщеплял накаленный и точно пружина сжатый мозг на множество мельчайших частиц, сразу же проснулась, вскочила на ноги и стала ошалело озираться: где она? Комната утопала в зеленоватом сумраке, увешанная зеленым тюлем, утыканная зелеными бра; на пол, на руки, на кресла и столики, казалось, откуда-то сыпалась зеленоватая невесомая крупа.
«Как я сюда попала? — будто спрашивали ее потускневшие глаза, в которых зеленью отливало небывалое, странное и непонятное равнодушие. — Кто-то привел? Сама?» Но ведь она ждала внизу, вспомнила Марта, внизу и под лестницей, в его кабинете; часы били четыре, четыре гулких удара, а сейчас вон три на часах на стене — рядом с лампой, у книжной полки; сейчас три, и эта зеленоватая крупка сквозь тюль окон, эта бесшумная, сыплющаяся отовсюду крупка; три? Но ведь было четыре, она помнит… И было темно, как в пещере, у того окна, где стояла она, уставившись на улицу, где что-то жужжало и гудело — не то машина, не то самолет, большой белой птицей нежданно-негаданно приземлившийся прямо у их двери; стучали шаги, гремело оружие; может, то шли немцы, а может, Шачкус, размахивая большим черным автоматом; она, Марта, тоненькая как тростинка Марта, в облаке белого маркизета (словно нежный одуванчик, ну прямо одуванчик!), шлепала по луже за углом дома, топталась в студеной луже, подернутой сизой мартовской рябью, там, под Любавасом, и с наслаждением предвкушала: она не будет стирать, не будет — ах, как пронизывает стужа все тело! — не будет стирать этот ворох белья; мать притащилась с ним, точно с грозовой тучей за плечами; Марта заболеет и стирать не станет. Не занималась же стиркой ее подружка Ируте, не занимались стиркой и другие одноклассницы. Что-то переменилось. Что-то новое, одуряющее, неизведанное было в воздухе, что-то трудно воспринимаемое, но доброе, родное и долгожданное: будет по-другому! Всё-всё! Луг покрылся полосатыми жердочками — это промеряли угодья кулака Начаса прибывшие из волости землемеры, а на старом межевом бугре, поросшем мхом, посиживал с цигаркой в зубах черный, как сама земля, Шачкус; его тревожно поблескивавшие глаза следили за синей громадой леса, убегавшего под самый горизонт, обозначившийся темной зубчатой кромкой… Но сегодня она снова — спустя столько лет — шлепала в той же самой луже за глухой, без окон, стеной дома и с откровенной радостью чувствовала, как цепкие железные когти стужи стискивают ее легкие, разбухшие, как мехи, на всю грудную клетку, и как эти мехи подаются, сплющиваются под железными когтями; она заболеет! Она заболеет, и ей не надо будет идти в школу, а самое главное — до ночи месить это грязное белье всего городка; она заболеет, и подружки смогут прийти ее навестить и притащат кто что — кто книжку, кто стаканчик меду, и с одной из них — неважно с кем — пришлет записочку он, ее мальчик, — поэт, и даже, может, не записку, а только короткое, посредине тетрадного листка в клетку, стихотвореньице:
Весна приходит к людям, Спешит к тебе во двор, И звонкой песней будит Нас жаворонков хор. Вбираю песню в сердце, Как весь огромный мир, А жаворонок серый Тревожит песней ширь. И творчества, дерзанья Гори, пылай, свеча… И глаз твоих сиянье — Как сказка в тихий час. И будут эти строки Преданьем о любви. Они как гимна рокот, Бушующий в крови.[45]А вот и он сам, тот мальчик, какой он крохотный! И желтенький, как цветок гусиной лапчатки. И она сама кроха, еще меньше, чем он, и беленькая — пух одуванчика у дорожки: дунешь — и облетит, дунешь — и облетит… И, смотрите, летит, уже летит над лугами, расстеленными под их детскими ножонками, точно сказочные ковры: это весна разостлала их, не могла не стлать, обязана была постлать, потому что она, Марта, мала и легка точно пух, вся белая и сотканная из сплошных улыбок, и потому что он, мальчик, — ее ласковый дружок; скажите, на кого он похож? На поэта Винцукаса или на Ауримаса? Какого Ауримаса? Не знаю такого, не знаю, никогда не знала. Ну, на того, корреспондента… Не знаю! Странно? Кому странно, а мне — ничуточки. Не знаю, не видела, незнакома. Слышишь, Ирка? Слышишь, Фульгентас? Незнакома! Незнакома! «Почитай Чюрлёниса…»
Чюрлёниса?.. Она, паря над лугом, выпускает его руку — мальчика, похожего на цветок гусиной лапчатки; где она его видела? А, неважно. Почему Чюрлёниса? Она такого писателя, да будет тебе известно, никогда… Не писатель он, художник, восклицает мальчик, ее ласковый дружок, будто удивленный тем, что она не знает самых простых вещей, восклицает и проплывает мимо нее точно облако, которое нельзя ни поймать, ни почувствовать, — прямо сквозь нее; пусть! «Кто, кто? — кричит она, хотя его уж не видно, растаял, растворился ее мальчик. — Кто он мне, Чюрлёнис твой, при чем он здесь?» — «Мой? Почему мой? — доносится эхо от лесов, над которыми теперь летит она, от резных еловых вершин. — Вовсе он не мой…» — «А чей же? — «И Фульгентаса тоже…» — «Какого еще Фульгентаса!» — сердится она, хотя и знает, что все это сон и во сне злиться не подобает, во сне все тихо и красиво. Фульгентаса, который читал Чюрлёниса и боготворил его. Чюрлёнис не был писателем, но он знал, что любовь существует… Чюрлёнис, Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Что такое любовь… Можно хоть сейчас прочесть — закладка все там же, на двести семьдесят четвертой странице. Сейчас? Во сие? Как так — во сне, почему во сие? Ты давно проснулась, сидишь на диване, в своей зеленой комнате, хотя и не знаешь, кто тебя сюда привел. Мальчик? Может, и он, дурочка, какое тебе дело, ты здесь, и хватит с тебя того, ты всегда обязана быть у двери, ты не знаешь, когда твоя дочь… твоя Эма… позовет… когда ты ей понадобишься… Да не глотай ты свои проклятые таблетки, оставь их в покое — хотя бы во сне; береги нервишки, Марта, — ведь ты знаешь, что ничего не изменится… таблетки тебя погубят, читай Чюрлёниса… А не «Диалоги», которые… Ты ведь любишь высокие слова, правда? Красивые, возвышенные слова. Всегда любила. Это хорошо. Очень даже хорошо. Почему любишь? Неизвестно. Просто за ними чувствуешь себя уверенней. Точно за крепкой стеной… Потому что они есть… Коль скоро кто-то их написал, они… Да, да, как щит. Как щит, которым ты прикрываешь свое истерзанное сердце. Прячешь его от грязи. От плевков и помоев. От…
— Любовь — это рассвет, полдень, жаркий и долгий, и вечер, волшебный, тихий, а породила ее печаль.
Любовь — это старая песенка.
Любовь — это гамак из радуги, подвешенный на белых облаках.
Любовь — это мгновение, вспыхнувшее сиянием всех солнц и звезд Вселенной.
Любовь — это червонного золота мост через реку жизни, что разделяет берега и добра и зла.
Всё? О нет!
Любовь — это лес из старых деревьев в знойный день, это отдых в нем, где сои навевают сосны.
Любовь — это столбовая дорога к солнцу, вымощенная острыми алмазами, по которой надо идти босиком.
Любовь — это сильные белые крылья.
Теперь уже всё. Да. Всё… И глаз твоих сиянье… Мальчика больше нет. И хватит мокнуть в широченной луже за домом, с той стороны, где нет окон; хватит колотить босой ногой почерневшие льдышки…
Она встает, одетая в тренировочный костюм, постоянно бодрствующая — даже во сне — женщина, и с закрытыми глазами привычным движением протягивает руку к столику. Кажется, таблетки еще не кончились. Должен быть запас. Ведь без них… нет без них жизни… а уж любовь… чего там…
Вспыхивает блеклый солнечный зайчик. Осенний, безрадостный. С зеленым отливом, под тюлем. На зажженном бра. Подрагивает на стене у полки — как издевка, как извинение. Там часы. И цифра «IV».
Любовь? Червонного золота мост? Радуга на белых облаках? Отдых в шелестящем бору? Столбовая дорога к солнцу? Еще что? Сильные, белые крылья…
Как прекрасны эти слова! Как высоки! До таких я бы сама ни за что не додумалась, такое приходит на ум только людям искусства. Чюрлёнису — о, да! Даубарасу? Возможно. И даже Ауримасу. (Говорю: возможно, так как наш Ауримас… скорее всего… ему просто повезло…) А я не такая. Не поэт. Не художник, не музыкант, не артист. Даже не знаю — кто. Обыкновенная серая сувалкийская мышь. Лесная. Полевая. Мышь из-под Любаваса.
«Нечего туда и соваться… Что там найдешь, у мироедов этих?..»
Это Шачкус. В погонах, черный. Громадный.
«Мне Ализас нужен».
«Ализас? Мальчонка?»
«Да, Ализас Каугенас, сын Начаса».
«Не Начаса. Еще неизвестно, чей он сын».
«Неважно. Я учительница. Я должна знать, где он. И почему сбежал из школы. Он вообще горазд бегать. Недоглядишь — уже скрылся…»
«Ноги, значит, быстрые…»
«Ох, очень».
«Как у Райниса».
«Не знаю».
«Соседка, а не знаешь…»
«Давно я там не была…»
«Тогда садись, если хочешь наведаться в родные места…»
«Хочу».
«А бандитов не боишься?»
«А Шачкус на что? Пока с нами Шачкус… нам и сам черт не страшен…»
«Скажешь тоже!.. А ведь, говоря правду…»
Шачкус не договорил, посмотрел на меня, грустно усмехнулся и в сердцах щелкнул бичом; я чуть не вся целиком спряталась в воротник.
Как я могла объяснить, зачем еду? Кому — Шачкусу, который, как я подметила, все норовил пригласить меня на танцах, хотя танцевать не умел, наступал на ноги. Будто мало ему других девушек! Оказывается, мало, особенно после того как наш поэт Винцукас в Каунас…
А Ируте, подружка, чуяла. На переменке придвинулась ближе (мы все сидели вокруг длинного и широкого, заваленного книгами и тетрадками общего учительского стола), наклонилась к самому уху.
«Все нету?..»
«Сама знаешь…»
«Как, по-твоему, жив?..»
«А ты, Ирка, как считаешь?..»
Слишком уж любопытна, подумала я.
«Да помнишь, сказали из отряда: возвращаемся, а его нет… Гроза была… дождь… прятались… Потом слышим: стреляют…»
«И не пошли на выручку? Бросили одного?»
«Успокойся, Мартушка! Да что с тобой? Только заговорят про этого… корреспондентика… ты прямо сама не своя… Все на свете забываешь, даже нашего стихотворца…»
«Молчи ты, хватит!»
«Молчу, молчу… — закивала Ирка, подмигивая карими хитрющими глазами. — Раз уж нельзя своей подруге-комсомолке… совершенно откровенно…»
«Не надо мне твоей откровенности… Я — не ты… Не всем же сразу я на шею…»
«Как я, да? Сразу на шею — ай, какая распутная эта Ирка, да?»
«Сама понимаешь…»
Подружка прищурилась, потом выпучила глаза — ни дать ни взять два блестящих стеклянных шарика. Тряхнула каштановыми пышными волосами. Я испугалась — сердится! Моя единственная подруга и наперсница, которая знает обо мне все-все. Рассердится и перестанет разговаривать. А надо, чтобы разговаривала. Пусть злится, но пусть говорит. Мне это нужно. Очень.
«Перестань, Марта, не ерепенься… — услышала я и шумно вздохнула: не рассердилась, нет. — Разве это поможет… Я понимаю… Ведь это, Мартушка, такие делишечки…»
«Какие? — я повернулась к ней лицом; что за вздор? Что именно она понимает? — Какие еще «делишечки»? И что «поможет — не поможет»? Ничего ты, Ирка, не понимаешь… Можешь только разбередить душу, а больше ничего…»
«Ну, беда… ну, влип… не он первый, Мартушка… И не последний. Нынче сотни таких Ауримасов и Райнисов… повсюду и везде…»
«При чем тут Райнис?»
«При том, что это его работа… Сцапали Ауримаса… Говорят, бандиты могли его просто увезти с собой…»
«С собой?»
«А почему бы нет, Мартушка?»
«Кто тебе сказал?!»
«Кажется, Шачкус…»
«Шачкус?»
«Ну да… Чучело-чумичело… А жена у него, говорят, красотка…»
«У Шачкуса?»
«Да у Райниса, дурочка… Будто не известно, что Шачкус все еще в женихах… Скоро станет совсем как Фульгентик…»
«Фу! У тебя все одно на уме, Ирка!»
«Не одно, не одно… И говорят, как раз в тот день она на базар…»
«Кто на базар?»
«Кто! Она, Райниха. Видали люди, как ехала».
Я засмеялась. Сама не знаю отчего. Просто надоело разговаривать. Глупый разговор — что он даст, что изменит?
«Ну и что, если видели? Кому куда надо, тот туда едет. Не понимаю, какая тут связь…»
«Спроси у Шачкуса… Кто на базар, тот и с базара, дорогуша. Этот блюститель порядка что-то, по-моему…»
«Брось! Что же твой всемогущий Шачкус не спас его? Услышал стрельбу, а сам — в кусты?»
Зазвонил звонок. Перемена кончилась. И хорошо. Можно будет подумать. Возьму журнал третьего «А». Того, в котором этот… ну… Ализас…
«Выходит, Ирка, Шачкус может…»
«Шачкус, Марта, о-го-о… всегда и везде…»
Приехали, вошли, поздоровались с хозяйкой. Взгляд исподлобья, волосы черные, пышные, стянуты узлом, руки в боки…
«Чего тебе, Шачкус?»
На меня и не глядит. Будто незнакомая. А не Райнис ли моего отца по пути из уезда?.. «Не доказано». — «Будет доказано». — «Когда будет — тогда поговорим. Тогда и полезешь глаза царапать. А пока что… училочка…»
Но мальчишка хорош. Ализас этот самый. Только глаза взрослые. Сам дитя, а глаза стариковские.
А Ауримаса, значит, тут нет…
«За зерном», — объявил Шачкус.
Глазами шнырк-пошнырк по всем углам, от стенки к стенке. И не смотрит на Начене. «Да ведь отдали… вот расписка…»
«Мало…»
«И когда только вам хватит?..»
«Кому это — нам? Попрошу, барыня-сударыня, поточнее».
«Тебе, тебе…»
«Я представитель власти. Себе не беру. Давай ключи».
Начене сверкнула глазами. Сердито. И, похоже, не хитрит. (А знаю: хитра. Куда подевала Ализаса? Что она знает о том вечере — или ночи, — когда Шачкус оставил Ауримаса?.. Если она в самом деле с базара…) Сует руку в карман фартука. Шарит. Вынимает связку ключей. Кидает на стол. Трах!..
«Все?» — Шачкус сдвигает брови.
«Смотри сам…»
«И посмотрю! Да еще как. Не думай!».
«Не думаю. Знаю».
«Только не всё».
«А чего бы тебе хотелось?»
«Что я, жалкий зимогор… Мне ли с такими, как ты… Всяк сверчок знай свой шесток…»
Хлопнула дверь. Ушел. Шачкус этот. А все-таки что у него с Начене?.. Говорили, что-то у них было…
Он ушел, я осталась. Посмотрела на нее.
«Ну, а тебе чего?» — спросила она, стоя передо мной. Черная, лоснящаяся. Чем-то похожая на Шачкуса. Неплохая вышла бы парочка. Могла выйти. Когда-то. Помнится, что-то болтали… Да, ходили слухи… Только вот Начас…
«Где Ализас?»
«Не знаю. Я за ним не бегаю».
«А не мешало бы…»
«Да уж говори: чего тебе?»
«Опять удрал».
«Ализас, что ли?»
«Да, он».
«Небось не от хорошего…»
«Почему вы настраиваете своего сына против школы?»
«Неправда».
«Тогда — против меня. Это-то правда?»
Теперь она улыбнулась. Криво и с хитрецой. Хитрые глаза, хитрые щеки, хитрая улыбка. И даже небольшой, чуть задранный носик тоже хитрый. Вся хитрая. И красивая. Ох красивая, гадюка. Полная, сочная, женственная. Уверенная в себе. Я бы хотела быть такой.
«Против тебя? — удивленно произнесла она. Наверное, почувствовала свое превосходство, женщины это мигом чуют. — И не думала».
«Почему же вы не разрешаете ему вступить…»
«Успеет…»
«А если нет… если опоздает?..»
«Успеет! Нанюхается еще этой политики, ой нанюхается…»
«Если бы это был сын Начаса… — сказала я, сама не знаю зачем, трудно было сохранять самообладание. — Я бы не стала так разговаривать… А то…»
«Что — то? А то — чей?»
«Начене…»
«Много ты понимаешь, училочка…»
«Я бы попросила повежливее…»
«Ну, если ты только затем и приехала… поцапаться со мной… тогда, ягодка…»
И выразительно поглядела на дверь ненавидящим взглядом. Даже губы задрожали — толстые, подпухшие, налитые, как вишни, сочные губы крестьянки, — вот-вот что-нибудь сказанет еще.
Проняло и меня. Как она со мной разговаривает! А я с ней? Я, учительница, комсомолка — «вы», «вы»… Ей — «вы»! Ей, кулацкой бабе. Что кулацкой — бандитской!
«Вовсе не затем…»
«Ну, а зачем же?» — Глаза у нее уже просто горели, и от них горело все ее лицо. Сейчас запылает вся.
«Говорят, вы в тот вечер, когда стреляли…»
«Стреляли? Это когда же? У нас каждый день стрельба…»
«Знаю… И очень хорошо. Но, говорят, тогда… когда вы с базара… мимо леса…»
«Мимо какого леса? Мы и живем у самого леса, и что же? А стреляют здесь, девушка, все равно что в Любавасе чихают. Так что не пойму я, чего тебе от меня надо? И что ты тут плетешь… На что намекаешь?»
«Не понимаете? Тогда, может, товарищ Шачкус… вы же знакомы… он вам все лучше объяснит…»
Начене резко вскинула голову, я и не успела разглядеть, что было в ее хитром взгляде.
«Так, значит, — вымолвила она со злостью, глядя в потолок, — вы оба… из-за того…»
«Из-за чего, соседка? Из-за чего?»
Проболтается? Про ту ночь… ту страшную ночь, когда…
«Да из-за мальчонки… баловня моего… Ализаса… вы оба сюда ко мне пожаловали? Только из-за него?..»
Ализас! Да, да, конечно. Из-за чего же больше! Только из-за него, Ализаса Каугенаса из третьего «А», учительница Купстайте, бросив все на свете, примчалась сюда, в лес, и лишь из-за него одного перед тобой тут стелется…
«Чтобы завтра был в школе!.. — строго проговорила я, понимая, что больше из нее ничего не вытянуть про тот роковой базарный день. — Вы понимаете? Завтра! Иначе придется разговаривать не со мной, Начене…»
И я выскочила, а в сенях чуть не нос к носу столкнулась с Шачкусом.
«Черта с два тут найдешь… — проворчал он себе под нос, перебирая связку ключей. — Но когда-нибудь я… это осиное гнездо… как следует… просто руки не доходят…»
Мы уехали. Ни с чем. Неподалеку, в другой кулацкой усадьбе, нас ждали люди Шачкуса. Две подводы так и ломились от мешков с зерном, на которых восседали довольные, разгоряченные молодцы — подручные хмурого Шачкуса.
А на столе бутылка И рядом моя милка, И песня, песня, песня — Сегодня, как вчера…«Кончайте… вы!.. — рявкнул Шачкус, казалось еще более мрачный и озабоченный, чем обыкновенно. — Бандитские песни на всю округу орете!»
Бойцы умолкли, недоуменно переглянулись.
«Жбанчик всего и нашли!.. — кротко заморгал глазами один из отряда, белобрысый паренек, мы с ним как-то танцевали на вечере… — Чистая, хлебная… Осталась капелька. Хочешь?»
Шачкус не ответил. Кусал губы, хмурился и молчал.
Молчала и я. Молчала и думала: почему это Начене, когда я спросила про базарный день, так долго глядела в потолок, и мне показалось, что я тогда все поняла. Все, Ируте, подруженька милая! Как я теперь поступлю?
Если только судьба ко мне еще раз… если, Ирка, хоть один-разъединственный раз…
Моя судьба, да… Судьба Марты-шкраба, училки. Вот она где — на зеленом диване, где я лежу и лежу, раскинув руки, растрепанная, с усталым морщинистым лицом, измученная лежанием, но не в силах подняться, обмотанная давящим зеленым сумраком, еще более густым от колышущейся за окном тьмы — уже не той, что вчера, а может, и той же самой, камнем придавившей меня к дивану; лежу, смотрю и вижу все: его, ее, Шачкуса… И даже больше — их мысли; я вижу ваши мысли, вот оно как — даже невысказанные. Мысли, которых вы сами боитесь. И которых боюсь я…
Крылья…
Сильные, белые…
Где они? Кто их видел?
Когда?
Чьей щеки касались они — и не в грезах, не в дымке бессонных ночей, а наяву — живыми, теплыми пальцами обыденного существования?
Чью грудь овевали своим шелестом?
А если касались? Если овевали… их — Оне и Ауримаса… распутной бандитской женки и уездного корреспондентика. И не просто касались, ласкали, овевали, но и сокрушили, подмяли под себя, припечатали своей тяжестью — обоих, потерянных, обездоленных птенчиков… И хотя он всегда спешит переменить тему, стоит мне заговорить о тех днях в лесу, хотя никогда не вспоминает о них, точно это что-то запретное, заклятое, я прекрасно знаю, что они, те деньки, сделали Ауримаса таким, какой он сейчас, — отчужденным, ушедшим в себя (разве я не вижу), и даже не в себя, а неизвестно во что…
Однако же… дорассуждалась. Это от усталости. Ничего мне не надо. Даже Чюрлёниса. Даже моего друга Чюрлёниса. (Друга? А может, я читаю эти «Письма» лишь потому, что их читала она, ну, эта?) Книга осталась раскрытой там, на столе, а то и упала на пол, не припомню… Бросила… услышала звонок… увидела мальчика…
Что ты! Какого мальчика? Зачем эти сказки, Марта? Кому они нужны? Тебе? И никто не звонил, ты прекрасно знаешь, ни в дверь, ни по телефону, кто тебе станет звонить?.. Эма? Позвать? Да ведь ее нет… нет, я сказала: нету… нету (ох, надоели!)… не знаю, где… не знаю… Кто тебе станет звонить, дорогая, если ты вчера, окончательно выведенная из себя («Эма… позовите Эму… Эму…»), сама выключила телефон, эту противную, дребезжащую, наглую, неизвестно на какую подлость способную коробку, точно шипящую мину, оставленную кем-то в коридоре… Кому ты, Марта, нужна? Ей? Ему? Самообман… Вроде того, которым утешалась та, восемнадцатилетняя «училка». Но тот был светлым, его шелковистые нити тончайшей паутиной тянулись к нынешним дням, а сегодня он по чужим, проторенным дорожкам уводит ее назад, в прошлое…
Почему Ауримас их не публикует, спои «Диалоги»? Зачем прячет в ящик? Для чего хранит? Не доработано? Не закончено? Не нравится самому? Не знаю, хотя чувствую, что они — лучшее из всего, что им написано. Потому как все остальное… это… мягко говоря… «Журналист он недурственный, это правда, — сказал ей один БОЛЬШОЙ человек (пусть Ауримас не знает — кто). — Хотя и с претензиями… Твой супружник, Марта, всегда был с претензиями. Знаешь эпиграмму: «Прогуляться некто вышел…»? Ну да, ту самую: «Прогуляться некто вышел, самого себя он выше», — в точку, а? Я не говорю, что это о нем написано, о твоем дражайшем, по, как ни прискорбно, шила в мешке не утаишь…»
Лучшее из всего им написанного? Этот сумбур? Этот лепет взрослого человека? Охи да ахи? А ты не загибаешь, Мартушка? Не пытаешься в утешение себе малость приврать? Стоит ли… Тебя же прямо по сердцу режут эти листочки. Эти слова. (Обращенные к другой, не к тебе.) Ножами режут, жгут огнем. Ведь ты все знаешь. Помнишь. Видишь. Ты, Марта, все видишь с каждым днем все четче и ярче: с чего началось, чем кончится. Кончится.
А потом, Мартушка? После того, как кончится?
Ничего… Или смерть, не знаю.
Смерть?
А что, есть такая, знаете ли, кружит поблизости на черных шумящих крыльях. На черных, Чюрлёнис! Черных!
Но, Марта, это же… О нет — не смерть! Только исчезновение. Возврат туда, откуда явился.
Но ведь это и есть… Нет, нет, нет! Не смерть! Не это и не сейчас. Не-ет!
Тогда что?
Ничего… Дальше не будет ничего; круг замыкается. Медленно, но неизбежно: обруч стискивает дерево, когда остывает железо. А оно остывает… уже остыло… уже столько лет, как оно…
Крылья? Белые, сильные?
К чему эта ложь, Чюрлёнис? Мой друг Чюрлёнис…
(И ее друг, моя милая. И его.)
Какие? Откуда? Скажите мне, у кого они есть — белые крылья, неподрезанные?
У меня… ох… они давно почернели от копоти. От глупых грез, запорошивших глаза… иссушивших губы… и, конечно, сердце… разъевших мое бедное, многострадальное сердчишко…
А Ауримас? Куда уносят его эти бешеные крылья? В какие концы? А вдруг его никогда и не было, никакого Ауримаса, — только жухлые осенние запахи, дожди да свист нуль… Только осенние диалоги, которые зажал в бумажные листки какой-то бессердечный, совсем незнакомый мне человек и которые я читаю, будто что-то ворую у этого чужого мне человека…
Постой, Марта, — а Эма? Белые сильные крылья — Эме?
Эма… она и без того… Она всюду и всегда как кровь в жилах. Как рана. Вечная, саднящая, пульсирующая. Как и мое несчастное, горе и забота всех врачей, сердце. Как и наши годы, что всегда при нас…
Эма…
Сердце сдавило точно клещами, точно стальными когтями большой хищной птицы; нет, нет, у нее нет крыльев, у этой стальной птицы, серой, чужой, слишком грузной, чтобы взлететь, слишком ленивой, — никаких крыльев, только клюв да когти, диковинная, невиданная птица; больно, колко стучит в висках, все тело сотрясается в ознобе… Точно подброшенная пружиной, Марта вдруг резко падает обратно на диван… Взгляд скользит к столику… Есть! Есть. Должны быть. Но я удержусь. Не побегу следом за жадным взглядом, не стану хвататься за флакон, не буду вытряхивать таблетки. Всему есть предел. И без того, Марта, ты долго готовилась встретить ее. Слишком: много думала о тех словах, какими встретишь. О самых первых. Самых главных. Которые не будут повторением сказанных. Вчерашних и позавчерашних. Прошлогодних и позапрошлогодних. Которые всколыхнут что-то в душе Эмы — хоть капельку совести или любви. Или любви. Малую толику, без которой… Ведь без этого, Марта… твоя жизнь слишком уж непохожа на подлинную…
Ты слышишь, Эма, — слишком! Слишком далеко ты ушла, слишком далеко от дома. От меня, своей матери. Даже от самой себя. И от себя, Эма, — ты сильно отошла от себя. Но почему? Почему, почему, почему?
Не отвечаешь? Молчишь?
А я знаю: ты есть. Ты есть и будешь, будешь и есть. Потому что это нужно мне, твоей матери… потому что ты моя надежда и вера… то, чего не было во мне… потому…
Но где ты сейчас, Эма, где?
Есть ли у тебя дом?
Есть ли мать?
Крылья?
Те, белые… без которых…
Эма — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Всё сейчас Эма — — — — — — —
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Кто-то крикнул: «Стой!» — и Эма вскинула руки, кто-то громко ругнулся, — может, Чарли, — но Эма не успела и оглянуться; распластав руки, точно крылья, в куртке нараспашку, с упавшими на лицо волосами, она неслась в какую-то безжизненную пустоту, где буйствует ветер; ей даже правилось так. Ух ты, полет нараспашку, одуряющая стремительность, где нет ничего реального, разве только отчаянный вопль Чарли, повисший во мраке, точно ртутный фонарь в сизо-голубой тьме; она неслась вниз. Чувствовала, как летит, и даже не пыталась за что-то ухватиться, — ей и это нравилось; другие тоже вроде драпали во все лопатки прямо по мостовой, подгоняемые своим же собственным страхом, слепым и отчаянным, урчащим в утробе, точно мотор, и своими ругательствами, рвущимися наружу наподобие рвоты-икоты, прямо из сведенного страхом солнечного сплетения; засыпались! Вот это да, драгоценная кодла, это да, милая капелла, это да, братцы-кролики, сестреночки-красулечки, вот это да, уважаемая компашка, шобыэтта… шобы этта такое придумать, а для краткости шобыэтта… И ты, самая порядочная в городе чувиха у самых распорядочных родителей, ты, гм… куда тебя черт… Наш развеселый междусобойчик… из-за этих твоих драных джинсов всю кодлу в этот вшивый «Ручеек» не пустили… в эту богом забытую дыру на околице… из-за вшивых джинсов Эмы…
Трах! Шлеп, трах! Вам!
Все. Накрылись. Муть какая — будто после трех подряд… Налей, налей бокалы полней! Шампань. Зект. Искристое.
Ого — канава!.. Поганая канавища, которую не перескочить.
Бу-у-ум!
— Вот она!.. Бери! Хватай! Держи! Вот!..
Вы так полагаете?.. Посмотрим! Вы так считаете, а мы вот еще посмотрим!.. Уж только не меня… не меня… не Эму… Ча-ар-ли!..
— Простудишь горлышко… Заткнись! Свои нежные бронхи… огорчишь мамочку… Но кусаться!.. Слышь, девка: кусаться воспрещается!.. Ребята, эта чертовка меня за палец…
— Ча-ар-ли!..
— Э-ма-а!..
— Держи ее крепче! Шустрая…
— Ча-ар-ли!.. Они меня…
— Потопали, малютка.
Ничего не поделаешь, надо шагать. Куда? Туда, куда волокут они, дружинники… За ручку, как маленькую. Как невинного младенца. Как куклу…
При чем тут какая-то дурацкая кукла?
— Перестань баловаться, слышишь? Слышишь, малютка, не валяй дурака. У меня ведь и других дел по горло. На заводе. Мне, моя золотая, с утра к станку. В первую смену, поняла?
— Застрелись ты со своим станком…
— Ну, нет, милая. Стреляться — нет уж. А ты полегче на поворотах. Дорожка скользкая. И дальняя. Неблизко нам, девушка, поняла?..
— А… застрелись!
— И не думай улепетнуть… я спринтером был… Когда? Было дело… Стой! Стой, слышь! За тобой не поспеешь! Стой!
Станем. Что поделаешь — не отпускают… Облить презрением его, своего палача. Мучителя. Гада. Дружинники. С красными тряпками, ну, ну, повязками. Может, даже знакомые какие-нибудь. Ишь ты, был спринтером. Надо с ним покультурнее. Вежливо. Это производит впечатление. Другого выхода нет.
— Вперед!
Но… что бы это такое придумать? Что? Потрясное. Клевое. Ни на что не похожее.
Шобыэттакое…
— Вперед! Вперед!
Придется шевелиться.
— Сюда, сюда… Пряменько… Вот в этот милицейский «кадиллак». Поедем с комфортом. С ветерком. Прямо как Дин Мориарти[46].
— Чего? Чего?
— В отделение! — Это шоферу, толстому и как будто неповоротливому.
Чарли уже запихнули в желтый ящик, она увидела его, уныло свесившего свой горбатый, чуть не на пол-лица носище (только это и отличало его от прочего сброда в джинсах), потом взглянула на Виргу, подружку свою, которую втихомолку ненавидела за ее неправдоподобно топкую талию, от которой та казалась перерезанной пополам, и за пышные бедра Элизабет Тейлор, ради которых — а то еще чего ради? — нынче так из кожи вон лезут молодые художники, а также среднего и даже старшего поколения, которым Лизи (Виргой ее называли, если за что-то сердились) изредка («Не говори, никому не говори, это назло дражайшим предкам, пусть не скаредничают») позировала; потом посмотрела на Тедди, худущего, с вислыми, как у таксы, ушами, а еще на Танкиста, сплошь покрытого волосней, точно ракитовый куст — листьями, большерукого угрюмого дылду из Киртимай, никогда ничему не учившегося и ничем не занимавшегося (зато его бабка торговала на рынке квашеной капустой); компашка, что и говорить, как на подбор. Еще была Дайва — вся сплюснутая, с удивленно приоткрытым ртом, с икрами-кубышками, по которым (а уж по одной непременно) сбегают вниз спущенные петли чулок. Дайвин предок — алкаш, и порой он пробует силу своих кулаков на доченьке: маманя где-то на целине, а может, на БАМе. За Дайвой водится милая привычка заливать о своем необычайном успехе у «кадров». А уличенная во лжи (с кем не бывает!), Дайвуте мгновенно прячет свой лихорадочный блеск глаз под соломенно-желтыми, падающими на лоб космами, а то и грохается в обморок — любит прикидываться. А удрать сумела (короткие ножки, оказывается, не помеха, когда страх подгоняет).
Что бы это такое придумать?
— Чарли, — сказала Эма, когда «воронок» притормозил и остановился и она ткнулась мокрым от пота лбом в поникший нос своего дружка, — что, кранты́?
— Хана!
— Шобы это…
— Эге, вот еще одна! Пти-ичечка! В клеточку, в клеточку ее, быстрей!
Машина дернулась вбок, в окно плеснуло неоновым светом. «БИРУТЕ». Гастроном «Бируте», а скоро и «Минск»… Еще дальше… за мост…
Да вот что бы это такое…
— Топай, топай, малютка. Смелее! В «форд», ага! В «кадиллак»! Вперед, вперед!
Дайва! Сцапали и ее. Да как же ты, желтенький птенчик, до сих пор не хлопнулась в обморок? Даже улыбается…
— Вот дунула, вот уж драпанула!.. Как лань, ей-богу!.. — затараторила она, как будто даже довольная, что снова в своем кругу, хотя радоваться, собственно, было нечему. — Если бы не проклятые мокасы… наденешь новые — в кровь ноги сотрешь…
— Надо было босиком… — вякнул Тедди, шевельнув своими невероятными ушами, обоими сразу, для чего требовались какие-то особые способности. — Топ-топ…
— Тебя там не было, некому было руководить! Но я и без твоих цэу обошлась бы, если бы не эти корабли… А я, между прочим, ни при чем… больно мне нужно это ваше мороженое… в этом дурацком ларьке…
— Объяснишься в отделении, милашечка.
— В отделении? — прогудел бас.
Танкист! Подал голос!
— А чем там плохо? — (Тедди). — Тепло и мухи не кусают.
— Н-нет, это н-не-хо-ро-шо!
Всё. Мамочка родная, прибыли.
— Выходи! Живо! По одному, по одному! Мексика-сити! Прибыли! Быстренько!..
Что он порет — Мексика-сити!
— Мехико, а це Мексика! Мехико-сити, ясно? — выкрикнула Эма со злостью. (Керуак. «На дороге», шик-блеск книжка.) — Надо соображать…
— О-о! — гнусаво протянул изловивший ее парень (где же она его видела?) и, понятное дело, усмехнулся; хоть и не видно этой его усмешечки, темно, но самым явным образом усмехнулся. — O-о! Прошу прощения за низкий культурный уровень… Пока что без высшего образования… И пока что попрошу: по одному, вперед! По одному, по одному, без базара! Вылезай, приехали: Сан-Франциско…
Явно читал, зараза, Керуака! Не читал бы — не нес бы все это…
«Мориарти… Дорога, дорога, дорога… полет по дорогам… А потом? В конце дороги?»
Папаша, конечно. Father[47]. Он. Его вопросики.
«Что у тебя впереди, что в конце пути, Эма? Или ты не понимаешь, чем все это кончается? Начитались этого Керуака… Ты хоть подумала, что потом? Хоть разик?»
Ну, засек. И прямо врасплох. Стоишь как дура в кухне у холодильника, мажешь масло на хлеб самым невинным образом, а он торчит в дверях как пень, вопрошает!
Лучше бы он ушел. Разозлился бы и ушел. Что за расспросы такие! Вот взъелся! Крокодилус!
«Ты кажешься мне больным человеком, больным человеком…»
«Может быть…»
«Но в наше время болезни не так уж страшны, если вовремя спохватиться… найти лекарство…»
«Не так уж? Спроси у мамани, она лучше знает… Поинтересуйся… Нечего мне морочить голову. Скажи лучше, мне никто не звонил? С час назад, а?»
«Ты совсем отбилась от дома… Где ты была? Где ты бываешь, доченька? Я могу спросить?»
«Можешь. А я, например, могу и не ответить».
«И все-таки».
«У Лизи».
«Где, где? У какой Лизи?»
«Той самой — Тейлор…»
«Перестань кривляться, Эма».
«Ладно, перестану. Слушали маг. Смотрели телик. Рад?»
«Чему?»
«Что телик смотрим… телевизор… Цветной… Ты ведь все не соберешься купить…»
«Ну, покамест наш старикашка «Таурас»…»
«И тесты решали. Тесты из разных журналов… Воспитываешь меня? Ну, воспитывай, папаня, воспитывай. Старайся. Только мне на это все наплевать. А вообще-то я побежала… некогда… Значит, не звонили? Ну, чао, пока, папаня!..»
Оте-е-ец… Какое мне до него дело? Мотаешься по заграницам, ну и мотайся. Летай туда-сюда, радуйся, папаня, и веселися, только не приставай. Постарайся держаться от меня подальше, не суйся в мою жизнь. Она для тебя темный лес. Как и твоя — для меня. Я такую жизнь ненавижу: все рассчитано, распланировано заранее, записано на листках перекидного календарчика, все ясно как свои пять пальцев. Это тление. Это копание в остывшей золе. Летаешь? На лайнерах? Любишь комфорт, знаю, знаю. Ты даже считаешь, что заслужил его всей своей жизнью. Ты так не говоришь (непедагогично), но веришь, что заслужил. А, собственно, чем? Какой жизнью? Той, прежней? Юностью? Фронтом? Да когда это все было, папаня! Неужели ты намерен жить на ренту? Но намерен? А почему ведешь себя так, будто все на свете твое и больше ничье? Будто живешь один.
Я вот не считаю, что твое и что ты один… И потому я тоже летаю. Ты, папочка, по теплым краям, а я — по-своему… Что хочу, то и делаю, и буду делать что хочу. Тем более что ты, мой милейший предок… так называемый оте-еец… папочка…
Столб! Какой дурак вздумал воткнуть его прямо перед лестницей? Люди добрые! Чуть башку не расшибла!
— Сюда, сюда, налево! Живей, живей, мамзели и мусье!
Вот дубина парень! Тот, что меня сцапал. Где-то я его все-таки видела. Мамзели и мусье! Издевается!
— Ко мне надо… — хватаюсь за живот, делаю жалобные глаза. — Мне правда… гм… надо бы…
— Надо бы?.. — Он остановился. — Что это? — уставился из-под мохнатых бровей (размах во весь лоб, две намазанные тушью полоски). — Не нравятся обстоятельства? Потерпишь… Сначала придется объясниться…
Ну и бревно! Отборный экземпляр! С луны свалился! Или придуривается. Мы дружинники столицы… А если, балда ты, мне покурить охота? Одну затяжечку… и вообще… мало ли… марафет навести… Подумать. Подымить и обмозговать всю петрушку… за весь этот шухерный денек… Если ты, отрава, помешал мне сосредоточиться, вспомнить, где же это я тебя… Объясниться, видите ли… Где?
Вот где: в комнате с деревянной загородкой. Два или три стола да два-три мильтона, телефончик (возьму да брякну мамаше, то-то настращаю), стеклянная табличка «ДЕЖУРНЫЙ». И еще какой-то ящик, зудит все время… в прошлый раз не было… папка, точно сиротка, брошена на столе… шариковая ручка…
— Присядьте, товарищ… Глуосните… вот сюда, пожалуйста…
Глуосните! Фамилию знает… ишь…
А тот хоть бы хны. Спринтер этот самый. Приволок. Век помнить буду.
— Ведь мы с вами знакомы, не припоминаете? А?
Лейтенантишка… Тот самый, что в прошлый раз… недели две-три назад… когда она четверо суток не являлась (летали, летали, летали) и когда маманя… ее старомодная маманя — ах, четверо суток! — дабы спасти своего ангелочка, ха… пошлепала в милицию и даже приволокла ее, без вести пропавшей дочери, фотографию.
— Вот и встретились… — Лейтенант чуть ухмыльнулся и потрогал козырек лежащей на столе форменной фуражки. (Натирают они, что ли, свои козырьки, что так сверкают?) — А вы говорили: никогда… Никогда разве только гора с горой… и то… в наше время да при наших, я бы сказал, делах…
«Ничего я тебе не говорила, что ты несешь…» — чуть не сорвалось с языка; помянул! Скажите пожалуйста… гора с горой…
Но удержалась, не крикнула — и в самое время, так как появился еще один, постарше, майор — приземистый, сутуловатый, седой, довольно рослый, ноги как жерди, с карандашом и бумагой, — возник из той двери, которая вела куда-то в темный бесконечный коридор. Эма как будто и его где-то видела… ах, мала наша деревня! Наш маленький Вильнюс! Только высунешь нос из хаты, сразу встретишь кого не надо: здрасте, мы вроде знакомы! Да ведь он же назначил ей свидание, да, да, этот лейтенантик («Вы мне сразу понравились, — по фотографии, — в первого взгляда»), назначил по телефону («Скажу много важного»), когда она уже возвратилась домой (к священному семейному очагу) и когда изо всех сил старалась позабыть эти четыре дня; ждал он ее не в отделении, конечно, а в скверике неподалеку, она узнала его по вузовскому значку на отвороте пиджака. И когда она, с трудом выуживая в своей памяти, что бы это такое она могла натворить или скрыть от самой себя (и что они могли раскопать про нее), отправилась, лейтенант взял да предложил провести вместе вечер. Хотя бы в «Паланге» или… Она, разумеется, поняла намек и страшным образом обиделась: подумать только, да он ее, кажется, принял за такую, с которой… «Что ж, — скорбно улыбнулся лейтенант, — ей приносишь сердце на блюдечке, а она говорит: свекла».
Эма вздохнула, вспомнив весь этот разговор, и, словно зовя на помощь, посмотрела первым делом на Чарли («Это моя чувиха», — похвалялся тот перед всеми), который посиживал на желтой скамье, придвинутой к стене, какой-то поникший (а были во плечи!), свесив свой знаменитый «паяльник», и нервозно покусывал губу; потом она взглянула на чернявого дружинника, который приволок ее сюда и почему-то вздрогнул, услышав ее фамилию; в данный момент он топтался у двери.
«Где же это я тебя?..» — вертелось в мозгу.
Память была пуста, как яма, в голове — какой-то туманец… Майор что-то втолковывал лейтенанту, а тот только кивал.
Эма заскучала.
— Ты-то чего ждешь? — резко повернулась она к брюнету. — На чай? О-ха-ха!
Она и сама не знала, откуда вдруг взялось это желание цепляться к нему; знакомое лицо? Ну и что, все равно выхода нет. И, как всегда в подобных случаях, Эму начал разбирать дурацкий хохот.
Ха-а.
Парень передернул плечами и, словно устыдившись, отвернулся.
Эма взглянула на своих.
«Вот видите, не сдрейфила, — казалось, говорил ее задорный взгляд, — нашлась. А вы… вы-то…»
И то, что Чарли подмигнул ей, а Тедди шевельнул своими невероятными ушами, — в этом отчаянном положении кое-что значило. «Как все, так и я…» — кажется, было написано на окаменевшем лице Танкиста; колосс из Киртимай как будто полностью полагался на нее, на их «мозготрест» (слова Тедди), их общий компьютер шобыэттакое придумать, на их счастливую звезду, которая до нынешней полуночи им преданно светила; как ни в чем не бывало поглаживал он лежащую на джинсовых коленях Лизину лапку, хотя, может, вовсе и не ощущал Лизиной руки. Дайва, этот плотный каучуковый мячик, как будто не собиралась падать в обморок или закатывать истерику, а вовсе наоборот, весело постреливала глазками то на лейтенантика, то на топтавшегося у двери дружинника (видно, всем сразу услужить хотела); настроение падало катастрофически, и если подрагивающая его стрелка еще фиксировала кое-какие признаки жизни, то исключительно потому, что никто не желал показать своего страха, а боялись, разумеется, все.
Хотя бы и Вирга. Сидит, губы шнурочком, голые коленки — напоказ, грудь вперед, наманикюренными пальчиками перебирает пальцы Танкиста, а сердчишко давным-давно в пятках… И не за себя дрожит — за предков… Прознает старик… Обещал путевки в Болгарию, на Золотой Берег. И еще обещал купить часы — большущие, циферблат голубой, стрелки оранжевые или зеленые — или даже того, жутко модного космического цвета, и дрожат, как у полевого компаса, цифрищи огромные, всякие там колесики и шестеренки вертятся от мини-батареек. Шик, ни у кого таких нет! Увидела их в журнале — Эма как-то приносила, показывала… А уж маманя — не дай боже узнает, что ее дочь в милиции… «Нашла с кем связаться — с какой-то голоштанной шайкой-лейкой… Шалнайте!..»
Шалнайте бы не следовало, но Шалнайте здесь.
И Дайва здесь, ее старик опять ей врежет как следует. Как пойдет обрабатывать, а она — вопить: «Убьет! Убьет! Убьет!» — и в обморок; сбегутся соседи. И что же — пожалеют. Пожалеют бедняжку — сиротку — не сиротку — подкидыша — не подкидыша, а что-то в этом роде: посудите сами — мамаша на целине, то есть на БАМе. В Тюмени… С бригадой, а она тут… Танкисту, ясно, все сойдет, про его предков никто ничего не знает, живет он с бабкой, ну и сидит себе спокойненько, тискает Виргину руку, будто глину. И Тедди хоть бы хны, хотя и он, вроде Эмы, студент; маманя его далеко, хворая, но, однако, корову держит, посылочки посылает… Тедди так и льнет к Чарли, Эминому дружку, который иногда потренькивает на фоно в своем техникумовском оркестрике, и, понятно, к ней самой, Эме, к ее шобыэтта, хотя клеится больше к Дайве. Дайва в академическом отпуске. Торговала морожеными сливами и салатом; в прошлом году работала на вешалке в поликлинике вместе с разными старушенциями, а в нынешнем фасовала сливы, но это жуткая скука; теперь, говорит, ее собираются взять в Дом моделей… Эту колоду?
А они все объясняются — рыжий и майор. Майор тычет пальцем в «Дело» на столе, рыжий весь пламенеет, дергает плечами, а майор:
— Товарищ Висмантас… побудешь здесь… мы сейчас. Гайлюс…
Гайлюс… чернявый парень (видела, видела, но где?) издали кивает. Майору. Гайлюс…
«Вот тебе и познакомились… — мелькнуло в голове; поняла, что все это время думала о нем, о Гайлюсе (где, где, где?), улыбнулась горько — сама себе. — С тобой бы, может, и пошла… — Запершило в горле. — Потрепались бы… А с рыжим лейтенантишкой… нет уж!..»
Она отвернулась лицом к стене и, уже припомнив весь минувший, такой долгий и такой нелепый день, негромко, сдержанно засмеялась.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Проснувшись (это с утра), она сразу же увидела куклу. В высшей степени странно, так как и приснилась ей эта кукла в алой юбке с оборками и пышной белой блузке. Кукла по имени Жанна и по прозвищу Французка; ее держал на коленях и гладил декан факультета Милашюс; Эма сидела напротив. «Я забираю ее, — говорил профессор своим четким, чересчур звучным голосом. — Тогда вы, уважаемая студентка, перестанете быть такой инфантильной». (Милашюс всем говорил «вы» и никому, даже лаборантке Джильде, не говорил «ты»; злословили, что так он обратился даже к своему новорожденному сыночку: «Досточтимый сынуля, вы…», который немедленно почувствовал себя стариком и помер.) Она молчала. Знала, что Милашюс слов на ветер не бросает, и молчала, обдумывая, как ей дальше быть. «Тогда вы, уважаемая студентка, сможете без всяких помех подогнать все зачеты и сдать экзамены, — продолжал Милашюс своим неестественно звучным голосом (наяву он у него, как правило, бывал хриплым), — ведь вам не придется больше играть с этой идиотской куклой… Вам пора подумать, как наладить дальнейшую честную и осмысленную жизнь, а вашу куклу, уважаемая студентка…» — «Нет! Нет! — вскочила Эма, видя, как грубо, без малейших церемоний этот Милашюс толстыми пальцами-сардельками хватанул куклу за трогательную розовую ножку — несчастную Жанну, ее Французку! — и, повернув несколько раз у себя над головой, изо всей силы шмякнул в краснокирпичный камин, который был в комнате деканата. — Она сгорит! Ей будет больно! Сгорит! Не дам!»
И очнулась, даже села, вытерла покрытый испариной лоб — рядом лежала Жанна, из-под легкого шерстяного одеяльца выглядывала ее черная всклокоченная головенка; казалось, на кукольном личике играла улыбка.
«Жанна… — прошептала Эма. — Бедная ты моя Французка… Как они нас со всех сторон…»
Теперь расслышала, как скрипнула дверь, в открывшейся щели появилось материнское лицо — землисто-серое и чем-то недовольное.
— Опять опоздаешь, Эма!
«Но куда? — чуть не брякнула она. — Куда мне торопиться, дражайшая маманя? Неужто прямо в лапы Петренаса?»
Она даже не знала, кто проводит семинар, Накайте или Петронас, и вообще какие сегодня лекции и даже какой день недели: среда или четверг. Может, опять «санитарный день»? Впрочем, таковой уже был вчера, да, да, она так и сказала мамане: санитарный день, и на лекции не пошла, хотя прекрасно знала, что мать ни единому ее слову не верит. Но знала она и то, что матери опять нездоровится и она избегает скандалов, особенно в отсутствие отца; вообще-то не скажешь, чтобы мамане в жизни крупно повезло. Счастьем от нее не пышет.
И что оно такое, это самое счастье? Уж конечно не деньги — денег в их доме никогда не было слишком много, но как будто всегда хватало на еду и прочую бытовуху, хотя далеко им было до таких, как, скажем, Шалны, с их довольством и благополучием; Глуоснисы жили скромно. И то, что они жили скромно, как казалось Эме, давало ей право не слишком зависеть от дома. Что ее там особенно держит?! И что она теряет, не подчиняясь мамане? С малолетства Эма была слаба здоровьем, что надежно отгораживало ее от домашних забот, и в первую очередь от домашней работы; мама ее любила! Мама даже перед папой заступалась за Эму («Она моя, ты понимаешь, моя!»), а уж тем более перед всеми во дворе, и следила, повиснув на подоконнике, как ее дитя играло с остальными ребятами — вдруг кто-нибудь толкнет, обидит. Мама решала Эме задачки, стирала ее трусики и чулочки, мыла голову и ноги, а в школу маленькую Глуосните одно время провожала домработница, и это продолжалось лет до двенадцати, пока Эма не заявила, что куда интереснее бегать в школу с мальчишками; и больше никуда — ни в пионерлагерь («Какое там питание!.. А уж нравы!..»), ни на какие-нибудь экскурсии («Что вы! Она такая слабенькая!..»), никуда мама не пускала свою Эму, словно опасаясь, что, скрывшись с ее горизонта, дочь исчезнет навек… Зато мама охотно брала ее с собой на курорты юга, где надо было загорать на деревянных лежаках (тела, тела, голые, красные, обожженные солнцем, некрасивые), а под вечер хлебать минералку или кефир, и чуть что — запихивала ее в больницу, где воняло йодом и старостью; к больнице мама относилась с благоговением! И точно так же — к врачам, которые с важным видом выстукивали Эмины ребра, и к медсестрам с их шприцами, стерилизаторами, компрессами — этого добра и в доме было предостаточно. В ящиках, шкафчиках, шкатулках — всюду валялись флакончики и бутылочки, таблетки, порошки, ампулы — все аккуратное, в упаковке, с налепленными рецептурными «языками», как некая тайна, заключенная в шуршащий целлофан или тонкую бумагу; лишь ей одной ведомым способом мама отбирала из этой растущей горы медикаментов то, что, по ее мнению, в данный момент требовалось, наиболее сильно действовало и соответствовало рекомендациям врачей и маминых подруг, и силком заталкивала Эме в глотку. Мама не могла допустить, чтобы ее дочка дрожала на экзаменах, протащила ее сквозь строй врачей и раздобыла все необходимые для того бумаги. (Эма, как могла, оправдывалась перед подружками: «Это все она… мама…») А мама произносила речи о том, как надо беречь здоровье, как важно думать о здоровье подрастающего поколения, которому приходится жить в иное — мирное — время и которое не должно — вы понимаете: не должно! — терпеть страдания и лишения, выпавшие на долю их родителям. Ради чего же, как вам кажется, мы страдали и боролись — не ради ли них? Наша песенка спета, надо смотреть правде в глаза — сколько уж нам осталось, ну, не дней, так лет, да еще опасность этого атомного гриба… И сам мир меняется на глазах. Всюду — машины. Роботы вот-вот станут чистить нам ботинки; ну, стирать вручную уже и сейчас не надо: сыпанул порошка, нажал кнопку — вот и вся работа. Что же тогда делать нам? Молодежи?.. Если угодно, я скажу: искать. Чего? Всего. И прежде всего своего места в жизни, искать человека (разумеется, человека!), на которого можно положиться… Каждое поколение должно решать свои проблемы самостоятельно. Ясно вам? То, о чем вы говорите, — это общие истины. Но для каждого нового поколения, даже для каждого появляющегося на свет человека — они новы, первозданны и неожиданны… И потому, мои драгоценные предки…
— Эма! Ты слышала, что я говорю? Опять ты последняя! Ты всегда и везде последняя, Эма!
Не везде! Ты, маманя, и не представляешь, как стремительно я вскакиваю с постели, как живо умываюсь, причесываюсь и одеваюсь, когда мне надо идти, когда меня ждут друзья или когда… Знаю, знаю, жизнь шла бы своим ходом и без меня, но со мной лучше, так все говорят, со мной всем лучше: и Чарли, и Тедди, и Вирге, Дайве, да, пожалуй, и этому Танкисту, не берусь судить, он с нами недавно, — им всем лучше со мной, им нравится, как я рассказываю о том, о чем они не имеют представления, хотя и прикидываются, будто знают, рассказываю о том, что читала; им нравится мое чтобы такое придумать? Это не так уж плохо — всякие придумки, без них вся наша жизнь — просто серость. Возьмем хотя бы того же Петренаса, руководителя семинара… Знаете, Глуосните, тут всего-навсего институт, всего лишь вуз, где вы студентка, а я преподаватель, и существует обязательная для всех программа… К черту ее, программу вашу, сами копайтесь, и тут уж никто меня не переубедит, тем более ты, маманя, которая… Ты же трудилась, пока была крепче, там же, на том же факе, с теми же Петренасами и Милашюсами каждый божий день…
— Мне тяжело, Эма! Пойми, слишком тяжело. Они же знают, ты моя дочь… Что они подумают?
Что подумают! Пусть думают, что хотят! У каждого свои заботы. Для меня куда важнее мои, когда впереди целый день, полный надежд, и ты не знаешь, каким он будет, этот день, и чем закончится и даже когда закончится.
Маманя, пошумев, ушла к себе в спальню и, разумеется улеглась; Эма на такое не способна. Ее сон разбит окончательно, придется вставать, но это еще не самый скверный вариант; хуже, что нет «рябчиков», нет денег, и каждый день будь любезна их клянчить, как милостыню, унижайся, терпеливо разъясняй, на что — столько-то на обед да столько-то на тетрадки, стипухи не дают. На черта эта милостыня! У нее как будто еще есть родители! Раз уж вы, милейшие, нас породили — будьте любезны и содержать.
— Мам, а мам!.. — крикнула через дверь, стеклянную дверь родительской спальни, которую и открывать неохота: услышит! — Мам, мне пять рублей!
— А на что? — хриплый голос там, под кучей одеял; хриплый, усталый и какой-то старомодный; еще вроде бы не так холодно, сентябрь, а уже под тремя одеялами; что-то будет зимой в этом приюте для престарелых?
— На чулки, на что!.. И дезодор…
— А может, еще на что?
— Ну и не надо! Не давай! Подавитесь своими деньгами!
Хлоп дверью, быстро вниз по лестнице; а, к черту! К черту вас всех! Не хочешь — не надо! Не надо, не давай! Тоже мне… Оба хороши! Воспитывают! Отец хоть всегда прямо в глаза режет, не церемонится, а ты, маманя, вертишься как заводной волчок, хвостиком виляешь, подлизываешься, делаешь вид, будто у тебя есть свое мнение, понимание… Играй, играй! Свою дурацкую ролишку, играй в самостоятельность, эмансипацию! Наша Накайте тоже любит это словечко. Паршивая эмансипация, многим она надоела хуже горькой редьки, — от чего ты свободна, маманя? От кучи одеял? От лекарств? От своих таблеток, капсул, гранул, которые ты — горстями? Или, скажешь, от этого пыхтящего, гудящего, терроризирующего весь дом самовара (чтоб ему провалиться), который ты упорно кипятишь каждое утро, есть ли народ, нет ли… Или от отца, Глуосниса, от его денег, его мнения о том о сем или от этой обоюдной каторги, которую вы отбываете, именуя ее долгом, ладом, уступчивостью и прочими красивыми словами, от этой постыдной взаимозависимости, которая всех обращает в рабов — мужчин и женщин… Женщин, конечно, в тысячу раз больше, потому как… Потому как не ты, а он — отееец — летает в южные страны, да мало ли куда его направляют, и по ты, маманя, ему, а он, отец, отец, твой му-у-у-уж, возит тебе японские кимоно, итальянские туфли, немецкий трикотаж; даже какие-то пуговки для блузки и то он привез… Хотя все это тебе ни к чему, есть тряпки, которые ты ни разу не надела, ну, за исключением того раза, когда вынула из его чемодана и примерила, — о блаженный миг… А ведь ты всегда мне втолковываешь, что не вещи главное в жизни и уж во всяком случае не они красят и облагораживают — запомни, Эмочка, облагораживают! — жизнь… Только достоинство, высоко поднятая голова, собственное мнение всегда и везде и гордая независимость от чего бы то ни было… Где же, маманя, твоя хваленая независимость, самостоятельность, твой собственный голос?.. Где они, маманя… больная и одинокая… злая, хворая и как перст одинокая, заброшенная, маманя?..
Нет, нет, неправда, все это ложь — то, что ты говорила, мама, все, что внушала с малых лет и что, пусть не так часто и не таким уверенным тоном, повторяешь сейчас… Нет у тебя самой никакой свободы! Каждый у нас в семье думает прежде всего о себе, а такая свобода — когда каждый только за себя — весьма смахивает на рабство, мамулечка. А если что и существует, то лишь то, что мы, не ожидая ни от кого милостей, создаем для себя сами: the young people life[48]; может, ты полагаешь, что ради несчастной пятирублевки… я… Эма…
— Эма! Куда ты?
— На фак… куда еще… А ты, Дайва?
— Куда угодно… мир широк…
— Опять?.. Фиеста?
— А, не спрашивай! Купила брошечку, а он сразу: кофеварку продала! Какую еще кофеварку? Наша еще в прошлом году расплавилась, ну и выкинули. Сам забыл выключить. А теперь буйствует…
— Пошли вместе!
— Пошли. Хоть на край света. Все равно дома никакой жизни. Нет и не будет.
Уже вдвоем. Все веселей. Нет жизни у Дайвы? А у меня, Эмы Глуосните?..
Тут папаня обрушился… за книги: мол, продала. Это когда не хватило хрустов, ну и продала… Его книги. Его.
Дайва этого не знает, я не рассказывала ей, чем все это кончилось. И никому не говорила. Я сама по себе, не то что они… И пусть они думают, что меня никто, даже отец, не имеет права… никогда не посмеет… тронуть. А ведь посмел.
Не прощу, знаю. Не забуду. Никогда. Нет-нет…
— Эмка, ты чего? — Дайва вытаращила круглые, блестящие, как каштаны, карие глаза. Надулись и щеки, розовые да еще подмалеванные. — Смурная какая-то…
— Да нет!.. — Эма тряхнула головой. — Ничего… Как всегда.
— Тебе не идет плохое настроение, Эмка.
— Оно и не плохое.
— Что ж, тебе легче… Ты вольная птица, Эма. Прямо завидки берут: вольная красивая птица…
— Да, клетка — это не для меня.
— А вот мне, Эмка, все подрезают да подрезают крылышки. Эх, если б ты, Эмка, все знала…
— Ну, ну! — Эма тронула кончиками пальцев подружкину руку. — Раскиснем еще как барышни! Надо верить, что все у нас обойдется. Что — не знаю. Когда — не знаю. Но все будет хорошо. Должно быть хорошо! Что-нибудь да придумаем!
Но вот что? В институте мертвая тишина, на этом окаянном их факе. Лекции. В окно видны только патлы и затылки, все какие-то одинаковые, точно стригли всех под одну гребенку (собственной персоной декан Милашюс обкорнал), скукотища; пусто, как после ураганного ветра, и во дворе, под березкой, к которой бывшие студиозусы ходят на поклон; и что они тут находят такого? И вообще что может быть хорошего там, где тебя никто не ждет, где ты — малюсенькая закорючка, галочка в журнале посещаемости и где на тебя, на твою ультраэмансипированную индивидуальность, никто не обращает внимания, даже головы не поворачивают, когда ты с опозданием (к звонку являются одни зубрилы, деревенщины и именные стипендиаты) возьмешь да заявишься к этой корпящей над конспектами, пропахшей общежитейской столовкой и дешевым «земляничным» мылом братии… А вот кое-кому, вы ж понимаете, позволительно…
Ну и ладно, ну и пусть — пусть думают обо мне что угодно; я тоже думаю; и надумаю, будьте уверены. Что, уже десять? Без каких-то минут; давно не сверяла часы, все некогда, а маманя все не удосужится снести к часовщику; и туфли в починку, те, фирменные, голландские сабо, которые в прошлом году папаня привез, ухлопав все туристские гульдены. Нет времени, нет времени… Конечно, охота стоять в очередях со всякими занудными пенсионерками!
Господи, что за жизнь!.. В школе — контрольные, сочинения, «шайбы» (так они называли двойки, а еще — «бананами»), таскание к директору, завучу, «неудовлетворительное поведение», мамашины «ахи», папашины нотации, разговоры по душам, даже угрозы и, конечно, болезни, врачи, справки… И снова — зубри, зубри, зубри, бедная студентка… любой преподаватель тобой помыкает… А потом — работа… а после работы — только успевай шевелиться — курнуть и то некогда, подымить самую малость, покалякать с друзьями, с добрыми друзьями, без которых жизнь не в жизнь. Найдутся делишки и поважней — дуй в магазины, беги за молоком, за колбасой… Придешь домой — надо кидаться стирать, мести, пылесосить, драить… Ах, сколько забот у женщины, девушки, хозяйки — разве все сосчитаешь, и потому куда лучше… во всяком случае, пока есть маманя… пока наша болящая маманя еще двигается… не думать о них. Лучше не ахать, не охать, не переливать из пустого в порожнее, лучше не биться головой об стенку из-за проклятой бытовухи, без которой, конечно, тоже не проживешь; бежать, бежать от всей этой чепухи и жить сегодняшним днем, этими, пусть малыми, радостями, которые дарит жизнь, вернее, которые человек устраивает себе сам, вырывает у жизни; кроме этих самых добытых собственными усилиями радостей, на сей земле нет ничего; день без радости — бремя, говорят англичане. Так-то, мамуля, так, моя дорогая…
А сегодняшний? Сегодняшний сентябрьский день, начавшийся привычной маманиной истерикой (воображаю, как она сейчас комкает свои три одеяла, мнет и терзает), после чего был вынужденный спринт из дома, который с каждым шагом, казалось, все больше отдалялся от нее, от Эмы, и проваливался куда-то в глубокий туман, наползавший от осенней Вилейки, — этот, как и все остальные, серый и выплывший из серого тумана день, — что сулит он? Куда зовет ее кривая улыбочка осеннего солнца, мазнувшая по щеке сквозь брешь в облупленной стене? Куда поведет этот легкий шелест ветерка, взметнувший завиток пыли на истертом, истоптанном тротуаре? И куда спешат эти рваные, белыми клочьями повисшие над городом облака? Куда их несет? Где они будут через час? В обед? Завтра?
— Эма, ты сегодня правда какая-то…
Дайва. Опять. Ей, видно, наскучило торчать на гранитном парапете и без всякой высшей цели разглядывать пустой, как рукав инвалида, двор. Да и холодно. На ней не мини, но и не макси, а так… миди, что-то жутко немодное. Да что поделаешь? Джинсы узковаты… Худеть надо… Жиров поменьше потреблять… Что ты, Эмка, какие жиры! С моим предком… Она соскочила с парапета, вернее, скатилась оттуда, расправила мятую ткань.
— Ты совсем скисла, Эмка. Вот-вот заплачешь.
— Я? — Эма через силу улыбнулась. — При нашей-то лучезарной жизни?
Дайва шумно вздохнула.
— Я вообще-то, Эмка, толком не представляю, что такое жизнь… Все только и болтают: жизнь, жизнь… А мне это ни о чем не говорит. Не воспринимаю. Или, скажем, воздух… Воздух, воздух, земля, земля… Ну и что? Да не все ли равно? Нам… И тому, кто говорит…
— Нет, видно, не все равно…
— Значит, не доросла…
— Не то чтобы… — Эма усмехнулась. — Не то чтобы не доросла, а как-то… Ну что мы знаем? О себе самих, например? Что можем знать? Даже не разберешь, кто дурак, кто не совсем. Вот жизнь и показывает, кто дурак, а кто только кажется дураком… Потому что глупость или умность не зависит от того, что человек сам о себе думает…
— А я… кажусь? Ну, тебе? — Дайва, и без того румяная, залилась багровой краской. — Кажусь дурой, скажи, а, Эмка?
— Не кажешься, успокойся, не кажешься… — Эма погладила ее по коленке, обтянутой светло-зеленым импортным чулком; пониже, сбоку, по ажурной поверхности сползали предательские петли. — А вдруг мы все… Представляешь, я иногда думаю, что мы все не знаем, чего хотим… мы… наша кодла…
— Другие, по-твоему, знают?
— Другие-то знают. Или хотя бы считают, что знают. Им легче.
— А нам?
— А мы, иногда мне кажется, прямо как на мостике без перил. Кое-как топчемся, а вдруг из-под него сваи выбьют?.. Тогда мы, натурально, в воду…
— Кто выплывет, а кто нет…
Девушки помолчали.
— Нет, правда, Эмка, я все-таки не знаю… — снова вздохнула Дайва, уставясь себе под ноги, может быть на втоптанную в песок металлическую пробку от пивной бутылки. — У меня такое чувство, будто я чем дальше, тем меньше соображаю…
— Вот уж беда!
— А то нет? Ничего, совсем ничего не знаю!
— Незнание — еще не грех, Дайвушка.
— А знание? По-моему, мы просто стараемся ничего не знать. Не то не сидели бы мы с тобой здесь…
— Это уж ты загнула… — Эма снисходительно улыбнулась. — И чего тебе, в конце концов, чего не хватает?
— Многого, Эмка. Я бы, например, хотела…
— Ну, чего, чего?
— Не перебивай!.. Я бы, Эмка, например, хотела бы знать… ну, знать…
— Зачем живешь, да?
— Ты гений, Эмка! И как это ты угадала?
— Все этого хотят…
— Вот именно: зачем живу… — Дайва улыбнулась виновато, с таким видом, будто не знать, зачем живешь, в самом деле стыдно — все знают, а ты, дура, нет… — Чего я жду, на что надеюсь?
— Небось замуж выйти.
— Ну уж!..
— А что? Чем плохо?
— И как ты, Эмка, можешь?.. Будто я тебе чужая… а не друг…
— Друг, конечно… — Эма озорно взглянула на нее. — А разве моим друзьям возбраняется заводить семью?
— Это не для меня… — Дайва закусила губу; круглое, с ямочками на щеках лицо сделалось как у мальчика. У пухлого, хорошо упитанного и не слишком привыкшего думать мальчугана. — И зачем я такая вообще на свет…
— Какая?
— Ну, недопеченная, как говорит Тедди.
— Нашла мыслителя — Тедди!
— Ай, не скажи…
— Да не грызи ты себя! Все мы такие.
— Нет, не все. Ты, Эмка, знаешь…
— Я? Почему ты так думаешь?
— Ты совсем другая!..
— Тебе только кажется…
— Ты же говорила: хочу все узнать. Жизнь. Людей. Всяких. И получше, и похуже. Потому и трешься среди них. Ты можешь стать…
— Кем?
— Да кем только захочешь. Ты, Эмка, будешь кем хочешь, потому что ты… твои родичи…
— Перестань! Роооодичи! При чем тут они?
— Не скажи! Знаю. И на своего папаню ты прешь только потому, что… А ты не обидишься?
— Что ты! Давай!
— Потому что завидуешь ему. Ну, малость… Хоть ты и сама, конечно, не какая-нибудь…
— Завидую? Я? Чему же?
— Ну, тому… что у него талант… И он пишет… ездит… И я бы завидовала… может, при таком отце… И не алкаш он у тебя…
— Ха-ха! — Эма засмеялась, да так громко, что сама растерялась и оглянулась: не слышит ли кто? — Ха! И что в нем такого особенного, в моем папане?
— Сама знаешь… И ты тоже, Эмка…
— Я? Нет, милая, ошибаешься. Это он мне должен завидовать… Он, слышишь? И, может, правда завидует… Такие выходки…
— Какие?
— Ну, мало ли!.. Неважно… Теперь уже неважно… — Эма вдруг нахмурила брови. «Нет, нет, нет, не скажу!.. Не сказала и не скажу! Никому!.. Нет!..» — Тебе, Дайвушка, теперь важно выйти замуж, а мне… жалкой неудачнице…
— Что ты, Эмка! Ты же у нас гений!
— Перестань! Я просто дерьмо. Скажешь тоже — гений! Видала ты их, гениев этих?..
Обе замолчали.
— Нет, нет! — Дайва тряхнула головой. — Вовсе нет.
— Ты о чем это?
— О том, что ты сказала…
— Насчет… замужества, что ли?
— Насчет тебя.
— Это правда… И главное — я это знаю.
— Но… Эмка…
— Что, детка?
— Ты никому-никому, ладно? Совсем-совсем никому!
— Чего это?
— О себе… то есть то, что ты сейчас сказала…
— Все это труха, Дайвушка.
Снова обе замолчали, думая каждая о своем. Дайва заговорила опить первой:
— Замуж, да?.. А кому я, Эма, такая…
— Какая же?
— Ну… без внешности… то есть… при нестандартной фигуре?
— Кто это тебе сказал? В Доме моделей?
— А ты откуда знаешь?
— Мало ли…
— Ага, там так и сказали: нестандартная фигура…
— Плюнь ты на это. Не в фигуре счастье… Может, для кого-нибудь ты мисс Вильнюс… если не мисс Европа… Да хотя бы для нашего Тедди…
— Тедди? — У Дайвы заблестели глазки.
— А что?
Дайва топнула ногой в импортном светло-зеленом чулке со спущенной петлей, то ли отшвыривая подальше пивную пробку, то ли просто для успокоения нервов.
— Вот сейчас ты глупость сморозила, Эмка, — вздохнула она, — Тедди! Он и думать не думает…
— А ты?
— И я, конечно! Что я могу думать? Да еще про Тедди? Чувак как чувак… и вообще… Если уж все начистоту, как близкому человеку, Эмка…
— Ну конечно, близкому…
— Тогда вот что…
— Так, так…
— Жить на что? Ну, если замуж?.. Ты — другое дело… родители… А сколько мой предок зарабатывает, ты знаешь? А жить на что?.. А если еще младенец… представляешь? Кто растить будет? У тебя мать есть… А у меня?.. Нет, Эмка, не могу! Это невозможно…
Со скрипом, скрежетом и стоном растворилась дверь — заветная калитка в рай, окованная железом дверь древнего студенческого кафе (их «кафешки»); высунулась всклокоченная голова уборщицы.
— Ишь ты! С самого утра?
Они не ответили и бочком прошмыгнули внутрь. Перво-наперво, разумеется, в туалет — покамест опрятный, чисто вымытый с раннего утра — и спешно запустили руки в сумки, зачиркали спичками; поплыл голубой дымок. Слабое утешение, а все-таки…
— Дайва, ты сегодня как? — Эма скорбно глянула на подружку.
— Пара су… нищенские гроши, Эмка…
— Ну хоть на кофе…
— На кофе есть. Даже на двойной!..
Когда, покурив, пригладив пальцами основательно спутанные волосы (Эма впопыхах не захватила расческу, у Дайвы ее никогда не имелось), с бодрым видом они вошли в зал, Чарли уже был там и, оседлав лавку, точно бревно в лесу, костяшками пальцев довольно энергично барабанил по краю длинного стола из сосновых досок. То ли разучивал какое-то музыкальное произведение, то ли выражал таким образом свое душевное состояние.
— Hallo, — я здеся! Леди, вы слышите — я тута! Совсем заждался.
— Правда? — Эма язвительно улыбнулась.
— Ей-бо! Чинарика не найдется, а? Сто лет не дымил.
— Потерпишь еще сто. И не базарь! Бандерша, вишь, шары выкатила… в два счета выметет…
— Ей-бо, дайте! Без затяжечки работа не идет.
— Работа? С каких пор?
— С таких!.. — Чарли с силой грохнул по столу, подпрыгнул кувшинчик с салфетками. — Предстоит лабать, девушки.
— Ну да? Нашел место?
— Завтра будем вкалывать. А поднатаскаться некогда… Договорились с братвой: жарим новые куски, — шик! Поты Танкист достал… Кое-что наш бас записал с кирпичей… Так что жарим во всю прыть. И рябчики делим.
— Все-таки ори поменьше, а? — поморщилась Эма, но без злости, и села рядышком; возле себя она пристроила, тяжело шлепнув, точно мешок камней, бог знает чем набитую сумку. — Что пьешь?
— Что поставите, леди… — Чарли прекратил барабанить по столу и театральным жестом раскинул руки по стене, свесив голову набок, — этакий оперный Иисус Христос; это у него здорово получалось… — Моя казна на этой неделе… пуста… А вот наш гиббон… Тедди…
— Почему это — гиббон? — возмутилась Дайва; она сидела на длинной лавке, подвернув под себя ноги в злосчастном чулке со спущенной петлей, и была явно не в духе; казалось, всем своим видом она показывала, что идет на скандал.
— И ваш любимый Танкист тоже сейчас подойдет…
— Чарли, перестань… — подняла палец Эма. — В конце концов, это наши друзья.
— Друзья?
— Чарли, не заводись!
— Хватит тебе, Эмка. А то будет кончерто грохот!
— Что, что? — сморщила носик Дайва. — Что насчет грохота?..
— Не понимаешь ты в музыке…
Он не успел договорить — в зал вошел Тедди, поднялся по темной крутой лестнице; он приветствовал компанию, воздев над головой обе руки, и пружинящим шагом приближался к столику; за ним, мешковатый и малость оробелый, плелся Танкист; карманы брюк подозрительно оттопыривались.
— Угощаю… — осклабился он, двумя руками одновременно выдирая из карманов по бутылке «одесского» портвейна.
Убрались живо, без лишних разговоров и шума — старушка уборщица даже удивилась — и вмиг (тут же рукой подать!) очутились в Саду молодежи; лавочки были пропитаны сыростью. Ночью, видимо, был дождь, туман и сейчас стлался над речкой, слева от которой, чуть не в поднебесье, как вечный страж или ангел-хранитель города, в легкой дымке высилась краснокирпичная замковая башня: где-то за рекой, за деревьями и холмами, был Эмин дом. Она так и подумала — и почему-то без раздражения: «Там мой дом», — когда Танкист, схватив с лавочки обе пустые бутылки (откупорил Тедди лихим ударом ладони), одну за другой швырнул их на противоположный берег; вместе с бряканьем сверкнул зеленоватый лучик…
— К Вирге! К Вирге! — завопила Дайва, у которой была страсть к перемене мест. — Тут недалеко! Недалеко! Я знаю!
— Все знаем, детка!.. — осадил ее Тедди. — Нашла чем хвалиться…
— А я и не хвалюсь!.. — Дайва оттопырила губу. — Я только говорю…
Идти было недалеко; Тедди небрежным жестом светского льва и завсегдатая этого дома толкнул массивную и необычайно скрипучую дверь — да так сильно, что та чуть не сорвалась с петель; кажется, проректор по хозчасти в этой хате был не из рачительных…
— Здесь ожидаю вас… — произнес Танкист тоном прокурора былых времен и притулился широченной спиной к шершавому тополиному стволу; его тусклый взгляд, быть может как некогда у Наполеона, лениво скользил по воздушным очертаниям костела святой Анны (хотя навряд ли Танкист мог знать, что Наполеон облюбовал себе этот костельчик); кажется, ему все надоело и он рад был вообще смыться. — Давайте в темпе…
Оказалось, Шалнайте уже несколько дней здесь не появлялась.
— Кажется, болеет… — равнодушно промямлила какая-то девица, ковылявшая мимо с целой охапкой кистей в руке. — А вообще… кто ее знает, эту Шалнайте!
В ее голосе прозвучало нечто вроде зависти, в том, с какой интонацией она произнесла это Шалнайте…
— Значит, не знаете? Как это так, ягодка?..
— А если я еще цветочек?
— Ответить все равно можно. Язык не отсохнет.
— Пожалуйста… Она ведь не живет здесь постоянно.
— А где же, позвольте узнать, она может быть сейчас?
— Например, у Дапкуса.
— У какого еще Дапкуса?
— Дапкуса не знаете? У профессора Дапкуса… нашего… ну… — Девица с большим подозрением и, как показалось Эме, свысока посмотрела на всех, особенно на Тедди, который дознавался как на экзамене: где, кто, как; возможно, эта нимфа с малярными кистями в руке даже в глубине души позавидовала удалому братству. — За «Нарутисом» третий двор. Там мастерская Дапкуса. Усек что-нибудь… а?
— Секу… А сколько ж тебе годков, милая?
— Тедди… — Дайва дернула его за рукав.
— Узнаешь там же. Чао!
И ушла, помахивая кистями и слегка поигрывая обтянутыми джинсовой тканью бедрами; «кодла» направилась к выходу.
— Пошли туда! Пошли скорее! — заторопилась Дайва; они потопали. Дайва с великой радостью схватила бы Тедди под ручку, не будь это допотопным пережитком — разгуливать под ручку. — Скорей!
— Пойдемте, пойдемте! — последовала за ними Эма, ускоряя шаг и поспешно отворачиваясь: в коридор вышел человек — друг папани, художник, он иногда заглядывал к ним, иногда иллюстрировал папане книгу; надо же…
Толкаясь и перебрасываясь колкими словечками, по узким улочкам времен барокко выбрались они снова на Горького, откуда с час назад ушли, и, к великому изумлению всей компании, без труда отыскали мастерскую Дапкуса — в узейшем, как новая калоша, дворике красного кирпича; Вирга была здесь. Она даже сама открыла дверь, за которой толпилась ее родная команда шобыэтта во главе с Эмой. Вирга была в ярко-алом бикини с желтой бархатной розой на груди (как будто с Таити) и вид имела скорее глупый, чем экзотический, хотя этот Дапкус, видимо, считал иначе; щеки у Вирги багровели. Похоже было, что ей вовсе не холодно.
— Вот молодцы! Вот молодцы! — затараторила она восторженно, будто целое утро только и мечтала о том, как к ней завалится славное общество шобыэтта. — Потрясно, братцы, ну, потрясно… Вызволили!.. Освободили!..
— От чего это, а, Лизи?
— От работы! От идиотского торчания на табурете! «Позирование»!
Больше она ничего не сказала, впорхнула в дом (сквозь щель промелькнул белый гипсовый конь и угол какой-то большой, убийственно красной картины) и сразу же выпрыгнула обратно, держа в руках свою одежду.
— Надоел мне этот старикан! Честное слово, сдурел! Чурбан! — фыркнула она. — Раз уж сыплет монету, так думает — все пожалста… Э, нет, папаша милый, не все и не пожалста… Дружба дружбой, а служба службой. Правда, Эма?.. Откуда чешете? — Она торопливо натягивала желтую юбку. — Постойте, я сейчас! — крикнула она, быстро надевая блузку и накидывая на плечи синий заграничный жакет с металлическими пуговицами. Расческа! Зеркальце! Плащ!
И опять кинулась туда, в дом, что-то с грохотом отодвинула, крикнула: «Ладно, ладно, ладно!» — видимо, этому Дапкусу; выскочила, вся сияя, с каким-то свертком, запихнутым в мешок «Лорд».
— Думаете, не знаю, что требуется? Закусь! Всегда пригодится. Да еще какая — скиландис[49]! Настоящий, деревенский, из Шакяй. Старик не обидится… не нищий!
— Ты, Лизи, тут как у себя дома…
— А что? — та повела плечами и старательно затолкала «Лорд» в другой мешок, холщовый, с польской надписью «Лен» и гремучими кольцами у горловины, такого Эма еще не видывала. — Я тружусь… Без тебя, Лизи, без тебя, Мона Лиза, то есть без меня, значит, говорит старец, никакая современная молодежная тема… особенно спортивная и, ясно, монументальная… невозможна… Про твою малютку Лизи, понял? — Вирга стрельнула в Танкиста озорным взглядом. — Слышишь, косолапый медведь киртимайский?
Лизи тут же поддела Танкиста под руку — она не боялась ветхозаветных пережитков.
Шумно всей гурьбой высыпали на улицу — из узкой калоши с красной изнанкой, где, отгороженная средневековыми стенами от городского шума, затаилась мастерская профессора Дапкуса; затем вынырнули на площадь с собором и колокольней и очутились на проспекте… знакомых не попалось ни единого. Куда-то они все сгинули, их знакомцы, а ведь у них могли заваляться кое-какие рябчики, — что ж, кто учился, кто вкалывал, а кто еще чем-нибудь занимался…
Таким образом, здесь, на «Бродвее», делать было нечего (без рябчиков всякая деятельность лишена смысла), и они, поглазев на витрины киосков, безнадежно повздыхав (как назло, продавались дефицитные сигареты «Каститис»), обозрев анонсы кинотеатров и прочую рекламу (вроде бы ничего клевого, в смысле — сто́ящего), ощутили острое желание куда-нибудь зайти — хотя бы и к Дайве… которая, к тому, и жила поблизости. «Что вы! Что вы! — как умела, отбивалась та, давая понять, что не смеет показываться на глаза своему родителю, так что идти к ней сегодня просто небезопасно. — Братцы, ну никак, честное слово», — и она состроила такое покаянное лицо, что и слепой мог видеть, как ей больно, обидно; пришлось дивную идею отставить.
Тодди вспомнил: где-то он приметил бутылки.
— Бутылки? — ахнула Лизи.
— Да, королева красоты. Только пустые.
— И где же? — деловито осведомился Танкист.
Все дружно двинулись за Тедди — куда-то в леса Антакальниса, к садам, к замусоренному оврагу, где среди выкинутого из тех же садов хлама поблескивали там и сям бутылки из-под вина и пива, залепленные грязью; их набралось достаточно.
— Примут ли? — усомнилась Эма; дома ей казалось, что мыть бутылки, а тем более волочь их на пункт приема стеклотары (крохоборствовать!) — занятие плебейское.
— А речка на что, дорогая? Матушка Нерис? — Идея показалась Дайве увлекательной. — Засучим рукава — и за работку! Эт-то мы можем! А ну-ка, ну-ка!
Лизи исподтишка посмотрела на свои лакированные ноготки; Танкист скривился; Чарли присвистнул, особенным манером сунув пальцы в рот; все было яснее ясного…
И снова катили в троллейбусе (у Эмы обнаружилась пачка билетов), тащились пешком, волокли эти грязные бутылки, точно драгоценную добычу, погрузив их в сумки поверх пудрениц, лака для ногтей, сигарет «Таллин», спичек, карт, маникюрных щипчиков, надушенных (у Вирги, ясно, «Диором») носовых платочков, поверх записных книжек с адресами и телефонами, конвертов с индексами самых разных городов и в/ч, где отбывали службу их знакомые, и поверх прочего добра, какое только можно обнаружить в сумках девятнадцатилетних особ; ребята, поминутно сменяясь и остервенело дуя на ладони, поднатужившись, волокли обмотанный алюминиевой проволокой картонный ящик, набитый брякающими бутылками; ящик был от венгерских консервированных перцев, отменная тара.
Где-то за вторым пляжем (троллейбус туда уже не ходил, не сезон) их атаковала целая свора собак, пришлось отбиваться; бутылки они мыли не меньше часа. И не просто водой, ибо некоторые, например от постного масла, не так-то легко отмывались, — их драили песком, пучками травы, даже мхом и сосновыми иглами, а потом еще какой-то известью, которая щипала в носу и вызывала рвоту. Ну, наконец-то, ну, братцы, копчено! Тедди еще раз старательно пересчитал бутылки.
— Итак, порядок! Двинули! — торжественно огласил он.
А потом толклись в полупустом магазине, доказывали пожилой продавщице, что бутылки все до единой целые, чистые (Вирга с грустью глянула на свои облупленные ногти) и что возвращаются они с субботника в деревне и приходится продавать бутылки, оставшиеся от прощальной пирушки, которую им закатил председатель колхоза, так что как раз на билеты. Какие билеты? Куда? Кому в Каунас, рупь двенадцать, кому в Вевис, а кому… Да неважно, считайте скорее!.. А лучше красного…
— И сигареты! — встрепенулась Дайва. — С фильтром.
Они пили, устроившись под большим кустом, посылали бутылки по кругу; пили, запрокинув головы, внушая себе, что питье необычайно вкусно, и, ни на секунду не умолкая, все разом молотили языками, кого-то расхваливали, кого-то яростно поносили, однако один другого не слушали и каждый старался перекричать остальных; из-за чего-то ссорились, мирились, чему-то до упаду смеялись, отчего-то плакали (Танкисту вдруг стало жаль свою старушку бабушку), опять прикладывались к бутылке, пили на брудершафт, целовались; в ход пошло мясо, то самое, шакяйское, и, разумеется, все нахваливали Виргу, что позаботилась увести у Дапкуса этот замечательный скиландис. Скоро трудно было разобрать, что кто говорит, орет, спрашивает, даже какое время суток или который час — утро ли, вечер, сегодняшний или завтрашний, и почему все так суетятся и вопят в темноте, на безлюдном отсыревшем пляже, под студеным ветром.
Этот ветер их и отрезвил — оглушенных и рухнувших как попало под старой, многое повидавшей на своем веку сосной, близ которой лепетал вечно живой родничок; поднял и вынудил идти, что-то бормоча и спотыкаясь, под лай все тех же, а то и других, еще более злющих, собак; бледные, мрачные как тени, они двинулись к мосту…
«Я парю, парю, парю!.. — твердила Эма самой себе мысленно. — Ты, папа, там, где тепло, а я… Ты, папа, там, где вечно тепло, а твоя дочь… твоя разъединственная Глуосните… которая тебя терпеть не может и с которой ты… тогда так… обошелся… брызгая слюной, вне себя… возвратясь из района… помнишь? Так знай: и я рождена для полета… Не веришь?.. Поверишь! Ты, отеец, еще поверишь… назло тебе… к твоему ужасу… к ужасу вас обоих… твоему и мамани… вы еще обо мне…»
Когда, вконец измотанные, они добрались до первых Жирмунских фонарей и спросили у запоздалого прохожего время (тот сперва попятился и лишь после поднес к глазам руку), выяснилось, что еще нет и часу ночи, — у Тедди и мелькнула эта ослепительная мысль — как озарение, как выход: в «Ручеек». В эту пошлую дыру…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Со мной еще так не бывало: все стоит перед глазами. И не листы, исписанные четким, разборчивым, крупным почерком с аккуратными, точно по линейке отчеркнутыми, полями, и не бурые, порядком выцветшие чернила, непривычный цвет, я такого нигде и никогда не видела (обычно он пользуется синими), и даже не медные, старого типа, откуда-то привезенные скрепки, которыми были сцеплены отвердевшие от долгого лежания листки с острыми, как бритва, краями (уж не та ли, «министерская», о которой он как-то упомянул, — такую бумагу делали сразу же после войны), нет, — я вижу их. Вижу Оне из Любаваса, свою землячку, соседку, встревоженную, шумно ловящую ноздрями воздух, охваченную горячим, не подвластным ее рассудку возбуждением; она шепчет налитыми, пухлыми, блестящими в темноте губами: «…Слишком молод… ты, Ауримас, еще совсем молоденький, чтобы о таких вещах…» — и сразу стягивает через голову свою полосатую вязаную кофту (видела на ней такую), и еще проворнее скидывает юбку, которая мятым жгутом сползает по ее крупным и крепким ногам; и его, Ауримаса, в расстегнутой рубахе Начаса, жадно хватающего ее за плечи, — уже здоров, отлежался, думать забыл о болях в плече, в руке, прижимает к себе ее голые плечи; слетает белая лямка сорочки, отшвыривается в угол лифчик, и Ауримас — наконец, наконец! — всем лицом зарывается в эту теплую, парную, пышную грудь Оне Начене, Райнихи… «Слишком молод? Ты так считаешь?»
И сейчас я вижу их: лежу с закрытыми глазами на своем зеленом диванчике в зеленой комнате, руки привычным движением тянутся к флакончику с таблетками — этими сиреневыми; знаете, от них все как-то кажется проще и легче; доктор знает, что ей нужно, это же светило, доктор Райла; и вижу их. И даже не пойму, читала я это или нет, — в этих хрустких листках с острыми, как бритва, краями, листках из пресловутой «министерской» бумаги; но это совершенно неважно; важно, что я вижу. То, что произошло, — возможно, через неделю, через две, пока… Пока что-то творилось, то, чего я вовсе не желаю знать, я, та самая учительница и комсомолка; это уже за пределами моей памяти, по ту сторону моего понимания — не умещается, прямо-таки не лезет в то мое представление о НЕМ, каким я воспринимала его тогда, явившимся из грез, прочитанных книг, комсомольских диспутов, юного ожидания, трепета — в жизнь с бандитскими выстрелами, с кровью, зловонием землянок… Но знаю: это творилось, и я не могла не чувствовать, что оно творилось.
Все, что происходило со мной до того (даже Винцукас), вдруг утратило всякое значение…
Полагаю, и для него тоже — оглушенного ласками Райнихи, ни о чем больше не думающего, все на свете позабывшего, и прежде всего — дурацкие и мудрые поучения старого холостяка Фульгентаса и даже свои собственные здравомыслящие рассуждения; что-то сразу резко изменилось…
«Что-то перевернулось, — помню, читала я у него в кабинете. — Возможно, перевернулось все в тот день, когда она стала для него той Оне, которая на всю жизнь осталась в его сердце, а может, еще раньше — когда он, и не видя (как я сейчас), увидел этого Райниса, когда услышал, как тот «орошает» дверь землянки, затем стучит в окно, и когда почувствовал себя чужим, никому не нужным, никому, даже себе самому, хоть вой, хоть стенку грызи; так не могло продолжаться дальше…
Его смутная догадка: Оне хочет придержать его для себя — теперь, когда тот раз стал повторяться изо дня в день; — превратилась в уверенность, в реальность, он засыпал и просыпался с одной лишь мыслью: прекратить. Он не думал: что дальше, ибо вся его судьба сейчас вертелась по замкнутому кругу — Оне, землянка, он; все было заключено в этих стенах, где он с относительным комфортом — подумать только! — был узником и время измерял не иначе как промежутками между ее приходом и уходом, этими посещениями, которые, кстати, учащались и становились все продолжительней, точно наверху у нее не было никаких дел: можно было даже подумать, что живет она не там, в доме, а именно в этой землянке; наверное, так оно и было… Ну, а раз так… то тем более надо прекратить, одним ударом оборвать эту затяжную осеннюю спячку, эту сказку для взрослых, скорее жестокую, чем лиричную или поучительную, и слушать которую ты вынужден насильно, ибо в ней живешь — ты поселен в ней и знаешь ее наизусть, всю, кроме конца. Ведь конец — это он прекрасно сознавал — зависит не от тебя, а от других — от тех, кто за дверью, и прежде всего от Оне, которая вздумала придержать его для себя; тоже нашла сокровище!..
Не знаю, почему я так думал: хочет придержать для себя, во мне еще, быть может, живы были поучения Фульгентаса, а может, я все еще бредил, хотя мне и казалось, что это уже позади; может, продолжал жить той, другой сказкой, которая началась в лесу, среди можжевельника; надо прекратить! Я с такой тоской почувствовал, что все надо прекратить — и как можно скорее! — что целую ночь напролет (впрочем, то мог быть и день) проворочался на досках, не чуя никакой боли, а лишь острую, берущую за горло тоску; прекратить! Бежать, пока не поздно, пока еще сознаю опасность, пока мое сознание не размякло от ее ласк, словечек, вздохов, пока я знаю, что все может сложиться иначе. И должно сложиться, во что бы то ни стало; сбегу! Я уже окреп, знаю, уже могу. Но знаю, мне будут мешать, будут плакать, удерживать; а я уйду, я грубо отшвырну ее в сторону и уйду, ничуть не думая о том, что ожидает меня за дверью, пусть хоть сам Райнис. Хотя бы и он — тогда наконец прояснится и это. Ведь я, честно говоря, побаивался, как бы она не помирилась с Райнисом (они были в ссоре, я в этом не сомневался, видя, как она себя ведет), а вдруг уже…
Вдруг уже сошлись опять, помирились, все забыто, совет да любовь, почем я знаю; говорят, в семейной жизни такое сплошь да рядом, — так думал я и ждал, дождаться не мог, когда она придет; план у меня уже созрел. Надо немножечко силы, совсем немного — столько, сколько у меня есть, хотя бы столько: успеть просунуть в дверь ногу и не дать двери захлопнуться до конца, только и всего; не дам захлопнуться, силы хватит. О, вы еще увидите, как я силен, я, Глуоснис из Каунаса, комсомолец-внешкор, угодивший в такую идиотскую ловушку. А вот возьму и не дам ей уйти, совсем — пусть побудет в моей шкуре, — пока сама не начнет просить-умолять… ведь ей нельзя все время торчать в этой землянке… И мне тоже… Тогда, стало быть, мы оба… наконец решимся…
То, что должно было следовать за этим, тонуло в невразумительной серой дымке, ясно было одно: я буду свободен, вернусь к своим и смогу обо всем поговорить с Шачкусом, выясню, почему меня бросили, — вертелось в моем пылающем мозгу; но, кажется, главное было все же не это. Главное все же было: что дальше? Как мне жить дальше, как смотреть людям в глаза после того, как столько времени отсиживался и отлеживался здесь, вдали от людей, от дневного света; где и когда я допустил ошибку? Как объясню все это другим? Какими словами? Не мог сообщить? В наше-то время, когда достаточно сунуть кому-нибудь записку… или передать на словах…
Передать? Через кого? Через Оне? Да ведь не раз и не два…
В подобных размышлениях прошел еще один день и еще одна тревожная ночь — я валялся на досках «в полном снаряжении» — в брюках и сапогах, в накинутом на плечи пиджаке: готовился! Я был готов вскочить со своей жесткой лежанки и выпрыгнуть наружу, едва лишь она откроет дверь, а покамест надо караулить ее приход, как можно раньше уловить звук шагов, осторожную возню с замком, ее прерывистое дыхание — когда будет отпирать и когда снова, уже изнутри, запирать дверь; не могу я больше притворяться спящим! Как прежде, когда я не знал, какими словами ее встретить (то, что произносила она, порой казалось мне жутким и заимствованным из сновидения)… или когда в самом деле спал; просыпался от тепла под боком. И от ее ласк, поцелуев, этого сладостного яда, которому не мог противиться, — они притупляли боль, согревали сердце, пробуждали надежду, словно нашептывая: ты жив, жив, жив, верь в свою судьбу, в свою счастливую звезду, она горит, она светит над нашей землянкой; нынче, кажется, она потускнела…
Настал третий день — третий без Оне. Когда я, очнувшись от недолгого, но поразительно глубокого, крепкого сна, ощутил голод (и надо же было так бессовестно уснуть именно в эту ночь!), протянул руку и нашарил на лавке ссохшуюся в камень краюшку хлеба, сжевал ее и, словно в некоем предчувствии, толкнул дверь землянки — та тотчас же распахнулась: самым обычным образом, словно никогда ее никто не запирал, я очутился на воздухе! Я даже обомлел от потрясения — я на воздухе, люди добрые! — и даже не подумал, как могло случиться, что она оставила дверь незапертой, и ключ не сразу заметил — почему тот торчал в скважине, а дверь не заперта; вокруг было светлым-светло. Он прямо-таки слепил меня, подавляя все прочие впечатления, — этот с силой рухнувший на меня холодный утренний свет, белый, резкий, безжалостно жгучий…
(Лишь позже, уже ступая по двору — просторному, с облетевшей сиренью и колодцем за ней — и чувствуя под ногами непривычное, хрусткое шуршание травы, я сообразил, что это сверкал иней…)
«Сколько же проторчал я здесь? Не видя солнца…» — думал я, направляясь по дорожке из тротуарных плиток к крыльцу дома, возникшего передо мной, точно сказочный замок, из тумана; сам удивился, как легко, не чувствуя собственного тела, я иду; взялся за скобу двери. И когда та, в точности как дверь моей темницы, подалась без малейшего с моей стороны усилия, я почуял недоброе. Понял, что здесь что-то случилось — за те дни, что я не видел Оне, — и, быть может, именно тогда, когда я, точно после трудов праведных, спал сладким сном — пусть одетый, в сапогах и пиджаке; надо было что-то предпринять. Немедленно. И прежде всего осмотреть все в доме. Я почувствовал, даже знал наверняка, что и вторая дверь окажется незапертой — та самая, ведущая в сени и в жилые комнаты; я суматошно ввалился в дом…
Я очутился в огромной комнате с широкими окнами — настолько просторной, что в ней вполне можно было бы играть в настольный теннис (почему-то у меня промелькнула именно эта мысль — о пинг-понге), где царил невообразимый беспорядок — можно было подумать, что в эти широченные окна несколько суток кряду задувал бешеный ураган, — однако окна были закрыты и все целы. Зато на полу валялись старые, пожелтевшие газеты, разные бумажки, обрывки, тряпки, и при каждом моем шаге или даже вздохе взлетали и плавно ложились на пол какие-то перья, пушинки…
И даже сквозь весь этот беспорядок, красноречиво свидетельствующий о том, что случилось что-то нехорошее, нетрудно было догадаться, что комната была уютная и чистая; это было заметно хотя бы по добротным шелковым занавескам на окнах, по картинам на желтых оштукатуренных стенах и по массивному, с обилием дверок и створок (все они были настежь распахнуты) красноватому комоду, по широкому, тоже красному, покупному ковру на полу, а главное — по растущей в огромной деревянной кадке (насколько мне было известно, в таких здесь купали детей) раскидистой, пышной и высоченной, под самый потолок, пальме; таких мне еще не доводилось видеть. Безотчетно шагнул к пальме и, словно только того и ожидая или рассчитывая именно на эту находку, наклонился, подобрал небольшой картонный квадратик. Фотография? Да, то была фотокарточка, Онина фотокарточка, застрявшая за кадкой, и оставалось только удивляться, как быстро я приметил ее; это было удивительно, И, словно застигнутый врасплох, я стоял в разоренной комнате и, держа двумя пальцами фотоснимок, разглядывал его. Оне была в белой блузке, которая лишь подчеркивала ее цветущую деревенскую женственность, черные волосы аккуратно обрамляли лицо, оттеняли серьги в ушах, а глаза словно чуть потускнели от неведомой мне печали, но казалось, она сама себя пыталась подбодрить…
Я уловил звук шагов и, продолжая глядеть на снимок, резко обернулся: в дверях, тонкий как свеча (и как свеча бледный), стоял мальчуган лет десяти.
— Это… вы?.. — Не на шутку испугавшись, он живыми зайчиными глазками поглядывал на страшного (а я был таким), заросшего рыжей щетиной человека, который с дурацки разинутым ртом торчал в чужой комнате, — на меня; я безотчетным движением спрятал фотокарточку в карман. — А мамка мне говорила… как только вас увижу…
— Мамка? — воскликнул я громко. — Где она?!
— А вы… не знаете? Забрали…
— Маму?
— Ага… — Мальчуган переступил с ноги на ногу. — Вчера вечером…
«А кто… ее забрал?» — чуть было не сорвалось с языка, но я вовремя сообразил, как это глупо, — будто сам не знаю!
— Шачкус? — спросил я как можно спокойнее. — Знаешь такого?
— Шачкуса?.. Знаю. Длинный такой… Он был без автомата, а другие…
— И куда же ее? — Спрашивать такое у ребенка вроде не полагалось, но я не очень-то соображал, что говорю. В голове у меня зыбилась какая-то серебристо-сизая пелена, в ушах отдавалась зловещая тишина опустелого дома, и было такое чувство, будто все происходит не наяву, а в какой-то читаной книге. — Знаешь?
— Наверное, в Любавас…
— Почему?
— А куда больше… всех туда… На зеленой машине приезжали…
— А ты?.. Что они тебе сказали?
— Мне? — Мальчишка по-взрослому пожал плечами. — Я сбежал…
— Как так — сбежал?
— Очень просто — через окно… Потому что мамка говорила…
— И куда же ты…
— Далеко… — Мальчуган прищурился, как-то слишком уж хитро для своего возраста, и попятился. — Далеко…
— А сейчас… почему ты здесь?
— Почему? — мальчишка удивился. — Как это, — почему? — Он недоверчиво поглядел на меня. — Да ведь это дом… Ведь это наш дом…
Вдруг он метнулся к стенке, наклонился, поднял половицу и что-то достал — какой-то предмет, который, видимо, там прятал; блеснула сталь…
— Дитятко!.. — воскликнул я, окончательно стряхивая с себя сонное оцепенение. — Это что такое?! — В руках у мальчишки, вне всякого сомнения, был пистолет. — Положи на место! Слышишь?! И быстро!..
— Но… мамка сказала… — он исподлобья глянул на меня. — Если что… если лесные…
— Ну да… Если придется защищаться…
— Лесные?
— Тебе? Защищаться?
— Да нет… Вам! Мамка сказала: отнеси и отдай…
— Мне? Твоя мама велела?
— Да, вам.
Меня точно ошпарили — лицо пылало.
— Мамка говорила: вы добрый… и еще… ну… А я… ждал, пока вы…
— Боялся?
— Нет… Не боялся… Думаете, я ничего не понимаю?.. Я же видел, как она… моя мамка… как идти в землянку… перед зеркалом… словно в костел…
Он снова — и довольно злобно — стрельнул в меня своими быстрыми зайчиными глазенками, бухнул пистолет на пол (к счастью, не выстрелил) и кинулся к двери; меня он все же боялся. А может, и ненавидел.
И я себя ненавидел; даже не заглянув в остальные комнаты, справа и слева от коридора, поднял с пола свой «вальтер» и, зачем-то пятясь, вышел на крыльцо; потом, даже не глянув больше на этот огромный, с широкими окнами, одиноко и таинственно проступающий в сумраке индевеющего утра дом, не чувствуя холода, по дорожке из цементных плиток побрел, не оборачиваясь, к дороге, серой веревочкой убегающей по лугам… Мне все чудилось, что откуда-то — из-за угла ли дома, из сиреневых ли кустов — за мной следят укоризненные или даже злые, что-то в себе затаившие глаза этого белокурого мальчугана… Того, который один и знал, что говорила ему мать об этом поспешно уходящем отсюда, всклокоченном, неопрятном человеке… что она говорила Ализасу еще…»
А фотокарточка? Онина фотокарточка? Она попалась мне на глаза позднее, когда из невзрачного многоквартирного дома, какие начали возводиться в пятидесятые годы, мы переезжали в наш маленький особнячок (благодарить за это мы должны были одного Даубараса, к тому же сам по себе переезд сводился лишь к перетаскиванию вещичек через дорогу); я подобрала ее с пола, — видимо, вывалилась эта мелкая карточка из старого альбома с фотографиями Глуосниса «холостяцкого» периода; отмстила про себя: раньше он мне такой не показывал. А может, мне просто не было до нее дела раньше, ибо переезжали мы уже после моего возвращения из Москвы, куда я была направлена на стажировку; я наклонилась за фотокарточкой и вдруг увидела его, Ализаса, это он глядел на меня глазами деревенской женщины в серьгах и белой блузке; но, может, то был вовсе по он? Нет, я знала: Ализас, спустя лет пятнадцать, именно таким прямым, подбадривающим себя самого взглядом (слова Ауримаса) смотрел на меня, когда я, проходя свою стажировку, однажды оказалась на встрече московских литовцев (когда-то устраивались подобные сборища) в постпредстве — и даже не в постпредстве (это было в другой раз), а в осенне-желтом загородном парке, куда мы прибыли на автобусах; стоял сентябрь, сухой и прозрачный, листья шуршали под ногами, вокруг большого пруда, заросшего сухим камышом, прогуливались под руку пары; я вместе с другими земляками, большей частью аспирантами и студентами, вертелась у длинного, сбитого из досок стола (стульев не было вовсе, а стол именовался шведским) на лужайке недалеко от автобусов, держа в одной руке бутерброд, в другой стопку, куда кто-то наливал вино; в тот день у меня было удивительно легко на душе, и я смеялась, сама не знаю чему; неужели это была насмешка судьбы? Об этом я не подозревала, хотя и знала за своей судьбой такое свойство — выкинуть шуточку, когда совсем того не ожидаешь; могла ли я помышлять о чем-нибудь таком? Уезжала я из Вильнюса, весьма сдержанно простившись дома, какая-то кошка перебежала дорогу, и, возможно, эта кошка была моей студенткой; правда, чемодан был корректно донесен до вагона и водворен в купе; по-моему, примерно так же, исключительно из чувства долга, меня чмокнули в щеку и тоже водворили в купе (вагон, разумеется, был мягкий, спальный); звонил всего раза два. Что ж, рассуждала я, пусть, надо передохнуть. Нам надо отдохнуть друг от друга (даже психологи советуют это), пожить врозь, обдумать все; стажировка для этого как нельзя больше подходит. И если после этого ничего не изменится (что для тебя изменится, Мартушка!), будет хоть та польза, что можно оторваться «от домашней рутины», от удушливой инерции быта (эх, зачем я родилась женщиной!), от оглупляющей занудной повседневности; только Эму было жаль оставлять. Но, собственно, не бросаю же я ее одну — одета, обута, накормлена, при отце; а чтобы тому не пришлось слишком разрываться между службой и домом, имелась тетя Аля, пенсионерка, представительница дефицитной в наше время профессии домработниц; говорили, ее отбивные нахваливал сам Кипрас Потраускас… Да и пани Виктория из квартиры этажом ниже нашей, именно пани, с манерами и выговором прошлых лет, с массивным медальоном в виде виноградной кисти на шее и пышными крашеными рыжими волосами; до войны она проживала в Москве и работала в театре, не то продавала билеты, не то указывала места, после того как лишилась мужа-академика, профессора, доктора философских наук… Теперь у нее трое на редкость некрасивых взрослых дочерей; уж она-то не соблазнит Ауримаса; она не забывает время от времени написать: все в порядке, любушка, все у тебя дома как полагается…
А коль скоро все в порядке…
Я хохотала возле этого уставленного тарелками и бутылками дощатого стола, сама не сознавая причины своего веселья, хохотала, как молоденькая (стукнуло тридцать пять), как здоровехонькая (а уже побывала в больнице), кому-то что-то говорила, кому-то незаметно подмигивала, держа в одной руке свой любимый бутерброд с красной икрой и ничуть не обращая внимания на соседа, пытающегося налить вина в стопку, которую я сжимала в другой руке; здесь, на этом осеннем пикнике, было так хорошо… Мне даже начало казаться, что если бы меня сейчас увидел Ауримас, он был бы вынужден признать, что его Марта достойна чего-то большего, нежели ей сулит жизнь, и уж во всяком случае большего, чем у нее есть; мужчины, даже совсем юные, иногда бросают на нее неравнодушные взгляды… Ведь у нее такая хорошая улыбка, мягкий, сразу всех располагающий к ней голос и, говорят, глаза… такие глаза…
Тут я заметила, что рука наливавшего мне вино — не то студента, не то аспиранта — застыла, не успев наклонить бутылку:
«Простите… вы…»
На меня смотрели глаза, которые я потом узнала на фотографии (при переезде в новый дом) — той самой, из холостяцкого альбома Ауримаса, которая мне снова напомнила мою стажировку в Москве; возле меня стоял Ализас. Да, он, хотя совсем взрослый и даже малость увядший, все такой же белокурый, скуластый, с живыми, самого себя подбадривающими (это Ауримас ловко подметил) глазами, — Ализас из третьего «А». Я поняла это сразу, и прежде всего — по голосу, когда он заговорил; и даже трудно сейчас сказать, что это было — вопрос или возглас удивления; возможно, и то, и другое. И тот же не побежденный годами испуг в быстрых глазах, страх затравленного зверька, который он всячески — как и встарь — пытается скрыть, но которого я, учительница, не могу не заметить.
«Вы… учительница Купстайте?..»
Он сказал «учительница», произнес то слово, которое только что мелькнуло у меня в мыслях, — и это тоже подействовало на меня определенным образом; невзирая на свои тридцать пять, солидный опыт и прочее, я в ту пору еще была молода. И совершенно молодым голосом ответила:
«Как видишь!.. Нашла-таки тебя…»
Я в самом деле чувствовала себя той, восемнадцатилетней «училкой», наконец-то настигшей своего недисциплинированного, удравшего из класса ученика-неслуха, которого, я знала, преследует отец (ну, отчим) и которому жилось, само собой, несладко; сегодня, спустя столько лет, я даже знаю, как именно ему жилось.
Но тогда, на осеннем пикнике, я вспоминала лишь, как искала его однажды дома, приезжала вместе с Шачкусом, а мать моего ученика, Начене, стояла руки в боки и дерзила: «Не знаю, я за ним не бегаю…» Больше мне ничего не приходило в голову. Но и смеяться расхотелось — ведь я искала тогда не одного лишь своего воспитанника Ализаса, но еще и того, корреспондента, «из Каунаса», и знала, кого больше; да только как найти?
Как, где, если не нашел сам Шачкус, а уж он-то весь уезд знал как свои пять пальцев, а уж старался как — сам за уполномоченных таскал мироедам агитлистки, не гнушался обществом кулачья, подсаживался к столу: посидеть, покалякать, то да се обсудить, хотя от спиртного, понятно, отказывался; Шачкус был тверд. И упрям, как вол, готовый лбом прошибить стенку хлева; да что толку, откуда им знать? Все, с кем только ни беседовал Шачкус, молчали, как воды в рот набрали, или удивленно пожимали плечами: откуда им знать? Студент? От газеты? Появлялся или нет? Мало ли кто тут шляется… На дорогах много всяких… Грабят, пугают, ночью страшно и глаза сомкнуть… А своих, любавских, не слышно? Таких не знаем, нет-нет, и слышать не слышали, наши все или по домам сидят или… Или сам знаешь где — кого фрицы поганые поугоняли рыть окопы, так что те и не вернулись, а кто вернулся… тебе ль не знать… Выпей, что ли, начальничек, у меня чи-истенькая… не для чужих, для себя гоню… из последней ржицы… и, может, в последний разик. А коли не пьешь, коли ты, начальник, такой кремень, так вот у нас барышня, учительница наша… У меня детки все в школу записаны, а то как же — ученье свет. Да… в паше время не знаешь, что с тобой будет завтра…
Тут я спохватилась, что слишком уж замечталась и слишком далеко меня отнесло, пришлось вернуться в свои тридцать пять…
«От меня не убежишь…» — я улыбнулась Ализасу.
И зачем я это сказала? Кому? Озорному ученику или нынешнему студенту, а возможно, и аспиранту?
(Да, аспиранту — узнала я немного погодя, когда, радуясь тому, что встретила в целой толпе земляков одного знакомого, прогулялась с ним вокруг пруда. Он работал над диссертацией с диковинным названием «Научные основы ухода за папирусами» и корпел в библиотеках, хоть и заранее уверенный, что ничего путного по этой теме там не найдет; о жизни своей он говорил неохотно.)
«Я и не думаю никуда бежать… — ответил он и тоже улыбнулся и погладил рукой подбородок. — Набегался, хватит…»
«Ты о школе? Помню, помню…»
«Это еще полбеды. Настоящая беготня пошла потом…»
«Что-то я слышала…»
«Что-то?.. — Он прищурился. — Да… поймали и меня… попался зайчик…»
«Потом ты где-то… вместе с матерью…»
«Будто не знаете! — Ализас снова улыбнулся, но как бы через силу, а потом взглянул на меня в упор. — Ничего не где-то, а у братьев зырян… у коми… Уголь копал…»
«Ты?»
«Я… и другие тоже… Даже слабые копали, а я… спортсмен…»
«Ты… занимался спортом?»
Он махнул рукой, вернее — одними пальцами, которые чуть отнял от заостренного подбородка, красного от тщательного бритья или от привычки потирать ладонью; может, недавно он носил бороду (это было модно) и поглаживал это место по привычке, да мало ли отчего.
«Некому было стоять на воротах, ну и… Спортсменам можно было хоть ездить свободно… Но вам это не должно быть интересно…»
«Почему? О своих учениках… всегда… А мать?»
Я задала этот вопрос как бы между прочим, но голос мой прозвучал странно. Она все еще интриговала меня, эта Начене, как ни старалась я ее забыть — забыть напрочь, будто ее и не было на свете; я даже слышать о ней не желала, а тем более — говорить о ней с Ауримасом, который при одном лишь упоминании ее имени вспыхивал как спичка. Но здесь не было Ауримаса.
Он ответил не сразу.
«Да ведь мы с ней… редко…»
«С родной матерью?»
«А разве так не бывает? Не повезло ей в жизни…»
«Почему же?» — чуть не сорвалось с языка, но я вовремя удержалась, и правильно сделала… Будто не знаю. Уже одно то, что ее муженек — бандит…
Помолчали. Но молчание было напряженное, фальшивое, даже неприязненное.
«Я рада, что хоть для тебя все обошлось… — сказала я и чокнулась с ним. — Так, наверное, и должно было случиться…»
«Ну, случиться могло по-всякому…»
«По-всякому?»
«Как всегда и везде… — Он снова улыбнулся, я заметила, как блеснули металлические коронки. — Если не ухватишься обеими руками… не вцепишься в жизнь… тут же выходишь из игры…»
«Ты и сейчас так настроен?»
«И сейчас… — кивнул он. — Давайте выпьем…»
Мы выпили, и я почувствовала себя свободней. Мы оставили наши стопки на дощатом столе, еще погуляли у пруда.
Желтые кленовые листья, шуршащие под ногами, скупые, нежаркие солнечные лучи сквозь поредевшие кленовые ветви, серенькая рябь на поверхности заглохшего тенистого пруда — все это живо напомнило мне осень в Сувалкии, такую, с какой я рассталась много лет назад. В мыслях своих я никогда и не покидала тех мест.
«Ну, сейчас, по-моему, тебе неплохо…» — говорила я, прогуливаясь рядом с ним, таким большим и сильным, и ничуть не чувствуя себя старой, а ведь шла рядом со своим воспитанником.
А он рассказывал, хоть и не совсем связно, как жилось у коми, какая там стояла стужа, как сыро было в шахтах и какие глубокие штреки; а потом, опять-таки ни словом не обмолвившись о своей матери (а ведь они там были вместе), — как ему повезло с профессорами: сначала в Горьком, а затем и в Москве, где он как будто добивает свою тему («Еще капля-две — и полное ведро»); а дальше вольному воля — дальше плыть или причалить…
«Я уверена, что дальше будет еще лучше… Особенно когда защитишься…»
«Пожалуй», — согласился он.
«Но почему ты не в Литве?»
Он погладил подбородок.
«Почему-то не тянет… Пока…»
«Не тянет?»
«Может, не то слово… Вернее, кому я там нужен?..»
«Все-таки родина… своя земля…»
«Родина? Да, конечно… — он кивнул. — Своя земля… Что там сейчас?»
«Где это?»
«В Любавасе, где мы жили».
«Не знаю… — я пожала плечами; мне не нравилось, как он разговаривает со мной, хотя спорщик он был всегда. — Давным-давно не была там… Только не надо озлобляться, Ализас, все это было так давно…»
«Озлобляться? — Он на миг остановился и посмотрел на меня подбадривающим себя же взглядом (унаследовал от матери). — Уж против вас, во всяком случае, я никогда… Я даже вспоминал вас иногда…»
«Меня?»
«Да. Что-то ведь надо вспоминать… Вдали от родины…»
«Не сердись, не надо…»
«Я понимаю. Это было неизбежно. Ведь отчим… Да попробуйте втолковать это моей матери…»
Грянула музыка — там, у автобусов; мы направились к танцплощадке. Но недолго там оставались, первым же автобусом засветло возвратились в город. Простились у метро «Профсоюзная», где я жила. Он хотел проводить до самого общежития, но я сказала, что должна еще зайти в магазин, и подала ему руку. Если захочет — позвонит.
А после узнала: ему двадцать шесть лет (господи, уже?), был женат на дочери начальника шахты, они вместе закончили институт и переехали в Москву, потом она ушла к народному артисту (надоело варить кашу в общежитии и стирать аспирантские рубашки), а мать еще раньше сошлась с каким-то снабженцем и куда-то уехала с ним, но поговаривали, будто встречали ее в Вильнюсе, и вовсе не с этим снабженцем; вот почему в Литву (по крайней мере сейчас) его не очень-то тянет… Но и оставаться в Москве, где его бывшая жена (по имени, кажется, Лариса), — тоже не самая лучезарная перспектива… к тому же его дальнейшие интересы…
«А жениться? — спросила я; мы ехали в такси из какого-то театра по залитой светом фонарей Большой Калужской. — Снова жениться и заново устроиться…»
«Жениться? Опять? — Ализас растерялся. — Едва ли…»
«Почему же?»
«Потому что это не выход… Есть раны, которые…»
Машина затормозила, стала. Надо было выходить. Я попыталась расплатиться.
«Нет, нет! — он затряс головой. — Не могу оставаться в долгу перед вами…»
«Как это?»
«Мать моя это знает лучше…»
Я ничего не сказала, хотя было что сказать, — простилась и ушла, а неделю спустя, когда срок моей стажировки истек, уехала в Вильнюс. На вокзале меня встретил Ауримас. Будто в чем-то провинилась — я подбежала к нему первая и трижды поцеловала в жесткую, небритую щеку…
…Потом опять был мальчик — во сие, очень похожий на Ализаса, не он, а кто-то другой, хотя тоже голубоглазый и белокурый; и была девочка, выбегающая из лужи, она взяла мальчика за руку; неужели Эма? Возможно, потому что Эма все чаще приходила из школы намного позже, чем полагалось, и все реже приносила хорошие оценки; пани Виктория («Да зовите меня Виктей, так удобнее») говорила, будто видела ее в цирке, когда полагалось быть в школе; может, культпоход? И еще пани Виктория считает, что все мужчины склонны к полигамии, — а товарищ Глуоснис человек искусства, за таким нужен глаз да глаз; вот с недельку назад гуляла она по Антакальнису, по оврагам («За подснежниками, знаете…»), и видела товарища Глуосниса с какой-то особочкой («Такая, знаете, бледноватая»), но, может, то был и другой человек; и скорее всего, любушка, другой, хотя замужней женщине надо быть всегда начеку…
Точно холодной водой окатила, холоднее, чем та, за углом дома: видела или не видела? Ясно, видела, зря болтать не станет, — пани Виктория (нет, Марта не посмеет назвать ее Виктей) человек старого закала, женщина интеллигентная, в свое время вышла замуж за бедняка учителя; это потом он кончил аспирантуру, стал профессором, академиком. А тогда….
И вот ломай голову над ее словами, стой и думай.
Но что придумаешь? Спросишь у Ауримаса? А он в последнее время какой-то мрачный, весь ушел в себя; что-то у него не ладится, попробуй подступись теперь с дознанием: «Послушай, дружок, говорят, тебя видели с подснежниками. С кем же ты их собираешь?» Разве не глупо? Спрашивать, когда ничего не знаешь наверняка, подозревать и, конечно, ссориться; подобные разговоры всегда кончаются ссорами. Склоками. Нет, как хотите, а это не по ней. Все это не то. Не тот уровень. Le niveau[50] Тебе известно, любушка, такое слово?..
А если… Если возьмет и сам спросит — про Москву, про стажировку? Кино, пикник… Если кто-нибудь расскажет ему?..
Эта мысль ударила ее точно обухом по голове. Она никому ничего не рассказывала, хотя едва удержалась, особенно в первый вечер по возвращении, — никаких подробностей, ничего, да и при всем желании нечего тут рассказывать, а если как-то нечаянно обмолвилась той же пани Виктории… то все же не кому-нибудь, не какой-нибудь кумушке, которая может все превратно истолковать… В конце концов, не стоило делиться и с пани Викторией, ведь и она может… при первом удобном случае…
Марта пришла в неописуемый ужас при мысли о том, что было бы, если бы Ауримас узнал, с кем она в Москве встретилась (не встречалась, нет-нет, а лишь встретилась) — с Наченышем (ну, Каугенасом, не все ли равно), сыном Оне, той самой черненькой Оно…
Нет! Этого я — Марта Глуоснене — знать не знаю, вы слышите? Ничего не знаю, и точка. Я ничего не желаю знать об этой… гадине… которая, видно, по рукам… Я ничего не знаю, и ему, Ауримасу, ничего…
Ауримасу это запрещено. На веки вечные.
Начене. Оне. Говорить о ней. Думать, Вспоминать.
Табу.
Как и на другое имя — Мета.
Как и моя сестрица Марго…
Как все прочие, которые, возможно, были. Или не были, но могли быть. Как Соната. И как Соната, да. Как пышнотелая супруга товарища Даубараса Соната, всегда проплывающая с таким видом, будто на голове у нее сияет не видимая для остальных смертных корона; величаво, словно лебедь; королева пирушек и официальных банкетов; и что в ней нашел Ауримас, в этой бабенке? Хотя сейчас он в ее сторону…
А там, за подснежниками, — с кем?
Это сверлило мозг: с кем? Будто это было главное, а не то, что он вообще способен на такое; порой Марте даже казалось, что, если узнать это злосчастное «с кем», второе обстоятельство — то, что он встречается «с другой», — перестало бы ее терзать; главное, видимо, было успокоить уязвленное самолюбие, — нет, самоуважение! И это уже niveau, вполне достойный одобрения пани Виктории, хотя та ничего больше не проведает о домыслах Марты; время учит молчать даже женщин.
Сотрудник Н. защитил докторскую, официальная часть закончилась неожиданно рано; между защитой и ужином («Коллега Марта, надеюсь, почтит меня и останется?»), который устраивался в маленьком кафе, был перерыв в добрых полчаса; воспользовавшись этим, Марта позвонила домой. Позвонила, хотя и знала, что не ответят: Эма получила рубль и помчалась в кино (вытянулась, уже пропускают), тетя Аля заявила, что намерена уйти от них («Я тоже человек, пенсию получаю»), и вдруг нарумянила щеки (и у нее весна) и сообщила, что уезжает на два дня в Паневежис к «сердечному другу» (она мечтала выйти замуж за какого-то старичка, который еще вовсю чинил часы), а сам Ауримас… Он снова предупредил, что вернется попозже, так как приехал переводчик из Москвы и он задержится с ним в гостинице или где-нибудь в кафе; возможно, даже прокатится с ним в Каунас, покажет Чюрлёниса, а заодно — бар «Орбита», там новая программа; в конце концов, разве ей по все равно, где и с кем?..
С кем? Это ей, Марте…
Все равно, разумеется, тем более что ей ни к чему это общение с переводчиком: небось, как всегда, скука; она и в дом пригласить его не может — у них на кафедре защита. И хотя присутствовать на банкете необязательно, все же это принято.
Она с минуту послушала длинные гудки, потом, все так же держа трубку в руке, зачем-то посмотрела по сторонам; будто на что-то еще надеялась, нажала на рычаг и снова набрала помер; опять не ответили; Марта положила трубку, вздохнула и, чуть отойдя в сторонку, вынула пудреницу и осторожно, точно боясь забрызгаться, несколько раз махнула пуховкой по щекам.
В это время появилась доцент И., плоская, похожая на веник, в очках; преподавала она основы педагогики.
«Ты еще здесь! — накинулась она на Марту, та едва успела бросить пудреницу в сумку. — Тебя ждут…»
«Меня? Кто?»
«Увидишь. Посажу рядышком».
Да, это был Ализас; полная неожиданность, но тем более приятная; он явился прямиком на банкет, «напомнить уважаемому доктору Н., что все мы, увы, не вечны».
«Как прикажете понимать сии слова?»
«В прямом их смысле… — ответил он, глядя на Марту своим особенным, подбадривающим самого себя взглядом и при этом осторожно подкладывая ей на тарелку какую-то рыбу. — Наш почтенный виновник торжества смертен, как и все прочие обитатели нашей грешной земли. Я, видите ли, тружусь в архиве…»
«Научная работа?»
«Всякая… На сей раз мне поручено узнать, какие рукописи или письма уважаемый доктор Н. мог бы без ущерба для себя и своей работы передать отделу рукописей нашего архива, где я, ваш непослушный ученик, имею честь более или менее плодотворно трудиться…»
«Поняла. Коллекционируете историю».
«Вернее, сегодняшнюю жизнь, которой суждено стать прошлым».
«Я как-то не совсем вникаю…»
«Охотно объясню: мы, архивисты, потому и существуем под этим серым небом, что назначение наше — напоминать, что все вокруг бренно… Прав старик Гераклит. Все течет, все изменяется. И все, о чем мы говорим сегодня, становится роковым «вчера». Кому-нибудь это представляется чуть не трагедией, а нам привычно смотреть на историю если не с точки зрения вечности, то много снисходительней, чем это делают все остальные…»
Марта воспросительно подняла глаза.
«Утешение хотя бы и то, что мы правильно выбрали профессию… Получается, что мы, архивисты, чуть не самые современные люди, коллега Марта».
Он держался очень непринужденно, этот ученый человек с седеющими висками и подавшимися заметно дальше к темени, чем это было четыре года назад в Москве, мягкими белокурыми волосами. Значит, вернулся? Один или со своей Ларисой? Невзирая на то что мать — ну, Оне — видели в Вильнюсе? И что же такое приключилось с этой Оне, если сын к ней так…
Но спрашивать не стала: взяла узкий хрустальный графинчик (она сотрудник кафедры, можно сказать, хозяйка здесь) и налила ему настойки; немного подумав, налила и себе.
«Что ж, за встречу!.. — У нее заблестели глаза; рядом с Ализасом она почему-то чувствовала себя моложе, даже как будто становилась той, восемнадцатилетней «училкой». — Хотя не знаю, в радость ли тебе… с такой старухой…»
Он, кажется, даже дрогнул от неожиданности или от желания возразить, но ничего не сказал, только улыбнулся (блеснули золотые коронки, а тогда были, помнится, стальные) и без слов чокнулся с ней; он сделал это как-то со значением, не спеша — точно некое важное дело, которое если не останется в истории, то по крайней мере имеет свою предысторию; они выпили. И снова как-то одновременно, вместе, точно иначе и быть не могло, — хотя врачи ей… Ах, эти врачи — в ее годы все-таки еще не время заточить себя в монастырь, чтобы ни в кафе, ни в гости, ни…
Она открыла сумочку и достала сигарету.
«Вы курите? — удивился Ализас. — Раньше, насколько я помню…»
«Мало ли что было раньше…» — ответила она, вспомнив, как сердито отнесся Ауримас к новости, что она порой «потягивает» (кто-то доложил ему об этом, желая то ли подлизаться, то ли чуточку позлить: Глуоснис терпеть не мог курящих женщин); разумеется, чаще всего в обществе панн Виктории; Эма знать об этом не должна; но здесь, слава богу, ни Ауримаса, ни Эмы… Все же она, сделав одну-две затяжки (в голове сразу помутилось), закашлялась и загасила сигарету в пепельнице, тем более что доцент И., как бы руководившая всем этим чинным и довольно казенным (хоть и на средства новоиспеченного доктора наук) пиршеством, издали погрозила ей сухим, синеватым пальцем. Это снова напомнило ей те путы, которые словно сковывали ее всюду, где бы она ни находилась, как только пробовала поступить по-своему, — эту извечную женскую зависимость, против которой она настраивала свою дочь Эму; женщина должна быть свободна! Она обязана стать в полном смысле самостоятельной — и не только в обществе, но и в быту, в отношениях с мужем, который, пользуясь данными ему от природы преимуществами, порабощает женщину так, что она сама соглашается и охотно идет на это; последнее, однако, ничуть не меняет положения — рабство есть рабство. О это женское стремление ввысь, к вершинам науки, в политические сферы, к управленческим столам и стояния в очередях, где мужчинам почему-то стоять некогда, эта беготня по детским садикам, обувным ателье, прачечным, когда мужчины, с достоинством ведя беседу, пешочком (говорят, так полезнее), с папками из искусственной кожи под мышками, размеренно движутся домой; там они засядут смотреть баскетбол… А разговоры, пересуды; эту видели там-то и там-то, с тем-то и с тем-то, все эти запреты, родившиеся из предубеждения, что женщина непременно стремится, хочет вести себя аморально, что она жить без этого не может; все это выдумали мужчины, чтобы опутать женщину еще больше.
Она настолько углубилась в свои мысли, что на миг забыла Ализаса, который сидел рядом и с блуждающей улыбкой на широких, ярко очерченных губах смотрел на красочную пирамидку ранних овощей на белом удлиненном блюде.
«И это, видимо, непозволительно, — подумала Марта, — что я рядом с Ализасом… Он моложе меня лет на десять… А я так на него смотрю… и такое думаю…»
Снова вспомнила Ауримаса (с кем?) — как всегда, но вовремя — и, пытаясь отогнать от себя эти мысли (не сейчас, не сегодня, не здесь!), попробовала слушать, что говорит декан Милашюс: «Уважаемый товарищ Н., уважаемая Н-не, досточтимый профессор, товарищи доценты… (доцент И. стрельнула в Милашюса сухими колючими глазками), наши уважаемые преподаватели и наши труженики ассистенты…» («И наша уважаемая, всеми весьма уважаемая лаборант Джильда», — мысленно прибавила Марта.) Становилось зверски скучно.
«Правда, я злая? — вдруг спросила она и тронула Ализаса за рукав; тот обернулся. — Правда, злая?»
Ализас пожал плечами.
«Я бы не сказал…»
«Ну… как училка?..»
«Как учительница? — Он улыбнулся. — Признаться, я подзабыл, какая вы были… учительница…»
«Еще бы — доисторическое прошлое… — вздохнула она, зачем-то глядя на его длинные белые пальцы с аккуратно подстриженными ногтями (у Ауримаса руки были неухоженные), медленно сгибавшие салфетку; ей понравились плавные движения этих пальцев. — В незапамятные времена…»
«Почему же? Все в памяти. Но разве сегодня это так важно?»
«Нет, конечно… — она растерянно кивнула; теперь его пальцы, оставив в покое салфетку, неспешным движением смахнули хлебную крошку с кармана брюк — прямо к самому ее колену; Марта безотчетно натянула на колени подол. — Сегодня, друг мой Ализас, это неважно».
«А что же?» — полагалось спросить ему; очень обыкновенно — спросить, что же сегодня самое важное, и все сразу кончится, потому что ей нечего будет ответить и придется спешным образом переменить тему разговора или сосредоточиться и послушать, что изрекает декан Милашюс (неужели завелся на целый академический час?), или же взять конфетку, или глотнуть лимонада; но он не спросил и осторожно, будто заранее зная, что ответа у нее нет, своим медленным гибким жестом (запомнился с пикника) поднял бутылку и налил ей вина; она поблагодарила одними глазами и выпила; капля скатилась на пол; Ализас деловито прикрыл ее колени салфеткой.
Это было слишком — это движение Ализаса, его пальцы у самых ее колеи; она зажмурилась и, порывисто встав, тряхнула волосами, которые так тщательно завивала и укладывала все утро; волосы перепутались; поднялся и он.
«Мне пора, — проговорила Марта, сосредоточенно роясь в сумке; нет, не нашла; щелкнула замком. — Эма будет ждать».
«У нее что, ключа нет?»
«Есть. Ну и что! Мы с ней дружим, между прочим. Я пошла».
Она и в самом деле направилась к двери; никому, кажется, это не было интересно, как и речь Милашюса, который все склонял «уважаемых», «досточтимых» и «наших дорогих», точно укладывал кирпичи в стенку; Ализас двинулся за ней.
«Погодите! — воскликнул он. — Я провожу вас».
Она ничего не ответила и по красной винтовой лестнице сошла вниз, в гардероб.
Дальше шли молча по широкому полутемному (время было вечернее) коридору, мимо пустых, пропахших потом и табачным дымом, зачем-то с распахнутыми дверьми аудиторий (проветриваются? Но раскрытые двери выглядели как чьи-то руки, норовящие схватить их, Марту и Ализаса), мимо витрин и стендов с какими-то диаграммами, даже ночью освещенными цветными лампочками, потом еще по одной, деревянной, лестнице, через еще одну, большую и тяжелую дверь — на улицу, где, закутанные в сырой апрельский туман, стояли с тяжелеющими прямо на глазах ветвями старые каштаны, витая улица уводила куда-то вглубь, в дремотные волны старинного барокко; Ализас взял Марту под руку. И это было правильно — то, что он придерживал ее, ибо от прохлады и от весенних, пробуждающихся запахов города голова кружилась сильней, чем от вина; мысли, всего несколько минут назад как будто собранные для чего-то важного, таяли и расплывались, как разгоняемый ветром туман; с нею, Мартой, оставалось лишь то тепло, которое даже через плащ она ощущала правой рукой и всем боком, эта зыбкая, пронизывающая насквозь теплота его ладони и одно лишь это малознакомое, непривычное (когда же ей успеть привыкнуть? Выскочила замуж как на пожар…) и оттого почему-то пугающее, даже какое-то опасное присутствие молодого мужчины рядом, одно лишь его прерывистое, сулящее нечто неведомое для нее дыхание… Она шла, ни о чем больше не думая, даже об этом с кем, не желала об этом думать, как и о том, с кем идет сейчас она сама, и куда идет, и почему, зачем, и это ей удавалось — не думать; она чувствовала лишь шаги, запахи, жесты, странную, колеблющуюся, непривычную для себя походку и свое собственное присутствие рядом с тем, другим, кто так заботливо и ласково, будто нечто хрупкое и драгоценное, взял ее под руку и ведет по туманным лабиринтам старого города. Это было что-то новое, неизведанное — эта прогулка по ночному старому городу — и потому нужное, а то и забытое, и лишь ожившее, хоти по-иному, чем когда-то, неповторимое, ибо она, Марта, изменилась и не может повториться, а кому оттого хуже; никому; с этой прогулкой по ночному Вильнюсу, казалось, вернулась откуда-то издалека ее юность…
Она это почувствовала совершенно отчетливо, когда Ализас (ведь рядом с ней Ализас, ее ученик-сорванец) вдруг остановился; стала, конечно, и она; теперь он обнял ее. Это произошло как-то само собой, без слов и лишних раздумий, и она закрыла глаза, точно боялась темноты, которая их обволакивала словно какой-то мягкой черной шалью; безвольно уронила руки; наверное, никто никогда так крепко не обнимал ее за плечи. Потом она почувствовала, что снова идет куда-то в глубь этой тьмы, которая плотно прижимала их друг к другу, в черноту двора; потом предельно четко ощутила, что она сидит на какой-то лавочке, а сверху, с какого-то дерева, на нее падают капли… И это ее взбодрило — холодные, о чем-то напомнившие капли — и вернуло назад, на землю, оттуда, где она всего минуту назад пребывала; Марта встала и, будто вспомнив что-то нехорошее, сердито тряхнула завитой головой.
«Домой… Домой… — сказала она, взглядом отыскивая ворота, в которые они вошли. — Бедняжка моя Эма…»
«Почему бедняжка?»
«Потому что у нее такая мамаша…»
«Какая? По-моему, Эмина мамаша при желании еще может такое отмочить, что…»
«Отмочить… — Она громко засмеялась. Ха-ха-ха, отмочить!.. Моя дочка, Ализас, очень тебе под стать… по возрасту, конечно… А я… я, к сожалению, больше гожусь в тещи… Ах, боже мой, пойдем отсюда скорей!»
Ни слова не произнося, он встал и, схватив Марту за руку, привлек к себе… На улице он остановил такси.
И сейчас, съежившись на заднем сиденье «Волги» рядом с молчаливым Ализасом, видя перед собой широкую спину водителя в куртке из кожимита и изредка сквозь спицы руля — блестящий приборный щиток, она думала лишь о том, как бы поскорее добраться домой; там все прояснится. Она не знала, что́ именно, и даже не задавала себе такого вопроса, прояснится, и все; автомашина подпрыгивала на вековых булыжниках, сверлила тьму, ввинчиваясь в узкие улицы, в каменные недра города; фонари на столбах и по углам древних, крытых черепицей домов мигали и раскачивались, точно намереваясь вот-вот рухнуть; мотор урчал, гремело радио… И вдруг Марте показалось, что жить можно и что все еще не так уж скверно, и даже то назойливое, вроде вбитого в мозг ржавого гвоздя с кем — не так уж страшно и непоправимо… вот если только увидит свет в окне…
Но света не было — долгожданного света, о котором Марта тосковала еще там, на банкете. Неужели она, Марта, из «этих»… ну, которым все равно, брр… Нет, уровень самоуважения должен соблюдаться не только в отношениях с сослуживцами или, скажем, в каком-то там магазине, в очереди (ах, лучше обойтись без всего, чем толкаться и препираться); прежде всего надо соблюдать его в семенной жизни, в скуке обыденности, ибо если утратить столь необходимое женщине постоянное чувство самоуважения… считай, что…
Тут она заметила, что машина развернулась и уехала, а она все стоит у двери своего дома — как какая-нибудь Ваготене — вдвоем с Ализасом; живо вынула из сумки ключ.
«Что ж, заходи… — сказала Марта, не сразу попадая в скважину. (Руки дрожали, наверное, от ночной свежести.) — Посмотришь, как я живу…»
«Примерно представляю…» — ответил он.
Она открыла дверь и щелкнула выключателем; вспыхнули светильники над лестницей.
«Это не Любавас…»
Слова возымели свое действие — это она поняла сразу, напрасно она ляпнула про Любавас; ни ему, ни ей вспоминать Любавас было ни к чему: Ализас сверкнул глазами.
«А что Любавас? Чем плохо? Чем вам там было плохо? Учительница, комсомолка…»
«Там погибли мои родители».
«Да, да. Верно. — Он опустил голову. — Простите».
Они быстро поднялись наверх по чистой деревянной лестнице, застланной красной ковровой дорожкой (мимоходом Марта заглянула в кабинет Ауримаса: тишина), остановились в просторном, увешанном картинами и сувенирными полотенцами холле, сияли плащи. Марта приоткрыла дверь в спальню: а вдруг… Нет, Ауримаса не было и там. И Эмы тоже, никого; в пустой квартире, где мертвенно светлели матовые стеклянные двери, стояла тревожная тишина.
«Пожалуйста… сюда… — Марта уже смелей показала на свою зеленую комнату («Вот эту, где я валяюсь сейчас», — подумала, вперив тусклый взгляд в осыпанный зелеными крупинками света потолок); в гостиную приглашать ночного посетителя почему-то неудобно. — Может, кофе?.. Или вина?..»
Не ожидая ответа, Марта подошла к невысокому рыжему серванту, достала бутылку рислинга и два фужера; коробка шоколадных конфет, открытая перед ее уходом из дома, теперь словно дожидалась их на столике («Тогда здесь были не одни таблетки… нет, нет…»); наполнила фужеры.
«Что ты делаешь? — промелькнула короткая и какая-то пугливая мысль в тот миг, когда рука дрогнула и желтая струйка из ее фужера пролилась рядом на стол. — Что ты делаешь сегодня, дура из дур?»
Но мысль эта была настолько краткой и бессильной, что в тот же момент Марта прогнала ее; взяла фужер смело, совершенно спокойным движением руки и подсела к Ализасу на диван. Голова по-прежнему кружилась.
«За что мы пьем? — Она чокнулась с ним. — За будущее? Паше?»
Она знала, что говорит вздор, и засмеялась; Ализас опустил глаза.
«Можно, — ответил он. — Можно и за будущее».
«Но ты что-то невесел, а?»
«Почему же? — Он пригубил из фужера. — Каждая такая встреча для меня… поверьте…»
«Даже в качестве возможной тещи?» — горько улыбнулась она.
«Даже так… — Ализас вытер губы платком. — Хотя бы…»
Выпила и она, хотя и чувствовала, что делает это без всякой охоты, исключительно из дурацкого, отчаянного упрямства, какой-то не свойственной ей лихости; на мгновение в голове словно потемнело. Но она тряхнула кудрями и снова наполнила фужеры, и еще выпила, и еще тряхнула головой; вдруг возле себя почувствовала его лицо. Теперь это было совсем иначе, нежели там, в старом городе, на лавочке под деревом, с которого падали те холодные апрельские капли; и темно теперь было даже при зажженной лампе. С кем, с кем, с кем, — казалось, колотится сердце, где-то глубоко в груди, очень далеко от нее, Марты, и от этого элегантного молодого худощавого человека, который так резко наклонился к ней; это все, это конец, мелькнуло в мозгу, все, ты только молчи… Ты, Ауримас, помалкивай и дальше, ничего не говори: с кем, — быть может, это уже не имеет значения такого, как еще сегодня утром, еще вчера и позавчера, молчи и молчи, потому что я… потому что я тоже человек, я женщина, Ауримас, и даже еще не старая… я, Ауримас, еще даже вполне молоденькая женщина, особенно сегодня, сейчас, в эту хмельную апрельскую ночь… в эту роковую ночь, когда… Да, да, это низость, я знаю, но ведь, Ауримас… это ведь тоже жизнь, без которой… если ее не испытать… так и проживешь весь век, ни разу не изведав… этого греха, этого влекущего обмана, с которого, возможно, и начинается женщина… Не изведав… И, возможно, обманутая… возможно, обманываемая и саму себя обманывающая… себя саму… и сейчас, быть может, тоже себя…
«Целуй… целуй… быстрей!.. — вдруг простонала она и сама устрашилась собственных слов, сказанных будто в дурмане; испугалась; но они были произнесены, и он наклонился к ней еще ближе: это лицо, глаза, губы. — Целуй!»
Руки сами поднимались выше — медленно, дрожа, ища его шею…
Все, Мартушка, пропала. Все, сердечная, конец.
Она зажмурилась, еще сильней вытянула руки, вся в нестерпимом ожидании; и вся подалась к нему; жесткие холодные (почему же холодные, почему?) губы Ализаса едва коснулись ее руки (почему руки, почему?) — бережно, осторожно, словно та была из стекла, и исчезли; между этими губами и Мартой (застывшей, ожидающей, с какой-то еще верой) встала колючая пауза, безжизненная и холодная, затяжная, как ее ожидание (пауза, пауза — сейчас?); вдруг она все поняла…
«Что ж… — прошептала она. — Что ж… Райненыш… Убирайся! Вон!»
Это было все, что она смогла произнести. Ночью ее стала трепать лихорадка, началось удушье. Эма (чуть не нос к носу столкнулась на лестнице с незнакомым молодым, печально улыбающимся человеком с плащом, перекинутым через руку; чем-то он смахивал на артиста из только что виденного французского фильма) вызвала «скорую». В насыщенной запахом валерьянки палате Марта снова увидела мальчика, который вел — силком выволакивал из лужи — белокурую, легкую как мотылек девчушку; выкрикнула: «С кем?» — и надолго сомкнула обрамленные черными, успокоенными, такими — все говорят — красивыми ресницами глаза…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
«Кто я? — вдруг взбрело ей в голову, как раз в тот миг, когда она, не обращая внимания на помрачневшего Чарли, посмотрела в упор на Гайлюса. — Скажите: кто? Человек? Или, может, птица? Кто?»
Ей нетрудно вообразить себя птицей и даже полетать вокруг этого серого здания на берегу Нерис; достаточно лишь закрыть глаза. Никто за тобой не угонится — куда летишь, что поешь да зачем поешь; это и есть свобода, настоящая жизнь, а человеку дано, увы, лишь коснуться ее, да и то только в юности, пока на его плечи не обрушилось тяжкое бремя жизни, пока все, даже провалы вроде сегодняшнего, кажется всего-навсего дурацким, нелепым эпизодом…
Хорош эпизод! Отчего же так погано на душе, так тошно? Кто я? Ни птица, ни человек. Я никто, Гайлюс, пойми ты, никто!
Ха-ха, чтобы придумать!.. Всегда ли человек способен придумывать? Ни с того ни с сего, вдруг? И всегда ли это нужно? Всегда ли знает человек, зачем это? Во имя чего?.. И с кем он может об этом посоветоваться? Хотя бы и здесь, сейчас? Сама с собой? Со своим собственным одиночеством? С этой ложной мудростью молодой старухи? С той, от которой она бежит?
А тут еще першит в горле — чем дальше, тем больше. Но не думайте, что это ее распирает от смеха, это скорее что-то гадкое, кислое, плакать охота — вот что. Да, плакать, что тут удивительного — она тоже человек. Не птица — человек, ясно вам? Ясно тебе, товарищ Гайлюс, дружинник с повязкой? И вам, мои жалкие цуцики, довольно помятенькие — да уж какие есть — и оттого родные и понятные; я и сама не бриллиант! Так что ясно вам, драгоценная кодла, вы, лихие шобыэтта… Нечаянно кокнули окошко в каком-то несчастном киоске, ветхом киоске «Мороженое», когда их не пустили в «Ручеек». Только и всего. Да, всех делов. Она крикнула: «Кончайте!» Ей никогда не нравились такие «финты». «Кончайте, вы, дураки!» — а им, видно, захотелось узнать: что там, в нем, внутри, в киоске? И крикнула: «Атас!» — когда зазвенели стекла; бежать было трудно. Она никогда не думала, что ноги могут оказаться такими тяжелыми — точно мешки со свинцом, а голова пуста, как бачок от бензина, который где-то на мексиканской границе швырнул в придорожную канаву Дин Мориарти (она так и слышала металлический стук о камень), тот, что оболгал ветер, свободу и темп; и звук был как от пустой жестянки, когда Эма, распахнув полы куртки, прямо-таки летела (как птица, как птица) куда-то под гору, вниз, где ее могла спасти лишь ночь да ее звезда; не спасла, не выручила…
И вообще ее, Эмина, звезда, кажется, свернула на какую-то дурацкую траекторию, хотя все гороскопы как спелись: «Рыбы. Знак воды. Под покровительством Юпитера и Нептуна… От Юпитера у рыб счастливая судьба, мудрость…»
Счастливая судьба? Счастливая рыбья судьба? Где оно, счастье? Джинсы пусть в заплатах, но, конечно, фирменные, привезенные откуда-то папашей. Дом? Но все в этом доме принадлежит им, даже японский маг, который отец купил где-то за доллары; все их, и ничего ее… такой-сякой-разэтакой Эме здесь ничего не принадлежит… совсем-совсем ничего…
«Женщина, рожденная под этим знаком, отличается сильной индивидуальностью и грацией… Рыбы — чрезвычайно тонкая душа… символ гуманности и самопожертвования…»
Ого! Вот так сказано! Символ…
Кто — она, что ли? Эма, которую в кодле называют не иначе как несклоняемым шобыэттакоепридумать (для краткости — шобыэтта), и не только в кодле, но и в институте… Гуманность и самопожертвование… Какая такая гуманность и какое самопожертвование? Во имя чего? Что в конце дороги, Эма?
А что действительно? Что ей суждено?
«Мудрость. Тонкая душа…» Что еще? При одном уже слове «тонкая» во рту становится приторно, точно наглоталась сахара. Или сахарина (не знаю его вкуса, это отец жаловался, что в беспросветные годы своего детства лакомился им вместо сахара), или… «Эма, ты такая чуткая… тонкая… и при этом…» Маманя, она обожает это словечко. Как и устойчивые сочетания «высокие чувства», «одухотворенность», «домашний покой»; что, что? Где ты видишь его, мамулечка?
«Эма, ты…»
Да, ну и что? Пусть так. В кодле не обмолвишься — засмеют, я для них шобыэтта — больше ничего, — хотя бы и очередной, для успокоения мамаш выдуманный мной день рождения (в этом году мы уже семь раз отмечали Лаймин, пять — Аушрин, дважды — Виргин и Живилин и совсем ни одного Дайвиного), ну, а для себя?.. А сама для себя, Эма? Что верно, то верно — тонкая. Только без сахара. Без сиропа. Ей-богу. У нас тонкая душа. Все чувствующая, несентиментальная. А знала бы кодла, что у нас еще имеется!
«Ясновидение»? Ага. «Всесторонняя одаренность»? Тоже. Рисуем, играем на фортепиано, и не просто жарим, как мой Чарли (но с какой стати мой?), а даже Грига и Шопена, училась когда-то (смехотура, да?), лепим, ваяем, можем поковырять и гипс… И даже вычеканить кое-что на кусочке жести… И написать! Глупая повестуха про еще более глупую юную мечтательницу…
Ясное дело: людей надо искать. Тех самых, настоящих. И не людей, а человека. Их надо узнать — всех. Со всеми поговорить. Со всеми, слышишь, Эма, с теми, кого здесь нет, кто далеко; о них можно думать что угодно, не так, как об учителях или родителях, о которых думаешь, исходя из того, что о них знаешь. О других — что угодно и как угодно и оттого, разумеется, справедливо, поскольку от них не зависишь ничуть… и они от тебя тоже, хотя… может, все-таки зависишь? Ну, немного, самую малость… ибо если думаешь о них… тем самым они… и если они думают о тебе, значит, и ты… какими-то незримыми узами… уже…
Вот дурость! Нашла о чем рассуждать! Очень нужно! Будто эта старуха с кафедры, Накайте! Будто папаша, тот без конца… «Цель! Надо иметь цель!..» Какую, милый папочка? Искать людей всюду, где только можно… и даже на «скачках» — на отдающих сельскими посиделками факультетских танцульках, где такая скука, но надо искать и там… людей надо искать повсюду. И всех их надо познать, папаня, тогда, быть может, найдешь хоть одного… который…
«Со Скорпионом союз гармоничный и прочный. Очень многое связывает Рыб с Козерогом. Эти знаки взаимопритяжимы. Общение бывает счастливым, если только упрямый Козерог не травмирует Рыб…»
(Козерог… Нет, лучше Единорог, для меня он будет Единорог, так красивее…)
Опять-таки, Эма, людей надо познать. Всех. Тогда не обидят. Ни все, ни тот, один. С ними надо уметь быть: со всеми. Понимать их. Проникать, проникать надо в них. Постигать. Искать истину. Искать то самое слово, которое по-французски … Ну, как там, у этой Натали Саррот: un mot juste[51]. И тогда…
Да, найдется. Тогда найдется тот один, который раскроется перед тобой. Как цветок лотоса. Как книга веков. Как судьба. «Коснись меня, и я буду воистину», — кто это сказал? Так мудро? По-взрослому. (Но разве одни только взрослые могут быть мудрыми?) Я, Эма, я записала это у себя в тетради, хотя по сей день не знаю, мои ли то слова. Может, и они из книги веков, читать которую волен каждый? И обязан читать, для человека это обязательно… Но они, эти вековые слова, срослись с моими словами и мыслями, они одновременно и мои, ибо всегда со мной — днем и ночью, — потому что кто коснется… не просто так, хамской рукой чувака, а как тот… найденный среди тысяч… если только он настоящий… истинный…
Эма! Ты все еще сомневаешься? Все не веришь? Даже сейчас? Даже сейчас боишься…
— Эма, — (вздрагиваю), — о чем ты думаешь? — Это Вирга; почему-то ее знобит; от холода, что ли. — О чем, а?
— О Единороге.
— Чего-о? — (Много она знает…) — Я боюсь, Эмка.
— Не бойся… Это тот, из гороскопа.
— Единорог? А там такой есть?
— Ну, Козерог… пусть…
— Из гороскопа! Вот дурочка! Кто же в такое верит? Это ведь игра.
— Ну и пусть. Зато красивая. И полезная.
— Полезная? Это уж, Эма, кому как…
— Ну… мне… Кто я без игры? Ноль без палочки…
— Чудная ты, Эмка…
— Наверное.
Помолчали. Снова заговорила Вирга.
— Как по-твоему, — спросила, рукой-ледышкой трогая Эму за колено; холодок чувствовался даже сквозь джинсы, — это уже все? Загремим?
— Не думаю.
— А куда они все подевались? Ну, гады…
И она как бы снова вернулась туда, где находилась и куда так не хотелось, — в отделение милиции, где они все торчали. Время шло, а они сидели как цуцики, все рядышком, на длинной желтой скамье, взъерошенные, раздавленные, потерянные, и каждый думал о чем-то своем, каждый искал какого-нибудь утешения; и у двери, спиной к стене, по-прежнему стоял Гайлюс, чернявый дружинник с умными серыми глазами. Гайлюс? Имя и фамилия? Что же это я: имя, конечно! Ведь майор сказал: «Товарищ Висмантас!» Или это имя такое — Висмантас? Ну и дура — не все ли равно? Тебе! Хотя ты правда его где-то, ну, где-то видела. Ты видела и эти волосы, черные как смоль, будто нарочно взлохмаченные, жесткие, небось как проволока, и эти тяжелые, чуть не до колен, руки-кувалды, и этот будто невзначай скользящий, а на деле весьма пристальный взгляд серых быстрых глаз…
— Что это так пялишься?.. Дай потянуть, дружина! — Чарли обращается к Гайлюсу. Голос такой, словно предлагает: «Выйдем, что ли, поговорить надо…» Чарли мастер затевать потасовки. — Ну, хоть бычок.
— Потерпишь.
— Не будь жилой, дружина.
— Не положено, понял? — И он улыбнулся, Гайлюс этот; зубы — что клавиши. По белизне. И что-то такое знакомое, определенно… Откуда?..
— Не жизнь, а…
— Не надо было стекол бить… Что поделаешь? Не ты первый, не ты последний сидишь без курева… — Гайлюс поглядывает в мою сторону, вроде подмигивает. — Например, Дни Мориарти… тоже порой обходится без курева… Ваш любимчик Дин Мориарти:
— Море в марте? — дурашливо скалится Танкист и косится на меня. При чем здесь море? И в марте? Ну нет…
— Commèdia dell’arte[52]… Ты, Эма, наш Панталоне; Чарли, разумеется, доктор, а мы с Дайвуней уж конечно слуги… — Это Вирга «возникла».
— А мне? — спрашиваю. — Мне можно?..
Кажется, я застигла его врасплох, этого Гайлюса, иначе с чего бы ему так резко задирать голову — чуть не хлопнулся головой о стенку — неожиданно и для меня. («Где же я его видела?») Гайлюс, этот брюнет с красной повязкой, неуклюже елозит на месте, сует лапу в карман, роется…!
(«Что, волнуешься, мальчик?»)
В дверях за нами (вернее, справа от нас) снова вырастает тот самый майор; длинный, седоватый, без ремня, он показался мне скорее похожим на какого-нибудь сторожа колхозного огорода или пляжа, чем на офицера милиции, хотя рост у него просто потрясающий; по-моему, майор даже гнется от собственной длины. Тащит какие-то бумаги, пачку листов. А голос у него то ли прокуренный, то ли просто хриплый, но властный и неожиданно звонкий.
— Ребята, за мной! — скомандовал он своим хрипловатым властным голосом, а стопкой бумаги махнул, показывая на дверь за своей спиной. — Раз-два, слышали?..
И тут мне начала нравиться эта, как выражается Вирга, комедия масок, героями которой стала наша лихая кодла. Тедди (он все время молчал) сразу же встал и живенько шмыгнул к двери, а Чарли (мой техасский герой Чарли) так проворно вскочил с лавки, что та аж подскочила кверху, и так ровненько вытянул по швам свои грязнущие лапы, что можно было подумать, будто он собирается участвовать во всемирных состязаниях по муштре и ему там, без сомнения, уготовано первое место. Один лишь Танкист пытался соблюсти свою мужскую независимость и хоть как-нибудь спасти, поддержать заметно пошатнувшийся престиж всех шобыэтта; уцепившись обеими руками за край лавки, он забасил:
— А мы тут, между прочим, не в штрафной роте… Ну, в ми-ли-и-ции!..
— Марш, марш! И без никаких… — Майор сверкнул глазами.
Он повернулся и первым, как и подобает офицеру, печатая шаг, двинулся за дверь; кодла послушно двинулась за ним.
Я бы, пожалуй, пустила слезу, если бы не этот черный Гайлюс, который все подпирал стенку у двери (нас, что ли, караулил?) и серыми вороньими глазами — таким знакомым мне взглядом (прямо щекочет лицо) — смотрел на меня в упор, если бы не он и не телефонные звонки — они пугали еще больше, чем дверь, поглотившая наших мигом присмиревших дружков. «Нет… не имеется… тащите сюда!» — так отвечал (неизвестно кому) мрачный, нахохлившийся сержант, только что возникший в комнате, почему-то он то и дело дул на свои красные согнутые пальцы; никто никого не тащит сюда, в милицию, где нас прочно держали, вынуждая слушать все эти «не имеется» и «тащите сюда»; видимо, таковских (каковских — вроде нас, что ли?) не так уж много было нынешней ночью. К тому же не все небось влипают и не всем приходит блажь бить окна в киосках.
Солоно во рту, ну и ну! Вытрем потихоньку щеку: не приведи бог, увидит кто-нибудь! Извольте без слезопролития, дорогуша, это было бы архиглупо — расплакаться, да еще кому — Эме шобыпри, вокруг которой, точно планеты вокруг солнца (на худой конец как мошки вокруг свечи), вертится вся эта карусель, сей караван духовных уродов, вся эта дурацкая шушера шобыэтта, случайный сброд ничем между собой не связанных людей, которые сами не знают, чего хотят в этом мире и кого намерены повергнуть в страх (будто кто-то их боится!); меня передернуло.
С чего бы это — ведь не холодно. И не страшно — видали и не такое! Уж мы повидали, хотя, говорят, молоды (это они так считают, родители и учителя, сами безнадежно старые людишки), и бояться было бы по меньшей мере глупо. Стоит ли о чем-то сожалеть, мучиться, каяться — куда хотела, туда и попала, с кем хотела, с тем… Где нравится, там и сижу — пусть даже в милиции. Пусть в этой вонючей торбе; я взрослый человек! Самостоятельная личность… давно — лет этак с четырнадцати, когда… Словом, кончим; не вам, дорогие папа с мамой, указывать, где и когда я должна находиться, как к чему относиться, как да с кем здороваться, и не вы, дорогие предки, а также вузовские наставники, станете указывать: делай то да се, не делай того да сего: взрослая я! Мне уже почти двадцать лет — вы слышите? — и я сама решила: с двадцати лет, Эма… все иначе… после двадцати, сударыня, всю эту юную дурь и блажь… побоку! Именно, потому что я сама… ведь сама для себя решила, что надо как-то определиться… что все время так… слишком уж скользко и неопределенно… Но это — после двадцати, а двадцатилетие я, надеюсь, справлю с кодлой; ну, а покамест… пока еще не стукнуло… Итак, мои драгоценные предки, мне скоро будет двадцать, а вы все еще…
Двадцать? Тебе?
Это папаша. Он. Отпер, после того как посмотрел в дверной глазок и по меньшей мере трижды спросил: «Кто там?» Будто не знает! Будто впервые. Стоит в одном исподнем, сам не соображает, как он жалок. Как невыносимо ничтожен. Съеженный, невыспанный, под глазами мешки, такой невидный. И в тапках, у больших пальцев протершихся. (Будто не на что купить приличные тапки…) И это идиотское красноречивое поглядывание на часы. Уже пять? Неужто? Что вы говорите — пять часов… Такая рань… И что попахивает водкой… табаком, да? И маманя, ее здесь нет, но я ее чую. И даже вижу, не глядя вижу: лежит. Лежит, подушка на голове — не желает слушать концерт. А он будет, и она это знает, дрожит под своими одеялами. Ну и дрожи, дрожи! Только не охай, не кряхти. Жизнь такова, какой мы ее делаем. (Ведь ты сама мне так говорила?) И такова, какой мы достойны.
Двадцать?
Голос дрожит, точно котел. Точно кипящий котел. Еле сдерживает ярость. Дурацкий голос…
Янонису[53], Эма, тоже было двадцать, когда…
Двадцать один!
Неважно. В конце концов, не в годах суть.
Знаю! Даже фильм видела… Или пьесу. Классе в шестом.
Эма, ты опять куражишься… Кривляешься, Эма…
А мне было весело! Поверь, весело, и даже очень!.. Вы с мамой должны только радоваться…
Что ты приходишь в пять утра? Пьяненькая? Или — что вообще приходишь?
Что мне было весело!
А нам? Ждать тебя? Об этом ты подумала: весело ли нам с мамой ждать тебя всю ночь?
А зачем ждать? Я взрослый человек.
Разве взрослых не ждут?
Ах, перестань! Закрой коробочку.
Эма… как ты разговариваешь…
Так! Только так, дорогие предки… И отстань. И не студи язык… экономь тепло… ну, домашнего очага… Вижу, вы ничуть не рады, что ваша дочь вернулась живая и здоровая, в хорошем настроении… Счастливая… Эх, знали бы вы, как мне хорошо… И как я спешила к вам, домой!.. Хо-хо!
Эма! Твои издевки…
Да, да, я Эма… ваше невинное дитя… ваша радость и надежда… И рожденная к тому же под счастливым знаком Рыб… Рожденная под счастливым знаком Рыб ваша невинная пропащая дочь… ты, отееец, выразился малость иначе… вообразите себе, она счастлива…
Эма, прекрати! Услышит мама… тогда…
Мама? Эта домашняя… вернее, твоя… раба?
Эма… мать не спит… слышит…
Потому и говорю, что слышит… пусть слушает… пусть…
Она очень больна, твоя мама… После больницы она все время…
После больницы? Когда она там побывала?
Эма, над такими вещами смеются только очень грубые люди…
(Ах, он не знает… он ничего до сих пор не знает… что Райла… что доктор Райла сказал мамане… пусть!)
Над этим не смеются.
Смеются над чем угодно.
Только не над болезнью, Эма. Элементарная порядочность требует…
А, ты опять… Ну, а я, я?! Не больная?! Только вы того не видите… Не хотите видеть… Вам и дела нет…
Тем более, Эма, пить и курить… шататься по ночам…
А это уж не ваше дело! Не ваше, не ваше!
Чье же? Не наше, тогда чье? И что тогда наше? И что не наше? Или ты не здесь живешь?
Хочу и живу… Пока хочу — живу…
Тогда давай побережем друг друга… ладно? Будем людьми. Раз уж живем все вместе… Давай стараться, чтобы всем было лучше…
Ладно, папаня, шел бы ты лучше спать. Еще простудишься… тогда правда черт знает что… Будешь, как маманя…
Молчи, молчи, дрянь! Связалась с какими-то подонками!..
Подонками?! Почему моих друзей называют подонками?
Друзей? Разве такие могут быть друзьями?
Да, да! Могут! И еще как! Это мои самые лучшие друзья. И мне с ними нравится. Ты понимаешь: нравится! Они меня уважают и понимают. Не то что вы… И они меня никогда и нигде… не то что вы друг друга…
Не предадут — отец подхватил слово — даже не произнесенное, то, которое витало где-то вблизи нас, просвистело, и он поймал его на лету, как стрелу. — Не предадут?
Да, да! Именно!
Ты очень ошибаешься, Эма!.. — Отец вздохнул, протяжно и глубоко, вздох перешел в зевок, и я поняла, как тягостен ему наш ночной разговор: не только мне, но и ему; но ведь не я затеяла… — Такие друзья, как твои, Эма… на каждом, детка, шагу…
Неправда!
Ах, Эма… — папаня махнул рукой. — Ничего ты еще, детка (дурацкое словечко из детства — из времен «Черного котика»), не знаешь… ни о предательстве, ни… Ты еще только начинаешь жить, а мы с мамой, может быть… Ты их не знаешь… совсем не знаешь…
Кого это? Людей? А вдруг мы все и всю жизнь только и стараемся их узнать?.. Может, это — только это одно, папа, — и составляет смысл нашей жизни…
Не заговаривай мне зубы! Ты еще не знаешь своих дружков-приятелей… свою «кодлу», как ты выражаешься…
Ого! Да ты, оказывается, у нас грамотный!
Поверь мне: это грязь, хоть они и превозносят тебя — ах, какая знающая… многоопытная!.. А что ты знаешь? И о чем? И какой прок от твоего знания? От твоей понятливости? А они нахваливают, и тебе кажется, что это уже правда!.. Что ты в самом деле звезда — если не кино, то, во всяком случае, звезда своей паршивенькой компашки, где…
Где действительно лучше, чем здесь! Чем дома. Чем с вами… И вообще откуда эти странные мысли: мне кажется! Ничего мне не кажется, я и не думаю об этом. И думать не собираюсь. Живу, и все. Живу как человек. Почти как человек, так как мне мешают… Вы мешаете… И я вовсе не хочу, чтобы мне кто-то кланялся… Я и сама ни перед кем пресмыкаться не желаю… Мне не надо, как тебе, чтобы все плясали вокруг… будто перед шахиншахом…
Ведь мы говорим о тебе, Эма…
Не нравится, да? А мне, думаешь, нравится? Но раз уж ты начал весь этот разговор, то будь любезен выслушать: ты любишь, чтобы все подлаживались под тебя и там, в редакции, и мама… Твои покорнейшие сотруднички и верная супруга… эта бедная несчастная женщина… эмансипе!.. Но учти: я — не она! И не твоя подчиненная! Мне, папаня, на тебя наплевать! И не просто — сто, тыщу раз наплевать! Миллион!
Ты что, совсем пьяная?
Нет! Нет! Мне противно с вами! Гадко! Скучно! Меня тошнит от вас! От тебя, от твоего вида! Не хочу здесь жить! Учиться не хочу! Мне здесь все обрыдло! И ваше притворство тоже! Вы и друг друга ненавидите, я знаю! Ждете — каждый ждет, когда помрет другой!
Даже затопала ногами. В голове сделалось странно легко и пусто. Я сказала. Все. Как будто все, папаня.
А он? Что он тогда сказал мне?
Что ж, — проговорил он неожиданно спокойным голосом, и это подействовало так, будто меня схватили за горло. — В таком случае, Эмушка, пожалуй, куда-нибудь?.. Где не так противно… и гадко…
Выгоняешь?
Просто предлагаю выбрать. Зачем терпеть и задыхаться…
И уйду! И уйду! К черту! К черту! Плевать мне! Плевать на все! Понял? Плевать! Когда забирать вещи? Сейчас? Или попозже, когда будет светло? Что же ты молчишь? Говори! Когда?
И вот хлопнула дверь спальни. Мрачно, грозно. Как всегда в таких случаях. Как все эти пять лет.
Иди спать!.. — крикнула маманя, визгом провизжала, буравя мозги. — Ты, ты, упырь! Ты, ты, ты… не она! Ты виноват, ты! Ты погубил девочку! Всех погубил! Сломал, как хворостинку! Растоптал! Ты… сломал меня, а теперь ее! Теперь дочь! Ах, скорей бы умереть!.. Скорей, скорей!
И она в самом деле упала на пол, бедная моя маманя, прямо в коридоре, где мы так изысканно беседовали, такой вполне идиллический семейный совет; отец вроде бы не на шутку струхнул, кинулся ее поднимать, искать таблетки; я закрылась у себя в комнате.
Ладно! Я стала вытряхивать из шкафа свои тряпки. Уйду! Хотя бы к Лайме или Рецате, ведь к Вирге нельзя, не пустят»; та только прикидывается самостоятельной и современной, а что она без предков, без своей шик-мамаши, на которую и не взглянешь, если ты не в солнечных и не в дымчатых очках! Ну и дура, скажет Вирга, кто тебя будет одевать? На что будешь жрать? Не бог весть что и у Дайвы, кадушки дубовой, небось зубы на полку; ну, а чуваки наши хороши, когда можно гульнуть, тут папаня прав, на то, что ты сама выцарапала у дражайшей «на чулки», «на шампунь», «на косметику», на худой конец даже «на венок» (допустим, к похоронам родительницы бывшей одноклассницы — знаете, всем классом…), а если что-нибудь посерьезнее…
Например, в тот последний раз, когда она чуть не пятеро суток… Какой это был кошмар! Первым делом, конечно, к Виргусе; и сошло, мамаша даже кусок торта выдала; а после, когда они прокрутили чуть не три длиннющих пленки и искурили две пачки «Таллина» (Вирге разрешают курить, поскольку и ее мамаша курит) и когда ящик раскалился так, что не дотронешься, — эта дамочка, сударыня Шалнене, стала самым бесцеремонным образом вторгаться в комнату (между прочим, откуда это Лизи нахватала столько фоток pop, rock, country и даже disco ансамблей, все стенки облепила) и поглядывать демонстративно на часики-сердечко, подвешенные на цепочке на ее весьма жилистой шее, пока наконец не объявила, что бедняжке Виргинии завтра опять рано вставать, так что… «Ну, знаешь, mother, — зашипела Лизи, — завтра мне к трем!» Но особенно не воевала (смела она только с нами) и, несмотря на все свое огорчение, живенько выпроводила меня за дверь. «Понимаешь, папаша скоро завалится из кафеги… с венгерскими издателями… извини, а?» Извиняю, подумала я и двинула к Ренатке — из русской группы, с кошачьими глазами, с фака ее выперли, так что она ютилась у бабки (не ехать же обратно в Зарасай); ну и язва эта Ренаткина бабка — захлопнула дверь перед самым моим носом, даже не поинтересовалась, зачем я пришла, будто станешь без дела переться к ним туда… У Лаймы (чуть не в Белой Ваке) как раз находился ее поклонник (и как будто устроились они надолго), так что, само собой, еще одной даме (то есть мне) места не было («Диван, Эмка, всего один, а знаешь, моя хозяйка…»). Дайвы просто не было дома. Ее старик, весь в щетине, как кактус, вышел, переваливаясь точно утка, что-то промурлыкал насчет зеленой руты, видик у него был такой, что пускаться с ним в разговоры было пустой тратой времени, да и не останешься же с ним… Кое-как проскочила в общежитие, переночевала на одной койке с какой-то математичкой из Адутишкиса, которая храпела, брыкалась и все кликала Джима — я не поняла, собаку или так звали ее чувака; поспать не удалось, и часов в семь я оттуда смылась… А потом…
Стоит ли вспоминать, что творилось потом: что я ела, что пила, где и на что… Главное — на что, так как рябчики все вышли (да и было их рубль да полтора мелочью), а стрельнуть у кого-нибудь… «Что ты, золотая моя, — промямлил Чарли, и глаза у него сделались очень жалобные, — еще не получил за халтуру! Должны платить, а зажимают…» «Может, в субботу… — прогнусавил Танкист и томно закатил глаза. — Выставим на рынок бабусю с капустой…» «На хлеб и кефир, вот и все… — лепетала Дайва, а испугалась не на шутку, когда я все же изловила ее. — На прошлой неделе просто утопали в деньгах, а сегодня вот… Что ты, старик все прозюзюкал до последнего центаво…»
Пришлось двинуть на базар. Но никак не удавалось толкнуть мою куртку — оранжевую, с зелеными прошивками, завезенную откуда-то отцом (хотя Вирга сказала, что наш универмаг прямо забит такими куртками, сразу отравила настроение), а кто приценивался, то предлагал такие смехотворные гроши (будто я совсем уж дошла), лучше было провести еще сутки на органном концерте, устроенном моим собственным желудком, чем так унижаться; тогда я наконец отважилась позвонить… Да, да, но тому телефону: 44–15… Я все-таки позвонила, стараясь говорить как можно спокойнее и безразличнее (хотя в душе было полное и абсолютное отчаяние), и мне назначили свидание, и сразу все поняли, и сразу предложили денег. И… сразу же попросили вернуться, «не дурить и вернуться домой, поскольку такие шуточки… такие, моя милая, затянувшиеся детские выходки… могут отрицательным образом сказаться на нашей дальнейшей дружбе… на бескорыстном и целомудренном, как сама природа, симбиозе Рыбы и Единорога…».
Нет, нет, только не туда! И сейчас — нет, хотя Единорог ее понял и даже дал ключ от квартиры (попадись этот ключ когда-нибудь папане или мамане в руки…), хотя деваться опять же некуда, а оставаться здесь, так сказать, дома — невозможно, ни в коем случае, нет; сейчас, когда он ей сказал… Он, ну, отееец, который отравляет ей жизнь и не дает быть такой, какой она хочет быть, какой должна быть, и который ее, как лозу, гнет, терзает, ломает — это видно даже мамане, даже та понимает: он распяливает ее, Эму, по колодке ветхозаветных времен, по себе, по своему образу и подобию, по своему дико устаревшему вкусу и понятию, давит и жмет к самой земле, не давая выпрямиться я расправить крылья… В полет! Он не пускает ее лететь вперед, туда, где еще никто не бывал, — не туда, где ты, папаша, побывал, а туда, где в самом деле никто не был, — а главное, подальше отсюда, от этого дома, от серости и бытовухи, где все строится на вещах, деньгах, квартирных ордерах, служебном положении, на всяких будничных интригах и склоках и уж конечно на подхалимстве; вовсе в другой мир — без грязи и унижения, где все до единого добры и разговаривают только о прекрасном, о приятном, где каждый делает лишь то, что хочет, идет куда желает, любит кого хочет и когда хочет… И как хочет… Да, да, дорогая мамочка, кого и как хочет… где все выдуманные самими же людьми себе же на беду ограничения… рассеиваются как лопнувший мыльный пузырь… Ведь истина лишь в дружбе — и нигде больше… В труде? Кому как, папаша! Для кого-то и в любви. В жизни по своему понятию. А дома сидят одни лишь скучные людишки…
«Любите всех, кто не убивает. Будьте добры ко всем».
Значит, и к нему? К father’y?
Но он убивает! Он каждый день убивает мою свободу. И любить… или уважать… папаню… хо-хо!
А ты добрый, Единорог! Ты прекрасен, ты чудо! Ты можешь такое сказать: «Всех, кто…» Потому что ты один такой. Один из тысяч других. Коснется пальцем — и ты верна, дотронется — и верна… Ах, не то! Эма, дура набитая, не то!
А что тогда? И что то?
Сколько у него книг! И каких! Самых новейших иностранных и совсем старых, еле дышат в кожаных переплетах со стершимся тиснением. И сколько журналов, да каких!
У отца тоже полно журналов — и в редакции, и дома, — но не таких.
А у него… иностранные журналы. Листай сколько хочешь, вырезай на здоровье, мастери коллажи, тащи домой… завтра получишь еще… Весь мир словно вторгается в тебя, захлестывает, заставляет ахать, удивляться: тут и фраки, и джинсы, и пальмы, и сверкающие автомобили новейших марок…
«Не все там голодают, отец, и не все бегают на демонстрации…»
«А кто говорит — все? Я, что ли?»
«Ну, Петренас… Накайте…»
«Сомневаюсь, чтобы они такое говорили…»
«А ты не сомневайся… И различай то, что красиво, от того, что…»
«Красиво? — Отец горько улыбнулся, я даже во рту ощутила эту горечь. — Это мир манекенов, Эма… чучел… чаще всего чучел духовных, да еще людей, изнасилованных жизнью… Знаешь ли ты, что носит дома хотя бы эта девушка, — отец ткнул пальцем в шикарную красотку, демонстрирующую просто умопомрачительное нижнее белье, — и что она ест на завтрак?»
«Что-нибудь все-таки ест и что-то, безусловно, носит…»
«И сколько ей платят за то, что она позирует для рекламы?»
«Все-таки платят…»
«Она только здесь, на фотографии, такая бездумная и счастливая… А на деле… Знала бы ты цену этой улыбки!.. И то, что ее тело давно запродано… может, за жалкие центы…»
«А мне не надо знать, какая она на деле… И сколько получает за улыбку… Мне нравится смотреть, и этого довольно. Вполне довольно».
«Немного же тебе надо…»
«А если тебе только так кажется?»
Не понимает. Старик совсем ничего не понимает. Законсервировался. Памятник надгробный. Застыл. Окостенел.
Другое дело — Единорог, дивный, душевный человек. Мой человек.
«Почему тебя занимают эти демонстрации, Эми?»
«Интересно, и все…»
«Главное, Эми, люди, а они неодинаковы… И различаются не внешностью и не физическими качествами, а просто… разные духовные структуры… Это и определяет… Хотя телесных потребностей мы не можем отрицать, не можем выкинуть плоть за порог… Вот еще одна занятная статейка на эту тему… Шведский журнал… Очень любопытная статейка… Рекомендую… Весьма квалифицированные ответы на все вопросы… Возьми домой… И вырезку, и статью про шведов… Положи в сумку, забирай…»
«В сумку? Хорошо. Я ухожу. Сейчас…»
«Что ты, Эми!.. Посиди! Никто тебя не гонит! Я просто сказал: нечего мучиться, если можно преспокойно…»
«Нет, правда, — тараторю я, больше всего на свете боясь, как бы то, о чем я иногда думаю, не оказалось правдой… — Я надоела? Ведь надоела, тебе, правда? Своими дурацкими вопросами… визитами… Особенно когда ты мне этот ключ… Я мешаю…»
«Ни капельки, Эми! Ничуточки! Мне всегда очень приятно тебя видеть, Эми… И как ты, Эми, можешь так обо мне?..»
Эми… В глазах темнеет… Эми, Эми, Эми…
Эми — —
Только голос и глаза, голос и глаза, которые поглощают меня. Из угла, где он сидит в кресле, уронив под ноги пестрый плед, и листает какой-то цветной и яркий журнал или попыхивает своей элегантной трубкой, медленно, как мудрец, выпуская под потолок голубой душистый дым хорошего табака («Prinz Albert» — написано на пачке), или просто так, закинув ногу на ногу, подперев рукой подбородок, отдыхает. И все равно следит. Что-то он видит во мне, чего не могут разглядеть другие, что-то находит нужное для себя. И это хорошо. Это мне нравится… Нравится чувствовать, что кому-то есть до тебя дело, что кто-то — и не абстрактный некто, а он, он, мой Единорог, — интересуется всем, что бы я ни делала… И даже боязно глаза поднять, будто все, что ты знаешь и чувствуешь в данный миг — все то важное и настоящее, — вдруг может оказаться миражем, плодом твоей больной фантазии и исчезнет, как только твой взгляд столкнется с реальными предметами и картинами; или ты даже боишься его взгляда, его слов, движений, всего; достаточно лишь чувствовать: он здесь. И все. И все. И ничего тебе больше не надо, кроме одного: он здесь… И ты роешься в беспорядочно сваленной в углу куче иностранных журналов (журналы эти ему привозят моряки, а некоторые, более редкие, он приносит с работы), листаешь, складываешь, стрекочешь ножницами, откладываешь в сторонку то, что собираешься взять домой; все эти блага он дарит тебе. Это же сокровище! Все эти таинственно шуршащие листы, журналы, проспекты, буклеты и даже всевозможные рекламы; все это другая жизнь. Пусть чужая, далеко отстоящая от твоей суетливой будничности, но тем притягательней. А когда принесешь домой (а еще говорят, я ничем не интересуюсь!) и обклеишь этими восхитительными картинками стены своей комнаты (чем я хуже Вирги?), становится как бы и твоей та, чужая жизнь…
«Так и ты сама, Эма, становишься вроде этого бескровного манекена… Рекламы бутылок и сигарет… реклама какого-то мыла — и ты уже мнишь, будто это настоящая жизнь… Мне стыдно…»
Стыдно! Ему! Старый болван! Застрял на первой половине нашего века, на этих послевоенных годах и разрухах…
Вжик, жик, жик — работают ножницы! Мы трудимся, дорогой родитель, да еще как! Шу-шу-шу — бумага. Палево, направо! В корзину, в корзину, в сумку! Работаем!
«Отдохни, Эми… Ну, подними голову! Выше голову, выше! Я уже целый час не вижу твоих изумительных глаз, Эми! И не забывай, тебе нельзя переутомляться! Я не хочу, чтобы ты уставала, Эми».
Эми, все Эми… Дивный мой человек. Мой Единорог. Мой…
И ты не думай, несчастный Чарли, что ты мне хоть сколько-нибудь… Если я хожу с тобой, то исключительно потому, что никуда не могу пойти с ним, нигде не могу появиться… так как мои старики… особенно моя болящая мамаша… ого!..
Я смотрю на него: голова запрокинута, лоб крутой, чуть наморщенный, бачки бросают тени на щеки, в руке трубка, в белой, красиво очерченной руке… Полосатая рубашка, полосатый галстук, полосатая пижамная куртка (коричневая кожаная, в которой он ходит на работу, висит в шкафу), все такое обыденное и в то же время словно из этих вот журналов, и все такое интеллигентное, чистое, достойное, уютное; он сидит курит, выпускает вверх круглые колечки дыма, помахивает тапкой — чистой, большой, пушистой — и все поглядывает на нее, на кроткую, податливую малышку Эму, поглощенную журналами. «Не перестарайся, Эми, не все сразу, успеешь и потом… А сейчас? Сейчас перерыв, сейчас давай выпьем чаю; пожалуй, зеленого. Не знаю ничего более тонизирующего, вот уж где прав Восток. Я сейчас… если бы ты мне еще и помогла…» — «Конечно, конечно», — вскакиваю на ноги, вылетаю из-под лавины журналов, включаю газ, ставлю чайник, ищу заварку, сахар, ложечки… И все быстро, ловко, без слов, а если нет чистых стаканов, тут же кидаюсь мыть и тарелки, и вилки, и ложки и выкладывать все на стол, смахиваю крошки со стола ладонью… Эми, Эми, Эми… Я бы здесь все мыла и чистила, полировала, вылизывала… все ради него, Единорога, потому что… Потому что здесь не дом, здесь нет ни папани, ни мамани… ни их поучений… Только он, Единорог, его глаза, его голос, его… Только пусть он зовет меня этим именем: Эми — всегда, как в тот, первый раз, когда я для смеха написала ему записку в школе, во время встречи с сотрудниками НИИ, от имени которых выступил он, и когда он выразил желание ответить Эме на ее вопрос лично и подробнее… ей, Эми… своей милой, тихой Эми…
«Может, капельку мартельчика, а, Эми? — говорит он, кладет трубку на край пепельницы и наливает ей и себе. — Чтобы почувствовать нормальный вкус человеческой жизни». Он поднимает рюмку, улыбается и смотрит через стекло ей в глаза — ну просто Гирин из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»; а потом, после ужина (после чудесного ужина вдвоем), он целует ее в лоб, очень даже обыкновенно: встает со стула, подходит, наклоняется, сжимает теплыми ладонями ее щеки и целует в лоб. Совсем не так, как Чарли или кто-нибудь еще из кодлы. Чуть-чуть коснувшись губами, самыми краешками губ. «И все. И все, детка, на сегодня все; время дорого. Время — дар божий. Не будем разбазаривать его впустую, нельзя тратить время впустую (тут он становится похож на отца, уже одним этим), побережем его для труда, для деятельности, если не общественной, так хотя бы лично полезной, вон там, в машинке, с самого утра поджидает чистый лист бумаги, это мой новый опус…» «Что за опус?» — хочется спросить, но неудобно; и потом, она знает: он скажет, что опус важный, поскольку это его работа и она ему нужна… А если его — значит, и ее, Эмина, в чем-то и ее работа; и еще она знает, что ему положено работать, такой у него возраст, в его годы человек обязан чем-то заниматься, хотя Единорог умеет и веселиться, да хотя бы и маг послушать. А сейчас?.. «Нельзя так нельзя, в другой раз… можно?.. Может, вообще?..» — «Да что ты! — Он улыбается ослепительной улыбкой. — В другой раз мы возьмем и остановим время… Не часы, а время, ладно? Эми, я тебе притащу журналов… в другой раз… и еще кое-что… Что? Увидишь. Не все сразу, Эми…»
…Да, да, да. Хорошо чувствовать, что ты все можешь… стоит лишь пожелать… спять телефонную трубку…
Нет, нет! Не туда! Нет, пока еще… нет!
Слышишь ты, оте-е-ец… И ты, маманя, — еще нет! Еще не время. Когда все и всюду уже будет испробовано… когда все дороги будут исхожены и все двери закроются… в крайнем случае… А пока — рано… Мой час еще не пробил…
Ну, а ты, маманя, что ты знаешь? Что чувствуешь? Ничего! Ты ни о чем не имеешь понятия, у тебя все застыло в прошлом. Может, оно и было прекрасно, твое прошлое, не знаю, но оно позади. В тех годах. А их, увы-увы, нет. И сейчас, маманя, живут не тем. И не разговорами о равенстве, эмансипации, гармонии полов (ты даже не представляешь, сколько я всего поначиталась про это), а умением высказать правду в глаза…
(«Будь гордой, Эма, всегда будь гордой. Ни перед кем не пресмыкайся. Можно сломаться, но не дать себя согнуть. И не верь никому. Ни одному мужчине».
«А папе?»
«Мужчины жестоки, Эма. Бессердечные существа. Увидишь».
«И папа?»
«Мужчины никогда нас не поймут».
«Как же быть, мамочка?»
«Оружие женщины — гордость. Самостоятельность. Независимость. Жизнь в себе. Не поняла? Вырастешь — поймешь. Свой голос, свое мужество, своя воля. Не чужая, а своя. Только своя. Своя».)
Когда это? Да не все ли равно; когда-то. Я тогда совсем не разбиралась, что к чему. Только начинала узнавать мир. Тогда я еще не читала этих книг. Только начинала читать. Тогда не было у меня и друзей — тех, что позднее… когда я еще ничего не знала… ну… Когда спрашивала, почему она плачет. Когда еще сидела на коленях. Играла ее пальцами. Ее волосами. Заплетала их в косички. Где твое мужество, мама? Твоя воля? Независимость, о которой ты мне столько…
«Деспот! Деспот! Деспот! Все по-своему, только по-своему! Все для себя!»
Допустим, это так. А ты? Ты, мама? Зачем живешь? Для кого? Только для других? Не для себя?
Молчишь… Валяешься в коридоре на зеленом затоптанном ковре и молчишь — ждешь, когда я подбегу. Но я, матушка, горда. Я независима. Сломаюсь, но не склонюсь. И не побегу к тебе, нет, — пускай бегает он… отееец… А он подбежит, поднимет тебя под мышки, оттащит в кровать…
Я подхожу к двери, прислушиваюсь: тихо. Уже тихо там, за дверью, в том коридоре, где остались они, мои предки, которые все еще полагают, что имеют надо мной власть; какую, боже мой… Какие права? Никаких. Точно так же, как друг на друга…
Разве бывают права без свободы?
Вот куча тряпок у меня под ногами. Что это? Откуда? Ах да, сама! Я сама раскидала их, вывалила все вон из шкафа. Мои тряпки, их тряпки. Их! Юбки, платья, кофточки, колготки, лифчики. Кое-что, правда, похоже на то, что бывает в тех самых «Quick», «Burda» или даже в «Paris-match», но лишь кое-что, и все измято, скручено, свалено. Кто устроил весь этот кавардак? Зачем? И какое здесь все серое, в этом подлом шкафу, в комнате, у меня под ногами… серое, скучное, занудное… Ни красок, ни разнообразия! И никакого просвета, никакой надежды на перемену!
Уйти? Куда? Опять мотаться, как в тот раз? Как много раз… И почему уйти? Почему мне? Почему не им? Мы все взрослые, все имеем одинаковые права. Это в наше время соблюдается. В какой-то мере.
Ну ладно, я ухожу, вы остаетесь. В своем доме. В моем доме. Остаетесь вы.
Но почему так? Вам ни разу не показалось, что это жутко несправедливо? Не-гу-ман-но! Что появиться на свет не входило в мои планы. Что родителей я не выбирала. И дома, в котором живу… И если вы, родители, дали мне жизнь, о чем я вас не просила, то какое право имеете сейчас… когда я уже сама по себе… Кто дал вам право выгонять… как собаку…
А ведь я уже взрослая! Могу и не спешить: не только с возвращением, но и с уходом. Да, не спешить с уходом. Хотя бы до утра. Могу вернуться с лестницы. Могу вовсе не уходить. Я ведь тоже человек и тоже, как вы, хочу спать. И даже, может, больше, чем вы. Могу и я хотеть спать. Могу, могу, могу — —
— Эма…
Я вздрогнула.
— Что, Дайвушка?
А, здесь… Все еще здесь… В милиции.
— Сама с собой разговариваешь, сбрендила.
— С собой?
— Угу.
— Всегда приятно поговорить с умным человеком, Дайва.
— Особенно если он всегда тебя слушает…
Дайва шмыгнула носом — малюсеньким, по-поросячьи круглым — и замолчала. Сжалась в комочек, потирает колени руками и молчит. Не всегда юбка лучше брюк, ох не всегда!
— Вирга!
И та молчит; заснула, что ли?
— Лизи, жива?
— Абсолютно, моя драгоценная.
Совсем как ее мамаша, та, в блестящем платье. Драгоценная. Усвоила.
— Слышишь, Лизи?
— Что?
— Мое сердце.
— Ого!
— Приложи руку сюда. Ну, ладонь. Слышишь? Что-нибудь?
— Совсем ничего.
— А я слышу…
— Что ты слышишь?
— Какие же мы идиоты, господи!
— Что с тобой?
— Вдруг что-нибудь… тому человечку?
— Какому еще человечку? О чем ты? Что за шутки?
— Это не шутки… Будущему человеку, который когда-нибудь… Когда-нибудь… Ведь это может быть… когда-нибудь…
— Ну, балда! Ты как мой родитель — уж он сказанет, никто в целом городе не поймет. А уж напишет!.. Говорят, никакой критик или там академик не разберет…
— Знаешь, Лизи, нашим чувакам… им, может, и ничего, а нам… девушкам…
— Ты что, рожать собралась, мадам? И говоришь об этом здесь, в милиции?
— А что! Ничего удивительного!..
— А больше, Эмка, тебе не о чем думать? Совсем?
Растворилась дверь. Вошел седой майор. Искоса глянул. Не спеша, будто все происходящее доставляет ему большое удовольствие, потер руки — большие, темные.
— Ступайте себе, — проговорил наконец. — Можете идти.
Мы переглянулись: может, ослышались?
— Ну идите! — громче повторил он.
— А наши товарищи? — спросила я; не оставлять же их в беде!
— Эти обождут. Пока романы напишут. О своей жизни молодецкой. — Майор без всякого стеснения разглядывал меня; взвешивал взглядом как на весах; уставился и Гайлюс (почти забыла о нем). — Иными словами, объясняются. А вы… слабый пол…
Дайва и Лизи точно сговорились — обе с надеждой взглянули на меня. С плохо скрытым облегчением. Я помотала головой: нет!
— Мы обождем тоже. Пока они допишут…
— Думаю, это будет не скоро… — Майор шевельнул бровями — густыми, косматыми и безнадежно седыми. Какими-то старомодными. — Иногда эта писанина длится всего пятнадцать суток… а иной раз… особенно после серьезного преступления — гораздо дольше… А вы свободны, девушки.
— Без наших товарищей… мы…
— Я повторяю, вы свободны… Да ясно вам, курочки, что это значит? Что в милиции вам говорят: вы свободны? Сама милиция говорит…
— Никакие мы не курочки! — возмутилась я. — Мы взрослые люди… И мы хотим знать…
— Узнаете! — Майор махнул своей большой темной рукой. — Узнаете! Это нетрудно… куда труднее отсюда выйти… Особенно, — он повернулся ко мне, — если кто-то где-то посеял паспорт…
Меня прошиб пот.
— К-какой паспорт?
— Советский. Свой паспорт…
— Но я…
— Не спорить! Молчать! — Я замолчала. — А сейчас… — майор сердито кивнул на дверь. — Время позднее, гражданочки, посему прошу вас…
— Куда же мы одни… ночью… — захныкала Дайва.
— Хоть в пекло! — почти крикнул майор) Кажется, у него нервы тоже были не стальные. — Хоть к черту рогатому! — Он бросил взгляд на меня — тяжелый как камень. — И передайте приветик товарищу Глуоснису, ясно? Товарищу писателю Ауримасу Глуоснису… мы с ним когда-то… когда вас еще на свете не было, вас и этих ваших корешей… в любавских лесах… Да не забудьте — от Шачкуса!.. Он будет знать… Гайлюс, пропусти! Висмантас!
— Слушаюсь, товарищ майор! Пропустить!.. — прищелкнул тот каблуками. Это удивило меня — Гайлюс никак не походил на военного, и туфли у него были коричневые, замшевые, к тому же где-то я его все-таки видела. — Может, проводить? Все-таки, товарищ майор, девушки…
— Обойдутся!.. — ответил майор.
Мы одна за другой, гуськом, потащились к двери; взгляд Гайлюса был точно нож в спину…
«Обойдемся!.. — улыбнулась и я — лихой, бесшабашной улыбкой шобыэтта, которая часто, точно щит, ограждала меня не только от посягательств посторонних, но и от себя самой, и даже больше от себя самой, чем от других. — Еще как обойдемся!»
На улице задувал сильный ветер. Сырость железными пальцами вцеплялась в горло. Мы все трое, как по уговору, глубоко вздохнули и, ни слова не произнося, одновременно закурили по сигарете…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Потом пришло пробуждение — тяжелое, точно после гнетущего сна, когда кажется, что недобрые, угрюмые существа, виденные в кошмаре, остались с тобой и вместе ходят по улицам, работают в твоем учреждении и даже живут в твоем доме, посиживают в креслах в твоем холле… и тебе не остается ничего иного, как скрываться, хитрить, остерегаться их; главным образом, понятно, Ализаса. То, что другой женщине могло бы показаться заурядным, чуточку озорным эпизодом, для Марты стало раной, глубокой и незаживающей. Он не поцеловал ее, этот неблагодарный болван с кандидатским дипломом, Ализас из Любаваса, ее ученичок, — наклонился и чмокнул в ручку, будто тетеньку или тещу, — и это в тот миг, когда ее рука чуть было не обхватила его за шею, а что было бы, если бы ее поднятая и дрожащая рука, что-то ищущая в воздухе, нашла-таки его шею; но этого не случилось, чудо не свершилось, а теперь кажется, что ничего другого и не нужно, после того как он поднял свою тяжелую голову… Сегодня она может отнестись ко всему чуть трезвей. Марта вдруг почувствовала: что-то утрачено в тот вечер и после него.
И после — потому что она уже не могла спокойно смотреть в глаза не только Ауримасу и Эме, которая, кажется, что-то чуяла и догадывалась, но даже той особе, усохшей и плоской, как веник, доценту И., которая сама (попробуй разбери этих старых дев) претендовала на внимание Ализаса и его соседство в тот вечер; от ее глаз не укроется ни единое твое движение. Доцент И. всегда была нерушимым моральным столпом факультета, пошатнуть который не удалось даже вниманию со стороны самого декана Милашюса (а как она этого желала!), — и вдруг какой-то кандидат из архива… Общаясь с любым из своих сотрудников, Марта чувствовала себя так, будто тот все знает, то есть все про нее и про Ализаса, словно этому сотруднику больше делать нечего, как наблюдать за ней, Мартой. Что-то здесь было роковое, хотя здравый смысл против этого возражал: подумайте только — Ализас, которого она, разумеется, ничуть не любила (еще чего!) и без которого отлично прожила бы весь отпущенный ей срок, если бы тот не повстречался ей; но он повстречался, и она просто «поиграла в женщину», как впоследствии выразится панн Виктория, — разве то, что между ними было, можно назвать увлечением или страстью? Нет, конечно, нет; ведь он, Ализас этот, никогда ей больше не понадобится — даже в минуты самого кромешного одиночества. Это осталось как сказка, жившая где-то рядом с ней, миф, откочевавший из детства, хотя белокурый мальчик все еще являлся ей во сне, а порой и в призрачной дымке между сном и бодрствованием; но уже не всегда, ох не всегда оказывался он похожим на Ализаса, а все больше походил на того одноклассника Винцукаса (впоследствии известного в Литве поэта), чьи стихи, точно набранное цветными переливающимися буквами объявление, горели и мерцали перед глазами («Глаз твоих сиянье как сказка в тихий час, и творчества, дерзанья гори, пылай, свеча»), но лишь как общее светлое впечатление, и эти слова, далекими вспышками пробившие подсознание, — некий пунктир былых дней, с трудом находящий себе место в сегодняшней жизни; иногда этот мальчик смахивал на Ауримаса. И особенно тогда, когда их жизнь, пробурлив по камням водопада (так представлялось Марте), снова начинала течь по тихому и старому руслу реки, где все реже случались половодья и отливы, потому что оба они, пусть невольно, пусть совсем о том не помышляя, с каждым днем все больше отдалялись от весны с ее бурями и грозами, отдалялись от своей молодости; многое осталось в прошлом. И почему он, Ауримас, в тот апрельский вечер не пришел домой чуть раньше, зачем задержался, — ведь, пожалуй, могло и не случиться того, что случилось, всего этого позора. А это жалкое, пополам с сочувствием, замешательство вбежавшей в комнату Эмы; что, что она сказала, когда вошла? И не приснилось ли ей, Марте, то, что было тогда сказано?
«А это что такое? — воскликнула Эма, распахнув дверь и увидев бутылку на столе. — Что за праздник, мамуля? Что за бал?»
«Скорее маскарад… — кажется, так ответила Марта, все еще чувствуя жесткий холодок почтительного поцелуя на онемевшей коже руки и с недоумением глядя на Эму; даже та ей была не нужна сейчас. — Другого быть и не может».
(Кажется, она по-прежнему ощущала в себе запах вина и табака, хотя сейчас эта смесь не доставляла никакого удовольствия, скорее вызывала отвращение.)
«Мама, ты… пила?»
«Да… капельку…»
«И он… этот человек?»
«Он принес мне книги…»
Конечно, это было глупо — выдумывать оправдание; но почему-то Марте пришло в голову именно это.
«Книги?»
«Да. Ты не представляешь, Эма, сколько у него книг… И каких… А вообще-то… иди спать, Эма… Что-то поздно ты пришла, деточка».
Все. Кануло. Не вернется. Да что, собственно говоря? Ведь ничего и не было, не было никакого Ализаса… Был только ученичок младшего класса, где-то в болотистых любавских лесах… Лишь тот, сказочный, остался — с волосами, желтыми как лютик, — и там, в сказках и сновидениях, он изредка брал за руку легкую, сквозную, точно пух одуванчика, хрупкую девочку и вел ее куда-то сквозь гарь и дым, сквозь туман и стрельбу, мрачную перекличку деревенских собак — глаз твоих сиянье, да-да; вел, не касаясь ногами земли, паря в воздухе; он улыбался, и она тоже улыбалась; но, быть может, то была Эма? Уже не она, Марта, вдруг состарившаяся и познавшая меланхолию бытия, а ее дочь Эма, готовая вобрать в свою улыбку весь мир?
Не имеет значения: ушло, не вернется. И Марта даже не сразу узнала Ализаса, когда они обе, она и Эма, вынырнули из черной, забитой людьми глотки универмага.
«Это тот самый, у кого пропасть книг, да?»
Это было как удар кулаком — встреча в людской сутолоке, но сутолока и многолюдье и помогли уклониться от встречи; с тех пор Марта его не видела. Ибо весь мир для нее окрасился в совершенно иные тона, все в нем стало выглядеть иначе, и главным сделалось то, что прежде представлялось обычным и совершенно ясным: Эма да еще Ауримас, но прежде всего — Эма; Эма, где ты была, Эма, куда собралась, когда придешь, Эма… Эма, Эма, Эма… Лишь ей, дочери, можно было добиться того, что оказалось не по силам ее матери в Любавасе и в Вильнюсе той поры, о чем Марта могла только мечтать: утвердить себя не в смысле карьеры, положения на службе — подобное Марту мало интересовало, — а в женском смысле, вести настоящую, достойную женщины жизнь, где тобой любуются, рады тебе, где ты что-то значишь, ты всем нужна, где без тебя просто гибнут, пропадают. Ибо ты есть, ты — женщина, без которой нет ни вдохновения, ни тепла, ни семьи и перед которой все как бы в неоплатном долгу. Выбиться из этой незначительности, невзрачности, которая словно на роду написана ей, Марте, несмотря на то что пришла новая жизнь и открыла ей глаза, накачала свежего воздуха в легкие, — но какая-то запоздалая получилась эта жизнь, быстро износилась, без времени состарила и одарила хворями…
Зато у нее есть Эма! Дочка Эма, которая и хороша собой, и способненькая, и с детства живет в таких условиях, что только радоваться и радоваться да благодарить судьбу; правда, и у нее пошаливает сердце, — видно, в нее, в мать, пошла, — но теперь другие времена, другая медицина, ого, теперь…
«Больше двигаться, больше деятельности, активности! — советовал врач-специалист, которому, девочку показали в классе четвертом-пятом (переутомлялась после контрольных). — Так теперь у нас лечат! И не только здесь, на периферии, но и там…» — он показал пальцем куда-то в сторону окна, через плечо; там опускалось багровое вечернее солнце.
«Спокойствие, как можно больше спокойствия — вот что нужно вашей девочке!.. — излагал другой, уже в шестом. — Это не шутки: переходный возраст! Физкультура? Вздор! Предоставьте Щоцикасу и Жаботинскому!.. Бегать? Что вы! Бассейн? Ни в коем случае! Лагерь? Что вы, гражданочка, хотите летального исхода?» Марта чуть не бегом выбежала из кабинета, увлекая за собой Эму, которая держала в своей хилой ручке какой-то затрепанный романчик.
«Как быть?.. — значительно морщил лоб профессор, знакомец Ауримаса (сам Ауримас почему-то не советовал к нему обращаться), всеми уважаемый и чрезвычайно модный доктор Ремас Райла. — Да пусть живет естественно, как ей хочется… Не дергайте без надобности… Не нажимайте на учебу… зачем девушке излишняя образованность? Не верю, чтобы творческая личность, писатель Глуоснис (он подчеркнул слово писатель едва заметной, снисходительной издевкой, подобная насмешливость тоже начинала входить в моду у людей прикладных профессий), не был в состоянии обеспечить своей единственной дочери необходимые условия…»
Какие? Этого Марта не спрашивала, не хотела показать себя дурочкой, но в душе поклялась: беречь. Она будет оберегать дочь от всего, что может в какой-то степени повредить ее слабому сердечку, оберегать всегда и везде, от всех, и особенно от Ауримаса, от отца, который как будто ничуть не понимает трагичности положения: их дочь больна и чуть не обречена — это было еще тогда, когда…
Нет, нет, нет, об этом не надо думать, сейчас не надо, колеса не повернуть вспять, пусть катятся… Катись вперед, колесо истории, где Марте отведена совсем незначительная ролишка, даже, признаться, незаметная, но зато ее Эме… Все книги — для Эмы, все фильмы, спектакли, все телепередачи; и все концерты, все выставки, все путешествия; правда, все больше по курортам, с Мартой, не отпускать же ее далеко одну… И не оставлять же с Ауримасом, который свою дочь (да и жену, впрочем) совсем не понимает (однажды, правда, пришлось-таки оставить: когда ездила на стажировку в Москву) и который считает, что главное — работа, долг, ответственность. Может, и так… Но она, Марта, ради своей единородной готова на величайшие жертвы, какие всегда выпадают на долю матерей, но, увы, не понадобилось и это. Увы, ибо ей все время казалось, что она еще не сделала для своей дочери того, что необходимо сделать, чтобы у Эмы осталось представление о ней как об исключительной матери. А ведь если и стоит ради чего-то жить, то только ради Эмы, и все потому, что в ней видишь самое себя, свою юность, идущую иным, более красивым и осмысленным путем, свои собственные грезы, свои мечты, которые сбылись в дочкиной повседневности, видишь ее, свое дитя, частицу своей души и плоти, да что там частицу — всю целиком свою душу, которая постепенно становится тем, чем хотела бы стать ты, и главное — настоящей женщиной. То есть раскованной, независимой, не приемлющей ту ложь, которая призвана оправдать унылое существование… Ложь… и больше ничего. Ничего больше, Мартушка…
Пани Виктория это как будто понимает лучше всех. И то, что однажды вечером, в мае месяце, выдержав паузу в целых три недели, она позвонила и попросила заглянуть, показалось Марте делом вполне естественным.
Хотя не совсем.
Раньше Марта бывала у них часто, особенно когда они еще жили на одной лестничной клетке («Петрик, включи газ!.. Петрик, принеси чай!.. Петрик!..» — доносилось сквозь коленкор двери Ваготасов); последний раз была во время похорон профессора — незадолго до того вернувшегося после вынужденного длительного отсутствия, — на поминках, которые устраивала его закутанная в черный плат вдова; по углам жались, все в черном, заплаканные стареющие дочери, поразительно некрасивые особы.
И сейчас, стоило лишь Марте войти, все три (странное дело!) кинулись к ней, точно голодающие на хлеб, умоляя «не обращать внимания» и по возможности («Мы очень просим вас, дорогая Марта, умоляем») поговорить с их почтенной мамочкой, от которой сейчас зависит душевное равновесие и материальное благополучие их всех, бедных и осиротевших созданий («Вы сами поймете, почему…»).
Пани Виктория, когда Марта вошла к ней в комнату, сидела в глубоком кресле, в котором покойный профессор сиживал вечерами за газеткой, под большим торшером, похожим на подсолнух, — восседала, скинув с себя не только траурную черную накидку, но одетая как-то уж слишком по-домашнему, но кокетливо — в одном лишь наброшенном на малость костлявые плечи легком немецком халатике с разрезами по бокам, сцепив на выпирающих из-под халата суховатых коленях белые, унизанные перстнями пальцы, выставив вперед голубые восточные шлепанцы на босых, с голубыми жилками, ногах… Пани Виктория широко улыбалась, показывая отличные, великолепно вставленные наилучшими специалистами зубы, прямо в лицо молодому (примерно в возрасте того Ализаса, ну, московского) человеку, очень черноволосому, весьма по-хозяйски развалившемуся на диване перед сияющей хозяйкой; рядом лежала гитара, перевязанная ярко-алой лентой…
— …Темно-вишневая ша-а-аль!..
Пани Виктория пела с большим чувством, загадочно глядя на смуглого гостя, с усталым видом, рассеянно поглядывающего по сторонам; пани Виктория умолкла и повернулась к двери. И в самое время, так как Марта чуть было не попятилась назад в коридор, где сгрудились в нетерпеливом ожидании все три дочери.
— Это ты, любушка… — Пани Виктория словно удивилась, увидев Марту. — Наконец ты здесь!.. Подсаживайся, будет веселей!.. Растрепали? Уже? Нагородили про нас с Юликом?
Она, разумеется, имела в виду свою милую троицу, которая топталась в коридоре и, без сомнения, подслушивала; пани Виктория, кажется, позабыла, что сама звонила Марте, движимая желанием показать своего «цыганенка» (впоследствии Марта узнала, что Юлик действительно выступал с цыганскими романсами). Дело в том, что гость метнул в Марту взгляд, острый как шашлычный вертел, и взгляд этот словно подтверждал, что Марта пришла к нему — еще одна обожательница, еще одна претендентка на любвеобильное сердце и пение в будуаре; цирк, в котором этот герой выступал, аккомпанируя себе на гитаре, после гастролей в Вильнюсе («Знаете, ко-о-лоссальный успех!») свернул свои шатры и отправился дальше, а Юлик остался погостить; гостил он, как выяснилось, уже пятую неделю, без всякого стеснения нахваливал хозяйку дома и весь этот столь уютный дом, вильнюсское масло, местный джин и уверял, что приедет еще («Мадам Виктория просто очаровательна!»), да подмигивал Марте: весьма по-дурацки и заговорщицки: Марта почувствовала себя не в своей тарелке, покосилась на дверь.
— Нет, нет! — остановила ее Виктория, дрогнув ногой в восточной туфле с загнутым носком. — Если я зову, значит, ты мне нужна!.. Соскучилась!
— Эма забыла взять ключи… — виновато улыбнулась Марта; ей было и страшновато, и любопытно, по-женски любопытно. — Знаете, с этими ключами вечно…
— Ну, сходи отопри… Но не покинешь же ты меня одну… — Виктория шевельнула ногой в сторону двери; то, что она хотела выразить этим движением, видимо, не стоило мановения ее руки или взгляда. — С этими моими чучелами… Они хотят меня списать! Мол, не знаю своего места. Я-то?! Меня, любушка, всегда считали образцом хорошего тона! Из-за меня чуть не на дуэлях дрались. Да, да… Я, видите ли, оскорбляю семью! Разбазариваю, видите ли, наследство их отца! Вот ведь как бывает, любушка… — она стрельнула глазами в сторону Юлика.
— Я все-таки пойду, пани Виктория… — Марта направилась к двери. — Мы еще поговорим… как-нибудь… А сейчас… я вижу…
Ей было явно не по себе, как-то уж очень погано; дома она сразу юркнула в ванную.
Не ходила к Виктории долго, несколько месяцев, пока та, изловив Марту на улице, силком не затащила к себе. Был конец сентября, за окном пылали клены; липы, как молодые хозяюшки, суетливо одергивали мятые желтые одеяния; Виктория была грустна и куталась в черную шаль. Не было ни дочерей, ни скандалов, холодная, неуютная тишина; телефонная трубка и та, снятая с рычажка как лишний, никчемный предмет, болталась на шнуре, чернея на фоне цветастых обоев коридора…
— Уехал… — вздохнула пани Виктория, мешком рухнула в глубокое кресло под пышным подсолнухом, в кресло, где любил сиживать после трудов праведных муж-профессор, царство ему небесное; она снова сцепила руки на коленях, сегодня обтянутых черным джерси траурного платья. — Бросил…
— Как это?
— Увы… А я, дуреха… ну, самым идиотским образом… — Провела ладонью по лбу, взглянула на Марту, неожиданно засмеялась. — Любви все возрасты… знаешь…
— Да, да… — кивнула Марта. — Покорны, покорны…
Виктория отрешенно смотрела вдаль. Потом поспешно надорвала пачку дорогих сигарет, протянула Марте; обе, помогая друг дружке, закурили. Сидели молча, думая о своем… По оконному стеклу бился черный, точно обугленный, готовый упасть кленовый лист…
Вообще-то ей здесь нравилось, у Виктории, — ни тебе забот, ни домашней суеты; казалось, достаточно перейти через дорогу, выпить чашечку-другую кофе (несмотря на запрет врачей), не спеша выкурить сигаретку (это у них, у врачей, считалось чуть не самоубийством), и жизнь повернется к тебе иной, куда более красивой, спокойной и надежной стороной, где нет ни бурь, ни треволнений, ничего того, что казалось неотступным, пугающим; здесь, в гостиной пани Виктории, все теряло свою боль и остроту, становилось незначительным, обыденным, не стоящим того, чтобы портить себе кровь; всегда найдутся проблемы поважнее. Хотя бы и то, что циркач-гитарист, между прочим, снова возник на горизонте и опять тешит пани Викторию цыганщиной; а как изумительно играет под смуглой кожей здоровый румянец; и то, что, когда он (как, видимо, и должно быть в сем неправедном мире) опять месяцами где-то пропадает, пани Виктория (хочешь — верь, хочешь — нет), уже привыкшая к веселью (как в младости, как в младости!), находит себе другое утешение: всегда найдутся таланты, нуждающиеся в опеке! И было бы, любушка, странно и даже непонятно, если бы она, артистка Виктория, не покровительствовала искусству; вот если бы в свое время кто-нибудь подобным образом поддержал ее саму! В ее лучшие женские годы!.. Да, в те, когда ей не надо было часами мокнуть в ванных с этими омерзительными косметическими масками или прибегать к пластическим операциям лица, когда один взмах ее ресниц мог смутить кого угодно… Говоришь, гм-гм, муж-профессор?.. Пока его не было, мужчины как мухи на мед к ней липли… «А как же иначе, любушка? Женщина должна лукавить, так уж ей суждено. Три девицы — три пальто, три платья, три пары туфель… и три рта, любушка, да сама четвертая… не святым же духом жить… а зарплата, господи… Женская доля тяжела, любушка, но я ничуть не жалею… Отдавала другим все, что было, а что может быть у бедной актрисы, что… кроме сердца? Кроме красоты? И я не тряслась над своим богатством, и когда один вдруг умер, нашла другого… А он взял да поскакал на сибирскую стройку — добровольно, любушка, по наркомовской командировке — и оттуда не возвернулся (сцапала какая-то бестия из Владивостока, прилипла как пиявка), и тут я нашла еще одного, полковника. Вот она, Мартулька, женская жизнь… трудно, что и говорить. И ничего мне не надо было — только услышала, что мой-то возвращается, рада-радехонька, знала — простит, все поймет да еще и обрадуется, что на склоне лет обрел домашний очаг и привязанность жены… знаешь, мужчины это ценят… Постоянство! Дом! Магическое, волшебное слово: да! Да, да, да, — будь он хоть сто раз не прав и несправедлив… Не веришь, любушка? Ты все витаешь в облаках… как какая-нибудь Жанна д’Арк…»
— Жанна д’Арк? Почему?
— Потому что ты вечно жертвуешь собой, Марта. И даже сама не знаешь, зачем, во имя чего. А это опасно. Ой, любушка, опасно…
— Пани Виктория, — ответила Марта (она не боялась высказывать Виктории то, что думала даже о ней самой; та не обижалась и, возможно, побаивалась потерять такую молодую и умную приятельницу — рядом с ней и сама пани Виктория казалась себе моложе), — наша жертвенность имеет свой смысл. Женщина по самой природе своей склонна к самопожертвованию. Важно, чего ради жертвуешь собой. В конце концов, это и есть оправдание нашего существования…
— Только это? — Виктория лукаво улыбнулась. — Вы так считаете?
— Уточним: и это тоже.
— Мир так несправедлив, любушка. — Виктория выпустила сизую струйку дыма; Марта сегодня не курила.
— Вы правы. В борьбе против всей этой несправедливости и достигается истинная женская свобода.
— И ты полагаешь одержать победу?
— Одержала. Тем, что не сломалась. Что выстояла. Осталась самостоятельной. — Она подумала про Ализаса. — И у меня есть дочь…
— У меня их три… — Виктория покачала головой — медленно, точно через силу. — А радости-то…
— Я не о том… — Марта отпила кофе; горячий напиток обжег губы. — Не всякое бремя нам под силу. Что-то надо оставить и нашим наследникам…
— Вы, Марта, верите? — Виктория почему-то перешла на «вы», это придавало ее словам какой-то особый вес.
— Во что, пани Виктория?
— Ну, в то, что молодое поколение… что ваша дочь… достигнет того, чего не смогли вы?..
— Я верю, что она оправдает свое существование. Надежды, которые я на нее возлагаю. Что не будут обмануты мои материнские чаяния. Да, верю!
— Что ж, — Виктория кивнула головой. — Дай вам бог… Надейтесь. Это так важно. Верьте. Вы еще так молоды.
Она встала, подошла к проигрывателю. Поставила пластинку с цыганским романсом. Взяла новую сигарету.
Как-то классная руководительница сказала: Эма курит, сбегает с уроков, на школьном вечере от нее попахивало табаком. Табаком? Не может быть, она лично никогда ничего такого не замечала. Может, это Дайва… растет без матери, или Шалнайте… Эма же совсем другой человек. Вы посмотрите, какие у нее глаза! Чистые как родник, она не способна лгать. «Где ты была, Эма?» — «В кино». — «А в школе?» — «И в школе, мамуля. Сочинение писали». — «И как?» — «Как обычно… Если бы классная так не наседала на меня…» — «А мне, детка, сказали…» — «Что я не писала, да? Ладно, покажу тетрадку… Когда раздадут… Или ты мне не веришь? И ты, ма, как наша классная…»
Верит, Марта верит всему, не может не верить; ведь Эма — не просто дочь, а она сама, Марта, хотя и не та, сквозная и легкая, как одуванчиковый пух над лугами ушедшей куда-то далеко-далеко юности; Эма — ее собственная плоть и кровь, ее единственная радость и утешение; и надежда, безусловно, — другой у Марты нет, потому что все разбросано по годам, как по полям… а то, что еще осталось…
Да, да, Эма принадлежит ей! Только ей одной — не отцу, этому холодному, ко всему равнодушному (а может, и не ко всему, попробуй разбери), полностью поглощенному одним собой — собой и своими трудами, от которых, возможно, не столько пользы или чести, сколько можно было ожидать (давай, Мартушка, без иллюзий), по которые его крепко-накрепко привязали к письменному столу. У нее, Марты, своя судьба. И главное в ее жизни — вовсе не быть рядом с мужем, или в институте, на лекциях (студенты ее как будто любят), или на рынке, в магазине, или в уютном особняке на Заречье (спасибо Даубарасу) — в кухне либо за телевизором, и не разговоры с паней Викторией, а редкие (и постепенно становящиеся все более редкими) беседы с Эмой, такой дерзкой, остроумной, оригинально мыслящей. Марта живет ради будущего Эмы, она вся в этом. Может быть, Эма будет пианисткой, художницей, режиссером… Ей доступно все, и все у нее будет, все, чего недоставало Марте и, быть может, Ауримасу, даже ему, хотя он… он совсем другое дело… Эма станет всем, чем не стала она, Марта из Любаваса, хотя, поверьте, и она не была бескрылой, хоть и стирала чужие тряпки; но вот… злая участь… болезни… болезни…
И не Эму, а ее, Марту, разносит классная наставница; это не Эму, а саму Марту усатые швейцары в галунах гонят прочь от входа в кафе («Девчонка еще!»), не пускают на кинофильмы «только для взрослых», это у нее, не у Эмы, отец отнимает сигареты… У нее, у нее, у нее! Однако все это — запрещать, гнать, даже порой наказывать — должна делать она одна, Марта, Эмина мать, только она одна, ибо только она знает, как это сделать правильно, как не ранить чуткого (как и у нее, у нее самой) сердца… которое и без того… И вообще это ее исключительное право — вмешиваться в Эмину жизнь, это право ей дает ее материнская власть; кто лучше родной матери поймет дочь? И уж совершенно ясно, что лишь она, ее Эма, будет матери опорой в старости и в немощи… ведь Ауримас… холодный, чужой человек…
«Ты не знаешь, где бы могла задержаться Эма?» — спросил он однажды, весьма неприветливо щуря глаза: уловил идущий от волос и платья Марты сигаретный запах — она только что вернулась от пани Виктории, куда опять наведался Юлик, пел и играл на гитаре.
«Может, в кино? — ответила Марта как можно более беззаботным тоном. — А что?»
«Ничего, — ответил он. — Многосерийный фильм, что ли?..»
«Выстою, выстою! Смогу выстоять! — думала Марта, направляясь не в спальню, куда, с тяжелым сопением и как-то неуклюже шаркая ногами, потащился Ауримас, а в ту, зеленую комнату; кажется, тогда она впервые подумала о нем как о совсем чужом человеке. — И перед тобой, и перед твоей иронией… мы обе с Эмой… вдвоем легче…»
К Виктории она больше не ходила. Что-то новое и непривычное росло у нее в душе. Кстати, цыганистый Юлик, улучив минутку, когда пани Виктория вышла на кухню за чайником, совершенно недвусмысленно предложил Марте завтра после обеда съездить с ним за город. И как только он посмел! Он, не имеющий ничего общего с рыцарем-мальчиком ее прошлых, детских грез?!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Оте-е-ец!..
Он вел меня, растерянную, чем-то растревоженную, в отделение милиции — три года назад (маманя опять лежала в больнице) — и все говорил, как это важно, когда человеку стукнет шестнадцать и он получает паспорт («Теперь ты уже за все отвечаешь»), и как это хорошо, когда в этот день в отдел паспортов тебя сопровождают отец или мать, а то и оба вместе; это вызывает чувство гордости за свою семью, дом, ведь так передается эстафета поколений. Он как-то размяк и раскис, мой папаня, глядевший, по-моему, на жизнь сквозь статьи, которые печатались в его журнале, когда тучноватая, но еще молодая сотрудница отдела в форме капитана милиции не допускающим возражений голосом попросила его обождать в коридоре: дочь никуда не денется, взрослая, совершеннолетняя и может сама заниматься своими делами, а свидетели в данном случае не столь необходимы; дошло до него или нет; сама; отец промычал: понимаю, — мой наивный папаша! «Ох уж нынешние родители!.. — пропела сотрудница-капитан — она даже подмигнула мне — и живо мазнула алой помадой по своим отнюдь не бескровным губам. — Они, бедняги, думают, что без их помощи мы и паспорта не выдадим!» «Без чьей помощи?» — чуть не вырвалось у меня, но я почему-то удержалась. «Без ваших интеллигентных пап и мам…» — будто продолжая мою мысль, добавила женщина-капитан. Распишись, и порядок. Вот подпись, а вот паспорт… Всё. Сле-едую-щий! Она не сказала никаких торжественных слов, соответствующих важности момента. Даже слов «береги, не потеряй» или еще что-нибудь такое. Она куда-то спешила и все посматривала на часы на круглой пухловатой руке. Вот так-то, папенька!
И то, что отец, который был не прочь (хоть и делал вид, будто его к тому принудили) поговорить о былых, таких нелегких военных, послевоенных или предвоенных годах, когда он, прыщавый гимназистик, щелкал в пинг-понг, проникнув сквозь плохо закрытое окно университетской библиотеки, таскал паркетные планки на фабрике и тайком почитывал Маркса, сейчас семенил рядом какой-то потрепанный, словно стал меньше ростом — никакой значительности (a обещал после «церемониала вручения» самолично сводить дочь в «Нерингу» и угостить шампанским; впервые в жизни!»), — ей представилось неким вызовом судьбы, неким приговором, чему-то, что для отца было всего важнее. Ведь могла эта капитанша (она и Эме не понравилась; возможно, из-за той бесцеремонности, с которой она подмазывала губы) вручить ей паспорт и при отце, что ничуть не унизило бы Эму, даже, напротив, возвысило бы ее в отцовских глазах, могла и произнести что-нибудь подобающее, Эма ничуть не обиделась бы, она поняла бы и даже, возможно, ответила бы ей, но она ничего не сказала, и Эма ничего не ответила; видно, той это было до лампочки, не столь уж важно все это было и Эме. Было только обидно, когда отец через пару шагов остановился, достал троллейбусный талончик и быстрыми, испуганными шажками потопал дальше, — он спешил в редакцию, день остался без праздника. Как и прочие дни уже взрослой Эмы, дни, которые довели ее до этой вот ночи… А майор просит…
Привет! Передайте, вы слышите, привет!..
Отееец…
Не Единорог, не Гайлюс (при чем тут Гайлюс, при чем?), не кто-либо еще возникает передо мной, когда мы втроем шлепаем по сырой промозглой ночной улице, — а он, тот, кого я хотела бы забыть, словно он и не существовал на свете, особенно после того, как… Хочу и не могу, не могу, не в силах, потому что даже сейчас, когда мы чудом избежали «суток», мне вспомнился тот раз, когда мы с ним побывали здесь (не именно в этой милиции, а в милиции вообще), — даже сейчас, когда бездомной кошкой (его, между прочим, выражение, отцовское) бредешь по мглистой улице вблизи реки невесть куда и зачем; даже когда он далеко, независимо от моей воли, против моего желания, он всегда со мной, а то и во мне (и это страшно) — как родимое пятно, как форма носа, цвет глаз или запах кожи, как воздух, которым мы оба дышим; и даже в той комнате, пропитанной разными ночными запахами милицейской комнате, откуда мы, опустив головы, с таким чувством, будто как-то слишком дешево продали своих чуваков, и совершенно трезвые выплыли одна за другой (я, разумеется, замыкала это траурное шествие), даже там я, словно еще одного милиционера — да-да, словно еще одного майора! — чувствовала его, своего отца; даже в этой пронизанной холодом ночи — грозной и трепетной, в каждом шаге своем и каждом вздохе ощущаю я его, человека, которого должна забыть, как свое прошлое, — ведь я поклялась себе забыть на все времена, изгнать из памяти, из мыслей, забыть навсегда, как забывается учитель младших классов, который когда-то оставил тебя после уроков и даже, может быть, трепанул за ухо (хотя это запрещено), а потом полностью испарился с твоей жизненной орбиты (хотя ты, возможно, и встречаешь его на улице), или как чесотка, от которой спасу не было: прошла, и нет ее, кончилась, сгинула, нечего и вспоминать всякую пакость…
…Налетел он внезапно, как смерч, вернувшись под утро (а ведь уезжал в район да на целых пять дней; маманя все еще валялась в больничке), будто нюхом учуял за три сотни километров, что у нас в доме веселенькая фиеста; вообще-то она удалась. Главное, устроила ее я одна, без всякой посторонней помощи; это были самые веселые — три моих дня (и, конечно, ночи), когда я, точно заправская хозяйка (засунув новехонький паспортишко куда-то в книги), принимала своих гостей, в том числе и нескольких одноклассников; мне было весело, и я знала, что для человека нет ничего важнее его настроения, по крайней мере для меня и моих друзей, — хотя согласна, что, пожалуй, следовало бы пощадить отцовскую винную коллекцию, и тем более не стоило заливать бельгийский ковер, которым так гордилась мамаша (когда ее что-то еще интересовало кроме болезней), и, пожалуй, нечего было засыпать пеплом отцовские книги и вообще соваться в его библиотеку, ключ от которой имелся только у мамани; но я была за хозяйку, мне было весело, и я отперла все двери и позволила своему народцу быть где ему хотелось, иначе — что за дружба? Некоторым во что бы ни стало требовался диван — хотелось соснуть часок-другой после напряженного ночного бдения, а то и пообжиматься подальше от остальных; и все без исключения требовали, чтобы при свечах; и мы натыкали их прямо на копры, и скакали вокруг, как самые отпетые язычники; свечи трепетали, гасли, напоминая, что радость быстротечна и зыбка, «жизнь коротка, хватай за бока», сейчас это уже все равно — все давным-давно в прошлом; перекрывая все голоса, гремел биг-бит, подобно горному обвалу или извержению Везувия сотрясая всю нашу сонную и благопристойную улочку; с великолепным грохотом и треском, точно под космический ураган, извергались эти несравненные звуки через все щели и дыры в оконной замазке из моей новейшей «Вильмы», подаренной предками по случаю все того же шестнадцатилетия; вместе с клубами табачного дыма, нависшими над тишайшей улочкой во всем Вильнюсе, над липами, кленами и каштанами, из настежь распахнутых окоп и балконных дверей (балконы не какие-нибудь — итальянские, мамина гордость) весьма темпераментно вылетали окурки (красновато светясь, как искусственные спутники Земли), бумажки, пробки, бутылки; одна чуть не тюкнулась в «Волгу», из которой, явившись на целые сутки раньше, выбирался мой досточтимый…
Что тогда делалось, боженька мой! И не сразу, не вмиг (было около четырех утра, и оставалось только удивляться, как стремительно, почуяв, что запахло жареным, скатились по деревянной лестнице прокуренные барышни и осоловевшие, не на шутку испуганные кавалеры, оставив на бельгийском ковре бесстыдно опустошенную отцовскую коллекцию сухих вин, пирамиды окурков, горы огрызков), а позднее, уже вечером, когда соседи (Ваготиха, кому больше) проинструктировали отца, осветив, что здесь происходило в течение минувших трех суток; а, собственно говоря, что же происходило? Собрались люди молодые, шустрые, девочки, мальчики, повеселились; а почему бы и нет? Что мы, трухлявые старикашки, что ли?
«Это и есть ваша деятельность? — отец показал на ковер, в самом центре которого, оттеняя его небесно-голубую бельгийскую лазурь, змеился длинный, уже побуревший желобок… — Кто тебе разрешил?..»
«А что тут такого?..»
Отец рассвирепел; маманя болела, между прочим, тяжело, уже который раз в этом году, врачи мямлили что-то невнятное, и отец это знал; потому, видно, и вернулся пораньше и застал нашу фиесту. И нервничал явно из-за того же — из-за мамани. — Да ты хоть понимаешь, что делаешь, Эма? Как ведешь себя! Соображаешь хоть что-нибудь? Вместо того чтобы сходить в больницу, навестить, созвала всю эту шайку бездельников!.. Соображаешь?!»
Я молчала. Сказать «нет» означало согласиться, что мои умственные способности в самом деле узковаты. А ответить утвердительно я не могла уже в силу того, что эти аксиомы мне излагал он, мой отееец.
«Вчера маме было очень плохо, — продолжал он. — Она даже была без сознания. Я позвонил и узнал…»
Я молчала.
«Ты слышишь? Вчера, когда вы здесь бесились… твоей маме…»
«Да оставьте вы меня в покое!.. — крикнула я. — Я тоже человек!»
«Неизвестно…»
«Человек! И взрослый».
«Как сказать…»
«Во всяком случае, у меня есть паспорт… И я знаю, чего хочу: жить. Жить хочу, понятно? Жить! И отстаньте от меня со всякими там болячками…»
«Мы бы рады… но, к сожалению…»
«Я молода! И хочу жить!»
«Но неужели так, Эма?.. — отец махнул рукой, указывая на ковер; на лице — откровенное отвращение… — Если, по-твоему, это настоящая жизнь…»
«А чем ненастоящая?»
«Тем, что насквозь отравленная».
«А твоя — нет? Твоя тоже!»
«Моя?»
«У тебя в молодости тоже кое-что было… Мама рассказывала…»
«Нельзя сравнивать, Эма… другие времена. Совсем другие… Бывало, вечером ложишься спать и не знаешь, проснешься ли… А сейчас…»
«А сейчас? Что сейчас?.. Каждый день только и слышим: столько-то бомб, столько-то ракет… тут война, там война… Мы, по-твоему, знаем?..»
«Знаете. Войны не будет. Большой. Не допустят…»
«Ручаешься? Подписываешься?»
«А иначе для чего, по-твоему, вся дипломатия и…»
«Ай, хватит! — Я отвернулась. — Неужели неясно, что хватит? Речей. И поучений. Разных разговоров. Дай отдохнуть».
«От чего, позволь спросить?»
«От тебя. От мамочки».
«Как это понимать?»
«Просто. От ваших речей и болезней. Да, от болезней! Весь мир — сплошной лазарет, ну и что же? Все болеют, а мне что за дело? Нам, молодым, какое дело до всего этого? Какое дело, если и я тоже?..»
«Я говорю о маме…»
«Говори, говори! Ты — о маме, я — о жизни. Зачем мешать жить другим, отец? Разговорами о здоровье. О восстаниях и войнах. Разве не хватит с вас той войны и послевоенной заварухи? Не лучше ли просто пожить… Пока дают… Пока можно… пока…»
«Пока?.. — у него засверкали глаза. — Жить и распутничать? И это ты называешь жизнью?»
«Распутничать?»
«Я же вижу… Нас слишком мало, милая доченька…»
«Кого это… нас?..»
«Литовцев».
«Ну и что?..»
«Пойми, Эма, нас слишком мало… Нельзя, нельзя пьянствовать и безобразничать… Только труд и самодисциплина должны помочь…»
«Безобразничать? По-твоему, я…»
«Думай сама, дочка. И не только за себя… И по возможности — не этим местом, на котором сидят джинсы…»
Это уж было чересчур.
«А стрелять друг в дружку?» — крикнула я — вспомнились и его рассказы, и семинары этой Накайте.
«Не мы затеяли эту заваруху, Эма. Не мы, а они — кулачье, капиталисты… Это была классовая борьба!»
«А сейчас нет борьбы. Значит, да здравствует жизнь!..»
«Такая, что ли? — отец повел рукой; в комнате все было перевернуто вверх дном. — Это она, твоя жизнь, превратила наш дом в свинарник?»
«Двадцатый век, папочка!.. И даже его конец…»
«Вижу, вижу: и век, и людей… И даже конец этого века… и таких… как ты…»
Папаша острил!
«Ну и что конкретно? Что ты видишь? И к кому относится твой убийственный сарказм?»
«К тебе. И твоим дружкам».
«Что же ты разглядел?»
«Вашу болезнь. Ее имя — бесцельность. Хиппизм, помноженный на провинциальность. Страшная, скажу я тебе, хвороба… как и всякая инфекция, занесенная к нам извне, гнусная и опустошительная…»
«Хиппизм? Ну и словечко! И откуда ты его выкопал?»
«А ты — свое поведение?»
«Что в нем такого особенного, в моем поведении? Живу как все».
«Все работают. Или учатся. Им не до оргии. И ведь у тебя мама опасно больна».
Я куснула губу.
«А ты ничего не видишь сам… — сказала я. — Лучше бы помалкивал! Ни матери, ни меня… Только себя одного и знаешь. Свои дела. Свои писания. У тебя все — для себя… Ты сам себе — гора. Темная, седая, дремучая гора».
Мамины слова? Ну и пусть. Главное — они справедливы. И еще: вовремя сказаны. Человек должен быть горой, утверждал отец. Нет, не так; каждый себе гора, это ему сказал какой-то солдат в те доисторические времена. Сам себе гора, — не так уж глупо, а? А не яма ли? Что, если яма, папочка?
«Ты даже уехал нарочно, — храбро продолжала я, — чтобы не ходить в больницу… Потому что ты эгоист… бездушный…»
Это, пожалуй, было не совсем верно. Отца в район направили, я знала; но говорил же мне одноклассник Пятрас: «Как только мою мамашу скрутит — старик сразу в Каунас. Там у него краля — в универмаге». И мой такой же…
«Нарочно! Нарочно! Я знаю!»
Я даже подскочила, точно стараясь поймать это внезапно вырвавшееся слово «нарочно», поистине волшебное слово, которое должно было меня выручить, — будто диковинный жук на длинных гибких ногах, оно пробежалось по стене и повисло где-то под потолком, над нами обоими; отец покраснел, как рак.
«Что ты сказала? — сказал он так тихо, что слышно было, как шевельнулась занавеска. — Я… нарочно?.. Я?»
«Да! Да! Нарочно! Нарочно!.. Всегда! Все эти годы! Нарочно!..»
И тут произошло то, чего прежде никогда не бывало, ни разу, пока я была маленькой: его лицо вдруг почернело, словно обуглилось, глаза будто подернулись белыми льдинками; он схватил меня за плечи.
«Нарочно? — он тряхнул; я почувствовала, как закружилась голова. — Всегда?»
«Не трогай!.. — Я содрогнулась всем телом; в глазах потемнело. — Не смей!.. — Я рванула его руки со своих плеч. — Ты… мне противен!..»
«Ты сказала… — Он вздрогнул и снова протянул руки; они были синеватые и дрожали по-стариковски; он и правда был немолод. И весьма противен на вид. — Ты, моя дочка, сказала…»
«Ты не отец, нет, нет, нет! Не отец, не муж, не человек!.. Такого отца выкрасить да выбросить, больше ничего… Что с тебя возьмешь!..»
Я еще что-то говорила, не помню (может, даже послала его подальше), потом ушла (ясно, не спеша; моя взяла, моя, моя!) и не являлась примерно с неделю. А когда наконец пришла, его опять не было, укатил в район, возможно в тот же самый, из которого приперся в тот раз, и открыла мне маманя — выписалась из больнички, кажется, раньше, чем полагалось, но кто ее разберет; возникла на пороге сухая, вся мятая и согбенная, как ветхий деревенский спаситель, вырубленный из деревяшки (Чарли в точности такого привозил, показывал мне, потом загнал), руки сложены на груди, пальцы будто в оковах, а глядит куда-то сквозь меня, в стенку, поверх моего поднятого воротника плаща; я тоже ни слова не молвила, больно надо, прямо в туфлях и плаще протопала по коридору (длиннющий он у нас и дурацкий), забралась в комнату и громко хлопнула дверью…
…а Джонни? Тот, из Акмяне, дураковатый, лопоухий чувачина… Познакомились в августе на озерце, где мы жили как бы дачниками (скучища!), я обнаружила его на валуне у воды мокренького как цуцика — турист, так сказать; морда у него была симпатичная, хоть и зверски прыщавая, — очень подкупала эта лошадиная печаль и дремучая молчаливость; слово из него приходилось тянуть клещами. Зато предан он был в точности как цыганский мерин, которого больше бьют да гоняют, чем кормят и поят. Но выпить наш Джонни был не дурак!.. Закусывал при этом миниатюрным кусочком колбаски, а чаще всего обходился чистой «мануфактурой» — вытирал рукавом рот. Этот «кадр» хлопот не причинял. Мы поняли это все, наша команда шобыэтта только начала сколачиваться, только перед этим появился Чарли, к которому поначалу и наезжал этот Джонни, хотя было ясно, что наезжает ради меня. Ведь не на Чарли пялил он свои кроткие лошадиные глазищи, в которых колыхались рыжие жмудские хляби, и мне, не кому-нибудь, названивал через день; его матушка, соломенная вдова, вкалывала на районной почте. «Эми… — лопотал он (и этот туда же — «Эми», а ведь живого места нет от прыщей!). — Эми, не могу приехать. Нету…» — «…Рябчиков… — подскажешь ему, что поделаешь, простота, периферия. — Рябчиков не наскреб, Джонни?» — «Ага. Поросенка купили». — «Хрюшку? Какая прелесть! Ты будешь его откармливать? С ладони?» — «Не, я не буду, мать…»
Глупые то были разговоры, особенно для него, жмудского медведя, у него и язык, по-моему, был тяжеленный, как доломит (там, в Акмяне, добывают), и послушать со стороны — обхохочешься, ей-богу. Надо было учить его жить (для начала хотя бы изредка бриться и уметь вести себя в компании), а учеба давалась ему нелегко. И все же кое-какие успехи Джонни делал, а по части душевного тепла был куда щедрее, чем любой из моей вильнюсской кодлы. Правда, я усиленно изучала свой гороскоп и уже общалась с Единорогом; этот Джонни чем-то неуловимым — возможно, этой скрытой, но естественной, без налета учености и городского шика, тихой мягкостью — напоминал мне ЕГО. Пожалуй, лишь с той разницей, что ОН всегда парил на недосягаемых для меня высотах, а Джонни (как сейчас, скажем, Чарли) был рядышком, на земле, и весь, иногда даже чересчур, был от земли. Но что-то ведь должно тянуть к себе человека. Какой-то одному ему понятный магнетизм.
Но радость всегда мимолетна — этакое лето мотылька; Джонни призывали в армию. Они пришли тогда ко мне вместе с Чарли и Тедди, завалились в комнату; Джонни сразу забился в угол, закурил свою «Приму» («смерть тараканам!») и сказал; «Хана!» — выучился, стало быть, кой-чему. «А что твоя матушка-голубушка? Что она, как реагирует?» — «Положительно. Два Джона в доме — многовато». — «Как два?» — «Просто. Дружок ее тоже Йонас. Экскаваторщик. Видала бы, какие у него лапищи!..» — он показал свои кулаки; как ни странно, у нашего Джонни руки были мелковаты и малость хрупки для такого увальня; у меня было подозрение, что наш Джонни не слишком надрывался на работе. Чарли как-то очень уж вольно положил свою широченную руку (целых две Джонниных) мне на колено; я, понятно, смахнула ее вон. И даже хихикнула: а Единорог? Вы, мои любезные, понятия не имеете, что я, Эма Глуосните, храню тайну, которая надежней, чем папенька, чем сорок тысяч бдительных мамаш оберегает меня от… ну, хотя бы от себя самой, ведь опасаться вас… ну, кто таких боится…
Но сейчас важно и не это — «что было бы, если бы нас не было», — а все тот же проклятый финансовый вопрос; нужны рябчики — отметить событие, отметить с музыкой и шумом, чтобы запомнилось; ведь это в последний раз. Нет, он, конечно, не погибнет, Джонни, ничего с ним не сделается, хотя его ручки и не похожи на жмудские кувалды, которыми вправе гордиться тот, другой Джонни — экскаваторщик Йонас из Акмяне, друг почтенной работницы почты, — оттуда все возвращаются, к тому же бодренькими, подтянутыми, возмужавшими; но вот дороги, ясно, разойдутся. И разойдутся навек.
«Не говори, что встретимся мы снова… — напевал, гундося, Чарли и лениво барабанил тяжелыми, набрякшими, как сардельки, пальцами по клавишам моего обшарпанного фоно. — Ведь ничего не вечно под луной…»
Фу, пошлость какая — вечно!.. Кому она нужна, эта самая вечность! В том и суть, и прелесть, и интерес, что все преходяще, все призрачно, недоступно: коснешься — разобьется, рассыплется в прах. В точности как тот бокал из маминого серванта — Тедди, громила, так и раздавил его в своих могучих дланях (что за манера — мять бокалы, будто они пластилиновые!); вечно? Даже то, что мимолетно, и то не всегда бывает подлинным, мои милые; сколько у кого грошей?
Предки опять отсутствовали — убрались в деревеньку, на озеро, и, поскольку звонки к подружкам желаемых результатов не принесли (те в основном еще прозябали на своих факах), а мои рыцари смотрели такими скорбно молящими глазами, словно величайшим на свете преступлением было бы обмануть их надежды, — я решилась.
Честно говоря, эта работа была мне не в новость, но до сих пор она делалась как-то невзначай, словно между прочим, как уборка на книжных полках, откуда постепенно, по мере того как человек подрастает и созревает, путем некоего естественного отбора» удаляются всякие там «Путями отважных» и «Серебряные томагавки», хотя последнюю книжку, про индейцев, мне жаль, по сей день. Но на этот раз, как принято выражаться, «ресурсы были исчерпаны», и пришлось, хоть и дрожащей рукой, взять из-под ковра (маменька может и дальше думать, будто я не знаю, где она прячет запасной ключ от папашиных апартаментов) и наспех, не слишком разбирая, накидать в большую сумку пару десятков книжек с самой ближней полки у двери, — я решила, что туда отец отправил какие-то лишние фолианты…
Тем не менее из отцовского кабинета я вылетела вся красная и потная, словно голыми руками разгребала горячие уголья; сумка показалась мне слишком уж тяжелой. И все же я не позволила ни Джонни, ни Чарли (Тедди — тот и желания не изъявил) взять у меня сумку и понести; видимо, в глубине души я считала, что все происходящее — мое и только мое дело. Это я, а вовсе не они, шобыэтта, и не им соваться в эти аферы, тем более что в книжном, куда мы явились, как нарочно, толокся народ. Люди озабоченно прошмыгивали в узкую, жалобно скрипучую дверь, не слишком учтиво оттирали друг друга у прилавка, размахивали руками, разевали рты, что-то выкликали, что-то униженно клянчили; могучего сложения продавщица (в книжном могла бы подвизаться и поизящнее, подумала я) вносила охапки книг из какой-то темной дверки за полками, сгружала их на стол рядом с остальными; к только что принесенной горке сразу устремлялись десятки жадно простертых рук…
Странновато было видеть этих рвущихся к книгам людей, в то время как ты сам — шобыэтта — стремишься к полной противоположности, то есть избавиться от книг, скинуть эту тяжкую для рук и для глаз ношу. Точнее, превратить эту ношу в кое-что понужнее. В злосчастную валюту, которая глушит поползновение к культуре (у кого в наше время его нет) и в которую должны были обратиться все эти «заметки», «обзоры», «истории», стоявшие на полке у двери моего папаши; отвратные все же дела! Не украшают они человека, а уж для Глуосните вовсе… Но что мне оставалось делать? Что придумать? Я, Эма Глуосните, всеобщая надежда и спасение, без меня не выйдет ничего — ни фиесты, ни проводов Джонни, меня обольют презрением (тоже мне Глуосните — ни копья в кармане); так что прочь сантименты (книги у нас в доме чтили) и действуй решительно, спокойно; тебе доверяют!
Призвав на помощь все свое самообладание и силы (а они ой как требовались), боком протиснулась сквозь скопище жаждущих приобщиться к культуре и протолкалась к закутку «СКУПКА КНИГ»; здесь было до обидного пусто. И даже продавщица, аляповато накрашенная, в темных стрекозиных очках, с бородавкой на носу (неужели трудно обратиться к косметологу?), не сразу обратила на нас внимание, свое драгоценное, веское внимание. Насколько она сама его ценила, можно было видеть по ее словам.
«Выгружайте! — небрежно кинула она, окинув взглядом нашу сумку и всю нашу четверку заодно. — Устроит?»
Показала червонец.
«За все?!» — заносчиво спросил Чарли.
«Может, посчитать… — я пожала плечами. — По ценнику…»
«По ценнику?.. — продавщица (точнее, скупщица) довольно недружелюбно шевельнула темными очками; возможно, за ними крылась еще более темная ее совесть. Зачем-то оглянулась. — Думаю, и по ценнику получится то же самое… Но если не спешите… если можете потерпеть…»
Она так томительно долго колотила костяшками миниатюрных пластмассовых счетов и так внимательно, с подчеркнутой старательностью листала наши книги, что мог пройти весь двадцатый век, не говоря уже о нашей молодости, и тогда нам не понадобится эта жалкая выручка. А она нужна была нам сейчас, сию минуту, немедленно — пока нужна и пока я не придумала ничего поумнее и пооригинальнее, а особенно нужно было нам поскорей вырваться отсюда (Чарли бы сказал: смыться); и я сказала:
«Может, такая литература вас не интересует?.. Слишком… специальная?.. Тогда мы обратимся в другой магазин…»
«Вот! — продавщица с важностью протянула мне одну из книг. — Это действительно не по нашей части… Такие не принимаем…»
Я взяла книжку. «На память о совместном начале творческого пути, Ауримасу Глуоснису — Казис Даубарас» — значилось на титульном листе; в самом деле, был у отца такой начальник, дома называли это имя, хотя в лицо я его ни разу не видела (огромная потеря!); я улыбнулась.
«О, конечно, эту я не продам!.. Спасибо, что заметили».
Но чувствовала, что щеки горят, даже ощущала какое-то покалывание, и не помню, как взяла деньги (бумажка сухими стружками хрустнула в горсти), как пошла к двери.
«А сумку?.. — услышала я, но голос был не ее, не продавщицы, а мужской, довольно звонкий и молодой. И еще, конечно, насмешливый. — Оставляете с книгами? Как нагрузку?»
Тогда-то я и увидела его — ну да, Гайлюса, того самого дружинника, хотя тогда и знать не знала, что он выходит прошвырнуться с красной повязкой на рукаве и по ночам охотится на подгулявший молодняк в районе «Ручейка», — деятельность, скажем прямо, не самая увлекательная, но по его физиономии не разберешь, насколько она ему по душе; кому не нравится, тот, в конце концов, на это не идет (попробуйте предложить нашему Чарли!..); я малость растерялась.
«Ах, да, — ответила я, — сумку я оставляю тебе, чтобы ты унес отсюда побольше книг… то есть культуры… Хотя, похоже, для тебя это лишний груз…»
«Замечание учтем, — бойко ответил парень с зоркими глазами (это я успела заметить). — Хотя вон ту книжечку я с удовольствием бы купил…»
«Какую ту?»
«С автографом. Представьте себе, в жизни не получал автографов… И не общался с живым писателем…»
«Приходи к моему родителю! — чуть не крикнула я. — Тот их направо и налево…»
И хорошо, что придержала язык, — в стопочке книг, которую этот парень (Гайлюс, теперь я знаю) держал по-детски неуклюже, зажав под мышкой, выделялся и яркий корешок книжки, которая дома намозолила мне глаза, — свежий отцовский бестселлер… Я отвернулась и цапнула свою сумку…
«Приходи, приходи… — билась кровь где-то в ладонях (странно, именно в ладонях). — Получить автограф… Тем более что мы как-никак… знакомы…»
Не просто знакомы, подумала я, шлепая сейчас по сырой улице вдоль реки в неизвестном направлении и думая о томящихся в милиции собратьях; тогда я радовалась, что вырвалась из книжного и очутилась на улице, которая и была настоящим домом и для меня, и для моих друзей, — мы жили! У нас снова были денежки, о, это проклятье, досадный пережиток капитализма, были, хотя и добыты дорогой пеной… Зато можно было честь честью проводить нашего Джонни в армию — кроткого Джонни из Акмяне, преданного друга с прыщавым лицом и скорбным взором старой жмудской лошади…
Отец, разумеется, хватился книг тотчас же, едва успел войти в комнату; там, ну прямо как в костеле, все имело свое место и назначение раз и навсегда.
«Ты? — спросил он без малейшего сомнения, когда я после проводов Джонни вернулась домой. — В каком магазине?»
Обрушился внезапно — я не успела сочинить никакого убедительного ответа; к тому же в голове гудело так, будто там, внутри, катались на разболтанных телегах времен крепостного права; в мозгу, где-то возле ушей, гремел прибой — проводы Джонни устроили шикарные. Отец побрякал ключами от машины.
«Сам знаешь… — ответила я, пытаясь сладить с хаосом у себя в голове и догадываясь, что родитель уже успел объездить все книжные магазины, пытаясь собрать там свое добро. — Нечего спрашивать, если знаешь. Это дурной тон».
«Тон? — по-моему, папаша прямо-таки посинел; книг он, понятно, не нашел, их расхватывают мигом. — А воровать книги — какой тон?»
«Я не украла. Я взяла».
«Свои?»
«Не совсем. Своего, к сожалению, у меня маловато… Одну, между прочим, принесла обратно. Ту… Даубараса…»
«Даубараса?»
«Ага. Удивляешься? Начальничка твоего, Дуабараса. Торговать книжками начальства правда нехорошо. Так что… получай…»
Однако я поторопилась — книги не было… Где-то я ее забыла, эту несчастную книжонку, которую не удалось «всучить»; забыла вместе с сумкой где-нибудь в «Чебуречной» или «Караимских блюдах», а может, у башни Гедимина, где мы все (подвалили и Дайва с Виргой) встречали восход, — словом, черт знает где! И не то обидно, что пропала книженция, а то, что после «фиесты» все равно возвращаешься домой, к распроклятому очагу, где, как назло, тебя поджидают предки (родительница, правда, не подает голоса, небось опять плоха, обычное дело), да еще объясняйся тут, что да как да почему…
«Потом отдам… — проговорила я как можно спокойнее. — Оставила у Дайвы…»
«У Дайвы? — Отец, понятно, не верил: какие, однако, родители пошли нынче. — Кто это — Дайва?»
«Моя подруга. Самая лучшая. Кстати, у нее я ночевала… я ведь одна боюсь… А теперь не мучай меня… мне не совсем…»
«Что — не совсем? — Отец стал посреди коридора, ключи побрякивали, взгляд у него был мутный, недобрый, гм… — Что — не совсем?»
«Не совсем хорошо, — значительно ответила я. — От твоих поучений…»
«Как это понимать?»
«Так! — Я бочком протиснулась мимо него в кухню, в пашу семейную Мекку, стараниями матери обвешанную разными картинками, которые родитель понавез (искусство в быт!). — Тошнит! С души воротит!»
«Пожалуйста! — отец сделал широкий жест рукой; сегодня он выглядел подозрительно спокойным. — Если тебя тошнит — изволь! Тошнит от всего, что с тобой происходит?.. От твоих друзей тебя не тошнит?..»
Как все это надоело! Это дурацкое простаивание в коридоре и беспомощное отцовское жевание губами — как в старых фильмах с Чаплиным; обычно родитель выплывает тебе навстречу рано утром (иногда и под утро), когда ты ступаешь на порог, и, разумеется, во что бы то ни стало заводит серьезный разговор: всегда в самое неудобное время; ну, сегодня будет поставлена точка. И поставлю эту точку я; пора, родитель дорогой, считаться с особой по имени Эма. Ибо это было задумано даже до того, как я пришла домой, до того, как начался весь этот допрос; это было задумано как верх всего, коронный номер.
«Говори, говори!.. — бросила я из кухни, вполне миролюбиво щелкнув зажигалкой для газа и налив воды в кофейник; на всякий случай заглянула под раковину: стоит! Ясно, не вынесли, кто же потащит — не мамуля же — недельной давности ведро с мусором, вечная история, мои девочки и то заметили. «Твои, Эмка, старики совсем обленились, просто тонут в грязи, родителей надо воспитывать», — это Вирга; а ведь верно! Взять хотя бы этого милого субъекта, моего родителя, — чем он занят целый день? Чем существенным? Подумаешь, работа там, в редакции! Небось только указания отдает… А дома? Или, скажем, маманя? Будто так трудно спуститься вниз! Потом красней за них… — Говори!.. Я слушаю тебя внимательно!»
«Зачем ты их взяла?»
Опять? Вот насел! Опять эти книжки!
«Ты же знаешь, — сказала я с расстановкой, — знаешь…»
«Какая гадость!»
Ого! Моральные и этические категории!
«Что — гадость?»
«Все — твое поведение… твоя речь… Противно слушать!»
«А мне, думаешь, не противно? Когда так встречают? И объясняться? Стоять перед тобой и объясняться? И перед кем? Перед средневековым деспотом!.. Тюремным надзирателем буржуазных времен!..»
Отец сразу как-то стал меньше ростом, словно провалился в паркет. В зеленый ковер. Я уже не могла остановиться.
«Перед зверем… перед Пиночетом!..»
«Эма… ты…»
Его голос показался мне таким жалким. Скажите пожалуйста — довела до слез! И это бесило еще больше.
«Да, да, да! — орала я. — Перед Пиночетом! Ты хуже Пиночета!»
«Эма!.. — вдруг услышала я и почувствовала, как заложило уши; такого голоса я у отца не знала. — Я тебя… за такие слова…»
Лицо у него вдруг почернело, весь он подался вперед. Я зажмурилась, ожидая сама не знаю чего. Я даже примерно представляла, как это будет. Но не останавливаться же, не сдаваться!
«Да, да, да!.. — Я уже не понимала, что говорю. — Я тебя убью! Зарежу во сне! Приду ночью, когда ты спишь!..»
«Ты? — Он, кажется, даже голову запрокинул и как-то нелепо разинул рот — будто подавился. — Меня? Ты? Меня, доченька… ты?!»
«Да, да, да! Милый папочка, да! Приду ночью, когда ты спишь, и…»
И вдруг упала — где-то возле газовой плиты, в глазах зарябило, мысли сметались; щеку ожгло так, будто кто-то изо всей силы маханул пучком крапивы: это был удар!.. Пощечина! Я тут же вскочила, тряхнула головой, вспомнила, зачем шла сюда, в кухню, что придумала, схватила помойное ведро и, трясясь от ярости, захлестнувшей меня всю целиком, швырнула его в дверь; посыпалась штукатурка. Пыль ударила в глаза, забила горло. Но я успела его увидеть, я видела своими запорошенными пылью, штукатуркой глазами, которые горели и, казалось, лезли вон из орбит, видела его, зверя, кровососа — от-ца-а-ааа! — как он схватился ладонями за виски и — испугался, испугался, испугался!.. — помчался в свою комнату-убежище, понесся так резво, точно за ним гналась целая свора собак. И еще я подумала, что мамуля, моя скорбящая матерь, похожая на деревянного сельского божка, которую я как женщина женщину должна была бы все же понять (но что, увы, дается ценой больших усилий), возможно, вовсе не в больнице и, вероятно, все слышит и даже, пожалуй, сочувствует своей столь взрослой, вполне самостоятельной дочери…
Назавтра, очень рано, он опять уехал куда-то в теплые края. Впервые я не попросила у него «привезти что-нибудь интересненькое». И вообще ни слова не сказала. Вдруг он погибнет в авиакатастрофе? Или его сожрет крокодил? Ну и пусть, мне все равно. Я взрослый человек и имею право на ненависть.
Часть третья СУВЕНИР ИЗ НЕПАЛА
Он был дурак, но дураков он не любил…
Э. Хемингуэй. «Острова в океане»ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Память — истрепанная магнитофонная лента, где ничего не задерживается и каждым слоем стирается предыдущий… Сегодня все заглушают свежие впечатления, ничуть не похожие на прежние и совсем иначе, совсем, Бриг, иначе пережитые и оплаченные всей предшествующей, как это становится видно нынче, мало осмысленной жизнью. Но если бы хоть капля этой моей собственной жизни кому-то понадобилась… могла бы научить… если бы в чьей-нибудь ночи она затеплилась бы самым ничтожным огоньком… тогда… я тешу себя надеждой — —
«…я тебя убью! Зарежу во сне!.. Приду ночью, когда ты спишь, и…»
…нет, не то: «Его позвал голос из прошлого — негромкий, слабый, голос вовсе не рожденного; Глуосниса бросило в дрожь. Кажется, он даже хорошо знал этот голос, пусть даже не прозвучавший, который снова окликнул его; Глуоснис не мог противиться этому зову. Он встал и…»
«…отца! убили моего отца! от-ца-а-аа! — —»
…и опять — нет… Опять, Бриг, не то — ведь — —
В голове еще с присвистом завывали моторы «Ту-104», эти мощные, вибрирующие, будто готовые вот-вот лопнуть турбины, а я уже сидел здесь, в Вильнюсе, в небольшом двухэтажном зданьице времен позднего барокко (кто-то, помнится, где-то это барокко хвалил), оказавшемся внутри неожиданно просторным, в самом конце длиннющего, неимоверно шумного, гремучего, гудящего ничуть не тише самого «Ту» подковообразного стола, и — будто праздный гость — рассеянно таращил глаза на суетящихся, что-то говорящих, что-то поглощающих, что-то пьющих, зачем-то жестикулирующих и, возможно, что-то друг другу (а то и себе, как знать) доказывающих людей. И казались они мне совсем не такими, как всегда, как каждый день — в учреждении, дома, в театре, в гараже, на стадионе, — а преображенными, залитыми одинаковым сизым туманом, в котором растворялись индивидуальные черты и оставались лишь сухие, вырезанные из желтой фанеры профили; сейчас они погрохатывали и покачивались в такт чьим-то словам, как от ветра; потом они захлопали плоскими фанерными ладонями. И зачем-то уставились на меня глазами — прорезями в фанере; пришлось мне разулыбаться; затем встать и поклониться; я тоже, наверное, был вроде фанерного. Даже почувствовал, когда вставал, как хрустнуло в спине от долгого сидения или от застарелого артрита, а то и просто от скуки, которая целый вечер сжирала меня; я досадовал — не смог отвертеться. Ох уж эти мне празднества! «Это будет неверно истолковано, превратно понято, — сказали мне там, на втором этаже. — Это было бы, Глуоснис, представь себе…» — «Позор? Кому?» — «Всему нашему поколению, которое… в твоем лице… всей той сплоченной группе старых друзей, которая, хоть ряды ее заметно поредели, и ныне кое-что да значит… А к тому же… собраться всем вместе… поболтать да посмеяться…» — «Только не за казенный кошт!.. — помню, возразил тогда я. — Коль скоро у меня юбилей… пусть уж никто, кроме меня…» — «Мы всячески поддержим!.. — улыбнулись там, на втором. — Личную инициативу в подобных случаях… — И переглянулись… — Если ты собираешься явить собой положительный пример…»
«Я? — улыбаюсь, встаю, отвешиваю поклон, снова сажусь. — Пример?» Это я уже сейчас говорю и улыбаюсь, сейчас, после чьих-то похвальных слов; можно выпить: умно сказано (аплодисменты), а если бы глупо — все равно аплодисменты и все равно можно выпить; им можно, не мне — я только пригублю и тотчас поставлю рюмку обратно, не хочу я пить, ничуть; и все равно они бы улыбалась, люди нынче вежливые; слова просит наш дорогой гость, правда, ввиду неотложных дел чуть припозднившийся, но готовый немедленно искупить свою вину, наш долгожданный товарищ, коллега и соратник…
Даубарас? — я весь подбираюсь; сам товарищ Даубарас, ишь ты, коллега и соратник; бросил все: дела (государственные, само собой), кабинет, встречу с зарубежными гостями (эти к нему каждый день, он и по-английски говорит, научился); и, разумеется, не один, а с нею, чрезвычайно медленно и величаво — как и подобает Даубарене — проследовавшей до самого поворота стола, будто ничуть не тронутой годами, девически статной, все с тем же горделиво задранным подбородком, задрапированной в парчу, качающей серьгами, закованной в золотые браслеты своей женой — Сонатой; чего стоило одно только декольте в парчовом обрамлении! И взгляд — ни злой, ни добрый, точно выверенный, милостиво брошенный залу: извольте! Смотрите, я пришла, я вздумала явиться, казалось, говорил этот самоуверенный взгляд зеленоватых глаз; будьте любезны, подвиньтесь! Дальше, дальше, все до одного и все до одной (особенно все до одной), ибо с этой минуты в центре внимания буду я, Даубарене, я, Соната Даубарене, женщина-врач с пленительной внешностью и прекрасными манерами, первая леди всех банкетов и юбилеев; кто-нибудь не согласен с этим? А, разумеется, Шалнене, она даже поморщилась, едва завидев Сонату, едва заслышав перестук ее бальных туфель на лестнице, этой пропитанной парижскими духами владычицы собственного салона. Не только ради красивых глаз хозяйки дома валят они туда — все эти актеришки, молодые художники, писаки, как правило, неудачники или совсем желторотые; и, безусловно, не затем, чтобы услышать премудрое слово хозяина (что умного может сказать он!), и не затем, чтобы, осторожнейше взяв за кончики пальцев, приложиться к нежной, как лепесток, благородно-розовой, душистой и без всяких Coty ладони доктора Сонаты Даубарене… именно ладони. И обожающие взгляды, и благоговейные поцелуи в ладонь, и сознание, что твой муж, твой Даубарас, по-прежнему прочно держится в седле и готов на все, только бы тебе еще лучше, еще приятнее жилось на белом свете, только бы ты никогда ни о чем не жалела… О чем, дорогой Глуоснис? Хотя бы о том, что сделала выбор, отдав предпочтение не кому-нибудь (не тебе, Глуоснис), а ему, Даубарасу, человеку, которому словно самой судьбой назначено быть всегда впереди, которому сама жизнь вручила нетленный скипетр власти, а тем самым ей, Даубарене, — некую привилегию, которая… Да, сумеем сохранить, воспользуемся — как и должно быть, и ты, Казис, можешь быть в этом абсолютно уверен… И спокоен за свою Сонату; ты, Казис Даубарас, всегда можешь быть за меня спокоен, ибо, если сравнить тебя, скажем, с Глуоснисом… с этим, правда, еще не утратившим романтичного запала (ах, первая любовь, ax-ax!), все еще мятущимся, хотя и заметно поседевшим (с этой, как бишь ее, Мартой, говорят, он не ахти…), на пути к сегодняшнему дню явно растерявшим немало (особенно — равновесия, считает Казис), но по-прежнему чего-то ищущим (любви? меня? опять? вздор!) смехотворным Глуоснисом… о котором сейчас Казис… опора ее жизни, несгибаемый, точно телохранитель, ее супруг, супруг доктора Сонаты Даубарене…
…и опять не так, Бриг, я опять говорю не то, потому что и сейчас играли — даже, может быть, то самое танго «Виолетта», которое я слушал в Кельне («Нам надо встретиться», — записка в редакции, первая записка после моего возвращения из той знойной страны и первая от Винги вообще; как-то до сих пор мы не прибегали к переписке) и которое сразу звучит у меня в ушах, стоит лишь подумать о том, что не состоялось, — о Кельне («Лучше всего было бы в Каунасе, на Девятом форте, … — го октября»), — старое танго «Виолетта», которое, кстати, бывало, танцевал с Сонатой, но со временем подзабыл; хотя было и другое: La Paloma (как изящно выгибала Соната свою лебединую шею, как очаровательно ставила свои точеные, словно самой матерью-природой созданные для того, чтобы выделить ритм танца, идеальной формы ноги), — и то, и другое, и еще какое-нибудь (La Comparsila; эх, Мета, Мета, Мета), по всегда танго; эта мелодия — дрожащего, как на ветру, готового сорваться, но все еще не упавшего, по-осеннему багряного кленового листа — провожает меня в старость. Ведь старость — не только годы, Бриг, и скорее всего вовсе не они, а душевное состояние, которое окрашивает все вокруг в один — чаще всего серый — цвет, это предел, за которым что угодно, даже самые прекрасные воспоминания, начинают двоиться и повторяться; не это ли происходит со мной сейчас, а, Бриг?
И конечно же с Мартой, и с моей женой Мартой, о которой, правду говоря, я тотчас же подумал (не такой уж я пропащий, Бриг), едва вышел из такси в то раннее утро в Вильнюсе (из Москвы не звонил, не хотел, чтобы знали о моем досрочном возвращении), — и с моей спутницей жизни Мартой, которая, как обычно в последнее время, в бессменном голубом тренировочном костюме опять лежала в своей комнате и даже не повернула головы к двери (ах, это тоже было у нас делом обыденным), когда возник я, улыбаясь, с перекинутым через руку плащом, с чемоданом в другой руке, а лишь отрешенным, столь хорошо знакомым мне движением руки поставила на тумбочку флакон с сиреневыми таблетками. «А, вернулся? — произнесла она усталым, надтреснутым голосом (этот ее голос я знал до малейших нюансов). — А я все глаз не сомкну…» — «Нет?..» — вырвалось у меня: конечно же об Эме; очевидно, я всегда, даже когда ни о чем не думал, размышлял о ней; Марта бессильно закрыла ладонями глаза. И то, что я не застал Эму дома (и на следующий день, и на третий, четвертый, потом она мелькнула на лестнице), вмиг состарило нас обоих — меня и Марту; я постелил себе внизу на диване. Потом закрылся в уборной и утопил там деревянного слоника, купленного в поездке, — подарок Эме, который я втайне считал символом нашего примирения, судя по всему не очень-то ей нужного, утопил в унитазе и слил воду…
А ладонь все равно зудела — моя правая ладонь, которая перед отъездом отвесила пощечину, пощечину ей, дочери (в тот миг, помню, до меня впервые дошло: какая она все же у нас большая), пусть даже нахалке и бесстыднице, метавшей в меня, точно острые ножи, свои жестокие слова, и все равно женщине, которая слабей меня и, по общим представлениям, бессильна против всякой грубости, — зудела, покалывала, отвратительно чесалась, точно разъеденная какой-то вонючей щелочью, и весь я чувствовал себя так, словно только что выкупался в нечистотах и от меня смердит или я оплеван, а то и сам себя оплевал, замарал своим дурацким поступком.
«Из-за нее, все из-за нее!.. — твердил я в утешение себе, слоняясь из угла в угол по просторному, недавно выкрашенному, но почему-то ничуть не привлекательному, утратившему весь прежний уют кабинету в редакции. — Из-за нее я становлюсь таким подлым… сам себе противен… Из-за дочери?.. Из-за нее, товарищ Даубарас… из-за этой самой «несуществующей проблемы» отцов и детей… И хотя, насколько помню, ты говорил, что в этом нет ничего страшного, что у детей это просто болезнь роста, я, грешным делом, задумываюсь… Хорошо, если так. А если не так, то, друг мой Глуоснис… к чему тогда твоя молодость… стремления… даже заблуждения?..»
Это было довольно глупо — возводить свои домашние дела до уровня каких-то обобщений, но что я мог с собой поделать? Ведь я, Бриг, всего-навсего человек, а у каждого человека, как мы знаем, своя нервная система, которая имеет свои особенности, свойственные лишь ему одному, конкретному, измочаленному своим личным опытом индивиду; которая подтачивается годами и жизнью, а вовсе не крепнет и не приобретает иммунитета; возможно, дряхлеют физические (или физиологические, бес их знает) «держатели» этих нервов, какие-то мельчайшие капилляры, отмирают после каждой нашей психической травмы какие-то атомы самодисциплины в нашем мозгу; или ты полагаешь иначе?
Не ты, милая моя Бриг, нет, — что с тебя возьмешь… А ты, Даубарас?.. Ибо, не выждав и суток, ты сиял трубку и, позабыв справиться, когда я вернулся и с какой стати так рано (ты же мое высокое начальство), сразу поспешил выразить свое недовольство («Редактору, редактору — кому еще пожалуется бедняга автор»; что, разве это, скажешь, не нервы?) нашим Юодишюсом, нашим творцом новелл в очках, с льняными, вечно спутанными волосами, — он, видите ли, нимало не стесняясь, в мое отсутствие и, возможно, без моего ведома вполне учтиво предложил тебе забрать назад рукопись; «работаем до четырех».
«Вот свинья!.. — кричал ты в трубку, я был вынужден отвести трубку подальше от уха. — Так беспардонно обойтись! И с кем! Да ты, Глуоснис, подумай: с кем?!»
«Как вы знаете, я…»
«Отсутствовал, ездил… знаю. А этот балбес…»
«Он пишет рассказы».
«Большое дело! Кто их сейчас не пишет! На то и всеобуч…»
«Всеобуч — дело хорошее, — возразил я. — То, что нет неграмотных… Даже искусство… это…»
«Кончай, слушай! — проговорил Даубарас спокойным, малость непривычным голосом. — У меня скоро заседание. — Но ты знай: все, что я написал в своем романе… и, Глуоснис, не боюсь так называть свое сочинение… это не только мои личные домыслы… это, Глуоснис, опыт всех наших товарищей… наших соратников, это, я бы даже сказал…»
«Алло! Алло!»
«Что ты аллокаешь? Чего, прошу прощения, орешь?»
«По-моему, прервалась связь…»
«Связь! А может, ее давным-давно нет, Глуоснис? Может, и не было? Ты об этом подумал? Хоть когда-нибудь думал, а?»
Думал. Я не ответил Даубарасу, не успел — он и впрямь положил трубку, мой начальник Даубарас, — но я об этом думал. И много. И не только сегодня, в свой злосчастный юбилейный день, когда секретарша Кристе, загадочно улыбаясь и критически оценивая взглядом мой костюм (нарядился, намереваясь идти сюда), сообщила: «И опять вам… тихий женский голос… в который раз сегодня…» — и кивнула на неумолкающий сегодня телефонный аппарат. «Что, что? — не соображал я, сняв трубку. — Из какой больницы? Клиники?.. — (Марта?! — кольнуло в сердце; я оставил ее лежащей на диване.) — Глуоснене?» — «Не-ет!.. — протянул голос в трубке. — Оне…» — «Какая… Оне?..» — «Из сто шестнадцатой… она велела вам…» — «Мне?..» — «Да вы приходите!.. И если можете, то сегодня…» — «Простите, сегодня никак…» — «Простим… — голос вздохнул — там, на другом конце провода. — Но завтра… обязательно… хотите или не хотите…» — «Как это — не хочу? С чего вы взяли?…» Но она положила трубку, и Кристе с плохо скрываемым сочувствием взглянула на меня, когда я выходил в коридор…
Так что, Бриг, повторяю: я думал… и не только пока шагал (водителя отпустил переодеться) на свой собственный юбилей, когда человек волей-неволей перетряхивает в своих мыслях многое — по крайней мере все, что кажется существенным, — а и тогда (особенно, Бриг, тогда, и звонок из больницы как бы нарочно напомнил мне все это), когда брел словно вслепую по схваченной первым зазимком сельской тропке к большаку — к этой утыканной камнями, как капустными кочнями или сахарной свеклой, которой много в этих краях, дороге, — даже тогда, Даубарас, я думал об этом странном узле, где переплелись судьбы таких не похожих друг на друга людей — вопреки их воле и желанию, — и как иногда трудно что-то логически, разумно объяснить… И тем более — осудить. Хотя бы и себя самого. Тем более — —
Оне… Крестьянка из сувалкийских дремучих лесов, с круглым, слегка похожим на румяное яблоко, открытым, душистым лицом, первая так близко и так остро познанная женщина, казалось, все отдавшая мне; и Марта, тоже стремившаяся ко мне, искавшая тогда меня (это я узнал позднее), тоже готовая на все, способная на все, хотя ей не было и девятнадцати, всегда знавшая, как поступить, Марта, «училка», — что общего могло быть между ними? А было, я вскоре почувствовал это, хотя бы то, что обе они ненавидели одна другую, — трудно сказать, кто кого больше; сейчас полагаю, что Марта. Потому что Марта все понимала, она всегда знала, как поступить, она первая помчалась к Шачкусу, едва прослышала, что однажды морозным осенним утром тот выволок из дремучих лесов Начене; Марту, видите ли, тревожил исчезнувший Ализас. Позднее я узнал от того же Шачкуса содержание их разговора — отнюдь не об исчезнувшем Ализасе. Шачкус, чернее самой земли, мрачно сидящий за рыжим столом в самой большой комнате этого длинного, неуютного, серого каменного здания на базарной площади, хмуро поглядывая на лампу, что болталась под потолком на скрученном вдвое проводе, похожую на только что снятый со столба уличный фонарь, с зеленым облезлым колпаком в виде тарелки, — тот самый, как будто хорошо знакомый ей Шачкус, который в свое время навязывался в провожатые после танцев, ни с того ни с сего вдруг буркнул, что разговаривать ему некогда. «И не о чем… — еще добавил он, опустив свой тусклый взгляд. — Покамест она еще мне ничего…» — «Да я не о том!.. — вспыхнула Марта, и ее неожиданная горячность, густой румянец больше всяких слов выдали ее волнение. — Я про ученика… Ализаса…» — «Аа!.. — процедил Шачкус сквозь зубы; он был зол. — Достанем и Ализаса… Весь их гадючник… Только вот студентика твоего…» — «Какого студентика? И почему моего?..» — «Да потому, что вздыхаешь ты по нему…» — «Много ты знаешь!..» — «Обязан знать… — Шачкус презрительно улыбнулся. — Ты же его ищешь не меньше, чем я… Только для меня этот розыск — служба, а для тебя…» — «Слушай, Шачкус! — Марту затрясло от возмущения. — Знаешь что-нибудь, так говори!.. Если уж ты знаешь больше, чем я сама…» — «Все-таки, может, товарищ Шачкус, а? Товарищ Купстайте!» И Марта поняла, что разговор окончен, а тем самым, разумеется, кончены приглашения на танцы и проводы после них; и пусть. У дальней стенки длинной и мрачной комнаты, перед отворенной скрипучей дверью, топтался белокурый паренек из народной защиты, — возможно, тот самый, который похвалялся, когда они все вместе ездили к Начасам, будто обнаружил у мироеда на чердаке жбанчик; сейчас из-за Мартиной спины он делал Шачкусу какие-то загадочные знаки; тот поднялся. «Валяй! — кивнул Шачкус белокурому защитнику, дверь закрылась, почему-то не скрипнув. — Так что, товарищ Купстайте, до следующего раза… авось повезет…» — бросил он Марте, которая испуганно съежилась и пошла к выходу; она в самом деле боялась не то странного взгляда лейтенанта Шачкуса, не то этой тихо затворившейся двери. Задержись там Марта хоть на полчасика…
Но это уже другой разговор — из серии «что было бы, если бы…», ибо через несколько минут после ухода Марты, во время которых угрюмый и даже как-то еще больше почерневший лицом Шачкус смотрел сквозь засиженное мухами окно на вымощенный серым булыжником и обведенный такой же серой каменной оградой совершенно пустой двор, белокурый парнишка, придав своему лицу как можно более строгое выражение, ввел в эту длинную и неуютную комнату (кабинет Шачкуса) Оне из Любаваса. Что было дальше, я, к сожалению, могу лишь вообразить — то есть до того момента, когда я сам, взмокший, точно загнанный пес, окончательно выбившись из сил, дивясь собственной выдержке, спотыкаясь и пошатываясь, как во хмелю, не чувствуя ни рук, ни ног, весь одеревеневший и залубеневший, чуть не ощупью добрался до городка и, словно позабыв, где было мое жилье (а возможно, и в самом деле забыл), двинулся к унылому зданию у базарной площади; видите ли, сгорал от нетерпения увидеть Шачкуса. Его, его, Шачкуса, который бросил меня под кустом можжевельника и потопал «воспитывать» мироедов. «Обожди, парень, мы сейчас. Чихнуть не успеешь. Мы — мигом».
Вот оно какое, твое сейчас, Шачкус, твое мигом. Ты даже не сказал, что мне делать… У меня был этот зачуханный «вальтерок» из уездной редакции… кто-то затолкал ему в глотку патрон от «ТТ»… Вечер уже зацепил крылом кроны деревьев, уже шуршал на подступах к можжевеловым зарослям — жутковатый, предгрозовой вечер, какие бывают в конце лета или в начале осени… а по дороге, погромыхивая и подскакивая на острых булыжниках… тиру!..
Жгучее желание во что бы то ни стало тотчас выложить все это Шачкусу, бросить прямо в лицо настолько обуяло меня, что я позабыл, куда иду, какой у меня вид да кто я такой вообще, потому что я был уже не тот, что тогда вместе с отрядом народной защиты отправился в глухомань на усмирение бандитов, то есть и тот, и не тот, и в чем-то превзошел самого Шачкуса, да ему такое и во сне не снилось, пусть даже в самом сладком сне после яичницы со шкварками, которую он наверняка стрескал у своих трудновоспитуемых мироедов, или когда по возвращении он бухнулся камнем на свой продавленный жесткий топчан все в том же заведении у базара, где он, говорят, ночевал, — повторяю: я настолько горел желанием немедленно выложить все это Шачкусу, что самым бесцеремонным образом ввалился в здание и прямо-таки налетел на часового, который стоял в тени возле пирамиды с оружием; сам он выглядел как иссохшая мумия в наполненном темной желтизной коридоре; часовой выставил вперед автомат.
«Ни с места! — крикнул он негромко и даже без злости. — Кто такой?»
«Где Шачкус?! — рявкнул я вместо ответа и раздраженно оттолкнул его руку вместе с оружием. — Там?»
И так стремительно схватился за дверную ручку, так резко ввалился в комнату, что потрясенному часовому осталось лишь поморгать глазами; с не меньшим удивлением уставился на меня и торчащий посреди комнаты Шачкус; руки он держал за спиной и почему-то сжимал их и разжимал, глаза у него зажглись недобрым блеском.
«Ты-то из какого пекла? — Он расцепил руки, свесив их по обе стороны широченных галифе; застиранная линялая гимнастерка была явно коротковата ему. — Ну, даже на человека не похож!»
«Это уж вам лучше знать…»
«Ты откуда, спрашиваю? — Шачкус нахмурил свой темный лоб. — Пропал, как сквозь землю провалился. Мы и розыск объявили…»
«А в можжевельнике…»
«В каком, к дьяволу, можжевельнике?.. — Пристально, словно не веря, что перед ним я, он оглядел меня с головы до ног; грязный и всклокоченный, заросший реденькой рыжеватой щетиной (увы, ничуть не похожей на ту мужественную бородку, которая рисовалась моему воображению там, в землянке), изжелта-бледный, с лихорадочно блестящими глазами, обиженный и злой — таков был я и определенно не внушал ему доверия. — Давай-ка сюда…»
«Что «давай»?»
«Оружие, вот что!.. — Он протянул руку и, почти не глядя (и как он узнал, где я держал этот дурацкий «вальтер», никчемную железяку), ловким резким движением вынул оружие у меня из-за пазухи.
«Потише! — запальчиво крикнул я. — Не твое!»
«И больше не твое…»
«Отдай сейчас же!.. — Я бросился к нему, задыхаясь от злобы. — Не имеешь права! Я буду жаловаться…»
«Жаловаться? — изумился Шачкус. В голосе его звучала глубокая грусть. Мой пистолет он осторожно спрятал к себе за пазуху. — Ты — жаловаться?»
«Да… жаловаться!.. Бросил меня черт знает где, одного, а должен был охранять… А меня бандиты… штыками, как шкварку… Так что пришлось мне, израненному, проваляться в какой-то вонючей дыре… в подземелье… точно пленнику… кулацкому пленнику… даже, может, заложнику… А ты… со своим дурацким бешенством…»
«Молчи!.. — вдруг выкрикнул Шачкус и прищурился, глядя куда-то в угол. — Заложник!.. А эту… знаешь? Вон ту, в уголочке? — он махнул рукой. — Стало быть, бандиты заложников держат у баб своих в постели?»
Только теперь я увидел Оне — в сумраке за столом, вернее, одни лишь ее острые, блестящие — как и в землянке, как в землянке — глаза, и жуткое, никогда прежде так остро не изведанное безмерное чувство стыда словно щелоком обдало меня всего: на лбу выступила испарина, все вокруг закачалось и стало двоиться. Я понял, что это была ошибка, какой я никогда себе не прощу. Я предал ее. (Не потому ли впоследствии Марта сказала мне: не предай? Ах, какое может быть сравнение! Вовсе не потому.) Я так отчетливо понял: предал, что даже не нашел слова для Оне — слова, которое во что бы то ни стало должен был сказать; расколись, провались, обрушься небо над головой, но я должен был сказать, и слово это должно было быть одно — «неправда!». Неправда все, что вырвалось у меня секунду назад, неправда все, что мелькнуло у меня в голове… Но думал я, Бриг, то же, что говорил, — в том-то и вся беда, что на уме у меня было то же, что и на языке. Оне медленно поднялась с лавки.
«Ты куда же это, Начене? — прикрикнул на нее Шачкус; нельзя сказать, чтобы с женщинами он обходился ласковей. — Сиди где сидела! Мы еще не кончили…»
«Ко-о-ончим!.. — улыбнулась Оне, не стесняясь ни меня, ни Шачкуса, — меня, пожалуй, еще меньше, чем Шачкуса, — и медленно вышла на середину комнаты; глаза у нее так и горели. — Не бойся, Шачкус — ко-он-чим!..» — повторила она нараспев и плюнула мне в лицо. Я зажмурился, протянул вперед обо руки, чтобы ее поймать. Но Шачкус успел схватить меня за плечи и, точно маленького, провел, дрожащего, к лавке и усадил, прямо-таки ткнул, на нее; Оне же подошла к окну, тряхнула густыми, блестящими волосами, будто только что вынырнула из черного холодного омута, и, пристально глядя на все те же уныло серые камни двора, негромко засмеялась, — возможно, именно так прорвался наружу ее стон и плач… И я понял, что, несмотря на все те проведенные вместе, в сыром подземелье, часы, несмотря на долгие, похожие на исповедь одного человека — мою собственную исповедь — осенние диалоги, невзирая ни на что, Бриг, до конца я эту женщину так и не узнал — —
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Да разве только ее? А Сонату, Даубарас, — ту самую Сонату, которая сейчас, вся заполненная одной собою, тем не менее глядит на тебя, будто ты монумент в два человеческих роста, воздвигнутый над пиршественным столом, или некий пророк, который, однако, весь у нее в руках — в мягких, в браслетах и кольцах, заботливо ухоженных руках — и которого она выучила служить ей, только ей одной, Сонате; это можно было понять по самой ее позе, осанке, по лицу и глазам, даже по этому как бы небрежному, по утонченно изящному движению левой руки, которой, словно между прочим смахнув дерзнувшую опуститься на ее парчовый наряд пушинку, она подперла свой округленький, с едва заметной ямочкой посередине подбородок… Вижу, вижу: она не выпускает из своего поля зрения меня, бедняжку Глуосниса, примостившегося рядом с ее дражайшим супругом, огромным, широкоплечим, — вот уж кто и впрямь монументален; я отодвигаюсь, отодвигаюсь, отодвигаюсь, а Соната как будто незаметно, непроизвольно, но, я знаю, неотрывно преследует меня блуждающим взглядом зеленоватых глаз. Чего ей от меня надо? Чего ей надо вообще? А что, если просто показаться — показаться всем, ждут они того или нет, рады или нет, или хотя бы помозолить глаза этой безвкусной кокетке Шалнене, а в первую очередь, конечно, этому Ауримасу, хоть он и стремительно старится, хоть у него и самые дикие претензии (Казис рассказывал об их последнем конфликте), хоть и родом с окраины, и это дает себя знать, да, да, — а все же это частица ее, Сонатиной, молодости; и пусть он хотя бы сейчас поймет, как она всегда права и как она умеет быть счастливой, она всегда была, есть и будет счастлива…
А мне ее лицо — пусть даже весьма и весьма привлекательное — кажется фанерным, как и все остальные лица, а красивые зеленоватые, скорее коварные, чем умные, глаза — лишь прорези в тусклой с сероватым оттенком фанере: 74–44… Марта? Глуоснене? Да нет же, Оне, какая Оне, та самая, которая… хватит! Не такие уж веселые это дела и не такие приятные, уж хотя бы ради такого вечера можно было бы… Вот, смотри, тебя поздравляют — Даубарас уже поднял обе руки, — и ты чуть ли не оказываешься под полой его пиджака, а вот правая уже поднимает бокал на тонкой ножке с пенящимся шампанским, будто что-то взвешивает… Истинно памятник; сейчас он вспомнит…
— Попрошу сюда… сюда, наш славный юбиляр… и лауреат… по этому случаю мы тебе присуждаем… чем плохо?.. Ближе, ближе, чтобы я мог первым тебя обнять и чтобы, черт подери, все увидели, какой ты у нас сегодня красивый… Сюда, сюда, в центр, в самую середку, ты здесь главнее всех, ибо сегодня кто такие мы, все остальные, а?.. Главного героя — in medias res[54], в середину вещей, в центр внимания.
— In medias res — требование романистов. В центр. В самую середину. Роман — сжатое время, понимаете? Итак, без вступлений. Не будем толочь воду в ступе, давать характеристики; in medias res. К сути, к сути, вперед!
«….потом его позвал голос из прошлого…» К черту! Никакого прошлого. In medias res. Никаких вступлений. Роман — сжатое время. Остановленное. Укрощенное на листе бумаги. В людских мыслях. Чувствах. Итак —
«…отца! убили моего отца! от-ца-а-ааа!»
Отца? И где же? В Кельне? Или там, где я только что побывал? В теплых краях? Многих поубивали, Бриг, и многих еще убьют и многое: надежду, веру. Любовь. Такие вот, Бриг, убивают любовь.
— Вот, вот, так! Теперь хорошо! — Это Даубарас, он похлопывает меня по плечу, лапа у него что ковш; где рюмка, почему опять боль в плече? Солиднее. Теперь вот уже вполне представительно, братец! Выше нос! Выше! Выше!
Вот как, Бриг —
Даубарас. Конечно же он. Да я, Глуоснис. Товарищ Даубарас. Товарищ Глуоснис. Мы с ним. (Мы с тобою заживем точно пара голубков… Эх, Мета…) Он мне сказал, он мне сказал: ребята, стреляй. Это был его, Даубараса, приказ…
— Я необычайно взволнован, Ауримас… что именно мне выпала эта большая радость… поздравить и вручить… и я счастлив, негодник ты этакий, будто это мой собственный праздник… И хотя ты, парень, иногда…
— Юбилейная речь?
— Не насмехайся. Мы ведь как будто друзья. А между друзьями… между друзьями и соратниками… Тем более между коллегами…
74-44… Тихий женский голос? Чей?
Поклянись, что не ты… поклянись, что не ты…
Конечно, не я. Не я, слышишь, Ева: твой Даубарас. Он. И хотя тебя давно нет — он! И ты, Мета, знай. Тот самый, который только что опять своей широченной полой меня…
— Товарищи! Уважаемые почитатели таланта нашего дорогого виновника торжества! Верная, ласковая… очаровательнейшая спутница его достойной жизни Марта… ах, ее здесь нет? Опаздывает? И дочурки нет? Да, молодость, молодость… Все мы были молоды и, думается, и сейчас молоды (хе-хе), хотя в молодости юбилеев как будто… Ну, не будем судить женский пол, дорогие друзья (взгляд Сонате), по, отдав ему должное, то есть нашу любовь и безмерное восхищение (еще взгляд, за ним и вздох), перейдем к Госту… Первому нашему тосту… Что, был? Ну, к первому, так сказать, официальному… Все вы знаете, что сегодня мы собрались здесь, чтобы в теплом и, я бы сказал, сплоченном кругу друзей, соратников и собратьев по перу… воззвав к самым чистым чувствам наших вечно молодых сердец, обратившись к самым потайным запасам самых заветных слов, почтить — —
Музыка, и все танго; знают, чего мне недостает, — тепла, той нужной человеку уютней меланхолии, которую может создавать лишь музыка и любовь; кто-то великолепно знает это и все вертит ленту за лентой со всеми этими лапаломами, виолеттами, лакомпарситами. Как все это не похоже на то, что происходит со мной на самом деле! Понурый, с жалкой гримасой перекошенного рта (я силился улыбнуться), измотанный странными, быть может, для остальных и непонятными заботами, невесть зачем и почему засунутый сюда, за П-образный стол седеющий человек… Юбилей? На что он мне! Эти слова, тосты, яства! Весь этот балаган вокруг, эти лица, даже эти звуки танго, сваливший все (годы, людей, события) в один серый комок тоски. Ауримас, станцуем? Тряхнем стариной, Ауримас? И эта дама-госпожа (или товарищ — кое для кого), Соната, грациозно подходит, подплывает, точно яхта Жаклин Кеннеди или Жаклин Онассис; причаливает к греческому острову… Какой стариной? Да той самой, каунасской, когда ты отвернулся от меня, бросил, бросил одну со всеми моими бедами и неприятностями, гадкий ты мальчишка. А, это когда с Даубарасом? Не с Даубарасом, а вся в слезах, я тогда всю ночь глаз не сомкнула, все ревела и думала… Обо мне? Своем немеркнущем идеале? Нет, о своей собственной жизни; тогда я, пожалуй, впервые задумалась о своей жизни, Ауримас, — так глупо сложившейся, хоть утопись. Зачем тебе топиться — муженек, говорят, на руках тебя носит. А как же иначе — любовь, Ауримас, знаешь… Не знаю, не доводилось… А вот и врешь, что не довелось, — Мету забыл? Забыл. Не ври, тебе вовсе не подходит врать, да еще в юбилейный год. Я, Соната, все позабыл, и всех, и вся. Врешь, врешь, врешь — разве меня только; меня многие, к сожалению, забывают. Всех и вся. Что, скажешь, и Оне тоже?
Оне? Тут я осекся. Какую Оне, чуть не спросил, но это было бы глупее глупого, потому что я уже знал, кто мне звонил и кто меня разыскивал: Соната; неужели я правда забыл этот глубокий грудной, хоть и приглушенный — возможно нарочно, для телефонного разговора измененный — «тихий» голос… И сама Соната, безусловно, знает, что я не забыл, хотя только что утверждал обратно; что же Оне сказала ей? Что узнала Соната обо мне еще — о том, что произошло в кабинете у Шачкуса? И потом? Ведь то, что случилось в том сером длинном каменном здании у базара, была наша последняя встреча, после которой, как и после всех остальных — как после тебя, Соната, — размоталась если не очень радужная, то и не сплошь серая (будем, Ауримас, откровенны) лента годов и, петляя по обыденным и насущным делам и событиям, выползла к нынешнему дню — к этому позднебарочному залу, в котором, галантно расшаркавшись (получалось ли у меня так в молодости?), придерживая за излучающий тепло бархатистый локоток, я только что препроводил Сонату на ее место подле мужа, монументального Казиса Даубараса; сам же вернулся к Оне. Ведь даже за столом, даже натянув на лицо такую же, как у всех вокруг, обязательную улыбку, кланяясь направо и налево — за мной ухаживали, меня баловали, мне накладывали на тарелку всякую снедь, наливали в рюмку что-то из высоких бутылок с узкими горлышками и пестрыми этикетками, — я был далеко отсюда, так же как и вся эта душноватая суматоха — от меня; я снова видел ее. Не знаю даже, почему вдруг я так четко увидел ее, Оне, словно она находилась здесь, против меня, даже, может, сидела рядом — на месте Даубараса, до которого мне и дела не было, или на месте его жены Сонаты, которая меня интересовала и того меньше; мне даже почудилось, будто Оне как ни в чем не бывало пару раз прошлась по залу и остановилась передо мной, точно собралась что-то сказать, хотя это был самый настоящий вздор; для оправдания можно сослаться разве что на усталость.
Но я видел ее! Видел Оне, видел в углу этого вытянутого сумрачного, по-осеннему сырого кабинета, возле узкого, но удлиненного, как в храме, двустворчатого окна, взглядом грустных (а то и злых, обиженных), вернее, всегда чем-то испуганных глаз пересчитывающую серые булыги двора; что она видит там? Может, грозно подкрадывающийся вечер, когда какой-то студент попросил — нет, потребовал — подвезти; и то, как ни с того ни с сего посыпались выстрелы — точно горсти гороха — в черную жесть любавской ночи? Или то, как он пришел в сознание и… Может, она слышит эти наши ночные (по-моему, нас всегда окружала ночь) разговоры — это «пусти!» и «убьют!» и о мальчишке Ализасе, вспоминает злополучный «вальтер», книжку Чюрлёниса… Мне так охота полетать… на белых этих крыльях… Тебе, Оне? Зачем тебе крылья? Прости, но ты, по-моему, малость тяжеловата для полета, твои ступни прямо-таки прилипли к земле… к кулацкому суглинку Райнисовой усадьбы… И твои клумпы, Оне, твои мужицкие башмаки слишком глубоко увязли в липком месиве той поры…
«Тяжеловата? Неужели? — будто услышал я и вздрогнул. — А для тех, других дел гожусь?..» И вновь почувствовал, как горит щека — куда она плюнула, услышал: «Ко-он-чим…» — и снова, будто вырвавшись из плена (а действительно — из плена ли?), Глуоснис той поры целиком спрятался в воротник; но я все еще был там. Там, откуда пришел, — в комнате Шачкуса, сплющенный, точно гриб, все на той же лавке, куда меня посадил Шачкус; вбежал белобрысый парнишка.
«Ну как, товарищ начальник? — спросил он, кивнув в мою сторону: быть может, мы с Шачкусом малость поцапались?.. — Разговаривать не желает?»
«Пусть катится, — ответил Шачкус и даже не взглянул на меня. — Валяй! Мне и так все ясно. Даже слишком ясно… А эту… — он повел глазами на Оне. — Кулацкую бабу…»
Белобрысый парнишка схватил меня за плечо и, не дав оглянуться, протащил до самой двери. Через неделю было бюро.
И здесь, на бюро, все и всем было ясно, и даже мне самому (в свое время я и сам готовил для заседаний подобные обсуждения), хотя мысленно я продолжал спорить с Шачкусом: «Зачем бросил меня в можжевельнике?» — да еще так ясно, что я больше молчал, чем что-нибудь говорил, никто, полагаю, и не ждал моих слов, все говорили сами… Нет, вся эта история тогда очень слабо походила на сюжет книги о «трудном послевоенном периоде», может, даже моей собственной, какие стали появляться впоследствии, — она была подлинной, вся сочилась, как рана, кровью, каленым железом жгла каждый мой нерв; совсем легко и просто, по ничтожной прихоти судьбы, она могла завершиться вполне обыденными для того времени девятью граммами свинца. Или осколком гранаты — если бы я решил так просто не сдаться, — взломанной колом дверью землянки и бандитской (возможно, Райнисовой) гранатой… Или выдачей, или… или даже шальной пулькой народного защитника где-нибудь в продымленном, зыбком лесу… Мало ли чем, Бриг, могла завершиться любовная история тех лет — вовсе не под аккомпанемент сентиментальных танго (все равно люблю, грешен) или модных тогда английских вальсов, а под багровые сполохи подожженных усадеб, свист нуль над ухом и рыдания женщин — старых и молодых — над трупами, сложенными в последнюю, зловещую шеренгу на базарной площади… Но это в назидание дню сегодняшнему, всей честной компании, усердствующей над пиршественным столом, и, ясно, себе самому, прежде всего себе, если не ради собственного оправдания, то по крайней мере ради осознания своего мизерного существования (сказать осмысления было бы чересчур громко); на бюро я чувствовал себя иначе.
И даже ничего особенного я там, на бюро, не испытывал, просто знал, что опять — как будто второй раз за свою недолгую жизнь — пошел не с той ноги, с какой следовало, и за этот неосторожный шаг должен поплатиться; теперь, возможно, ценой всей жизни. Шаг был как бы вынужденный, — какое это имеет значение; и кто же мог меня вынудить, если бы я не захотел (это потом, когда начал поправляться, а до тех пор, не приходя в сознание, я не мог за себя отвечать); и не решил ли я сам извлечь кое-какую выгоду из своего положения? Просился на волю, это верно, требовал увезти меня из землянки, из этих лесов, где, я чувствовал это, открывается отнюдь не самая почетная страница моей биографии, — но и требовал («просил» — не то слово, нет, не то!), как бы загодя зная, что мой «бунт» ни к чему не приведет, сейчас я могу сказать: подсознательно выжидая, а то и не слишком желая, чтобы что-то произошло — по крайней мере по ее, Оне, инициативе, — ибо затем последовала бы еще более страшная неизвестность: что же, Ауримас, дальше?
Это сейчас, чуть не тридцать лет спустя, я рассуждаю так: руководила мной профессиональная, тогда, вероятно, скрытая, но уже существовавшая любознательность, стремление литератора все прочувствовать на собственной шкуре — в данном случае эту неповторимую и даже, я бы сказал, довольно глупо завершившуюся псевдоодиссею, поскольку в ней не было героя. В ней был лишь миф, а не герой, — миф о любви и смерти, и о смерти, возможно, больше, чем о любви (прости, Оне), лишь вялое стремление к чему-то, а не четкая цель; у комсомольца должна быть цель. Так говорили все сидевшие за длинным коричневым столом, на самой середине которого гордо красовался графин с желтоватой водой, и говорили (чувствовалось) с труднодоступным моему пониманию злорадным чувством своего превосходства, целью которого, конечно, было желание еще пуще унизить меня: студент (я еще таковым не был, хотя попутно с редакцией и беседами Фульгентаса без особого труда экстерном сдал на аттестат), бывший боец (при этом все взгляды нулями впились в меня), бывший комсомольский работник (еще парочка пулек, трассирующих), литератор (целый шквал картечи), а надо же, с моральной точки зрения… И классовой, именно, — да ведь его отношения с кулацкой женкой Начене… «Я думал спасти ее!..» — мелькнула робкая мысль, но, может, это она хотела спасти тебя? И тебя, и себя, и… и Начаса, да, да, бандюгу Райниса, своего мужа-бандита она тоже хотела спасти, и его ей было жаль, так же как меня, как малыша Ализаса, как себя самое, как… Чуть не подумал: как Шачкуса, — такой вот Оне могло быть жаль и этого Шачкуса, с которым она когда-то отплясывала на вечеринках, а потом рассталась; у каждого своя дорога; а коли ей одинаково жаль всех на свете… Это уже провал, Глуоснис, это заблуждение — когда одинаково всех жалеют, — ведь тогда вся твоя одиссея не имеет смысла… Ибо нет в мире такой жалости, которую человек может раздавать всем поровну, как нет и таких слов, которыми я — бывший боец, студент, комсомольский работник, литератор — мог бы что-то доказать всем этим людям, которые сидят за столом и буравят меня взглядами, а молить… О чем, о прощении, но что я такого натворил? Ну, ранили, ну, потерял сознание, ну… А как бы вы поступили — такие праведные, всезнающие? Неизвестно, что я делал все те недели? Где находился? С кем поддерживал связь? А откуда, скажите на милость, вам знать — вы даже не подергали дверь этой землянки, не позвали меня и, возможно, никогда, не явись я сам к Шачкусу, никогда не задумались бы всерьез — куда же все-таки я подевался? И то, на что я пошел, было лучшим, что можно было сделать в таком положении; ведь я старался и для нее! Для Оне, кулацкой женки; видно, как-то я повлиял на нее, если ей так хотелось вырваться из болота, в котором погрязла, из страшного кулацкого мира; не знала — как, но вырваться-то хотела, я чувствовал, и ей та осень что-то дала — не только мне; еще, пожалуй, трудно сказать, кому больше, и не я виноват, что Шачкус… сгоряча…
Тут я понял всю бессмысленность таких рассуждений: неужели не искали? Ведь если бы не последний поход Шачкуса, не арест Оне, быть может, меня здесь и вовсе бы… Не только здесь — вообще на свете белом… Вот именно, не было бы меня нынче в живых, валялся бы где-нибудь под кустом и постепенно, потихоньку, позабытый всеми на свете, становился бы удобрением дремучих ятвяжьих лесов… И не пришлось бы мне оправдываться, заливаться краской стыда, вспоминая неожиданное для меня самого «даже, может, заложнику» (а вдруг не такое уж неожиданное, а вынесенное в подсознании все из той же землянки) и ее «ко-он-чим!», весь этот несмываемый мой позор на глазах у Шачкуса, — хотя, возможно… Возможно, я умер бы, погиб достойно комсомольца, как меня учили и фронтовой опыт, и книги, и, наконец, совесть, смертью храбрых, с высоко поднятой головой и с презрением к палачам, и бюро в том же составе ломало бы голову: где да на какие средства соорудить мне памятник… А теперь…
А теперь услышал: «Так исключаем, точка», — и, не чуя собственного дыхания, не слыша шарканья обмякших ног, выбрался из зала заседаний, из комнаты с длинным коричневым столом, за которым сидели мои сверстники; наверное, это было чересчур круто с их стороны. Я бы не сказал, что понятия «трус», «капитулянт» были здесь наиболее уместными (кто-то даже предложил написать «дезертир», но остальные отклонили), если свести воедино мое поведение и те, по сей день до конца неясные даже мне самому (не говоря уже о других людях) сокровенные мотивы этого поведения; повторяю: сегодня, вспоминая все это, я характеризую их как аккумуляционную потребность творческой личности, возникающую чаще всего спонтанно и не слишком зависящую от ее сознания. Но даже и такое объяснение не может уравновесить былого. И никоим образом не является ответом на вопрос: как тогда я мог поступить еще… Иначе. Как? Как? Как же?
(А может, я увлек Оне на свое ложе только потому, что боялся, как бы она, втайне того ожидавшая, не выдала меня своему мужу? Очень просто — отвергнутая женщина, движимая обидой и чувством мести… Возможно, именно это — страх быть выданным и страх смерти — таковы были главные мотивы моего тогдашнего поведения? Это уже рассуждения теперешние, хотя и не совсем уместные за праздничным столом, когда я, во всяком случае сегодня мне так кажется, начал кое-что соображать… а тогда, Бриг — —)
…не знаю, что привело меня туда, на окраину города, где я очутился после того бюро, и каким образом увидел перед собой этот вросший в землю по самые ставни, подпертый жердями дом, вернее — лачугу, где меня ждал Старик. Тот, из Каунаса, — помнишь, как-то я рассказывал тебе, — живший за туннелем; настолько я его позабыл, что он и сниться мне перестал; он сидел на пороге, выставив широкие и плоские, как хлебные лопаты, босые ступни, раскоряченный и согбенный, запаршивевший, подернутый буроватой щетиной (где его грозная борода?), в мятом, неряшливом, по-видимому бывшем синем, но теперь невыразимого цвета преотвратительно жалком плаще; в одной руке сжимал он наполовину выпитый стакан, другая придерживала на поводу собаку; пес рычал, а Старик пел: «Я лежу в гробу-у — и все мне трын-трава!..» — песенка странноватая даже по тем временам; завидев меня, он потянул поводок на себя. И, понятно, перестал горланить.
«Присаживайся, — он кивнул на приступок рядом с собой. — Своих он не трогает».
«Своих? — Я покосился на пса: обыкновенная сельская дворняга, достаточно крупная, чтобы нагнать страху, но не настолько, чтобы обездолить хозяина своей прожорливостью. — Почему… своих?»
Я не боялся Старика, ничуть, мне и самому было странно — как это вдруг я не боюсь Старика, распевающего о гробах, я даже взглянул на него как на доброго старого приятеля, которого рад повстречать; сегодня, во всяком случае, я чувствую, что рад, — нынче, после бюро, мне даже подумалось, что и его кто-нибудь крепко обидел, — иначе зачем бы ему торчать на приступке в этом драном, ветхом плаще, болтавшемся на костлявых, острых плечах, да еще босиком, в коросте, да подвыпившим; мне стало жаль его. Я повторил:
«Почему, Старик, своих?..»
«Будто я не вижу… — Старец печально улыбнулся, даже, пожалуй, не губами, которые были сухими и бесцветными, как и все его лицо, как выпростанные из-под нищенского плаща руки или этот серый треугольник груди «заостренным, покрытым паршой подбородком, — а словно этой буроватой реденькой щетиной по обе стороны рта; его глаза не меняли своего печального выражения, они как бы закоченели; да, его путь, судя по всему, вовсе не был усеян розами; может, это был вовсе не Старик? — Будто не вижу, дитятко, какой ты несчастненький…»
«Несчастненький? Не то слово, старина…»
«Да ты присядь… — он снова кивнул на приступок. — Собачка не тронет…»
Он даже ослабил поводок, который неизвестно зачем продолжал держать; нес, вильнув хвостом, умчался; тогда старый человек протянул мне стакан.
«На, согрейся…»
Откуда он знал, что мне холодно? Неужели я все еще дрожал после этого бюро, где так несправедливо (я был убежден в этом) наказали меня, просто чтобы не сделать опрометчивого шага, застраховать себя от возможных промахов и ошибок, — члены бюро хотели, разумеется, быть правыми и справедливыми, кто-то ведь должен быть справедливым, а кто-то остаться неправым, и этим неправым оказался я. Меня знобило, да так сильно, что я не почувствовал, как потянулся к стакану; это была роковая ошибка. Роковая потому, что я взял и второй, и, возможно, третий стакан, после чего все пошло кругами, завертелось и поплыло перед глазами. «Выпей, выпей, все как рукой снимет», — слышал я голос, хотя старого человека уже не видел — ни того, из-за туннеля, ни другого — с буроватой щетиной и ледяными, словно замороженными глазами; я ему что-то доказывал, на что-то все жаловался — этому оборванному старцу, — а то и самому себе: привык в землянке; потом я спал, рухнув на какое-то тряпье в черном углу, потом ел — что-то нашарил на столе — и снова глотал свекловуху из наполовину опорожненной бутылки (почему-то бутылка все время была наполовину выпита). «Нет никаких Стариков, откуда же тогда свекловуха?» — мелькнуло в голове, но я снова ложился на ветошь в углу, закрывал глаза; может, у меня открылась какая-нибудь рана? Там, внутри, где-то у сердца, болело и давило, будто кто-то сжимал это место горячими железными пальцами; я снова находился там. Снова и целиком — со всеми думами и обидами — там, в землянке, и снова видел Оне, слышал ее голос, дыхание, шаги, чувствовал запах ее волос; и снова, очнувшись, понимал, что все это только сон, и тянулся за бутылкой, которая, по-прежнему наполовину порожняя, стояла на столе; потом снова вспомнил Старика. Вспомнил, когда проснулся и увидел рядом с лежанкой пса — того самого, которого Старик держал на поводке; пес лизнул мою свесившуюся вниз руку, и я, к величайшему своему ужасу, понял, что здесь, на какой-то свалке, меня считают своим; поднялся, глотнул еще разок, выдрал из кармана пиджака все свои деньги, швырнул их все до последней бумажки на стол и, пошатываясь, как после тяжелейшей болезни (а может, я еще и был болен), заковылял вон; никто меня не удерживал.
Был вечер, землю давил свинец поздних ноябрьских туч; я забрался в свою комнатуху, которую снимал прежде, увидел Фульгентаса и, словно продолжая спать, повалился на длинную, с подпалинами от лампы, лавку у стола; меня все еще знобило, зуб на зуб не попадал, хотя холода я уже не ощущал.
«Дай, что там у тебя…» — проговорил я, хотя знал, что полагалось бы войти не с такими словами, да других у меня в тот момент не нашлось.
Фульгентас понимающе улыбнулся (и он улыбается, черт возьми), без слов поставил на стол граненую стопку и две луковки. И книгу — какую-то незнакомую мне книгу в твердой цветной обложке с немецким названием «Женская красота»; в ней были не какие-нибудь скабрезные картинки — Фульгентас это подчеркнул, — а репродукции с творений известных мастеров или фрагментов этих творений. «Учти, Ауримас, искусство — это искусство, я это прекрасно понимаю, хоть и прозябаю в глухомани…» Но Ауримас уже не слушал его, почему-то закрыл глаза и резко скинул книгу со стола; следом за нею, дробно прокатившись по клетчатой растрескавшейся клеенке, хлопнулась на пол и граненная стопка — —
(ВСТАВКА. МАРТА. Это я его спасла (не боюсь так выразиться, потому что это правда), я, «училка» Марта… Осмелилась — примерно неделю спустя после того бюро. Заседание было закрытое, и меня не звали. Почему закрытое? Да потому что все было загодя решено: исключить… Но у меня было решено иначе: не брошу. Дважды я была там и оба раза уходила ни с чем, но разве я что-нибудь знала наверняка? Неважно, все равно виновата. Зато сейчас… Я не то что другие, не то что Ирка, которая почему-то начала ко мне охладевать (или я к ней), не какая-нибудь гимназисточка, которая сама не знает чего хочет, — я Марта и я не брошу его. Пусть думают обо мне что угодно, пусть чешут языками направо и налево; как же так, с бухты-барахты, ни с того ни с сего, без всякой причины — ни на танцы с ним, ни так не хаживала, а тут нате — ворвалась к Фульгентасу и силком оттащила от стола (там валялись две луковки и темнела грязная лужица), уволокла в свою комнату в другом конце коридора, стянула с плеч пиджак (мятый-перемятый, будто его жевало целое стадо коров), поставила на стол таз с горячей водой, подала мыло, мочалку, зубную щетку и, встав поодаль, прижав к груди руки, откинув назад волосы и склонив голову набок, смотрела, как он моется: он, Глуоснис, судьба Марты-«учительши». Потому что поняла я это еще тогда, когда была у сестрицы Марго на пирушке по случаю начала студенческого года (пригласил меня Винцукас), когда он, Глуоснис, чуть придвинулся ближе и сказал, что грибы живые и дрожат у меня на вилке (что за вздор) и прямо обжег меня голубыми, вроде моих, но совсем другими — сухими, почему-то горящими, даже страшными — глазами: он! Еще до того, как его увидела, я уже знала, какой он, — словно он всегда находился подле нее, и не только на этих курсах пионервожатых, где что-то преподавал, не только здесь, на вечеринке у задорной сестреночки Марго, но всюду, всегда, на каждом шагу; не похож на того мальчика? Ничего, тот простит, мой белокурый мальчик, водивший меня по лугам детства, взявший за руки и легко, точно пушинку, точно невесомый пушок, извлекший из студеной лужи за углом дома; тот самый — из книг, кинофильмов и сновидений… из тех, детских, — только не из последующих и тем более не из нынешних… тягостных, томительных, не позволяющих ни думать о чем-то другом, ни спокойно работать… о которых даже самой лучшей подруге Ирке… Потому что Ирка, учительница Ирена с рыжими волосами, само собой, поднимет на смех («Пора, ой пора красной девице замуж»), ведь она на три года старше ее, Марты, и втрое (знаю я) умнее и почему-то все реже вспоминает их общего (только в самом ли деле общего) приятеля Винцукаса, того, что уехал в Каунас учиться литературному делу и даже опубликовал одно стихотворение в журнале (обе они с Иркой хранят по вырезке), и каждый день без всякого повода заводит разговор о каунасском «внешкоре»; да неужели Ирка считает, что и этого Глуосниса могут они обе… Глупости! Его?! Того, о котором она грезила, кого ждала, без кого изнывала, даже сама не зная, не подозревая о том? Кого сама судьба, словно услышав зов одинокого сердца Марты, поселила под одной кровлей с нею? Кого Марта встречает каждый божий день — точно глашатая будущего, точно укор совести — то в коридоре, то где-нибудь на улице, то во дворе, где он умывается у колодца… Доброе утро, товарищ Купстайте. Здравствуйте. Добрый вечер… Только «доброй ночи» он не сказал ни разу, хотя это, как казалось Марте, и есть самое главное, — ведь тогда могли бы уйти мучительные сны, тогда не сжигало бы одиночество; по вечерам они просто не попадались друг другу, разве что на собраниях или если Марта забегала к Фульгентасу за какой-нибудь книжкой, а вернее — подглядеть, что поделывает «внешкор», почему не появляется во дворе: не захворал ли, не простудился ли (кто поймет, насколько жаждала Марта ему помочь), а вдруг от долгих бесед с Фульгентасом и его угощений… устал, может, ему попросту надоел этот Фульгентас со своими речами… Спасет, Марта его спасет, что бы ты, подруженька, ни болтала, что бы ни трещали кругом остальные; это касается лишь ее одной, Марты-шкраба, ее это личное, глубоко личное дело, потому как… Судьба, это сама судьба, а от судьбы, Мартушка… тем более что и представитель… значительное лицо из Вильнюса, побывавший у них в гимназии… так вот, он самый, когда они остались наедине… он сказал…
«Умру, а спасу, умру, а… — твердила сама себе, подавая ему полотенце и наблюдая, как безжалостно, будто вместе с водой желая стереть с себя и кожу, как-то злобно, мстительно дерет он льняным полотенцем запавшее, с заострившимися скулами, беспощадно напоминающее обо всем, что с ним было осенью, лицо. — Вы еще увидите… вот увидите… да…»
Наверное, я думала слишком громко или даже вслух, так как он, Ауримас (судьба моя, судьба!), перестал утираться и, держа у подбородка смятое полотенце, уставился на меня долгим и пристальным взглядом, будто взвешивая, оценивая меня.
«Да, да! — произнесла я громче; сама не знаю, откуда взялась эта дерзость. (А ведь совсем недавно даже Ирка назвала меня трусишкой, когда я рассказывала, каково мне пришлось там, у Шачкуса: такого пентюха не могла поставить на место, ну, знаешь… Натянуть ему нос — длинный его носище… Небось не упек бы!) — Спасу! Умру, а спасу! И от бюро этого самого, и от Фульгентаса, и…»
«И…» — повторил он точно эхо.
«От всех!.. — крикнула, хотя подразумевала, конечно, только эту бой-бабу Оне. — Даубарас сказал, тебе нечего здесь делать…»
«Какой Даубарас? — он вытаращил глаза. И даже протер их (слава богу, хоть руки вымыл), словно его будили среди ночи. — Какой тебе еще, деточка…»
«Ты знаешь его… Помнишь, тогда, у Марго…»
«Марго?»
«Да, в Каунасе…»
«В Каунасе?..»
Больше он ничего не сказал, повернулся и не спеша, неловко ощупывая пуговки, застегнул рубашку; я видела, что пальцы у него дрожат.
«Слышишь, Ауримас, — продолжала я, — товарищ Даубарас посетил нашу гимназию, я подошла к нему и все рассказала…»
«Все?! — Он вдруг резко обернулся и уронил вниз руки. Голос бухнул, как кинутый в яму камень. — Ты что, ему все…»
«Да».
«Все-все?»
«Ну… нет… — Я испугалась этого глуховатого, точно упавшего на дно голоса. — Не все… Только про бюро… Он советует уехать…»
Я подняла на него глаза (набралась храбрости), ожидая ответа, но он, как видно, ничуть не спешил. Смотрел вниз, на кончики своих сапог, беспомощно грязных и, возможно, вовсе не соответствующих этой комнате с желтым, пахнущим сосной, недавно навощенным полом, на светлую дорожку, которую я на досуге сплела из старых лоскутков, — точно меня здесь и не было, — и молчал.
«Слышишь, Ауримас? — Я подошла ближе и даже сделала попытку снова взять его за руку — только, конечно, гораздо осторожнее и ласковей, чем около часа назад, когда, заслышав стук упавшего сосуда, ворвалась во владения Фульгентаса. — Товарищ Даубарас все забыл и предлагает нам уехать…»
Он и сейчас промолчал. Даже не шевельнулся, словно его нисколечко не интересовало сказанное мной. Мне вдруг показалось, что он перестал дышать. Я испугалась. И отважилась….
«Я просто умру… — простонала я, — если ты останешься здесь… Ведь я обязательно уеду… а бросить тебя одного… с ними… с Фульгентасом… ни за что!»
«Умрешь? — Он оторвался наконец от своих страшных сапог, глаза у него были почему-то красные, недоумевающие. — Ты? А с чего бы, скажи, пожалуйста, тебе умирать?»
«Не знаю… Но я правда… Если ты останешься здесь…»
У меня кружилась голова, но это от подступивших к горлу слез. Я закрыла глаза.
«Не умирай… — услышала я. — Не надо… Зачем умирать? Дурочка!..»
Но голос у него был не такой, как с минуту назад. И слова уже не падали камнями в глухую яму. И хотя то, что мы говорили друг другу, ничуть не походило на те признания в любви, о которых я читала в книгах, я поняла: спасла… Это я, Марта-«училка», спасла этого такого-сякого Глуосниса, ничуть не похожего на мальчика моих грез, но вдруг… когда-нибудь…)
Наутро Ауримас с Мартой уехали в Вильнюс. Поезд отправлялся рано, Фульгентас еще спал, и Глуоснис решил не будить его — —
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
«…потом его позвал голос из прошлого…» Чей это голос, Бриг? Нерожденного? У него нет голоса, у нерожденного, хотя он гораздо ближе ему, Ауримасу, чем все остальные, с годами отошедшие в историю; он всегда с Глуоснисом — этот голос нерожденного, не сумевшего, не захотевшего родиться, угасшего незаметно для всех на свете; Марта болела долго. Ауримасу даже казалось, что она так долго болеет только потому, что яснее, чем он, слышала этот голос, голос их сыночка (оба верили, что родится мальчик), который прочнее всяких клятв должен был скрепить их любовь, связать их жизни одним крепким узлом, стянутым еще тогда, когда они — не то по своей охоте, не то по чьей-то ноле — с маленькими обшарпанными чемоданчиками (много ли надо человеку, особенно когда он молод и все у него впереди) пешочком притопали на темный от паровозной копоти, продымленный и убогий вокзал окружного города и взяли два билета на Вильнюс, — голос их крошечного, но жизнерадостного, непременно на Ауримаса похожего мальчика, у которого будут все лучшие качества Глуосниса: упорство, целеустремленность, писательская жилка, и не будет ни единого его недостатка; недостающие достоинства сынок унаследует от своей мамочки — мечтательность, одухотворенность, необходимую творческой личности (Марта ни минуты не сомневалась, что сын будет человеком искусства), веру в свою счастливую звезду, самоотверженность, которая нужна для преодоления всяческих невзгод (а они будут у их сыночка, будут), это свойство — знать, как поступить; и все-таки будет баловень судьбы. И жить он будет в иные, спокойные времена, когда зародившиеся в итоге бурных событий завязи начнут оформляться в первые плоды и когда все двери раскроются без труда и особых усилий перед каждым, кто постучится; а за теми раскрытыми дверьми будут цвести честность, красота и стремление к совершенству. Этот их ребенок не может не быть счастливым (так считала Марта) и даже, возможно, принесет им обоим то, чего, Ауримас это чувствовал, им как бы не хватало, — на этом пространстве между мужчиной и женщиной, где что-то пустовало и нуждалось в восполнении, на «ничейной земле» между двоими молодыми, очень сходными, но и очень разными людьми, перебравшимися из далекого захолустья в столицу и сиявшими каморку под самой крышей на улице Шопена; внизу гудели паровозы. Они словно напоминали, что странствие — вечный удел человека; а Марта не хотела никаких странствий. Ей надо было жить: учиться, работать, растить сына (у нее уже было приготовлено приданое), любить Ауримаса и готовиться встретить будущее; это было самое главное, поскольку ни один из них не представлял, каким оно будет, это самое будущее; потом случилась беда. Первая серьезная беда в их совместной жизни, огромная и непоправимая, какую не понять чужим, и всю вину за нее Ауримас брал на себя: он мужчина, первый голос в доме, нечего было позволять Марте выходить на улицу в гололед; а Марта, разумеется, на себя: могла не ходить, а она все же вышла, торопилась успеть на педсовет; поскользнулась у самых школьных ворот… И все потом проходило под знаком того, нерожденного, хотя ни один о том не упоминал, не смел обмолвиться ни единым словом, на это было наложено табу. Заклятье на все пять лет, пока не родилась Эма, — они знали, что будет девочка, ибо ничто на земле не повторяется, не может возродиться в прежнем, долгожданном виде, — и разговоры о сыне прекратились сами собой; потом подкралась болезнь…
Но перед тем было многое, Бриг, о чем не знает никто, а если и знает, то это не имеет никакого значения, поскольку у каждого и своих забот полно, — хотя то, что другим казалось незначительным и даже заурядным, было так важно для меня, Глуосниса, и возможно, для Марты, не скажу наверняка, поскольку, как ни странно, тот промежуток, та дистанция молчания между нами, «ничейная земля», возникшая «после мальчика», со временем ничуть не сузилась и даже, по-моему, начала шириться, и причиной тому — уж этого мы меньше всего ожидали — была дочурка Эма, наша хрупкая малышка, так полюбившая песенку нашего собственного сочинения про черного кота, что явилась заменить того мальчика и даже заменившая его, только иначе, — и, может (это я, Бриг, сейчас так считаю), даже тот наш поспешный побег в Вильнюс, который снова свел меня с давно забытыми делами, впечатлениями, людьми, в том числе и с Даубарасом, — опять-таки, Бриг, с Даубарасом, который — —
— — который стоит вот, как монумент возвышаясь над всеми остальными, и все говорит, говорит, торжественно и выразительно вскидывая в стороны руки, точнее — одни лишь холеные и розоватые, как креветки, ладони, а локти у него все время как бы приклеены к бокам; вот он кланяется, выпрямляется снова и, улыбаясь, подает мне какую-то папку с вложенным в нее листом: буквы золотые, а начертанное там, возможно, ничуть не меньшей ценности, чем благородный металл, — это диплом или почетная грамота, понятия не имею, поскольку держу в руках уже две подобные папки, и обе с подписями, возможно, одних и тех же людей; кто-то восклицает, аплодирует… И кто-то меня обнимает, наваливается всей тяжестью, чьи-то сильные, свинцово-тяжелые руки: в нос ударяет резким мужским одеколоном; пытаюсь отвернуться… Но это мне не удается. «Что ты, дружочек, — гремит в ушах, и одеколон полностью забивает дыхание. — Если уж мы, старые боевые друзья, будем бегать друг от дружки… если не будем чувствовать плечо…» — «Да разве я что-нибудь… то есть… большое спасибо… спасибо, спасибо!..» — «Одним «спасибо» не отделаешься… должен тост… ответное слово… Ты перевалил через все неприятности, трудности личного порядка, думаю, не без поддержки добрых друзей… Если так сравнительно безболезненно выпутался… гм… из лабиринтов судьбы… то, дружочек… ведь если ты, Глуоснис, помнишь… если ты еще — —»
Я? А ты, Даубарас? Все ли помнишь ты? Не будем окунаться в детство, не стоит, слишком оно далеко, хоть и говорят, что с годами оно от нас не удаляется, а, наоборот, приближается к нам, пока естественно не сливается полностью с нашим сегодняшним днем; так спираль вновь обращается в круг… Таким образом, по спирали, свивающейся в круг, я снова вернулся к тебе, так как больше, по-моему, было не к кому; так, по крайней мере, считала Марта. Комсомольский билет тогда отстоял для меня Даубарас, и все обошлось выговором (хотя я по сей день, честное слово, не знаю, за что), который довольно скоро — я уже работал тогда с Даубарасом — сняли; я уже не был таким, как когда-то, я был уже другим. Пусть против своей воли, пусть не желая того, шаг за шагом я шел к другому своему облику, и такой вот — иной, чем в Каунасе (и, конечно, иной, чем в Любавасе), — я пришел сегодня на эту пирушку, на торжество, которого старался избежать, но к которому чуть не силой принудили меня другие; и то, что в глазах остальных было чествованием некоего Глуосниса, по моему разумению, было не что иное, как очередное унижение, ибо вручал все грамоты Даубарас, все еще мой начальник, и все еще он, и все с теми же налегшими на мои плечи, точно две слинцовые горы, ладонями; я сам удивлялся, почему не вою волком…
Но не выл и даже улыбался, следя за розоватыми, как креветки, ладонями, которые вскидываются, стоит ему лишь заговорить, — и даже поневоле бросил взгляд на свои руки, на пальцы, держащие тонкую ножку хрустального фужера, словно вздумал проверить, не похожи ли они на Даубарасовы; вот чего я боялся, так уж боялся! Этого сходства — дошло до меня сейчас, — которое выдало бы мой духовный компромисс и показало бы некоему Глуоснису (юбиляру Глуоснису), где его место среди всех этих густо облепивших праздничный стол людей; я даже совсем по-ребячески спрятал руки под стол. Думаете, не знаю, чего стою и каким бы мог быть, если бы не тот скоропалительный побег из уездного города, бегство от себя самого; это желание выжить, кем-то быть, кем-нибудь, к чему, возможно, вовсе непригоден, но чего хочешь пуще всего на свете…
Вдруг мне стало так грустно, так скучно и тошно, так тяжело находиться здесь, за длинным П-образным столом, под широченной дланью всегда довольного собой и в себе уверенного Даубараса, видеть этих людей, собравшихся здесь без всякой определенной цели и галдящих без всякого смысла, — что я встал и апатично, словно пробуждаясь после долгого, тревожного сна, провел несколько раз ладонью по глазам и голове.
— Ты куда это, а, дружок? — Даубарас схватил меня за локоть цепкими, острыми пальцами, будто я в самим деле норовил устроить побег. — Нам с тобой еще надо бы…
— Может, в другой раз?.. — пожал я плечами, выходя из-за стола; гости были оживлены и не обращали на все это никакого внимания. — Все в один день — многовато как будто…
— Совершенно срочно, дружочек…
— Прямо сейчас?..
— Прямо!.. — Он зачем-то поглядел на грамоты, лежащие на столе; я отвернулся. — Понимаю, понимаю!.. — лукаво улыбнулся он. — Слава — нелегкое бремя… Тяжела ты, шапка Мономаха…
— Да нет! Просто после всех… путешествий…
— Конечно, конечно! — Даубарас величественно кивнул головой все с той же лукавой улыбочкой, которая прочно приклеилась к его невозмутимо потускневшему лицу, и с тем же взглядом, тяжелым, вещественно ощутимым, сросшимся с этими грамотами. — Путешествия — не одно сплошное удовольствие, это и новая очередная ответственность, правда? Особенно когда дома снова навалятся старые заботы. Они нас держат прямо как путы какие-то… Почему ты не уволил Юодишюса?
Он произнес это как бы между прочим, даже не повысив голоса, но настолько неожиданно, что я и моргнуть не успел — так и замер, точно застигнутый за каким-нибудь гадким делом, а ведь стыдиться было нечего; я ответил:
— А за что?
Даубарас холодно блеснул глазами.
— Как это понимать? Друг мой!.. Не доходит до тебя или придуриваешься?
— Придуриваюсь? В мои-то годы…
— Тем более, Глуоснис… За халатность, за что еще! За низкую квалификацию. Наконец, за… толстокожесть… наглость в общении с более заслуженными людьми… Формулировка тут не имеет значения, подберешь… важен сам факт… Гони, и точка!..
Это он произнес уже громче и даже оглянулся, не слышит ли кто; нет; Даубарас выпустил мою руку.
— Но… — Я качнулся; странно: пить не пил, а качаюсь. — За что? Уж не за то ли, что роман одного автора… как не соответствующий профилю нашего журнала…
— Говори прямо… Ты его боишься.
— Кого? — Глуосниса взорвало, но он надеялся, что Даубарас этого не заметил.
— Юодишюса. Боишься — ведь он конкурент. И не только в литературе… это еще можно было бы терпеть…
— А пояснее?
— Яснее быть не может, Глуоснис… — Даубарас прищурился. — Куда уж больше?.. Если двое любят одну…
— А, вот оно что!.. — Глуоснис вдруг почувствовал, что краснеет — до корней волос, как юнец. — Прошу прощения, но я… мне еще надо позвонить…
— Ей? — подмигнул Даубарас, и Глуоснис понял, кого он подразумевал, хотя звонить собирался домой; его снова бросило в жар.
— Вполне возможно… — ответил он. — Хотя это мое личное…
— И как раз сейчас? — Даубарас подхватил его же, Глуосниса, тон. — Прямо сейчас побежишь звонить, когда… когда мы наконец можем по-мужски…
— Прямо сейчас!.. И да будет вам известно, я прекращаю на эту тему… Прошу прощения, но…
— Гордец!.. — Даубарас медленно, нарочито не спеша покачал головой. — Ах, как мы всегда горды и полны достоинства, Глуоснис!.. А уж перед старыми знакомыми… соратниками… товарищами… И оттого, что мы горды и… гм… преисполнены достоинства… мы вынуждены молча сносить все хамство этого молодого нахала… Не то еще подумают, что мы от ревности или…
— Или?..
Итак, Даубарас, все хамство… Не то еще подумают, что из ревности или…
Не спешите. Не думайте. Ведь если двое любят одну… Или когда-то любили… Если, Бриг, эти двое когда-нибудь…
И опять не то!.. Совсем другое, Бриг… совсем другое…
Но — по порядку, без спешки. И нечего злиться, поздно. Хотя вспомнить можно, даже нужно. Иначе к чему весь этот вечер? Речи? Тосты? Фанерные лица? Зачем? Зачем Даубарас, Соната? Марта, Оне и Мета? И я сам тогда — зачем?
А если так… то — —
Ведь помнишь ты, Даубарас, скорее всего помнишь, как я, насквозь мокрый (шел дождь, опять же дождь), пришел в то здание на проспекте, куда меня вызвал какой-то инструктор (исключение надо было утвердить), и как ты, заглянув зачем-то в то же здание, как бы невзначай встретился мне в коридоре (хотя впоследствии мне стало казаться, что все это подстроила Марта) и как бы ненароком сказал: «Что ж, дружок, опять?..»; я ничего не ответил… Потому что не знал, что означает это «опять» и чего тебе от меня надо; я ведь все позабыл… Все, все: пинг-понг в университетских подвалах, разговоры о Марксе, голубей профессора Вайсвидаса, фильм «Однажды весной», Мету — даже Мету, Даубарас, я забыл, старался забыть в любавских лесах, в своей добровольной ссылке, даже ее, Даубарас, — только вот Грикштаса… Его, видно, буду помнить и на смертном одре — эти узкие, близорукие, внезапно засверкавшие какой-то непонятной мне решимостью глаза редактора Грикштаса, желтые таблетки, которые я силком запихнул ему в рот и которые сразу же очутились на темной Грикштасовой ладони… «Если только из-за Меты…»
«Что вы, конечно, не только, а то и вовсе не из-за нее; правда, Грикштас, есть более высокие стремления…» Но почему же ее, опять ее, Мету, увидел я в мыслях, едва заметил Даубараса и услышал это его «что ж, дружок, опять», — ее, а не другую — не Оне, Бриг, чей плевок я ощутил острее, чем ее поцелуи; я носил его в себе как рану, как саднящий свежий шрам, не желающий заживать, — и даже не Марту (даже совестно), не жену свою Марту, которой я столь многим обязан (в тот раз я убедился), а Мету, которую позабыл и в отместку которой (а может, самому себе, простофиле с Крантялиса) с таким вниманием слушал разглагольствования Фульгентаса — помогай ему бог; Мету Вайсвидайте, пестренького мотылька, убегавшую от меня все дальше и дальше, точно подхваченное ветром облачко, с этими волосами скорее белого, чем желтого оттенка, в которых блестела голубая ленточка, с этим едва ощутимым ароматом цветущей сирени, с быстрой, отсчитывающей безвозвратно уходящие доли секунды походкой горделивой серпы, — со всем, что составляло ее суть и чем она была для меня; Даубарас это понял мгновенно — что я не забыл ее, вот что, и что сейчас снова думаю о ней; он медленно оглядел меня.
«А Меты нет… — проговорил он совершенно спокойным голосом и даже притом наблюдал, какое впечатление произведут на меня его слова. — Вышла замуж…»
«Еще раз?.. — полагалось воскликнуть мне. — И за кого теперь?»
Но я не крикнул, удержался. И не потому, что это известие ничуть не тронуло меня, а лишь из-за того, что чересчур уж спокойным был голос Даубараса: так сообщают о растерзанном кошкой голубе или о кончине неудачно пробежавшего через улицу соседского песика; меня, старик, не проведешь…
«Вполне возможно… — ответил я. — Имеет же право и она…»
«Право? — Даубарас погладил рукой подбородок. — Конечно… Законом не возбраняется… Только… — Он слегка задумался. — Не понимаю, зачем она спешит? И куда? Горит, что ли… Или, может, ей не понравилось…»
«То, что я тогда… после похорон… так неожиданно?..»
«Что ты!.. — Даубарас тронул меня за плечо свинцово-тяжелыми пальцами. — Что ты, дружок!.. Ведь не мог я пригласить ее на свое бракосочетание!.. Что бы подумала Соната, а?»
Вот как: Соната… Будем считать, что ей повезло. Как, надо полагать, и мне…
«Передайте ей привет…» — сказал я.
«Дружок, ты все еще…»
«Да что вы — все Мета, Мета… При чем тут я? — Я даже махнул рукой, словно желая отогнать от себя назойливо преследующий меня образ. — Сонате… Как-никак мы с ней иногда танцевали…»
«Обязательно передам!.. — Даубарас выждал, пока мимо пройдут двое раскрасневшихся, о чем-то спорящих молодых людей; возможно, они даже знали Даубараса, потому что сразу замолчали и довольно дружно кивнули ему. — Как же, непременно!.. А насчет тебя… — он снова взглянул мне в лицо. — Только, прошу тебя, не дуйся… Я уладил… Будешь работать в отделе писем…»
«Писем?»
«Да, да… Мог бы и сам понять, что не так уж это плохо, особенно после этих срывов в Каунасе и…»
«В отделе писем?» — повторил я; перед глазами почему-то возникла батарея засаленных деревянных ящичков — картотека писем: жалобы по поводу протекающих кранов, пьянства дворников, бродячих собак…
«А что, неужто сразу за творчество?.. К Юозайтису… Ты ведь знаешь его…»
«Еще чего!..» — чуть не сказал я, но это было бы чересчур; вспомнил к тому же, что опаздываю к инструктору и что, возможно, после этого визита многое переменится; Даубарас покачал головой.
«Ерунда!.. Уладил я это дельце».
«Но я… товарищ Даубарас… вовсе не просил…»
«Мелочь… Глядишь, и ты мне когда-нибудь… вдруг припрет нужда…»
«Вас? Нужда? Смеетесь, товарищ Даубарас…»
«Кто может знать, дружок? Тернисты жизненные пути, извилисты. Часто бывает, что возвращаешься туда, откуда вышел. Не хочешь, а приходится… И хорошо еще, если бока целы… не намяты как следует…»
«Но я… правда… недостоин… и даже…»
«Совершенно верно, я с тобой согласен! Недостоин и ничего не просишь… это мы знаем!.. А кое-кто просит… Слушай, и славная у тебя жена, Глуоснис. Такие, учти, на дороге не валяются… Это тебе, брат, не Мета или та… гм… из лесной глухомани…»
И ушел, пожав мне руку (у него рука тяжелая и холодная), ушел раньше, чем я успел что-то сказать. И много раньше, чем успел сообразить: то ли благодарить, то ли опять смеяться, — разумеется, над самим собой…
«С Юозайтисом вы снюхались, да… — сказал он год или два спустя, попросив водителя затормозить; он подвезет; редко видимся. — А я это знал всегда… Знал, да молчал…»
«Что именно?.. — спросил Глуоснис; из редакции он спешил в университет, на лекции; была зима, Марта как раз болела — то была ее первая затяжная болезнь; на душе было скверно. — Что именно, товарищ Даубарас, вы знали?»
«Твои псевдонимчики… вот что!.. — Он обернулся; от мягкой папахи какого-то густого дорогого меха и такого же воротника его зимнего пальто веяло теплом и домашним уютом, щеки были аккуратнейше выбриты, проодеколонены. — После открытой критики публиковать рассказики или что еще… нужна, я бы сказал, большая смелость…»
«Я даже роман…»
«Роман?..»
«Да. У меня есть и роман… правда, еще не закончен… Но если все пойдет, как до сих пор…»
«Роман? — Даубарас взглянул на меня в упор как на нелепого чудака, плохого шутника; возможно, я и был таковым. — У тебя?.. После всех передряг?..»
«Ну и что же?.. — улыбнулся я. — Хотя бы и после… А то и благодаря им, товарищ Даубарас…»
«Мы смелы… смелы, нечего сказать… Начинаем смелеть…»
«Что поделаешь… Если есть о чем и если тянет…»
«Тебя?.. Еще бы не тянуло… И уж конечно есть о чем… Только вот…»
«Только?..» — насторожился я.
«Кто напечатает, позволь спросить?.. Твой роман…»
«Хотя бы Юозайтис… Он не из трусливых…»
«Не то что Даубарас, да? — Он криво улыбнулся в свои мягкий меховой воротник; водитель безучастно поворачивал руль, нажимал на педали, мотор мягко гудел; было тепло и спокойно. — Не то что приспособленец и трус Казис Даубарас… хотя тут совсем… совсем-совсем не то, Ауримас…»
«А что же?»
«То, что он свободен, а я… Я должен быть, Ауримас… быть для себя и быть для других… Прежде всего, конечно, для других…»
«Для других?»
«Да. Для тех, кто это понимает… — Он взглянул на меня как-то, мне показалось, со значением. — То, дружочек, мой первостепенный долг… Потому что если паду я, то и другим, думается…»
«Вы? — Глуоснис ужаснулся: вот уж чего он никак не мог себе представить — падающего Даубараса; в ту пору — никак… — Что вы, товарищ Даубарас, никогда…»
«Почему? — Даубарас искренне удивился и зачем-то посмотрел на водителя: тот сидел безмолвно, как изваяние; мимо окна машины серой каменной вереницей скользили заиндевевшие дома старого города. — Жизнь, братец, пестра. Все может быть… — Он немного помолчал, покачал головой. — Ты послушай, — продолжал он, будто себе самому говорил, а может, так оно и было — себе? — Вот свалюсь я — никто мне руки помощи не протянет. Лучше уж держаться, не падать. И я держусь. Другого выхода у меня нет… — Он снова умолк — Да… — вздохнул. — Марте передай привет… Чем-то мы с ней, знаешь, похожи… Тебе не обидно, Глуоснис? Ведь если бы не она, дружочек, то и ты… этакий гений при Юозайтисе…»
Если бы не Марта, да… если бы не жена моя Марта, которой здесь, на банкете, нет и которая даже головы не повернула, когда я вернулся из той поездки по знойным странам, — если бы не она, я бы никак не встретился снова с Даубарасом… с Даубарасом, забыть которого я хотел еще больше, чем забыть Мету; я бы не работал с ним — потом, уже после Юозайтиса, которого поминаю добром и только добром, хотя… Зря ты все-таки убежал тогда, Ауримас, зря, сказал он, там, на вокзале, едва я заикнулся тебе о деньгах, о той премии — она бы тебе не помешала, пригодилась бы. Любавас мне пригодился больше, Саулюс. И я не потому ушел от Юозайтиса, что он, как заноза, вечно досаждал мне своим присутствием как укор совести — честный и прямой человек, а потому, что многое я к тому времени хотел забыть, даже Мету, чей образ все больше удалялся от меня — словно уходящий в туман большой белый корабль, словно сказка или детская греза; писал я про Оне. Про нее, покинутую в сумерках, заливших мне глаза, так незаслуженно обидевшую меня (а может, все-таки я обидел ее), подобравшую меня в можжевельнике (подобравшую для себя? Или для меня же самого тоже?), поместившую в своем доме… Марта, может, простит. Ибо, хотя и писал я про Оне, я был верен Марте, как никому на свете, и думал о ней, о Марте, и о мальчике, о том, который родится… а может, и об Эме, которая явится потом; я, может, даже слишком много думал о них, о бывших и сущих, и о том, что хорошего мог бы сделать для них, — и соглашался со всем. Даже с тобой, Даубарас, с этим осеняющим меня взмахом твоей руки, с твоей волей, снова направлявшей меня, с обыденным ходом жизни, который с годами вывел меня к этому дню, чуть расцвеченным поездками или беседами с Вингой, но все же серым и однообразным; может, все-таки я достоин лучшей участи?
Это приходило мне в голову всякий раз, когда, отсидев года два или четыре за письменным столом, я ставил точку на последней странице своего сочинения; я выпускал даже книги. Кто-то их хвалил, кто-то писал о них в газетах, кто-то, посиживая где-нибудь в пивбаре или у костра на субботней рыбалке, разносил мои книжки на чем свет стоит — жизнь есть жизнь, таков он, удел литератора, детская мечта многих людей (и моя, между прочим, моя, Бриг!); я был вечно недоволен. Мысль «достоин лучшей участи» не давала мне ни чересчур ликовать, ни слишком убиваться, оставалось одно — работать. Памятники будут воздвигать другим, пусть; мы будем писать; может, вам интересно — о чем? Обо всем, что меня волнует, из-за чего вся жизнь представляется такой, а не какой-нибудь иной, — жизнь каждого из нас; себе не солжешь… И потому я писал про Оне, зная, что, когда пишу про Оне, думаю о Мете — о той беде, которую на Оне навлек я, а на меня Мета; почему так бывает, что мы губим любимых людей? Вернее, тех, кто нас любит? И может ли быть иначе? Вот что поглощало меня, Глуосниса-литератора, когда я возвращался из редакций домой и украдкой от всех — Даже от Марты, ибо не знаю, как бы отнеслась Марта ко всей этой писанине, — корпел над своими «Диалогами», этим черновиком, который изо дня в день правил и как самую великую ценность повсюду таскал с собой в большом портфеле желтой кожи, всегда собранном для поездки; мне даже казалось, что именно там, в поездках, вдали от сверлящих мозг повседневных забот, от домашних хлопот и будничной суеты, можно расковаться и без всяких — вы понимаете! — без всяких преград излить на бумагу то, что во мне уже давно — а может, с незапамятных времен, не знаю, — скопилось; всегда любил и по сей день люблю ездить. Поездка лучше, чем что бы то ни было, приводит меня в то чувство, когда чего-то ищешь и никак не находишь, без которого жизнь была бы сплошным тусклым прозябанием, — а не находишь потому, что самому и то не всегда понятно, чего именно ищешь; возможно, себя самого. И может, там, вдали от привычного окружения, от службы и родных, мы лучше узнаём самих себя и хотя бы ненадолго становимся такими, каковы на самом деле; без притворства, лжи, без маски и без всех тех условностей и оговорок, на какие нас обрекает насущная повседневность?..
Ну, а тот раз… помнишь? Тот неповторимый раз, нашу поездку в Ванагай, в Жемайтийский район, куда направили тебя — представителя Даубараса — и где тебе понадобилось мое присутствие: отразить поездку в печати. Но, может, я был нужен не только для освещения событий, но и для присутствия, «нащупывания», «общения», как нынче принято выражаться (странное, дубоватое словечко)… а может, тебе просто вздумалось опять унизить меня: смотри, какой ты все же мизерный — журналистишка Глуоснис, щелкопер, и какой все же я великий — представитель народа Даубарас, вот меня и снова выбирают; все складывалось как нельзя прекрасней. Ты говорил, тебе аплодировали, потом вручали цветы, потом тащили ужинать; ты улыбался. Улыбался, выходя на сцену, улыбался, упираясь ладонями в трибуну, улыбался, произнося речь, раскланиваясь под аплодисменты и принимая цветы; брал букет, поднимал его над головой и тут же передавал какой-нибудь, разумеется помоложе, красотке из президиума; улыбался, отвечая на вопросы, выслушивая предложения, пожелания; даже и критику — эти пилюли, тщательно просеянные организаторами встреч, иной раз доставались и тебе, ты глотал их с несмываемой улыбкой на лице, на котором было ярко начертано понимание дела, скромное подвижничество или сдержанное негодование по поводу каких-либо неполадок; ты слуга народа, тебя переизберут, эта простая, милая и доброжелательная улыбка будет всех сопровождать до самой урны… И лишь изредка, поворачиваясь в мою сторону, ты переставал улыбаться и довольно угрюмо хмурил высокий гладкий лоб: я не писал… Я почти ничего не заносил в свой блокнот, который носил в кармане пиджака; мне было заранее известно, что скажет Даубарас и что сообщат об этих встречах газеты — даже в том случае, если я не пришлю им ни строчки; колеса вертелись! Колеса вертелись, телега мчалась — белая элегантная телега «Волга», наша поездка («турне» — любил выражаться ты) подходила к концу, где-то впереди маячила жирная точка. Нам еще надо было встретиться в райисполкоме — место, где ты намеревался оставить все те критические замечания и предложения, — те самые пилюли, проскакивая сквозь решетку исполкомовского грохота, доставались тем, кто их просеивал; а я — отметить командировку… Но прежде надо было позвонить в редакцию и осветить вчерашнюю встречу, а поскольку говорить о Даубарасе в его присутствии мне было, откровенно говоря, неприятно, я встал до шести, тихонько умылся, пощупал карман пиджака (кое-что в этом блокноте все же значилось) и осторожно, чтобы не разбудить улыбающегося во сне, и что-то лепечущего на горе подушек в соседней комнате того же «люкса» представителя Даубараса, на цыпочках выбрался в коридор; вернулся я с почты часа два спустя, уверенный, что тебя уж и след простыл, — дорогу в исполком я и сам знаю…
Я даже обрадовался, когда, возвратившись в номер, открыл дверь и заметил, что твоя кровать пуста (все-таки «турне» мне порядком надоело, я не мог даже выкроить времени, чтобы заглянуть в свои «Диалоги», странствующие со мной в желтом портфеле) и что тебя нет нигде, даже в гостиничном буфетике, куда я сбегал на всякий случай; стало быть, ты в исполкоме, двину-ка туда и я…
Но… кто скажет, что предчувствие — вздор? Выйдя в прихожую, я на всякий случай раздвинул дверцу встроенного шкафа: всё тут! Всё на месте — пиджак Даубараса, плащ, брюки, моя пишущая машинка… Вот разве только… разве, Глуоснис, только… гм…
Что за дьявольщина?! Я не верил своим глазам: неужели в дурацкой своей спешке, я, выходя, прихватил с собой портфель? Оставил на почте? Со всех ног пустился туда, затем — в столовку, где, помнится, перекусил: ничего; вернулся, сам не свой от злости, готовый перерыть весь двухкомнатный «люкс»: у портфелей ног нет, они не бегают…
«А это что за диво? Производственная гимнастика?..» — услышал я в тот момент, когда готовился залезть под кровать. (Конечно, то был напрасный труд, но я хотел еще раз убедиться, что так оно и есть: портфель не иголка, и его исчезновение, поймите, было для меня крепким ударом.)
Я обернулся на голос и остолбенел. Из уборной высунулась всклокоченная, не освеженная после вчерашнего угощения и ночного сна голова Даубараса.
«Ну, напугал, чтоб тебя!.. — протянул он. — Думал, опять какой-нибудь проситель… был тут один ни свет ни заря…»
«Проситель?..» — забормотал я, бросив взгляд за облаченный в пижаму торс Даубараса, — мне показалось, что там… за его спиной… у ног… Да, да, там, у белой кафельной стены… как сиротка у чужого порога… портфель… А рядом с унитазом… раскиданные вокруг провонявшего хлоркой унитаза…
«Вы не имели права!.. — закричал я, догадавшись, что это листки моих «Диалогов» и что Даубарас только что читал их, вынув из портфеля и восседая на унитазе; читал сейчас и, может быть, раньше, пока я искал этот портфель, и даже, может, вчера или позавчера; самым обычным образом брал и читал — некоторые обожают повышать свой культурный уровень в подобных местах, — будто они, разнесчастные эти «Диалоги», были не мои, а его… вроде речуги, которую мне, как спутнику представителя, полагалось заготовить; он, видимо, считает, что здесь, в захолустном «люксе», все — даже и мое собственное творчество (творчество, Даубарас, именно!) — принадлежит ему и что он один имеет право решать, как ему со всем этим добром поступать… — Я не давал! Это подло!..»
«Подло?.. — Он свысока глянул на меня — даже из уборной свысока, это меня просто взбесило. — Дружочек, если мы вечно будем ломать голову над тем, что подло и что благородно… и если только то будем класть в основу своих надежд и практических стремлений…»
«То не то… а подло!.. — повторил я, протиснулся мимо Даубараса в туалет, бухнулся на колени и живенько подобрал свои листочки. — Я бы их вам никогда… ни за что…»
«И я бы ни у кого больше… никогда… — Даубарас потянулся всем телом — хрустнули суставы; он уперся обеими руками в дверной косяк, заполнив широкой грудью, прикрытой полосатой пижамой, чуть не весь проем двери, — и выглядел он все таким же молодым, огромным и крепким, как когда-то. — Какое мне дело, Глуоснис, до других?.. Да и времени, сам знаешь…»
«Знаю… — ответил я, не оборачиваясь. — Мое творчество, по-вашему, только и годится для чтения в клозетах…»
«Дружочек! — Даубарас вздохнул; как знать, может, и вполне искренне. — Дружочек, радоваться надо, а ты… Разве было бы лучше, если бы я никогда не знакомился с творениями своих приятелей?.. С твоими, например… Есть они или нет их вовсе… а? Если бы я, Даубарас, махнул на все рукой, и будь что будет?.. По-твоему, это лучше?.. Как ты считаешь?»
«Ах, ничего я не считаю!.. — Я поднялся с пола; шуршащие листки раскаленными угольями жгли руки. — Но это… нехорошо…»
«Только не дуться!.. — он улыбнулся; это он умел, да… — Ты, Ауримас, старый друг… А между друзьями, сам знаешь…»
«И знать не хочу!.. — ответил я. — Ничего!.. И что мне, заурядному человечку, знать?.. Какое я имею право — пигмей… Вот исполины… вроде вас — те, пожалуй…»
«А она тебя все волнует, правда?»
«Кто это — она? — Я залился краской, чувствовал, как горит лицо; всему есть предел. — Вы бы не могли поточнее?..»
«Могу. Мета…»
«Мета?»
«Да… разве я не понимаю, — как бы ненароком он задел взглядом листки в моих руках, — кто больше?.. А ведь она опять нас с тобой… как двух младенцев…»
«Почему младенцев?»
«Потому что опять замуж вышла. Теперь за автогонщика, совсем мальчишку. И черт знает, в который же это раз… И не спросясь у тебя… даже не подозревая, что в своих писаниях ты все зовешь ее, все ее да ее, Глуоснис, не Марту и даже не Оне… эту Венеру Лесную…»
Меня затрясло от его слов, сам не знаю отчего. Ведь это…
«А это уж мое дело!.. — крикнул я. — Только мое!.. Слышишь, Даубарас, не твое!..»
«Ну, ну, твое, твое!.. — Он отступил от двери, от уборной, — такие, я бы сказал, серьезные вопросы решались в столь неподобающем месте. — Это, дружочек, исключительно твои дела, хотя… Она опять искала меня — и в Вильнюсе, и… Она без меня не может… хотя знает: женат и…»
«Без тебя?»
«Да… Зачем-то я ей все еще нужен… Иначе с какой стати гоняться по Вильнюсу, по Паланге?..»
«По Паланге?.. А зачем по Паланге?..»
«Спроси у нее! Кто поймет женщину, Ауримас? Я отказываюсь искать здесь какую бы то ни было логику, а ты?..»
«А я?..» — повторил кто-то; возможно, то был я.
«Ты — как бы эхо, дружочек… Отзвук былых дней… Всего лишь рефрен, Глуоснис…»
«Я — рефрен?..»
«Да… После каждой новой строфы. То есть после каждого нового мужа Меты. А всего их, дружочек, перебывало…»
Но я не слушал его — понял, что нам не о чем больше говорить. И незачем. Рефрен… Отзвук… Я?
«Ладно… — сказал я как бы сам себе, закинул смятые в беспорядке листки в портфель; меня ничуть не радовало, что портфель нашелся. — Ладно… Мне пора отметить командировку… Ведь как-никак я работал!.. Я пошел…»
И я в самом деле направился к двери.
«Глуоснис! Не валяй дурака! Ведь все между нами, мужчинами…»
«Нет, не все…»
«Дурашка, куда же ты без меня?.. Вот оденусь, наведаемся к председателю, пообедаем, и тогда… Возьмем коньячка… По пути где-нибудь остановимся, выясним отношения… по-мужски, запросто…»
«Мне пора… — повторил я и посмотрел на часы. — Я, кажется, с работой своей справился… Скоро поезд…»
«Дурак ты все же… Скандал этот, учти…»
Дальше я уже не слышал, так как мчался во весь опор по ступенькам вниз — подальше от «люкса», где только что жили-поживали двое: вечно малый Глуоснис и вечно великий Даубарас, всегда великий и правый; я бежал и злился, проклинал себя (заметь, Бриг, — себя!) и, точно готовую взорваться мину, волок с собой свой желтый портфель с подобранными в клозете листками «Диалогов» — волок, четко сознавая, что больше никогда, до самой смерти, не возьму эти листки в руки — —
— О, наш уважаемый юбиляр здесь!.. — раздалось над ухом, и от неожиданности Глуоснис вздрогнул: стоял он в темном, как мешок, коридоре, исчезающем под широкой лестницей черного мрамора (говорят, вильнюсские архитекторы специально водят сюда иногородних гостей полюбоваться лестницей); наверху гудели, гомонили, выкликали голоса, звенели стекла, ревели «биты» и «роки»; с гибких пластинок заливался довоенный Дольский; кто-то что-то визгливо доказывал, кажется Шалпене, почему-то по-русски, с невероятным акцентом; тут, внизу, царило завидное спокойствие, и потому «наш уважаемый юбиляр здесь» покоробило своей пошлой фамильярностью и вынудило опять вернуться туда, где ему надлежало быть; он передернул плечами; тотчас повернулся лицом к лестнице, над которой реял весь этот беспорядочный банкетный галдеж и внизу которой, еще не убрав левой ноги с последней ступеньки и продолжая держать руку на перилах, возник средних лет человек, с виду как будто знакомый; в глазах его искрился блеск. — Виновник торжества, кажется, отдает предпочтение уединенным медитациям перед хвалебным шумом и падением?
— Чем могу?.. — Глуоснис сообразил, что телефонная трубка все еще в руке, и сердито швырнул ее на место: так и есть, дома никого, а сейчас ему и подумать не дадут, где же они должны быть. Марта, которую он искал, все-таки, видимо, дома, «собирается» и потому не подходит к телефону; лежит небось, по обыкновению, в своей зеленой комнате, глотает таблетки и глядит в потолок, недовольная собой, погодой, лечением, врачами, своей дочерью и всем светом, всем на свете, а главное — недовольная им, Ауримасом, давно уже недовольная и потому не желающая никуда идти, даже на это торжество; а Эма… дочурка Эма, с которой за целую неделю ни разу не удалось встретиться и поговорить… глупышка их Эма… все мотается неизвестно где… — Простите, но я сегодня… не совсем настроен, и вообще…
— Ах, что вы, что!.. Я понимаю!.. Не волнуйтесь… Я лишь пытался, с вашего милостивого позволения и пользуясь прекрасным, самой судьбою мне предоставленным случаем, напомнить нашему уважаемому юбиляру приятнейший телефонный разговор, который три недели назад — а точнее, двадцать два дня назад — мы имели возможность…
— Что вам угодно?.. — повторил Глуоснис и невольно, точно ища помощи, посмотрел на лестницу; лавиной медных, звенящих на разные лады шариков по ней беззаботно и лихо несся все тот же галдеж зала. — Я не совсем понимаю, чем могу быть полезен… и особенно в такой день, когда…
— Оо! День в самом деле выдающийся!.. Именно такой, какой нам нужен!.. — почему-то бурно обрадовался стоящий перед ним средних лет, чуть седоватый человек с отдаленно знакомым Глуоснису удлиненным сухощавым лицом и отдаленно знакомым голосом; ах да, «увы, не вечны» было тогда сказано, будто он, Глуоснис, в самом деле готовился испустить дух; слово «архив» почему-то всегда напоминало ему ту гремящую костями особу с косой, которая не любит шутить; так он ему тогда и сказал. Но собеседник ничуть не растерялся, даже не обиделся — этот архивный, щеголеватый клерк, джентльмен с элегантной сединой на висках, вот он даже улыбается (как-то криво) и глядит как будто очень знакомыми глазами испуганного (неужто мной?) зайца; он продолжал: — Может, все-таки наш уважаемый писатель (раболепие или издевка?), может, напрасно вы тогда не пожелали со мной встретиться?.. Так что мне пришлось мой скромный подарок… гм… — Он улыбнулся, шире угодливой, призванной склонить к доверию улыбкой (и улыбку я эту когда-то уже видел). — Подарок архивариуса к вашему славному юбилею… гм… возможно, с некоторым опозданием… — (Почему-то он взглянул наверх.) — Я вынужден сейчас…
— Подарок?!
— Именно. И сугубо личный. То есть хоть и обнаруженный в казенных ведомствах, но все же…
— Рад!.. — Глуоснис улыбнулся: что ж, еще одни с поздравлением… Чудаковатый, но… Сегодня все имеют право, не только Даубарас или… — Рад, что не забываете…
— Ах, это давние радости, уверяю вас!.. — прямо-таки просиял его собеседник. — Даже более чем давние… Так что прошу принять… — Человек еще раз посмотрел на лестницу — широкую и безлюдную, как церковь, почему-то нахмурил лоб (будто пробежала быстрая тень и пропала) и все так же кротко, с улыбочкой вынул из небольшой коричневой папки (даже здесь, на банкете, он имел ее при себе) сцепленные желтыми медными скрепками бумажки — несколько длинных полосок: рукопись «ПОД ПОКРОВОМ «ИСКУССТВА» — КЛЕВЕТА»; Глуоснис обалдело выпучил глаза. — Архивы хранят всё!
— Вон! — рявкнул Глуоснис, сам дивясь своей внезапной ярости, ведь он понял, он сразу понял, даже знал, ожидал, что случится нечто подобное, нечто, что отбросит его в прошлое, в зловонную яму тех лет, где тогда, в дождь, омерзительно смердело осенней тиной и закисшей мездрой, — кто-то должен был ввергнуть его туда снова; но будь после того другой осени, бурной и морозной, с другими образами, и другими лицами, и другими ароматами — клозета, где Даубарас читал его рукопись; не будь ничего другого… Но все это было, и были промчавшиеся белым пунктиром под сводами памяти тридцать лет, и работа, и поездки, и виски с проседью, и Винга… и опять Мета… тот один раз, и… — Вон! Щенок!.. — повторил он и даже ногой топнул; «архивариус» уже пропал. Глуоснис еще раз, точно только что проснулся, поглядел по сторонам, снова услышал голоса наверху, «биг-бит», или «рок», или «диско», или тот самый, чуть не полвека спустя вернувшийся в обиход «ламбет-уок» (помню, играли его в Каунасе перед войной), взвизгивания: «Пари́! Нотр-Дам! Эйфель!..», отчетливо распознал голос Шалнене, почувствовал себя пустым, как после промывки, и, не думая больше ни о чем, толкнул вперед дверь на улицу…
(Р. S. А я, Алоизас Каугенас? Я знал, что сделал. Что должен был сделать. Этого дня, досточтимый юбиляр, я дожидался долго и терпеливо. Терпеливее, чем ты думаешь, и уж гораздо терпеливее, чем жду твою Эми… Но неужели она в самом деле уверена, что я в ней нуждаюсь? Ее матушка, помню, тоже нацеливалась… Да мне ничего не нужно, уважаемые, даже мести, которую я лелеял все те годы, сейчас мне ничего не нужно… ну разве что слегка отыграться… Вот возьму и загляну к ней часика на два — на три, не больше, она уже, наверное, дома, и ей нельзя быть со мной долго, поскольку завтра она опять поет. Поет. Эми, ты слышишь? Поет в опере. Пока ее супруг стажируется в своих «ла скалах», мы с ней… Прости, милейшая Эми, мир сей создавали не мы с тобой, посему в нем не все совершенно… Твой папочка мог бы объяснить тебе это лучше меня. Прости. Мне пора…)
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Потом ему казалось, что он всю ночь напролет ходил с Метой — как когда-то, в тот последний раз, — и что лишь под утро, окончательно вымотавшись и продрогнув, он сообразил, что Меты с ним нет… Ведь он и ушел с банкета только потому, что его позвал голос из прошлого и он не мог этому зову противиться, — и звал голос не Даубараса, Оне, Марты или того, народившегося, а голос все той же Меты, далекий, забытый и неповторимый.
«Звоню тебе с самого утра… — струился этот ничуть не изменившийся голос из какого-то безмерного далека, быть может даже из безвестности, вернее — из памяти, где вновь ожил тот их последний раз. — И все не застаю. По-моему, пора нам встретиться…»
Когда это? Десять, пять лет назад? Или позже? Неважно, это было когда-то в апреле; он как раз собирался зайти после редакции в гостиницу к переводчику, что приехал «подобрать ключ», а попросту говоря — погостить, быть может, даже гульнуть в Вильнюсе, этом уютном городке, он, знаете ли, к нему привязался; внезапный звонок Меты грозил нарушить все планы.
«Да? — воскликнул он, даже не спросив, откуда Мета звонит. — Почему так вдруг?.. Со мной?..»
«Вдруг! Ах… — Она негромко засмеялась. Возможно, поняв, что именно имел он в виду, голос у нее был отнюдь не юный. — Сколько же лет прошло?.. Или десятилетий даже?..»
«Не считал… — Он чуть помолчал, зажал ладонью мембрану и плотно сомкнул губы, боясь, как бы Мета не расслышала прерывистого дыхания. — По-моему, много…»
«Вот и пора… Кто знает, вдруг такого случая у нас уже никогда…»
«А что… опять?..»
Она, кажется, не поняла. И потому чуть помолчала. Или, наоборот, — потому что поняла… В телефоне зудело — будто кто-то с силой натягивал провода. Но, может, это кровь шумела в висках. У него в висках.
«Так когда же, Ауримас?..»
«Хоть сейчас… Ну, сразу после обеда…»
А этот… переводчик-то?
«После обеда? Отлично, Аурис!.. Жди меня у кладбища…»
«Где, где?»
«Возле кладбища, на Антоколе… Почему ты молчишь?»
«Но… почему в таком месте?.. Нельзя ли где-нибудь… повеселей?..»
«Нам будет весело, Аурис… Как встарь…»
Это звучало как песня. Как танго…
(Или опять как рефрен, а?)
«Ты только посмотри в окно, Аурис!.. Подними глаза к солнцу!.. Далеко окно от телефона? От тебя?»
«Рядом, Мета… Я смотрю…»
«И что видишь?»
«Тебя…»
Зря… Не надо было так сразу. И вообще лучше бы положить трубку на рычаг. Положить, и все. И все.
«Рада… — ответила она. — Я рада, что ты все еще молодой, Аурис!.. Так жди!..»
Он ждал. Гулял по залитой резким апрельским солнцем улочке у собора Петра и Павла, вдоль излучающей покой старинной ограды, облицованной серой штукатуркой, мимо наполовину деревянного, наполовину каменного домика «В тени алтарей» (забегаловки давно нет, а название, поэтичное и придуманное самими посетителями, сохранилось), медленно передвигал ноги — руки заложены за спину, плащ по-весеннему нараспашку, — заглядывал в подворотни, где клубился жидкий, чуть подсвеченный желтоватым солнцем туман, и размышлял: к чему бы все это? Мета? Вайсвидайте? Грикштене или… Он не знал ее нынешней фамилии. Но Мета — определенно! Голос ее, Меты Вайсвидайте, которая однажды весной… (тогда, в дождь…) хотя к тому времени она уже была Грикштене; двадцать лет спустя — опять ее голос… И она… не ты, Глуоснис, а Мета — мотылек, хрупкое создание с волосами скорее белыми, чем светло-желтыми, в темно-синем с белыми крапинками платье, с широким белым поясом, она, Вайсвидайте, — звонит тебе из былого, куда канули все песни со всеми рефренами; как же ты поступишь? Женоненавистник, усвоивший науку Фульгентаса, повидавший Любавас и многое после того, ты, давший зарок…
«А, стоит ли рассуждать, ведь я здесь!.. Мета, прекрасная, жестокая моя Мета, — здесь!.. Но знай, если это опять игра… если ты не придешь… Ведь я даже не спросил: откуда ты звонишь, в Вильнюсе ли ты; знаю: из Каунаса ты никуда… И если, Мета, тебе снова вздумалось поиграть со мной, то знай, сразу тебе скажу: ничего не выйдет… мы не те уже, Мета, и игры сейчас другие…»
Он и не почувствовал, как — опять же совсем неожиданно — увидел ее, — она направлялась к нему не от троллейбусной остановки, не от собора, откуда можно было ее ожидать, а от кладбищенских ворот, только что вышла оттуда и ступала по старой булыжной мостовой, спиной к уходящим вверх желтым террасам каменных и цементных надгробий, часовен, будто покидала какой-то впившийся в крутую гору белокаменный город (так, помню, выглядят всегда обращенные к югу руины античных селений на островах Эгейского моря), — стройная, тихая, с распущенными по плечам волосами, в ярко-алом плаще (плечи, возможно, слегка исхудали), с черной, отливающей блеском шерстяной шалью в руке; усталое удлиненное лицо, все еще красивое и, к удивлению Глуосниса, молодое, было согрето грустноватой, вобравшей в себя опыт прожитых лет улыбкой. Хотя улыбалась Мета, возможно, не ему, не Глуоснису, так как, кажется, не вдруг его и заметила (или сделала вид, будто не заметила) и подошла лишь после того, как внимательно окинула взглядом безлюдную, дышащую апрельским покоем улочку; она спросила:
«А это… ничего?..»
Он пожал ее руку.
«В каком смысле — ничего?»
Она улыбнулась — опять-таки как бы про себя — и посмотрела себе под ноги; прикрытые плащом до половины икр, изящные, как бы намеренно выточенные для любования, эти ноги напомнили ему их другую встречу, когда…
«В том, что ты, примерный муж и глава семьи… — проговорила она, не отнимая руки. — Мне, во всяком случае, не приходилось слышать, чтобы ты бегал на свидания с чужими…»
«С чужими?..» — Он вспомнил Вингу и Бухенвальд.
«К сожалению, Аурис… Так уж устроено, что женщина редко принадлежит себе — все другим да другим… Кому-нибудь… Очень несправедливо, но… Это хотя бы доказывает, что мы все еще кому-то нужны, Аурис… А ты, кажется, и не рад?..»
«Чему, Мета?»
«…Ну нашей встрече… Что мы опять… как когда-то… как однажды весной…»
«Ах, помолчи!.. — взмолился Глуоснис. — Не надо воспоминаний, ладно?… Давай жить нынешним днем…»
Она повернулась к нему лицом.
«Нынешним?»
«Да. Ты позвонила — я пришел… Что еще? Разве этого мало?»
Она ничего не ответила, только (он видел) несколько раз скомкала в руке край шали — очень черной и блестящей, наверное, очень идет к ее побледневшему лицу, — и ускорила шаг; молчал и он. Все то, что произошло — эта встреча после столь долгих лет, это рукопожатие, — еще дышало вымыслом, сказкой, миражем, какой-то не поддающейся осмыслению зыбкостью, зревшей все эти долгие годы, и каждый шаг, сделанный рядом с ней, казалось, уводил в еще более плотную, непроглядную неизвестность; он спросил:
«А почему же ты… оттуда?»
«Откуда?» — Мета словно окаменела.
«С кладбища…»
Она почему-то вздрогнула, эта рука, которую он, оказывается, продолжал держать.
«А что?.. — не поняла Мета.
«Прячешься?..»
«От кого, Аурис?.. — с горечью улыбнулась она; уголки губ у нее были бледные, от них расползались мелкие морщинки, которых не могла замаскировать и улыбка. — Если я что-нибудь решила… Нет уж, не от страха, не думай… Мне — прятаться?.. От страха?.. Да ты и не представляешь, как там красиво…»
«На кладбище?»
«И я раньше не подозревала, как там красиво… И как спокойно, как там спокойно человеку!.. Я нашла фиалку… на могиле… ну, на чьей-то могиле… Ничего больше — ни креста, ни памятника, только цветочек… представляешь?.. Ты себе покоишься, а цветок растет… фиалка или какой-нибудь еще… растет из тебя, и, значит, ты живешь… если она из года в год, значит, и ты… вечно…»
«Хватит об этом! Хватит! — Глуоснис помрачнел и уставился на асфальт. — Куда пойдем? Какой дорогой?»
Спросил: «Какой дорогой?» — хотя заранее знал, куда поведет их дорога, и, не ожидая ответа, повел ее мимо кладбища в гору — следом за парочкой молодых людей, примерно таких же, какими они с Метой были в Каунасе, — те, держась за руки, медленно шли впереди. По обе стороны улицы на рыжих, побуревших по осени склонах зоркими часовыми, словно растопырив зеленые руки, чутко, едва заметно подрагивали черными от облепивших ветки галок вершинами деревья; как при замедленной съемке сбоку проплывали двух-и одноэтажные домики с еще голыми фасадами, слабо прикрытыми тонкими неодетыми веточками; возле одного из них девчонка лет пяти с желтым бантом в черных, как вороново крыло, кудрях, подпрыгивая, стукала о стену мячиком; Мета вздохнула.
«А у меня никого… — проговорила она как бы про себя и тряхнула волосами — теперь уже больше желтоватыми, чем белыми. — Хотя могла бы завести… А может, все оттого и вышло, что могла, да не захотела… А потом…»
Она не договорила и лишь ускорила шаг: не тянуло говорить о детях и об этом потом; какая-то женщина, спиной к сосновому стволу, с букетиком подснежников в руке, любопытно проводила их взглядом. А может, не их вовсе, а тех, молоденьких, которые точно так же, как Глуоснис с Метой, неспешным шагом двигались по тропке вдоль шоссе и вскоре скрылись за деревьями…
Туда же направлялись и они, Мета с Глуоснисом, давно простившиеся с юностью и ее иллюзиями, — так полагал он, Глуоснис; что ожидает их там? На горе, в густых зарослях вильнюсской окраины. Зачем идут они туда? Может, это даже смешно? Еще не поздно, подумал он, можно повернуть назад…
Но не повернул и ничем не выдал сомнения; что-то подгоняло идти вперед, что-то непостижимое, но сущее — то ли давнишнее что дальше, то ли неутолимое желание все изведать; не в том ли смысл человеческого бытия! И разве не компенсация, не величайшее воздаяние за все — Мета здесь, сама ему позвонила, искала его и вот, не отнимая руки, идет с ним рядом, откинув за спину свои легкие, уже больше желтоватые, чем белые, но по-прежнему — как тогда, как тогда! — схваченные голубой лентой волосы; что скажет она мне?
Он так сильно захотел узнать, что она скажет, что непроизвольно стиснул ее пальцы; глаза Меты блеснули благодарно.
«Ты мне нужен, Аурис… — сказала она, будто читая у него в мыслях. — Ты хоть подумал об этом когда-нибудь?.. Хоть капельку?..»
Они стояли под высокой, тоскливо воздевшей раскидистые ветви елью; рядом, величавый и строгий, раскинув внизу бурый ковер сухой листвы, стоял старый дуб с мшистым стволом.
«Я?.. — Он запрокинул голову. — Почему я?.. То есть с каких пор?..»
Глаза у Меты потемнели.
«Ты что… серьезно?.. — Она едко улыбнулась. — Ты так?..»
«Как, Мета?.. О чем ты?..»
«Ну, разговариваешь — только так?.. Как в милиции или… Здесь некого винить, Аурис… Особенно после стольких лет…»
«Я никого не виню, не пытаюсь, по-моему… Просто думаю: с чего бы тебе так измениться?.. Ведь я могу так думать? Имею право?..»
«Имеешь… но… Неужели я правда так изменилась, Аурис? И сильно?»
«На слове ловишь?.. — Он покачал головой. — И знаю, чего ждешь… Но этого не будет — комплиментов… Будет правда, Мета… Выглядишь ты прекрасно…»
«Только выгляжу?»
Она печально улыбнулась.
«Ну, а вообще?»
«Лучше не вникать…»
«Не хочешь? Или боишься? Ты всегда чего-то боишься, Аурис… Ну чего, скажи?»
«Не те слова, Мета… Просто слишком уж хорошо я помню ту ночь в Каунасе… Ту, последнюю…»
Не рефрен, нет, — песня!.. Слышишь, Даубарас: не рефрен!..
Ее щеки разрумянились. Даже, пожалуй, слишком. А были, заметил Глуоснис, совсем уж бледные. И заметно припудренные.
«Ты вот о чем!.. — протянула она. — А я и позабыла этот неприятный случай… постаралась забыть… Как и многое, Аурис…»
«Тебе было легче…»
Ах, а Грикштас… только что преданный земле… Гм…
«Ты так считаешь?»
«Ты, кажется, велела мне тогда уйти?..»
(Почему-то сейчас ему казалось, что она в самом деле велела ему уйти — когда он подал ей письмо Даубараса; но, может, все было иначе? Столько лет…)
«Не помню… — она вздохнула — опять-таки, ему показалось, слишком уж глубоко. (Может, он просто отвык от нее?) — Не думаю, что я бы посмела, Аурис… Я была так растерянна…»
«А ведь посмела…»
Теперь она повернулась к нему лицом. Взвесила взглядом.
«Аурис… — произнесла она с неизменной грустной улыбкой на губах. — Аурис… я не помню, но… женщин за такое не винят, Аурис… Может, и велела… не знаю… может, сказала: уходи, но… но зачем ты послушался? Почему не остался? Тебе надо было остаться у меня… Как раз тогда… после этой беды… И, может, все сложилось бы иначе…»
«А как же он… Казис? Думаешь, он ушел бы?».
«Он бы ушел… Казис… Что — не веришь?»
Глуоснис промолчал. За двадцать лет можно все-таки поумнеть.
«А может, ты всегда был со мной, Аурис?.. — Она блеснула уголками глаз. — Как всюду… Вот как теперь…»
«Теперь? Всегда, как теперь?..»
«Да!.. Да!.. — Она подняла обе руки и, продолжая смотреть ему в глаза, положила свои руки ему на плечи; ее зрачки расширились, губы подрагивали, при каждом вздохе его обдавало странным, прерывистым жаром ее дыхания. — Как сейчас, Аурис… Как должно быть… Ведь я все время… и в снах…»
«Увы, только-то…»
«Не только, нет! Совсем нет!.. Ведь я с тобой, Аурис!.. Ну вот, сейчас!.. Здесь… Не с кем-то другим, а с тобой… И если бы ты мог простить меня…»
Она резко подалась вперед и припала лбом к его груди; ему показалось: Мета плачет. Но она не плакала, нет. Она, кажется, даже не дышала и будто чего-то ждала; Глуоснис наклонился и губами осторожно коснулся ее волос.
«Нет, нет, нет!.. — зашептала Мета, вдруг внезапным и сильным движением обхватив его за шею. — Не забыла!.. Только тогда, наверное, еще не настал наш час… еще нет… А сейчас… сейчас он наш, Аурис!.. Наш с тобой, Аурис!.. Сейчас, сейчас!.. Здесь!..»
И вдруг он понял, что песет ее, Мету, — бежит и несет, держа за талию и под коленями, легкую как пушинка и, как уголек, жаркую, с развевающимися полами плаща, красными крыльями (где ее шаль? не все ли равно), несет по крутому склону горы, на которую они взобрались, по этому хребту, который словно стеной опоясывает Вильнюс и с которого видны синеющие вдалеке зубчатые кромки уже других лесов и белые здания за ними, — несет куда-то далеко, мимо дуба с ковром прошлогодней листвы, мимо других, таинственных и старых-престарых елей с мощными стволами, несет, чувствуя ее всю или ничуть не чувствуя, как самого себя, в своих объятиях, как когда-то нес Оне… ту, внезапно возникшую перед глазами Оне из Любаваса, из-за которой потом…
И этого было достаточно — внезапно всплывшего в памяти образа той любавской осени, лица Оне, вынырнувшего из тумана, — чтобы он остановился как вкопанный прямо на косогоре и с несказанным удивлением, точно припоминая нечто, долгим и пристальным взглядом воззрился на свою ношу.
«Что же ты? Чего ждешь? — Она дрожала, по-прежнему у него на руках вытянувшись всем телом. — Неси! Неси меня! Неси!..»
На лице у себя он чувствовал обжигающий трепет ее губ. Глуоснис вздохнул.
«Мета!.. — проговорил он, осторожно опуская ее наземь. — (Она не хотела вставать и, противясь этому, согнула ноги в коленях.) — Нельзя так, Мета!.. Нельзя нам!..»
«Нет! Нет! Нет!.. — тряхнула она волосами и зашептала скорее взглядом, чем губами, может, даже всем своим лицом, которое горело жаром и ожиданием. — Можно!.. Можно!.. Именно нам! Нам! И как раз теперь!.. Здесь!..»
Но он уже поставил ее на ноги и отрицательно покачал головой; она заплакала.
«Я противна тебе, да? Скажи, отвратительна? Старая, безобразная?.. Да еще больная…»
«Больная?!» — Глуоснис вздрогнул.
«Не я, это они!.. Они так считают, только они!.. Не я! Не я! Не я! Я тебя люблю, Аурис!..»
Он просто не узнавал ее, настолько она не походила на Мету из Каунаса. И, разумеется, на Мету, жившую в его памяти, его сердце.
«Но, Мета, пойми…»
«Всегда любила… Слышишь? Во все времена! Жалела тебя и любила… Понимаешь? Понимаешь, мальчик с Крантялиса?! Ты, старый, неуклюжий медведь косолапый?.. Тебя! Давно и по-настоящему… Может, еще со школьной поры… да, в гимназии… когда сама еще не знала, не понимала…»
И снова, не ожидая его ответа, бросилась, обхватила за шею и принялась осыпать поцелуями, точно подбирала что-то губами: крохи счастья, невесть что; в лицо брызнуло соленым; он почувствовал головокружение.
Не то, не то… нет…
Он потупился.
«Что с тобой?.. — услышал он. — Скажи, не бойся…»
Глуоснис отрезвел, тряхнул головой.
«Правда, правда!.. Не могу… — промямлил он и даже чуть отстранился. — Но как тебе объяснить, Мета… чтобы ты поняла… Прости!..»
Ее передернуло, но он словно и не заметил, только зубами скрипнул. Пусть, думал он, пусть делает что хочет, пусть плачет, рыдает: нет! Это было бы вроде мести, это было бы так подло. Неважно, как считает она, зачем ей все это, — он так не поступит. Как другие. Как поступил бы Даубарас. Наверное, это ее оскорбит, что ж. Но он — Глуоснис. И таким останется: Глуоснис. Всегда Глуоснис — для нее. И для себя, конечно, — Глуоснис с Крантялиса. Одноклассник Меты. И, быть может, чуть получше его, получше Глуосниса. Которым можно вертеть как угодно. И получше Даубараса.
Он сжал ее руки; теперь они были холодными. И лицо было остывшим и усталым: бледное Лицо красивой, оскорбленной, пожившей женщины…
«Мне пора! Мне пора! Пойдем!..» — проговорила она сухим, чуть хрипловатым голосом и чуть не бегом побежала к дороге.
Он еще что-то говорил ей, но Мета молча махнула рукой и не проронила больше ни слова; все ее недавнее оживление исчезло вместе с канувшим за черную стену леса солнцем…
«Тебе плохо, Мета?.. Ну… дурно?.. — спросил он, заметив, что она задыхается, да и вообще больна — это уже было ясно, — или во всем виноват он, опять он один, грубиян, все-таки насолил, так сказать, свел счеты, наказал… (нет, нет, такого намерения он не имел — наказать). — А если начистоту, а?.. Хоть сколько-нибудь?..»
В темноте деревьев вдруг резко вспыхнули фонари, и он увидел, куда они пришли… Здание — большое и серое, окна затянуты занавесками, чугунная глыба у двери, под старинным, похожим на ведро, фонарем… «ОНКОЛО…» — ударили в глаза первые шесть букв, он повернулся к ней, поцеловал в лоб…
Домой вернулся в полной темноте. Марты еще не было, из Эминой комнаты неслась пронзительно конвульсивная молодежная музыка; кто-то повизгивал, вскрикивал; другие времена — другие одноклассники; из-под двери выползал едкий табачный дым. Но он не пошел туда, не разогнал «кодлу», ведь некто Глуоснис тоже кое в чем был виноват…
«Ты, Аурис?..»
«Я».
«Принес?»
«Принес»
(Что, черт возьми? Что я должен был принести? Что обещал?)
«Кинь туда, в угол…»
«Что кинуть, Мета?..»
«То, что принес. Паркет».
«Паркет?..»
«Брось… У него такие глазищи!..»
«Глазищи? У кого?»
«У Эдди Нельсона… В кинематографе… «Однажды весной»… А ты же не был в кино!.. Ходил на кладбище…»
«На кладбище?!»
«Да, с Мартой… А мы на кладбище не ходим… Не любим… мы с Казисом… Мы ходим в кинематограф… С Казисом, Казисом, Казисом!..»
Она умолкла и, не открывая глаз, широко улыбнулась. Потом вдруг открыла глаза, сморщилась и яростно, точно отгоняя кого-то, заскрежетала зубами. На губах выступила пена.
«Выйдите!.. — Женщина-врач сжала мой локоть, седая, одутловатая и озабоченная. — Хватит!.. Разве не видите: это же все!.. Агония…»
«Но она разговаривает…»
«Все равно… Это уже не она…»
«А кто же?.. Доктор, это же…»
«Ах, уйдите!.. И так я не имела права… Застал бы главный…»
И покосилась на окно — не на дверь, а на окно с жидкой шелковистой занавеской; занавеска шуршала. Или это уже шуршала смерть?
Он закусил губу, повернулся и ушел.
Была ночь.
В висках шумело.
— была ночь — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
«Доктор, почему вы звоните именно мне?..»
«Потому что нашла ваш телефон…»
«Только один, мой?..»
«К сожалению, только ваш…»
«И больше ничего?..»
«Фотографию… но, кажется, это не ваша… Под подушкой… Может, вы и знаете — чья…»
Коридор, лавка, дверь. Открытая и страшная. И тишина: здесь и за дверью. Тишина, свитая в клубок, как клубок черного каната мертвой крови.
«Можешь зайти».
Кто это? Санитар, мойщик трупов? Только не врач, те бреются. И не ходят в пиджаках с пятнами масла и тренировочных рейтузах.
«Даю пять минут…»
Кому — мне? Чего от меня хочет этот тип? Почему пять? Зачем он смотрит на свои ужасные часы, прямо как самовар, налепленный на запястье? Что там пощелкивает? Хронометр?.. Мета, слышишь, — этот косматый тип…
Мета, я здесь!.. Ты позвонила — и я пришел, Мета. А вот и ты. Не ты? Неважно, я пришел… Еще раз взгляну на тебя, Мета. Попрощаюсь. Знаю: виноват. Знаю: худо. Много я, Мета, знаю… Теперь уже, Мета, и я…
«Время истекло, приятель… — Рука на плече, тяжелая рука тяжелого человека; подбородок как кактус и нависает жерновом. — Раньше надо было тетешкаться, не сейчас… Послезавтра мне надо в Таллин, на ралли, а тут… Да еще в Каунас переть с таким багажом… Жена моя… А хорошая, между прочим, была… Чего-чего? Ну, ты даешь, мужик! Ревешь, как младенец… Кончай, слышишь?.. Если так из-за каждой…»
…но ты была единственная, Мета — — — — — —
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Может, то был сон — его встреча с Метой, — и не только ночная прогулка после банкета, но и тот последний раз… или встреча за кладбищенским холмом, ведь он давно дома, в своей постели, рядом с Мартой, давно вернулся, трезвый как стеклышко, ни капли не выпил, разгулявшихся своих гостей бросил там, над лестницей; он и сам диву давался, до чего он нынче трезв и как четко все видит и ощущает: он рядом с Мартой и даже обнимает ее; кто сказал, что пятьдесят — это много и что он постарел хотя бы на день или на миг, хотя бы единой своей клеточкой; но она и во сне почему-то отстранялась от него, даже произнесла: «Потом, потом!»; что «потом», почему «потом»; «тут он!..» А это что за новость: «он»? Что ты, будто не знаешь, Мартин муж, или поклонник, или сожитель, есть такой, не слыхал, что ли, нет, не слыхал, ее мужем был я, ты-то был, да не являешься, являюсь, ну ладно, может, это все и неправда, нет, правда, вот он рядышком, этот молодчик, почему «молодчик», потому что молод и Марта молодая — не та, какой ты ее оставил, а совсем другая, совсем молоденькая, с какой ты приехал из Любаваса и с которой ходил в университет, учился, потом ждал, когда она придет с работы; из школы, ходил с ней в кино, в гости, на рынок, в кафе, ездил в Палангу — когда-то в молодости; сейчас рядом с ней уже другой — тот раллист, которого ты недавно видел… Раллист?.. Опять?.. Ну и опять — большое дело, нынче век автомобилей, пора бы знать, знаю, — но зачем он здесь, возле Марты, чего ему от нее надо, ведь, насколько я помню, он остался около… Ну нет, нет уж, он тут ни при чем, и вообще, может, парень этот вовсе не раллист и лежит себе в другой кровати (откуда здесь взялась еще одна), на приличном расстоянии от тебя и Марты, хотя в той же комнате… Но все равно я тебя обниму, ладно, обниму-ка я тебя, Марта, — кто сказал, что все твои интересы только Эма, хворости, таблетки, какой дурак, ты очень теплая, Марта, и вовсе не хвораешь — клевещут они на тебя, Марта, — я пришел с холода, мне очень тепло с тобой и хорошо…
Но она молчит, Марта, — жена моя Марта молчит, хотя и не отодвигается больше; может, прижалась к стенке, а может, соглашается с тем, что в самом деле я пришел с холода и имею право погреться около нее. Ведь все-таки она моя супруга (была супругой), несмотря на то что этот парень, гм… (Мартин муж?.. Раллист?.. Она вышла замуж?.. Когда? Неужели за то время, что мы не виделись?.. За время бесконечных поездок Глуосниса?..) А парнишка, скажу я вам, вполне сообразительный, знает свое место, не лезет слишком близко, — только зачем он встает с той, другой кровати, зачем зажигает свет?.. «Ах, нет! Ах, нет!..» — Марта кутается в одеяло, а свет горит, и парень этот (как он выглядит? какое у него лицо? а что, если он безликий, если у него только голос? и вдруг это уже совсем другой человек?) говорит: «Вы пришли в полтретьего…» Кто, Глуоснис с Мартой? Глуоснис нашел ее в постели! Рядом с собой. И тобой. И ты великолепно это знаешь: мы с Мартой вернулись в двенадцать… а от двенадцати до этого времени… до полтретьего… гм… гм… Но Марта не дает мне слова сказать, объяснить, что происходило с двенадцати до полтретьего, — эта похожая на Вингу Марта (почему на Вингу? не на Оне или Мету? только не на Мету, — нет, нет!); почему она сразу зажимает мне рот ладонью? Ладно. «Сходим-ка мы с Мартой погуляем!..» — и встаю… «С Мартой?! — парень широко разевает свой улыбчивый рот при отсутствующем лице (теперь я совершенно четко вижу, что он начисто без лица и вовсе не раллист; по я уже давно в жаркой стране, и никакой вам Суша-ханум…). — Как это — с Мартой?! А хулиганы…» — «Хулиганы!.. — отмахиваюсь я и еще крепче — пусть его смотрит, пусть видит! — обнимаю Марту, стискиваю ее в объятиях: я силен, я отважен, я настоящий мужчина — такой, каким только и может быть настоящий мужчина ночью со своей женой, надо крепче прижаться к ней… И я прижимаюсь… — Мы пойдем в Студенческий городок… Где студенчество, там хулиганам нечего делать… Правда, Марта? Спроси у Эмы, она скажет… Ведь так? Так?..»
И очнулся, услышав голос, а может, слово «Эма», — самым обыкновенным образом проснулся и широко открыл глаза.
— Сейчас она уйдет!.. Сейчас уйдет!.. — словно бы расслышал он. — Оставила! Ооставила! Ооставила!..
Он увидел, как Марта встала и пошла прямо к двери, в темноте прямиком в дверь, затем — в коридор, в комнату Эмы.
— Оставила, оставила, оставила!
— Что, Марта?! — окликнул он, но та, кажется, в не расслышала, и он испугался: что будет, если она вдруг проснется, вдруг упадет, расшибется… Подхватил ее за поясницу. — Сии! Спи! Спи! — повернул ее назад, к кровати; так бывало и раньше. — Вот лекарство! Таблетки! Усни!..
И сам засыпает, и слышит, как она шумно дышит… Нет, это уже в другой комнате, которой здесь прежде не было, — голубой с желтыми балдахинами, а вместо Марты, прижимаясь к Глуоснису теплой, пульсирующей пухлой щекой… Нет, в самом деле… кто это?.. Он протягивает руку и шарит рядом с собой: грудь, плечи, бедра… Чувствует, что хмелеет, придвигается ближе… Он молод! Он молод!.. И привычное желание… вожделение… Но… вдруг совсем другая комната, альковы, приотворенная дверь; она скрипнула в сумраке… Жена? Марта? Он же сам ее уложил: догнал, идущую голышом по коридору, и уложил, и заставил принять снотворное, и упросил прилечь, отдохнуть, а она… Почему она не идет сюда, чего ждет? Почему не кидается на кровать, не трясет кулаками, не кричит, не проклинает их?.. Ведь слышит, чует, знает все… Но, может, она понимает?.. Что она — не та?.. Что другая ему нужна?.. Разве женщины могут такое понять? Жены? Чуять — да, а понять?.. Подло? Да, подловато… но неужели жизнь состоит из одних лишь высот?.. А если Марте все равно… то есть если она к этому давно относится с высоты своих философских воззрений, на фоне которых такие мелочи… примитивны и ей ни к чему… даже унизительны для женщины… А рядышком, прижимаясь горячей пульсирующей щечкой… грудью… И опять открывается дверь, и уже гораздо грознее, чем час назад, чем минуту или мгновение назад; та, другая, испуганно зарывается под одеяло… Сказка кончилась, мимолетный дурман; вожделение осталось… Но он думал: что теперь будет, если Марта придет и, понятно, ляжет на свое место рядом с ним, это ведь ее место, и наткнется на ту, что под одеялом, обнаружит ее там…
И проснулся окончательно, в полном смысле, дрожа от стыда и проклиная на чем свет стоит такой дурной, такой постыдный, абсолютно лишний сои. Не свойственный ему. Проснулся, оперся локтями о подушку и сердито тряхнул головой. Рядом стонала жена, она звала: «Эма!.. Эма!.. Эма!..» Он с силой шевельнул ее за дрожащее плечо.
Марта не сразу сообразила, чего от нее хотят, и сердито нахмурила лоб.
— Ты кричишь во сне, Марта!..
— А-а… — протянула она в ответ… — А я сейчас во сне венчалась…
Она встала и начала одеваться, потом не спеша, мурлыча что-то себе под нос, побрела в «зеленую» комнату. Затрещала целлофановая обертка открываемой пачки таблеток.
«Значит, все… — почему-то вздохнул он. — Больше снов не будет…»
И уснул, уже ни о чем не думая, ничего не чувствуя; только странную, какую-то необъяснимую тяжесть во всем внезапно ослабевшем теле…
Сон. Она венчалась… Но кто это — незнакомый, ненужный ей человек, возникший откуда-то рядом и даже попытавшийся ее обнять? Ауримас? Он, ее, Марты, решение? Ну и пусть он!.. Это было давно, в голубых долинах детства. Почему, Мартушка, детства? Потому что он оттуда, хотя пришел позже. Хотя и не такой, по какому изнывала, кого ждала… А чего же ты ждала, Мартушка?
Вот этого-то мы как раз и не знаем. Чего-то светлого, доброго. Чего-то необычного. А может, наоборот — постоянного, на каждый день, но чтоб было прекрасно. (Не то что сейчас…) Так все же: будни или праздник? Праздник, обращенный в будни, — уже не праздник, и человек снова начнет тосковать и стремиться к чему-то другому; к чему? К другому празднику, который своим чередом опять-таки неизбежно перерастет в будни?..
Ну, а то, что с ней только что было, — это уж нечто совершенно новое: она выходила замуж за Повелителя и примеряла парик, выбирала парик из целой кучи париков, выписанных откуда-то из Парижа, Рима и Гонконга, таких в Вильнюсе еще ни у кого не было… И не в том дело, что ни у кого: Марта женщина скромная и на такие вещи обычно не обращает внимания, разве только сегодня, в этот единственный и неповторимый раз, когда она венчается, а тот, чьей женой она станет, могущественный, торжественный и горделивый, стоит рядом с ней, с увлечением смотрит, как она облачается для долгожданного часа и говорит:
— Не надевай парик… Зачем тебе? Твои собственные волосы гораздо красивее! Нигде не видал таких нежных волос! Таких душистых и воздушных…
Не без сожаления отложила она в сторону гонконгский парик (такого нет и у Шалнене) и взялась за туфли: на черном лаке звездами горели золотые пряжки.
— Не надо… босые твои ноги гораздо прекраснее. В жизни таких не видел. Ни одна парижанка — а у них ноги стройные и изящные — не посмела бы сравниться с тобой…
С сожалением отказалась и от туфель. Взяла платье: белоснежное, тончайшего сиамского шелка, затканное серебром, с золотой каймою…
— Не надевай!.. Не надо, не надо никакой одежды! Твое тело лучше шелков! Ароматней, мягче, свежее!
— Лучше? — вскрикнула Марта в великом смущении. Мое тело? Такое тщедушное, хилое?!
— Неправда! Неправда! Неправда! — он энергично затряс головой. — Неправда!.. Такое, какое оно есть, оно прекрасно!.. Прекраснее всех!.. Какое есть… какое есть… есть…
— Но… — Она стремительно пробуждалась. — Ведь нас видит он! Меня! Такую!
— Видит? Кто? Тебя, мою супругу, видит?! — Повелитель зазвенел шпагой. — Где он? Что за тварь? Покажи мне его!..
— Не тварь — это мальчик… Тот — мой! Он… вот… он!..
И проснулась, увидела Ауримаса (откуда он здесь?), который при зажженной лампе, приподнявшись на локтях, с тревогой смотрел на нее; Марта чуть не заплакала.
— Я только что венчалась… Представляешь?.. С могучим Повелителем. Он знает, чего я стою… чего мне надо… знает…
И, вскочив с кровати (ой, кольнуло в сердце), сгребла со стульев свою одежду (небрежно кинутые спортивные рейтузы, кофту), выбежала в коридор…
Потому что ей почудилось…
Эма?.. Он ведет с собой Эму?.. Мальчик?.. За ручку, как когда-то меня?.. Как меня, стынущую в льдистой луже за углом избы…
Эму — откуда? Из какой лужи?
Из комнаты, откуда еще, разве ты не видела, что она там, кто — Эма, что ли, я ее со вчерашнего утра, да нет, она там всегда — милая малышка Эма, твоя, Марта, дочка, которой ты передала все женские тайны этого мира, но Эма все их вернула тебе назад, — прибереги для себя, маманя, Эме тайны ни к чему, ей все ясно, вот ведь какие чистые и какие честные у нашей Эмы глаза — у нашей Эмочки, она никогда не покривит душой, она не умеет лгать, Аурис, неужели ты не знаешь, что она не умеет. Итак: где ты была, Эма?.. Где ночевала?
В институте где еще На факе
А ночевала
У подруг
У подруг У каких
Замужних Ведь имеют право мои подруги быть замужем Имеют или нет Выходить замуж
Имеют Эма конечно имеют Женщины должны иметь гораздо больше прав чем мужчины только мужчины этого никогда не поймут Они нас не чувствуют Эма Но у каких же подруг ты была Где ты проводишь время Три или четыре дня Ты помнишь их адреса и телефоны
Проверять станешь Это оскорбительно
Да Эма иначе я не могу Я отвечаю за тебя
Могла бы так не волноваться Не маленькая
Тем более Я мать Эма А мать иначе не может Не может не проверять Если мы хотим остаться друзьями
Друзьями Друзья не выслеживают Не вынюхивают следы как пес
Скажи где ты была
Я и сказала
Телефон
Четыре четыре пятнадцать Довольна
Пятнадцать пятнадцать
А ты слушай лучше Четыре четыре пятнадцать Однокурсница замужняя Она не шляется не то что я У нее есть муж
А если нет по-твоему надо шляться И без мужа женщина не должна шляться
Ладно уж ладно проверяй
Здравствуйте Это четыре четыре пятнадцать
Эх мама
Извините Глуоснене Скажите Эма у вас ночевала
Мама ты бы не срамилась
Здрасте У нас
Спасибо Спасибо что сказали Теперь я спокойна
Что там она говорила, доцент И.?
«Будем откровенны, хотя бы среди своих. Как это ни удивит вас, как ни огорчит, но вашу дочь все называют…»
«Шобыэтпридумать?..»
«Да. Именно. У всех нынче клички. Прозвища. Вы как мать своего младенца могли бы призадуматься… Уже не говоря о том, что подобные детали компрометируют товарища Глуосниса, которого я, невзирая на все дистанции, имела возможность неплохо знать… в своем журнале он даже главу из моей кандидатской… но вы, коллега, как мать должны бы все-таки…»
Доцент И. у нас нерушимый оплот нравственности; стекла очков победоносно сверкают, кости — сухие палки — трещат, джинсовый — нет, уже вельветовый — скафандр шуршит.
«Ах, замолчите!.. Вы не знаете ее!.. Совсем!.. Эму, Эму, — кого!.. Она очень чуткая девочка… Да, коллега, и одаренная… По-вашему, моя дочь не может быть одаренной?.. Почему же? Почему — — —»
А в магазине?.. Там, возле дома… Классная руководительница.
«Нам с вами надо поговорить, товарищ Глуоснене… О вашей Эмочке…»
«Глуоснене? — прошелестело из очереди у кассы. — Которая… Мать Глуосните?.. Той самой… Глуосните?!»
«А что? — поворачиваюсь на голос. — Это я… В чем дело?»
«В том, что ваша дочь… ваша Глуосните портит моего сына…»
«Сына?!.. — это было как обухом по голове. — Портит?!»
«Да, Видаса… из десятого «А»… авиамоделиста… Будто не знаете…»
«Ну уж, это вы хватили через край!.. — пробасил мужской голос из той же очереди у кассы. — Девушка? Портит? Всегда парни девушек портят. Во все времена так было…»
«А теперь все наоборот…»
«Девушки сегодня, знаете, то самое активное начало…»
«Что вы говорите! Парень в подоле не принесет, оттого и смел… а девка… плетется потом следом как овечка… и, понятно, всегда виновата…»
«А вы не защищайте…»
«А я не защищаю, только…»
«Драпает!.. Ишь, ишь — и не слушает, сразу драпать!.. Вот это ма-мо-чка!.. Алло, так вы передайте своей милой дочке, чтобы к моему Видасу… из десятого «А», не совалась, слышите?.. Пусть к порядочным не лезет…»
Убежала без оглядки, ничего не купив, — какие уж тут покупки! «Драпанула». Так — про воришек… Видас, авиамоделист… «Пусть к порядочным не лезет…» К порядочным!..
Лес. Лес. Деревья. Покой. Да я. И никакого магазина. Сосны шумят, и я одна. Как тогда, в детстве. Только я да сосны. Только боль в сердце да я. И холодный пот по спине — чувствую, как сползает, и слабость в коленях, и…
За что, за что, за что?
Что я сделала им?
Ничего?
За что же они меня так?
Эма?
Пани Виктория, за что?
(Не рассказывала. Я ничего не рассказывала. Пила кофе, ничего не говорила. Смуглого Юлика не было. Давно… У каждого свои заботы, Мартулька. Свой крест… Молчала как рыба. Как земля. Пила кофе и молчала. А в ушах стояло: «Мать Глуоснене?.. Той самой?.. Мать?..» — голова вот-вот разорвется, будто внутри сжатый воздух, я чуть не потеряла сознание.)
Но не плакала, нет. И Эму нашла дома. Как нарочно, сегодня она сразу после школы пришла прямо домой. Только что после ванны (из-под двери еще выбивался пар), в белом пушистом халатике, повязав мокрые блестящие волосы желтой ситцевой косынкой, чуть подавшись вперед, чистенькая и невинная сидела она за фортепиано и сосредоточенно подбирала какую-то песенку. Девочка, женщина. Какая у нее будет судьба? Какая?.. И мне стало так жаль ее, так жаль, что я скорее прошмыгнула в «зеленую» комнату, уткнулась лицом в подушку и навзрыд заплакала — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — а сегодня вот я за Повелителя, Эма.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Ты, дорогая?.. Приду, приду, подожди меня! Полистай там журнальчики, пока я… Которые я принес тебе и оставил на столе… для тебя, для тебя оставил… Там про шахиню…
— Неинтересно…
— А я думал… как раз для тебя…
— Скучно всю ночь напролет с журналами…
— А сколько сейчас времени? Поздно?..
— Это я должна спросить…
— Дорогая, да ты… кажется…
— Не сержусь, нет, нет!.. — (Фу, этот голос, она не умеет им владеть, а женщина должна уметь, надо…) — Я жду тебя…
— Ну, еще часик… Еще не кончилось, и я, пойми, не могу…
— А я могу?.. Так?.. Ждать здесь? Когда моя маманя… быть может… опять…
— Да ничего с ней не стрясется!.. Как ничего не стряслось по сей день… Ты можешь ей позвонить… сказать, что у подруги…
— Ну тебя!.. Прямо сейчас уши горят, как вспомню…
— Виноват, виноват, дорогая!.. Как всегда, сдаюсь!.. Так что жди меня, Эми… Расскажу кое-что интересненькое.
Короткие гудки в трубке. Трубка еще в руке, но уже мертва. Без его голоса. Без дыхания. Без этого «Эми»…
А как могло быть иначе? Она с грустью взглянула на дверь; почудилось, будто там что-то шуршит. Нет, тихо, кому бы там шуршать — мышей нет, повывели, повытравили еще в прошлом году.
«Мышки есть?..»
«Какие мышки?.. — удивилась Эма, тогда она тоже была в квартире одна и, повязав миниатюрный немецкий передничек, мыла посуду. — Откуда у нас взяться мышкам?..»
«Ну, они сейчас плодовитые!.. — улыбнулась старушенция. — А хозяин ваш дома?..»
«Хозяин? Какой хозяин?..»
«Каугенас… Товарищ Каугенас… Квартиросъемщик…»
«Что-нибудь передать ему?.. — Эма почувствовала, как краснеет открыла дверь пошире; вот оно что, ее приняли за… домработницу… Ладно, ушла бы она поскорей, эта странноватая женщина, лицо все в морщинах, а тусклые глаза с какой-то тоской разглядывали коридор, пытались заглянуть в комнату; ишь, высматривает… — Насчет мышей?..»
Но женщина уже двинулась к выходу, зачем-то кивала головой и уходила — пятясь и пристально разглядывая обстановку квартиры, ее, Эму; Эма поспешила запереться.
«Ну, Эми, дорогая… И надо же тебе обращать внимание на какую-то глупую незнакомую тетку!..» — удивился он, придя из своего скучнющего архива (она по его лицу видела, что работа у него прескучная).
«Но ведь я не домработница, правда?.. Скажи быстрей: правда?..»
«Что ты, Эми!.. Ты у меня английская принцесса!..»
«Не хочу я быть никакой принцессой!»
«Тогда будь Эми. Моей крошкой, моей дорогой Эми…»
Эми, Эми, Эми…
Как всегда, все эти пять лет. Уже пять… Вирга, слышишь? У тебя Дапкус, да? Старая развалина, чучело в готическом стиле? А у меня Единорог! Ты, подкрашенная со всех сторон Лизи, и во сне не узришь такого — до чего хорошо я придумала. Уже пять лет назад придумала. И ты, father, понятия не имеешь, и даже ты, матерь моя скорбящая, даже ты!.. Какой у меня уникальный, недоступный вашему разумению мир… Какой мир создала я сама для себя… Я, Эма…
«Ты чудо, Эми… Ты прелестный цветок! Самый красивый в Вильнюсе!..»
«Да ну!..»
«Правда! Ты красивая, Эми!..»
Красивая?.. Он сказал: ты, Эми, красивая? Единорог? Слышишь ты, Лизи? Слышишь, Дайва, Чарли и вся кодла? Вот что главнее всего, для нее, для Эмы: «красивая». Не «способная» или «одаренная» (это знаем и сами), а «красивая», какой она всегда хотела быть и какой, она знала, действительно была. Он понял ее. Единорог! Ведь она только женщина, женщина в домашнем переднике, и только. И все. (Говорю только себе.) Слышишь, мамуля? Женщина. То, что не у себя дома, — неважно. Будет и у себя. Да, у нее будет дом. Свой. И даже, может, получше твоего, маманя. По крайней мере, уютнее. А сама она будет для своего Единорога самой красивой…
Но что же он сегодня так долго? Ведь сказал: «Всего один часик, Эми!..» — а прошло уже целых шесть, и стол, с таким старанием накрытый, уже как будто потускнел (что же ей, целый вечер сидеть и листать эти дурацкие журналы?), и кофе холодный, и творожники (то, что он любит!), и только две рюмки, широкие, дымчатые, в точности как в этих самых журналах, бодро торчат посреди стола рядом с коньяком «Камю» — французским чудом, как он выражается, — а его все нет, и она не знает, почему, и вид у нее самый дурацкий в этом пошлом передничке с белыми кружавчиками и мокрой тряпкой (чистила газовую плиту) в руке («А хозяина нету… нашего хозяина нет дома…») — фу!
Ей и смотреть не хотелось в тот угол, где высилась целая горка журналов, и томило ее не то, что его нет дома (бывало такое и раньше) — придет, — а то, что будет дальше. Возможно, впервые она так остро ощутила свое одиночество — здесь. В ЕГО доме, и впервые задумалась всерьез: что же дальше? Она встала и налила себе коньяка.
Тогда опять зазвонил телефон.
С самого утра ей казалось, будто кто-то за ней следит. Она не могла сказать, кто именно, — может, отец, — но была уверена, что так оно и есть; это было так же верно, как то, что нынче четверг и что она вот едет на троллике, да еще куда, — можно сказать, в милицию! Ну, не «по делу», не по повестке, а, как ни смешно, на свидание; конечно, не к тому (пропади он пропадом), а к… Смешно самой признаться: к этому Гайлюсу, из книжного, который изловил ее тогда, в Жирмунай; что-то он скажет ей сегодня? А ведь она хорошо помнит, как он крикнул: «А это оставляете?..» — про сумку… и как он смотрел — пристально и с удивлением — тогда, в милиции. И какого черта она к нему едет? Ну, не к нему в милицию (этого еще не хватало!), а к Опере, к каскадам, хотя уже и холодно, хотя и осень, как поет Сальваторе Адамо, — еще одна осень в недолгой жизни человека. Недолгой? А что вы думаете — полных девятнадцать, скоро будет двадцать, а когда человеку исполняется двадцать лет… Это поперечное сечение всего сразу, барьер, Эми, стена, за которой, приставив ладонь к глазам, на тебя глядит какая-то совсем иная, ни капельки не похожая на теперешнюю, жизнь; чуешь? Усваиваешь? Ты, ты, шобыэтта, ты, заводила, ЭВМ своей «кодлы», мозговой трест (кто первый это выдумал — Чарли? Тедди? Неважно), хотя все это никчемно и глупо, даже младенчески наивно — эта их игра в «кодлу», — ты Эма, вот и все, ты студентка Глуосните (заботами мамочки из института еще не выперли), таким вот, довольно странным, но единственным тебе доступным Способом мстящая ему… то есть им обоим, обоим родителям. За что? Сами знаете! Нет свободы, вот за что! Не понимаете вы нас! Лезете с этой учебой, с дурацкими зачетами, сессиями — больно нужно! Это главное… Что еще? Ага, скаредничаете, деньгу зажимаете, не даете пожить! Как?! Как нам хочется, вот как… Как нам в голову стукнет… Несолидно? А это уж, знаете, кому как!.. Мы ведь вас не контролировали, вот и вы будьте столь любезны и добры… Чего же ты, Эма, хочешь? Знаешь? Знаю, — чего-нибудь… Ну, понимаешь, чего-нибудь, только не того, что даешь мне ты, что вы все даете нам… попрятались по комнатам, как по чердакам — не с кем пообщаться, а хочется… вы и не представляете, как человеку хочется с кем-то общаться., разговаривать, быть, — понятно тебе, father? Быть!.. Ну и будь, пожалуйста, будь? С кем же father? С тобой, что ли? Илы с маманей? С нашей матерью скорбящей? Давай не будем трогать маму! А почему? Потому что она… наша мама… У, если бы вы знали, если бы кто-нибудь понимал, как меня гнетет ее бесконечная болезнь… как сковывает, давит, лишает всякой воли… если бы не болящая наша маменька, я бы, может, в этот наш дом… совсем не являлась… Ты губишь ее, Эма, убиваешь!.. Я?.. Такими разговорами, своим поведением. А что я сделала? Что плохого? Искупалась и читаю. Ничего я ей не сделала. (Двое суток не приходила, ну и что: мне было весело. И хорошо… Знал бы кто-нибудь, как мне было хорошо с тобой, Единорог!..) У мамы приступ?.. Старые дела. Таблетки. Успокоительные, снотворные, медицина… Тем и убиваешь, что ничего не делаешь. Ничего нужного. Хоть бы заглянула, показалась, хоть бы слово кинула… Мамане? А что я ей скажу? Что она уже не человек, а только своя собственная тень?.. Вернее, твоя тень… Серо-желтая… Страшно, Эма! Что ты говоришь!.. Такое о матери?! Ты даже представить не можешь, как там, на фронте, мы тосковали по дому, по своим матерям!.. И я по своей. Хотя ее давно не было… И все равно… Бывало, и побранит, и тычка даст — и все это потом казалось счастьем… Все, все, Эма!.. Это тебе, а не мне… То ты, а то я!! Я другая. И вообще зачем она меня родила такую?.. Зачем произвела на свет?.. Ну, какую, Эма?.. А такую: неприкаянную… никому не нужную… Никому. Никому — — — — — — — — —
И все-таки: неужели никому, Эма? (Это я себя спрашиваю, с утра, сегодня…) В самом деле: никому? А ему, Единорогу? Своей тайне, единственной радости. Коснись меня — и я стану сама собой, дотронься — и обрету цель… Ее нет, не было, не будет… но ты только дотронься, и я… Ведь я могу иметь цель… Ведь я не совсем еще дура? Как ты считаешь, Единорог? Ведь ты знаешь меня лучше, чем маманя или father, лучше всех. Мне скоро двадцать, ого, и мы вместе… Вместе, Единорог… мы с тобой, мы с тобой, мы… И цель… мы могли бы иметь, правда? Оба? Вместе? Одну общую цель… мы с тобой вдвоем… Об этом мы с тобой поговорим, обязательно, еще сегодня… именно сегодня, в день рождения предка, мы будем говорить как двое взрослых людей… которых свели звезды… вот…
И она улыбнулась — тут, в троллике, — не то ЕМУ, не то себе, а может, кому-то еще, может, например, Гайлюсу, этому симпатяге дружиннику, который — вот он, — озабоченно пригнувшись, шпарит мимо памятника Черняховскому; может, Эма появится раньше?
А что вы думаете! Из дома чем раньше, тем лучше (если не на фак), а сегодня тем более, сегодня же юбилейчик ее father’a, я сегодня маманя заявилась к Эме в комнату… даже без привычного разноса — накурено, мол, — ошеломила… Розы? Получше? После лекций? Нда, купит. Съездит к «Стене плача» на цветочный рынок и купит, гони монету. Не веришь? Увидишь: куплю и притащу. Охапку роз пааа-почке…
Ее прямо передернуло, когда она представила себе эту картину: примерная дочь в белом атласном воротничке, рот до ушей, с букетом роз — и купающийся в лучах семейного благополучия папаша (папулечка, папанчик, папарелло) в черном смокинге, белоснежной сорочке с антрацитово-черной праздничной «бабочкой» под подбородком, выскобленным до синевы, — где-то она такое видела, в каком-то фильме — сентиментальном и потому забытом; теперь не те времена! Теперь, father, благодари судьбу, если я вообще терплю тебя (если все еще — ты должен бы понять, Единорог, — живу с ним под одной крышей; неужели он думает: забыла?..). Ничего я не забыла, отееец, не забыла — ведь и ты ничего не забываешь, а я… Эма Глуосните… твоя Эма… все-таки я твоя дочь, и хотя тебе кажется, что со мной лучше всего раз-: говаривать таким путем, как тогда… как в тот раз, навсегда нас разлучивший… когда, потеряв терпение, я этой мусоркой… двухнедельным этим смрадом…
Она схватила розы, которые везла рядом с собой на пустом сиденье, сгребла их в охапку, как какие-нибудь дрова, и выскочила из троллейбуса чуть не на ходу; Эма спешила. Она и сама не знала, что ее так подхлестывало, не давало задуматься, собраться с мыслями, а те, как на грех, усиленно одолевали ее с самого утра; а может, нежелание, вернее, страх встречи с отцом, которого благополучно избегала уже целую неделю; что могла Эма ему сказать? Попросить прощения? Ну, по случаю дня рождения? (Но ведь это он должен просить прощения за ту пощечину!) Обещать исправиться? Фу!
Она громко закашлялась и сплюнула прямо на газон, какой-то прохожий оглянулся и недовольно покачал головой, тоже какой-то старикашка; пришлось прибавить шагу.
— Хелло! — крикнула она издалека, завидев Гайлюса на красном гранитном парапете у фонтана, разумеется опять пересохшего, задушенного илом; над ним, точно скала в медной зелени мха, нависло здание Оперного театра. — Я не слишком рано?
— По-моему, нет… — Он встал с парапета; Эма увидела, какой он высокий, как краснеет и как хорош собой. Волевой, выступающий вперед подбородок. — Такое никогда не бывает слишком рано…
— Никогда? Значит, все-таки бывает?
— Изредка… — Гайлюс улыбнулся уголками губ, взглядом зацепил букет, который она держала по-прежнему в охапке. — А это кому — мне?
— Захотел!.. Father’y!
— Кому, кому? — Он явно не понял.
— Отцу.
И опять пригляделась к нему: бровастый, быстроглазый, кажется, слегка надушенный, ничем не напоминает того парня, с которым довелось иметь дело при обстоятельствах не самых приятных; что ему нужно от нее сегодня?
— Отцу?!.. — переспросил он. — Эти розы — отцу?
Кажется, он искренне изумился и так пристально уставился на нее, что Эма заподозрила, что оговорилась, сморозила что-нибудь… Или он знает? Неужели знает, что Эма с father’oм?.. Со своим пааапочкой…
— А с чего ты взял… почему ты считаешь… — Она ухмыльнулась и спрятала эту ухмылку в розы, которые неловко прижимала к себе. — Я не могу розы… отцу?..
Она вовсе не то хотела сказать и не то все время думала — какой у нее отееец, — но, может, это все-таки ее личное дело? Только ее собственное. Потому что никто — даже Единорог — не поймет, не сможет понять, но вникнет, почему Эма так не любит своего father’a и почему из-за того — она знает, знает, знает! — так терзается; если бы ей не нужен был отец… Но она знает: нужен, и с каждым днем все больше, ей ведь ни посоветоваться не с кем, ни… Мы бегали по льду, папа, по только что замерзшей речке, жуть! И я боялась, отец, да, но бежала, как и все, не отстала, скакала по льдинам, потому что иначе было нельзя… потому что надо со всеми и именно так… Была ночь, звезды светили, кто-то орал: кончайте, дурные, назад, идиоты!.. Глупо, правда? Очень даже, папа, очень, но мы… Ребята предложили, ну и… Него-то нам хочется, отец! Интересного! Не серого, не пресного! Захватывающего чего-то, геройского!.. Чего именно? Если бы мы знали!.. Если бы знали… У старшего поколения была революция, подполье, война… Война против проклятого фашизма, которую мы знаем только по книгам да по фильмам… В Чили бы — вот это да! Во Вьетнам, Камбоджу! Намибию! Или Эфиопию! Или совсем на другие планеты… с астронавтами… там кухарить для них или… скрасить существование какому-нибудь смельчаку… помочь чем-нибудь… Если это возможно — в состоянии-то невесомости… Делать что угодно и где угодно, только не быть дома, отец, с тобой и маманей… не в институте у Накайте… а быть там, где все повое и все другое… и где нет, где не может быть этой преснятины… Я хочу, отец, пылать, сверкать, пламенеть… и всегда быть красивой… И я могу, поверь!..
Так или иначе, не имеет значения, — в ту ночь дома, когда она, как всегда, под утро вернулась из города и когда отец, в мятых, закрутившихся вокруг бедер трусах и оттого жалкий, пришлепал отпирать дверь, где-то глуховато-хрипло, как износившийся паровоз, покряхтывала маманя…
— Вовсе я так не считаю… — наконец услышала она и вернулась туда, где была, — к фонтану у здания Оперы, скалой нависшего над ними. Гайлюс шел рядом, держал ее правую руку в своей теплой, слегка шершавой пятерне и что-то говорил; левой рукой Эма принимала к себе розы — розы для пааапочки — и с удивлением отметила про себя, что выпал какой-то промежуток времени, будто незримые ножницы — раз — и вырезали его из памяти; она постаралась сосредоточиться.
— Тогда почему ты удивляешься?..
— Да нет, я так… — Он умолк. — Я ни роз, ни еще чего-нибудь такого… никогда… своему отцу…
— А почему? — Эма насторожилась.
— Потому что он… Потому что… нет у меня отца… Сидит…
— Как?..
— Да. За воровство. Хищение на заводе. И потому я… на его место к станку… после школы… Чтобы не думали, что мы все такие… Висмантасы… — Он чуть наклонил голову и заглянул ей прямо в глаза; это Эме понравилось. — Я очень рад… что ты пришла сюда… Все-таки я — это я, а ты… Твой отец…
— Молчи!.. — Она приподнялась на цыпочки и зажала ему рот ладонью; сама удивилась, как это легко и просто у нее вышло. — Ничего не говори! Много ты знаешь! О нас! Обо мне! Ничего не знаешь!
— Может, все-таки кое-что…
— Ничего!.. Думаешь, если сцапали там… в тот раз… так уж… А если я не могла иначе?.. Может, мне нужно было так… понимаешь? Ничего ты, парень, не разумеешь… ни черта!
— Что-нибудь я все-таки понимаю… Придумали развлечение…
— Ах, молчи ты, молчи!.. — Она резко отвернулась. — Развлечение! А если это прыжок, взлет! Если из этой серости…
— Какой серости? — Он выпустил ее руку, но тут же снова взял, гораздо крепче. — В чем серость, Эма?.. Ты умный человек, вот и скажи… Ведь ты умная, я знаю…
— С чего ты взял?!
— Ты много читала.
— Ну уж…
— Факт.
— А ты?.. Ты чего?.. — Эма остановилась; они уже не то второй, не то третий раз обошли округ Оперы — огромного стакана в медно-никелевом подстаканнике, пару лет назад возникшего посреди города; а еще это здание малость напоминало те прямоугольные дырчатые ящики, в которых по магазинам развозят пиво, и там сквозь металлические ячеи блестит стекло («Даже не знаю, как там, внутри», — пришло в голову); мимо, отбрасывая по сторонам желтые тополиные листья, проносились машины. — Зачем я тебе понадобилась, да еще так спешно?
Он, видимо, ожидал этого вопроса, так как нимало не растерялся, понимающе (привычка? стиль? свойство характера?) улыбнулся, едва шевельнув тонкими губами и даже зачем-то потерся своим внушительным подбородком о плечо — о лиловую с зеленым кантом куртку. И ответил не сразу, взвешивая каждое слово.
— Я?.. Чего я хочу?.. — Он свел брови, потом у него снова разгладилась переносица. — Просто встретиться… Встретиться и поговорить…
— Со мной?!..
— Да… а что?
— Ничего… — пожала она плечами («Ну, а этот… куда пригласит?..»). — Мы ведь уже встречались…
— Да, два раза… — кивнул Гайлюс. — А может, и больше… По-моему, все, кто читает одинаковые книги, как бы встречаются друг с другом… становятся вроде знакомыми…
— Оригинально… Тогда, выходит… у нас в городе сплошные знакомые? Целый Вильнюс знакомых?
— Почему бы и нет?
— Потому что нет!.. — Теперь засмеялась Эма. — Потому что это невозможно… Вот мы разговариваем, а незнакомы… Совсем!.. Хоть и живем в одном городе, ходим по тем же самым улицам… И, допустим, даже читаем одни и те же книги…
— Да… — согласился он. — Когда я услышал от тебя об этой дороге в Мексико…
— Мехико! В город Мехико государства Мексика!.. Мехико-сити!..
— Ну, в общем, об этом подонистом Мориарти…
— Подонистом?!.. Мориарти — подонистый?
— А по-твоему, нет? Золотой слиток? Гниль! По уши в тине…
— А мы?.. — вздохнула она.
— Ты что?.. — Он покачал головой. У него и волосы были красивые — черные, вьющиеся. — Только единицы. Взять хотя бы наш завод: на пять тысяч рабочих наберется… от силы… ну, я не считал…
— Я говорю о своей компашке…
— Плохо, что других не знаешь… Не таких, как этот ваш Дин…
— Дался тебе этот Дин!
— Не в том дело. Ведь это правда…
— Что — правда и какая?
— Самая обыкновенная… Что у них за душой — у такого вот Дина, ты подумала? Ну, буйствует, гуляет, шпарит по автострадам… Любит девок…
(«А отец!.. — дрогнуло что-то у нее внутри. — A father!..»)
— Странный вопрос…
— Нисколько! — Он опять качнул головой и снова, как он уже делал раньше, свел густые черные брови. — Вовсе нет, деточка!..
— Я тебе не деточка!.. И, учти, не «кадр»!..
— Учтем… ладно! — дернул он углами губ, кажется ничуть не смутившись. — Все равно послушай… Он за что-нибудь отвечает? Ни за что твой Дин Мориарти не в ответе, совсем ни за что… А мы… а наша молодежь…
— Так, так, я слушаю… — Она поджала губу, как это делала Накайте. — Торопись, время кончается. Академический час на исходе.
— Не сбивай, ладно? Все равно доскажу… В общем, мы отвечаем за все, слышишь? За то, что есть, и за то, что будет, поняла? Даже за то, что будет!..
— За все государство, что ли? — Эма улыбнулась. — За степи, горы и моря!..
— За все!
— Ишь ты!
Он как будто не расслышал иронии в ее голосе.
— И даже за других!.. В этом мире… Пока в нем столько несправедливости…
— Ты что, пророк?..
— Но в первую очередь отвечаем за себя… Зачем трудимся. Ради чего живем. Что делаем… Это самое главное: отвечать за себя самих!
— Аа… — она зевнула. — Вот зачем ты звонил: хотел прочесть лекцию о цели в жизни… Моральный облик нашего современника… А если мне ничего этого не нужно?
— Чего? Цели в жизни?
— Лекций этих. Если у меня дома и по такие профессора проживают… Послушал бы ты моего father’s! Или матушку! Но, уверяю тебя, мне все эти заповеди… как говорит один чувак, до фонаря. Тот, помнишь, патлатый такой, из Киртимай…
— Что ж, образец красноречия… — улыбнулся Гайлюс.
— Зато верно!.. И я бы попросила о моих друзьях… конечно, если можешь…
— Могу, могу!.. — согласился он. — Но все-таки скажу: жаль, что ты не знаешь других!
— А я стараюсь!.. — Эма насмешливо посмотрела ему в глаза. — Не видишь, стараюсь вовсю… Только услышала твой голос — цап розы и бегом… ха-а!..
Она так резко захохотала и до того громко, что он почему-то оглянулся и посмотрел по сторонам, — но, может, ей только показалось, что оглянулся, так как обернулась-то она, иначе разве она увидела бы Чарли? Да, да, их доблестный тарабанщик по клавишам прохаживался по противоположной стороне улицы и без всякой определенной цели изучал витрину магазина детских игрушек; на черта ему игрушки?
— Может, все-таки поговорим серьезно, Эма?.. — сказал Гайлюс, когда она так же вдруг умолкла, как раньше засмеялась, и, точно загипнотизированная, уставилась на Чарли, на сгорбленный силуэт с головой, глубоко упрятанной в капюшон куртки. — Возьмем и поговорим… Долго надоедать не буду…
— Ах, мне пора!.. — Она вся сразу как будто встряхнулась; а ведь какое ей дело до Чарли!.. У нее ключ от… — Так можно закоченеть… решая мировые проблемы…
— Тогда, может… — он показал глазами на переулок, за которым, он знал, было кафе. — Конечно, если оно открыто…
— Что ты!.. Там только с часу… — Она покачала головой; хотелось закурить (Гайлюс, как ей казалось, не курил) и глотнуть кофе. — Так что… пока…
Но он все не отпускал ее руку, и Эма опять повернулась лицом к витрине игрушек; Чарли там не было. И вдруг ей стало страшно.
— Ты дрожишь, Эма!.. — сказал Гайлюс, схватил обе ее руки и начал их растирать; пальцы ощутили тупую боль, Эма попыталась вырваться.
— Ну, не надо, не надо!.. Я пошла! Мне пора! Пойду!
И опять посмотрела туда, через дорогу: никого…
— Нет, нет! — продолжая держать ее пальцы в своих ладонях, покачал он головой. — Не пущу! Никуда!..
— Как это?
— Очень просто! Не отпущу, и все! Не забывай: я милиция! Народная дружина! Гром и молния!
— Я пошла!
— Не пущу, пока вот эту книгу…
Он и вправду вынул из-за пазухи книгу — прямо-таки выхватил, — потертую и без суперобложки, без этой глянцевой бумажки, но очень знакомую; она сообразила, что это последняя книга ее отца.
— Ты бы не отказалась, а? Своему отцу… Может, он сделает надпись… или просто автограф… это будет у нас первый такой экземпляр… Наша бригада…
— Бригада?
— Ну да, электриков-монтажников… Двенадцать человек… Мы договорились собрать общую библиотеку… Узнаем, когда в какой магазин поступят новинки, бежим в очередь и… А потом книги, которые прочли, приносим в бригаду, чтобы другие прочитали. Обсуждаем, каждый высказывает свое мнение… Интересно, знаешь!.. А… когда вот познакомился с тобой… ведь ты дочь Глуосниса… я решил… то есть мы все решили просить тебя, чтобы ты… попросила у отца… сделать нам надпись на книге…
Эма вдруг покраснела и удивленно взглянула на него: вот оно что! Отец! Father! Опять! Мало того, что сегодня она с этой дурацкой метлой… с этими розами, со всей этой сентиментальной бутафорией в английском стиле!.. А этот тип в самом деле полагает, что Эма со своим милым папочкой… гм, с father’oм… душа в душу…
— А вот бы вам… — протянула она, — самим, а? Тебе, например, самому?..
— Мне? Не пойду же я к вам в дом!
— Почему? У нас, в общем-то, ни холеры, ни чумы…
— Брось, не шути!
— В чем же дело? Боишься?
— Да, боюсь… — кивнул он.
Он вроде правда растерян?
— Ты что… серьезно?
— Боюсь, честное слово. В таких семьях я никогда…
— Ха-а! — Эма искренне расхохоталась. И протянула ему назад эту книгу — отцовскую. — Нашел кого бояться… пааапочку…
— А то кого же… Тебя, что ли?
— Меня?
— А в общем… По-моему, я действительно начинаю тебя…
— Ты?.. Славная народная дружина?
— Иронию оставим на потом. Вдруг пригодится.
— Думаешь?
— Надеюсь. Я всегда надеюсь, Эма… Может, тем и примечателен…
Он снова — и достаточно иронично — дернул уголками губ.
— И на что же?.. — Эма не замечала иронии. — Как по-твоему, какое оно будет, это «потом»? И кто может быть уверен, что будет это самое «потом»?!
— Ну, деточка!.. — Гайлюс широко улыбнулся — уже не только губами, а, казалось, всем лицом; это была широкая и добрая улыбка человека, знающего, чего он хочет; Эме нравились такие лица. — А как же иначе? Ведь иначе мы бы никогда из своих допотопных клумп… Если бы, Эма, мы на заводе думали иначе, разве тогда…
— То на заводе, а то…
— Но ведь люди везде есть люди. И ведь нам, Эма, многое дано. Все, что нам нужно… А чего нет, то… надеюсь… будет, да, — все, чего пожелаем!.. Мне двадцать два, а тебе?..
— Сколько-нибудь и мне…
— Ну, не имеет значения… Но ты учти: если я когда-нибудь соберусь с духом… и как-нибудь под вечер к вам… к тебе… и к твоему отцу… Передай ему…
— Прощай! Прощай! Прощай!.. — крикнула Эма. Она опять увидела Чарли: тот, по-прежнему в низко нахлобученном капюшоне, в широченных затрепанных джинсах, поглощенный, казалось, одним лишь собой, сосредоточенно шагал в переулок, где кафе. Но Эма поняла: видел! Чарли, тарабанщик, только что видел ее с «кадром», и посему… — Пока! Чао!.. Ча-ао!..
И чуть не одним прыжком подскочила к затормозившему неподалеку такси (хорошо, хоть валюта была); Гайлюс помахал ей рукой.
— Привет отцу! От всей бригады! — крикнул он вдогонку. — Поздравь с юбилеем! Мы знаем! Ты не сказала, а мы знаем… Жди меня!.. Эма, слышишь: жди!..
И вот она ждет. Здесь, в Лаздинай, куда прикатила на такси (выложила всю сдачу от покупки роз), здесь в ЕГО жилище, у ЕГО окна (ожерелья огней змеились к реке), на ЕГО диване… листает ЕГО журналы… ЕГО… Единорога…
А ЕГО нет… Хотя уже два, три, четыре, хотя и розы в кувшине (те, пааапочкины) уже утратили свою первозданную росистую свежесть и матово-красным пятном чуть высветляют сумрак в углу над журнальным столиком, хотя… А, спать хочется, больше ничего, совсем ничего больше, — слышишь, Единорог: спать. Так долго ждать — ну, час, от силы два, но не целую же ночь… Авария? Хулиганы? Разве можно не приходить так долго! Он же знает, что Эма здесь, что Эма ждет его, — как всегда в последнее время, у нее и ключ есть, — что ей больше некуда податься, особенно среди ночи и особенно сегодня, в такой день (прошу прощения: ночь); ее можно было бы понять, ее, Эму… Мамуля, можно не сомневаться, лежит на своем диване и пьет свои любимые таблеточки, а отец… ее прославленный пааапочка… Каково ему сейчас?.. У этих старцев празднички иногда удаются не хуже, чем у них, у кодлы, — с той лишь разницей, что у тех с финансами получше…
Да какое ей дело сейчас до этого — до их праздников и финансов? ЕГО нет… Кофе остыл, нервы на взводе, розы, которые ты как последняя дурочка приперла сюда и поставила в кувшине на столик (не у отца, нет, нет!), рассеяли свой аромат по всей ЕГО квартире, задрапированной в желтые портьеры, устланной коврами, — где она вроде домработницы, — засела, видите ли, такая-сякая-разэтакая, в сущности никому на свете не нужная Эма, студентка не студентка, бродяжка не бродяжка, человек не человек… для одних — шобыэтта, клевая чувиха с Заречья, для других — для такого вот Гайлюса… Какого? — она тряхнула головой. — Какого все-таки?.. Кому ты можешь рассказать о нем — Чарли, да? Или Единорогу? Которого ночь напролет поджидаешь… которого тебе, говорят, сами звезды… эти тяжеленные, беспорядочно растыканные по небу микрорайона звезды Эмы Глуосните — —
Звонок прозвучал так неожиданно и грозно, что она как ужаленная вскочила с дивана, где вроде задремала, и стремглав кинулась к двери: ОН! Не успела даже взбить рукой растрепанные, упавшие на глаза волосы.
— Кто? — негромко спросила и опять услышала звонок — теперь уже совершенно отчетливо в ЕГО кабинете; спотыкаясь, бросилась туда, к телефону; не успела даже свет включить.
— Будьте любезны, Алоизаса, — услышала она мелодичный и какой-то властный альт где-то там, в ночи. — Пожалуйста, позовите к телефону товарища Каугенаса…
— Его нет… — ответила Эма безучастно, как автомат; она все еще чувствовала себя как во сне; значит, крепко уснула. Алоизаса? — Его нет дома…
— Нет? — альт удивился. — Как это нет?.. Не вернулся?..
— Нет, сударыня, не вернулся… — Рука с трубкой свесилась вниз. — Так что, сударыня, смею доложить…
Глупости! Глупости!.. Тот самый голос!.. Тот, который она уже знает, — как-то было, когда Эма тоже сидела здесь одна… по сегодня… среди ночи… даже под утро…
Ей все казалось, что она спит: сидит за столом, сжимает в руке телефонную трубку, а сама спит; звонят? Сейчас? ЕМУ? Она уже не только слышала, она видела ее, эту женщину, выплывающую невесть откуда среди ночи, — ее толстые, жирно намазанные (именно толстые и жирно намазанные) губы и пышную грудь; неужели все это правда? Вдруг только сон? И она, эта женщина, — тоже?
Непроизвольно оперлась на край стола.
— А жаль… — протянул на другом конце провода повелительный альт. — Очень и очень жаль… Впопыхах забыла ему кое-что сказать…
Она? Впопыхах? ЕМУ? Эма даже зубами клацнула.
— А кто это звонит?.. — спросила она, окончательно проснувшись, и сама различила в своем голосе нескрываемую злость; лихая шобыэтта могла бы и не проявлять такой заинтересованности. А тем более — домработница. — В такое время… гм…
— А это уж я выбираю… время… — улыбнулся альт (да, Эма видела: именно улыбнулся). — Извините. Спокойной ночи, деточка.
И щелк рычажком — там, в ночи, на конце провода; Эма вернулась к столу, будто нечто обдумывая, погладила бутылку «Камю».
«Чокнутая! Пыльным мешком ударенная! Идиотка! — напустилась она на себя. — И это ты — Глуосните?!..»
Теперь она отчетливо расслышала возню у двери; живо юркнула в комнату, где только что была, бросилась на диван, отвернулась к стене и накинула на ноги плед; ОН долго возился с замком. Возможно, искал ключ и не попадал в скважину, дрожали руки, — наверное, бывает такое, когда совесть нечиста или если под мухой; Эма боялась дохнуть.
Но и Он, судя по всему, ничуть не спешил ее увидеть; управившись наконец с замком, ОН снял в коридоре плащ и туфли, в одних носках на цыпочках пробрался к себе в кабинет, где стоял еще один диван; вскоре оттуда послышался негромкий, но довольно размеренный храп усталого человека…
Наутро ОН старался не разбудить Эму и, даже не заглянув в комнату, где она лежала (сном это не назовешь), даже не приготовив кофе, все так же, на цыпочках, прокрался в коридор, оттуда вышмыгнул на лестницу и отправился на работу; вдруг ОН все знал? А именно: что звонила эта и что Эма не пришла оттого в восторг. Вернулся непривычно рано. И с цветами (это было что-то новое) и опять-таки с полным портфелем журналов; чуть не с порога протянул цветы Эме.
— Ого, Эми!.. — оживленно воскликнул ОН. — Сегодня ты выглядишь просто божественно!..
— Твоими молитвами, Алоизас.
— Иронизируем? Дорогая, ну зачем?.. Я так рад, что ты здесь… что ждешь меня…
— И я рада, Алоизас.
Они стояли друг против друга, глядели один на другого и даже, кажется, улыбались — во всяком случае ОН, — и тем не менее между ними темным призраком маячила минувшая ночь, и Эма все видела ее, эту, но не где-то на другом конце канувшего в ночь провода — эта, казалось ей, находилась здесь, в комнате, с ними; невозможно было терпеть.
— Даже очень рада… — повторила она, медленно отвернулась и посмотрела в окно — там опять (опять, Эма, опять) сгущалась, пожирая сумерки, тьма и опять (опять, Эма, опять — как в песне) сквозь сизый кустарник сбегали в реку ожерелья, снизки огней; шуршали троллейбусы. Они наводили на мысль о поездке, о Заречье, доме, где (будем надеяться) определенно ее поджидают (уж маманя наверняка) и где, подумалось ей, она давным-давно не была — пожалуй, целую вечность; вспомнился Гайлюс… Это было странно, что она подумала о Гайлюсе — вот уж чем поистине не стоило забивать голову, — и подумала именно сейчас, глядя в разбавленную жидкими, словно смущенными невесть чем — разве собственной наготой, — шариками фонарей ночь микрорайона, и вдобавок в ЕГО жилище, чувствуя, точно нож в спину, вонзенный ЕГО взгляд. А вдруг он прав… Он, дружина, который говорит, что других — других людей — Эма просто не знает, а только свою шобыэтта; он обещал зайти… К отцу, скажите на милость; она, слава богу, не вчера родилась; отец, понятно, для отвода глаз, а если так… ха-а!..
Она так звонко и смачно хохотнула, выпалила свое «ха-а!..», что ОН не вытерпел и схватил ее за плечи. И отнюдь не ласково.
— Эми!.. — проговорил он. — Давай забудем, ладно?.. Давай помиримся?..
Глаза у него блестели, и она знала почему. Отрицательно покачала головой.
— Ведь это пустяки, Эми!..
— Пустяки?!.. — она обернулась так резко, что сама этому удивилась. Лицо горело. — Я тут жду… не пошла даже на сабантуй к father’y, а он… Пустяки!.. Что же тогда важно, по-твоему?.. Что не пустяки?
В таком тоне они разговаривали впервые, и это у нее было задумано — после того как позвонила эта; сегодня Эма спросит… И скажет то, что собиралась сказать давно, — может, с того раза, как они… Но тогда ей не было и шестнадцати, и тогда не было этой… нахальной бабы на другом конце провода; не было тогда и Гайлюса… Ибо и он, она чувствовала, вошел в эту комнату и так же, как пресловутая эта, стал между нею и Алоизасом, Единорогом, ИМ; будь у нее такой друг… такой чувак, как Гайлюс… ну, гораздо раньше…
«Ах ты, куколка!.. — Прикусила губу, чуть не крикнула вслух: — Как рассуждаешь?.. Ты, шобыэтта…»
— Ну и что же, по-твоему, не пустяки?.. — повторила она, заметив, что он явно растерян: не ожидал ни таких слов, ни такого тона от своей Эми. — Ночные звоночки, что ли?
— Какие звоночки?..
— Весьма нахальные… Она, видите ли, забыла тебе кое-что сказать… и вспомнила только в полпятого…
— Кто — она? — Он не поддавался на удочку. — Дорогая, ты сегодня правда… гм…
Она подошла к бару, достала коньяк, налила рюмку и выпила.
— Я весь сегодняшний день мысленно разговариваю с тобой. О ней.
Он вздохнул.
— Ей-богу, дорогая, если бы я знал, что тебя это так расстроит… я бы… поверь… бросил бы этот банкет и…
— Не оправдывайся!.. Не старайся!.. — Эма махнула рукой и почувствовала головокружение, поискала на ощупь сигареты, прикурила от газовой зажигалки, когда-то подаренной ИМ, Единорогом. — Тебе не идет… Всегда будь собой, — ведь так ты учил меня?.. Вот и будь, даже если лжешь.
— Эми!.. Это ведь ни в какие ворота…
— Да-да, собой. Будь Единорогом, ясно? Будь таким, каким я тебя знала… или придумала… Выше подозрений. Выше грязи. Будь больше, чем ты есть, понимаешь?
— Нет.
— Поймешь… Только никогда не оправдывайся, ладно? Особенно перед ней… Той, что среди ночи…
— Эми!.. — Он подскочил к ней и схватил за руки — за обе сразу — и, поднеся их к своим губам, стал целовать как-то очень уж торопливо; это было странно, ново и приятно. — Эми, честное слово, ну что с тобой?.. А я надеялся… мы с тобой поговорим… — Поглядел на диван с пледом и пестрыми подушками; эти яркие думки она разложила там, поджидая ЕГО. — По-хорошему… Я хотел тебе рассказать…
— Что?
— О твоем отце…
— Об отце?
— Да… — он кивнул. — Вчера я был на его чествовании…
— Знаю! Может, и я бы пошла, если бы…
— Да будет тебе известно, он получил свое!
— Кто?
— Глуоснис. Родитель твой. Или, как ты говоришь…
— Father.
— И получил сполна, Эми.
— А если… поточнее?.. — Она резко высвободилась из его рук и отступила на шаг. — Опять… загадки?
— Почему, Эми, опять? — Он обратил к ней взгляд — милостивый, добрый, обнадеживающий. — И почему, дорогая, загадки?..
— Потому что ты никогда и ничего не говоришь прямо… Все какими-то намеками… И не только про father’a.
— Горе побежденным, Эми… — Он опустил глаза, хотя (она видела, видела) продолжал следить за ней. — Так, очевидно, было суждено…
— Что? Что суждено? Выражайся точней!
— А тебе правда интересно? Дорогая, насколько я помню, ты про своего папеньку… гм…
— Говори!
— Что же тебе, Эми, сказать? Разве то, что в нашей юдоли слез ничто не забывается? Что за все приходится платить? Будь то двадцать, сто или даже тысячу лет назад? В каких-то лесах под Любавасом… или в каком-то Каунасе?.. С замужней крестьянкой или какой-то… гм, немало повидавшей редакторской женушкой… А что до прочих дел… — Он махнул рукой. — Тут уж, дорогая, я… тертый калач…
— Что ты говоришь? — воскликнула она и вдруг почувствовала, какая она маленькая и несчастная. — Что не забывается? Каких это — любавских? — От кого-то, впрочем, она слышала это слово: Любавас. — При чем тут Каунас? Что знаешь ты о моем отце?! И чего не знаю я?!..
— Ах, ничего, дорогая, ничего!.. Откуда мне?.. Я только работяга, архивная крыса, клерк… только на основании документов, порой могу… не хочу, но могу… А он… твой отееец!.. Хотя он, по-моему, тоже понял… не мог не понять… что пробил час, когда…
— Когда что?!.. — Эма судорожно схватила его за руку, даже потянула на себя; что-то в его словах было отвратительно, и она лихорадочно прикидывала: что именно? — Что понял мой отец?
Что же это должен был он понять и… понял?.. И какой такой час для него пробил?.. Мщения?.. За что?..
— Алоизас, я прошу, требую даже…
Но он не был бы Алоизас, Единорог, ОН, если бы продолжал выслушивать упреки и причитания — в этом было его превосходство, его сила, сила, которой — по крайней мере до сих пор — Эма не умела противостоять; для нее он всегда был ОН, Единорог, ее сокровенная тайна и радость, а возможно, и горе, — но ее, только ее. Он лишь закусил губу, будто сглатывая какое-то рвущееся из груди неприятное для нее, Эмы, слово, чуть подавшись вперед и протянув руки; пальцы у него дрожали, в глазах Эма видела то особое выражение, которое имело над ней власть.
— Эми… — зашептал он, обнимая ее за талию. — Малышка моя, славная детка Эми… жизнь моя… надежда… сказка юности… Эми! Поцелуй меня! Своего Алоизаса… своего мерзавца Алоизаса… свое будущее, свою судьбу… ведь и ты моя… Ты — моя надежда и моя судьба, Эми, и никакие холодные северные ветры… а я их знаю, Эми… уже никога и никак… Ибо история, дорогая Эми, еще покажет нам… свой улыбчивый лик… нам с тобой… тебе… Эми… тебе, что отцовская вина находит искупление…
— Ай, пусти меня!.. — крикнула она; что-то в его словах было пугающее; непонятным, но пугающим был их смысл; непривычные то были слова; наверное, он принес их оттуда, из минувшей ночи, и оттого казались они страшными, чужими, — или просто требовалось побольше времени, чтобы уяснить себе их значение. — Пусти!.. Пусти!.. Скорей!..
— О нет! Эми, никогда!.. Ведь нас свела сама судьба… Наши с тобой корни уходят в незабываемое прошлое…
И подался еще ближе к ней (сегодня ОН странный, успела подумать Эма) и поцеловал ее в лоб, как обычно — для начала в лоб; она почувствовала, как что-то поднимает ее ввысь — как перышко, она взлетает, взмывает и снова снижается на диван, к которому прижималась и который, поджидая его, с таким вкусом убрала пестрыми думками, и, что важнее всего — в данный миг важнее, — нет сил противиться, сказать «нет», вскочить, и убежать, и ляпнуть с порога что-нибудь злое, обидное; она сидела, обезоруженная его близостью, которая столько лет делала ее бессильной, и знала: все будет как в первый раз и как всегда до сих пор и что после этого она уже не сможет ему ничего сказать, ничего, о чем думала минувшей ночью, когда позвонила эта…
Вдруг она тряхнула головой.
— Нет… нет… скажи!.. Скажи все!
— Что, Эми?.. — Голос шелестел, как дерево; руки, точно лодки, не спеша плыли по ее помертвевшим, вжатым в тело плечам, мягкие, гибкие его ладони. — Эми, дорогая, что?.. Больше я ничего не знаю… про твоего отца… совсем…
— Нет, нет, не то!.. — Она подняла глаза и посмотрела на него, собрав все свои силы; она думала уже не об отце, вовсе нет… — Ты правда… меня… ну…
— Я? — Его лицо просияло. — Эми, с того раза, как ты, малышка, переступила порог этой холостяцкой квартиры… и даже еще раньше… когда я увидел тебя на лестнице у вас дома…
— Не то… вовсе я не малышка… можешь себе представить, Алоизас, уже нет… Ты женишься на мне, если…
— Если… — донесся голос. — Эми, что «если», дорогая?.. Что «если»?.. Какое «если»?..
— Если я никогда больше на Заречье… к драгоценным предкам… если…
— Если?..
— …И если за все, Алоизас, как ты сказал, надо платить… за любовь и…
— Не понимаю я тебя, Эми… — Его глаза словно оледенели. — Прости, милая, но сегодня я тебя не совсем… что-то…
— Я объясню… Я жду, Алоизас… жду того, что должно быть… ну, что должно быть… ребенка…
— Ребенка?!
Он словно только что очнулся от сна, в котором пребывал все время, вернувшись со службы, от продолжения той, минувшей, ночи, и медленно снял свои руки с ее плеч.
— Если я не ослышался, Эми, ты сказала…
— То, чего никогда не сказала бы даже матери… подругам… Никому!.. А тем более father’y…
— Эми!.. — Он, кажется, вздрогнул. А в голосе появились какие-то странные модуляции. И весь он невольно отпрянул. — Эми… что ты… Дорогая моя, почему же именно… сейчас?.. Когда мы с тобой как будто…
Теперь задрожала она — именно сейчас — и тоже отпрянула: угадала! А ведь Эма так и знала — он ответит: почему же именно сейчас, и угадала еще ночью, когда позвонила эта, все остальное уже сущая чепуха… Туман, да, да, какой-то сладенький туман, — вот чем она жила все эти годы, и лишь теперь Эма поняла это: туман и чепуха, а может, только почуяла, ведь понимание всегда приходит потом, когда не остается уже ничего другого: Козерог обидел Рыбу, а если так… если она, Шобыэттакоепри, однажды взяла и придумала… Так, ерунда, то, что она сказала ему, — сущие пустяки, просто выдумала, чтобы проверить Единорога — как на деле; Эме скоро двадцать лет… Уже двадцать, и она должна знать, что, как и почему на этой земле творится, — может, ей надо не так уж много… Может, даже меньше, чем этой шобыэттакое или ЕГО, Единорога, дорогой… Эми… Простого, человеческого счастья… ну, обыкновенного, занудного, на каждый день, которое суждено всякой женщине… Пусть это пошло, скучно…
— Эми!.. Эми, куда ты?! — услышала она и оглянулась — уже от двери, где она с лихорадочной быстротой наматывала вокруг шеи шарф, связанный когда-то маманей; здесь же, на столике у зеркала, валялись основательно поникшие розы — все те же, купленные ею для отца и кем-то — наверное, самой Эмой — извлеченные из кувшина с его письменного стола: цветы она не оставит здесь. Унесет. Он, конечно, поймет. Должен понять. — Эми, дорогая, что ты вздумала?.. Именно сейчас… когда…
Но Эма уже не слушала ЕГО, своего Единорога, к большому ЕГО удивлению, и уже была за дверью — за той, которую, как она полагала до сих пор, знала лишь она одна (и, понятно, он сам), только она ее открывала-закрывала, — за дверью, где ее поджидала ночь и серая, зыбкая, дрожащая и сбегающая связками лаздинских огоньков к берегу реки неизвестность — —
Тут она увидела Чарли.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
…но он действительно видел ее, Мартин мальчик, как она, полуодетая, собиралась венчаться с Повелителем; удивленный, а то и пристыженный ее наготой (он всегда был стеснительным), мальчик замер на пороге и бережно, как тонкую стеклянную рюмку, держал Эмину руку — не Мартину, как когда-то, а Эмину; Марта даже вскрикнула:
— Он! Ауримас, он!
«Кто?» — донеслось слабое эхо.
— Тот мальчик!
«Какой мальчик, Марта? — И он услышал какой-то отзвук из детства, что-то давно позабытое и неверное. — Какой?»
— Мой! Мой! Он!
И уже бегом по коридору, в самом конце которого, прикрывая друг дружку улыбками, как плащами, взявшись за руки, мчались они оба, мальчик и Эма; она спешила, начисто позабыв, что идет к венцу и что ее мальчик видел, как она готовится к этому; а какое он, собственно, имеет право?.. Так просто удрать от Марты? Увести от нее Эму?.. Ведь только что Эма была в комнате, Марта знает; это Ауримас думает, что там всегда пусто… да, какое право? Он — мой! Слышишь, Эма: мой с самого детства, только мой, хотя и ты ищешь счастья, — ты, Эма, тоже женщина и тоже хочешь счастья, — но ищу его и я, твоя мать, не отнимай счастье у матери!.. Да знаешь ли ты, сколько я из-за тебя ночей… таких, как эта… и даже еще тяжелее…
Не знаешь, Эма, ты, Эма, ничего не знаешь, ведь ты не хочешь знать, ведь тебе ничего не надо знать — ни стынуть за углом дома в ледяной луже с колючими льдинками на поверхности, — стынуть и чувствовать, как тихо и отчаянно немеют ноги от подошв до колеи, а от колен — еще выше; не придется тебе и стирать чужое белье, собранное матерью чуть не со всего городка… А мне, Эма, приходится — даже сейчас, после стольких-то лет, даже когда трудно наклоняться, а еще трудней — разгибаться, ведь ты даже своих пустячков, Эма, не стираешь, не говоря уже о моем, отцовском или еще чьем-то; мне приходится и сейчас, и потом придется, всегда, если… Если не догоню тебя с мальчиком и не скажу вам, что я думаю о жизни человеческой, и чем живу сама, и как, и почему; главное, Эма, почему… А может, это почему скажешь мне ты, Эма, ведь ты в самом деле умница, я верю тебе, в тебя, знаю, у тебя еще будет много всего… ты можешь взять от жизни то, Эма, чего, к сожалению, нет у меня, чего я не могу добиться, потому что слишком много и подолгу простаивала в этой луже — в ту пору в городке никогда не переводилось грязное белье, ты, Эма, еще возьмешь свое и будешь иметь все, чего не было у меня.
Но для начала я нагоню тебя и этого улыбчивого мальчика, мне нужна человеческая улыбка, не унесите ее с собой! И мальчик этот — с тех лугов детства — нужен мне, Эма, так как знаю я его лучше, чем ты, гораздо раньше и глубже, то есть… вернее… Он так грустно напевал, когда мы оставались наедине — например, под елями за школой, или в лесу, или на косогоре у реки, — хотя незадолго до того его голос набатом гремел на собраниях, и так выразительно писал на тетрадных листах…
И будут эти строки…
Эти строки, Марта, достанутся ей — Эме, твоей единородной, твоей любви и страданию, ей одной, твоей слезе и толчкам крови в предсердье, той, что бежит с мальчиком, убегает от тебя, летит по воздуху, мчится без оглядки, потому что не хочет стирать белье — эту гору белья, которую Мартина мать, увязав в полосатую льняную простыню и взвалив на сгорбленную иссохшую спину, приволокла из городка; пропади все пропадом!.. Все, послушай, Ирка: пусть все провалится ко всем чертям; все, моя единственная подруга той поры — той трудной тревожной поры, когда жизнь висела на волоске; тех огненных лет… И тем не менее тогда все было понятней, ясней, по крайней мере мне, а может, и другим… и мальчику, и Ауримасу, не говоря уже о Шачкусе, для которого жизнь — источник… и дно всегда видно…
А тебе, Ирка, тебе все ясно… Он был нужен тебе, и ты его заимела: того, кто стал теперь большим поэтом, — иногда я встречаю его на улице, хотя он не всегда меня замечает… А заметит, кивнет головой — квадратной, с морщинистым лбом, с кудрями до самого ворота; он как будто ничуть не стареет… А у меня бывает такое чувство, будто меня вновь опаляет огнем далекой поры, — нет, разве что дымом, Ирка, огонь достался другим; только остывшим дымом и каким-то тоскливым, так и не разгаданным тобой до конца горьким дурманом, которым дышит пепел тех далеких дней…
И будут эти строки…
Вот я опять его вижу, Ирка!.. С Эмой, своей дочкой, ну и что же — Эма тоже я. Она моя. Как и мальчик, слышишь? Не тот, большой поэт, а тот, скромный, застенчивый, из цветущих лугов детства, мы полетим, полетим, ладно? Нехорошо, обождем, не бросать же Ирку, мы с ней подруги… Бросим — и все, бросим — и все, Ирка никуда не денется, Ирка хитрющая, она старше нас и, говорят, гм, кой-когда с Шачкусом… Неправда, неправда, неправда, тоже нашла донжуана — Шачкуса! — она ведь с тобой, Ирка, твоя подружка, и только с тобой, и при тебе, и при… Ирка тогда сразу же в Вильнюс… и сразу свадьба… скоропалительно, на удивление…
А ты скажи, не скоропалительно, не на удивление? Зачем сбежала? От кого? К кому? Куда? Ведь знала, что я тебе в тетрадку писал стихи… не Ирке, а тебе… тебе одной… ты знала? Знала, ну и что же? Не всегда поступают по знанию, иногда и по незнанию… Но ведь ты знала, что делала? Ах, мне нужен был он! Кто? Тот, внешкор? Каунасский? Да, да, он!.. Надо было ему помочь. Поддержать. Снасти. Так было нужно. Суждено. Суждено? Ну что ж, будьте счастливы. Счастливы! Будем! Только скажи, Марта, — с кем? С ним или с Эмой? С твоей дочуркой Эмой?..
Это страшно, люди добрые! Просто жутко! Вот он остановился и, продолжая левой рукой держать Эму за руку, пальцем правой постукивает ее по лбу: «С ней? С этой гулящей?!..»
Не смей так говорить об Эме, не смей! У тебя есть жена Ирка — и радуйся! Есть — и радуйся! Скажешь, старовата для тебя? Для поэта? Очень большого?
Не будем об отсутствующих.
А я здесь, я здесь.
Но Ирки-то нет.
А о ком будем?
О присутствующих. О тебе.
Обо мне? И что же обо мне?
Во-первых, почему ты тогда… в Вильнюс… не дождавшись, ничего не сказала, обманула… Почему ты, Марта, все забыла?.. По зову инстинкта?..
Не инстинкта, нет! Не инстинкта!..
Неужели, скажешь, любви? Любви к нему, да?..
Не знаю!.. Ах, ничего не знаю!.. Это было так внезапно… И предрешено…
Предрешено? Заранее?
Да.
Стало быть, не внезапно. Стало быть, дружила со мной, а сама думала о другом… И ты это, Марта, знала…
Да, да! Знала! Только увидела его и… Как поступлю… Знала, знала, знала!..
Так знай же и сейчас!.. — он резко убрал руку, которая сжимала Эмины пальцы-стекляшечки, воздел свою руку. — Как поступлю я!.. Слушай!
И будут эти строки Преданьем о любви —Слышишь, милая Марта? Преданьем…
И нож в руке не дрогнет, Пронзая до крови!..Нож? Марта окаменела, не в силах оторвать взгляд от мальчика и Эмы, Марта, в голубом тренировочном костюме, обращенная в соляной столб под бетонным козырьком над входной дверью, под итальянской лоджией; солено-острым полоснула по лицу октябрьская изморось. Нож? Тогда были другие слова! Ты, Винцукас, так не писал тогда! Нет! Нет! Нет!
Да, это началось потом. Когда набрался опыта. Узнал людей. А возможно, только что… когда…
Только что?
Да, этот нож появился только сейчас…
Перестань, Винцас!.. Ты ведь добрый, я знаю! Добрый… Какой нож?!..
Вот этот! — В его руке блеснул металл; Эма как бы спряталась вся в себе. — И нож в руке не дрогнет…
— Ай! — крикнула Марта, словно ощутив этот резкий удар в сердце. И кинулась вперед, точно ее толкнула какая-то сила, выбросила обе руки, голыми пальцами пытаясь ухватиться за острое блестящее лезвие. — Не дам! Не дам! Не дам!.. Подлец! Убирайся! Подлец, убирайся вон! Она моя! Моя и больше ничья! Моя!.. Без нее я умру! Без тебя жила, а без нее — умру!.. Без тебя, без Ализаса… а без нее… Я умру! Сразу! Тут же!
Она вспомнила сон и венчание, и ей стало стыдно за такой свой сон, — вот когда все стало подлинным: здесь… сейчас…
«Не умирай! Не надо! Зачем умирать? Дуреха…» — вдруг услышала она и подняла глаза: на дереве, к которому она прижалась, стучал дятел. Как сердце; колотит, как мое измученное сердце, подумала она; чей это голос? Кто сказал «не умирай»? И почему я здесь? Чего мне надо здесь? У этой реки? В этом лесу? Чего мне вообще надо на белом свете? Чего, Ауримас? Эма, доченька, — чего?..
— — — хоть вспомнишь ты меня, Эма — — — — — —
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
— Эмка, ты… — услышала Эма и зажмурилась, ослепленная резким светом фонарика; Чарли со злостью, как за какой-то изогнутый сук, схватил ее за локоть. — Сюрпризик!..
Эма поежилась, но вывернуться из цепких Чарлиных клещей не смогла, а руку ожгло такой болью, что чуть не выронила цветы. Но она все еще прижимала их к себе — те самые юбилейные розы — и даже как бы прикрыла ими лицо; в висках глухо зашумело.
«Че-ерненький… ко-о-отик…»
Что за чушь! Какой еще котик?..
Это коньяк, мелькнуло в голове. Нечего было пить. Этот «Камю».
— Слушай, — проговорила она, призвав на помощь самообладание и подхватив тот беззаботно-панибратский тон, которым к ней обратился Чарли, хотя отлично знала, что как у нее, так и у приятеля этот тон наигранный, фальшивый. — Давай не будем цапаться, а? И сделай милость, скажи: зачем ты вынюхиваешь меня как ищейка?
— Ищейка?!.. — взвыл Чарли. — Так ты меня за собаку держишь? — Он хватанул побольше воздуха да так и остался с открытым ртом и отвисшей мясистой нижней губой; было темно, и Эма не видела ни его обалделого лица, ни багрового носа, ни растянутого до ушей рта; при желании Эма могла бы выбрать себе чувачка посмазливее, — но тут начиналась ее сугубо личная тайна. Которая сегодня кончится. И, кажется, навсегда… — Я… что тебе… ищейка?!
— Ну, котик… ладно?.. — улыбнулась Эма — сама себе, как умела одна лишь она, будто рядом не было никого. — Страшный черный котище. Согласен?
(Черный? Почему черный?.. — метнулась та же мысль — пеленая, как и все сегодня; почему черный, ведь Чарли — шатен…)
— Черный?
— Черный!
— Эмка, ты мне зубы не заговаривай… Я не какой-нибудь пентюх…
И снова дернул ее за руку — бесцеремонно, как вещь, как собственную вещь, — куда-то во тьму, которая вязким темным сгустком скопилась в арках между домами; где-то поодаль подвывал ветер. Он еще раз бормотнул: «У меня, Эмка, сюрпризец»; и тут они ударились о что-то металлическое и холодное — оба враз и крепко.
— А все из-за тебя!.. Из-за паршивых твоих финтов…
«Черненький… ко-о-отик…» Тьфу ты…
Эма задохнулась от боли; дребезжа, лязгнула жесть. «Финтов? Каких?» — хотелось спросить; она пыталась высвободиться из цепких пальцев, которыми Чарли по-прежнему сжимал ее, не давая шевельнуться. «Каких финтов… скотина?!..» Но не успела и рта раскрыть, со всех сторон «у-у-угу-гу-у!..» — славная «компашка» запеленговала ее, это ясно, но чего им всем от нее надо? Здесь? Сейчас?..
— Я и так с вами… Ну ладно, ребята… Ну ладно…
— Мы — вота! Мы — ту-уточки!.. А Чарли на колесах!
— Как — на колесах?
— Так! Чарли Тарабанщик завел шарабанчик!.. — Вирга подскочила и чмокнула Эму куда-то в переносицу, тем самым как бы давая понять, что она, Лизи, отлично соображает, какое у подруги настроение, — разумеется, преотвратное, и вообще она способна войти в ее положение; чего не случается в жизни! — Карета нашего неподражаемого Чарли! Он поклялся отстоять тебя и умыкнуть из этого дома неволи… несчастного дома неволи, где ты…
«Какого дома? Какой неволи?» — хотела спросить Эма, недоумевая, но хлопнула дверца машины, настоящей, даже в росе от сырости или от долгого стояния, и кто-то, кажется Танкист, довольно грубо — точно мешок какой-то, право, — запихнул ее внутрь; опять больно обожгло правое плечо.
— Какого еще дома?!.. — все же выкрикнула она и со злостью кинула розы (да что она все таскает их, точно кошка дохлую мышь!) — куда-то себе под ноги. — Зачем вы сюда притащились? Чего вам?
Коротенький, молнией промелькнувший миг (дурацкий, дурацкий миг), когда она, казалось, снова вернулась к своим давним приятелям и даже обрадовалась тому, пропал, как и явился, — неожиданно, стремительно и без малейшего следа пропал (в серой ночной сырости обозначились сгустки потемней), и кто-то будто раскаленным железным прессом сдавил ее плечо.
— Эмка, отрава, а вот и мы…
— Что за театр, люди?.. — Она снова разлепила губы — пересохшие и растрескавшиеся, с налетом какой-то незнакомой ей горечи. — Чего вам от меня?..
И невольно исподтишка метнула быстрый взгляд на его окна, хотя собиралась уйти не оглядываясь. Видит? Он видит, что здесь происходит? Куда она попала? Куда была вынуждена уйти? Он знает, что это значит? И что ее ждет?
Но знала она и то, что он не может видеть: темно, а к тому же ей вовсе не хотелось, чтобы он видел; Козерог обидел Рыбу; сегодня их дороги как будто окончательно…
— Чего вам, ну?
— Эмка, ты с на-а-а-ми-и-и!.. — заголосили они, и это прозвучало как хорошо отрепетированный канон; громче и резче других выделялся, конечно, голос Лизи, бесподобной Шалнайте. — С нами, наша шобыэтта!..
— Я с вами!.. — ответила она, словно чему-то обрадовавшись или просто прикидываясь, что рада, на миг позабыв и его, и все остальное, что с ней было недавно, как будто ослепленная всеми сегодняшними впечатлениями, рухнувшими на нее так стремительно, а может, действительно радуясь этой столь неожиданной встрече со своими приятелями, — она, против всякого ожидания, угодила снова туда, откуда как будто вырвалась; не удалось; сейчас она думала лишь о том, что означало все это представление: они выследили; все они, в том числе и Вирга, великолепная Лизи, теперь казались ей чужими и никчемными, как и (всего несколько минут назад) ОН, ее Единорог, рыцарь, не удосужившийся не только попросить прощения или еще как-нибудь (только не так, как он, кажется, собирался, не так!) успокоить ее («Эми, Эми, Эми!..»), но и проводить до двери, вывести на улицу, во мрак, где ее, оказывается, поджидала, подстерегала вся эта банда, как нельзя более чужая и как нельзя более ненужная в этот вечер гнусная кодла шобыэтта; как хотелось отдохнуть! Ничего больше — успокоиться и отдохнуть, вернуться домой или еще куда-нибудь, к какой-нибудь не слишком знакомой подруге, а то и вовсе к незнакомой старенькой бабушке (старенькой-престаренькой, которая ни о чем не спрашивает, не в силах спрашивать), забраться с ногами в кресло (почему-то именно в кресло) с необыкновенно высокими подлокотниками (обязательно с высокими), провалиться в него совсем, уйти, увязнуть в зыбучем плюше (так, чтобы никто не видел ни глаз, ни лица, ничего), ноги поджать по-детски, подогнуть под себя, свернуться калачиком — в точности как в том далеком детстве, кинутом за долгими годами, лицами, домами, но в этот час вновь приблизившемся к ней, чем-то глубоко растревожившем ее детстве Эмы Глуосните, — обнять куклу Жанну, свою верную Французку, и…
— Зна-а-им!.. — выкрикнул за всех Танкист (казалось, он знает все на свете, даже про куклу Жанну), как всегда в таких случаях (когда надо принять решение или еще как-то проявить доблесть) громко шмыгнув носом; Эма сжалась. — А мы зна-им! Н-ну, Эм-кааа!..
Нечаянно или нарочно ткнув локтем Эму в бок (она ежилась на переднем сиденье), Чарли довольно неуклюже, словно чего-то искал и не находил, включил зажигание и дернул рычаг коробки передач; тот скрежетнул, мотор зафыркал, задрожал — не то кого-то пугал, не то сам испугался; приятели друг за дружкой протиснулись в машину; Вирга, естественно, на колени к Танкисту…
— Ну и ну!.. — прошипела Дайва на ухо Эме; там щекотнуло. — Эта все испоганит…
Эма ей не ответила и рассеянно взглянула через ветровое стекло вперед — темно, серо, ничего больше; колени почему-то дрожали.
Что будет?.. Виски точно лизнуло холодным, колючим пламенем — пронзило насквозь; что сейчас будет? Эма, сумасшедшая, глупая лунатичка, что с тобой будет?!
Но особенно раздумывать было некогда, ибо Чарли изо всех сил нажал на акселератор и скачком рванул вперед машину (готовую взорваться от горячего, острого дыхания набившейся компании) из тьмы двора, в которой автомобиль увяз, точно в какой-то каше, и, будто черную рычащую ракету, вытолкнул ее на простор сквозь довольно узкую арку двора.
— Вперед!.. — заорал Чарли, тряся своими дико спутанными, невесть когда чесанными, свалявшимися волосами — этой гривой мустанга, — охваченный не то радостью, не то от-паянием, причину которого знал он один; чувствовалось, что «набрался» он побольше остальных. — Вперед, карета!.. Вперед, кони резвые!..
Вперед? Куда же это? У Эмы запершило в горле, где-то у самого корпя языка; небось все тот же «Камю», аромат которого она все еще чувствовала во рту, и от этого, наверное, еще резче и еще гаже казалась та дрянь, которой нахлебались ее приятели — какая-то дешевая пакость, — и так запершило, что она поняла: не выдержит.
— В Техас! — выкрикнул Чарли.
Да, Керуак — вот это писатель, не то что father.
— А водить ты хоть малость умеешь? — спросила она Чарли.
— Я? — Чарли снова тряхнул своей гривой дикого мустанга, обдавая смрадом, от какого захватит дух и у бывалого курильщика. — Я-а?!.. — Резко и со злостью крутанул руль влево; справа, как нарочно вбитый перед глазами, торчал железобетонный столб с поскрипывающими наверху проводами троллика, отливающими мокрой медью. — Я — умею?! Не хуже Дина, Эмка!.. Точно как Дин! С ветерком, с музыкой!.. Сегодня, Эмка, я… сегодня все умею!.. Сегодня ух!..
— Сегодня ты баран, Чарли!.. Смехота! Смотри, куда прешь!..
Она не знала, откуда у Чарли автомобиль, не понимала, зачем они все собрались под ЕГО окнами (теперь уже видела: все) и что будет еще; она старалась вообще ни о чем не думать, сидишь — и ладно, торчишь тут — и радуйся, крутишься вместе со всеми — и… Ноги вытянуты, отдыхай; спина как бы прилипла к спинке сиденья, боль в плече вроде поутихла, мухи не кусают (Чарли обожает ходячие выражения), чего тебе еще? Чего тебе, Эма? Чего тебе не хватает для полного счастья — все ноешь и куксишься. Чего ты, наконец, хочешь? От них, именно от них? Чего и у кого, кроме своих друзей, ты можешь требовать? Ты их обманула, вот и повинись.
«Перед кем? — ее передернуло. — Перед этими»
Оглянулась и быстрым взглядом окинула всех сразу, своих друзей, кое-как уместившихся на заднем сиденье, — в темноте и тесноте вовсю шло привычное деловитое тисканье. Это было так, как если бы все они пытались есть из одной миски, причем пальцами… Вот чего Эма не выносила — есть из одной тарелки и без вилок-ложек; возможно, и тут виноват ОН. Ведь ОН, конечно, даже представить себе не может, как это так, из одной тарелки, а уж узнал бы, что его Эми…
Но ОН не узнает, никогда, потому что они уже никогда больше… Рыба и Козерог… Он, ее Единорог… И то, что они (Эма знала, знала, знала) уже никогда не будут вместе и ей, Эме, никогда больше не придется, отправляясь к нему, скрываться от мамани (главное, от нее) и от father’a, ее постоянного преследователя, всегда и все знающего и понимающего, ни от своих приятелей, которые как будто еще не оправились от потрясения (иначе не назовешь) — что Эма с другими, — вызвало у нее неожиданное, не совсем попятное даже ей самой, злое и нестерпимое желание расхохотаться.
— Ха-а!.. — затрясло ее в самом деле. — Тарабан за рулем! Мой страдалец Тарабаша!.. Вот это новость!.. Ха-а…
— В Техасе проходили…
— То есть в техникуме, Чарли?
— Техас есть Техас!
— А ведь ты не разбираешь, где право, где лево.
— Эмка… ты у меня сегодня… допры…
— Умеешь, правда умеешь, Чарли, это я тебе без юмора… Сегодня у меня его и нет, юмора… Ты… настоящий наш Дин Мориарти!..
— А, завелась! Хватит с нас Брундзы и Гирдаускаса[55]! — блеснула эрудицией Дайва; «Вечерку» порой читала и она. — Будемте патриотами.
— Нет, нет! Дин!.. Самый настоящий! Неповторимый!.. Скажешь, нет? Мой несчастный, бедный Тарабашечка!..
Вот это было сказано зря; и нечего было класть руку ему на колено, почти упирающееся в руль; Эма сразу пожалела о своей досадной ошибке.
— Э-эх-ма!.. — взвыл Чарли, распираемый бурным самодовольством, которое так и клокотало, бурлило в нем, как вода в котле; глаза блестели, как смазанные маслом, — чем-то он и впрямь смахивал на того лихача из романа Керуака. И так газанул, что чуть не налетел на автофургон, который примостился у самого тротуара недалеко от старой электростанции; везло ему, этому Чарли. Пулей юркнул он между фургоном и грузовиком, который, как нарочно, усиленно сияя фарами, катил впереди да еще волок за собой радостно мотавшийся из стороны в сторону пустой прицеп; Эма ойкнула и закрыла глаза ладонями.
— А это что за чертовы петли?.. — подал голос молчавший все это время Тедди — он забился в уголок у самого окна и даже налез на окно, хотя машина, Эма чувствовала, была просторная и удобная («Волга»?); рядом покряхтывала и постанывала Дайва. Эма старалась ни на миг не выпускать из вида Виргу с Танкистом, этим быдловатым типом из Киртимай, который опять клеился к Шалнайте, — хотя парочке уже было море по колено: уткнув носы друг дружке в шеи, они радостно хихикали; резкий толчок вынудил и этих очнуться.
— Что, уже? — спросил Танкист, нехотя отнимая щетинистую свою морду от Лизиной груди, в руке у него темнела бутылка. — Уже приехали, барышни и га-аспада?
— Заткнись! — изрыгнул Чарли и так же резко, как только что при обгоне, остановил автомобиль впритык к фургону; покамест его ралли шло как по графику… — Он еще, сукин сын, спрашивает!.. Еще он сира… — Он повернулся боком к Танкисту и вырвал бутылку у него из рук.
Эма открыла дверцу.
— Я пешочком, братцы… — сказала она. — Я, представьте себе, еще жить хочу… А с такими извозчиками…
— Не-а!.. — Чарли схватил ее за руку — ту, что ныла от боли, — и дернул на себя. — И не думай драпать!..
— Драпать?!
— А ты думала!.. Раз уж я тебя нашел… и приехал забрать…
— Да ведь ты пьян!.. — Эма обвела воспросительным взглядом всю компанию; никто не раскрыл рта. Только глаза блестящими пуговками горели в темноте. — Ты же лыка не вяжешь, Чарли, и с таким в одной машине… ни за что…
— А он протрезвеет!.. — Тедди тоже выполз из машины. Потянулся. — Чистый воздух, знаете ли… Не отказываться же от турне из-за такой мелочи!..
— Что, по-твоему, мелочь? — уточнила Эма.
— У нас дефицит водителей…
— Ой, я тоже не еду!.. — взвизгнула и Дайва, выкатываясь из машины следом за Тедди, мимоходом она бросила взгляд на Виргу с Танкистом и вполне выразительно хмыкнула; однако те, занятые друг другом, казалось, и не собирались выходить.
— Давайте сюда! — снова рявкнул Чарли и взмахнул полами куртки; можно было подумать, он кого-то ловит в темноте — вроде бабочек. — Дайте бутылку, ну!..
— Чарли!.. Кончай, Чарли! Или я… без дураков… — попыталась урезонить его Эма.
— Шлюха ты, Эмка… — Чарли зыркнул на нее глазами. — И все равно я тебя… ух!
Он изо всех сил тряхнул Эму за плечи, потом придавил к машине и поцеловал; сухие соленые губы царапнули по щеке будто наждаком.
Но Эма не пыталась оттолкнуть его, только отвернула лицо.
— Шлюха ты, Эмка, я знаю… но я тебя… ух как я тебя… люблю и…
— Любить? — Она словно опомнилась от странного дурмана, в котором жила весь этот день; хотя коньяк, выпитый вместе с НИМ — в их последний раз, — все еще бродил в крови, язвительно, тонким покалыванием отзываясь в висках. Чарли был страшен. — Любишь? — Она попыталась оторвать от себя его горячие, как уголья, пальцы, но тот еще крепче, еще грубее рванул ее на себя. — Разве это любовь?.. Разве это любовь, Чарли?..
— Любовь! — Чарли задыхался. — Или я хуже этого фраера… этого бобра из архива?.. Чем? Чем я, Чарли, хуже этого гада?..
— Отстань!.. — Она вся подобралась и вдруг ударила его кулаком в грудь, но тут же, охнув, прижала ушибленную руку к губам. — Отстань, ты… скот!
— Силком ни-льзя-а!.. — Из машины высунулась голова Танкиста. — За такое — зна-ииишь!..
Он ухватил Чарли за полы куртки и подтащил к машине.
— Садись!..
Тот, ни слова не говоря, забрался на сиденье, включил стартер и несколько раз посигналил, сзывая всех; больше он на Эму и не глядел, и она тоже сидела рядом как ни в чем не бывало; не то еще случалось. Завтра Чарли пожалеет о своем безобразном поведении… впрочем, кто знает, что будет завтра…
Они куда-то ехали, и это было главное, а все остальное ерунда по сравнению с этим ощущением движения, дурманящим, точно какой-то газ или коньяк, с этой все нарастающей и будто самостоятельно несущей тебя вперед скоростью… Куда-то они стремились, зачем-то ввинчивались в ночь, как стрижи, или как комары, или, может, как астронавты, готовые прошить темень столетий, — куда-то вдаль, вдаль, куда вели их постепенно блекнущие дорожные огни…
С каждым фонарем или отблеском в окне придорожного здания, с каждым столбом, деревом, кустом, даже с каждым оборотом колеса Эма все больше (она это чувствовала, представляла, понимала) удалялась от НЕГО, Единорога, от своей судьбы, с такой легкостью обещанной звездами, от этой лжи… лицемерия… предательства… дальше дальше дальше… Эма, невезучка, — дальше…
И это сейчас было самое главное — — — — — — —
Удар был бесшумный и быстрый — ничтожная доля мгновения, но и доля может длиться бесконечно. Сначала она увидела Чарли, да не одного, а с отцом; оба сидели в машине, и не как-нибудь, на бурых кожимитовых сиденьях, а в уютно накрытых холщовыми чехлами старинных вытертых плюшевых креслах; сидели друг против друга и пыжились, как два черных кота с выгнутыми спинами (почему коты? почему черные?), и сверлили один другого горящими зелеными глазами; впрочем, возможно, глядели они на Эму. Да, на нее — на маленькую и косматенькую, кем-то и где-то напуганную, откуда-то убежавшую, обиженную, истерзанную, униженную, но все равно гордую и не уступившую, покинувшую Единорога и бежавшую под защиту детства — назад, домой, к отцу, на колени к пааапочке, ее father’y, ее вечному деспоту, даже, может быть, извергу, для которого она бегала покупать розы, а теперь вот теребит их оттопыренные, точно ушки кувшина, жалобно торчащие красные лепестки… А за окном… на черепичной крыше их гаража…
— Черный?.. Опять?..
— Опять.
— Прогоним его!.. Споем-ка!..
Чеерненький… ко-от-тик…
Да, да, да! Вечно он там — стоит лишь Эме вбежать в отцовскую комнату и забраться к отцу на колени, стоит лишь захотеть рассказать ему (папочке, папусику, папулечке), что поведала ей сегодня ночью кукла Жанна, этот гадкий черный котяга немедленно вскакивает на крышу их гаража и, выгнув дугой тощую и неровную, как колья забора, спину, задрав кверху грязный куцый, какой-то вывалянный в чем-то хвост, начинает подкрадываться — очень грозно, глаза огромные, зеленые, точно фары, иногда и облизывается, — и по самому краю, по кромке… все ближе, ближе к их окну… к ним с папой…
Чеерненький котик… зеленые глазки… — различает она отцовский голос (ее папа, папочка, папулечка) — сквозь туман, дым, затихающий лязг и грохот металла, — поющий их песенку, их и ничью больше; различает и внезапно вспоминает все, все, что только что было, а может, и есть, может, еще и будет, сейчас, через мир, — потому что никакого отца здесь нет, только она да Чарли, и, может, кто-то еще, неизвестно, — но Чарли точно есть, тут, за рулем, пьяный, здесь и за рулем; и дорога узкая, блестящая, скользкая, извилистая, какая-то совершенно незнакомая ей дорога, черной тугой петлей сверкнувшая перед глазами в тот последний миг, в эту ничем, разве лишь мыслью, не постигаемую долго мига; эти блюстители, может, и настигли бы, если бы Чарли не газанул и если бы впереди как судьба или как перст некоего совсем неизвестного бога совсем незнакомой и потому чужой им страны…
Спинка дугою… хвостик трубою… смотрит в окошко на Эму-у-у…
Кто? Кто смотрит? Неужели кот? Папа, кто!..
— Чарли… Тормози!.. Стой!.. Каролис!..
Но он не слышит — Чарли, страшный Тарабан; его глаза — белый холод смерти, весь он незнакомый, невиданный, впервые названный Каролисом ее Чарли…
…на Эму-у-у…
— На меня? — кажется, еще вскрикивает она, мгновенно постигнув, что́ это все значит. — Кот на меня? Черный? Противный! Сожрет меня! Сцапает! Разорвет! Паааапа!..
— — — и лишь тут почувствовала удар — — — — — —
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
— А я собирался к тебе зайти… Не звать же начальство сюда…
— И зачем?
Глуоснис посмотрел на Шачкуса, словно стараясь вспомнить, где и когда видел он этого человека, — а ведь узнал сразу.
«А этот что надумал?»
— Но сейчас, товарищ Глуоснис, это, наверное, не имеет значения…
— Говори!
— Да ведь я… всего лишь милиционер… А ты… начальство… Хотя было время, когда…
— Да что тебе надо?
— Отдать вот это… — Шачкус взял со стола красную книжицу; Глуоснис догадался: это паспорт. Эмин паспорт.
— Мне?
— Кому, как не отцу?.. Тут же фото… — Шачкус прищурился, будто стянул к глазам морщины со всего лица; брови, как и волосы, были седые, даже с желтым отливом. «А был совсем черный, — подумал Глуоснис. — Как ворон или… Сколько же ему сейчас лет?.. А дети есть?.. Были?..» — Кому, как не отцу… — повторил он, но уже гораздо тише. — Возьми.
Глуоснис вздрогнул.
— Нашли там?..
— Нет, нет!.. — Шачкус махнул рукой. И этот жест, как и раньше голос, показался Глуоснису усталым. Или тяжелым, как годы. Как засевшие где-то в пригнутых к земле плечах годы. — Из ресторана прислали… оставлен был как залог…
Глаза, кажется, сами оттянули голову книзу. Отцовские глаза. Его, Глуосниса.
— А те… остальные?.. — спросил он. — Они как?..
— Живы… — Шачкус вздохнул. Вздох был как поднятый вверх и снова с силой упавший камень. — Пьяных сам черт не берет… Должен ведь кто-то ответить за машину, да и за все…
Теперь махнул рукой Глуоснис — тяжелой, свинцовой…
И повернул к двери.
Шачкус шагнул к окну, отвел занавеску и сквозь квадрат решетки проводил его тусклым взглядом измотанного, недовольного собой человека, а потом порылся в раздутом кармане брюк, вынул оттуда старые очки с треснувшим стеклом, водрузил на горбатый, в последние годы особенно удлинившийся нос, сел за стол, зачем-то еще раз вздохнул и тонкими голубоватыми пальцами раскрыл папку — — —
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Вот как оно бывает, Бриг, и не в книгах, а в жизни, самой взаправдашней: было все — не стало ничего. А ведь кто-нибудь скажет: неправдоподобно, неубедительно. И слитком, пожалуй, жестоко — две смерти сразу, в один и тот же день, даже, может, в один час, не знаю; две, и обо абсурдны; неужели это правда? Или их смысл, Бриг, именно в том, в этой бесцельной, на первый взгляд, гонке жизни и смерти, в их бешеной игре; кто кого? В той обыденности, обращенной в миф, призванный поучать человека, которая движет всей нашей жизнью? В той иллюзии покоя, какой поддался я, сын бурной поры, еще тогда, когда на все махнул рукой и в тряском, тарахтящем вагоне тех лет из самого захолустного сувалкийского уголка двинул в столицу, княжий город Вильнюс, с намерением все на свете — всю свою жизнь — начать сначала. И начал, и вроде бы не так плохо; чему-то, кажется, научился у прошлого; теперь придется доучиваться. И опять начинать все заново… Ведь жизнь, Бриг, — сплошное начало, неважно, сколько тебе лет и что ты пережил, и сплошная надежда. Надежда на то, что все еще переменится, да-да, причем в нужную тебе сторону, хотя, может, и это мираж, иллюзия? Даже если и так, Бриг, даже если только надежда — цена человеческой жизни, — примем ее, ведь не будь того… Тогда, Бриг, не имело бы вообще смысла жить на свете, и быть, и что-то делать, предпринимать, к чему-то стремиться… Ибо какой, Бриг, может быть смысл без веры и надежды, зачем ночь, если не ждать утра? И даже тогда, когда, казалось бы, надеяться не на что, когда воочию видишь, что все осталось во вчерашнем дне и ничего нет для сегодняшнего, — даже тогда, Бриг, надежда выручает нас. Ибо, повторяю: если бы и ее отнять — — — — — — — — —
Засвербило пронзительно, где-то в самом мозгу, и Глуоснис не вдруг понял, где находится; почудилось, что это она… Она, Марта, о которой он думал все эти дни и которую повсюду искал с того самого часа, как решил: он пойдет. Пойдет и скажет: неправда. Что «заложник», что хотела придержать ради себя… Неправда! Все, что он выкрикнул там, в кабинете Шачкуса, много лет назад, там, на базарной площади, под теми, висящими на скрученных синих проводах, тоскливо раскачивающимися лампами… Он не такой…
«Ах ты!..» — услышал голос и оглянулся: где же он все-таки? В больнице, стоит на лестничной площадке, прямо перед палатой «116», и усталыми глазами невыспавшегося человека смотрит прямо на Сонату, это она сказала: «Обязательно». И, видимо, не забыла своих слов, даже, может, поджидала его. Иначе как объяснить, что вот уже вечер (Марта все не возвращалась, Эма тоже, где-то в груди что-то настырно ныло), темно, а она все на работе? Дежурит? «Ах ты!.. — кажется, она больше удивилась, чем обрадовалась, хотя он все же послушал ее и приехал. — А мы с Казисом тебя ждали!..» — «Когда? — спросил он. — Сегодня?» — «Вчера!.. — Она улыбнулась так, чтобы он видел, какие у нее красивые и здоровые, как крепкие орешки, белые, как сахар-рафинад, зубы. — На банкете, тогда… ты ведь мне обещал…» — «Что?..» — чуть не вырвалось сквозь плотно сжатые губы: а вдруг правда? Вдруг он правда что-то ей обещал? Но она сказала: «Обязательно», — и он здесь. И он скажет Оне, что тогда… в кабинете у Шачкуса… «Не понял… — Соната с грустью покачала головой, орешки или сахар-рафинад уже были убраны на место; она даже сделала шаг по направлению к нему, как бы заслоняя собой дверь. — Ты, мой друг, опять меня не понял… А ведь все еще можно спасти…» — «Спасти? — Он пожал плечами. — Да что именно?..» — «Хотя бы репутацию…» — «Репутацию?» — Да… Твое доброе имя…» Он недоуменно посмотрел на нее: «Соната, я, честное слово, не совсем…» — «Ты — не совсем?.. — Она не мигая смотрела на него в упор. — Ты совсем… — покрутила пальцем у виска. — Дался тебе этот роман Казиса, ей-богу! Ну, вздумал человек поиграть…» — «Вот как — поиграть?» — «А почему бы нет? Запретить ему, что ли? Ведь каждый, говорят, по-своему… — «Ты полагаешь? — спросил Глуоснис, хотя вовсе не хотел, чтобы Соната в таком духе — как бы желая ему угодить — говорила о своем Даубарасе. («У него есть геи… — вспомнилось. — Ген настоящего мужчины… И уже потому лишь я с ним…» Когда это? А, когда-то и где-то; весь этот разговор становился несносным.) — По-твоему, это… игрушки?..» — «Я уверена… Каждый пенсионер нынче пишет. Оправдывает себя, поучает, наставляет других… Что в этом плохого? Думаешь, водку пить — лучше?..» — «Ну, товарищу Даубарасу эта опасность как будто…» — «Как знать, — вздохнула она, — кому что суждено… Что будет завтра с нами… Как бы прочно мы себя ни чувствовали — придут другие… Сколько вас осталось — довоенных, послевоенных… Все ли могилы мы знаем?..»
Глуоснис закрыл глаза, словно пытаясь что-то припомнить: показалось, что перед ним не Соната, а Даубарас, все тот же Даубарас, но говорила Соната словами Даубараса, хотя и не его голосом; и все же Глуоснис физически — как когда-то в Каунасе, да мало ли где! — чувствовал у себя на плече тяжелую, зовущую к повиновению руку… «Правда, Соната, — проговорил он, поглядывая через прикрытое белоснежным халатом округлое плечо на номер «116», — а что, если Оне все слышит… если она все слышит и… Та нашла время… и, я бы сказал, самую подходящую тему для такого случая…» — «А ты думал! — повела она глазами — живо и даже со злостью. — Что я жива одними аллергиями да диабетами своих больных? Только тем и живу? И я, Ауримас, интересуюсь… как все… И о жизни задумываюсь, и о будущем… И поверь, не всегда мне хочется только петь и веселиться…» — «Тогда к чему весь этот разговор?» — «Не прикидывайся, Ауримас!.. — Соната покачала головой. — Ты лучше моего знаешь, к чему… Ведь не свалится с тебя корона, а тем более голова, если ты возьмешь да и напечатаешь… разве у вас не идут и похуже?» — «Соната! — Он слегка задумался. — По-твоему, это так просто… печатать или не печатать…» — «Да ну!.. — Она повела рукой; блеснул камень дорогого перстня. — Да ну уж!.. Укрепить положение не пометало бы и тебе…» — «Как это?!.. — Он поморгал глазами, запах лекарств разъедал глаза. — Ты, Соната, сказала…» — «И сказала! — Она высвободила вереницу зубов-орешков, сахар-рафинад, обращенный в широкую улыбку. — Стараюсь, как видишь, для тебя!.. Ведь тебе, Ауримас, еще жить надо… редактировать или писать, чтоб другие редактировали…» — «Но… — он хрустнул пальцами (волнуется). — Но… насколько мне, Соната, известно… звонила ты вовсе не для того… а потому что в вашей больнице… в сто шестнадцатой палате…» — «Конечно… — взмахнула она рукой, и снова резким солнечным лучом — а то и беспредельно сытым благополучием и ослепительным самодовольством — вспыхнул камень в ее кольце, и браслет, и часы на гладком мягком запястье. — Конечно же, конечно не для того… но, к сожалению, наша больная уже не хочет тебя видеть…» Ничуть не скрывая своего превосходства («Как Даубарас, как Даубарас», — подумал Глуоснис), Соната обожгла его дерзким и вызывающим взглядом; Глуоснис вспыхнул. Это было глупо, он знал, так внезапно краснеть, как девица, но что он мог с собой поделать? «Прости, Соната… — пробормотал он. — Еще раз прости, но…» — «Да что я могу?! — Она задрала подбородок, заблестели дрожащие серьги-капельки. — Скажи: что?.. Если больная отказывается? Пропала охота, понимаешь? Желание больного для нас закон… Конечно, если это не каприз какой-нибудь и не психоз…» — «Пропусти меня, Соната!.. — воскликнул Глуоснис; он сам не заметил, как повысил голос. — Знала бы ты, как это важно для меня!..» — «Для тебя — это я знаю!.. — Соната покачала головой вместе с этими серьгами-капельками. — А для нее, Ауримас… Не хочет она видеть ни тебя, ни сына… Корпит он тут в архиве… хотя, говорит, однажды заходила… проверяла крыс…» — «Как это — крыс?.. — Глуоснис вытаращил глаза. — Каких крыс, Соната?..» — «А, успокойся… К тебе это отношения не имеет… И ты знай; ничего ей от вас не нужно… ни от кого… ей бы только выздороветь и вернуться на работу… После того как у нее побывал Шачкус… и повинился…» — «Шачкус? Какой?» — Глуоснис пронзил ее острым взглядом. Шачкус! «Тот самый, — кивнула Соната. — Майор милиции… Они, говорят, земляки… и в юности… кто там разберет… Но ей теперь как будто полегче… И я даже думаю, что при желании ты бы мог с ней в городе… у нее дома или еще где…»
«Дурак, дурак, дурак!.. — чуть не вслух разносил он себя, сходя вниз по лестнице, в гардероб. — Зачем приперся? На что надеялся? На отпущение грехов? Катарсис? На что?»
Обескураженный, разбитый, выдохшийся без остатка, держась за перила (люди уступали дорогу), он спустился в подвал, подал старенькой гардеробщице номерок, надел пальто. Почувствовал странный, какой-то внутренний озноб; он встряхнулся, на ходу нахлобучил чуть не на самые глаза черный, основательно измявшийся в кармане берет, открыл наружную дверь. И здесь было сыро, накрапывал дождик, задувал колючий ветер; он втянул голову в жесткий воротник пальто, сгорбившись добрел до стоянки автомобилей. Машины не было… «Оттерли куда-нибудь в сторонку…» — решил он, вспомнив, что оставил свободной коробку передач и совсем не включил тормоза; пригляделся внимательней. На почти пустой стоянке в вечернем сумраке стояли все те же «Жигули» с поцарапанным крылом и желтый «Москвич»; ни одной «Волги». Глуоснис сунул руку в карман пальто и пошарил там в поисках ключей; их не было. Он понял и, кипя досадой на самого себя, громко и отчаянно скрежетнул зубами…
Телефон все трезвонил, Глуоснис снял трубку и со вздохом приложил ее к уху: не она… Не Марта, к сожалению… Конечно, надо было остановить, удержать, превозмочь эту дурацкую, обволакивающую сознание злость, — нет, нет, оскорбленное самолюбие, — и догнать ее, обхватить, привести назад, уложить в постель… Или на диван в «зеленой» комнате, не все ли равно где, лишь бы уложить, укрыть, закутать, — только бы никуда не уходила, не рвалась уходить, никуда, ни к кому, ни к какому Повелителю, ни даже к врачу, к этому Раиле… Ауримас сам отвез бы ее… на своей машине… они могли бы даже поехать куда-нибудь вместе… вдруг она согласится… хотя бы в Друскининкай… в Любавас…
Дурак! В Любавас! В какой еще тебе Любавас?.. Где начало всего… Дурак!
— Что с тобой, Глуоснис?! — услышал он и съежился, да и голос был откуда-то изнутри, как бы из него самого: жирный, всем на свете довольный голос. — Чего ругаешься?!
— Слушаю.
— Ругаешься как сапожник, а не слушаешь!.. Третий раз звоню, а ты все… Даубарас это, старик. Казис Даубарас, ты слышишь?
— А, здорово! Не разобрал…
— Понимаю… — вздохнули там, на другом конце провода; и вздох этот снова прокатился по всем нервным окончаниям — как ветер или эхо от взрыва. — Понимаю и, знай, сочувствую… Так и не вернулась?
— Нет…
— Скверный случай… Соната меня просветила… — Даубарас помолчал, в трубке что-то продолжало потрескивать. Почему он молчит? Начальничек его? Этот хрипловатый властный голос? Так долго… — А дипломы ты все-таки…
— Какие дипломы?
— Юбилейные… Ты забыл их, Глуоснис, на столе… около винегретов и яиц в майонезе… Алло, Глуоснис, ты что замолк? Что-нибудь случилось еще?
Еще? Что же могло случиться ЕЩЕ?
— Ничего… Можете их в унитаз…
— Что? Что ты сказал?
— Все.
— Как это — все?
— Ну, дипломы эти… Утопите в унитазе.
— Ну… дружочек… Такою цинизма и неуважения…
— Помогай вам бог!.. Привет Сонате!
И грохнул трубку, и мазанул ладонью по упавшим на глаза волосам, и огляделся — где же он? Как и несколько минут назад. И опять, как несколько минут назад, взрывая наступившую внезапно, тысячами реактивных самолетов, — нет, нет: мириадами вечно дрожащих, вибрирующих, воющих космических тел и частиц клокочущую тишину, — снова где-то, как бы внутри него, настырно и требовательно заверещал телефон —
…Но, может, то было не в один и тот же день, Бриг? Скажем, через неделю, две? Потому что я и жил, и не жил, и был, и не был, как когда-то в Любавасе, в землянке, хотя расхаживал, ел, разговаривал — больше сам с собой; говорил я и с Мартой, Бриг…
«Марта, — сказал я, и ты, Бриг, не смейся надо мной, — я не предал тебя, Марта… Хотя и мог… как могла и ты… За что же мне такая кара, Марта?»
«Нет, Ауримас, ты меня предал…»
«Когда, Марта?»
«Когда поехал в Вильнюс… когда согласился уехать…»
«Но ведь, Марта, тогда…»
«Да, это я тебя подбила, уговорила… увезла… Но если бы ты был настоящим мужчиной…»
«Ну, Марта…»
«Ты мог остаться! Не уезжать! При желании ты бы мог добраться до Вильнюса и без Любаваса…»
«Наверное, нет».
«Ну, без меня… Мог!»
«Да нет же… раз уж мы уехали оба… вместе…»
«Мог!.. Достаточно было попросить у Шачкуса автомат и доказать, что все это неправда… ложь…»
«Что неправда? О чем ты, Марта?..»
«Что ты трус! Что дрожишь только за свою шкуру! Думаешь только о том, как бы уцелеть…»
«Но я пишу книги!»
«Ты? Книги?»
(Ясно, что этого Марте говорить нельзя. Мете — можно, Винге — можно. Даже Сонате или Оне. А вот Марте… даже сейчас…)
«Какие еще книги, Ауримас? Ты о чем?»
«О жизни…»
«Какой и чьей?»
«Ну, человеческой… ну, Марта, сама знаешь…»
«Знаю… И потому говорю: ты должен был остаться… так было бы лучше… Может, там ты нашел бы то, чего тебе не хватает по сей день, а не хватает той соли, той начинки, без которой вся жизнь имеет пресный, даже противный вкус… как накипь, шум…»
«Я повторяю: это ты меня вытащила…»
«И я повторю: откуда, Ауримас?»
«Из Любаваса!»
«Может, просто от Фульгентаса, а?.. От этого жалкого пьянчужки! От стола, к которому ты когда-то прилип как муха?..»
«Как муха?»
«Именно. Был бы ты настоящим мужчиной…»
«Опять! Опять ты об этом…»
«И буду!.. Если бы ты, Ауримас, был…»
«Настоящим мужчиной, да?»
«Ты бы…»
«Остался там, что ли? Ты это хочешь сказать, Марта?..»
«Спроси у Оне… Не так уж глупа эта деревенщина, не так наивна, Ауримас… И, может, даже я… ничего не видя вокруг себя…»
«Ошибалась? Да? И ты? Даже ты?»
«Может… даже… Может, даже я, Ауримас… Хотя у женщин о таких вещах не спрашивают: ошибалась, говоря о другой, или не ошибалась… И ты не спрашивай… Не узнаешь… Особенно, когда на пути у обеих…»
«Понял… Но… даже сейчас? Ты не скажешь, Марта, даже сейчас? Когда…»
«Даже сейчас».
«Ладно… Но… Если бы ты, Марта, не вынудила меня… не пришла бы и не увела на вокзал — нам сегодня, может, не пришлось бы так разговаривать… Так не слишком весело… И, может, даже… Сказать?»
«Какие уж между нами тайны, Ауримас…»
«Может, Марта, сегодня ты была бы женой, счастливой супругой большого поэта… И ничего бы не случилось, Марта…»
«Ах, перестань! Не смей об этом! Что ты знаешь? Что ты понимаешь!»
«Знаю, что ты… Не сердись на меня, Марта!.. Я глуп, но… И дурак имеет право высказаться… особенно после всего…»
«Ну, говори!..»
«Ты ведь Ирке завидуешь, Марта!..»
«Что ты — я?!»
«Да, Марта. А почему?..»
«Переста-ань!.. Вовсе не соображаешь, что говоришь! Особенно в последнее время… Что говоришь и особенно — что делаешь… Вот почему твоя дочь Эма… потому и дочь твоя Эма…»
«Молчи! Молчи! О ней… опять ты разрываешь мне…»
«Ты не знаешь женщин, Ауримас… Слышишь: не знаешь!.. И если бы тебе пришлось еще когда-нибудь искать подругу жизни — —»
— Вам посылка!.. — воскликнул юный, бодрый голос, едва лишь он отпер дверь; из-за плеча почтальона — девушки примерно Эминого возраста — улыбнулось солнце; солнце?
Он нахмурился. Значит, время идет, идет…
— Спасибо, — сказал он. — Большое вам спасибо.
— Не за что.
Дверь захлопнулась, опять потянуло сыростью; он без всякого интереса взглянул на кое-как кинутый на диван не то фанерный, не то картонный ящичек…
Дзинь…
— Винга?!..
— Я… — Не спеша затворила дверь (вспыхнуло солнце), вытерла о коврик туфли на желтой каучуковой подметке и снова входящих в моду узких каблуках. Посмотрелась в зеркало на стене. — Не ждал?
— Кто бы, Винга, мог подумать…
— Что посмею, да?
— Что так получится…
— Да. — Она взглянула на Глуосниса. — Никто… — Зачем-то обвела взглядом комнату. — Можно мне присесть? На минутку?
— Что ты, Винга!..
— Я ведь не знаю… можно ли мне зайти… имею ли я право…
Она пожала плечами, но села, положила на колени сумку, щелкнула замком, что-то поискала… Сигареты?
Но не вынула, ждет…
— Не хотела раньше беспокоить… — сказала она, глядя ему прямо в глаза; от ее взгляда ему стало не по себе. — Тем более не стану упрекать, что не приехал в Каунас, ну… на Девятый форт…
— Но, Винга!.. — Он с трудом вспоминал: на форт? Обещал? Опять? Опять… сначала…
— Это глупо, я знаю!.. И пришла я не затем, чтобы высказывать обиды…
Он вопросительно поднял глаза.
— Хочешь спросить: зачем, да? — Винга поморгала глазами. — Зачем я здесь?
— Я не спрашиваю, но…
— Я всегда это знала… не ты один… — Она крепко сжала ручку сумки, будто держалась за какую-то спасательную веревку. — Он меня растил, потому что… ну, доктор и моя мать… Понимаешь?
Он закусил губу.
— Не понял?.. Знал… и не понял? Как же так?
— Нет, нет!.. — покачал он головой. — Не то!.. Не хотел верить тому, что знал…
— Странно…
— Странно… Знать и не верить?
— Да.
— Поэтому ты… верил? Знал; ложь, и молчал?
— Может, и так.
Она вздохнула.
— Для кого это имеет значение, Глуоснис, — проговорила она, — что именно человеку лучше? Даже он сам и то не всегда…
— И потому… — Он исподлобья взглянул на нее. — Ты ездишь… туда-сюда… чтобы забыться?.. Или оправдать себя… Успокоить совесть…
— Вижу, ты правда не понял… Глуоснис… — По Вингиному лицу скользнула тень. Разочарования? Не в нем ли?.. — Ты ничего не сообразил, Глуоснис… — («Она говорит только — Глуоснис, ты слышишь?») — Неужели я могла найти то, чего никогда не было? Хотя должно было быть… и именно так, как я себе представляла, не иначе… потому что за это уже заплачено… Ну, в детстве я, может, правда верила в это… в эту ложь, в этот удушливый обман… Нет, нет: в голодный мираж… он был так нужен мне, поверь… Что и у меня что-то есть, пусть я не знаю, как родилась, и что-то настоящее, может, получше, чем у других… А потом… сам знаешь… привычка и осмысленная иллюзия… Зато там, вдали от дома… никакого Абдонаса и никакой…
Она о Марте? Он вдруг побледнел. Винга? Как она смеет? Здесь и сейчас? Сейчас?..
— Что же ты еще скажешь?.. — выкрикнул он, и это было непривычно — таким голосом, в таком тоне он с Вингой никогда не разговаривал. И сейчас, конечно, не стал бы, если бы… если бы она сама… — Что ты, Винга, еще… Зачем пришла? Ты хоть знаешь?
— Что я еще могу сказать?.. — Она приподняла плечи и улыбнулась грустной улыбкой, как умела только она одна, такую Вингу он знал неплохо. — Что еще… Разве то, что у меня, наверное, родится…
— Родится? — Он изумленно раскрыл глаза. — Только что ты мне сказала… что твой Абдонас… и ты… что вы не…
— Сказала… — Винга кивнула — знакомое, решительное и вместе с тем изящное движение. — Сказала только, что и сейчас скажу: родится… Ну, не от тебя, к сожалению… И… не от Абдонаса, но все равно… И ему уж не придется в канализационном люке… будем надеяться, что не придется…
— Ему? Ребенку?
— Ну, и мне… его матери… какая разница?.. Судьба одна и та же…
Она быстро отвернулась и даже поднесла к глазам руку, хотя глаза у нее, Глуоснис видел, были сухие, только сверкали каким-то странным, не виданным прежде упорством.
— Ну, а он… Абдонас? — спросил Глуоснис опять же повышенным тоном. Почему? Разве ему не все равно теперь, после всего? Как он?
— Он?.. — На Вингином лице не дрогнул ни один мускул. — Он достал новые марки… Полинезийские или какие-то… Если тебе интересно, можешь ему позвонить… И не бойся, меня там не будет… Больше не будет…
— Не будет?
— Не будет, — кивнула она. — Если можешь, дай сигаретку… Я свои забыла…
Он подал — впервые за все время их знакомства, — нет, нет, дружбы. Хотя по давним его принципам, еще молодой поры, женщина, которая курит… которой ты сам предлагаешь сигарету…
Спичку она зажгла сама.
Он устало прикрыл глаза: кончится… Сейчас, Глуоснис, пройдет. Прошло. Уже… И я, Марта, тебя не предал….
— Все… — произнес он едва слышно.
— Ты это… мне? — она встрепенулась.
— Себе. Только себе, Винга…
— Никуда не годится, Глуоснис… Наверное, придется тебе переменить манеры…
— Не думаю.
— Надо будет — задумаешься… Еще как задумаешься, Глуоснис… увидишь!..
Она встала. Гуки дрожали. Сумочка ерзала. Губы дрожали.
Но не произнесла ни слова, старательно обмотала горло шарфом, надела пальто, шагнула к двери.
— Но думаю… — встал и он. Точно со сна. Точно не он.
«Где же ты будешь? Где тебя искать?! — кажется, порывался крикнуть тот, прежний. — У Юодишюса?» Это было бы страшно; тот, другой в нем зажал рот. Глуоснис отвернулся.
«Не предал… — Он вернулся к себе в комнату. — Не-ет!»
А она ушла… Легко, как кусок пенопласта, толкнув дверь (опять это солнце), так же легко переступая, спустилась под цементную кровельку-козырек… Размахивая рукой, в которой тлела сигарета… потом светлые каблучки протукали по асфальту…
Теперь он вспомнил о посылке — о ящичке, не то фанерном, не то картонном, что лежал на диване; осторожно, словно внутри находилась мина, открыл.
Кукла!.. Как это, Глуоснис, — кукла?! Почему?!
«А… Эрика!..» — вспомнил он, вот уж кого позабыл так позабыл. Эту фрау… нет, нет… мадам! Эрика Кох из Кельна, первая хиппи среди аристократов и — помню, помню, помню! — аристократка mammy среди хиппи; напомаженная, надушенная старушка Европа, чей вздох… шуршание крахмальных кружев…
«Обещала прислать маски… — писала она на карточке с позолоченными краями, которая зачем-то была вложена в ручки нарядной куклы с выпуклыми, точно вопрошающими глазками, — но они показались мне слишком страшными, не хочу тебя пугать… («Меня? Что теперь может напугать… меня?..») Посылаю подарок понежней — я привезла эту куклу с собой из Кельна, но здесь ее и подарить некому, а ты говорил, твоя дочка (по-моему, Эмилия?) все еще поигрывает в куклы… Назовите ее Бригитой… Ну, БРИГ, — хорошо?..»
А вот еще письмо, уже в конверте.
«Эрики больше нет… — прочитал он и почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. — Посылаю вам то, что нашел в отеле на столе… Кое-что нашел еще, но это пусть останется мне. Я любил ее, понимаете?.. Кох».
«Любил?.. — подумал Глуоснис. — Ты, Кох, любил? Но, может, любил и он, этот самый Рахман?.. У меня тоже когда-то была любовь… Да, Кох, и у меня тоже… когда-то…»
В голове гремели, глухо перекатывались какие-то тяжелые болты, верещали телефоны, и он понял, что сегодня пока еще не сможет работать…
1980
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Стирать, мыть (англ.).
(обратно)2
По техническим причинам разрядка заменена болдом (Прим. верстальщика)
(обратно)3
Я хочу постирать свое белье (англ.).
(обратно)4
Свое белье? (англ.).
(обратно)5
Тем самым (лат.).
(обратно)6
Литовское телеграфное агентство.
(обратно)7
Не давайте, сударь! Опасно! (англ.).
(обратно)8
Мои дети… отдайте моих детей… отдайте! (англ.).
(обратно)9
Госпожа (нем.), госпожа (англ.), госпожа (франц.).
(обратно)10
Госпожа! Госпожа! Сегодня дай мне! (англ.).
(обратно)11
Площадь Венеции (в Риме) (итал.).
(обратно)12
За здоровье! (нем.).
(обратно)13
Врачу… исцелися сам… (лат.).
(обратно)14
Даже хиппи должен мочиться (нем.).
(обратно)15
Меню по Пиккадилли (франц.).
(обратно)16
Нет, нет! Белая леди (англ.).
(обратно)17
Да. Спасибо (англ.).
(обратно)18
Мыслю, следовательно, существую (лат.).
(обратно)19
«Каждому свое» (нем.).
(обратно)20
Кафе у собора (нем.).
(обратно)21
Верхняя улица (нем.).
(обратно)22
У собора (нем.).
(обратно)23
«Труд освобождает!» (нем.).
(обратно)24
«Труд освобождает!» (нем.).
(обратно)25
Крепость, бастион (нем.).
(обратно)26
«Тогда, в дождь» — название предыдущей книги А. Беляускаса, где действует тот же герой — Ауримас Глуоснис (Прим. ред.).
(обратно)27
«Дай мне еще раз уехать в дальний путь…» (нем.).
(обратно)28
Домой! Домой! (англ.).
(обратно)29
Мать (англ.).
(обратно)30
Вооруженные отряды добровольцев по борьбе с бандитизмом.
(обратно)31
Шутливый лозунг, обращенный к поступившим в университет первокурсникам.
(обратно)32
«Задай ему!» (нем.).
(обратно)33
«Кёльнские ведомости» (нем.).
(обратно)34
Здесь царят дисциплина и порядок, ясно? (нем.).
(обратно)35
«Утром на Кольце» (нем.).
(обратно)36
Блюда из американской дичи (нем.).
(обратно)37
Вон! Ты паршивый турок — вон! (нем.).
(обратно)38
Да, да. Вильно. Адам Мицкевич. Да-а! (нем.).
(обратно)39
Любовник (нем.).
(обратно)40
Милый, дорогой (англ.).
(обратно)41
Один из персонажей романа «Тогда, в дождь».
(обратно)42
Кёльнское пиво.
(обратно)43
Влюбленные (нем.).
(обратно)44
Иностранные рабочие.
(обратно)45
Перевод Ю. Кобрина.
(обратно)46
Герой романа американского писателя Дж. Керуака «На дороге».
(обратно)47
Отец (англ.).
(обратно)48
Молодежная жизнь.
(обратно)49
Изделие из копченого мяса.
(обратно)50
Уровень (франц.).
(обратно)51
Истинное слово (франц.).
(обратно)52
Комедия масок (итал.).
(обратно)53
Литовский пролетарский поэт.
(обратно)54
В середину вещей (в самую суть) (лат.).
(обратно)55
Литовские автогонщики (прим. ред.).
(обратно)

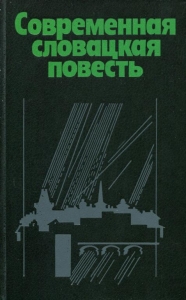









Комментарии к книге «Спокойные времена», Альфонсас Пятрович Беляускас
Всего 0 комментариев