Кристоф Оно-ди-Био Сирена Роман
Эктору и Альме, которые уже так любят сказки
– Вы верите в Бога?
– Я? Я верю в Зевса.
Том ВулфТолько языческая древность возбуждала мое желание, потому что это был мир былого, потому что это был исчезнувший мир.
Поль Вен[1]* * *
Christophe Ono-Dit-Biot
Croire au merveilleux
Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.
Издание осуществлено в рамках программы содействия издательскому делу «Пушкин» при поддержке Французского института.
Книга издана с любезного согласия автора и при содействии Литературного агентства Анастасии Лестер.
Copyright © 2017, Édditions GALLIMARD, Paris
© Нина Хотинская, перевод, 2018
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2018
I Мертвый Франция, Париж и Италия, Амальфи
Сделать чисто
Сегодня я умру.
Я не болен.
Я не разорен.
Я не могу больше жить, вот и все.
Обездоленному до такой степени можно ли вообще употреблять это слово – жить?
Я долго верил, что справлюсь. Верил всему, что мне говорили: надо смириться со смертью любимой, придет успокоение, и затем она возродится как идеал в воспоминаниях… если бы. Я вижу только ее прах, плавающий на воде. его вкус стоит у меня во рту.
Ночью протянешь руки – и никого больше нет, и нет ничего вообще.
Я не могу вернуть ее, мои слова бессильны, а у меня только слова и есть, поэтому я хочу умереть.
Больше никого? Я сгущаю краски – кое-кто есть. ребенок, наш сын, шести лет. но моя любовь к нему, его любовь ко мне и даже обе они не в силах уравновесить чашу весов. Слишком она перевешивает, пустая чаша, – та, что влечет меня.
Когда я смотрю на него, я вижу ее. И злюсь на него за это, как злюсь и на нее. Те же черты, тот же вызов в темных глазах, та же грация, та же кожа, те же вспышки гнева.
Так что пора кончать. Я знаю, что отбрасываю все мои отцовские обязанности, когда пишу это, но отец ли я еще?
* * *
Если и отец, то плохой. Я это понял еще в Шамборе[2], несколько месяцев назад, зимой. Замок, где снимали «Ослиную шкуру»[3]. Я решил свозить его туда, потому что он был в восторге от фильма, особенно от Денев. Лично я предпочитаю Сейриг[4]. Небо, серое до белизны, венчало колоколенки, башню с лилиями, террасы, украшенные лепными саламандрами, по которым мы бродили вдвоем, рука в руке, между небом и землей, до отвесного края. Посетителей было немного, все продрогшие, как мы, а вокруг насколько хватало глаз, нас обступал лес, будто мы были на острове, под угрозой когтистых волн. Мне приходили в голову не легендарные охоты и мчащиеся по зарослям кабаны, не факелы, в свете которых несутся кавалькады юных принцев с горячей кровью, возбужденных струящимися под корой соками, – нет, я видел жестокие убийства, младенцев, которым вырывают сердце, потому что этого требует злая мачеха, молодых женщин, чью добродетель попирают и бросают затем их красоту на съедение волкам, размозженные камнями головы невинных, из которых брызжет кровь, пятная кружево папоротников.
Мы спустились по двухзаходной винтовой лестнице, задуманной, говорят, самим Леонардо да Винчи. Комнаты были ледяные, облезлые обои давно покинуты красками. Холод царил везде, мы чувствовали, как он крепок, кончиками наших застывших пальцев. Вырезанный из дерева олень в натуральную величину, которого мы видели в фильме Жака Деми, красовался в центре зала с большим крестом в рогах. Потерянное в этой бескрайности изваяние разрывало сердце. Это был не замок, это был склеп.
У меня не было сил отвечать на его вопросы о королях, Леонардо, Ренессансе и символике цветка лилии. Этот бред в камне вонял смертью, меня воротило – я ведь знал, что этот запах исходит и от меня.
Я все понимаю, в этом моя драма. Как будто жизнь не хочет больше течь по моим жилам. Боюсь, что это безысходно.
Я не заслуживаю моего сына и его любви. Его грации олененка.
По дороге к Шенонсо я думал о родителях, которые, прежде чем убить себя, убивают своих детей. Мне это всегда казалось гнусностью, а вот в тот день я понял. Мы миновали пункт уплаты дорожной пошлины и проехали бетонную силосную башню колоссальных размеров, выглядевшую заброшенной.
– Папа, ты не включишь музыку? – спросил он своим тонким голоском.
– Конечно, сердечко мое.
Да, в тот день я понял. Детей убивают не потому, что хотят перечеркнуть жизнь, которая не удалась, не от желания, дав задний ход, сгладить сумятицу, которую мы, взрослые, посеяли в их жизни.
Нет. Убивают затем, чтобы дети не судили нас, когда вырастут.
А я его суду доверяю. И поэтому хочу, чтобы он жил.
Он будет жить, и в лучших возможных условиях. Я обо всем для него позаботился. Круглая сумма ждет его по достижении совершеннолетия. А до тех пор солидное содержание. Все в порядке, оформлено, нотариально заверено. Его будут растить те, кто вырастил меня. Там, где он сейчас. Он ни в чем не будет испытывать недостатка. Нет, ему будет недоставать отца. Ничего страшного, так даже лучше: я не успею его разочаровать, как все отцы.
Трусость? Нет. Трусостью было бы не сделать этого, продолжать до такой степени предавать себя. Я положу конец не моим дням, я положу конец долгой ночи.
Мои мысли путаются. Я не могу больше с ними сладить.
* * *
Моя жена погибла. Под водой. Но перед смертью она ушла, оставив нас одних, меня и моего сына. Я так и не узнал, собиралась ли она вернуться из этого путешествия, ставшего роковым, или же поставила на нас крест. Она была артисткой… С ними, артистами, никогда не знаешь. Цена творчества тяжела. Беда в том, что зачастую платят ее другие.
Это неведение терзает меня. И я скитаюсь, точно старый добрый Улисс, на борту моего тела, чей остов стонет, без надежды вернуться далеко за моря, на ложе из олив, где ждет меня Пенелопа.
Пенелопа меня бросила.
* * *
Надо видеть, на кого я стал похож. Прошло два года, но я постарел на все десять.
* * *
– Почему ты плачешь, папа? Я тебя поцелую, и все пройдет.
Это он встал, только того мне и не хватало, и утешает меня, гладя. Он ложится рядом, и ко мне возвращается прерванный сон.
Мир перевернулся. Мне стыдно.
– Где у тебя болит, папа?
Ничего не поделаешь, надо что-то ответить.
– У меня болит сердце, сынок.
Он повторил это на днях в школе. «У моего папы болит сердце». И когда я пришел за ним, учительница спросила, не нужен ли мне хороший кардиолог.
Так это и есть боль утраты? Выдерживать глухую тишину, постоянно биться о стену отсутствия? Плакать, храня надежду на чудо?
* * *
Замок Шенонсо как будто аккуратно поставили на реку Шер, и он крепко стоит на своих аркадах. Это не замок-крепость, это замок-мост. Во время Первой мировой войны его превратили в госпиталь. Со своих коек раненые ловили рыбу в реке. Шер. Дорогой[5]. Моему дорогому очень понравился Шенонсо. Спальня королевы, большие кровати с балдахинами, портреты Дианы де Пуатье[6] и Дианы-охотницы с полумесяцем в волосах, и D, переплетенное с Н, инициалом Генриха[7], можно ли лучше изобразить любовь, и вырезанные на дверях сирены, и портрет госпожи Дюпен, которая держала литературный салон и принимала Вольтера, Руссо, Монтескье и Берни.
– Она красивая, папа… А что такое муза?
– Женщина, которая вдохновляет художников.
– Она помогает им дышать?
– Да, мой олененок.
Мне же понравилась только одна комната. Спальня Луизы Лотарингской, жены Генриха III, наверху, под самой крышей. Все стены выкрашены в черный цвет, везде один и тот же узор, до тошноты повторяющийся на тяжелых складках балдахинов и оконных гардин, – рога изобилия, проливающие серебряные слезы. В углу молельня и портрет Генриха: камзол и черная шапочка, усы и мушкетерская бородка, сапфир в ухе, меланхоличный взгляд. Подходящий для меня девиз: Manet ultima caelo, «Последняя находится на небесах». Вот только у него это была не последняя женщина, но последняя корона, после польской и французской, возлежавших на его смертном челе. Лигист Жак Клеман, христианский террорист, вонзил нож ему в живот в 1589-м. На небеса, Генрих! Оставшаяся на земле Луиза сгорает в горе и делает эту комнату своей могилой. Живая, но мертвая. Мне здесь понравилось. Понравился этот черный цвет. Понравилась рама картины на евангельский сюжет, где три капли крови истекали из сердца, окруженного терниями.
Это было мое сердце.
«Стоит ли жить с таким отцом, как ты?» – сказал я себе, выходя из зеленого лабиринта, который Екатерина Медичи пожелала разбить в своем парке. Заплутав в тисовых изгородях и так радуясь тому, что заплутал, сын звал меня:
– Где ты, папа? Я тебя не вижу! Папочка!
Слезы текли по моему лицу, и я торопливо вытер их рукавом. «Папочка, где ты?» Он не видел меня. Ослепленный солью, щипавшей глаза, раздавленный стыдом, оттого что не мог ему ответить, я хотел, чтобы сырая земля, устланная ковром полуразложившихся листьев, поглотила меня. И чтобы какая-нибудь добрая фея увезла его в своей карете и позаботилась о нем.
Ему будет лучше без меня. У меня правда нет больше сил. Я передал ему лучшее, что у меня есть.
Все остальное, мои пороки, мой набор неврозов, – надо ли ему это знать?
Он нашел выход из лабиринта и прыгает мне на шею. Я сжимаю его голову в ладонях. Он улыбается. Это невыносимо, ведь у него ее черты, но он – не она.
Дитя – как город Дит в Дантовом аду. Ад я ему и обеспечу, если останусь.
Почему она ничего мне не оставила?
Объяснения?
Чтобы я знал, по крайней мере, как она рассчитывала поступить с нами?
* * *
Прыгай в крапиву, шут гороховый, пусть мозги брызнут на стены. Нет, я хочу сделать чисто, отнестись с уважением к тем, кто меня найдет. Остаться предметом дизайна, подходящим к моей мебели.
Я просто соскользну. Тихонько.
Очищу помещение.
Мое окончательное решение – медикаментозное.
* * *
Пора. Я встаю, чтобы закрыть окна. Не хотелось бы вспотеть. Сезон каникул, и в Париже жара. Идеальная погода, чтобы уснуть вечным сном. Улицы пусты. Ни звука в городе, где вот уже год свирепствует смерть, поражая во имя восточного бога, который, говорят, жаждет крови тех, кто в него не верит.
Каникула, по-латыни «маленькая собачка». Это имя, пишет Плиний Старший в своей «Естественной истории» (вон она, эта большая шишка Античности, красуется в моем книжном шкафу), римляне дали Сириусу, главной звезде созвездия Большого Пса. В это время года она пробуждается одновременно с Солнцем и «распаляет солнечный жар».
Nam caniculae exortu acendi solis uapores quis ignorant.
«Действия этой звезды сказываются на Земле сильнейшим образом»[8], – добавляет Плиний, который умер, задохнувшись во время извержения Везувия, – моря вскипают, стоячие воды бурлят, собаки наиболее подвержены бешенству.
Короче, звезда встает, а я ложусь.
Небесное тело и тело бренное.
Я шучу. Имею право.
Я сажусь в кухне. Смотрю на десяток капсул, разложенных рядком на столе, точно пули снайпера-маньяка. Я уже проглотил три, и миорелаксантное действие наконец-то ощущается. Миорелаксант: расслабляющий мускулы. Мио – мускул по-гречески и, как ни странно, еще и мышь, вот ведь незабудка по-гречески называется миозотис, «мышиное ухо». Этой путанице мы обязаны выражением «мышка ягненка», знакомым всем мясникам. Плевать? Наверно. Я уже всех достал моей этимологией. Ничего не могу поделать. Я люблю слова, их древний смысл, мостики, которые они перебрасывают в настоящее. Ощущение порядка, связи, укорененности, единственное еще оставшееся в этом мире безумия. Где слова больше ничего не значат. Где истина уже не в счет. Где нюансы умерли.
Одна капсула укатилась. Я возвращаю на место строптивый цилиндрик. Это номер 7. Поменьше других, как 8 и 9, но те круглые. Глотаю номер 4. Я хорошенько поработал над дозировкой. Меня не вырвет, и я не отключусь слишком быстро. Все что угодно можно найти во Всемирной паутине. Полный перевод Квинта Смирнского[9] и такие вот рецепты. Чувствую, как меня накрывает покой. Приятно. Сосредоточиваюсь на этом ощущении. Словно жидкая вата в жилах. Я умиротворен.
Я сказал – Улисс, но нет, я Сократ, выпивший цикуту в кругу друзей. Вот только друзей у меня нет. Это отчасти моя вина. Очень скоро после ее ухода у меня пропало желание с кем-либо видеться. Видеться по-настоящему, я хочу сказать. В профессии я еще держусь. Погреб себя под работой. Я даже снова взялся за репортажи, потому что мир повсюду кровоточил, безопасных мест не осталось, и бессмысленно было заключать пари о судьбах Европы. Да, друзей нет, кроме бумажных созданий, живущих между страницами моей библиотеки. Только книги могут меня успокоить, днем ли, ночью, когда возвращается призрак. Только древние герои умеют достучаться до моего сердца, что не удается живым.
Мои ноги тяжелеют, сердце бьется медленнее.
Греки называли это состояние «атараксия». Отсутствие волнений.
…ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι.
…напротив, для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и освободиться от хлопот[10].
Как это мило, вся эта древняя культура, эти древние мифы, всплывающие, как пузырьки шампанского со дна бокала, вот только пузырьки выходят из меня.
Они были со мной всю мою жизнь и говорят мне последнее «прости».
Я чувствую, как все замедляется. Погружаюсь в ватный океан. Смотрю на коробочки, маленькие кораблики с именами героев научной фантастики, которые уносят меня в небытие. Хотя, не стану скрывать, я ожидаю лучшего, чем небытие. Быть может, сюрпризов? Встречи с ней, как знать? Ну вот и все, я соскальзываю.
Что это за звуки?
Нана
Кто-то звонит в дверь. Короткие ритмичные звоночки. Сначала робкие, потом все настойчивее. Я слышу их, хоть голова уже полна ваты. Они мне мешают. Я так хорошо угрелся здесь, на табурете, глядя на пилюли, которые мне осталось принять, и мечтая о том, как буду лежать на кухонном полу, доверившись моей молекуле, провожающей души в загробный мир, моему Вольдеморту в капсулах.
Конечно же, я не открою. Не в состоянии. Не хочу.
Вот только звонки продолжаются. Теперь уже громче. Кого принесло, на мою голову? Кто сорвет мне все дело? Я прячу оставшиеся пилюли под полотенце. Не хватало попасться. С трудом встаю. Смотрю в глазок.
Девушка.
Незнакомая девушка звонит в мою дверь.
Я возвращаюсь в кухню. Звонки продолжаются.
Возвращаюсь к двери. Снова смотрю. В руке у нее мотоциклетный шлем. Золотистый. Волосы светлые. Длинные.
Она поднимет на ноги весь дом. Испортит такой момент. Голова тяжелая, но я принимаю решение. Сейчас, я проверну это быстро. Я открываю дверь.
– Извините меня. Я забыла ключи.
Я готов расхохотаться. Человек пытается умереть, и вдруг – дзинь-дзинь, «я забыла ключи».
– Ключи?
Язык плохо слушается. Вещества начинают действовать. Подняв брови, она смотрит на меня с жалостью. А потом без приглашения входит.
Она одета в белое платье до середины бедра. Ремешок замшевой сумочки через плечо делит бюст на два неагрессивных бугорка. В руке, стало быть, золотистый шлем. Да, знаю: игроки Нотр-Дам Файтинг Айриш, университетской команды американского футбола в штате Индиана, носят такие.
Ей лет двадцать. Ну двадцать два… Она уже идет по коридору. На тонких лодыжках проступают ахиллесовы сухожилия, уходящие в стройные, спортивные икры. Я чувствую в этом теле энергию, которая мне не по плечу, и это меня тревожит. У меня свои дела. Она может все испортить. Мне хочется, чтобы она уже была за дверью.
– Простите, но вы, собственно, кто?
Она останавливается, оборачивается. Я могу лучше разглядеть ее овальное лицо, как будто чуточку мужское, большие глаза с длинными ресницами. Гладкая кожа, приоткрытый рот.
– Ваша соседка напротив.
Она рассматривает квартиру, коридор, зеркала, лампы. Идет все дальше. Осваивается, вполне в себе уверенная.
Я выдвигаю возражение:
– Моей соседке напротив восемьдесят лет…
– Она умерла полгода назад. – У нее иностранный акцент, но я не могу распознать какой. – Вы не заметили?
– Похоже на то.
Мне кажется, что я уже видел эту девушку. У меня хорошая память на лица. Я, однако, уверен, что она никогда не работала у меня беби-ситтером.
– Красивая статуя, – говорит она, показывая на пловчиху, которая стоит в прихожей, внутри стеклянной вазы.
Я вздрагиваю: история этой статуи для меня мучительна.
– Извините, но что вам нужно?
Я не повысил голос. Нет сил.
– Я же вам сказала. Я жду ключи. Но вы не беспокойтесь, я не на вечность. Так ведь говорят?
Я не отвечаю. «Вечность» – очень кстати.
– Мой брат будет с минуты на минуту. Я ему позвонила. Он привезет мне ключи. Я предпочла постучаться, чем идти в кафе. Правда, мы незнакомы…
Я молчу. В голове все разрастается холодная вата.
– Надеюсь, я вам не помешала.
Я качнул головой и чуть не потерял сознание. Она должна уйти.
Держаться на ногах стоит мне неимоверных усилий. Лишь бы не упасть. Сейчас не время для юных девушек – смертный час.
– Когда придет ваш брат?
– Скоро.
Она идет дальше, входит в гостиную и останавливается перед книжным шкафом. Великая стена – эта коллекция книг, мало кому знакомых из двадцатилетних. Здесь не только Плиний Старший, здесь почти все. Сливки сливок античной литературы. Греческие желтого цвета, латинские кирпичного. Желтых у меня больше. Перед этими книгами я благоговею. Она проводит тонким пальчиком по корешкам. Меня удивляет этот жест, эта затянувшаяся ласка. Ногти покрашены, но бесцветным лаком, пальцы без колец. Никаких украшений ни на шее, ни в ушах. Только два золотых браслета на запястье. Переплетенные листья. Ее палец задерживается на одном из томов, который она достает с полки. Желтый, обложка украшена маленькой совой, эмблемой серии. Она листает книгу, как если бы находилась тут одна. Я смотрю на нее с любопытством.
– Дадите мне ее почитать? – спрашивает она.
Я отвечаю не сразу.
– «Теогонию» Гесиода?
– Это двуязычное издание. Поможет мне работать над французским.
Теперь мне лучше понятен ее акцент. Гречанка, стало быть. Гречанка и блондинка. Я нахожу в себе еще немного сил, чтобы ответить:
– Поэма восьмого века до нашей эры, в которой рассказывается о сотворении мира и битвах богов и монстров, вряд ли это послужит вам в сегодняшней Франции.
– Почему бы нет, ведь чудовища никуда не делись?
Очень мило. Но ей нечего здесь делать. Время поджимает.
– Возьмите. А теперь извините, меня ждут.
Она кладет книгу в свой шлем, который держит в руке, как корзинку, но и не думает уходить.
Протягивает мне руку.
– Нана, – говорит она.
Я вынужден посмотреть ей в глаза. Они не просто зеленые, но бледно-зеленые, и золотые искорки поблескивают в глубине. Я устало повторяю:
– Нана?
– Да, как Мускури[11]. Вы это хотели сказать? – со смехом добавляет она.
Лицо ее озаряет улыбка. Солнечная, но недостаточно, чтобы рассеять мою тьму.
– А вас? – спрашивает она.
– Простите?
– Как вас зовут?
– Сезар.
Я по-прежнему держу ее руку в своей. Вернее, это она удерживает мою. Рев мотора врывается в окна.
– Марчелло, – тихо выдыхает она и поворачивается к двери.
В добрый час. Я слышу глухие звуки по ту сторону лестничной площадки. «Нана!» – кричит гортанный голос, и кто-то колотит в дверь напротив.
– Он правда знает, что у вас нет ключей?
Ее глаза вспыхивают. В них мелькнуло что-то жестокое.
Я открываю дверь. Молодой человек, затянутый в кожаные брюки и кожаный жилет, открывающий голые руки, оборачивается. Узкая бородка контрастирует с бритой головой, подчеркивая мощную челюсть и упрямый подбородок. На меня он бросает удивленный взгляд, сразу ставший недобрым. Ей – фразу, очевидно, по-гречески, агрессивным тоном; она не отвечает. На лестничной площадке в последний раз смотрит на меня.
– Берегите себя, – говорит она.
Закрыв дверь, я подсматриваю за ними в глазок и не могу поверить тому, что вижу. Она открыла сумочку, засунула туда руку и достает связку ключей, они болтаются и позвякивают на кольце. Она выбирает один и вставляет в замочную скважину. Что за игру она затеяла? Дверь открывается. Они входят к ней и скрываются с глаз.
Я опираюсь ладонями о дверь, пытаясь удержать равновесие. Чувствую себя вымотанным, обманутым. Разочарованным в очередной раз в этом мире и его обитателях. Кто эта девушка? Зачем она наплела мне про ключи? Я, как атлет, как лыжник-ас, идеально подготовленный к трассе супергиганта, столько раз проходивший ее, что способен с закрытыми глазами распознать каждый бугорок, каждую наледь, стартовал и преодолел самый трудный участок. Ничто больше не должно было меня остановить. Однако именно это она и сделала – остановила меня, можно сказать, на лету. Мне осталось принять шесть капсул, но я уже знаю, что момент упущен – тот самый кайрос, как говорили древние греки, определяя этот зазор между слишком рано и слишком поздно. Зачем только я открыл окаянную дверь? Даже вычеркнуть себя из жизни я не сумел.
Я думаю о сыне. Он был на волоске. Мне, наверно, надо благодарить эту Нану. Ладони скользят по двери. Я чувствую себя разбухшими от сырости и плесени обоями, которые отклеиваются от стен в старых домах, выставленных на продажу. Мне удается сесть. Я вытягиваюсь на паркете – только такого гроба и достоин тот, кто не сумел умереть.
И кому не дает покоя вопрос, где он мог видеть эту девушку? Ведь я ее уже видел, я уверен. Соседка?
Извините, та, кого я знал, была старухой. Умерла? Очень может быть, ей за восемьдесят, и она ходит с дыхательным аппаратом, спрятанным в сумке на колесиках. Я, конечно, был рассеян в последнее время, немного не в себе, мог не заметить, что она покинула земную юдоль, и это не очень цивилизованно, признаюсь, но я точно знаю, что, встреть я эту девушку в лифте или в подъезде, я бы этого не забыл.
А коль скоро я ее помню, значит, видел где-то еще.
Возвращение к Пас
Открыв глаза, я увидел сначала только ее. Погружающуюся ко мне, на лице маска, в вытянутой руке острога – она была бы нацелена мне в горло, не будь между нами этого спрута, у которого нет ни малейшего шанса.
Ее мускулы напряжены, спина выгнута, дыхание задержано. И она цела. Наконец-то цела.
Это статуя. Подводная охотница. Эту статую обожала женщина, которую обожал я.
С трудом поднимаюсь, еще оглушенный лекарствами, и с нежностью смотрю на нее, на мою маленькую терракотовую женщину. Как всегда, когда я думаю о Пас, к горлу подступает комок, а к глазам слезы. Слезы тяжелые, жгучие, не дающие дышать.
Отреставрированная, слепленная заново, она может теперь вволю резвиться в высокой стеклянной вазе, на дне которой, усеянном мелкими камешками, дремлет крошечная морская звезда.
Она охотится на видном месте в прихожей, вот почему соседка, как и все мои гости, не могла ее пропустить.
Эта статуя однажды разбилась. Глупейшим образом. В Италии, откуда она прибыла. И откуда, очень не исключено, могли прибыть и зеленые с золотыми искорками глаза моей соседки. Да, мне кажется, что именно там я видел их в первый раз. Надо теперь напрячь память, чтобы удостовериться.
* * *
Это было за несколько месяцев до беременности Пас, вернее, до того как она стала заметна. Мы, как и каждое лето, поехали на Амальфитанское побережье, что в часе езды от Неаполя высится крепостью над морем.
Одна подруга назначила нам встречу со своим спутником в винном погребке Позитано. Мы выпьем по нескольку бокалов и, полюбовавшись солнцем, тонущим в ставших оранжевыми волнах, вчетвером пойдем ужинать.
Вина у Клаудио были отличные. И еще у него была сирена, принимающая ванну. Статуя высотой пятьдесят сантиметров лежала в белой керамической ванночке на четырех металлических ножках, заканчивающихся львиными лапами. Все ее тело до высовывающегося из воды зеленого хвоста было из глины, кроме шевелюры – большого куска натуральной губки, выкрашенной в пурпур.
У нее были острые груди, алый рот, глаза восточной иконы. Алкоголь окрылил мое воображение. Я кружил вокруг прелестного маленького чудовища, теряясь в водах ее ванны: на что похоже лоно русалки? Уже рыбье? Еще женское?
Мне довелось снова увидеть ее на следующий день. Место располагало. Пас ждали на Ли Галли. Три торчащих из моря клыка известны также как острова Сиренузе, с тех пор как греческий географ Страбон сделал их обиталищем сирен.
Дом, прилепившийся к скалам, окруженный соснами, оливами, садами на террасах. Здесь жил Нуреев, любила Грета Гарбо. «Марлин», – яхта, прежде принадлежавшая Джону Фицджеральду Кеннеди, на ней он узнал в 1961 году о строительстве Берлинской стены, – стояла здесь на якоре, оккупированная компанией молодых людей, красивых и беззаботных, которые лежали на тиковой палубе, подставляя тела солнцу. Капли воды поблескивали на юных грудях; звенел смех. Изабелла, хозяйка трех островов, очень красивая пятидесятилетняя женщина, могла бы играть императрицу в пеплуме. На ней было тяжелое ожерелье из ляпис-лазури, подчеркивавшее ее кожу брюнетки, а может быть, наоборот – украшение ярче блестело от соприкосновения с этим пышущим здоровьем бюстом. Она устраивала фестиваль современного искусства на острове Стромболи и позвала Пас, чтобы поговорить о нем. «Взрывные перформансы в дыхании вулкана», – объясняла она, когда нам подали цветы кабачка в кляре. Она хотела, чтобы и Пас присоединилась к фейерверку со своими фотоработами. Двое участников группы «Джанго Джанго»[12] приедут сюда пожить и поработать над звуком. Почему бы не образовать «артистический альянс»? Мы сели за стол на террасе над морем, откуда яхты казались барашками на синем лугу. Обед состоял из помидоров всех цветов, карпаччо из каменного окуня и анисового мороженого, присутствовали же за столом стилист из Рима и его спутник-француз, дизайнерша украшений из Нью-Йорка с мужем-адвокатом и парижская деловая мадам, чей муж, диетолог, предсказал мне, что я окочурюсь в этом году, если не сокращу потребление кофе. Пас, все более востребованная, не спешила с ответом. Я был на Стромболи несколько лет назад и помнил, как взрывы вулкана через равные промежутки времени электризуют ночь. В первый раз я был там один и охотно вернулся бы туда с Пас – посмотреть на краснеющую под звездами лаву и спуститься в деревню, скользя по ковру из пепла, который века обратили в черный песок. В ресторане на дебаркадере подавали очень вкусных жареных кальмаров, и, имея толику воображения, можно было почувствовать себя Росселини и Ингрид Бергман[13].
Было хорошо. Было спокойно. Приятная истома разливалась по телу. Очарование этого места действовало на меня, и, если бы не кофе, ристреттиссимо, я бы, наверно, задремал.
– Так это правда, что здесь жили сирены? – спросила американка.
– Если бы вы знали, Джоан… – с улыбкой ответил муж нашей хозяйки.
Стать бонвивана, круглое лицо, обрамленное бородой цвета перца с солью, и очки в металлической оправе. Он долго преподавал в университете, и все звали его Профессоре. Он начал рассказывать историю трех островов, и вскоре весь стол уже засыпал его вопросами.
– Aspettate![14] – воскликнул он, встал и вскоре вернулся с толстым томом в охряном переплете под мышкой.
Он открыл его с театральной медлительностью. Страницы были плотные, запах доисторический.
– Это «Энциклопедия» Дидро и д'Аламбера, – сказал он. – Слушайте хорошенько, статья «Сиренузе».
Его жена вздохнула. Он не обратил на это внимания, откашлялся и начал читать зычным голосом, рассмешившим гостей, особенно когда он произносил окончания глаголов по правилам старофранцузского:
– «В древности их называли Сиренузе, или острова сирен, потому что там жили Парфенопа, Лигея и Ликозия, три прославленные куртизанки. Эти женщины обладали всеми красотами, всеми чарами и всеми мыслимыми прелестями; голоса их были прекрасны и мелодичны; и так, всеми этими ухищрениями и особенно своим пением, они завлекали всех проплывавших мимо. Неосторожные корабельщики…»
– Кто? – спросил стилист.
– Моряки, если угодно. «Неосторожные корабельщики…»
– Карло, тебе обязательно изображать акцент? – Перебила его жена.
– Так говорится, дорогая, – пояснил он с широкой улыбкой и продолжал: – «Неосторожные корабельщики были так обуреваемы любопытством, что не могли не высадиться на этом роковом острове, где, после запретных утех, познавали самый жалкий удел. Поэтому, согласно преданию, когда Улиссу пришлось пройти мимо этих скал, он принял мудрую предосторожность, залив воском уши своих спутников, чтобы те не услышали пения этих коварных сирен». – Он остановился. – Ладно, это вы знаете. Но послушайте дальше.
– Да вы сами сирена, Профессоре! Мы внимаем вашему пению… – ввернул стилист льстиво или насмешливо, какая, в сущности, разница.
Я же находил этого старика очаровательным. Лукаво улыбнувшись, он продолжал:
– «Говорят, что у древних жителей этих островов было в обычае боготворить сирен и приносить им жертвы; считается даже, что во времена Аристотеля в этих местах еще был храм, посвященный сиренам. Один из этих островов носит сегодня имя Галли, или Галле». Вот видите, мы здесь…
– Amazing[15], – сказала дизайнерша. – Но почему изменилось название островов? Сиренузе – это красиво.
– Ненависть к чудесам, – ответил старик.
– В тексте, который вы прочли, Карло, говорится о «запретных утехах», – снова вмешался стилист. – Так это были сирены или puttane?[16]
– Не абы какие, во всяком случае, – к месту уточнил его спутник. – Они обладали «всеми мыслимыми прелестями», сказано в тексте. Высокие профессионалки, судя по всему.
– То есть здесь было что-то вроде роскошного борделя, – вставил диетолог.
– Grazie[17], Жан-Луи, – поблагодарила Изабелла, и все за столом рассмеялись.
Обстановка была милейшая. Официант принес лимончелло и «Амаро дель Капо» в маленьких замороженных рюмочках.
– «Все мыслимые прелести», но и «самый жалкий удел», – меланхолично заметил вдруг диетолог, ковыряя вилкой кусочек дыни, сок которой уже блестел на его подбородке.
– Разорялись, надо полагать, – бросила Пас.
– Или безумно влюблялись в них и чахли от любви, – предположила дизайнерша и поднесла к губам чашку, звякнув своими красивыми браслетами из бирюзового бакелита с золотыми нитями.
– Я восхищена твоим романтизмом, Джоан, – отозвалась Изабелла. – «Жалкий удел» – это, может быть, просто триппер.
– Вечно ты все опошлишь, – посетовал ее муж.
– А ты как будто не на земле живешь.
Неожиданным холодом повеяло над благословенным Сиренузе. Все занялись напитками, пережидая грозу. Стукнулись друг о друга рюмки, и сладкие ликеры снова потекли в глотки.
– Во всяком случае, эти три чаровницы были, вероятно, скорее мясо, чем рыба, – подытожил адвокат.
– Вот так мужчины и создают свои мифы, – заключил диетолог, поднося рюмку к губам.
Профессоре закрыл книгу и печально улыбнулся. Разговор, однако, был не кончен.
– А этот храм, кстати, так никто и не нашел? – поинтересовался стилист.
– Надо полагать, что нет… И вовсе не потому, что не искали, – снова заговорил профессор. – Поговаривают даже о некоем тайном обществе, объединявшем всех, испокон веков одержимых поисками этого мифического места.
– А как оно называлось?
– Общество любовников Сирены. Говорят, в нем состоял Нуреев. Не потому ли он поселился здесь? Тайна.
– Мой муж размечтался, – сказала хозяйка дома. – Это подстегивает его стариковские чувства.
Как я его понимал… Бескрайний синий простор, пронзенный двумя клыками напротив нас и скрывавший, должно быть, немало подводных гротов, действительно как нельзя лучше располагал к эротическим грезам.
– Ты же знаешь, что моя сирена у меня уже есть, – отозвался он, бросив на нее выразительный взгляд, полный нежности.
Она улыбнулась ему. Они были красивы оба. Я покосился на Пас. Она скучала.
Изабелла, должно быть заметив это, предложила искупаться. Маски и ласты желающие могли взять в лодочном сарае.
– У меня еще вопрос, – решилась американка.
– Джоан, так жарко…
– Только один последний вопрос, Изабелла. Вы идите, мы вас догоним. – Она запустила пальцы в волосы. – Что они, собственно, искали, эти любовники Сирены? Ведь не просто грот?
Никто не двинулся с места. Профессоре счел, что может продолжить.
– Верно. Они искали нечто, чем якобы обладали сирены и чему нет цены. Куда лучше всех секретов любой исключительной Камасутры. – Старый эрудит выдержал паузу. Глаза его блестели. – Если вчитаться в текст «Одиссеи», понимаешь, что не только мелодичное пение сулили сирены Улиссу. Тот, кто его слышал, говорят они, «вернется домой восхищенным и много узнавшим». А что они знают? Ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ: «то, что на всей происходит земле жизнедарной»…[18]
– Они обладают даром знать будущее?
– Да. и наверняка именно поэтому их боготворили и им был посвящен храм…
– Что ж, пойдем его поищем! – Воскликнул стилист.
– Да, – подхватил диетолог, возбудившийся от лимончелло, – а ну наперегонки к гроту!
– Жан-Луи, прошу тебя, – укорила его супруга.
Все слишком много выпили.
Я не помнил, куда дел сумку с плавками, и искал ее в доме, как вдруг заметил приоткрытую дверь, из-за которой просачивался яркий свет. Я тихонько толкнул ее. Комната, освещенная солнцем, лившимся в большой иллюминатор, забранный витражом, была вся покрыта темно-синим фаянсом – пол, стены и потолок. Из мебели только широкая кровать, тоже синяя. А над ней существо в человеческий рост выходило из стены. Она была видна почти до колен и, казалось, протягивала руки к спящему, чтобы он помог ей выбраться – или желая утащить его к себе. Две округлые белые груди выступали на ее теле, покрытом до того места, где тело уходило в стену, чешуей. Младшая сестра – вернее, старшая – той сирены, что я видел в винном погребке. И волосы у нее была такие же, из натуральной губки, обожженной солнцем. Окаменевший пожар.
– Обожаю прилечь здесь после обеда…
Я вздрогнул. Это был профессор.
– Кто ее сделал? – Спросил я, показывая на статую.
Его улыбка стала шире.
– Это мой друг Фабио. Замечательный художник.
Хочу ли я с ним познакомиться? Он работал здесь, совсем рядом, в деревушке Марина ди Прайя. Свою мастерскую он устроил в башне. Он знал всех знаменитостей семидесятых, которые приезжали танцевать совсем рядом, в ночной клуб, куда можно было добраться только на лодке. Профессор объяснил мне, как туда доехать, и спросил, показав на кровать:
– Вы уверены, что не хотите вздремнуть?
– Меня ждет жена.
– Вам очень повезло.
Я нашел Пас у «Марлина», где молодежь, разложив на дамбе целый урожай морских ежей, вскрывала их перочинными ножами. Оранжевая сердцевина блестела на солнце. Рядом с этими молодыми телами я чувствовал себя старым и почти невидимым. «Наконец-то ты пришел», – сказала она мне, садясь; купальник обтягивал ее горделивую грудь, которую эти юнцы, судя по их настойчивым взглядам, охотно выпустили бы на свободу.
– Идиотизм, в сущности, эти истории про сирен, – сказала она.
– Почему?
– Женщина-хищница губит мужчин своими любовными песнями. Старое как мир клише. А если вдобавок эти сирены были всего лишь putas[19], которых идеализировали бедолаги, измученные неделями сексуального воздержания, то, честно говоря…
– Но ты не дослушала до конца. Это знание, которое они обещают, тотальное знание.
– Знание, знание. Мы ничего не знаем, Сезар. Увы, мы ничего не знаем.
Она и не подозревала, насколько права.
Она бросилась в воду. И я больше ничего не видел, только пену.
Общество любовников Сирены
Мы нашли его, этот грот. Во всяком случае, нам нравилось так думать. Это было, когда мы возвращались от скульптора.
В тот день я взял напрокат длинную лодку с мотором.
– Куда мы едем?
– Увидишь, mi amor[20].
На шее у нее висел фотоаппарат, солнечные лучи бились в объектив, вспыхивая, когда она наводила его на побережье, невероятную отвесную стену, к которой лепились очаровательные маленькие дворцы, связанные с морем рядами ступенек.
Марина ди Прайя оказалась крошечным портом, притаившимся между двумя утесами. В киоске на дебаркадере предлагали лимонное мороженое, верно, из больших горных лимонов, что свисают, тяжелые от мякоти и сока, в зеленой тени ветвей. Мы полакомились, прежде чем подняться по тропе, ведущей в башню, силуэт которой был отчетливо виден на фоне синевы утреннего неба. Мальчишки прыгали с утеса с громким визгом. Пятнадцатью метрами ниже под водой вырисовывались скалы. Здесь надо было не промахнуться. Их грация бросала вызов смерти или пожизненному параличу. Пас остановилась. Один, постарше, заметив иностранку, подошел к краю и повернулся спиной к пустоте. На его груди красовалось, в его-то неполные шестнадцать лет, стилизованное сердце, пронзенное кинжалом. Он посмотрел на Пас. Зубы сверкнули на солнце. Она подняла фотоаппарат и навела на него. Он поклонился и прыгнул. Выполнив идеальный штопор, он вошел в воду почти бесшумно. Когда его голова показалась над поверхностью, Пас зааплодировала. Он поднял руку в знак прощания и, сделав утиный кувырок, исчез в океане.
– Ты испугался? – спросила Пас.
Женщина верхом на кальмаре. Вот как скульптор давал знать на собственноручно вылепленной табличке, что гость вошел в его владения.
– Спортивно, – заметила Пас.
Башня была перед нами. Башня песочного замка, наполовину обрушившаяся, пряталась в джунглях инжирной опунции и лимонных деревьев, аромат которых смешивался с запахом морских брызг. Под нашими ногами вскоре захрустели странные обломки – крошечная ручка, половина головы. Глиняные черепки. У двери статуя – человек с очень черной кожей, в желто-красном тюрбане на голове, сжимал перевернутую вверх ногами голую и розовую блондинку. Напоминание об истории этих башен, воздвигнутых в XV веке для защиты от набегов берберских пиратов, которые похищали местных девушек и продавали их на невольничьих рынках Алжира. Я постучал в приоткрытую дверь. Пас не стала ждать и толкнула ее. На глиняных полках – целый морской бестиарий, рыбы, осьминоги и дельфины, а еще те самые женщины с волосами из губки, зелеными, лиловыми или глубинно-синими. Возвышаясь на четырех ножках, гудела электрическая печь, в которой крепли, обжигаясь, их тела. Ступеньки вели к нише в стене, в которой было единственное и очень большое окно, выходившее на море. Скульптор поставил в нише стол с гончарным кругом, вокруг которого громоздились банки с краской, лежали куски красного коралла, мокли кисточки в половинках пластиковых бутылок.
Я сразу понял, что Пас заинтересована: молчит и не сводит глаз с потолка, откуда рядом с винтовой лестницей свисает целое войско глиняных пловчих. Подвешенные на невидимых нитях, они как будто плывут к нам кролем – одна рука вытянута, другая у бедра, – удвоенные тенями, танцующими на беленых стенах.
– Estupendo[21]… – прошептала она.
Мужчину, спускающегося по лестнице, мы увидели постепенно, частями: сначала плетеные мокасины, потом икры с матовой кожей, белые шорты и, наконец, все остальное – голый загорелый торс, на котором покачивались крест, неаполитанские перчики[22] и другие амулеты, бородатое лицо и седые волосы.
– Buongiorno[23], – поздоровался хозяин.
Лет пятьдесят пять, может быть, шестьдесят. Игривый взгляд.
– Чем могу вам помочь?
Я рассказал про винный погребок, Ли Галли, сирен…
– Старый добрый Карло… – Он будто улыбался сам себе. – Caffè[24]?
Ветерок с моря врывался в окно и кружил пловчих, превращая мастерскую в логово чародея. Хозяин между тем, зачерпнув из контейнера драгоценный коричневый порошок, наполнил до горлышка маленький гейзерный кофейник, и вот он уже пыхтел на электроплитке. Италия…
Кофе горький, крепкий. Я рассматривал окружающих нас созданий.
– Только женщины.
– Я мужчина…
А потом, с места в карьер, по своему обыкновению, Пас принялась забрасывать его вопросами. Он отвечал охотно, увлекся и, поняв, что она испанка, перейдя на испанский из неаполитанской галантности (Неаполь долго был под пятой арагонских владык, и это не забылось), принялся излагать всю свою богемную жизнь. Она впитывала его ответы и отвечала на его вопросы с таким же видимым удовольствием и на языке, исключившим меня из беседы. Они нашли друг друга. Он подарил ей написанную им книжицу, потом пригласил подняться наверх.
– Вы, разумеется, тоже, – хватило у него деликатности добавить.
Верхний этаж – это было нечто головокружительное. Три окна, стены сплошь покрыты рисунками, гравюрами, картинами. Рыбы и женщины. Между картинами – зеркала всех размеров, отражают море, и кажется, что все эти создания купаются в нем. На плиточном полу почти никакой мебели, только старый матросский сундук и железная кровать.
– Вы здесь живете? – спросила Пас.
– Нет, но после обеда люблю прилечь здесь и послушать сирен.
– Как ваш друг с Ли Галли.
– Il professore? Мы состоим в одном клубе…
– Любовников Сирены?
Он не ответил.
– Редкий вид… – заметил я.
– Не обольщайтесь.
Глаза его блеснули.
Мы спустились. Пас была в том состоянии, которое я успел изучить как свои пять пальцев. Атмосфера ее возбудила, кровь кипела в артериях, расцвечивая лицо. В мастерской морской бриз, врываясь в окно, все кружил в танце пловчих. Но Пас выбрала не одну из них, а ныряющую охотницу, атлетически сложенную и в то же время стройную, в большой стеклянной вазе. Округлые ноги статуи снаружи, она только что нырнула в воду, которую изображал стеклянный ободок, окружающий ее бедра и накрывающий вазу. Верхняя часть тела внутри вазы, лицо в маске, пышная грудь и прелестные руки – правая, вооруженная острогой, пронзает спрута, тоже терракотового, который плавает на дне, засыпанном песком, ракушками и галькой. Поймав взгляд Пас, Фабио подошел к маленькой глиняной женщине. Достал из вазы и перевернул. Теперь ее ноги внутри, а из воды высовывается верхняя часть тела, голова запрокинута к небу, в руке победоносно поднята в воздух насаженная на острогу добыча. Пас улыбнулась.
– Bella nuotatrice[25], – сказал скульптор. – Дань Эстер Уильямс[26].
– Кто это? – спросила Пас.
– Спортсменка, пловчиха. Чемпионка в стометровке вольным стилем. Потом она и правда снималась в кино. Это она… – Он принес фотографию в рамке, стоявшую рядом с его гончарным кругом. Высокая темноволосая женщина в бикини позирует, сидя на подиуме, на котором можно прочесть три слова: Dangerous when wet[27].
Пас хотела сразу забрать пловчиху, но скульптор убедил нас, что будет неосторожно везти ее в лодке, и предложил доставить сам. Она прибудет к нам через несколько недель, в самой надежной упаковке.
* * *
А на обратном пути мы нашли грот – горизонтальную щель в меловом утесе, челюсть, заглатывающую море. Увидеть его было трудно, в отвесной стене через каждые пятнадцать метров зияли отверстия, в которых клубилась пена. Но это жерло было шире, и перед ним бурлил маленький водопад. Он поил цеплявшиеся за скалу растения и на несколько градусов охлаждал море. Мы бросили якорь, чтобы напоследок, перед возвращением в пансион, искупаться, и заметили разницу температур. Вот тогда-то наше внимание привлекла та самая челюсть. Мы подплыли к ней, глубоко вдохнув, нырнули и перевели дыхание по другую сторону, в естественном бассейне, окруженном ложем светло-серой гальки, забрызганной светом, – казалось, солнце светило внутри грота.
– Increible[28]! – с восторгом прошептала Пас.
Мы легли на гальку. Зеленая с голубым отливом вода будто пылала. Гулкое эхо усиливало дыхание Пас. Окрыленный красотой и силой момента, я потянул завязки купальника Пас и положил руку на выпуклость ее лона.
– Не сейчас, – вдруг сказала она.
– Не сейчас… или не здесь?
Она повернула голову ко мне. Ее влажный рот был сантиметрах в десяти от моих губ.
– Не здесь. Проявим смирение.
Опять одна из этих пасовских фраз, которые надо расшифровывать.
– Прости?
– Это храм…
– Я думал, ты считаешь это идиотизмом?
– Непостоянство – имя твое, женщина.
– Ты меня достала, Пас.
Мои пальцы снова отправились исследовать рельеф, на сей раз успешно. Наши вздохи смешались, и вскоре их поглотил приглушенный плеск волн.
– Тсс… – выдохнула она, прижав палец к губам.
Я перекатился набок. Ее черные глаза были устремлены на потолок. От времени, соли и капель воды, просачивавшихся сквозь скалу тысячелетиями, он играл розовыми оттенками.
– Смотри, что там вылеплено.
– Да, вылеплено, – согласился я, водя пальцем по кончикам ее грудей.
– Прекрати, Сезар, посмотри хорошенько.
Я тоже перевернулся на спину. Она оказалась права. Немного сосредоточившись, можно было разглядеть лица. Бородатый маг анфас, глаза прищурены то ли внимательно, то ли сердито. И женский профиль с замысловатой прической, рот приоткрыт, словно готов поведать нам какие-то древние тайны. И еще. Силуэт плывущей девушки. Присевший человек с поднятыми руками как будто удерживал одной своей силой весь утес.
– Это эрозия, – сказал я, – и игра света на камне.
Так ли?
Дрожь пробежала по ее телу.
– Что с тобой?
– Идем.
Она поднялась, еще нагая, с купальником в руках, и увлекла меня в глубину грота.
Там открывался проход, и она вошла. Три или четыре метра надо было протискиваться между двух скал – щель сантиметров в сорок.
– Пас, ты уверена?
Она не ответила. С бьющимся сердцем я последовал за ней. Я никогда не был фанатом спелеологии и быстро запыхался. Увидел, как в конце прохода она карабкается вверх. Полез следом. Скала была скользкая, бурая, пропитанная острым запахом соли и водорослей. Рокот волн усиливался, словно море хотело одолеть камень. Отвоевать у соперника потерянную территорию.
– Куда мы, Пас? Осторожней все-таки…
Я больше не видел ее.
– Чуть подальше свет, – прозвучал ответ в нескольких метрах от меня.
– Пас, это опасно. Там, наверно, целая сеть туннелей. Мы заблудимся.
– Готово дело, ты получил, что хотел, и начинаешь ворчать?
Ее голос был далеко.
– Где ты?
Пошарив рукой, я понял, что выше подняться нельзя. Проход выводил на более-менее плоскую поверхность, которая дальше слегка шла под уклон.
– Внизу. Садись и съезжай, здесь скользко.
С героизмом у меня облом. Однако я повиновался. Ручеек змеился по скале и вытекал на другой пляж. Вернулся свет, озарив полумесяц белой гальки рожками к морю. Пас танцевала, по-прежнему нагая, бурно радуясь открытию этого тайного хода. Она заговорила томным голосом, растягивая слоги:
– Я сирена, я сирена… возьми меня, юный корабельщик… – и прижалась ко мне своими крутыми ягодицами, влажными, солеными и слегка гусинокожистыми.
Dangerous when wet.
* * *
Месяц спустя посылка прибыла в Париж. Увидев имя отправителя, Пас ринулась на коробку с ножом в руке.
– Моя nuotatrice, моя nuotatrice!
Она разрезала упаковку, отшвырнула четыре слоя картона, раскромсала пузырчатую пленку, и у нее вырвалось громкое joder[29]!
Не веря своим глазам, она схватилась за голову.
Я подошел ближе. Зрелище было печальное. На ложе из полистироловых пузырьков лежал обрубок женщины. От окружавшего ее бедра диска, который изображал поверхность воды, остались одни осколки, голубоватые кинжальчики, ноги жалким обломком лежали в нескольких сантиметрах. Путешествие с итальянского побережья в Париж стало для пловчихи роковым.
Я позвонил скульптору. Он очень расстроился, такого никогда не случалось. Он был готов все исправить, но ему нужна была статуя, отправьте ее мне, сказал он, а я потом пришлю ее обратно. Слушая его клятвы, я повернул голову и увидел, как Пас рассматривает у себя на ладони три маленьких глиняных осколка. Три коричневых пальца пловчихи, тоже разбитые.
– Он предлагает послать ее назад.
Пас вырвала телефон у меня из рук и заорала:
– А если она опять разобьется? Так и будем посылать туда-обратно? Вы сказали, что это надежно. Я вам больше не верю.
Она бросила трубку.
– Ты же не потребуешь, чтобы он приехал сюда? – отважился я.
– А почему нет? Это его вина. Перезвони ему, настаивай.
Это стало навязчивой идеей. Пас не только была ужасно разочарована, она видела в случившемся дурное предзнаменование, сглаз. «Прекрати, что за чушь», – говорил я ей. Но перезвонил. Скульптор стоял на своем. Если мы хотим, чтобы он починил статую, она нужна ему здесь.
– Надо было взять ее с собой, – сетовала Пас, – а не оставлять ему!
– Мы были на лодке, а он сказал, что она хрупкая.
– Да уж, в этом мы убедились.
– Я могу заказать ему другую, такую же?
– Нет, мне нужна эта. Пусть он ее починит.
Пас не держалась за свою собственность. Материальное для нее было преходяще. Но эта статуэтка была не просто статуэткой, это был запечатленный момент благодати, глупейшим образом испорченный, и ее надо было починить как можно скорее, чтобы он вернулся. Пловчиха стала символом.
– Он ее починит. Клянусь тебе.
Скульптор, которому я не давал покоя, в конце концов уступил и обещал, что сам починит ее, когда будет проездом в Париже. У него-де здесь друзья. К сожалению, после этого его телефон был недоступен. Пас? Надулась. Потом посыпались упреки: я не особо старался. Я не был достаточно тверд с художником.
Прошли месяцы. А следом и годы. Родился наш сын, о пловчихе мы забыли, убрав ее с глаз долой, а потом произошел этот глупый несчастный случай и Пас погибла.
Я начал видеть связь.
Общение
Два года после смерти Пас я не мог смириться. Я отчаянно ждал знака. И вот, занявшись однажды в воскресенье вечером поисками более удобной перинки для нашего подраставшего сына, я наткнулся на коробку. В стенном шкафу кабинета, на маленьком бирманском сундучке, где хранились последние снимки Пас.
Я извлек коробку на свет. Отодрал скотч, разрезал пузырчатую пленку. От контраста между решительным лицом пловчихи и ее разбитыми бедрами у меня защемило сердце. Шесть лет спустя меня терзали угрызения совести. А что, если все это моя вина? Эта статуэтка связывала меня с Пас, несла с собой все, что Пас любила, – воду и солнце, грацию и движение, соль и ветер.
– Что это, папа? – спросил сын, застав меня врасплох, когда я не мог оторвать от нее взгляд. Я вздрогнул. Он вылез из кроватки и стоял босиком, в полосатой пижаме, держа за крыло своего любимого цыплячье-желтого плюшевого Птица, чьи оранжевые лапы волочились по полу.
– Сувенир.
– Что такое сувенир?
– Так, ничего, – сказал я, не в силах объяснить, парализованный страхом расплакаться при нем.
Он ушел спать, не сказав больше ни слова.
Вот так, совершенно абсурдным образом, я вбил себе в голову, что починить статую абсолютно необходимо, – для нее, для нас, что этим я заглажу удар судьбы, совершу акт искупления, из которого непременно проистечет что-то хорошее. Ей это понравится, она подаст мне знак. Ответит наконец на единственный вопрос, которым я задавался: намеревалась ли она, да или нет, вернуться из этого путешествия? Что означало: были ли мы ей по-настоящему дороги?
Когда особа, которую я продолжал посещать дважды в неделю, чтобы «выговориться и пережить утрату», услышала мой план – а я им с ней поделился – и пришла в замешательство, я только уверился еще сильней.
Тем более что я уже все перепробовал, в частности «революционную» методику IADC. Induced After-Death Communication, по-французски – индуцированное общение с умершими, родилось из опыта работы с американскими солдатами, возвращавшимися со Среднего Востока в состоянии посттравматического стресса. Все начиналось с глаза, который должен был сосредоточиться на некоем воспоминании и пальце терапевта. Оказалось, что быстрое движение глазного яблока вправо-влево погружает пациента в «состояние измененного сознания» и позволяет мозгу «бессознательно перерабатывать данные». Эти пустые слова, особенно «данные», меня ранили. Сфокусировавшись на образе покойного, «скорбящий» мог войти с ним в мысленный контакт. И эта связь открывала ему иногда очень четкие истины – «например, местонахождение страхового полиса, о котором живой не знал».
– Страховой полис – это не совсем то, что я ищу, – перебил я.
– Я говорю для примера. Чтобы показать вам, что это отнюдь не галлюцинация. Мы просто открываем наши каналы восприятия на других уровнях реальности. Это бывают любовные послания, ответы на вопросы, которыми задается живой. Терзаясь от них чувством вины. Это очень хорошо работает с людьми, потерявшими близких при теракте.
– Мою жену убил не ИГИЛ, она утонула.
Психологиня больше ничего не сказала. Она передала меня в руки «светила» этой самой «революционной» методики.
Результатов он добивался поразительных. Но не со мной. Ответом было глухое молчание Пас.
Так что оставалась статуя. Последний шанс. Я снял один за другим осколки стекла с ее бедер: с этим острым поясом ее не пустили бы в самолет. Потом упаковал ее в несколько слоев пузырчатой пленки и завернул в три пляжных полотенца. Не забыл и коробочку из-под крема, наполненную ватой, где лежали три пальца ее левой руки, такие тонкие, такие коричневые, и положил этот ковчежец рядом с телом в ручную кладь. В кармане у меня был билет до Неаполя.
Я начал свое паломничество.
Починить статую
Неаполь встретил обжигающей легкие жарой и переполненными мусорными баками. Я сел в такси. До Сант-Эджидио мы худо-бедно доехали. Но когда надо было спуститься с горы к побережью, кошмар предстал во всей своей красе: блестящая змея неподвижных автомобилей, которую безжалостно плавили солнечные лучи.
Шофер спросил, не включить ли музыку. В салоне зазвучал тенор Андреа Бочелли:
Con te partirò Su navi per mari Che, io lo so No, no, non esistono più Con te io li vivrò[30]Я смотрел на лимонные деревья и прилепившиеся к скалам домики. Весь этот мирок, казалось, готов был броситься в пустоту.
– Что там у вас?
В зеркальце заднего вида, на котором болтался десяток амулетов, водитель показал подбородком на лежавшую у меня на коленях спеленатую статую. Чтобы уберечь от дорожной тряски, я вынул ее из чемодана.
– Похоже, что у вас там bambino[31].
Сорренто, Сант-Агата суи Дуэ Гольфи, Колли ди Фонтанелле, Позитано, Лаурито, Веттика Маджоре… вот наконец и Марина ди Прайя. Башня отчетливо вырисовывалась на фоне морской синевы. Машина свернула с шоссе и поехала вниз по почти отвесной дороге. Мой водитель верил в свои тормоза. Когда он остановился, башня была как на ладони, в нескольких шагах. Возвращение в эти места взволновало меня. Шесть лет назад рядом со мной была Пас.
– Подождите меня здесь, пожалуйста.
Я взял bambino, захлопнул дверцу. Ну, держись, Фабио.
Аромат лимонов смешивался с запахом моря. Дверь была открыта. Я вошел. Сидя за столом, он рассматривал красный коралл на голове сирены.
– Buongiorno.
Он даже не вздрогнул. Меня он узнал сразу. Он похудел. Я положил «младенца» на круглый стол. Пловчихи по-прежнему наяривали кролем под потолком.
Я осторожно развернул полотенце и стал рвать пузырчатую пленку.
– Подождите, – тихо сказал он. Сходил за ножницами и принялся за дело. Казалось, мы вызволяем пострадавшего в дорожной аварии из железной тюрьмы.
Появилась пловчиха.
– В самом деле… – Сказал он.
– Почему вы не ответили? – Спросил я, вглядываясь в его прятавшиеся за очками глаза.
– Я был очень болен.
– Вот как?
Выглядел он неважно. Но говорил как будто искренне.
– Легкие. Я лежал в больнице…
И после короткой паузы:
– А потом я забыл… Как поживает ваша подруга?
– Она умерла.
Было видно, что его это поразило. Он опустил голову. Повисло долгое молчание, которое нарушил я:
– Она просит, чтобы вы починили пловчиху. Как обещали.
– Она просит?
– Она просила…
– Я сделаю вам другую, если хотите.
– Нет, я хочу эту. Я вернусь через три дня.
Я был настроен серьезно. Он это почувствовал.
Я сел в машину и назвал адрес. Наш тайный адрес. Место нашего канувшего счастья, где я хотел попытаться вновь пережить его в последний раз. Чтобы все шансы были на нашей стороне.
Рай начинается с мелких мазков.
Сначала ты видишь только табличку на дороге. Но ни дома, ни сада. Ничего. Ты останавливаешься. Проходишь в калитку, спускаешься на несколько ступенек. И вот тут чувствуешь запахи. Сначала – розмарина, мяты, тимьяна и базилика. Фоном – запах моря, чьи волны танцуют где-то внизу, ты это уже угадываешь. И нота сердца – лимоны. Это край лимонов. Их безраздельные владения. Вот первый дом, где крепкий малый с очень светлыми глазами по имени Габриэле дает тебе ключ и, подхватив багаж, просит следовать за ним по ступенькам, отвесно спускающимся в синеву. Тирренское море складками раскинулось под солнцем; солнце слепит тебя и многократно усиливает краски. Ты спускаешься еще ниже, и появляется белый домик с голубыми ставнями, волнистая крыша, рисующая верх буквы π. Ты помнишь все: голубой плетеный коврик с белым морским коньком у входа и звук твоих шагов на плиточном полу коридоров. Тебе не пришлось просить ту же комнату. Само собой разумеется, что она достанется тебе. Это ваша комната. Ты знаешь, что сейчас увидишь над кроватью любительскую картину, изображающую церковь с эмалевым куполом в соседней деревне.
Открывается дверь, и ты убеждаешься в этом. Ничто здесь не меняется, потому вас и тянет сюда. Габриэле распахивает ставни, открывается балкон, зависший в синеве. Сколько раз она щелкала здесь фотоаппаратом, когда ты плавал внизу и звал ее?
Ты едва не расплакался, когда он ушел. Прохладные плиты пола, на которых она любила полежать, когда ночь была слишком жаркой. Ты разделся. Нырнул под душ, глядя на море в стрельчатое окно. Твое тело под струями. Ты лег на кровать, и бриз высушил последние капли. Ты подумал о ней, и пришли новые слезы, и напряжение на время отпустило.
Ты вернулся в красоту. Без нее.
Здесь мы жили совсем простой жизнью. «Корабельной жизнью», как говорила Пас. Да это и был бывший дом арматора. Мы спускались купаться, возвращались в комнату, снова спускались купаться. Завтракали на балконе помидорами с моцареллой из молока буйволицы, политыми оливковым маслом, похожим на солнечный сок. Потом сиеста, опять купание, налево или направо в поисках скрытых бухточек, до которых можно добраться только вплавь. Корабельная жизнь.
Я распаковал багаж. Была ли это хорошая мысль – вернуться в места любви? Жарко. Я сую монетку в два евро в карман джинсов и выхожу из дома. Двести вырубленных в скале ступенек ведут к бетонному солярию, который называют spiaggia[32]. Путь к воде – Голгофа наоборот. Спускаешься без страданий, но с нарастающим удовольствием, а в конце – тот же апофеоз. Пять зонтиков и столько же шезлонгов, в которых дремлют томные лианы в йодистой жаре, из оцепеневшей руки выпал бестселлер. Я смотрю на обложку, которой касаются длинные наманикюренные пальцы. Чтение – та же ласка.
Из воды выходит парочка. Мужчина хватается за лесенку, карабкается, протягивает руку девушке, помогая. Они молоды, здоровы. Она отряхивает капли, довольная, на ее купальнике черные и белые треугольники прилегают друг к другу, как наверняка будут прилегать их тела через четверть часа.
Я вхожу в воду. Сирены, если они и вправду живут здесь, должно быть, плавают подо мной. Я вспоминаю обед на Ли Галли. Вспоминаю бокал шампанского в отеле «Сиренузе де Позитано», вспоминаю Пас, и слезы смешиваются с пеной.
Сжимаю в руке монетку в два евро.
Монетка – это был наш ритуал. Мы делали это каждое утро после любви и чтения.
Местами мне видно каменистое дно под водой. Яркое солнце режиссирует там настоящий театр теней.
Церковь как будто встает из волн, опираясь на стену, которой не меньше тысячи лет. Я вспоминаю гору Афон, вспоминаю отшельников, которые угостили меня лукумом и стаканчиком ракии, когда не было больше сил идти. Я огибаю церковь вплавь. Добираюсь до лесенки, соединяющей пляж с дамбой. Надо ждать своей очереди. Когда вылезает девушка, плещущиеся вокруг мальчишки своего не упустят. Сверху слепят экраны смартфонов. Люди загорают, чатятся и фейсбучатся, лежа на полотенцах с эмблемой футбольного клуба «Наполи». Я иду в «Неттуно», бар с белой вывеской, выдолбленный в скале. Повторяю один за другим все этапы нашей игры. Это вознаграждение наших усилий, морковка нашего купания. Вхожу весь мокрый. Все та же деревянная стойка, на ней в витринах пастилки «Леоне» – с корицей, с лакрицей – или liquirizia, самые любимые Пас. На двустворчатой двери реклама домашних панини, киносеансов alla stele, под открытым небом, и эскимо из морозильника. Я всегда, с малых лет, любил слово «эскимо». Лизнешь его – и ты уже на льду, мчишься на санях, запряженных белыми псами с обезумевшими от свободы глазами. Двое мальчишек толкают меня, гоняясь друг за другом, как котята. Луиджи привык. У него все та же серебристая шевелюра и неприветливый вид. За его спиной стена бутылок. Апероль, мартини, кампари. Фотография предка, подвешенные четки в золоченой рамке и красно-белый спасательный круг в углу, рядом с синим веслом.
– Buongiorno, Луиджи.
Он готовит мне два напитка в двух маленьких стаканчиках. Crema di caffe крутится в прозрачном кубе с маркой Antica Gelateria del Corso, его от души взбалтывают, насыщая кислородом, две пластмассовые лопасти машины. Я кладу на стойку монетку в два евро и выхожу, унося в глазах море и небо, наконец-то слившиеся. Прислоняюсь к стене. Пью свой caffè. Потом ее, потихоньку. Любовь моя. Надо мной маленькая белая часовня по-прежнему стоит на утесе. У нее закругленная крыша. Вокруг скалы поросли кипарисами и соснами, пригнувшимися от ветра, среди деревьев виднеются развалины древнего замка, где скрывался знаменитый разбойник. Деревня притаилась в ложбине, ее домики – белые, охряные, розовые – словно карабкаются друг на дружку, сливаясь, до арок поддерживающего шоссе моста, взбираются даже на него. Лабиринт лестниц с созвездиями окон, украшенных, будто флагами, махровыми полотенцами, сбегает к пляжу, где стою я в дружеской компании ragazze и ragazzi[33], татуированных по самое некуда. Италия во всей своей утонченной и варварской красе.
Каталог татуировок
Она любила этот момент. Возвышаться над лежащими телами. Любила этот маленький пляж. Даже рядом с двадцатилетними грудками, налитыми плодами или снарядами, взглядомер всегда склонялся в ее пользу. Причем ей не приходилось, как дебютантке, расстегивать лифчик.
Она любила рассматривать тела. «Они так много могут рассказать», – говорила она. Ее взгляд улавливал все, на все реагировал. Она любила татуировки. Кожа для нее была пергаментом, рассказывающим тайную историю нашей эпохи с ее законами, ее мечтами, ее иллюзиями.
Что она расшифровала бы сегодня со мной? Я начал визуальную прогулку. Раскинутые на пояснице, задевающие ягодицы крылья оказались выбором номер один у девушек. Смысл: держи меня за это место – и мы улетим? У парней, традиционно более приземленных, преобладали мотивы, навеянные племенной тематикой, маорийские или кельтские: дух клана держался крепко, красноречивый для мечтателей.
Я также с интересов отметил, что у обоих полов изрядно прибавилось «текстовых» татуировок. Фразы. Красивые фразы. Указывало ли это на потребность в романтическом, на скорое возвращение к чтению, или сказывалось влияние смс и твиттера? Вот, скажем, эти тридцать четыре буквы под левой грудью сорокалетней брюнетки: Si vive соте si sogna: perfettamente soli. «Мы живем как видим сны: совершенно одни».
Вот еще книга, которую мы с Пас могли бы написать – «Книга тел». Хотя бы сделать ее приложением к той, которую мы начали и в которой запечатлевали все, что любили в старом мире, – она делала фотографии, я писал текст, и мы назвали ее «Книга о том, чего скоро не будет»… Ведь всего этого тоже скоро не будет, о чем, кстати, говорят иные тела с прозорливостью, достойной похвалы. L'amore è eterno fincheé dura («Любовь вечна, пока она длится»), прочел я на затылке, где из искусственно белокурого пучка выбивались черные волоски, естественные. Нельзя долго скрывать правду.
Я отметил, и это обнадеживало, несколько избранных литературных цитат. На подставленной солнцу лопатке – La bellezza salverà il mondo, «Красота спасет мир». За фразой следовали скобки, в которых угнездилось – изыск в наше время, когда авторское право тает, как мороженое на солнце, – имя писателя, написанное по-итальянски: Fëdor Dostoevski).
Удивительные философские заключения спорили друг с другом на одном и том же человеке. Так, на правом плече мамаши, кормившей грудью малыша, красовалось шумпетерианское[34] воззвание То create is to destroy, «Созидать значит разрушать», тотчас опровергнутое посланием веры в будущее на левом плече: A mio figlio per la vita, «Моему сыну на всю жизнь».
Из-под краешка стрингов выглядывает латинская фраза: Iterum rudit leo, «И снова рычит лев»… Удовольствие знать, что тебя поймут лишь немногие избранные?
Я дошел до конца маленького пляжа. Лежа на спине, девушка лет восемнадцати дремала в тени гигантского якоря, служившего символом этой рыбацкой деревни. Solo Dio può giudicarmi, «Только Бог может судить меня», говорило ее бедро, украшенное гирляндой орхидей. Послание, адресованное ей одной, чтобы приободриться, устремляясь с наступлением темноты в обещания ночи? Очень, между прочим, совместимо с жизненным кредо, которое выставил напоказ у себя на груди ragazzo, лежащий в двух метрах от нее: Every wall is a door. «Любая стена – дверь».
От такого стремления утвердиться голова шла кругом. И приходило понимание, что потребность в любви и доверии чересчур велика, чтобы когда-нибудь быть утоленной. И огромное горе – по разительному контрасту с глыбами крутых гор, ложбинами в кружевах винограда, часовнями, затерянными в яркой зелени гранатовых деревьев, которые всегда будут казаться сошедшими с полотна кватроченто[35], далекими от людской суеты.
Балкон над морем
– Как это случилось?
Лука не может опомниться. Он потрясен.
– Ты мог бы мне сказать. Мы не понимали, почему вы больше не приезжаете.
Я рассказываю ему и о нашем сыне. Он бледнеет. Его жена Марта выходит из кухни и ставит передо мной тарелку анчоусов, собственноручно замаринованных ею в местном оливковом масле с лимоном и розовым перцем.
Лука бросает ей несколько быстрых фраз по-итальянски. Ее рот округляется буквой «о», но не издает ни звука. Она кладет руку мне на плечо и возвращается в кухню. Лука садится, наливает нам по стакану белого вина. Перекрестившись, устремляет взгляд в мои глаза.
– Мы с тобой. Думай о ней, но хорошими мыслями. A chiàgnere 'nu muorto so' làcreme pèrze. Слезы мертвым без надобности.
Мы сидим в тени, передо мной раскинувшееся до бесконечности море. Все совершенно, но нет Пас, и это подрывает гармонию. Я знаю, что она сказала бы перед этим блюдом, – ничего бы не сказала. Она бы его съела. А мне не хочется есть.
Я никогда не пью за обедом. Но сейчас прошу еще стаканчик. Он прибывает со спагетти con le cozze[36]. Стакан здесь – это скорее чаша. «Размером с твою грудь», – сказал я Пас, когда мы впервые сели за стол и мне подали этот стакан, в котором поместилась, наверно, треть бутылки Furore.
Лука улыбается мне, но я вижу, что ему грустно. Он очень любил Пас. «Как все», чуть не сказал я. Он подавал сам со своим помощником Паоло в маленьком ресторанчике этого семейного пансиона, примыкавшем к кухне Марты, улыбчивой матроны, которая однажды оказала мне редкую честь, впустив в сад, где росли базилик, тимьян и розмарин.
Я должен хоть немного повеселеть. Ради него. И вообще, пока я здесь, скульптор трудится, чинит статую. Все потом обернется к лучшему. Долг будет выплачен. Порядок восстановлен. Разве так плохо хотеть верить в чудо? Эта статуя – символ. Я верю в ее силу. В древности символом называли глиняный черепок, связывавший двоих. Когда клялись в дружбе или заключали контракт, черепок разбивали на две части, и каждая сторона брала себе половину, которую бережно хранили и передавали из поколения в поколение, чтобы соединить со второй половиной, когда жизнь – превратности судьбы или нужда в помощи – этого потребует. Они идеально складывались вместе, что свидетельствовало об общем происхождении. Больше ничего знать и не хотели. Боги были свидетелями, и никто бы не осмелился поставить под сомнение symbolon.
Я закрываю глаза. Представляю себе нас, в свою очередь, соединенными. Два espresso, которые она заказывала после еды. Один за другим, чтобы продлить удовольствие.
Вокруг меня другие постояльцы отеля. Три столика. Разговоры вполголоса, люди слушают лето, гул насекомых, глухой рокот волн. Можно почти потрогать проходящее время.
Мы любили эти обеды. Как за Мартину кухню, так и за удовольствие знать, что потом мы вернемся в свою комнату, чтобы погрузиться друг в друга; ставни нашего балкона будут чуть-чуть приоткрыты, и солнце, просачиваясь сквозь жалюзи, начертит ровные линии на спине, животе, бедрах Пас.
Густая горечь очень крепкого кофе возвращает меня к действительности. На чашке нарисован средневековый гном в башмаках с загнутыми носками и остроконечном колпачке, держащий на плече рог изобилия. Я думаю о сыне и о сказке, которую он не услышит сегодня вечером. Сколько горя обрушилось на нас. Надо бы ему позвонить, но я так и слышу вопрос:
– Где ты, папа?
– В раю. С твоей мамой.
– Когда вы приедете?
Вновь появляется Лука с бутылкой «Амаро». Наливает мне в замороженную рюмочку.
– Это поможет тебе вздремнуть. Ты должен поспать. На тебе же лица нет. Ни дать ни взять неаполитанский пес.
Тон отеческий. И от этого легче.
* * *
Песочный человек не торопится меня навестить. Хотя я изрядно выпил. Я лежу, уставившись в потолок, и чувствую себя младенцем, тщетно ищущим свою «кисю», как мой сын иногда называет Птица. Мне не хватает знакомого запаха. Стремительный технический прогресс, свидетелями которого мы стали в последние годы, уже должен был бы дать нам возможность физически ощутить тех, кого нам недостает рядом. Возможность или хотя бы иллюзию.
Я закрыл ставни, но окно оставил открытым и слышу рядом звуки. Вздохи. Это наверняка утренняя парочка, та, молодая. Пышущая здоровьем. Я представляю себе их, сплетенных на кровати. Он на той точке, где наслаждение уже близко, и благодатная жара струится по его жилам, этот жидкий огонь, заставляющий все забыть, который поднимается все выше, почти переливаясь через край его тела, и он должен собраться, чтобы не изойти сразу. Я представляю ее: веки то опускаются, то приоткрываются, как и рот, язык облизывает губы, зубы покусывают его, и партнеру еще труднее перед этим зрелищем лица в экстазе совладать с естественным ходом вещей. Наверно, она выгнулась, чтобы лучше раскрыть ему свое тело.
Я открываю глаза. Люди занимаются любовью, а мне это больше недоступно. Я могу трахаться, но заниматься любовью – нет. Да и то сильно сказано: «могу трахаться». Мог бы, если бы хотел, а я больше не хочу.
Я слышу их вздохи. Это должны были бы быть мы с Пас.
Почему она не умрет, та, что за стеной? Я хотел бы, чтобы и ее не стало.
Я встаю, меня тошнит. Я и правда слишком много выпил. В зеркале ванной рассматриваю свое жуткое лицо. В сорок лет борода уже седеет. Звездочки морщин вокруг глаз. Вылитый старый корсар. Очень даже мило. Не хватает только цинги. Я утираю рот. Плохая была идея вернуться садовничать в раю одному.
Выхожу на балкон нагишом. В море сын Луки упражняется в гребле, продолжая традицию древней морской республики Амальфи. Я видел вечером на виа Лунгомаре деи Кавальери лодку его команды, вытащенную на гальку, накрытую ярко-синим брезентом. На корпусе, тоже синем, белый крест рыцарей-госпитальеров, стяг Амальфи, города, что царил на морях в X веке, освоил компас, а деньги его были в ходу аж на Востоке. Море, говорят, было тогда сплошь покрыто дамбами и мостками, где стояли на якоре галеры, сошедшие с амальфитанских верфей.
Слишком много книг, слишком много прочитано. Ничто больше мне не интересно, и вино стучит в висках.
Я пойду туда. Я не в лучшей форме, но я пойду. Вновь пережить воспоминание, попробовать напитаться им, почтить Пас на свой лад. Хотелось бы мне, чтобы какой-нибудь бог меня услышал. Пусть она поговорит со мной. Я подыхаю от ее молчания.
Последний этап паломничества перед возвращением статуи: снова увидеть грот.
Спасение на водах
Я с трудом плыву кролем вдоль скал. Плыву уже полчаса. Пытаюсь найти место, но пока тщетно. Все дальше и дальше. Вдали яхты с пустыми палубами похожи на корабли-призраки. От молчания моря у меня щемит сердце.
Мне кажется, что температура воды упала. Я, должно быть, совсем близко. Поднимаю глаза и, проморгавшись от пены, различаю ручеек пресной воды, змеящийся по скале, а потом, пятнадцатью метрами дальше, вход в форме челюсти. Он как будто в самом деле хочет заглотить море или того, кто из него придет. Я опираюсь на скалу, обессиленный. Раскаленный камень под ладонью чуть взбадривает меня. Глубоко вдохнув, скрываюсь под водой. И встаю на ноги во внутреннем водоеме, залитый, как шесть лет назад, тем же нереальным светом. Что-то мягкое касается моей руки. Это морской конек, он плывет вертикально, выпятив грудь и покачивая плавниками, образующими как бы трепещущий воротничок. Знак? Его хвост цепляется за мой палец, который он принимает за водоросль, да так я и сам представляю себя сейчас. Зеленой водорослью, годной разве что высохнуть и послужить удобрением тем, кто живее меня. Маленький пляж на месте, полукружие гладкой гальки, ее белизну поглощает сумрак в глубине грота. Вода мне по пояс, я осторожно ступаю по скользким камням, взбираюсь, вернее, заползаю на них и ложусь. В самом деле, не надо было мне столько пить. Я смотрю на свод. Снова проступают формы в обработанном эрозией камне. Я вижу новые фигуры, старика, нимф с разметавшимися волосами, скипетр или трезубец.
Это храм, наш храм, и я пришел сюда принести последнюю жертву.
В древние времена приходили со стадом баранов с черной кровью.
Я же пришел с одними только воспоминаниями.
И с моим телом, уставшим жить без нее.
Я пришел позвать ее.
Пусть она поговорит со мной.
Я вспоминаю «Одиссею» и сошествие Улисса в ад. Он стоит у врат обители мертвых, и они сами приходят к нему. Он совершил все нужные возлияния, принес смешанное с медом молоко, сладкое вино, воду и ячменную муку. Пролил кровь жертвенных животных. Сделал все, как велела ему колдунья Цирцея. Увы, когда он хочет обнять своих близких, те, даже его мать, ускользают от его объятий:
τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει, τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ ἔπτατo Трижды бросался я к ней, обнять порываясь руками. Трижды она от меня ускользала, подобная тени иль сновиденью.[37]Пусть солжет «Одиссея». Пусть из моих рук тень не ускользнет. Не надо было мне столько пить. Я лежу. Прислушиваюсь. Звуки волшебны. Тяжелый прибой позади, в щели, ведущей на другой пляж. Я хочу остаться на этом, где мы занимались любовью, ведь для меня он все еще полон ее присутствием.
Пусть скажет мне, ушла ли она от нас навсегда или рассчитывала вернуться. Пусть скажет мне это. И пусть простит меня, если я заставил ее страдать. Лишь бы знать, раз и навсегда.
Я закрываю глаза. Вижу выражение ее лица, огонек вызова в глазах, которые из-за темных бровей смотрели порой еще жестче. изгиб ее спины и ягодиц. Слышу ее акцент, ее запах смуглянки. Пейзаж, долины, холмы и каньоны, колыхание ее выгнувшегося тела.
Мое же тело благосклонно отвечает на этот зов памяти, воображения.
Ее мокрый рот на моих губах, на шее. Наши напряженные мускулы. Наши чресла в ритме.
Нет, я ничего не слышу, но при этом чувствую ее всю.
Я стягиваю шорты. Теперь я такой, какими были мы тогда, вместе. Как в первый день. Мою усталость как рукой сняло…
…мое дыхание все чаще. Я почти чувствую ее кожу. Я полон желания и гнева. Яростно ускоряю движения. Я хочу доказать себе, что у меня еще есть тело. Почувствовать, как жизнь вернется в мои жилы, как они вздуются, запульсируют. Удовольствие быстро нарастает, я замедляю темп. Электрический разряд пронзает меня.
Я всего лишь жалкое существо. Вдовец, которому не с кем разделить свое наслаждение. Который трахается со смертью.
* * *
Сколько времени я спал? Первая волна хлестнула меня и отхлынула.
Я пытаюсь встать, но вторая бьет меня в грудь и в лицо. Я падаю от удара, поднимаюсь и вижу, что грот заполнен водой, она прибывает, бурлит, и плеск ее усилен гулким эхо. Вокруг меня изменились краски. Как не бывало оттенков драгоценных камней, им на смену пришло царство тьмы. Я не вижу даже свода, шарю ощупью, барахтаюсь, оскальзываюсь на гальке. Я пытаюсь добраться, вытянув руки, вслепую, до выхода, на который еще указывает смутный свет, но новая волна, еще сильнее, сбивает меня с ног. Стена останавливает мое падение. Удар головой о скалу оглушает меня, плечу тоже досталось. Ссадина немного приводит меня в себя. Я предпринимаю новую попытку, но тщетно, меня отбрасывает к щели, через которую пробирались тогда мы с Пас. В последнем усилии я хочу протиснуться в нее, но там уже вода. Я пытаюсь перевести дыхание и нырнуть, выбраться вплавь, но волны снова и снова отбрасывают меня назад в грот с неистовой силой. Несколько раз я ударяюсь головой о стену. Выхода нет. Здесь я и останусь.
И все ради того, чтобы вернуть к жизни воспоминания…
Таков конец моего паломничества в край сирен.
Пас, я иду к тебе, но, боюсь, агония будет тяжкой.
Могила
Что было потом, не знаю, я потерял нить. Помню только, что одна волна, сильнее прочих, отбросила меня вглубь, как соломенное чучело, но, отхлынув, подхватила и вынесла из челюсти. Грот исторг меня. Оглушенный, пропитанный водой и солью, с пересохшим ртом, я потерял сознание. Позже помню белый свет прожектора, голоса, прикосновение шершавой резины и рев мощного мотора, перекрывающий рокот волн.
Меня везли в лодке. Кто? Куда? Звезды забрызгали черное небо. Снова руки, потом что-то твердое и сырое подо мной. Наконец, голос Луки и увесистая пощечина.
Подробности я узнал от Габриэле и Луки на следующий день, после визита врача. У меня не было ничего серьезного, только ушибы от ударов о скалы.
– Тебя нашли внизу, на spiaggia, – сказал мне Лука.
– Но кто меня туда привез?
Он пожал плечами:
– Курортники. Проходивший мимо «Зодиак». Я и не знаю толком где. Куда тебя занесло?
– Я заблудился, Лука.
– Ну да, конечно. А ссадины у тебя на руках, на плечах? Представь, если бы с тобой что-нибудь случилось? О сыне ты подумал?
Весь день Лука бросал на меня недобрые взгляды. Я поблагодарил его за то, что он вызвал врача, он только кивнул в ответ. Некоторые постояльцы таращились на меня – видимо, были в курсе, а вечером он подсел ко мне за стол.
– Тебе надо уехать, Сезар. Ты творишь невесть что. Портишь свои воспоминания.
Я сказал ему, что мне остался еще один день здесь, а потом я заберу статую и сяду в самолет.
– Статую? Ты о чем?
– Так, ни о чем.
– Делай как знаешь, но проведи этот день где-нибудь еще, не здесь, а то так и будешь барахтаться в море как stronzo[38]. Чего ты ищешь?
– Ее, Лука.
– Chi contro a Dio gitta pietra, in capo gli ritorna. Если ты бросишь камень в небо, он упадет тебе на голову. Это место принадлежит ей так же, как и тебе. Ты все испортишь. Почему бы тебе не проветриться?
Почему бы не съездить хоть в Пестум[39], как мои двое американцев вчера, они были в восторге.
Я испепелил его взглядом.
– Пестум, ты серьезно?
– Да. А что?
– Это где могила ныряльщика?[40]
– Si.
Я покачал головой, не веря своим ушам.
– Я же тебе рассказал, что случилось с Пас. Ты спятил?
– А ты, – вспылил он, – ты не спятил сегодня ночью в море? Знаешь, как говорят у нас в Неаполе? Il diavolo tenta tutti, ma l'ozioso tenta il diavolo. Дьявол искушает всех, но бездельник искушает дьявола.
– Кончай, хватит твоих пословиц!
– Так подними задницу!
Он ушел в кухню.
Я решил поймать его на слове. Возможно, у него были свои резоны.
И после двойного эспрессо я отправился в путь. Габриэле посоветовал мне добраться на катере от Амальфи до Салерно, а потом ехать местным поездом, который шел вдоль побережья и останавливался в Пестуме. Тридцать две минуты. Так мне не грозили пробки и жара.
* * *
Катер прочерчивал в море белую линию, завораживающую. Я оставил Амальфи позади, навсегда. От этого города, некогда вытеснившего со Средиземного моря арабских халифов, остался лишь галечный пляж, утыканный синими зонтиками, греческий фронтон церкви, развалины башни, где была замурована заживо несчастная герцогиня[41], и древний монастырь, переквалифицировавшийся в отель, как большинство их сегодня. Не сказать, чтобы случайно, ведь отели стали современными монастырями. В них укрываются от мирской суеты, заново обретая чувство проходящего времени и, почему бы нет, в известной мере благодатное одиночество. Пусть даже сегодня «хорошенькие сестры […] сидят за столами в трапезной и ночуют в кельях отцов», как шаловливо заметил некий Фредерик Мерсей[42] еще в 1840 году.
Я в конце концов уснул на пластиковом сиденье, и разбудил меня служащий компании в Салерно. Жара была зверская.
* * *
На вокзале толпились загорелые парни и девушки в обтягивающей нетерпеливые мускулы одежде. Громко разговаривали, делали селфи, смеялись. Я представлял себе их игры. И был счастлив за них, я, вдовец, никем не утешенный принц в снесенной сексуальной башне.
В поезде я занял место у окна, достал свой смартфон и одним касанием вошел в цифровую дверь, за которой лежал теперь мир. В VIII и VII веках до нашей эры, читал я, в связи с ростом населения Греции хлынула волна вторжений на юг Италии и часть Сицилии. На этой территории, вскоре названной Великой Грецией, Magna Graecia, «города-матери», откуда вышли захватчики, основали «дочерние города», которые, став очень сильными, сами, в свою очередь, основали другие «дочерние города». Пестум, изначально называвшийся Посейдонией, был построен людьми из Сибариса, что в Калабрии, города, чье богатство было столь велико, что с именем его жителей – сибариты – долго ассоциировалась мечта о несравненно роскошной и изысканной жизни. Говорят, женщины Сибариса принимали приглашение на обед, только если оно поступало как минимум за год, столько времени им требовалось, чтобы подготовиться. Лошадей же своих сибариты дрессировали не для войны, но для танцев под звуки флейты на своих пирах.
Вагон пустел, по мере того как мы ехали на юг. К Пестуму нас осталось не больше десятка. Снова молодые люди, горстка японцев и в самом конце необычная пара: женщина с серыми волосами, очень элегантно одетая – синее платье в тонкую черную полоску, и с ней другая, помоложе, золотистая блондинка в белом платье, очень простом, но безупречного покроя. Наверняка мать и дочь, хотя они были совсем не похожи, разве что повадкой. Обе прятали глаза за большими очками а-ля Одри Хёпберн и сидели очень прямо. Молодая держала на коленях что-то черное, большое, вроде корзины странной формы, закругленная крышка которой была прикрыта кремового цвета тканью. Я рассматривал их, и молодая, заметив это, улыбнулась. Отвечать охоты не было.
Я вернулся к чтению: исторические памятники Пестума в числе лучше всех сохранившихся в Европе; до нас почти в целости дошли три храма, посвященные жене Зевса Гере, его брату Посейдону и его дочери Афине. Храмы и, кроме того, – икона этого места, звезда первой величины, знаменитый ныряльщик. Посейдон, ныряльщик и его могила: трижды зеленый свет моему страданию. Или Лука был извращенцем, или приверженцем шоковой терапии.
Японцы и две европейки вышли, как и я, на Карпаччо Пестум, микроскопическом вокзале, откуда дорога среди кустов в розовых и лиловых цветах ведет к раскопкам. Жара стояла адская, и вскоре всех нас придавило вдвойне – мощью солнца и мощью храмов.
Две женщины направились спокойным шагом к самому большому храму. Они двигались очень непринужденно в своих легких платьях и сандалиях на босу ногу, как будто не чувствуя зноя. Я оставил камни на потом. Сначала надо было разобраться с мифом. Могила была демонтирована и установлена в музее, смахивающем на мавзолей диктатора. Я миновал невероятную коллекцию оранжево-черных ваз с крылатыми никами на боках, обошел статую сатира Марсия, с которого заживо содрал кожу бог аполлон, женский бюст, покрытый свастиками – это был солнечный символ, до того как стал нацистским, – и мраморную плиту с изображением самоубийства аякса, бросающегося на воткнутый в землю меч, – средиземноморская вариация сеппуку. Ребенок лет семи таращил глаза, его ладошка тонула в руке отца. Горло у меня сжалось. Какого черта я делаю здесь, один? Разве не должен я тоже быть с моим сыном? Показать ему эту красоту, развить его ум, любознательность, выработать в нем чувство проходящего времени, познакомить с канувшими цивилизациями, ему ведь еще больше, чем моему поколению, грозит культ сиюминутности.
Вместо этого я собирался побеседовать с мертвецом. Вернее, с его изображением.
Я был у цели. Вот и он. Передо мной. Нарисованный на крышке этой могилы-саркофага. На боковых плитах изображены сцены пира. Мужчины возлежат на пышно убранных ложах, поднося к губам кубки с вином или предаваясь «коттабу», древней игре, состоящей в том, чтобы прицелиться в заданную точку и произнести имя любимой. На одном из лож нежно обнимается пара. Один из гостей держит между большим и указательным пальцами яйцо, символ жизни после смерти. Женщина только одна, она играет на крошечной флейте, ее белое лицо контрастирует с охрой мужских тел и синевой тканей.
И вот, наконец, он, на плите-крышке. Ныряльщик. Il tuffatore. Ныряющий в пустоту обрамленный цветочным орнаментом, – это напоминает титр немого фильма – с вышки, состоящей из трех колонн на фоне чахлого деревца со сломанной веткой. У ныряльщика черные волосы и открытый светлый глаз. Он будто парит в воздухе, натянутый как тетива, голова на комично прямой шее, выпрямлены и ноги, и торчащий пенис, крошечный отросток над мошонкой, вмещающей «шарики», как говорит мой сын. Выпуклая, бугристая от волн поверхность изображает море, рядом с которым растет еще одно дерево, морское дерево, близнец дерева земного, но сильнее. Ни одна ветка не сломана.
Неба на этой фреске нет.
Я немею. ритм сердца замедляется.
Неизвестно, кого похоронили в этой могиле. на табличке по-итальянски и по-английски написано, что останки покойного были обнаружены в виде праха, в окружении трех сосудов – один из них содержал ароматизированное масло, которым пользовались атлеты, частицы металла, не поддающиеся определению, и фрагменты панциря черепахи. Мотив ныряльщика, кстати, редко встречается в погребальных росписях.
У входа в зал на плоском экране показывают фильм об открытии могилы в 1968 году. Маячат лица археологов, рассуждающих о таинственной символике фрески. По мнению некоей Дейзи, американской исследовательницы, нырок имеет «магический и религиозный смысл», связанный с орфизмом – загадочной религией, тайну которой Античность сумела сохранить до наших дней. Мы стали свидетелями «очистительного возрождения морскими водами», объясняла она, видя в ныряльщике душу умершего, освободившуюся из телесной тюрьмы. Французский археолог рассказывал, что панцирь черепахи в могиле был, вероятно, частью музыкального инструмента, подобного тому, на котором играл Орфей, который потерял любимую, но сумел своим пением тронуть бога преисподней и добиться позволения вернуть ее в мир живых. Тот же ученый говорил о золотых пластинках, на которых были выгравированы закодированные инструкции для умершего, следующего в потусторонний мир, и молитвы: «Счастливый, трижды счастливый, из смертного ты станешь богом».
От этой красоты мне было больно. Пас, я уверен, понравилось бы. Я протянул руку к ныряльщику, проигнорировав раздавшееся пронзительное гудение. Положил ладонь на холодный камень. Кем же ты был, ныряльщик, младший братец моей любимой?
– Prego[43], – сказал смотритель.
Я отошел. Ноги не держали. Я сел перед могилой и обхватил голову руками. Плита, камень, стена. Меня захлестнул гнев. На Луку, толкнувшего меня сюда, на себя – за то, что послушался его совета, на всех этих ученых, рассыпавшихся в комментариях о химерах народов прошлого. Пас стала бессмертной, стала богиней, счастлива, трижды счастлива, потому что она нырнула в глубину? Решительно, патетичен извечный и тщетный поиск сублимации человека перед этой тайной тела, из которого ушла жизнь.
Я не был Орфеем, да и все равно даже Орфею не удалось вернуть Эвридику. Просто потому, что мертвые мертвы. Их вернуть нельзя.
Я вышел из музея. Бесцельно прогулялся по раскопкам. В ресторане, который с 1929 года утолял голод посетителей, я не притронулся к своей тарелке. На стенах афиши 30-х годов сулили театральные представления и античные танцы на следующей неделе. На черно-белых фотографиях девушки в платьях весталок танцевали под колоннами храма. Казалось, языческое действо начнется здесь с минуты на минуту.
Перед уходом я прошелся вдоль храма Посейдона с его мощными колонами, поблуждал среди развалин амфитеатра и бассейна, посвященного Афродите.
Я искал выход, как вдруг увидел двух женщин из поезда.
Они сидели у корней высоченной оливы, которая прямо перед храмом Афины давала посетителям благодатную тень. Здесь расположились несколько человек и, сидя на траве, закусывали сандвичами. Две женщины – вернее, женщина и девушка – не ели, но кого-то кормили. То, что я принял за корзину, оказалось клеткой изрядных размеров. Покрывающую ее ткань сняли, и та, что помоложе, открыв дверцу, с величайшей осторожностью запускала туда руку. Вытаскивая ее назад, она доставала то ли зернышко, то ли червяка, бог весть, из коробочки, которую держала вторая женщина. Я прищурился, пытаясь рассмотреть. Птица или грызун? Змея? Нет, не видно. Надо было подойти ближе. Я так и сделал и был уже метрах в трех от них, когда старшая меня заметила. Она повернулась к своей юной спутнице, та закрыла клетку и, сняв очки, как будто они ей мешали, уставилась на меня.
Она смотрела достаточно долго, чтобы я мог хорошо разглядеть ее глаза. Бледно-зеленые. И теперь, когда наконец всплыло это воспоминание, мне не надо задаваться вопросом, мерцали ли, да или нет, в этой бледной зелени золотые искорки. Потому что я уверен: эта девушка в Пестуме, с овальным лицом и огромными глазами, – та самая, что постучалась в мою дверь. Эта девушка – Нана.
II Воскресший Франция, Париж и Испания, Дейя
Книга каждые три дня
Я покинул зону, залитую солнцем и смертью. В одной из лавочек, полных сувенирных кружек с надписью Ricordo di Paestum[44] и изображением ныряльщика с торчащим пенисом, я купил для сына доспехи римского легионера. И еще шлем, щит и меч из пластмассы, все было сложено в сетку, и я закинул ее за плечо – ветеран побежденной армии, бредущий в ночи.
Когда я вернулся в пансион, было уже поздно. Я открыл бутылку пива и вышел на балкон. Мы провели здесь чудесные часы. Лука был прав. Я не должен портить воспоминания. На этом раю я поставлю крест. Только запишу адрес нашему сыну. Может быть, ему захочется когда-нибудь, позже, увидеть место, где его родители любили друг друга. Хотя… вправду ли кому-нибудь хочется посещать такие места? Над Капо-дель-Орсо собиралась гроза. Вскоре молнии вспороли небо, освещая море ослепительными вспышками. Природа была согласна.
В последний раз я лег на блестящую плитку, глядя в небо. Как это делали мы с ней прежде, когда я жил в ритме ее дыхания.
Счастливый, трижды счастливый, из смертного ты станешь богом.
Назавтра я заехал к скульптору забрать пловчиху. Отреставрированную. Собранную. Воскресшую. Готовую занять свое место у нас дома.
И я вернулся к нам домой.
И у нас дома поставил ее. В большой вазе. Головой вниз, потом головой вверх. Никакого чуда не произошло.
Мое паломничество было тщетным. Мой искупительный демарш с треском провалился.
Я кружил по квартире. Глушил лекарства, чтобы спать. Днем и ночью, а за окнами на Париж навалилась жара.
Почему ничего не происходит? Я поклялся ей починить статую, я это сделал, а Пас безмолвствует? Не хочет дать мне ответ, которого я ждал?
Значит, она и такая, скорбь: надежды, потом безнадежность? Пустота, которая заполняет вас и пожирает?
Прошло две недели. Сына я отправил к моим родителям на каникулы. Хотел было сесть в машину и поехать поцеловать его. Но увидеть ее снова в нем и еще острее осознать, как получить пулю в лоб, ее не-присутствие? У меня не было на это сил. Я почти ничего не ел. С головой ушел в работу, чтобы дни падали один за другим, как высокие сосны последних лесов под финскими бензопилами, лучшими, говорят, на рынке.
Вечерами я валился без сил.
Тогда я и подумал о пропуске в мир иной. Сделал заказ по интернету. Через три дня получил все в красивой коробке. И на этот раз товар был в целости. Я начал глотать сильнодействующие капсулы. И вот тут-то она позвонила в первый раз, моя соседка, потерявшая ключи.
* * *
Через три дня после этого визита она позвонила снова, чтобы вернуть мне «Теогонию». Я много спал. Сказать по правде, только и делал, что спал. Когда я проснулся, было уже не так жарко. Собачка скрылась в своей конуре. На Нане были джинсовые шорты и сандалии. И хлопковая рубашка, расшитая цветами и птицами в наивном стиле, немного в духе хиппи («это из Эквадора», – скажет она мне однажды), рукава которой она закатала, обнажив светло-коричневые руки. На запястье по-прежнему поблескивали два золотых браслета.
Я спросил, не хочет ли она чего-нибудь выпить.
– Кофе со льдом было бы отлично.
Голос у нее оказался нежный, в первый раз я этого не заметил, но меня можно понять. Я направился в кухню. Она двинулась следом, с желтой книгой в руке, как будто боялась оставить ее одну.
– Я хотела извиниться за тот раз.
Я поднял глаза от кофе-машины, в которую только что вставил капсулу.
– Проблемы с ключами – с кем не бывает, – ответил я, всматриваясь в ее лицо.
Она и бровью не повела. Врать явно умела. Впрочем, может быть, и нет, потому что добавила через пару секунд:
– Это немного сложнее, чем просто проблема с ключами.
Я не стал настаивать. Занятия живых, их дела касались меня все меньше. Закапал кофе, сразу наполнив кухню ароматом. Самое прекрасное журчание в мире. Я поставил на столик большой стакан со славным коричневым напитком, в котором плавали три льдинки. И крепкий эспрессо для себя.
Присутствие этой девушки в моей кухне, куда никто посторонний не заходил уже много месяцев, нарушило закосневший порядок, в котором я жил. Словно впрыснули жизнь в этот большой труп, которым стала квартира вкупе с моим телом. Два обугленных интерьера. Она села. Я остался стоять, прислонившись к разделочному столу. Я не решался заговорить с ней о Пестуме теперь, когда мне это вспомнилось.
– Надеюсь, на этот раз я вам не помешала? – спросила она, нарушив повисшее между нами молчание.
Я утратил рефлексы. Разучился болтать. Мой взгляд упал на обложку книги.
– Вы посмотрели ее?
– Вообще-то я ее перечитала.
Лично у меня о ней остались только смутные воспоминания. Прекрасные, но смутные. «Теогония» – это Книга бытия греков. Помню, что в детстве меня очень впечатлили гекатонхейры, сказочные существа о ста руках и пятидесяти головах, которые сражались на стороне Зевса и метали целые горы.
– Мне показалась просто невероятной сцена кастрации, – сказала она.
Неслабое начало. Я боялся, что не смогу соответствовать. Она продолжала:
– Я и забыла, до какой степени это круто. – Она очаровательно раскатывала «р». Воркование голубки. – Мало того что сын отрезает член своему отцу точно в момент, когда тот занимается любовью с его матерью, он еще и бросает его в море, где из него вытекает вся сперма. Это круто!
– Да, но она станет пеной, из которой родится Афродита. Круто, но поэтично.
Она поднесла кофе к губам и улыбнулась, поди знай почему.
– Вообще-то ее надо было назвать Спермадитой…
– Это не так изящно.
– Вы находите?
Она засмеялась. Смеяться над Гесиодом. Это что-то новенькое. Мы перешли в гостиную. Свет был мягкий, и от этого хотелось быть чуточку счастливее.
Прошла секунда, другая. Сказать мне было особо нечего.
– Вам это не показалось допотопным? – спросил я.
– Простите?
– Старым.
Она посмотрела на меня удивленно. И вдруг выпалила:
– Вы чувствуете себя старым?
Она была права, но я сделал вид, что нахожу это дерзостью.
– Почему вы меня об этом спрашиваете?
– Потому что мужчина, имеющий целую библиотеку книг на древнегреческом, который дал мне почитать одну и хочет знать, нашла ли я это старым, должен сам чувствовать себя старым.
Я не удержался от улыбки. Впервые за много месяцев.
– Старее вас, – сказал я. Но тотчас спохватился. Не хотелось, чтобы она могла подумать, будто я ее клею. Я показал на книжный шкаф:
– Все-таки надо признать, он полон книг, которых никто больше не читает. И никто больше не прочтет.
– Зачем вы так говорите? Глупости. Дети всегда будут любить эти легенды и сказки.
– Надеюсь, что вы правы.
Я и на самом деле надеялся. В моей стране, хоть и отравленной ностальгией, все происходило так, будто слово «наследие» стало ругательным. Знакомя учеников с великими фигурами науки XVI и XVII веков, школьные учебники предлагали представить страничку Коперника в фейсбуке или предположить, какие твиты и видеоролики запостил бы первооткрыватель гелиоцентризма, попади он в нашу эпоху. Теперь прошлое должно было приспосабливаться к настоящему. В то время как вся планета делала обратный выбор, Китай вновь воздал должное Конфуцию, а Америка, хоть и видела будущее в Пало-Альто[45], продолжала наращивать мускулатуру своих classic studies[46]. Наши же ответственные лица зациклились на слове «цифровой», мечтая о Силиконовых valleys[47]и french[48] Калифорниях и не ведая, что, прежде чем основать фейсбук, Марк Цукерберг (которого отнюдь не назовешь реакционером) славился в Гарварде своей способностью читать наизусть целые пассажи из «Илиады». Чтобы создавать миры, а значит, сначала их выдумывать, прошлое, думается мне, может кое в чем помочь. А что, если воображение подпитывает интуицию? Да, я надеялся, что она окажется права. Что однажды мы станем не такими беспамятными. Не такими самонадеянными.
– И потом, она прекрасна, ваша библиотека, – сказала она, пробежавшись взглядом по метрам желтых и кирпичных корешков.
– Я отношусь к ней как к другу. Я никогда не прочту все, что стоит на этих полках, но я знаю, что все это есть. На всякий случай. Они связывают меня с другими эпохами. Мне это нравится. Я путешествую в них.
Она тоже улыбнулась, но ничего не сказала. Отпила глоток кофе, вытянула свои тонкие ноги. Она была так молода. Я боялся пауз.
– Чем вы занимаетесь в Париже? – спросил я.
– Архитектурой.
Она заканчивала магистратуру в Высшей школе архитектуры Париж-Бельвиль. Выбирала ДП. «Дипломный проект», – уточнила она. Искала стажировку. Работа, впрочем, у нее была, и сейчас ей пора. Я решился, думая застичь ее врасплох:
– Вы знаете, что мы уже встречались?
Она как будто удивилась. Я рассказал ей: Пестум, два месяца назад. Она покачала головой:
– Вы, должно быть, путаете.
– Вы не были там в мае?
Она опять покачала головой. Я не настаивал. Чувствовал себя глупо. Она спросила, можно ли взять еще одну книгу. Мне не верилось, что ей это действительно интересно. Я предложил выбрать для нее. Достал с полки том Пиндара[49], величайшего поэта Античности, того, что определил человека как «сон тени».
– Увидимся через три дня, – сказала она мне, шагнув за порог. Похоже, у нас складывался ритуал. – И берегите себя.
Да, ритуал.
В этот вечер я снова начал понемногу есть.
Мой сын у дедушки с бабушкой зачитывался приключениями Астерикса. «Все хорошо, папочка», – сказал он мне по телефону.
* * *
Она пришла, как обещала. Через три дня. Снова вторглась в мое одиночество. Не то чтобы я ни с кем не виделся, но не говорил по-настоящему ни с кем. Я больше не открывал душу.
– Вам понравилось?
– Да, это прекрасно.
– Вы легко понимаете?
– Стараюсь, мой отец хотел бы, чтобы я вернулась к древнегреческому.
Мы были в гостиной. Она позвонила в домофон. Выбрала на этот раз вечер. Я открыл бутылку вина. Я чувствовал себя старым профессором, принимающим дома ученицу. Пить она отказалась. Предпочла воду. На ней были брюки из грубого синего полотна, сандалии и матроска. Я всматривался в ее бледно-зеленые глаза с золотым блеском. Вправду ли я мог ее с кем-то спутать? Или, вернее, спутать кого-то с ней? Заводить речь о Пестуме мне не хотелось. Она спросила, как прошел мой день. Что я делал. Прессу она почти не читала.
– Журналист, интересующийся древностью?
– Она богата уроками. Прошлое часто проливает свет на настоящее. Можно усмотреть интересные параллели, уверяю вас. Будете меньше удивляться. Даже многое предвидеть. Люди меняются мало. Все так же хотят власти, войны, любви.
Она не сводила глаз с книжного шкафа. Я и сам такой же. Посмотреть, какие книги кто-то читает или выставляет напоказ, – ведь, в сущности, намерение уже что-то значит – я всегда считал это верным способом узнать, с кем имею дело.
– Почему же тогда вы спросили меня в тот раз, не показалось ли мне это старым?
– Из кокетства.
Кокетство старпера. Я поднес бокал к губам. Вино было отличное. В обществе этой девушки я будто вновь открывал для себя кое-какие вещи в жизни.
– У вас вся серия? – спросила она, глядя на Великую стену.
– Нет… Вы знаете, что она дитя войны?
Готово дело, я не удержался, желая заполнить паузу. Усталость от себя и своих рефлексий вновь дала о себе знать. Я не стал продолжать. Нана уловила мои колебания.
– Расскажите же.
– Вам интересно?
– Очень интересно, – ответила она. Властный тон и властный взгляд устремленных на меня зеленых глаз.
Мне почудилось, что она подбадривает меня. И я рассказал ей об основателе этой серии, двадцатидевятилетнем лингвисте: призванный в армию в 1914 году, он захотел взять с собой «Илиаду», великую поэму о войне и людях. Просто ли для того, чтобы перечитать эти страницы, основополагающие для цивилизации, которая рушилась под снарядами? Чтобы придать себе мужества? Почерпнуть идеи? Вспомнить Улисса, которому помогла победить хитрость? Этого никто не знает. Как бы то ни было, наш лингвист нашел лишь немецкое научное издание, что вряд ли было бы патриотично в окопах. И он пообещал себе, если уцелеет, создать серию классики, каждый том которой помещался бы в кармане рядового гражданина.
– А сова – это дань Афине?
– Да, богине войны, а также мудрости. Я не знаю, мудро ли воевать, но…
Она перебила меня:
– Вам знаком Форназетти?[50]
– Дизайнер?
Она кивнула.
Я обожал Пьеро Форназетти. В 50-х и 60-х годах этот непревзойденный мастер, совмещая в безумных графических играх античность и сюрреализм, создал несметное количество мебели, посуды и всевозможных вещей, продиктованных ему фантазией. Человек, заявлявший, что, будь он министром, немедленно открыл бы сто школ воображения.
– Почему вы о нем вспомнили?
– Они с моим отцом были друзьями… Отец много рассказывал мне о нем.
Два упоминания отца за пять минут. В моей гостиной витал дух Эдипа. Она продолжала:
– Я думала о том, что вы сказали в тот раз, про старое. Форназетти говорил, что вещь становится интереснее и красивее, именно когда стареет, когда износ материала, из которого она сделана, дает «патину», так правильно по-французски?
– Да… определенный цвет, определенная структура, появляющиеся под воздействием времени, трения.
– Вы не старый, вы в патине.
А она, однако, нахалка.
– Спасибо за комплимент.
– Да, это комплимент. – Она улыбнулась и встала: – Который час?
Я ответил. Она сказала:
– Мне придется вас оставить.
К моему немалому удивлению, меня это кольнуло.
– Вы встречаетесь с братом?
– Нет, я должна закончить одну работу с приятелями. Проект для школы. А потом мы идем на концерт.
Молодые люди. Без патины. Я хорошо их себе представлял. Студенческий энтузиазм, работа под шуточки, если вообще была работа. Потом концерт, холодное пиво, голова плывет, тела в поту, а дальше…
– Вы выберете мне еще книгу?
Мне это доставило удовольствие. У меня было странное чувство, как будто все, что она делала, только и было для того, чтобы доставить мне удовольствие.
– Почему бы вам не взять «Илиаду»?
– Это про войну…
– Много больше.
Она подошла к книжному шкафу. Пробежалась пальцами по корешкам и зажмурилась с детской гримаской. Остановившись на одной книге, достала ее с полки. Открыла глаза и прочла вслух название:
– «Дафнис и Хлоя», Лонг[51]. Это хорошо?
– Один из величайших античных романов о любви. Он поверг в трепет весь Ренессанс… Равель написал по нему балет. Мильпье[52] недавно возобновил его в Парижской опере.
– Но это хорошо или нет?
– Пастух и пастушка, чистые сердца и даже пираты, немного наготы…
Она улыбнулась и сунула книгу в свою сумку:
– Это отвлечет меня от «контекста и творческого вмешательства современности в историческую застройку».
У двери она сказала:
– Я, правда, не принесу ее вам через три дня.
– Почему?
– Я уезжаю на десять дней.
– Каникулы?
– Настоящих каникул у меня не бывает. Надо съездить по делам к отцу.
Третье упоминание. Он, должно быть, замечательный человек, раз произвел на свет такое создание. Грация. Внимание к ближнему, что довольно необычно. Еще и любопытство. Это такая редкость.
– А вы?
– Я кое-что планировал. Но все отменилось, – ответил я той, что была повинна в этом изменении программы.
– Тогда сможем увидеться, – сказала она с улыбкой, не оставившей ни малейшего шанса грусти.
Она протянула мне руку:
– Еще раз спасибо.
Ладонь была теплая. Я открыл дверь. Проследил за гибкой траекторией тела до двери напротив. Она вставила ключ в замочную скважину, повернула его и вошла к себе, не оглядываясь. На этот раз она не сказала «Берегите себя». Что же, успокоилась на мой счет? Я будто всплывал из тумана. Но она меня озадачила. Ее уверенность, ее энергия, ее прозорливость. Она словно читала меня. Доказательство? Я прошел по коридору в комнату сына. Щелкнул выключателем. Над кроватью, на стене, для которой сын захотел сам выбрать обои с картинками, на бледно-голубом фоне плавали рыбы всех форм и размеров, всех видов, колючие ерши и рыбы-луны, в чешуе и в панцире, изображенные с такой скрупулезностью, будто рисунки из очень старого учебника зоологии.
Обои за подписью Форназетти.
Овчарня
Я проснулся в кровати сына вместе с солнцем. Слева громоздились стопками его книги, атласы несуществующих стран, романы Роалда Даля. Справа ящик с игрушками, до краев полный конструкторов и персонажей «Звездных войн». И наша с ним фотография в рамке рядом с фигуркой существа с головой акулы. Как я мог подумать так с ним поступить? Бросить его?
Он был у моих родителей. Я сказал, что у меня много работы и ему там будет лучше. У них есть ориентиры, а я свои разрушил. Я позвонил, сказал, что приеду. Я умирал от желания увидеть его, уткнуться носом в его шею, надышаться им, утопить в его запахе чувство вины, проклиная себя за то, что хотел бежать из жизни.
Таблетки я выкинул.
Он бежал ко мне по перрону старого вокзала, мой отец следом, медленнее, не такой нетерпеливый, как маленькое существо с тонкими мускулистыми ножками, прыгнувшее мне на шею.
– Папа!
Он сказал, это superguay, что я приехал. Произносится «гуай». Это слово могла бы сказать Пас. Я выбрал няню-испанку, которая сидела с ним после школы. Мне хотелось, чтобы он продолжал говорить на языке своей матери. Guay, «здорово».
– Почему ты плачешь, папа?
Подошел мой отец.
– Твой папа плачет, потому что очень счастлив тебя видеть, – сказал он.
Я улыбнулся сквозь влагу.
– Это правда. И еще superguay, что мы с тобой едем на каникулы.
– Вот отличная новость, – улыбнулся отец, радуясь, что снова видит меня на ринге.
Телефонный звонок, пять кликов в интернете – и все было улажено. Еще до лета один приятель рассказал мне, что сдается домик на Майорке. В деревне Сьерра-де-Трамонтана. Бывшая овчарня. Слишком маленький для него, но идеальный для пары. Тогда я вежливо поблагодарил. Теперь же я говорил себе, что мы с сыном составим лучшую в мире пару. Я позвонил Артуру. Он снял главный дом, но бывшая овчарня была свободна на неделю. Только на одну неделю.
– Ты выглядишь получше. Это радует, – сказала мать, целуя меня.
– С малышом все хорошо?
– Все хорошо, но он скучает по тебе. Все время рисует для тебя картинки.
– Теперь я ему порисую.
Самолет летел сквозь облака. Сын сидел смирно. Как ягненок, принято говорить, но где вы видели смирных ягнят? Он украдкой наблюдал за мной, я это видел. Косился краем глаза, следил. Я взял ручку и блокнот, которые подарила ему стюардесса, чтобы он не скучал.
– Ты знаешь, кто такой Морламок?
Он покачал головой.
– Это маленький мальчик, которому дан чудесный дар. Все, что он рисует, становится настоящим. Смотри.
Два часа полета пронеслись под приключения Морламока. Мой карандаш скользил по бумаге. Морламок оживал, вскоре его захватил в плен жестокий король Санвит, который хотел использовать во зло его дар, но освободил Стрип, бог – покровитель художников. Я часто думал о теракте 7 января[53], оборвавшем жизни самых свободных людей на свете, а для некоторых – самых добрых друзей, например старины Жоржа[54]. Правда ли, что он показал убийцам, перед тем как упал, скошенный их пулями, средний палец? Мне хотелось в это верить.
Руки и ноги у сказочного Стрипа заканчивались карандашами, и передвигался он, рисуя. Подняв войско нарисованных им солдат, он сокрушил тирана и отправился домой, царствовать в раю художников.
– Надо все раскрасить, – сказал сын, – у тебя все черное и белое.
– В том-то и беда Морламока. Все, что он рисует, оживает, но рисует он куском угля на стенах, вот и получается все цвета стен, тусклое.
– Тусклым быть грустно.
– Золотые слова. Поэтому Морламок должен отправиться к королю красок в Колористан.
– Это там, где «Исламское государство»?
Я похолодел, в очередной раз убедившись, что наши дети живут с теми же кошмарами, что и мы.
– А какая религия у террористов? – спросил он меня, придя из школы через два дня после нового теракта.
– Глупость, – ответил я.
Он уснул, прильнув ко мне. Головой на моих коленях.
– Папа, мы пойдем в Акваленд?
Он увидел большие рекламные щиты и возбудился. AQUALAND: RAPIDOS DESCENSOS Y VERTIGINOSOS GIROS[55]. Крупными буквами на выезде из аэропорта. С сияющей улыбками семейкой в купальниках, которая, размахивая руками, крутится на гигантском надувном колесе в бурном потоке. До сих пор он сидел тихо на заднем сиденье, надежно пристегнутый, слушал, заслонившись темными очками в оранжевой оправе, свою любимую песню «Чокнутый Джонни» из альбома Franz Ferdinand & Sparks[56].
– Мы пойдем, папа?
– Куда?
– В Акваленд.
– А это не cutre?
Словечко его матери. Cutre – по-нашему «паршиво, хреново».
– Нет, это не cutre. Это paraiso de los niños[57], так написано. и там есть rapidos descensos y vertiginosos giros.
– Я видел. Попробуем.
– Это значит да?
– Это значит почти да. Вот на столечко от «да».
Я поднял руку, почти соединив большой и указательный пальцы, но все же оставив крошечный просвет.
Он улыбнулся и удобнее устроился на сиденье. Мы ехали на арендованном «сеате ибица», оставив позади Пальму с ее навороченными гостиничными комплексами и держа курс на Сьерра-де-Трамонтана, миновали висячие виноградники Баньяльбуфара и свернули на шоссе в Дейю. В небе над нами порой пролетал орел.
Каменные домики с черепичными крышами спят, ставни закрыты, жара. Ферма с овчарней стоит на склоне холма, море из сосен и олив тихонько сбегает к Средиземному морю, к бухточке, в ласковые воды которой я не премину скоро окунуться. Там покачивается на якоре рыбачья лодка. У моего друга Артура гостят друзья, еще две пары, как и хозяева, они живут в главном доме фермы, в двухстах метрах. Артур пригласил меня поужинать, когда захочу, Карима будет так рада. Почему бы и не сегодня вечером, а? Я ответил, что хотел бы побыть с сыном. «Ты извинишь меня? У нас мало времени. Лучше сам приходи выпить сегодня вечером, перед ужином». Артур кивнул и хлопнул меня по плечу, успокаивающий жест.
Я сходил в деревню, купил бутылку кавы, местных оливок, хлеба и sobrasada[58]. И снеди на несколько обедов и ужинов, прежде всего – для alla carbonara, любимого блюда моего сына. Макароны – практически единственное, что я умею готовить, но получаются они у меня отменно.
Мы искупались. Даже поплавали на лодке. Это было чудесно. Он улыбался во все свои молочные зубы. Один уже шатается, и он этим горд. Он такой грациозный, этот малыш. Ему нравится наш домик, затерянный в дикой природе. «Дом разбойников», – говорит он. Домишко крошечный, но плиты пола так приятно холодят ноги, когда мы по раскаленным камням возвращаемся с купания. Стены толстые, неровные, беленные известью, торчащие из пола куски гранита служат полками. На увитой виноградом террасе стоят большой деревянный стол – вообще-то это бывшая дверь фермы, – и четыре стула, грубых, но мне они нравятся. «Да, это наш дом разбойников».
Под душ вдвоем, отец и сын. Он трясет головой, когда мыло затекает в глаза. Но не хнычет. Он очень хочет меня порадовать. Я натянул на него шорты и футболку Historias Corrientes[59]. В Париже он смотрит эту передачу канала Cartoon Network со своей няней. Приключения Мордекая и Ригби, нескладной голубой птички и енота в парке, куда их наняли следить за порядком. Они бездельничают, прохлаждаются, говорят все время superguay и chichi, что означает примерно одно и то же, – в общем, можно умереть со смеху. Один из их друзей – привидение со всегда растопыренной рукой, привязанной к голове. Его зовут Chócala, «Договорились». Бред. Умора.
Зашел Артур, спросил, как я держусь. Сказал, что малыш может приходить к ним в любое время – поиграть с его детьми и малышами Бальзамо, одной из пар приехавших друзей. «Пока мы лучше побудем вдвоем», – повторил я. Открыл каву, и мы чокнулись. Для своего ненаглядного я принес стакан лимонада. Стараюсь быть хорошим отцом. Укрепиться духом. Форназетти сыграл свою роль, я это знаю. Тот факт, что его упомянула моя юная соседка, что она его любит и говорила о нем искренне, доказало, что у меня еще есть вкус и что-то хорошее я все-таки могу передать сыну. Что я для него не пучина боли. Я смогу. Когда мы наклеили обои в его комнате, я повел его смотреть прекрасную ретроспективу, посвященную дизайнеру, в музее Декоративного искусства. Он был счастлив, что музей похож на его комнату, а значит, его комната тоже немножко музей. Я сфотографировал его перед ширмой, из которой высовывались десятки рук в натуральную величину. Они как будто тянулись к нему, чтобы защитить. Я все больше боялся за него в этом странном мире, где ему предстоит жить, ведь его и так уже не баловала судьба…
– Я приду к ужину завтра, – сказал я Артуру.
Мы спим в одной кровати. Здесь только одна и есть. Я смотрю, как он читает, и изо всех сил стараюсь не расплакаться. Он так похож на нее, копия, как говорит моя нормандская бабушка. Ее копия-ребенок. Ее копия-мальчик. Бровки у него точно так же хмурятся. Рот так же приоткрывается. Они пахнут одинаково. Один и тот же смуглый запах. Я боюсь за него еще и потому, что он слишком похож на нее.
Сплю я плохо.
Поднимаюсь вместе с солнцем. Открываю макбук и перебираю фотографии Пас, те, что мы выбрали с ней вместе, некоторые сделаны здесь, совсем рядом. Набрасываю несколько абзацев для книги, что должна была стать нашим детищем и будет называться отныне не «Книга о том, чего скоро не будет», а «Книга о том, чего больше нет».
Только не зацикливаться. Я встаю и готовлю завтрак, воздушную кукурузу, нарезаю немного фруктов и добавляю их в миндальное молоко, в котором плавают золотистые шарики.
– Папа!
Он выбежал на террасу, ореховые глаза заспанные, волосы взъерошены.
– Как поживает mi hijo?[60]
Так его называла она, я хочу, чтобы он это помнил. Он вылитый юный паж. Я говорю ему:
– Мы с тобой неплохо справляемся, правда?
– Si Papito. Chócala!
– Сегодня мы пообедаем в cala[61].
Хижина над морем как будто построена семейством Флинстоунов. Камни, бревна, соломенные зонтики создают тень над крепкими деревянными столами и теми, кто за них садится. Мы лакомимся осьминогом, жареными сардинами. Купаемся. Он пробует свою новую маску. Дует в трубку: «вау-вау». Стайки анчоусов серебристыми торпедами проносятся под его ногами. Он счастлив. Я ложусь рядом с лодочным сараем, это просто углубление в скале, полное рыболовных сетей и пропахшее газойлем.
Мы возвращаемся домой, в овчарню. Я даю ему horchata, напиток на миндальном молоке, с льдинками, которые позвякивают, когда он подносит стакан к губам, и его любимое печенье «Орео». Себе открываю пиво. Он просит продолжения сказки. Я повинуюсь, и вот появляется осьминожек Пульпито, друг Морламока, и с ним компания «сиран», сирен, которые не поют, а ревут. Он хохочет. Звонкий смех, взрыв чистой радости, от которой я таю. Потом он рисует персонажей в своей тетрадке: Пульпито возвращается в столицу осьминогов, где король Пульпус I хранит в пещере в своей библиотеке всю кладезь знаний мира, в том числе драгоценную карту Колористана, единственную, которая есть на свете. Я беру книгу, но сразу же закрываю ее. Предпочитаю смотреть на сына. Он напевает.
День потихоньку сменяется вечером. Он просит включить ему телевизор.
– А в твое время мультики были черно-белые?
Я смеюсь. В твое время. Мне всего сорок лет. В дедушкино время, да, но не в мое. Я откидываю крышку макбука:
– Посмотри-ка.
Я всегда удивлялся, почему сегодняшние мультфильмы не делаются по модели сериалов, с продолжением, ведь это всем так нравится… В мое время мы с нетерпением ждали следующей серии, как было обидно, когда она кончалась, как колотилось сердце в предвкушении, а теперь каждый фильм самодостаточен. Чистое настоящее, всегда и во всем. Захожу в поисковик и отыскиваю первую серию «Капитана Флама»[62], знакомящую с кораблем и экипажем. После этого сын будет просить «Флама» каждый день, посмотрит весь цикл увлекательных космических приключений и никогда больше не скажет, что у меня была черно-белая жизнь в детстве.
Мы одеваемся к ужину.
– Там будут дети, – говорю я.
– Дети Артура?
– Да, и еще другие. Дети его друзей.
Он выглядит напряженным. Да и я не лучше.
– Все будет хорошо, – ободряю я.
– Я скучаю по моим друзьям.
Только по друзьям он и скучает, больше не по кому… Мы не говорим об этом, если он сам не заводит речь. Психолог велел мне оставить его в покое.
Я надеваю полотняные брюки и старую джинсовую рубашку.
Артур с помощью фермерши готовит паэлью. Повязав передник, он хлопочет у гигантской сковороды, которую лижут языки пламени. Его жена не сводит с него глаз, и этот влюбленный взгляд для меня мучителен. Он встретил Кариму после разрыва с Ваниной, которая уехала с другим на край света.
– Я живое доказательство тому, что можно все начать сначала, – сказал он мне однажды.
– Она тебя бросила. Она же не умерла.
Рождество, впрочем, они всегда проводят вместе, с детьми, на нейтральной территории. Чаще всего в горах. Иногда на баскском побережье. Им даже случалось снова спать вместе. «Вкус был не прежний», – сказал мне Артур. Мне не понравилось это выражение, и я вспоминаю его теперь, когда запах ракушек, шафрана и горящих дров приятно щекочет ноздри. Я расслабляюсь. Здешние травы делают свое дело, да и местное вино, щедро льющееся в бокалы, тоже помогает.
– Тебе помочь?
– Отдыхай. Я справлюсь. Детей няня накормила крокетами с хамоном. Они играют, потом посмотрят Диснея. Ты сиди, ни о чем не беспокойся.
Мой сын приходит поцеловать меня, и это всех умиляет.
Вдовец всегда умиляет, особенно когда он еще и молодой отец.
Карима знакомит меня с их друзьями. Веронами. Изабель – психотерапевт, но называет себя «врачом души», Жером – архитектор. «Как Нана», – ловлю я себя на мысли.
Здесь и Бальзамо, с которыми я уже встречался, – университетские преподаватели, и еще трое друзей, они живут в красивом отеле, что расположен в деревне; длинноногую девушку с цветущим лицом зовут ирис, и она флористка, такого нарочно не придумаешь, и с ней двое мужчин, Лоран – дантист в XVII округе, Джибрил – бывший алгоритмический трейдер, ныне data scientist[63]. Попытка дать определение этой профессии и становится темой первого разговора за ужином. Потому что все обещали: ни слова о терроризме. Джибрил очень мил и педантичен, он объясняет, что его job[64] состоит в анализе и моделировании данных, которыми располагает предприятие, «с умом» и в реальном времени, чтобы лавочка работала лучше и «генерировала больше богатств». он говорит о «базах NOSQL», о machine learning и, видя, что большинство сотрапезников ничегошеньки не понимают и просто слушают из вежливости, резюмирует:
– Речь, в принципе, о том, чтобы определить через алгоритм, что любит клиент, чтобы затем предложить ему то, к чему он привык. А если мы еще не знаем его привычек, отыскать все следы, которые он оставил в интернете, чтобы предугадать, что он купит. И он действительно покупает.
– То есть ты помогаешь компаниям продавать еще больше, – говорит Карима.
– Не больше – лучше.
– И потом, речь не только о продажах, – добавляет Лоран. – В области здравоохранения это тоже исключительно ценно. Благодаря сбору данных медицина достигнет своей конечной цели – не только лечить пациентов, не зная, выздоровеют ли они, но и предупреждать болезни, чтобы, стало быть, не пришлось их лечить. Мы победим смерть…
– Есть еще несчастные случаи, – вставляет архитектор, и его тотчас осаживает взгляд Артура, который наверняка сказал всем, что некоторые темы нынче вечером под запретом. Он подмигивает мне – мол, не бери в голову.
Джибрил рассказывает нам, что в 2008 году в интернете были доступны 480 миллиардов гигаоктетов различных данных, сегодня же около восьми зеттабайт.
– Разве не говорят «зеттабит»? – спрашивает Хлоя Бальзамо.
Ее муж едва не давится лангустином, блестящим от экологически чистого масла. Мадам Верон перестает жевать своего. Панцирь свисает у нее изо рта.
– Хм, нет… – Отвечает Джибрил. – Говорят «байт». Биты – это совсем другое, другая единица измерения. В зеттабайте восемь зеттабит. Эквивалент объема 250 миллиардов DVD.
– А я никак не могу собрать тысячу подписчиков в инстаграме, – замечает Карима и подкладывает рис дантисту, который сияет безупречной улыбкой, опровергая присловье про сапожника без сапог.
Разговор обтекает меня. Я скучаю, но не слишком. Слава богам, ни одна тема близко меня не затрагивает. Меня спрашивают, писали ли в газете о data scientists.
– Да, как о самой сексуальной профессии нового века.
Джибрил улыбается, он тронут.
– Я всегда говорю, что он – синтез Колумба, как первооткрыватель этих океанов данных, и Коломбо, потому что должен заставить их говорить, как инспектор – свои улики, – добавляет Лоран, поглаживая его по руке, и мне от этого жеста немного грустно.
– Кто хочет вина? – спрашивает Артур.
– Оно изумительное, – кивает архитектор. – Я все же удивляюсь, что со всем этим знанием данных не получается остановить террористов, они ведь оставляют столько следов в социальных сетях…
– Жером! – одергивает его Карима. – Сказано же, что об этом мы не говорим.
– И правда, извини.
Флористка Ирис смотрит на меня блестящими глазами. Во-первых, говорю я мало, а от молчаливых мужчин ожидают очень многого. И потом, будучи вдовцом, я не только умиляю, я по определению вакантен сердцем и телом – и такой я единственный за этим столом.
Архитектор спрашивает Ирис, как она стала флористкой; та отвечает, что, когда была маленькой, ее мать ставила цветы во всех комнатах, даже в ванной, и на ее школьный портфель тоже, по цветку в день. Прекрасная идея, на мой взгляд. Ирис долго была охотницей за головами, пока не открыла собственную охоту, поняв, что у наемного труда нет будущего, – вокруг этой темы и завязался второй разговор за ужином. Ирис со знанием дела рассуждает об углеродном балансе цветка, импортированного из Эквадора, напоминает, что ездит в Ронжи[65], что покупает только напрямую, и сводит свое ремесло к единственному вопросу: «Как работать с дарами природы в мире, где технологии и виртуальность стали альфой и омегой всего?» С увлечением она рассказывает нам, что гипсофила вышла из моды, в отличие от дельфиниума и Heliconia. Она употребляет такие выражения, что я прихожу в восторг, например «забытые красавицы» – о цветах, которые снова входят в моду, – и unexpected wild.
– Нежданные дикари?
– Эустома, примула, агапантус, дикий ирис… – Отвечает она, глядя на меня пристально.
И принимается рассказывать о пышной свадьбе, для которой она обеспечила цветочное убранство и потребовала, чтобы комнаты украсили цветами под вечер, а не с утра.
– Вечерние запахи, с легкой росой, самые пьянящие.
Разговор перетекает на другую тему. Я все так же пассивен, вставляю фразу, когда надо, чтобы ко мне не приставали, плыву по течению, мне не приходится уделять внимание своей спутнице, потому что спутницы у меня нет, вот и хорошо. Флористка посматривает на меня украдкой. А я смотрю на стол и свечи, мерцающие светлячками в ночи. Я вспоминаю одну из первых сказок, рассказанных сыну. Про ночного мотылька, который каждый день вылетает в сумерках поискать счастья у цветов, но находит их всегда закрытыми. И вот он мечтает стать дневным мотыльком и собрать с них всех нектар. Редко кто видел, чтобы глаза насекомого так выразительно просили любви.
Да, она и правда на меня смотрит. Не слушает, о чем говорят за столом, или слушает вполуха. Похоже, я снова на рынке желания. Я пытаюсь вообразить себя между ее ног и отметаю эту мысль, потому что картину нахожу откровенно смешной. Длинные загорелые ножки, красивые зубки, известная чувственность, ничего отталкивающего в ней нет и в помине, но – нет. Мне это теперь неинтересно. Как и моему приятелю. Эрекция у меня бывает только во сне да в гротах, когда я думаю о Пас. Я, в сущности, и живу как во сне… на дне… На дне? Эти слова понравились бы моему идиоту-психоаналитику.
Все хорошо. То есть все было хорошо. Пока стайка детей не выплеснулась из дома к нам на террасу.
– Папа, папа! – кричит девочка, старшая дочка Артура, и встает прямо перед ним в очень торжественной позе. Остальные дети толпятся вокруг нее. Момент, похоже, серьезный. – Он сказал, что его мама на дне океана.
Повисает гулкое молчание, как будто на стол упала луна. Я ищу глазами сына. Его нет – наверно, остался в доме.
– Ничего страшного, – говорит Артур, которому не хочется надолго отвлекаться. – Идите посмотрите «Немо» и будьте умницами.
Он понимает, что ляпнул не то. «Немо»? История рыбы-клоуна, потерявшего мать. Хоть плачь, хоть смейся.
– Или лучше попросите Анжелу поставить вам другой фильм.
– Но, папа, зачем он говорит глупости? – не унимается девочка.
Я закипаю. Зову сына, он появляется, понурив голову.
– Что ты сказал? – спрашиваю я.
– Ничего страшного, – повторяет Артур.
Я настаиваю:
– Ты можешь повторить, что ты им сказал?
Он опускает голову еще ниже. А девочка не заставляет себя просить и снова выпаливает, глядя на меня очень серьезно:
– Он сказал, что его мама на дне океана.
Я подхватываю сына на руки, обнимаю. Запускаю руку в его чудесные волосы.
– Что ж, это правда, представь себе, – отвечаю я девочке. – Его мама на дне океана. И это вовсе не глупости.
Сын поднимает голову. Он удивлен, благодарен. Разговоры за столом стихли. Никто не находит слов. Взрослые сосредоточились и ждут, немного струсив, что скажет девочка.
– Это сирена? – спрашивает она.
– Вроде сирены, да. Без рыбьего хвоста, но еще красивее.
– И она была твоей возлюбленной?
– Да, она была моей возлюбленной. И его мамой.
Сын крепче прижимается ко мне. Девочка переводит взгляд на него:
– Извини меня, я думала, это неправда.
Она берет его за руку, и они возвращаются в дом. Артур подливает всем вина. В глазах, устремленных на меня, жалость, и мне это ненавистно. К счастью, прибывает десерт, давая пищу для нового витка разговора.
– Говорят, происхождение у него арабское, – замечает архитектор при виде прекрасной энсаймады, местного пирога, который Карима поставила на стол.
– Потому что в форме тюрбана? – спрашивает дантист.
– На свете много чего арабского происхождения, – говорит архитектор. – Это была великая цивилизация.
– Почему была? – возмущается Хлоя Бальзамо.
– Ну, потому что сейчас цивилизацией это назвать трудно…
– Мы же договорились не заводить об этом речи, – напоминает Карима.
– Ты права, поговорим о покемоне Го.
– Знаешь, как один водитель вдребезги разбил свою тачку, пытаясь поймать покемона?
– Еще одна форма терроризма, – шутит Джибрил.
– Да, но их-то ловят.
– Жером!
Когда наступает время мыть посуду, я оказываюсь рядом с Изабель Верон.
– Правильная у тебя была реакция, – говорит она мне, отряхивая с рук пену.
– Спасибо.
Я принимаюсь вытирать восьмой бокал.
– Но смотри, чтобы он не переселился совсем в мир фантазий.
– Мы стараемся.
Я кладу полотенце и выхожу из кухни. Я не ее пациент и не просил совета.
В саду пахнет ментолом. Прислонившись к невысокой каменной ограде, стоит флористка. Краснеет кончик тонкой сигареты в ее губах.
– Вы домой? – спрашивает она меня.
– Да, скоро. Уложу сына.
– Все дети спят. Не хотите выпить по последней в отеле?
Я вежливо отказываюсь.
– Я могла бы показать вам мои цветы.
– Это, должно быть, очень красиво, но я домой.
Она глубоко затягивается, кончик ее сигареты краснеет ярче.
– Вы уверены?
– Да.
– Жаль. Вам это пошло бы на пользу… – Голос ее вдруг стал хриплым. Она добавляет: – Можно делать чудесные вещи в цветочных лепестках.
Я нелюбезно обрываю ее:
– У меня аллергия на пыльцу.
Возвращаюсь в дом. Осторожно открываю дверь детской. Маленькие тела вповалку на матрасиках. Я наклоняюсь, отодвигаю ручку, ножку, плюшевую игрушку, нахожу сына и уношу его. Он тяжелый.
Я вспоминаю, каким он был легоньким, когда она ушла. На дне океана, да. Он цепляется за меня. Я последний спасательный круг. Со своей ношей я прощаюсь с гостями, с Артуром и Каримой, благодарю их.
– Вечер все-таки удался? – спрашивает меня Артур.
– Да. Не парься. Я уложу малыша. И сам баиньки.
Под кваканье лягушек, словно комментирующих мое продвижение, я ступаю на дорожку, вымощенную заросшими мхом камнями, и иду, ориентируясь в свете луны и звезд. Его щека горяча на моем плече. Я переживаю сладкую муку.
Акваленд
Это царство воды, солнца и резины. Адреналин течет рекой в лабиринтах труб, которые вздымаются волнами, перекрещиваются и извиваются гигантскими спагетти в небе Майорки, всасывая счастливых и испуганных человечков, съезжающих по ним. Rapidos descensos et vertiginosos giros[66]. Девиз написан большими буквами над входом в это вожделенное место, как «познай самого себя» на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Мой мальчик бежит под портик со всех ног в своих синих бермудах с красными якорями и футболке Adventure Time[67] – еще один его любимый мультик.
Акваленд – царство скоростей и головокружительных виражей, но это еще и царство жира. Целлюлитная кожа, чаще всего английская, иногда немецкая, блестит от крема для загара. Жестокое зрелище. Мой сын на нем не задерживается. Он хочет в Большой каньон.
– La major atracción para la familia[68]. Это для семей, папа. Мы с тобой семья, пойдем.
Отцовское сердце тает. Семья бегом поднимается по лестницам башни на тридцать метров над землей. Желтый круг подплывает к нам, направляемый руками двадцатилетней белокурой служащей в короткой маечке и мини-шортах, с бриллиантиком в пупке. На ее мускулистой попке желтыми буквами написано слово Lifeguard[69]. Так что мы без опаски садимся в круглую, желтую, туго надутую штуку.
– Disfruta[70], – говорит она.
У нее красивые зеленые глаза. И я, разумеется, вспоминаю Нану, перед тем как крепко прижать к себе сына.
Я беру паузу, а он бежит дальше, в Crazy Race[71]. Лежа на спине, как и три его конкурента в трех параллельных коридорах, руки вдоль тела, серьезный, сосредоточенный, настоящий гонщик, он мчится вниз на бешеной скорости по наклонной плоскости, в которую хлещут струи воды, заливая ему глаза еще до финального нырка. Меня охватывает страх, когда он летит в бассейн вместе с тремя другими гонщиками.
Лишь бы не ударился головой. «Перелом шейных позвонков», – проносится в голове. Я кидаюсь как оглашенный в бассейн, не обращая внимания на яростный свист lifeguard. Мой сын с победоносным видом выныривает из хлорированной воды.
– Есть хочется!
Мы идем есть, и я наслаждаюсь зрелищем его загорелого тела в мелких капельках и радостью, читающейся на его ликующем лице в этот чудесный день, всецело посвященный развлечениям.
Мы обедаем, счастливые, объедаемся фастфудом, вредным и донельзя калорийным. Верх наслаждения: жареная картошка, залитая майонезом и кетчупом, которые текут по пальцем и рисуют жуткую боевую раскраску на лицах. А нам плевать. Все пересолено и вкусно.
– Me mola! – говорит он. «Мне нравится».
– Что значит «умерла»? – Спрашивает он, когда мы стоим в очереди на Кола дель Дьябло рядом с Большим каньоном.
– Это значит, что твоего тела здесь нет, но твоя душа во всех мыслях.
– Во всех мыслях?
– В мыслях людей, которые тебя любят и думают о тебе, как если бы ты был здесь.
– Значит, она здесь?
– Когда мы думаем о ней, она здесь.
– Значит, она поднимается со дна океана?
– Она может быть везде.
– Как облако вокруг нас?
– Как облако.
Мы взбираемся по ступенькам.
– Я ее с трудом вспоминаю.
– Это естественно, ты был маленький. Ты и сейчас маленький.
– Как ты думаешь, это плохо?
– Нет, это не плохо. И потом, я тебе много всего расскажу о ней.
– Она бы хотела быть здесь?
– Да, ей бы это понравилось.
– Почему же тогда она решила умереть?
– Она не решала.
– А кто решил?
Я не знаю, что сказать. Но отвечать надо.
– Жизнь.
– Значит, жизнь злая?
– Ты думаешь, что жизнь злая?
– Нет.
Его темные глаза пристально смотрят на меня. Мой сын так красив.
– Тебе грустно, папа?
– Нет, когда я с тобой.
Я приседаю на корточки. Беру его лицо в ладони и целую в лоб. Сзади нас торопят.
– Я люблю тебя, папа.
– Я тоже тебя люблю.
Нана у себя дома
Я приехал из Гавра, где оставил сына, держа в голове последнюю серию нашего летнего романа в картинках «Приключения Морламока». Наш герой прибыл в Колористан. И узнал, что Унылые Господа, поклоняющиеся богу Тусклу и всегда одетые в серое, взорвали Цветной Храм, где молились пигментам, служащим для изготовления красок. В этих горах, вдали от родного моря, Пульпито иссох. Надо было добраться до Голубого озера, где он вновь обретет свою природную упругость. Я несколько раз засыпал, рассказывая эту сказку, становившуюся все более бредовой. Через равные промежутки времени сын будил меня, напоминая фразы, которые я говорил, сам того не сознавая. «А страж Голубого озера? Что он сказал?» Я все нарисую, пообещал я ему.
Мы купались в последний раз под синим небом, раскрашенным гуашью кружащихся облаков: импрессионистская палитра. Прыгали на волнах, отливавших всеми оттенками зеленого. В трехстах метрах, на линии горизонта, скользил между дамбами китайский супертанкер. Жизнь возвращалась.
– Почему ты едешь в Париж? – спросил он.
Я был не готов. Еще придется побороться с депрессией, подстерегавшей на каждом шагу. Заполнить пустоту, перестроить гнездо, где нам будет хорошо вдвоем. Где он будет видеть не только боль истерзанного отца. В этом смысле наше маленькое путешествие на Майорку было удачей. «Лишь бы это продолжалось», как говорила матушка Наполеона.
* * *
Я спокойно шел с дорожной сумкой на плече, глядя, как сгущается вечер розовыми, оранжевыми, темно-синими мазками, как вдруг увидел ее, паркующую свой мотороллер, белую «Веспу 946» с ярко-красным сиденьем. Она была в белых кроссовках и пурпурном платье-тунике, на носу большие темные очки.
Я остановился. Она сняла шлем. Ее светлые волосы были скручены в тугой узел. Я разглядывал линии овального лица, энергичный подбородок, длинные ресницы и миндалевидные, очень широко расставленные глаза, прямой нос, как у святых на иконах или античных статуй в музеях. Ее красота не была совершенной. Но задевала.
– Так вы тоже уезжали? – спросила она.
– Да, на несколько дней.
Я открыл перед ней тяжелую дверь из металла и стекла. Она скользнула в холл и прошла на лестницу, предоставив мне любоваться ее точеной шеей, тонкими лодыжками, загорелой кожей, под которой играли мускулы. Имел ли я на это право? Поднявшись на наш этаж, она остановилась и принялась искать в сумке ключи. Я чувствовал на плечах бремя – забытое благодаря сыну – одиночества.
Она повернула ключ в замке и открыла дверь.
– У вас найдется время что-нибудь выпить?
Я положил сумку в прихожей. То, что я увидел, лишило меня дара речи.
В коридоре я первым делом встретился с самим собой, отраженным в великолепном зеркале, обрамленном золотыми ветвями. По обе стороны от него стояли две скамеечки из того же металла. Мебель от Франсуа-Ксавье Лаланна, друга Магритта и Бранкузи. Нана пригласила меня пройти в гостиную и указала на диванчик в стиле ар деко. Свет едва просачивался сквозь тяжелые занавески; она раздвинула их и уселась в кубическое кресло, обитое кремовой акульей кожей. У окна Lockheed Lounge Марка Ньюсона[72] – алюминиевая кушетка, похожая на часть фюзеляжа самолета, – вытянулась во всей своей поп-красе. Эта обстановка стоила целое состояние. Нана скинула кроссовки и положила ноги на журнальный столик, сдвинув лежавшие на нем журналы и каталоги. На стенах множество рамок: картины, рисунки и фотографии; два античных торса, мужской и женский, охраняли дверь в дальнем углу. Предмет мебели, хорошо мне знакомый, «секретер», как говорили когда-то, был отделан под фасад дворца эпохи Ренессанса. Он открывался, я это знал, как открывается кукольный домик, а внутри крылись комнаты, колонны и лестницы в разрезе. Trumeau Architettura от Пьеро Форназетти.
– Он великолепен.
Она не ответила. В гостиной таились и другие сюрпризы. На столе с геометрическим узором от Джо Понти – коллекция итальянской керамики. Вазы примитивных форм, созданные Гвидо Гамбоне в 60-х годах, серия 80-х годов Лючио Лигуори, керамиста из Раито, в форме страусиных яиц, тонко расписанных узором с изображением домиков и церквей его родной деревни. Творения Эрнестины, американки из Салерно, чьи изящные цветы я сразу узнал, потому что их обожала Пас. Приезжая на Амальфитанское побережье, мы всегда отправлялись на поиски этих чудес, найти которые стало, увы, невозможно.
– Я догадываюсь, что вы думаете, – выпалила она.
– Что же я думаю?
– Что я слишком шикарно живу для студентки. Это все, знаете ли, не мое. Это моего отца. Ничего, он бывает здесь нечасто.
– Вряд ли это так уж неприятно, не правда ли?
– Бывает и неприятно. Создает некоторую дистанцию. Когда мои друзья видят все это.
Бедная богатая девочка, подумал я, а вслух сказал:
– Если это вам мешает жить, всегда есть мебельный склад.
Она нахмурилась. Я почувствовал, что и гнев ей не чужд.
– Это его дом. И он хочет видеть вещи на своих местах.
– Что он делает, ваш отец?
– Деньги…
Она сказала это с презрением. Встала, вышла, вернулась с бутылкой вина. Марочного, из самых дорогих.
– Вас устроит?
– Вполне. Это тоже вашего отца?
Она кивнула. Пока я открывал бутылку, она нажала что-то на своем смартфоне. Послышался голос модной фолк-певицы. Все это были приготовления к чему-то, чего я не был уверен, что хочу.
– Я привезла вам подарок, – сказала она, показывая на сверток.
Я развернул бумагу. Это была маленькая сова, вырезанная из оливкового дерева.
– Она из Афин. Немного похожа на ту, что на вашей книжной серии.
Я поднял на нее глаза. Она ласково улыбалась. Я думал о Пас, о канувших временах нашей нежности.
– Очаровательно, – сказал я.
Ее жест, должен признаться, меня довольно-таки взволновал.
– А как ваши каникулы? – спросила она.
– У меня нет для вас подарка.
– Вы расплатитесь, когда придет время.
Она рассмеялась. Ее молодость была как пощечина. Все, что я знал, оказалось бесполезно. Я много бы дал, чтобы повернуть время вспять, вновь обрести беззаботность, жестокую самоуверенность моих двадцати лет.
– Ну так как?
Я рассказал ей. Про овчарню, Дейю, моего сына.
– У вас есть сын?
Уловил ли я разочарование?
– Сколько ему?
– Шесть лет.
– Вы больше не живете с его матерью?
– Ее нет.
Я выдержал паузу, борясь с собой, чтобы не поддаться эмоциям. Она не настаивала. Рассказала мне о Греции. Она работала, делала проект для школы. Купалась, каталась на лодке и смотрела сериалы. «Вы видели „Викингов“?» История Рагнара Лодброка в мохнатой браке, сказала она, воина, потом вождя языческого племени, отправившегося завоевывать богатые земли Западной Саксонии.
– Там была интересная женщина. Skajaldmö.
– Как?
– Владеющая щитом, воительница.
Мы даже не чокнулись.
Ожог алкоголя помог выдержать ее взгляд. Почему все смеются над парнями, которые говорят девушкам, что у них красивые глаза? Эротизм – он в лице. В рисунке губ, ямочке, изгибе брови.
Я был впечатлен ее обширными познаниями. Ее разговором. Ее энтузиазмом. Стемнело, и в кои-то веки небо было ясное. Она заговорила о созвездиях. Сообщила мне, что Птолемею было известно около тысячи двадцати двух звезд. Она много путешествовала с отцом, побывала на озере Инле в Бирме и в городе Чичикастенанго, где последние шаманы майя вызывают духов с помощью кока-колы. Я тоже бывал в этих местах. Выросла она между Грецией и Швейцарией. Но атмосфера последней ей не нравилась.
– Озера меня угнетают.
В Париже лучше. Сена, по крайней мере, течет. У нее здесь друзья, она развлекается, город ей нравится, правда, французы все немного пришибленные и иной раз презрительно относятся к грекам, хоть и сами пытаются стать ими летом, на Патмосе или Аморгосе. На одной вечеринке ее обозвали турчанкой.
– Это не сказать чтобы оскорбление.
– Хуже не бывает, – парировала она.
Она покосилась на стенные часы. Часы на них показывал Сатурн, минуты – падающие звезды. А время бежало… Жаль, мне было хорошо с ней. Я снова подумал о Пас, и мне стало стыдно, что я здесь, как будто это было предательством ее памяти. Не нашла бы она меня патетичным?
Мы вернулись к ее отцу. Он сыграл большую роль в ее выборе профессии. Водил ее в музеи, привил ей многие свои вкусы. Она была очень привязана к нему, а он к ней.
– Я всегда у него в голове, до сих пор… – Она запнулась и добавила: – К сожалению.
Ей хотелось, чтобы он предоставил ей жить своей жизнью. Отъезд в Париж объяснялся еще и ее желанием отдалиться от него. Хоть он и приезжает время от времени, но живет в Греции. Точнее, везде понемногу. Где хочет. У него жена, которую он «терпит».
– Ваша мать?
– Можно сказать и так. – Она помедлила. – Вообще-то ей тоже приходится его терпеть. Мой отец очень… ветреный. Так ведь говорят?
Она отпила вина. Я спросил, как поживает Марчелло. Он не ездил с ней в Грецию. Я заметил:
– Марчелло – звучит не очень по-гречески.
– Марчелло не любит греческого.
– Почему?
– Он говорит, что в нем слышится гей, – ответила она с гримаской.
Она произнесла «гэй». Как Марвин Гэй. Об остальной родне мы поговорить не успели. Нет, еще о дяде, который приезжал дней через десять, собственно, поэтому она о нем и упомянула. Она хотела пригласить меня.
– Мы устраиваем здесь вечеринку в его честь. Ну то есть вечеринку… Он будет читать тексты.
– Чьи?
– Свои.
Его звали Никос Стигерос. Он был очень известен в Греции, где его новая книга вызвала много споров.
– Поэтический роман о закате христианства, а там с этой темой не шутят. Ему угрожали. Я хотела бы вас познакомить.
Я уже представлял себе, что будет дальше. Мне казалось, что в общении с ней я, может быть, смогу немного раскрепоститься, что-то сказать о себе. Продолжим ли мы знакомство? Поужинаем? Да способен ли я на это? Я размечтался: она снова бросила взгляд на часы. Недобрая складка прорезала ее лоб. Ей пора. Я должен уйти. Не очень-то вежливо. Я повиновался. Причину этой спешки я понял часа три спустя.
Оргазмы
Я безвылазно сидел дома – мне было достаточно щупать пульс планеты, нажимая на кнопки пульта телевизора или экран смартфона. Война, война, война, щебетала синяя птичка[73]. Несчастные люди в лодках, потом в палатках, потом в автобусах – и опять по новой лодки, палатки и иногда полуприцеп. Призраки детей бродили по охваченным пламенем городам. Возвращались границы и стены, горлопаны и популистские речи. Вымыслы преподносились как истины, истины как вымыслы. Время больших дебатов: ислам левеет или левизна исламизируется? Народ против элиты и в конечном счете всегда одурачен, всегда околпачен.
Я вернул тишину. Подаренная Наной сова угнездилась теперь в книжном шкафу. Из кресла, в котором я полулежал, читая, – это был скорее зигзагообразный диван, всегда напоминавший мне кушетки спутников Тинтина[74] в «Путешественниках на Луне», – я видел птицу, и та будто подмигивала мне. Как мило она придумала. Я открыл «историю Пелопоннесской войны» Фукидида. Величайший историк античности показал, что золотой век Греции принес ей и две страшные войны: войну против общего врага, персов, а следом войну греков между собой.
καὶ τότε ἄλλη τε ταραχὴ οὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καθειστήκει ὀλέθρου, καὶ ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν αὐτόθι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες ἐσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας·
«Так и теперь в городе начался страшный погром и всеобщая резня. Варвары напали, между прочим, на детскую школу, самую большую в городе, и перерезали всех детей, когда те только что пришли туда»[75].
Все продолжалось. Открывался новый цикл насилия. Даже в эпоху колтана[76] и других редких металлов на дворе все еще железный век.
Я был погружен в чтение, как вдруг услышал легко узнаваемый шум за стеной.
Крики.
Радостные крики.
А точнее, крики наслаждения.
Но наслаждения необычайного, ибо необычайно тонкие и следом необычайно хриплые. Уже не вздохи – рык саванны. Выражение удовлетворения, превосходящее силой все, что я когда-либо знал.
Звон стекла, звук падения. разбилась ли лампа у изголовья, упала ли ваза со стола? Я заколебался. она в опасности? Я уже почти готов был вмешаться, соглядатай-спасатель, но тут новый звук начисто рассеял двусмысленность. Простое слово: Nê. «Да» по-гречески.
Но это «nê» было вытянутое – «nê»-мыс, «nê»-полуостров. Восторженное «да» наступающему удовольствию.
Так вот по какой причине она спешила, моя маленькая соседка, так озабоченная падающими звездами на циферблате? Боялась пропустить свидание, избалованная девчонка, пропустить ожидавший ее потрясающий оргазм? Я плохо спал. Печаль навалилась на меня душным черным облаком. Я вспоминал Амальфи, любовников из пансиона. Вся планета любила, спешила жить, наслаждалась. А я был одинок и проклят.
Lake Stymphalia[77]
Порой мне еще казалось, что я бреду в тумане. Чтобы не терять себя из виду, я сосредоточился на работе. Лето благоприятствовало переменам. В редакции искали новые идеи. Но открывать горизонты в стране, одержимой корнями и убежденной в своем упадке, – Сизифов труд. В эпоху зависимости от сиюминутного информация больше не информировала. И актуальность слишком быстро становилась неактуальной, гнаться за ней значило задохнуться насмерть. Следовало, стало быть, ее опередить, срезать путь другими дорогами, не столь проторенными. Быть лоботрясом, возможно, даже пиратом, предложить иной взгляд, тон, стиль, иные истории. Их на наш век хватало. А потребность в рассказах, в повествовательном кислороде, никогда не была столь велика в мире, парадоксально суженном гиперкоммуникацией. Надо просто помедлить, прислушаться, приструнить нетерпение, что изматывало, подавить разочарование, что вошло в силу. Набрать высоту или летать под радарами, но глаз всегда иметь орлиный.
Некоторые мои коллеги, выжатые бешеным темпом и неудачами, пророчествовали, что наша профессия скоро вымрет. На редакционном совещании молодой сотрудник из компьютерного отдела возразил этим Кассандрам, что надо радоваться, коль скоро программы сегодня могут накатать тридцать шесть тысяч новостных сообщений о результатах кантональных выборов по мере их поступления. «Это высвобождает время, чтобы журналисты-люди могли заняться анализом». Журналисты-люди – я балдел от этого выражения.
* * *
После встречи с безнадежной надеждой французской политики («когда я говорю „гуманизм“, мне отвечают, что я слишком погряз в XX веке, а когда я произношу слово „Европа“, люди хватаются за пистолеты») я выпил с французской актрисой, которую очень любил, известной своими ролями немой. В жизни она говорила, и слово ее было золотом. Она спросила, полегчало ли мне, и сказала, что на нее вновь вышел Голливуд по поводу продолжения фильма о супергерое, в котором ей исключительно удался архетип парижанки.
– Но я думал, что ты там умерла?
– Они хотят меня воскресить. Сулят много денег, но у меня другие планы. Мне хочется снять фильм о моей матери.
– Твоя мать прожила особенную жизнь?
Отпив виски, она ответила:
– Нет, но это была мать.
В голове у меня всплыла фраза сына: «Я ее с трудом вспоминаю».
Она шла на вечеринку по случаю окончания съемок, с чилийцами.
– Будет «Писко сауэр»[78].
Я обожал «Писко сауэр». Она это знала. И все остальное знала тоже.
– Я лучше домой.
– Поверь, – сказала она, – что будет дальше, зависит и от тебя тоже.
– Если бы только мы были в фильме о супергерое.
Она улыбнулась. Мы попрощались, и я пошел домой.
Наверно, все-таки надо было мне упиться «Писко сауэр». Еще на лестнице я услышал те же крики удовольствия, что и вчера. Это не просто парочка занималась любовью, нет, это было настоящее путешествие на край оргазма. То затихая, то возобновляя возню, они как будто методично исследовали возможности наслаждения человеческого тела. Что-то головокружительное. Неужели это поколение, из виртуальной соски вскормленное порнографией, приобрело в реальной жизни некое особое знание? И распространяет его через массовый открытый онлайн-курс?
Я был дома, но стена ни от чего не защищала. В голове вставала череда образов, одни другого стыднее и осязаемее, очень мучительных в накрывшем меня одиночестве. Разумеется, спал я плохо. Проснувшись от лучей солнца, ввалившегося в комнату, окно которой я оставил открытым, чтобы ночь была не такой жаркой, я решил прояснить раз и навсегда тайну этого столь даровитого любовника. С рассвета я был начеку.
Незадолго до девяти я услышал, как отворяется дверь, и кинулся к глазку. Я увидел силуэт молодой светловолосой женщины, не Наны, направлявшейся к лестнице. Я бросился к окну, чтобы проследить за ней. Блондинка, как и Нана, но тоном темнее, с рыжими отблесками. Кажется, этот цвет называют «венецианским». В замшевой мини-юбке и курточке из пестрейшего набивного ситца. Лица ее я не разглядел.
Нана любит девушек?
Нет, она любила всех. В следующие дни я видел настоящее дефиле! Парни и девушки разных возрастов, но все моложе меня. Мне никак не удавалось убедить себя, что это, в конце концов, могли быть ее однокашники, приходившие с ней поработать. Нет, никак.
Вот я и стал шпионить. Быть может, подсматривая за чужой жизнью, отчасти возвращаешься к жизни сам?
* * *
Есть ли у Наны фамилия? Да, Атанис. Имя отца – Аристид. Во Всемирной паутине нашлось о нем немного, но эта малость о многом говорила. Одно из крупнейших состояний в Греции. Кризис ему нипочем. Он владеет несколькими судоходными компаниями, играет также заметную роль в энергетике и финансах со своим инвестиционным фондом Lake Stymphalia. Да, кризис ему нипочем, но он все же пытается уменьшить его последствия: Аристид Атанис продолжает традицию эвергетизма, восходящую к Античности и возрожденную арматорами Аристотелем Онассисом и Ставросом Ниархосом. Как и они, Атанис – благодетель своей страны: в Афинах он строит школы, оснащает больницы, финансирует оперные театры, превращает тюрьмы в музеи. Но не фотографируется. Ни одного его снимка.
* * *
Я больше не видел Нану. Зато видел девушку в набивном ситце. На этот раз анфас, когда она выходила из дома, а я входил. На ней была черная футболка с закатанными до плеч рукавами, брючки до того в обтяжку, что казались ее кожей, винтажные сапожки и множество браслетов на руках; длинные светлые волосы, перекинутые через правое плечо, удерживала шапочка. Она улыбнулась, посмотрев мне в лицо, но не сказала ни слова.
* * *
Однажды вечером, разбитый после аврала в редакции, где все крутилось вокруг шансов на выживание принцессы Европы и новых кадров с потерявшего ориентиры Востока, я пил энергетик возле дома, устраивая по телефону возвращение сына в Париж, как вдруг увидел Нану, сияющую, явно расцветшую от бурных ночей. «Как быть женственной в кроссовках?» – вопрошала обложка журнала в витрине газетного киоска. Созданная изначально для спорта, эта обувь действительно стала в годы, когда происходит наша история, мощным аксессуаром городской моды. Как будто геополитике нестабильности отвечала эстетика кочевничества. Чтобы, чуть что, можно было дать дёру. Нана надела кроссовки в этот день с платьем-рубахой, оставлявшим тело максимально свободным. Она помахала мне рукой. Я не мог смотреть на нее, не представляя себе сплетенных в замысловатых позах тел в море удовольствия.
– Вы в аппетите? – без предисловий спросила она.
Что говорить, сказано в лоб.
Последняя цивилизованная страна в мире
Она хотела просто поужинать, это ее французский хромал. Мы шли по улице. Поднимались на Монмартр. Купол наверху сиял всеми огнями. Нана молчала. Мы шагали бок о бок под небом, слишком задымленным, чтобы видеть звезды. В конце улицы Лепик она толкнула дверь неприметного ресторана. Несколько человек сидели за стойкой. Постукивал нож. Пахло водорослями и жареным чаем. Оставалось два свободных места.
– Вас это устроит?
Меня это устроило.
Подали горячие салфетки. Она сказала несколько слов шефу.
– Так вы вдобавок говорите по-японски?
– Вдобавок к чему?
Мне хотелось сказать «к твоему вкусу к жизни, к аппетиту, с которым ты ее вкушаешь, и еще к твоей теплоте ко мне»…
– Перейдем на «ты»? – спросила она, как будто прочла мои мысли.
Она удивляла меня, забавляла, трогала, когда как. Она спросила, что я поделывал в последние дни, и, когда я упомянул актрису, перебила меня:
– Та, что играла в «Человеке-сове»?
– Да, она самая. Но она известна не только этим.
– French goddess…[79]
Так ее называла американская пресса. Уловил ли я в голосе Наны презрение? Она продолжала:
– Там есть сцена, когда мост Искусств под тяжестью замков любви падает на пароход с туристами…
– … но человек-сова успевает удержать его, как Атлас.
– Я помню. Шедевр. Но он человек-филин, разве нет?
– Я не знаю, owl – это филин или сова?
– У него были кисточки на маске. Значит, филин.
– Но действовал ведь он днем?
– Не все совы и филины ночные. Полярная сова, например, дневная птица.
– Скажите на милость, вы и в птицах разбираетесь.
Я вспомнил Пестум, клетку.
– Мы договорились, что будем на «ты». Полярная сова – птица Гарри Поттера. Тут нет никакой моей заслуги. Это книга поколения.
На все у нее был ответ.
– Я видел только фильмы, – сказал я.
– С сыном?
Я кивнул.
– Он не живет с тобой?
– Сейчас лето, я работаю. Ему лучше там, где он есть.
– Ты думаешь?
Она жадно ловила мою реакцию. Я уже готов был открыться. Но предпочел продолжить нашу пикировку.
– Все-таки мне кажется, что в «Гарри Поттере» речь шла о сове.
– Роулинг все слямзила из греческих мифов, но приблизительно. Она пишет «сова», потому что это напоминает о птице Афины, но ее полярная сова на самом деле филин.
– Склоняю голову.
Она поднесла чашку чая к губам.
– Супергерои тоже все слямзаны из мифологии. Супермен – это Ахилл, неуязвимый, кроме одной точки. Криптонит[80] – это его пята. Он же и Геракл, полубог, живущий в муках, оттого что принадлежит двум мирам, миру людей и миру богов, а значит, не принадлежит ни одному. И подумать только, что от моей страны требуют заплатить долги…
– Что с вами невыносимо – вы поистине все знаете.
– А что невыносимо с тобой – тебя это, похоже, всерьез достает.
Она орудовала палочками в совершенстве. Японию она обожала. Стажировалась там полгода в агентстве Сигэру Бана[81], звезды кризисной архитектуры, гения временного жилища, кочевнических построек. Известного, в частности, своим собором из картона. Друга ее отца.
– Решительно, он знает всех на свете.
– Да, многих… А ты никогда не был в Японии?
– Как ни странно, нет. Посылал туда восемнадцать человек на репортажи, а сам так и не побывал.
Она заговорила об острове под названием Наосима. Целиком посвященном искусству, во Внутреннем Японском море. Передвигаются там бесшумно на электрических велосипедах. На холмах множество музеев, которые неотделимы от деревьев, скал, пляжей.
– Архитектура – практическое применение поэзии, – сказала она.
Отель, построенный на острове, – тоже музей. Его осматривают в ночи, с другими постояльцами. Ужинают среди полотен Уорхола. Завтракают на рассвете, глядя, как солнце встает из моря и заливает фотографии, морские пейзажи Сугимото[82], повешенные под открытым небом. А на соседнем острове есть монументальная скульптура, которую она обожает, в форме капли воды.
– Это последняя цивилизованная страна в мире, – заключила она.
– Почему ты так говоришь?
– Внимание к деталям… Абсолютная вежливость, что уже не деталь. Эстетика во всем, даже в мерзости.
– И в сексе?
Я решил испытать ее.
– Наверное, – последовал уклончивый ответ.
Неужели собралась разыгрывать передо мной целку-недотрогу после того, что я слышал несколько ночей кряду?
– У них есть такая штука, как же это называется… когда связывают голых женщин. Кинбаку-би или что-то в этом роде. Тебе не приходилось присутствовать на сеансе?
– Нет. А тебе это нравится? – Ее глаза посмотрели на меня в упор. Я ступил на минное поле.
– Я никогда не пробовал…
– Тебе бы хотелось?
Я не отводил взгляда.
– Прости?
Она держала в руке карту. Листок очень плотной пергаментной бумаги.
– Тебе бы хотелось саке? Давай выпьем нигори. Нефильтрованное саке. Беловатое, мутное, но очень вкусное. Нигори значит по-японски «облачный».
Ее зрелость впечатляла. Родители просто молодцы. Интересно, какие они? Пас, думаю, понравилась бы Нана, хотя они и полные противоположности. Особенно удивляло спокойствие Наны, как будто всю жизнь она повиновалась и ни о каких возражениях не могло быть и речи. И в то же время в ней была чистота. Та, что позволяет пройти между капель, между ловушек. Она обратилась к шефу, стоявшему по ту сторону стойки. Он вспарывал брюхо длинному трепещущему угрю. Две крошечные рюмочки саке появились на прилавке светлого дерева, похожие на пробирки моих школьных лет. Она указала мне на рюмочку, взяла другую и стукнула ею о мою, не сказав ни слова. Выпила, закрыв глаза. Я смотрел на ее длинные ресницы, прямой нос, уши, на которые падали выбившиеся из прически пряди. Мне хотелось нырнуть в эту теплую золотистость. И прижаться губами к ее губам, просто чтобы вспомнить, как это бывает. Не это ли и предполагалось?
– У тебя грустный вид, – сказала она.
– Все хорошо.
Я сам себе удивлялся. Боль стихала. Я чувствовал, как ко мне возвращается жизнь. И хорошее настроение.
– Я бы не сказала. Чем-то я тебе докучаю.
«Только когда ты кричишь ночами, а я один в своей постели», – чуть не ответил я.
Мне захотелось взять ее за руку. Ничего от жеста желания. Коснуться ее кожи. Ощутить под ней тепло ее крови. Я не успел, она убрала руку и соскользнула с табурета.
– У тебя есть дела? Я иду на вечеринку. Хочешь со мной?
С ней я был готов на все.
Она уже шла к двери. Когда я попросил счет, шеф протестующе выставил вперед ладонь. Все оплачено. У этой девушки чересчур много достоинств. Рефлексы. Воспитание. Мне надо ее держаться.
* * *
Ночь накрыла нас. Поднялась пыль. Мотороллер мчится. Она ведет. Я предложил сесть за руль.
– Ты не знаешь, куда ехать.
Красный свет и зеленый свет воюют между собой. А ей все нипочем. Париж пуст. Париж быстр. Мои пальцы вцепились в ручки, вделанные в седло, подножки узкие, и время от времени я ощущаю электризующий контакт с икрами водительницы. Эта девушка меня везет, и мне с ней везет. Люди глазеют на нас в окна машин. Слишком быстро мы едем? Или она так непохожа на других? Она тревожит меня. На все есть ответ. Лента асфальта разматывается под колесами. Я не знаю, где я, но совесть меня больше не мучит. Я чувствую, как вибрирует байк, мы следуем его движению, когда он наклоняется, закладывая вираж. Свет фонарей тянется горизонтальными линиями. Все зыбко, быстро, прекрасно.
Вдруг она замедляет ход, тормозит и упирается кроссовками в землю.
– Здесь.
Я слезаю. Она снимает шлем. Светлые волосы хлещут ночь.
– Куда мы идем?
– К моим друзьям-архитекторам.
Двери лифта закрываются за нами. Чем выше мы поднимается, тем громче звуки басов. Электронная волна бьет прямо в лицо, когда брюнетка с алым ртом открывает дверь и бросается ей на шею:
– Нана!
Она шепчет мне на ухо:
– Веселись. Забудь обо всем.
Внутри лес ликующих тел. Они колышутся, как лианы, смешиваясь с настоящими лианами, которые за ними, на террасе, откуда виден весь Париж, вьются по стенам. Мы на крыше города. В углу распорядитель звуков, повелитель извивов музыки – склонился над своими приборами, закрыв глаза. На его футболке написано Fuck Starchitects. Нана исчезла. Я ищу ее взглядом. Музыка накрывает меня пластами сквозь женские голоса. Все зыбко и горячо, завораживает и засасывает. Волосы описывают круги. Тела, медные, белые, черные, складываются в мозаику, и их испарина действует как возбуждающий наркотик. Бит все громче. Кто-то протягивает мне стакан, рыжая девушка.
– Ты друг Наны? – кричит она.
Я киваю. Она хохочет.
– Класс! – И, взяв меня за руку, увлекает в центр электрического круга, где юные груди подрагивают в отрывистом ритме.
Что ж, придется танцевать. Как давно это было.
Музыка опутала меня, я танцующий тростник, закрываю глаза, чтобы она вошла еще глубже, чтобы не чувствовать презрения других тел, которые задевают меня, касаются.
Но когда я открываю глаза и вижу целующиеся парочки, смехотворность моего положения – как удар в лицо. Я думаю о сыне, выбираюсь из толпы, выхожу на террасу, во рту пересохло. Нана там с двумя парнями. С двумя красивыми мальчишками. Смеется. Оборачивается ко мне и продолжает смеяться, как будто даже не заметила меня.
Я пью. Только это и осталось нам, старикам. Пить и потихоньку забываться. Я смотрю на Нану, ей здесь оказывают поистине королевский прием. Ее обхаживают, это можно понять. Она держится очень прямо, но не зажата. Это не просто походка, она красиво несет голову, ритмично двигаются плечи, бедра, ноги, даже когда она опирается на перила. Парней тянет к ней как магнитом, девушек тоже. Вот она уже танцует, и всего несколько движений воспламеняют ее свиту. Парни хорохорятся. Другие девушки тушуются. Музыка наполняет огромную квартиру выплескивается на террасу, ниспадает на город, накрывает его. Париж остается праздником, пусть даже вокруг бродит смерть.
Они молоды, а мне тысяча лет. Я сваливаю.
Какая-то девушка преграждает мне путь. На ней длинная юбка и маечка с леопардовым принтом. Густо подведенные глаза, черные волосы скручены в тиару, украшенную плющом. Она протягивает мне свой стакан, я отказываюсь, она настаивает:
– Один глоточек.
Она неотрывно смотрит на меня. Как смотрела бы за грань. Пьяна или обкурена. Мне кажется, что ее глаза вдруг изменили цвет. Я, наверно, тоже слишком много выпил.
– Так это тебя она выбрала? – говорит девушка.
– Вы кто?
– Подруга.
– Архитектор?
– Нет, я танцую. Архитектура тела…
Она смеется. Безумный, пронзительный смех.
– Я, пожалуй, пойду, – говорю я.
– Меня бы это удивило.
Она качает головой и прижимается ко мне. Я чувствую, как расплющились о мой торс ее груди.
– Ты поедешь с ней на ее остров?
Я чую опасность. Что-то выходящее за рамки.
– Вы о чем?
– Ты только берегись. – Она пристально смотрит на меня. – Берегись ее отца.
Я ошеломлен.
– Что вы такое говорите?
– Идем.
Она тащит меня в коридор. У меня кружится голова, и я почти не сопротивляюсь. Я хочу знать. и снова она прижимается ко мне. От нее пахнет мятой. ее груди действительно торчат под маечкой. Они большие. Мне вдруг становится очень жарко. Я попал в другой мир. Мир молодости, я и забыл, какой он спонтанный, непосредственный, богатый возможностями.
– Будь мужчиной и вставь, – выдыхает она.
Голос ее стал совсем низким, хриплым.
– Что?
– Мужчина давит.
Я не понял…
– Ее отец, – шепчет она мне в ухо, – он ужасный. неотразимый, но ужасный. Это твой мир?
Я чувствую ее бедро у себя между ног, оно напирает, она что-то говорит, вроде по-гречески, и мне кажется, я понимаю.
– Ὦ δρομάδε ς ἐμαὶ κύνες, θηρώμεθ᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽.
«Борзые, за мной, за мною, быстрые! менад мужчины ловят…»[83]
Это бессмысленно. Я прижимаюсь губами к ее уху:
– Что вы несете?
И тут кто-то тянет меня за руку. Это Нана, она бросает девушке короткую фразу по-гречески. Та исчезает с кошачьим проворством, унося с собой свой безумный смех.
– До чего тебя довели… – Говорит Нана, запустив руку в мои взмокшие волосы.
Если б ты знала, детка, какие руины от меня остались. Редко мне случалось видеть столько сострадания в глазах женщины.
– Кто эта девушка?
– Брось, не парься.
Музыка стихла. Воздух неподвижен. Она берет мою голову в ладони, но не приближает свои губы к моим. Я тоже. Мы как две окаменелости. Впору развести огонь.
– Я отвезу тебя, – говорит она.
Будь мужчиной и вставь. Эта послышавшаяся мне фраза возвращается и крутится в голове неотвязно.
Светлые волосы на подушке
Это путешествие в прошлое. Путешествие на двух колесах к моим двадцати годам. Когда я открывал новую спальню, новый запах, новое тело, новое содрогание. Я проникну в тайну этой квартиры. Как выглядят другие комнаты, ее кровать? Что лежит на ночном столике? Какие книги, какие вещи? Пас, я думаю о Пас. Я не хочу предавать Пас, я хочу, чтобы ты поняла, Пас, я заново начинаю жить, так надо, для меня, для нашего сына. Я хочу попробовать отдаться на ее волю, она как врач, эта девушка, ей под силу убить болезнь и поставить меня на ноги. Друг, если тебе так больше нравится. Девушка-друг. Если что-то произойдет, что ж, значит, произойдет. Произойдет, или я тоже умру. Лучше маленькая смерть, та, что делает живее, как ты думаешь? Алкоголь гудит в ушах, а звезды уже не точки – линии, как будто я перешел на сублиминальную скорость, сказал бы мой сын, цитируя «Звездные войны». Я вцепляюсь в «Веспу». Хочу заставить замолчать темную сторону.
Мы у меня. На моей кровати. Не на ее. Мне и так пришлось пустить в ход все мыслимые сокровища фантазии, чтобы уговорить ее остаться. Подействовала моя искренность. Я ничего не просчитываю. Не манипулирую. Я просто не могу оставаться один, вот и все. Хочу чувствовать ее тело рядом с моим. Хочу выспаться на ее волосах. Положить голову ей на живот. Я не хочу, чтобы она уходила туда, за стену, откуда доносятся вздохи, стоны, крики, а мне – ничего. Если есть этот жар, то только вместе. Смогу ли я? Я не знаю, как себя вести, чтобы больше не держать дистанцию, как себя вести, чтобы жесты не показались смешными. Я только сказал ей:
– Не разыгрывай со мной Золушку, пожалуйста.
– Золушку?
– Золушка, Синдерелла… Я не знаю, как вы называете ее в Греции. Та девушка, что убегает с бала.
– Σταχτοπούτα.
– Stachtopuota?
– Ты знаешь, что это изначально греческая сказка?
– Нет.
Кажется, мы поменялись ролями. И теперь мне будут давать уроки. Я лежу, полностью одетый. Смотрю на нее. Она по-прежнему сидит, закинув ногу на ногу, босиком.
– Мне ее рассказывала няня, когда я была маленькой.
– Мне тоже нужна няня, расскажи мне…
– Чтобы помочь тебе уснуть? – Она улыбается. – Ее звали Родопис, «Глаза розы». Это была красавица гречанка, которую продали в рабство в Египте, чтобы сделать гетерой. Однажды, когда она купалась, сокол украл ее сандалию. Он донес ее в клюве до Мемфиса, где находился двор, и уронил в складки одеяния фараона, вершившего суд. Взволнованный размером упавшего с неба башмачка, государь поклялся отыскать ножку, которой он принадлежал.
– У тебя тоже красивые ноги. Ноги статуи.
Я кладу руку на одну из них. Тонкую, с высоким подъемом.
– Пора спать, – говорит она.
Гасит свет. Я слышу шорох ткани, падающей на паркет. Представляю себе ее. Мне наконец-то хорошо. Я засыпаю, а проснувшись, слышу ее дыхание.
Хочется пить, я бесшумно встаю. Полная луна рассеяла дымку, и я вижу в открытое окно звезды, а на кровати – тело Наны. Она лежит на спине. Простыни спокойным морем клубятся вокруг нее. Она не голая. На ней остались трусики, белые, и короткая маечка – тоже белая, с узкими бретельками. Откуда это ощущение, что она не спит и смотрит, как я смотрю на нее (а я не лишаю себя этого удовольствия), быть может, посмеиваясь надо мной? Правая нога вытянута, подошва левой упирается в икру правой, как пуант. Лежащая танцовщица.
Я стараюсь двигаться как можно тише. Достаю из холодильника бутылку воды. Белесый свет заливает могильно-черный пол кухни. Возвращаюсь и снова смотрю на нее. Медленно вздымается грудь. Я рассматриваю рисунок бедер, текстуру кожи, под луной кажущейся слоновой костью, пупок, едва намеченный. Сажусь на край кровати. Не спеша пью. Вода мне на пользу, напряжение спадает. Выпив всю бутылку, я ложусь рядом с ней. Вдыхаю запах ее волос. Она не шевелится. Может быть, ей нужно время. Я думаю о том, что будет, когда она проснется. Страшусь этого момента. Что мы друг другу скажем? Как спалось? Хорошая была ночь? Почему ты увела меня от леопардовой девушки, которая велела мне быть мужчиной и вставить и говорила, что твой отец давит, вставит, не помню, что она несла, что я расслышал. Для кого ты бережешь твои вздохи, твое наслаждение?
В конце концов я уснул.
Мои опасения о целомудренном моменте оказались излишни, потому что, когда я открыл глаза, ее уже не было. На белизне подушки блестел в солнечных лучах светлый волос.
Когда мир тонет в насилии, что мы можем сказать своим детям?
Еще сохранилось тепло. Она действительно была здесь. Вода течет по моему телу, не нашедшему себе применения. Но какое-никакое начало. Женское тело, ночью, рядом со мной. После смерти Пас я до сих пор не мог спать с другой женщиной.
Я звоню сыну в Нормандию. Говорю ему, что скоро приеду. Он спрашивает, что будет с Сирией.
– Не надо так много смотреть новости.
– Ее разделят на несколько частей?
– Да.
– А как же сделают границы? Реки и горы ведь нельзя передвинуть?
– Да нет.
– Так как же быть?
– Просто натянут колючую проволоку. Или построят стены.
Мое объяснение его убедило. Что он обожает сейчас, так это рисовать карты. И для него границы в первую очередь – естественные. Между Францией и Испанией высятся Пиренеи, Рейн отделяет Францию от Германии, Ла-Манш – Францию от Англии. С «Исламским государством», что правда, то правда, все сложнее. Я спрашиваю, какие у него планы на сегодня. Он отвечает, что пойдет смотреть фейерверк.
– А ты, папа, пойдешь смотреть?
– Хотелось бы.
– Но ты совсем один, да?
Я не отвечаю. Он продолжает:
– Если пойдешь, смотри осторожней.
– Почему я должен быть осторожней?
– Вдруг там будут террористы, – говорит он бесстрастно. Тон почти до жути ровный.
– Почему ты об этом говоришь?
– Потому что они любят, когда люди собираются вместе. Так можно убить больше народу.
Этот мальчик все понял.
– Я буду осторожен. Но ты же знаешь, армия не дремлет, она следит за ними.
– Ага.
Я не нахожусь с ответом. А он все о том же:
– В тот раз, когда я тебя спросил, какая у них религия, ты сказал «глупость». А я слышал, что они мусульмане.
– Есть мусульмане, а есть и христиане, индуисты, иудеи…
– А те, которые мусульмане, они шииты или сунниты?
М-да, у нынешних детей уровень притязаний в области геополитики, истории и философии поразительно высок.
– Есть шииты, есть сунниты. Такие есть во всех религиях. Но скажи-ка, ты знаешь разницу между суннитами и шиитами?
– Дедушка мне объяснил.
– Вот как? Дай мне его.
Я слышу стук положенной трубки, потом пронзительный крик: «Деедуууууля!»
Мне вообще-то сейчас не до дискуссии о шиизме, но я должен сказать отцу, чтобы он умерил свой пыл, объясняя внуку устройство мира.
– Как поживаешь?
Мой отец. Который в мои пять лет рассказывал мне о тектонических сдвигах и плейстоцене[84].
– Ты говорил ему о шиизме и суннизме?
– В самых простых выражениях, если это тебя успокоит.
– Нет, не успокоит, говори с ним о чем-нибудь другом. Сколько можно забивать головы нашим детям религией?
– От кого я это слышу? Я читал твою газету на этой неделе, прямо скажем, вы только об этом и пишете.
– Мы лишь излагаем факты, освещаем их. Я не виноват, что сейчас говорят только о религии…
– Не о религии вообще – об исламе. И я тоже не виноват. Твой сын задает мне вопросы, я отвечаю.
– И как ты ему объяснил, кто такие шииты?
– Последователи Али, которые видят в нем прямого наследника пророка Мухаммеда.
– Недурно. А ты рассказал ему, как кончил Али?
– Да, был убит. Отравленным мечом. Он меня спрашивал, а как же… Но на этом я остановился.
– А мог бы пойти еще дальше?
– Сезар, прошу тебя.
– Рассказывай ему лучше о тектонических сдвигах. А как вообще дела?
– Все хорошо, он играет в оптимизм, ему как будто нравится. Ох, прости, в «Оптимист»…
Мы посмеялись.
– Я приеду как-нибудь на выходные. Скоро.
– Приезжай, порадуй его. Он по тебе скучает.
А я-то тем временем развлекаюсь. Он передает трубку моей матери.
– У тебя кто-то есть? – спрашивает она, едва успев осведомиться о моем здоровье.
– Почему ты спрашиваешь?
– Твой голос. Он стал лучше. Когда мы тебя увидим?
– Скоро, – говорю я. – Скоро.
Едва повесив трубку, я услышал оглушительный рев мотора на улице. Это подъехал Марчелло на итальянском мотоцикле, сияющем хромированными деталями. Весь в коже, несмотря на жару. Гладиатор из backroom[85]. Он исчез из моего поля зрения, и я услышал его шаги на лестнице. Я побежал к двери. В глазок увидел, как он достает свои ключи. Вошел к Нане. Кажется, отголоски ссоры.
Я выхожу. Она стоит на лестничной площадке, тоже собираясь уходить.
– Хочешь, пойдем посмотрим фейерверк?
Глаза ее печальны.
– У тебя все в порядке, Нана?
Она кивает. Похоже, ей только что пришлось несладко.
Я еду с Наной. Наши ноги соприкасаются. Солнце зацепилось за Эйфелеву башню и висит, счастливое, краснея от удовольствия.
Это происходит в двух шагах от Сены, в музее.
Квартал оцеплен. Улицы перекрыты. Полицейские патрулируют с собаками, с оружием. Силы порядка против сил беспорядка? У нас война, но Сена течет как ни в чем не бывало. Мы проходим через воротца, где сканируют наши сумки, проникаем в бетонный лабиринт, ведущий в собор и крипту. «Время делать ваши ставки», – написано на полотнище, натянутом между двумя монументальными колоннами.
В центре нефа трое мужчин поднимают на цепях ком затвердевшей черной пыли. «Так тьма давит на наши головы», – говорит нам встречающий нас человек с лукавым взглядом, приглашая пройти к лестнице, которая ведет на террасу. Это центр искусств. Вид на город открывается грандиозный. Увенчанная прожектором Эйфелева башня похожа на маяк, и это зрелище успокаивает. Маяк нам понадобится, чтобы избежать кораблекрушений. Один музыкант рассказывает о своей недавней экспедиции в пещеру Шове[86], где он записал «абсолютную тишину». Он говорит о кавалькаде нарисованных на стенах животных, о турах и медведях, о носороге, чей рог изогнут, как лук воина, об отпечатках человеческих рук, красных от пигментов почвы. «Быть может, придется однажды вернуться в пещеры, – бросает другой художник, – когда станет слишком опасно творить, ведь рано или поздно нас упрекнут, что мы-де хотим соперничать с Богом». «Никогда я не стану прятаться», – протестует молодая режиссерша. «Все так говорят…» – вздыхает ее собеседник.
– Познакомься, это Пина, – говорит Нана, подходя ко мне с высокой женщиной с коротко стриженными волосами. – Жена моего дяди Никоса, которого ты увидишь на следующей неделе.
Женщина протягивает мне руку и говорит «добро пожаловать».
– Это Пина предложила нам прийти сюда сегодня вечером.
Я благодарю. Гости теснятся вокруг нее.
– Нана, тебе давно пора приехать к нам в Исландию, – говорит она, прежде чем нас оставить.
– Она живет в Исландии?
– Шесть месяцев в году, с моим дядей. Он говорит, что там ему хорошо пишется. Я никогда не понимала, как ей удается это выносить, она так любит свет.
– Она любит его, вот и все.
– Или страдает стокгольмским синдромом.
Меня это рассмешило.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что она всем рассказывает, как Никосу, чтобы соблазнить ее, пришлось ее похитить.
Ее дядя, который, очевидно, тоже неплохо зарабатывал на жизнь, пережил пятнадцать лет назад острый период скупки произведений искусства. Он коллекционировал, в частности, американского скульптора-гиперреалиста Джона Де Андреа.
– Ты знаешь, кто это? Тот, что делает точные копии реальных женщин из раскрашенной бронзы, голых, с настоящими волосами, и говорит, что им недостает только дыхания?
Да, я что-то такое слышал. И с восторгом констатирую, что не знаю и десятой доли того, что знает Нана.
– Пина была совсем молоденькой. Она работала в художественной галерее, которая как раз устроила ретроспективную выставку этого Джона Де Андреа. Никос скупил всё. И погрузил Пину вместе со всеми статуями в большой фургон на глазах у публики.
– То есть он усыпил ее, а потом раздел?
– Я не знаю, в каком порядке. Это их легенда. Но мне нравится иногда верить в чудеса.
Раздается взрыв. Все вздрагивают. Большой металлический остов дрожит, и внезапно вспышки света брызжут из его недр горизонтальными струями, потрескивают, вытягиваясь, от основания до верхушки, как будто взрывчатый змей стал его позвоночником. И вскоре уже пиротехническая лава, тяжелая, горячая, искрящаяся, выплескивается из него.
– Плодотворно, – говорит какой-то мужчина.
– Воинственно, – откликается женщина.
Темно-синее небо превратилось в зону обстрела.
Раньше, когда война была далеко и мы натыкались по телевизору на кадры ночи, располосованной трассирующими пулями, первым делом приходило на ум сравнение боя с фейерверком. Теперь же, видя войну на экранах каждый день, мы думаем о ней, когда смотрим на фейерверк.
Но сегодня вечером, кажется, башня хочет вернуть вещи в прежнее русло. Побороться с войной, разбить ее наголову. Она выдает все, что имеет, посылает к звездам все, что в ее силах, – всплески, гейзеры, огненные языки; она открывает душу, ликует, как будто слишком долго сдерживалась, не высказывала того, что думает, не жила, не радовалась жизни из-за всех этих мертвых, падавших на мостовую, уже дважды[87]. Когда плачешь, не до забав.
И теперь она наверстывает упущенное в эти несколько шальных минут, озаряя мир своим разнузданным великолепием. Камера моего смартфона не поспевает за световыми подвигами. Я посылаю сыну ролик с добрым десятком смайликов впридачу. Он поймет, что я нашел с кем пойти смотреть фейерверк. И в конце концов, разве не будет он доволен, что его отец снова улыбается?
Одна только Нана, облокотившись на перила, не снимает. Она сосредоточена на зрелище. Или грустна.
По рукам идет бутылка шампанского, всплывают пузырьки со дна стаканов. Сегодня кажется, что 14 июля что-то значит, что есть еще Бастилии, которые надо взять, что мы не дадим запереть себя в темницу. Башня кажется еще выше во всей своей стальной несгибаемости, как страж, в огне и дыму. Это букет: исступление в красках, гром, согревающий душу.
Все прошло прекрасно. Толпа аплодирует. Пиротехника одержала верх над тягостной действительностью. Все переводят дыхание. Пьют. Говорят о жизни, о путешествиях, которые хотелось бы совершить.
Вдруг мой смартфон завибрировал.
Я, наверно, побледнел. Все толпятся вокруг меня, читают через мое плечо.
Снова-здорово: теракт[88].
Мой белокурый водитель лавирует между такси. Движение все оживленнее. Люди покидают террасы. Я звоню в редакцию. Встреча рано утром. На лестничной площадке на сей раз мне не приходится умолять. Нана входит со мной. Она кладет свой шлем рядом с моей пловчихой.
Почти в Haнe
Я не хочу больше смотреть на разрывающийся смартфон. Она лежит рядом со мной. Мы не касаемся друг друга. Когда пришло время, я оробел. Мое сердце бьется вновь. Я хочу наконец живую женщину. Мне кажется, что Пас смотрит на меня из глубин, но я надеюсь, что смогу освободиться – впервые наконец – от чувства вины. Я не вижу в этом ничего возмутительного. Возмутительно то, что происходит за стенами этой комнаты. В этом охваченном огнем мире. Но я боюсь, что забыл спасительные жесты. Те, что воспламеняют жизнь в телах. Мне вспоминаются ее вздохи удовольствия за стеной, выражение этой физической радости во всей ее полноте, свободе, энергии, со всеми вытекающими из этого умениями. Извини, Нана, боюсь, я не знаю инструкции к твоим замысловатым механизмам.
Я смелею. Моя ладонь ложится на ее кожу.
Она мягко отстраняет мою руку.
Мне стыдно.
Я не настаиваю. Но мне казалось, что сегодня вечером нам обоим было нужно острее почувствовать в себе жизнь. Я, во всяком случае, хотел попробовать.
Я слышу, как она дышит, ее тело здесь, рядом. Ее запах окутал все: цитрус, металл, бывает иногда такой вкус у крови. Я уже не знаю, что и думать. Не знаю, кто она, не знаю даже, кто я. Чего она от меня хочет, почти нагишом, ничком, предоставив моему взгляду дюны своих ягодиц, едва прикрытые, закутав лицо прядями, напоминающими мне теплое золото волос одной итальянской актрисы, холодной и сумрачной. Она не итальянка, она из Греции, страны православной почти на девяносто процентов. А что, если у них свои традиции? Я вспоминаю молодую женщину, которая регулярно выходит из ее двери, – может быть, она любит только себе подобных? А как же Марчелло? У нее был такой расстроенный вид в тот раз. А дефиле парней? Возможно, я ее не привлекаю. Она хорошо ко мне относится, и только. И этого, быть может, достаточно.
Смартфон не прекращает вибрировать. Новости не радуют. Лежа, с экраном в вытянутой руке, я отвечаю эсэмэсками.
Теплая ладонь ложится на мое лицо. Она смотрит на меня:
– Оставь это.
Я выключаю аппарат, распространяющий смерть. И ухожу в свои мысленные лабиринты.
– Ты не спишь? – Ее голос разрывает тишину. – Ты был бы тем же без твоего вкуса к Античности?
– Вкуса к патине?
Она тихонько смеется. С годами у меня возникло ощущение, что я последний из моей породы. Кто еще припадает к античному источнику, забивает себе голову историями о Тесее и Ахилле, извлекает из них урок для сегодняшнего дня? Истории кайрос, культура Древнего мира. Гуманизм. Мифы. Это проняло меня до глубины души недавно, когда умер Умберто Эко. Кто теперь расскажет нам так страстно об удовольствии от перевода, расшифровки текста, всплывшего из глубокой древности, однако же что-то говорящего нам? О поэзии Пиндара, этом солнце в словах, что дает столько сил? Об энергии и красках, дарованных этой поэзией нам, детям, будущим взрослым? Кто скажет теперь, что «человек есть животное, наделенное логосом» и что этот логос, то есть не только собственно речь, но и его самовыражение перед миром, как раз и отделяет человека от животного? Кому посчастливится узнать от учителя, что самое главное – вылепить в себе способность удивляться, thaumazeïn, ибо это начало мудрости, и развить критический ум, но также и фантазию, дабы войти, на крупе Пегаса, у кормила корабля «Арго» или припав к соскам Волчицы – в широкие врата мифов? Все это ведь помогает жить, не так ли? Открыться себе подобным. Как Улисс после кораблекрушения, увидев Навсикаю (мой любимый отрывок), говорит ей: «Смертная ты иль богиня – колени твои обнимаю!» Видеть в ком-то другом бога, а не только чужака. Я рассказывал это Пас, много лет назад, когда мы в Праяно бродили по узкой улочке в поисках квадратиков керамики, которыми один амальфитанский художник отделал стену, изобразив на них, наивно, в красках, картины из «Одиссеи». Навсикая «белорукая», θάλασσα. Дочь царя, играя на берегу в мяч со своими служанками, увидела выходящего из кустов голого мужчину и, хоть «был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиной», не испугалась его. Она помогла ему и даже, может быть, немножко полюбила. Все это остается, дает иное видение, иную картину, озаряет жизнь, делает ее острее, богаче двойными смыслами, дает возможности действовать в распадающемся мире. Вот я и доверился. Она перевернулась, гладкая, как галька.
– Ты можешь это передать.
– Это больше никому не интересно.
– Твоему сыну?
– Моему сыну… Может быть.
– Значит, ты не последний. Он будет жить за тебя. Он продолжит. На свой лад, но продолжит.
Она сказала это ласково. Как будто все знала. Познакомлю ли я их когда-нибудь?
Она хочет знать, откуда он взялся во мне, этот вкус. Хочет, чтобы я рассказал. Как на нормандском побережье учительница однажды взяла меня за руку и повела к этому языку, алфавит которого меня очаровал. Мне тринадцать лет. Нас шесть или семь девочек и мальчиков, не больше. Урок быстро начинает смахивать на тайную сходку, потому что проходит в субботу, перед самым обедом, когда коллеж почти пуст. Она ведет нас в святая святых, в учительскую, где угощает горячим шоколадом из автомата. Для нас это вкус избранности. Потом мы возвращаемся в класс, к школьному учебнику, обложку которого я до сих пор не забыл: широко раскинувшееся Эгейское море, на рассвете или в сумерках, похожее под солнечными лучами на полированное серебряное блюдо. Справа скалистый мыс, на котором высятся колонны. В море плавают греческие буквы, едва пропечатанные, почти невидные, перемешанные с пеной. Эти буквы образуют слово θάλασσα: море. Взяв эту книгу в руки, посмотрев на нее, уже погружаешься в мир жидкий и теплый, соленый и вкусный, мир, где ласки обещают быть нежными, но бодрящими, напитывающими. И этот алфавит, так непохожий на наш, был для меня тогда волшебным кораблем, на котором я доберусь до сфер чистейшего блаженства, этой фантазии Средиземноморья, исполненной чувственности…
– Надо же…
– Мне было тринадцать лет.
– Полагаю, учительница сыграла в этом немалую роль.
– Я, бывало, представлял себе ее жрицей античного ритуала, одетой на минойский манер. Знаешь, как та маленькая статуэтка из Кносского дворца на Крите. Кноссом я тогда бредил. Носил на шее серебряную медальку, копию фестского диска[89]. там еще иероглифы закручены спиралью.
– Знаю, да, одна из величайших загадок Древней Греции. и платье, о котором ты говоришь, тоже представляю, то, что на статуэтке. Платье, открывающее груди…
– Как твои…
Она смеется.
– А какая она была на самом деле? Ведь эта статуя двигалась?
– Она была высокая, брюнетка, волнистые волосы, смуглая кожа, миндалевидные глаза. и чувственный рот, этот самый рот, читавший нам вот такие тексты: «πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε…» Знаешь?
– Твой акцент ужасен.
– Ты поняла?
– Есть и у нас покровители-боги! Ну а теперь мы с тобой на постели любви предадимся![90]
– Неплохо, а?
Она отмахнулась от намека.
– Для тебя Греция связана с чувствами. Философия, демократия, равновесие, математика – это не твое?
Нахальство, однако, говорить мне такое почти нагишом.
– Мое, но меньше, чем эти истории о богах, которые превращаются в быков, орлов, лебедей и даже в золотой дождь, чтобы оплодотворять смертных женщин. Что ни говори, отличная школа плотского познания, да и свободы. Мне было тринадцать, и это меня сформировало. Это открыло мне целый мир.
– Ты забываешь о жестокости этих мифов, этих историй о проклятии, о каннибализме, о дочерях, раздавленных своими отцами…
Последние слова поразили меня. Я вспомнил, что сказала леопардовая девушка. Страшная картина встала у меня перед глазами. А что, если вот оно, объяснение этого не-желания? Ее «ужасный» отец… «Я всегда у него в голове», – сказала мне Нана. Блокада? Гнусное, травматичное воспоминание? Тайная фригидность? Но как же эта звуковая порнография, проникавшая сквозь стену моей гостиной? Эти гимны наслаждения? Я не мог, увы, заговорить об этом с ней. Получилось бы, будто я шпионил, ей бы это не понравилось. Пускалась ли она во все тяжкие, чтобы забыть моральную травму, глубинную рану? Брось, хватит фантазировать. Она тебя не хочет, и, может быть, так даже лучше. Она хорошо к тебе относится. Заботится о тебе. Ухватись за этот шанс. Посмотри, вернее, почувствуй: сама чистота свернулась котенком. Шлем ее волос, лимон и теплый металл. Ладно, в ее глубинах, должно быть, тоже неплохо. Но молчи, наслаждайся жизнью, ведь кругом царит смерть. И если ты хорошенько всмотришься в себя, то увидишь, как Пас тебе подмигивает. Ты бережешь ее сына, не забывай об этом.
Хаос
Когда я ухожу из дома, она еще спит. В редакции, в наших стеклянных сотах, нам надо найти слова для убийственной глупости, для абсурдных картин. «Трагедия» – это слово у всех на устах. Но трагедия предполагает порядок, а поиски его бессмысленны. Не сам ли это дьявол явился из преисподней? Включенный в моем кабинете телевизор перегревается. Тон у наших политиков все жестче. Цитируется Камю, но Камю воинственный, тот, что говорил: «Я не отрекаюсь от гуманизма, но речь идет о спасении жизней».
Вот он, мой крах, во всей красе. Как я мог говорить Пас, что она будет в безопасности в Европе, где теперь скромный служащий способен отрубить голову своему начальнику и насадить ее на чугунную ограду? Где рефрижератор на колесах давит детей, которые едят мороженое, глядя, как небо расцветает тысячей светящихся цветов?
Как я мог быть до такой степени слеп? И отказать женщине, которую любил, не уехав с ней?
Она умерла, потому что я уперся.
Она умерла, потому что я наивен.
Она умерла, потому что я верил в иллюзию.
Я возвращаюсь домой поздно. Мне хочется выпить и немного забыться. Разбавить вином кровь.
В вагоне, который катит по городским подземельям и по которому снуют солдаты, я хочу, чтобы мне светило чье-то лицо, а не только экран моего смартфона.
Дома тишина. Я звоню родителям.
– Не давайте ему смотреть телевизор, пожалуйста.
– Само собой, – отвечает отец очень спокойно.
А я как в лихорадке. Бормочет телевизор, тарахтят эксперты. Сообщают о волнениях где-то в Стамбуле. Почему мне с самого начала кажется, будто я уже знаю, что произойдет? Будто я уже видел эти кадры, пережил эти события? Я вижу, как люди карабкаются на штурмовые танки и забивают до смерти тех, кто сидит внутри, вижу голые тела со связанными руками, лежащие сотнями в пакгаузах. Слышу, как возбужденный вождь объявляет, что враги государства не будут преданы земле, и приговор его выглядит божьей карой. Вижу арестованных писателей, профессоров. Расцветающую пышным цветом ненависть к интеллигенции. Меня трясет. Я боюсь за сына.
Сплю ли я? Или проснулся в мире, которого не узнаю?
* * *
Мне надо ее видеть. Говорить с ней. Мы по-прежнему забываем переспать – так я предпочитаю это формулировать, – но ведем увлекательнейшие беседы. Особенно ночами, у меня. Я жду ее, как ждет визита заключенный. Она может появиться в любой час. Иной раз она выдает совершенно невероятные вещи для девушки, вряд ли склонной к политологии или религиоведению. По поводу положения в Турции, которое выводит ее из себя, она напомнила, что османы зашли в своем варварстве так далеко, что хранили в XV веке свои запасы пороха в Парфеноне.
– Эти процессии фанатиков на улицах Константинополя меня достали.
– Стамбул, Нана. Сейчас говорят Стамбул.
Она утверждает, что Европа слаба, что верить в единого бога – безумие, потому что бог одного всегда для другого дьявол.
– Политеизм никогда не убивал во имя веры, – добавляет она.
На днях она процитировала мне фразу римского сенатора III века, о котором я никогда не слышал. Квинта Аврелия Симмаха. Она рассказала мне, что он ратовал за восстановление старой языческой религии против императоров-христиан. А потом процитировала его. То есть именно процитировала, на три четверти голая в моей постели, громко и внятно:
– Мы все глядим на одни и те же звезды, небо у нас общее, один мир окружает нас. Не важно, на какой дороге каждый, по своему собственному разумению, ищет истину. Не одним путем можно достичь столь великой тайны.
Я отмечаю, что она так и не вернула мне «Дафниса и Хлою». И готов дать руку на отсечение, что книгу она даже не открыла. Потому что все это она уже знает, и куда лучше меня.
Вечеринка у нее дома подтвердила мои догадки.
Теплая вода, зеленый мрамор
Приглашение подсунули мне под дверь. Оно было оформлено как уведомление о смерти. Несколько белых строк на черном фоне в обрамлении греческого орнамента, узора, имеющего свойство двигаться вперед, возвращаясь назад. Целый символ.
НИКОС СТИГЕРОС
ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ПОХОРОНИТЬ
МОНОТЕИЗМ
ВИНО – ЛИТЕРАТУРА – ЗЕРНА ГРАНАТА
* * *
На улице вскоре замельтешили машины, из которых выходили черные силуэты. Их драгоценности расцветили ночь острыми отблесками.
Я очень нервничал, нажимая на кнопку звонка. За дверью было уже шумно. Открыла женщина, при виде которой я чуть не сбежал. Ей было лет пятьдесят-шестьдесят, серые волосы, темные глаза. Эта самая женщина была в Пестуме с девушкой, которую я принял за Нану…
Нану, тотчас появившуюся, в маленьком черном платье. Сероволосая женщина скрылась.
Нана тащит меня в квартиру, которую я вижу на сей раз в свете десятков черных свечей. Мебель сдвинута, но произведения искусства все так же висят на стенах. Вещица Форназетти тоже на месте, в углу, у двойной двери, по-прежнему закрытой. В креслах болтают гости. Те, что помоложе, сидят на полу по-турецки. Одетые от коктейльных платьев от-кутюр до самого радикального streetwear[91], но все в черном. Когда я вхожу, на меня смотрят с любопытством: я единственный обут.
– Родня и кое-кто из друзей, – говорит мне Нана и, извинившись, исчезает в нарастающей суете.
Ко мне подходит блондинка. Ее платье без рукавов, зато почти закрывает шею, украшенную чем-то вроде торквеса[92]. Слишком тонкие губы, кажется, готовы убить словом.
– Вы, должно быть, соседушка, – говорит она, глядя на меня неприветливо.
Определение мне совсем не нравится, но я киваю. Протягиваю руку:
– Сезар.
– Амбициозно[93], – замечает она, подав мне свою, но не представившись. И ускользает к вновь прибывшим.
Женщина в черной блузе несет черный лаковый поднос, уставленный черными бокалами, которые наполнены черной жидкостью.
– Фессалийское вино, – говорит мне молодой человек с почти азиатскими глазами, тонкой бородкой и дредами, в длинной рубахе и повязанном вокруг бедер саронге. – Я сводный брат Наны. – Он чокается со мной и отворачивается, перехваченный молодой женщиной в платье-футляре.
В квартире уже человек тридцать. Дядя-поэт что-то запаздывает. Выпив свое вино, я иду искать Нану. Вокруг говорят по-гречески, громко. Фортепьянный мотив наполняет комнату. По клавишам барабанит молодой человек в смокинге, тоже босой. Я снимаю мокасины и заталкиваю их под комод. Беру еще бокал, рассматриваю стены, любуюсь профилем юноши за подписью Данте Габриэля Россетти, потом фотографией обнаженной женщины, снятой сквозь струны арфы. Я выхожу из гостиной и оказываюсь в длинном коридоре. Вдали маячит зеленый свет. Иду туда. Он исходит из огромной ванной комнаты четких линий, целиком отделанной зеленым мрамором с серыми прожилками. В центре стоит большая прямоугольная ванна, тоже мраморная, полная воды с душистой пеной.
Я умывал лицо под краном, разглядывая множество баночек с кремом и бутылочек, стоявших вперемешку вокруг раковины, как вдруг справа от меня заволновалась вода. Женская рука вынырнула из пены и оперлась на край ванны. Следом появилась голова. Два светлых глаза, тонкий нос, рот – он приоткрылся и длинно выдохнул, как после долгого нырка. Затем из воды поднялись округлые плечи, на которых лежали, лаская, длинные мокрые волосы.
– Извините.
Пятясь, я натыкаюсь на препятствие. Из кожи и металла. Марчелло.
– А, соседушка? Я, кажется, помешал?
– Ничего подобного, я просто не видел, и…
– Наоборот, это надо видеть! Покажись, Дита!
Я поворачиваюсь к ней. Ситуация ее, похоже, изрядно забавляет. Она встает во всей своей наготе, без малейшего стеснения и даже с очевидным удовольствием.
– È bella, no?[94] – фыркает Марчелло.
Молодая женщина обжигает его взглядом:
– Кончай тарахтеть по-итальянски, это смешно. Дай мне лучше полотенце.
– Я вас оставлю, – говорю я.
– Еще минуту.
Ее тон не допускает возражений. И Марчелло по-прежнему стоит в дверях, с глупой улыбкой, поигрывая бицепсами. Она выходит из ванны вся в пене, вытирает полотенцем волосы, проводит вафельной тканью по матово отсвечивающему телу и роняет ее к своим ногам. Потом, повернувшись ко мне спиной, рассматривает себя в зеркале и предоставляет мне любоваться упругими полушариями ягодиц, гибкой спиной. Отраженные в гладкой поверхности, ее глаза смотрят на меня.
– Ладно, я пошел, – говорит Марчелло. – Пойду послушаю Zio[95].
Она бросает ему короткую фразу по-гречески. Рассмеявшись, он скрывается.
– Еще и Zio… – вздыхает она. – Не желает он говорить по-гречески… Нет, придется ему однажды смириться с его вкусами…
– Я, пожалуй, тоже дам вам спокойно одеться.
– Но я совершенно спокойна. А вы нет?
Она поворачивается, и я вижу прямо перед собой анфас этот шедевр из жил и плоти.
– Я куда лучше, чем она, правда?
Бирюза ее глаз отливает лиловым. И тут я узнаю ту самую девушку, которую видел несколько раз выходящей из квартиры.
– Но что я говорю, вы же ее не видели. Я хочу сказать, не видели по-настоящему. Простите, но вы же не можете не знать, что с моей сестрой далеко зайти не получится?
Она смеется. У нее тот же овал лица, тот же упрямый подбородок. Только нос не такой прямой, более задорный. Ее сестра?
Она берет баночку с кремом, снимает фарфоровую крышку, нюхает. Указательным пальцем зачерпывает комочек крема величиной с орех и, прилепив его над пупком, размазывает, лениво ведя ладонями вверх, к мякоти грудей, потом вниз, по животу, бедрам, выбритому лобку.
Я зачарован.
Она вытягивает левую ногу, кладет ее на край ванны и продолжает намазываться. Массирует лодыжки, потом ступни, пальцы, ногти на которых выкрашены черным лаком, и красно-оранжевый рисунок на них подчеркивает черноту.
– Подойдите, отсюда вам не видно.
– Нет-нет, уверяю вас.
– Не ребячьтесь. Здесь только мы с вами. Наклонитесь.
Это настолько не лезет ни в какие ворота, что я повинуюсь. Мое лицо теперь в нескольких сантиметрах от ее лона. Смолистый душок дурманит меня. Я должен взять себя в руки. Стараюсь сосредоточиться на ее ногтях. Надо признать, сделано отменно.
– Вам нравится?
– Тонкая работа.
Каждый ноготь украшен крошечными красными рисунками на черном фоне, похожими на роспись античных ваз. Но вместо крылатых Ник, увитых лозами богов и увенчанных лаврами атлетов они изображают эротические сцены.
– Скопировано с настоящих ваз, – поясняет она очень серьезно.
– Не сомневаюсь.
Она показывает на второй палец. Он длиннее большого.
– Вот это – с сосуда, который находится в Пергамском музее в Берлине.
Вдобавок еще эрудитка.
– Не надо видеть в этом озабоченность. Для меня, в отличие от некоторых, секс – вещь естественная.
Ее взгляд настойчив. Самое время откланяться:
– Счастлив был познакомиться.
– Счастливы? Нет, еще нет.
Похороны монотеизма
Прохладный воздух в коридоре приводит меня в чувство. Я перевожу дух. Вот это поворот! Ее сестра?
Я возвращаюсь в гостиную.
– Она тебя не сильно достала?
Нана. Смотрит сурово.
– Кто?
– Дита… Марчелло сказал, что вы были вместе.
– Да, и с Марчелло, кстати, тоже.
– Втроем?
– Да. То есть… всего несколько минут.
– Предупреждаю тебя: она законченная нимфоманка. – Нана, развернувшись, уходит.
– А ты ее, похоже, рассердил, – ухмыляется подошедший Марчелло.
– Из-за тебя.
– Знаешь… – он выдерживает паузу, – ты нам никто.
Скривив лицо в странной гримасе, от которой у него перекосило челюсти, он тоже исчезает.
Вновь появляется женщина с серыми волосами. По ее знаку всем раздают позолоченные чашечки. Мне тоже протягивают одну, полную зерен граната. Я поклевываю потихоньку. Внезапно повисает тишина. Люди расступаются, образуют живую изгородь для того, кого все ждут. Знаменитость. Скандалист. Писатель.
Он высокого роста, одет в черный костюм, без рубашки под двубортным пиджаком. В меховой шапке смахивает то ли на стареющую рок-звезду, то ли на амазонского шамана. Держа в руке книгу, он ступает с продуманной медлительностью к дизайнерскому трону, установленному перед публикой. Садится в кресло из закаленной стали, как сел бы за штурвал ретро-футуристического истребителя. Открывает книгу, закидывает ногу на ногу, быстро проводит рукой по лбу, чтобы заправить за ухо выбившуюся из-под головного убора прядь волос, и начинает читать хорошо поставленным низким голосом.
Слушатели внемлют. Он говорит по-гречески, я ничего не понимаю, но это прекрасно. Ночной воздух окутывает покоем, близким к оцепенению. Я пью маленькими глотками вино из очередного бокала, зерна граната тают во рту, как сладкие икринки. Мне хорошо. И становится еще лучше, когда рядом садится Нана.
Звучит смех.
Она принимается пояснять:
– Это построено как повествование о путешествии античного бога, который попадает в сегодняшний мир и знакомится с монотеизмом. Разумеется, для него это очень странно. Он рассказывает от первого лица, удивляется…
– Как бы по принципу «Персидских писем»?[96]
– Точно. Дядя обожает Монтескьё и ваш век Просвещения. Когда вы очаровали весь мир и ваша страна была лабораторией прогресса. Надо бы и вам об этом вспомнить. Сейчас он прочел несколько страниц о том, как бог идет на гору Афон. Книга имела огромный успех в Греции, но из-за нее дядя нажил серьезных врагов.
– Даже так?
– Через наивный взгляд героя он рисует довольно острую картину противоречий современного мира. К тому же этот бог имеет обличье сатира, очень славного, но отнюдь не отказывающего себе в утолении всех своих аппетитов.
Подходит молодая женщина и наполняет мой бокал. Нана отказывается и продолжает шептать мне в ухо:
– Никос описывает сегодняшний мир, но при этом использует античную литературу. Можно читать поверхностно, но копни глубже – там сплошь пародии на Аристофана, Эзопа.
Она говорит так, будто все это знают. Зачем же она играла со мной в ученицу?
Дядя умолкает. Потом достает из внутреннего кармана несколько сложенных вчетверо листков.
– Теперь будет новая книга. Она еще не вышла. Сегодня мы будем первыми слушателями.
Поправив шапку, он продолжает чтение.
Внезапно женщина, назвавшая меня «соседушкой», громко хихикает, ей вторят два молодых человека, сидящие у ее ног.
– Что смешного?
– Наш бог прибыл в Саудовскую Аравию. Для него Аравия – это «счастливая Аравия», и он удивляется, что там не найти вина. Его мучит жажда, и он расспрашивает доктора богословия. Который не может объяснить ему конкретно, почему пить запрещено. Он настаивает, и тот наконец отвечает: «Потому что это рождает дурные мысли». «Какие?» – спрашивает бог. И ученый муж начинает перечислять все свои сексуальные фантазмы. Никос называет эту главу «списком фантазмов», вариация на тему «списка кораблей» из «Илиады».
– Высокий полет.
– Никос вообще птица высокого полета. Поэтому он неотразим.
На этот раз грянул общий взрыв смеха.
– Ты помнишь Данаю, царевну, которую отец запер в башне, потому что оракул предсказал ему смерть от руки внука?
– Да, и возжелавший ее Зевс оплодотворил ее, обернувшись золотым дождем.
– Именно. Так вот, а тут бог приходит в одну деревню. Люди толпятся, слушая его, но, разумеется, на улице нет ни одной женщины. Гость начинает рассказывать историю Данаи, и вдруг все мужчины, побледнев, бросаются в свои дома, проверить, не пролился ли золотой дождь на их жен.
Был еще смех и долгая тишина, когда все затаили дыхание, а потом с энтузиазмом зааплодировали.
– Он прочел конец, – сказала Нана.
– И что же?
– В общем, герою отрубили голову, но он не умер, потому что бессмертен. Смеха ради он провозглашает себя единственным истинным богом. И повелевает, чтобы вино текло рекой!
Никос Стигерос встал и поклонился, приложив одну руку к шапке, другую к сердцу. Его жена Пина, которую я видел во время фейерверка, прижалась к нему и поцеловала в губы.
– Идем, – сказала мне Нана.
Она представила меня писателю. Взгляд его глубоко запавших глаз светился живостью.
– Многим объявили фетву и за меньшее, – отважился я.
– «И шорох – гром охваченному страхом», как сказал старый добрый Софокл. А я ничего не слышу.
– Вы понимаете современный греческий? – спросила Пина.
– Нана мне переводила.
– Ах, Нана! Она чудесная, не правда ли? Настолько лучше, чем ее сестра…
– Прекрати, – перебила ее Нана.
Готово дело, она снова стала ребенком.
На другом конце гостиной появилась Дита в открытом платье без бретелек. Нана направилась к ней.
– Ах, сестрички, – вздохнула Пина.
– Я только что с ней познакомился, горячая штучка.
– Горячая, но имейте в виду – совсем не глупая. И талантливая.
Я узнал, что Дита живет между Афинами и Лондоном и что она создала марку сандалий, модели которых навеяны античными статуями. Успех сногсшибательный.
– Она становится Лубутеном кожаных сандалий. Кендалл постоянно постит в инстаграме свои фотографии в них.
– Кендалл?
– Кендалл Дженнер. И Дженнифер Лоуренс[97] тоже.
Теперь я понял, почему она уделяла столько внимания своим конечностям.
Вновь появилась Нана.
– Твоего отца здесь нет? – спросил я.
– Нет.
Я был разочарован. Спросил ее о женщине с убийственными губами.
– Это моя мачеха. Мать Марчелло.
– А дама с серыми волосами?
Мне почудилось или она поколебалась с ответом?
– Моя няня, – сказала она наконец.
– В твоем-то возрасте?
– Она член семьи. Мы с Дитой не ходили в школу. Нас всему научила она.
– Я ее уже видел.
– Здесь, на улице, наверно.
– Нет, в другой стране.
– Она путешествует, я за ней не слежу.
– Я видел ее с тобой…
– Пестум? Я же тебе уже сказала – нет. Ты фантазируешь, Сезар.
– Ты, однако, помнишь название.
– Ты мне о нем рассказывал.
Она сменила тему:
– Извини меня за давешнее. За мою сестру. Я знаю, что ты ни при чем. Она просто интриганка.
– Спасибо!
– Я не то хотела сказать. Но уверяю тебя, это безумие. Скорей бы она уехала.
– Она живет здесь?
– Хочет открыть бутик в Париже и наезжает время от времени. Я только попросила ее меня предупреждать. Когда она здесь, я удираю. Не могу этого выносить. Дефиле.
– Мужчин?
– Всех.
Я наконец все понял. И рискнул спросить:
– А ты?
– Я – другое дело.
И она ушла, оставив меня одного. Я боялся, что обидел ее.
* * *
Вечеринка приняла новый оборот. И набирала скорость. Молодой человек в саронге занял место за пюпитром, и музыка гремела. Старики бежали с корабля. Мачеха запечатлела поцелуй на лбу Марчелло, который покачивался, по-прежнему затянутый в свои кожаные доспехи, и удалилась, бросив на меня последний ледяной взгляд. Я ощутил исходящую от нее опасность. Выпил еще бокал черного вина, чтобы приободриться.
Начался всеобщий разгул. Я слишком много выпил, ноги отяжелели. Отправился на поиски Наны – в комнатах этой квартиры, размеры которой недооценил, тем более что теперь повсюду был сумрак. По черно-золотому лаку ширмы бежала лань. Я узнал знаменитое кресло из палисандрового дерева, которое было продано на аукционе, широко освещенном в СМИ, несколько лет назад. У отца Наны был не только вкус, у него были средства на свои вкусы. Мне очень хотелось познакомиться с человеком, все это собравшим.
Я забылся, рассматривая портреты, как вдруг чья-то рука, будто высунувшись из стены, схватила меня за локоть.
В Haнe
– Покончим с этим, – сказала Нана и прижалась ко мне.
Она раздвинула языком мои губы. Открылась дверь.
Она потянула меня на упругую кровать.
– Только тихо, пожалуйста.
Вскоре ее тело было уже голым, как и мое, которое изучали ее губы, рисуя буквы замысловатого алфавита на моем торсе.
Во мне заговорили остатки стыдливости. И страха – слишком уж стремительным было начало.
– Ты уверена?
– Молчи.
При свете лунных лучей я видел тело, более чувственное, чем в моих воспоминаниях, но как-никак до сих пор у меня не было случая дать волю рукам. Нана теперь позволяла мне все, нисколько не сдерживаясь, припав к моим чреслам так, будто я должен был спасти ей жизнь, – ей, спасшей мою. Мое сердце отчаянно колотилось.
Она двигалась гибко, согревая мою кровь губами, накрыв собой мое лицо, в то время как ее рот ловил меня, лаская сложными витками, которые казались плодом древнего знания, передаваемого из поколения в поколение посвященными. В голове вздувалась лава, огромное солнце металось под черепом. Новое ощущение охватило все мое существо, будто я разросся до необычайных размеров. Она качнулась назад. Опрокинулась на спину, раздвинула ноги и явила мне свое раскрывшееся тело, лицо же по-прежнему оставалось в тени. У меня мелькнула мысль о моей покойнице и лопнула, как пузырь, под напором сигналов, приводивших в неистовство мои нейромедиаторы. Чувство вины пыталось показать зубы, но тщетно. Я двигался в золотистом, бесконечном теле, плавал в жгучих и ласковых флюидах. Я ничего больше не слышал, кроме долгих вздохов вдали, подобных песням, чудным и забытым. Я больше не был собой. Закрыв глаза, я видел море, вспоротое волнами, но мне было хорошо, я лежал на песке, далеко на горизонте, глядя на поверхность воды, похожую на небо. Потом мне показалось, что я падаю вверх. Меня швырнуло в фиолетовые волны, выбросило на берег и покатило по гальке, такой же гладкой и теплой, как чистые сферы, которые я ласкал руками, покачиваясь от движений ее лона, всасывавшего меня всего. Вскоре моим чреслам стало так жарко, что мне захотелось высвободиться. Напрасный труд, так крепко она держала меня всей силой своих бедер. Она начала постанывать, все громче и громче. Я разобрал слог, повторяющийся, как молитва, и узнал его, потому что уже слышал сквозь стену моей квартиры. Nê, nê, nê. Жар нарастал: я занимался любовью с огнем. И когда удовольствие превратилось в боль, когда я чувствовал, что близок к обмороку, словно острие копья пронзило меня насквозь. Качнув бедрами в последний раз, Нана выгнулась и напряглась. Мне показалось, что я умираю, что жизнь вытекает из меня толчками в тело этой женщины.
* * *
Когда я пришел в себя, солнце заливало комнату и тело, лежавшее рядом со мной ничком, с разметавшимися, скрывающими лицо волосами. Я всмотрелся в совершенную анатомию и начал понимать, что что-то не так. И когда мой взгляд добрался до ступней изумительного рисунка и мне бросились в глаза ногти, я понял свою ошибку. Она повернула голову. Бирюзовые глаза смотрели насмешливо.
– Кажется, ты ожидал увидеть кого-то другого… – Дита улыбнулась: – ты тут ни при чем. Я могу быть всеми женщинами на свете, если захочу.
Я встал, собрал свою одежду. Как я мог так ошибиться?
Тут я рассмотрел кровать. Мечта антиквара, скульптурная, в форме раковины, с ангелочками, играющими на флейтах. Метафора более чем прозрачная. Мне было стыдно.
– Это папин вкус, не мой, – сказала она извиняющимся тоном, словно прочитав мои мысли. – Мы в его спальне…
Мысль, что я спал в кровати столь могущественного человека, мне не польстила. Получалось, что он как будто присутствовал все это время, руководил нашими объятиями, прописывал наши грезы.
– Это бесценная вещь, знаешь ли. Даже историческая. – Она выдержала паузу. – Это кровать маркизы Паивы[98], тебе это имя что-нибудь говорит?
Я в очередной раз получил доказательство эрудиции обеих сестер.
– Одна из величайших «горизонталок», как их образно называло высшее общество Второй империи. И слово, на мой взгляд, не передает в полной мере их мастерства.
Я ничего не ответил. Я одевался. Я понял, что нахожусь за той самой двустворчатой дверью, которая выходила в гостиную и всегда казалась мне в каком-то смысле охраняемой.
– Ты в курсе, что она послужила прототипом одной героини Золя?
Какая мне, на хрен, разница?
– В романе, который называется…
Она не договорила, глядя, как я открываю дверь.
– Нана, – сказал я.
И столкнулся с ней лицом к лицу.
Когда она увидела меня, краска отхлынула от ее щек.
Кто-то, кто думает о тебе
Назавтра в редакции все нашли, что я великолепно выгляжу. Вернувшиеся из отпусков спрашивали, где я был.
– Дашь мне адрес твоей клиники? – спросил напрямую редактор рубрики «Искусство жить», видевший меня до выходных.
Посмотревшись в зеркало в лифте, я отметил, что действительно нахожусь после этой безумной ночи в поистине олимпийской форме. Лицо отдохнувшее, волосы блестят, несмотря на количество принятого алкоголя.
Психологически, однако, от меня осталось мокрое место.
Нана стала невидима.
Дита исчезла.
Квартира напротив была погружена в тишину.
С книжной полки, между Софоклом и Страбоном, маленькая сова смотрела на меня с укоризной, хотя вообще-то в ее больших удивленных глазах можно было прочесть то, чего в данный момент хотелось.
* * *
В следующие дни я работал как одержимый, но пребывал в прескверном настроении. Силы отчасти вернулись ко мне, но я снова боролся с призраками. С призраком Пас, опять преследовавшим меня. Неужели Нана лишь ненадолго оккупировала территорию?
К счастью, у меня был сын, который требовал окончания эпопеи о Морламоке. Я собирался навестить его в выходные.
* * *
На перроне вокзала его волосы пахли водорослями, а губы ванилью от съеденного на пляже мороженого. Еще не кончилось лето, но он сказал мне, что сомневается в существовании Деда Мороза. «Дедушка, который никогда не умрет, – это неправдоподобно», – безапелляционно высказался он, рассмешив до слез моего отца. «Жизнь иногда тоже бывает неправдоподобной», – хотелось мне ответить сыну.
Под конец выходных он протянул мне рисунок: темноволосая женщина в черном, красное кровоточащее сердце и слезы на лице.
– Кто это? – спросил я его.
– Кто-то, кто думает о тебе.
* * *
Однажды вечером, когда никак не удавалось уснуть, я достал бирманский сундучок, где хранились последние фотографии Пас, чтобы еще раз поискать какой-нибудь знак, деталь, которой я не заметил. Открыв металлическую крышку, я вынул конверт из крафтовой бумаги с надписью «Hyp», и меня захлестнула боль. Снова видеть эти места, бурые утесы, было невыносимо. Кадры ввинчивались в мозг. Утрата раскрыла свою зубастую пасть. Хотелось кричать. Я позволил себе рюмку водки. Потом вторую. Вышел, чтобы не биться головой о стены. Долго ходил. Но Сена под фонарями напомнила мне о море, там, где покоилась она. Мне пришлось бороться изо всех сил, чтобы не завернуть в дежурную аптеку на бульваре, всегда окруженную жалкими африканскими шлюшками и мигрантами с Востока с кинжальными взглядами. Я вернулся домой, захлебываясь от накатившего одиночества.
На следующий день в мою дверь позвонила Нана. Прошло две недели.
– Нана, мне очень жаль, я… Ты не поверишь, но…
Я осекся, не закончив фразы: «… в ту ночь я думал, что это была ты».
– Не будем больше об этом.
Оно и к лучшему. Смехотворность не убивает, но ранит болезненно.
Она же не отказала себе в удовольствии:
– И потом, это не то, что если бы мы были вместе…
Я выдержал удар не моргнув глазом. Она глубоко вдохнула.
– Тебя хочет видеть отец.
И в ответ на мой вопрос зачем, сказала:
– Дита несовершеннолетняя.
Я чуть не расхохотался. Но она не шутила.
– Что за бред?
– Я знаю, она выглядит намного старше.
– А ее бизнес, сандалии?
– Это к делу не относится. Ей есть кому помочь. Отец хочет тебя видеть. Думаю, это ясно, нет?
Я не мог удержаться от улыбки:
– Извини, Нана, но кем он себя мнит?
– Он себя мнит собой. Чего хочет мой отец, то обычно и делается.
Жестокая складка залегла в уголке ее рта. Я засомневался. Вспомнил квартиру, сокровища, которыми она полна. Озеро Стимфалия…
– А где твой отец?
– В данный момент в Греции.
– И вызывает меня туда? В Грецию.
– Завтра. Считай это приглашением.
– Завтра?
Сколько уверенности, властности… Было почти заманчиво познакомиться с таким человеком.
– И я должен взять билет, вот так, бросив все дела?
Она покачала головой:
– У него свой самолет.
– Разумеется, как я не подумал!
Да, это было и вправду заманчиво. Не говоря о том, что у такого человека наверняка длинные руки. Я подумал о сыне. Этот Атанис мог мне подгадить. И это был случай наконец его увидеть.
– Ты должен быть в Ле-Бурже завтра в восемь. Тебя встретит стюардесса.
Только этого мне не хватало.
III Гость Греция, Эгейское море (но где?) и Япония, Внутреннее Японское море
В облаках
Откинувшись в кожаном кресле с бокалом мартини в руке, я улыбаюсь над облаками. Единственная живая душа на борту этой «Сессны 510 Мустанг», не считая первого пилота, второго пилота и Кумы, стюардессы из Камеруна, которая остается глуха к моим вопросам о владельце самолета, я пью, чтобы сохранить остатки трезвой мысли.
Я вновь представляю себе кровать в форме раковины, на которой трудилась пресловутая маркиза-горизонталка, чей особняк был прозван братьями Гонкур за его роскошь и обычаи хозяйки «Лувром постели».
Нет, это все-таки полный бред.
Почему я в этом самолете?
Потому что мне любопытно встретиться со всесильным человеком.
Потому что я потерял любимую женщину, разочаровал другую и не хочу, чтобы мне еще больше испортили жизнь.
Там разберемся.
* * *
Облака – клочья пены для бритья, плавающие в синей воде гигантской раковины.
Мне нужен еще бокал.
Мы снижаемся, и облака рассеиваются. На покрытом морщинками море конфетти островов. Люди, как бы их ни было много, еще слишком малы, чтобы их увидеть. Три миллиарда человек на планете в 60-е годы. Сегодня семь. На одном пятачке. Понятно, что то здесь, то там становится тесновато. Что некоторым хочется время от времени расчистить место.
Мы еще снижаемся. Теперь я вижу маленькие кубики домов.
Стюардесса просит меня пристегнуть ремень.
В иллюминатор я вижу остров, на котором приземлюсь. Нана не ответила, когда я спросил, как он называется. Я снова обращаюсь к стюардессе.
– Извините, месье, я не уполномочена давать вам эту информацию.
Я как та женщина, от которой во время одного полета – его совершил и я перед летом – любящий муж скрыл пункт назначения, город влюбленных, о котором она давно мечтала. До того как она села в самолет, пилот обратился через микрофон ко всем пассажирам и сказал, что собирается объявить по прибытии название другого города, с менее романтической репутацией, – Гданьск, Тимишоара или Газиантеп. Всем предстояло стать сообщниками.
– Счастье для женщин, что еще есть такие мужчины, – сказала мне соседка.
– Моя жена умерла… такого сюрприза я уже не могу ей сделать, увы, – ответил я, опробуя ту форму искренности, которая, стань она всеобщим достоянием, положила бы конец нашей прекрасной цивилизации.
Она так и съежилась на сиденье.
Остров имеет форму наконечника стрелы и пересечен по центру горной цепью, как хребтом. Появляется асфальтовая лента, зажатая между горами и морем. Здесь надо быть осторожнее на поворотах. Самолет пролетает над скалистой цепью и ныряет вниз по другую сторону ее окутанной туманом вершины. Я вцепляюсь в подлокотники. Сейчас мы врежемся в скалы. Нет, самолет выравнивается, море раскинулось слева, а правое крыло задевает гору. Срабатывают воздушные тормоза. Удар. Скрипят шины, кабина вибрирует, самолет мчится, как бешеный бык, потом все медленнее, медленнее и останавливается аккурат перед морем. Пристегнутая напротив меня Кума поправляет блузку.
– Вам нравится Греция? – спрашиваю я.
– Я сразу же улетаю, – отвечает она, расстегивая ремень.
Встает, разблокирует двери и говорит мне: «Вы прибыли». Дверь открывается, разворачивается трап. Воздух горяч. Пахнет гудроном и розмарином. В конце летного поля я вижу завалившуюся ограду, а за ней белый домик с тремя окошками, обрамленными голубым. Вот и все.
И ни одной живой души.
Слева от домика стоит пластмассовая скамейка. Я сажусь на нее, включаю мобильник. Сети нет.
Я жду. Закрываю глаза. Вот я и вернулся в Грецию.
* * *
Наконец что-то появляется в поле моего зрения. Нечто двухколесное, никуда не торопясь, взбирается на холм в своем ритме. Медленно приближается. Старик одет в синюю рабочую куртку, выцветшую от солнца или соли, и бархатные штаны. Поравнявшись со мной, он останавливает свой драндулет, усеянный пятнами ржавчины. И роется в сумке, висящей у него через плечо. Достает оттуда картонку, на которой я читаю свое имя. Через час после приземления. Что за организация, господин Атанис? Старик делает мне знак сесть позади него на черное седло, откуда выпирает местами желтый поролон.
Деревня сгрудилась внизу вокруг бухточки в форме буквы U, защищенная горами, которые окружают ее настоящими крепостными стенами. Не нужна и цитадель, от которой остался лишь кусок стены. Дома в основном белые, но есть и желтые, голубые, охряные, с неоклассическими фасадами. С удивлением я вижу купол мечети и острие минарета.
Я спрашиваю водителя, где мы. По-гречески я как-никак знаю пару-тройку слов. Ответа нет. Он, однако, меня слышал: ни шлема, ни ветра, ни шума, кроме стука слабосильного моторчика. Он пригибает голову, как будто хочет прибавить скорость, но не прибавляет.
Мы пересекаем деревню. Водитель останавливается только на набережной. Дальше – прозрачная вода, в которой танцуют рыбки. Он делает мне знак слезть. Рядом кафе. Несколько деревянных стульев и столов в беседке, защищающей от солнца. Колышется занавеска из бус в дверях, и из-за нее появляется женщина. Лет пятидесяти, крепкого сложения, еще красивая, еще черноволосая, она несет поднос, уставленный тарелками, ни о чем не спросив, расставляет их на одном из столов над самым морем и жестом приглашает меня сесть. Мне хочется есть и пить, так что я повинуюсь. Салат с осьминогом, помидоры и фета, оливки. Никого больше нет в этом крошечном порту, где лишь три лодки вяло покачиваются на воде. Мой взгляд затерялся в небе. Редко я видел такой чистый свет. На часах полдень.
Я приступаю к осьминогу; приправленный перцем и лимоном, он тает во рту. Женщина вернулась к своей занавеске из бус. Стоит перед ней, как изваяние.
Я прошу кофе. Helleniko café[99], уточняю я. С гущей на дне. В ней я, может быть, найду ответ на мои вопросы.
Когда я спрашиваю счет, она качает головой.
Скупая на слова, она знаком просит меня последовать за ней внутрь кафе. Выкрашенные голубой краской стены, деревянные столы, несколько зеркал в пятнышках от старости, черно-белые фотографии, деревня пятьдесят лет назад… Ни иконы, ни распятия, что меня удивляет. Она снимает ключ с доски, на которой написаны номера, – все ключи на месте, гостиница пуста – и идет к лестнице. Лестница ведет в коридор, освещенный прямоугольником открытой двери.
Комната просторная, скромно обставленная, с большой кроватью, накрытой стеганым покрывалом с геометрическим узором. И балкон над морем без единой морщинки.
– Как называется этот остров?
Ответа нет. И по-прежнему нет сети на моем смартфоне. Это начинает тяготить. Чтобы не сказать пугает. Я хочу позвонить сыну.
– У вас есть вай-фай?
– Что?
Гениально. Она скрывается. Я продолжаю осматривать мои владения. Деревянный стул перед маленьким столиком. И все. Стены белые, голые, иконы тоже нет, но в нише стоит статуэтка под голубыми неоновыми лампами. На деревянном пьедестале, между двумя маленькими колоннами, глиняная женщина на коленях. Нагая. Голова увенчана нимбом, вернее, золотым диском. Тонкие бусы, то ли металлические, то ли из оливкового дерева, похожие на четки, окружают ее тело. Над каждой колонной два сердца и неоновая звезда. Никакая не Богоматерь, скорее, языческий идол. Языческий и электрический. Провод, заканчивающийся вилкой, идет прямо из статуэтки. Я включаю ее в розетку. Зажигается голубой неоновый свет.
Я принимаю решение обследовать окрестности.
Узник
Жара лупит, как боксер на ринге. Деревня в нокауте. Но это обманчиво: есть ощущение, неприятное, что за мной подсматривают из-за окон. Стоит мне пройти мимо дома, колышутся занавески. Ко мне катится мяч, следом бежит мальчик в шортах. Я тихонько поддаю мяч ногой. Малыш, подхватив его, скрывается в желтом доме с балконами из кованого железа. Где же мы? Судя по фасадам с фронтонами, по наличию мечети, к которой я направляюсь, я склонился бы к архипелагу Додеканес, недалеко от Турции. Азиатская Греция.
Я вижу впереди минарет, метров десяти в высоту, с острым ярко-красным кончиком. Ракета, готовая взлететь к своему богу. Но над дверью висит табличка с одним простым словом: «Музей». Мечеть закрыта. Чуть подальше белая церковь с голубым куполом. Хочу открыть дверь и вижу ту же надпись: «Музей».
Я быстро дохожу до края деревни, которая заканчивается баром. Несколько столов перед домиком с белеными стенами, здесь, должно быть, приятно посидеть и не спеша выпить стаканчик. Бар, похоже, закрыт, как и остальные лавки. Сразу за ним набережная описывает полукруг и упирается в горы. Металлическая лесенка спускается в море. Вокруг ни души, так что я раздеваюсь и окунаюсь в воду. Прохлада, балет маленьких рыбок на светлой гальке – все восхитительно. Я думаю о Пас, мне кажется, что теперь она всегда рядом, подо мной, когда я плыву, с осторожностью поглядывая вниз.
Я уже далеко от берега и с моря, кажется, вижу на другой стороне острова несколько белых пятен, рассыпанных в буйной зелени. Я различаю целую сеть довольно внушительных построек, современных, расположенных на нескольких уровнях. Там, наверно, живет Атанис. Когда же он подаст мне знак, он ведь так спешил?
Выхожу из воды, ложусь на набережной, в тени, подальше от недремлющих глаз деревни. Пытаюсь расслабиться, слушая плеск волн, почти заглушенный стрекотом цикад. Уже одеваясь, замечаю человека, который смотрит на меня с террасы бара.
Я направляюсь к нему:
– Kalimèra[100].
Он отвечает на приветствие. Тоже старик. На лице, выдубленном солнцем и скрытом густой бородой, блестят очень светлые глаза. На нем сандалии, полотняные штаны и серая футболка. Он ничего не говорит. Я заказываю пиво и усаживаюсь за один из столов. Он возвращается с бутылкой и стаканом, ставит передо мной. Я смотрю на этикетку и улыбаюсь. Пиво, сваренное в Салониках, называется «Мифос».
Я вернулся в гостиницу, когда небо стало оранжевым. Денег за пиво с меня не взяли. Как будто все получили приказ. Поднявшись к себе в комнату, я уснул. Разбудила меня суета в порту. Я вышел на балкон. Море было усеяно лодками. И еще что-то плескалось под их бортами. Я узнал эти силуэты, выпрыгивающие, игривые. Дельфины. Десятки дельфинов, казалось, тащили на буксире суда. Они играли в водах порта, плеща энергией, пока лодки не причалили. А я-то думал, что такие зрелища единения человека с природой остались во временах легенд. И тут деревня ожила, рыбаки выгружали на набережную ящики, в которых кишела рыба и другие дары моря, женщины сортировали улов, стягивали резинками клешни омаров, укладывали рыбин на ледяное ложе. Только женщины и мужчины в возрасте да дети. Молодых не было, как будто недоставало целого поколения. Отправились на континент искать работу?
Появились два фургона, один припарковался у лодок. Из кабины вышел, опровергая мое наблюдение, молодой человек, одетый в элегантные форменные рубашку и шорты. Он распахнул задние дверцы, и вскоре в фургон перекочевал почти весь улов. Другой фургона встал в пяти метрах, у сарая в тени купы кипарисов, в него под надзором молодой женщины в такой же форме, как у ее коллеги, загружали деревянные ящики, полные лимонов с ослепительно-желтой кожей, лопающихся от спелости гранатов и ярко-красных помидоров. Я направился к ним. Что-то было вышито на форменных рубашках на уровне сердца, но подойти ближе и разглядеть я не успел. Загруженные под завязку фургоны выехали на дорогу, уходившую в горы.
Рыбаки закончили приводить в порядок сети и ящики, пока женщины делили между собой остаток улова. Потом все направились к террасе моей гостиницы, где вскоре зазвенели стаканы. И никакого священника, а ведь это ключевой персонаж греческой жизни. Тут я заметил, что лодок было ровно девять и каждая носила имя одной из девяти муз по «Теогонии» Гесиода – Талия, Эрато, Эвтерпа, Полигимния, Каллиопа, Терпсихора, Урания, Мельпомена и Клио.
На ужин хозяйка подала мне дораду, поджаренную с несколькими каплями масла, кристалликами соли и горсткой оливок. Изумительная на вкус свадьба моря и земли, спрыснутая графинчиком вина. Когда я хотел расплатиться, она снова дала мне понять, что не надо.
– Господин Атанис?
– Nê.
– Он сказал вам, когда приедет за мной?
– Ochi[101].
На следующий день после обеда я пытаюсь разведать дорогу в горы. Хозяйка отыскала для меня старенький велосипед. он скрипит, когда я жму на педали. Мои колени тоже. Жара мечет стрелы в затылок. на вершине холма старый форт хранит свои руины. Я продолжаю путь по дороге, которая разделяется на три тропы. Выбираю центральную и еду сквозь густые заросли, ароматы которых стократно усилены жарой. Пахнет тимьяном и миртом.
Я торможу как раз вовремя. Скала обрывается в зеленое море ста метрами ниже. Бледно-зеленое. Глаза Наны, устремленные на меня. Я возвращаюсь назад. Сворачиваю на левую тропу. Метров через пятьсот – снова развилка. Вокруг непроходимая чаща, полная звуков. Хлопанье крыльев, шорох личинок, вгрызающихся в дерево, шелест, микроскопические шажки по камешкам. Вся эта маленькая фауна резвится здесь, осаждает меня, сбивает с толку. А небесная синева уже окрасилась оранжевым.
Я даю задний ход. Прислоняю велосипед к остатку крепостной стены. С высоты форта мне открывается вид на остров и его теснящиеся домики, желтые, голубые, кроваво-красные, с фронтонами и балконами, с яркой черепицей, вдоль набережной, точно каменные животные вокруг водоема в саванне. Игла мечети и выпуклость церкви соседствуют, более того, соприкасаются. Хочется спросить, каким ребенком мог быть создан этот столь уместный союз на уединенном островке. А вокруг горы, только горы, горная порода блестит, как прекрасное мраморное тело, со своими изгибами и сочленениями, плавными и отрывистыми линиями. Скалы и вода. Все, что останется, когда больше не будет нас. Наслаждаясь жгучей лаской солнца, на меня с вызовом смотрит ящерица, цепко держась на когтистых лапках, гордо выпятив грудь, вращая глазищами. Я протягиваю руку. Она убегает и прячется в щель между зубцами стены. Я достаю смартфон. Сети по-прежнему нет.
Надо смириться: я узник.
Небо теперь почти красное. Волны как будто кровоточат, и им это нравится. Я спускаюсь, голова наполняется ветром.
Внизу, справа, перед самой деревней, мне приглянулась бухточка с песчаным пляжем. Снова хочется искупаться. Раздеваюсь догола, плыву, чувствую под собой очертания, иной мир живет там, под моим торсом, бедрами, пенисом. Осьминоги и дорады, морские коньки и сказочные чудища. Вода фосфоресцирует при малейшем моем движении, светится светом, всплывшим из глубины веков.
Выхожу, ложусь на песок, он теплый. Ветер сушит меня, природа ко мне добра. Легче дышится.
Бронхи очистились. Я ни о чем не думаю. Мое тело покрылось загаром. Оно пробуждается.
Когда я добираюсь до пансиона, хозяйка стоит, уперев руки в бока, перед занавеской из бус и кивает мне на стол, накрытый у моря. Меня ждет холодное пиво. Капельки воды стекают по бутылке, украшенной этикеткой с единорогом.
Неплохо обращаются с узником.
Жители деревни снуют туда-сюда, пьют, смеются, едят. Дети и старики, некоторых я уже узнаю. Рыбаки. На меня никто не обращает внимания. Я кусаю брызжущий соком помидор. Вонзаю зубы в мякоть осьминога. Я чувствую себя прозрачным.
У себя в комнате ложусь на кровать поверх покрывала, оно мягко касается кожи. Окно открыто, небо усеяно звездами, а мне не до созвездий. Слышен плеск волн. Я в безбрежности. Я забываюсь. Маленький идол светится голубым светом. Я угадываю изгибы тела, золотой диск. Мне снятся хорошие сны.
Старик
В ушах звучит фраза с раскатистыми «р». Чьи-то руки с силой трясут меня. Я открываю один глаз и вижу мою хозяйку.
– Просыпаться, – добавляет она по-французски, как будто я еще не понял.
Я в чем мать родила. Ее это, похоже, не смущает. Я пытаюсь натянуть на себя простыни, она откидывает их и жестом дает понять, что надо вставать.
– Атанис, – говорит она.
Сердце начинает биться часто-часто.
Она ждет, пока я оденусь. Следит за мной, моя тюремщица, чтобы я не вздумал сбежать. Мы спускаемся.
Я прохожу следом за ней через занавеску. Еще темно. На террасе ни звука, только плеск моря. Деревня крепко спит. В атмосфере чувствуется та живость воздуха, что предшествует неминуемому пробуждению солнца, дымка раннего утра, бодрящая, полная острых запахов природы, аромата мяты и козлиного душка.
За моим столом уже кто-то сидит. Я подхожу.
– Я вас не слишком рано разбудил?
Голос слабенький, дребезжащий. Это голос старичка. Передо мной и сидит старичок, одетый в белый с красным тренировочный костюм из полиэстра. Серо-седые волосы, зачесанные назад, растут низко на лбу. Лицо в морщинах, черты различаю плохо. Я слегка разочарован. И это Атанис?
Он держит в руке дымящуюся кружку.
– Нет, – отвечаю я. – Я уже ломал голову, что, собственно, я здесь делаю.
Я по-прежнему стою. Он показывает на стул напротив:
– Я оставил вам лучшее место.
– Чтобы посмотреть восход солнца?
Он улыбается:
– Не только…
Появляется хозяйка. Ставит передо мной кофе. Перед стариком она опускает глаза.
Он ничего не говорит. Ждет, изучает меня. Я рассматриваю эмблему на его костюме. Профиль увенчанного лаврами атлета, а над ним надпись: «Олимпиакос». Футбольный клуб из Пирея, клуб рабочего класса. Этот человек похож всего лишь на пенсионера, который через пять минут займется тайцзи[102], любуясь рассветом. Или отправится на рыбалку.
Я вдруг слышу шум в воде за его спиной. Всплеск. Он оборачивается к морю: «Дельфины… Смотрите». На волнах играет свет. Ночи осталось недолго. Я различаю в нескольких метрах от набережной очертания, зыбкие, быстрые. И это все.
– Мы пропустили прыжок, жаль, – говорит он и начинает тихонько петь:
There's a tale that they tell of a dolphin And a boy made of gold…[103]Я ставлю чашку на стол с некоторым раздражением. Он умолкает.
– Boy on a Dolphin, вы видели этот фильм? Софи Лорен в роли ныряльщицы за губками на острове Гидра…
Он говорит тягучим голосом, но без всякого акцента.
– Нет, я не видел. Это ради дельфинов вы вызвали меня сюда?
Он улыбается. Я лучше различаю его черты, рисунок морщин на лице, зеленые глаза под антрацитовыми бровями. Их зелень темнее глаз Наны.
– Нет. Не ради дельфинов.
– Ради чего же?
– Моей дочери…
Я перебиваю его:
– Я не знал, что она несовершеннолетняя…
Старичок смотрит на меня удивленно:
– О чем это вы?
– О Дите. повторяю, я не знал, что она несовершеннолетняя.
Он от души смеется.
– Кто это выдумал?
Я ничего не отвечаю.
– Это Нана? – спрашивает он. – Решительно, вся в меня.
Я опускаю глаза. Чувствую себя смешным. Одураченным.
– Не кипятитесь, – говорит он, поднося к губам кружку с горячим чаем. Дует на него, отпивает глоток. – Нана не хотела вас обидеть. Это я попросил ее отправить вас сюда. Что до Диты, нет, нельзя сказать, что она несовершеннолетняя, и заниматься с ней любовью – это удовольствие, нечасто дарованное таким людям, как вы. Могу только порадоваться за вас.
Он смотрит на свои руки.
– Я знаю, что вы запали на Нану, но ни о чем не жалейте. Нана не отдается. По определению, я хотел сказать…
Я поднимаю брови:
– По определению?
Он весь подбирается:
– Полноте, Сезар, не говорите мне, что вы еще не поняли?
Мальчик
Солнце встало вдруг, разом, осветив дымчатым светом наш стол, его лицо, море у нас под ногами. Пение птиц разорвало тишину. Пахло солью и смолой, почти ладаном.
Божья коровка села на его коричневую от солнца руку. Он смотрел, как она ползет по пальцам, останавливается во впадинках между венами и сухожилиями, потом, расправив крылышки, взлетает.
– Где мы?
– В Греции.
– Спасибо, что просветили.
Он улыбнулся.
– Можно назвать этот остров Делосом, Наксосом, Митиленой и даже Итакой, что это меняет?
– Вы здесь живете?
– Живем ли мы?
Он заглянул мне в глаза. С виду добрый дедушка, но что-то в нем меня тревожило.
– Где Нана?
– Всегда недалеко от вас. Но лучше вам с ней больше не видеться. Вы обидитесь на нее и будете не правы. Она это сделала для вашего блага.
– Продинамила меня?
– За это ее и любят… Но не думаю, что она обманула вас во всем. Она даже зашла, на мой взгляд, слишком далеко.
– Я не понимаю.
Он повернулся к морю:
– Молчите. Вот и он.
Маленький пароходик подплывал к берегу. Белый, с голубым корпусом, перила палубы облеплены людьми. Он проскользил по волнам к дамбе в нескольких метрах от нас и остановился. Пришвартовался, спустил трап. Ослепленные солнцем дети под предводительством горстки взрослых сошли на берег веселым войском. Маленькие воины с рюкзаками вместо щитов направились к террасе, расселись. Вышла хозяйка, я впервые увидел ее улыбающейся, принесла молоко и хлеб с медом, который они принялись уписывать за обе щеки. Все болтали, смеялись. Но я не мог отчетливо расслышать, что они говорят. Мне, однако, показалось, что я уловил французские слова. Всплыло воспоминание. Давнее воспоминание.
– Что они приехали смотреть?
– Остров. Старый венецианский форт. Есть еще ликийские гробницы, там, наверху.
И тут словно мощный магнит притянул мой взгляд. Сначала мне показалось, что это мой сын. Те же буйные темные кудри, глаза как будто задумчивые, но на самом деле внимательно глядящие на что-то. Но нет, его волосы были светлее. И что-то блестело у него на шейке. Маленький диск. Серебряный. Я понял. Хотел встать. Но крепкая рука Атаниса удержала меня.
Этот мальчик смотрел на море и солнце. В руке у него был карандаш, и он рисовал в тетради, а рядом лежал одноразовый фотоаппарат. Он рисовал море, он рисовал солнце. Он рисовал эту страну.
Слезы рвались из моей груди.
Мальчик отпил глоток молока, облизал губы, снова посмотрел на море и продолжал рисовать. Опять остановившись, достал из рюкзака пенал, желтый, кожаный, который я сразу узнал, а из этого пенала – ластик, чтобы стереть не устраивающие его линии.
Я знал, что он делал.
Он записывал и рисовал Дельфы, святилище в окружении гор, где среди эвкалиптов, наполнивших его легкие своим живительным духом, он видел «пуп земли», выпуклый, так много обещавший. Вечером в гостинице, где они ночевали, он пожевал лавровый лист, но ничего не произошло. Боги молчали. Неважно.
Это навсегда, он будет жить, чтобы пытаться.
Он записывал и рисовал Олимпию – бежал по стадиону и, казалось, чувствовал дыхание Зевса за своей спиной и даже в себе. Говорят, это и называется «энтузиазм», когда бог вселяется в вас. Так сказала учительница, которую он очень любил. Но боги могут и наказать. Так атлет-суперзвезда Милон Кротонский, шестикратный победитель Олимпийских игр, семикратный – Пифийских игр, девятикратный – Немейских игр, десятикратный – Истмийских игр, одной силой крови в своих жилах мог разорвать веревку, стягивающую его голову. Он умер, когда захотел расколоть надвое дуб голыми руками. Он просунул руки в трещину в стволе старого дерева, они застряли, и он не смог высвободиться. Его съели волки. Милона погубила глупость или скорее «гибрис» – непомерная гордыня, которую не любят боги.
Это навсегда, он будет жить, чтобы познавать.
Он записывал и рисовал афинский Акрополь, у которого в тот день обедал. Впервые в жизни он обедал на крыше. Ему объяснили, что Парфенон некогда был цветным, как и большинство греческих статуй, чья белизна – лишь работа времени. Учительница сказала, что Парфенон происходит от слова Парфенос, «дева», одно из имен Афины. «Она хочет оставаться девушкой, – пояснила она, когда он спросил, что это значит. – Не иметь возлюбленных». – «А если в нее все же попадет молния Зевса?» Ответа он не получил и хочет знать.
Это навсегда, он будет жить, чтобы постигать.
Он записывает и рисует таверну в Пирее, куда их привели перед отъездом из Афин. Со старыми моряками, которые не ходили больше в море, он пел песню под названием «I Gorgona», «Сирена». Про мужчину, которого любили две женщины, а он любил сирену. Уже…
Он записывает и рисует стаканчик узо, который тайком выпил там, распевая «I Gorgona». Это первое в его жизни спиртное. От него горячо в горле, и это приятно. Ему кажется, что в нем растет новая сила. Он лег в половине одиннадцатого, но для него это уже бессонная ночь.
Это навсегда, он будет жить, чтобы не спать.
Он записывает и рисует Спарту, ее развалины и ее асфодели[104]. Там ему прочли Плутарха и эту историю о мальчике, которому украденный лисенок прогрыз живот, но он не признался в краже. И еще ему прочли: «При этом нагота девушек не заключала в себе ничего дурного, ибо они сохраняли стыдливость и не знали распущенности»[105]. Он записывает и рисует остров Эгина, где он купался и его взволновало тело товарки много старше его.
Это навсегда, он будет жить ради желания. Его ожога.
Пегас, Беллерофонт, Орфей, Тесей, Ариадна, Елена, Парис, Цирцея, Навсикая… На той самой земле, где они родились, эти истории вошли в его голову, укоренились в ней и больше никуда не денутся. Он подкован, и больше его не расковать. Камни циклопических стен, под которыми навеки упокоился Агамемнон, даровали ему чувство прошлого. Золотые искры дождя, проливающегося на нагое и теплое тело Данаи, оплодотворили его воображение. Навсегда.
Он будет жить в историях, ради историй.
Рука мальчика вдруг замирает. Его зовут. Он убирает карандаши в пенал, закрывает тетрадь, и я узнаю иллюстрацию на обложке. Она блестит в утренних лучах, и тут мне вспоминается все. Рисунок с аппликациями, которые я подбирал и наклеивал много часов перед поездкой, по легенде, прочитанной в моем большом собрании мифов и особенно тронувшей меня.
Мальчик убирает в рюкзак эту тетрадь, которую я, увы, потерял да так и не смог найти.
Он догоняет своих товарищей. Я смотрю ему вслед, и мне грустно. Я бы хотел с ним поговорить. Он поворачивается к солнцу и морю, которых всегда будет хотеть от жизни. И еще он будет хотеть, чтобы она его удивляла, чтобы дарила ему принцесс, которых надо похищать, а главное, дарила случаи самому быть похищенным, восхищенным. Окрыленным. Всегда.
Прежде чем скрыться, он поворачивается и ко мне. Смотрит на меня издалека, как будто тоже узнает.
И тогда впервые я плачу без ненависти. Слезы смывают всю пыль утраты, так давно застившую мне глаза.
– Этот мальчик многое обещал, – спокойно говорит Атанис. – Не в пример мужчине, которым он стал и который теперь топчется на месте. Вы изменили себе, Сезар.
Море по-прежнему блестит и искрится под солнцем. Мое лицо залито слезами.
Атанис берет лежащий рядом с ним сверток и подвигает его по столу ко мне.
– Подарок от Наны, – говорит он.
Я разворачиваю крепированную бумагу. И широко открываю глаза, узнав потерянную тетрадь. Ту самую тетрадь, в которой мальчик еще несколько минут назад рисовал и писал. Я так искал эту тетрадь, я перерыл свою бывшую детскую, потому что хотел показать ее сыну. Как я по нему соскучился! Мне хочется зарыться лицом в его темные волосы, попросить у него прощения и покрыть поцелуями все его тельце, загорелое после путешествия под парусом, на которое я так надеюсь. Я мечтаю выйти с ним в море. Подумать только, а я ведь так ему и не позвонил… Я улыбнулся, обнаружив билеты в музеи, приклеенные напротив дат и названий. Коринф. Нафплион. Наивные, но точные рисунки, герои на вазах из афинского музея, вырезки из проспектов, кусочки карт, план Парфенона и его изображение в красках, пастелью, асфодели из Спарты, засушенные между страниц.
– Я думаю, Нана хотела освежить вашу память, – говорит Атанис.
– Почему я?
– Вы так много думаете о нас…
Я закрываю тетрадь и смотрю на ту самую картинку на обложке. Да, много часов работы. Мне пришло в голову, чтобы доспехи сверкали, наклеить крошечные чешуйки, вырезав их из золотой бумаги.
Золотые чешуйки для трех воинов, танцующих вокруг младенца, которого я изобразил, пожалуй, слишком пухлым. Я обожал эту историю о маленьком Зевсе, которого мать спрятала от злого каннибала-отца, Кроноса, пожравшего одного за другим всех своих детей. Мать скрывала дитя на Крите, где его выкормила волшебная коза из рога изобилия. Но хоть он и бог, а все равно младенец: гукает, плачет, кричит. У Кроноса такой тонкий слух, что он может услышать его, найти и съесть. И тогда мать поручила его нянькам нового типа. Они зовутся Куритес, и эти боги-воины, как только младенец начинает плакать, бьют мечами по щитам, и танцуют, и поют, чтобы заглушить плач малыша. Куритес хранят его жизнь.
То, что я лишь почувствовал тогда, не понимая, предстало мне теперь со всей ясностью: воины берегут не только его жизнь. они берегут его детство.
Ибо от пожирающего времени только наше детство, то, что мы черпаем в нем, может нас спасти.
И в эту самую минуту мне показалось, будто я слышу вдали стук мечей о щиты.
– До свидания, Сезар, – сказал Атанис, застегивая молнию своего тренировочного костюма.
– Подождите.
Он как будто удивился. Глаза его блестели, глядя на меня очень пристально. если он тот, кто я думал, значит, момент, о котором я мечтал так часто после смерти Пас, настал.
– Я должен знать одну вещь, – сказал я.
– Об этом лучше спросить у оракулов… или у сирен. – Oн лукаво подмигнул мне. – ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. «то, что на всей происходит земле жизнедарной»… Вам это что-нибудь напоминает?
Мне вспомнился разговор на Сиренузе.
Звуки вокруг нас между тем нарастали. Мерный стук. Хотя все выглядело таким спокойным. Атанис обернулся к морю, вдруг встревожившись.
– Только один вопрос… – сказал я.
– Что вы хотите знать?
И я решился:
– Она еще любила нас?
Его лоб пошел морщинами.
– Поройтесь в архивах вашего сердца, – просто ответил он.
Его ответ ошеломил меня. И только-то? Когда я, смертельно разочарованный, опустил глаза, он добавил еще одно слово. Но это слово, увы, я не смог отчетливо расслышать. Его перекрыл глухой звук удара, толчок, от которого содрогнулся стол. Слово, которое он произнес, звучало экзотической музыкой, не греческой. «Дасима». «Мэсима». К сожалению, повторить его он не успел. Чудовищной силы взрыв грянул за моей головой. Я сразу подумал: терроризм. Атанис на моих глазах разлетелся вдребезги. Как будто молния ударила, испепелив все. Я хотел закричать, но не мог.
«Месье, месье!»
Голос пытался пробиться сквозь окутавшую меня вату. Но у меня было слишком вязко во рту, чтобы ответить.
«Осторожней! Осторожней!»
Стояла полная темнота или, вернее, густой туман, в котором двигались быстрые силуэты. Я почувствовал, что поднимаюсь. Перемещаюсь в пространстве… Кажется, меня несли. И я не противился, безвольно отдаваясь течениям.
Я ощутил боль в руке. Укол. И противный вкус пластмассы во рту. Меня вырвало.
Я пришел, как говорится, в себя от пронзительного гудка. Язык не поворачивается сказать «сирены». Машина ехала быстро. И странного звучания слово, произнесенное Атанисом, вертелось у меня в голове. Сэсима?
В больнице, когда я выкарабкался и спросил, что произошло, мне лишь вкратце и невнятно обрисовали события. Кто-то позвонил в «скорую». Дверь моей квартиры выломали и нашли меня там, без сознания, с очень слабым пульсом.
– Кто вызвал «скорую»?
– Этот человек не назвался.
– Но откуда он знал?
– Вы живы, месье, это все, о чем вы должны думать. Есть еще хорошие люди.
Они, однако, поместили меня под наблюдение психиатра. «На случай рецидива». Это были их последние слова, перед тем как промыть мне желудок.
А слово все вертелось у меня в голове. Утром, когда я просыпался, в полдень, вечером, перед сном. Мисима? Я был под седативными препаратами. И решил, что это пройдет.
Спустя неделю, когда я только вернулся домой, в мою дверь позвонили. С бешено колотящимся сердцем я пошел открывать и увидел соседку. Ей по-прежнему было восемьдесят лет.
– Что у вас случилось? – спросила она. – Такой шум был на той неделе.
– Ложная тревога, мадам Авелин, ложная тревога.
И все же сон помнился мне до мельчайших подробностей. И последнее слово, произнесенное Атанисом, не давало покоя. Дасима?
В конце концов я все-таки нашел.
Нет, не Мисима, не Сэсима, не Дасима, а Тэсима. Остров в Японии. Во Внутреннем Японском море.
Эпилог Остров, где бьются сердца
Светает. Раздвигаю перегородку из рисовой бумаги – и вот я на лоне природы. Бамбук зеленым занавесом колышется на ветру, скрывая от меня птиц. Я, однако, слышу их щебет, их шелест в листве. Я снимаю одну за другой дощечки с ванны, ставлю их вертикально к стене. Дощечки сохраняют горячей воду, в которую я погружаюсь. Она обжигает, потом мало-помалу успокаивает. Я плохо спал, нервничал из-за предстоящего, возможно, открытия.
Филипп принял меня как брата. Он живет на архипелаге тридцать лет. Это он помог мне распознать Тэсиму, потому что Гугл, оракул наших дней, остался нем. Или, вернее, выдал массу чепухи, но ничего, что имело бы для меня смысл. За одним исключением: это связано с Японией.
Филипп был проездом в Париже по делам. Я спросил его, говорит ли ему что-нибудь эта «музыка». Когда он ответил, что да, есть такой остров Тэсима во Внутреннем Японском море и там находится центр искусств, я чуть не упал. Нана рассказывала мне о нем. Но она называла его иначе.
– А это не Наосима?
– Центр искусств есть и на Наосиме. Тэсима – соседний остров. Куда менее известный, хотя на нем находится прекраснейшее произведение – капля воды, заключающая в себе другие капли.
И это я тоже помнил. Значит, Нана навела меня на след задолго до своего отца?
Я купил билет до Токио.
Мой Синкансэн[106] отправляется через несколько часов. Потом мне придется пересесть на другой поезд – «далеко не такой скорый», уточнил Филипп, – затем на корабль, который доставит меня на Наосиму, а там на другой, до Тэсимы. Настоящее путешествие.
Мы завтракаем. Он, я и его жена, очень красивая и обладающая отменным чувством юмора. Они любят друг друга. Ее имя означает «Прекрасная необходимость» – так объяснил Филипп, ставший самым японским из французов, если не наоборот. Он не вернется, заверяет он меня, самурай на свой манер, самурай в твиде, не считая тех случаев, когда он открывает – редчайшая привилегия – церемонию ябусамэ, верхом, сидя очень прямо в стременах, закутанный в темно-синее кимоно, расшитое белыми цветами, с саблей на боку. Невероятный турнир конных лучников, в средневековых охотничьих одеждах, шкуры лани или лисьи прикрывают ноги, на поясе три ножа, в руках бамбуковый лук, и они запросто могут выпустить за несколько секунд на полном скаку, как в полете, три стрелы по трем глиняным мишеням размером с теннисный мячик. И я это чуть не пропустил. Боялся потерять время. «А куда тебе спешить?» – ответил мне Филипп. Вот он возвращается на трибуну, без сабли, но по-прежнему в кимоно. Этот ритуал, сказал он мне, установленный одним сёгуном, незыблем с XII века. И как в XII веке, еще случается, что новички отрезают себе ухо тетивой лука.
Я заново учусь жить в «последней цивилизованной стране в мире», как выразилась Нана. Сон все еще со мной, до мельчайших подробностей. Я помню все. Абсолютно все.
В одной витрине в городе, среди фигурок со странно пустыми глазами, мне подмигивает сова. Я останавливаюсь.
– Дарума, – говорит Прекрасная Необходимость и объясняет, что это талисман: надо нарисовать черной тушью зрачок в одном глазу и загадать желание, а в другом – только если желание исполнится.
Я покупаю сову.
* * *
В окно Синкансэна я не вижу гору Фудзи. Слишком густой туман. Над моей головой красная бегущая строка сообщает название следующей станции: Мисима. Так писатели могут быть еще и городами?
Я пересекаю Внутреннее море. На корме парома члены экипажа хрустят чипсами с васаби, глядя на бурлящего пенного змея.
В порту Тэсимы выхожу я один. На берегу мужчина и женщина, оба пожилые, в резиновых сапогах и тростниковых шляпах, собирают ракушки. Даже распрямившись, они остаются согбенными.
Я беру напрокат электрический велосипед. Раз нажал на педали – сотня метров. Опыт сродни семимильным сапогам.
Ветер едва ощутим. Свет удивительно ясен. Чувство почти полного покоя. Внутреннее море: я понимаю почему.
Центр искусств стоит на вершине холма, над морем. И капля воды, да, которую как будто положили на поляну. Но капля гигантская, и в нее можно войти, предварительно разувшись. Бетон под ногами холодный, весь в изгибах, с большим отверстием посередине, через которое входит природа, вся природа, ветер, и сосновые иглы, и дождь, и роса, тысячи ее капелек скользят по гладким стенам, рисуя картины, подвижные, прозрачные, меняющиеся ежесекундно, ежеминутно, ежечасно.
Хвала непостоянству.
Это прекрасно, но это не имеет отношения к моей истории.
Никакого отношения.
Я сажусь по-турецки. Я сдаюсь. Во мне нет злости. Это была чудесная блажь. Я думал, что узнаю, но мне не узнать никогда. И придется с этим жить. Я бросаю скорбный взгляд на мою сову даруму. Она останется кривой. Это почти комично.
По крайней мере, я немного посмотрел Японию. Сыну бы понравилось. Надо нам сюда вернуться.
Вода в бутылке закончилась. Выпить бы чаю. Мне говорят, что есть рыбацкая деревня у подножия холма. Мой семимильный велосипед катится вниз по склону. Ветер треплет волосы. Десять тысяч километров ради этого? Я смеюсь своей наивности.
Вот и деревня. Несколько домов и столбы с электрическими проводами. Мужчины ремонтируют храм, рядом стоят их лодки. Я кручу педали, ни о чем не думаю, как вдруг меня пронзает боль. Прямо в глаз. Насекомое. Я ослеп, чуть не навернулся, едва успел затормозить. Пытаюсь пальцем вытащить козявку. Плачу. Смеюсь. Уж очень все глупо. Я действительно мог расшибиться.
Подняв голову, я вдруг вижу деревянный прямоугольник, совсем простую табличку, прибитую к дому, оклеенному афишами. Я заметил ее, потому что дощечка черная, а надпись на ней на французском языке. «Архивы сердца». И стрелка. Прямо вперед, четыреста пятьдесят метров.
Архивы сердца.
Я потрясен.
«Поройтесь в архивах вашего сердца», – сказал мне Атанис, когда я спросил о Пас.
Это красивый, изогнутый дугой пляж с золотистым песком, совершенно пустой. В самом конце дороги. На самом краю света. Вдали от Токио. Вдали от городов. И стоит здесь домик из черных досок, простой донельзя, на двери которого я вижу ту же надпись. «Архивы сердца». Открываю. Внутри все современно, так же бело, как черно снаружи. Появляется молодая женщина в белом халате. Я стою перед ней, опустив руки, и не знаю, что сказать. Она улыбается мне, помогая освоиться. Показывает на компьютер, стоящий на столе, тоже белом, как и стул четких линий, который как будто ждет, чтобы я на него сел. На мониторе картинка – море. А настоящее море видно из окна. По нему проплывает корабль, маленькая движущаяся точка на горизонте.
И больше ничего, только вода, песок, скалы и мерный плеск волн.
Компьютер просит меня ввести имя.
Мое сердце бьется чаще. Я набираю имя. Ее имя.
Появляется страница.
А ведь Пас никогда не была в Японии.
Биение моего сердца зашкаливает. Я глубоко вдыхаю.
Это что-то вроде анкеты. В графе Country[107] она написала Spain[108]. Дата мне знакома. Через три дня после ее отъезда из Парижа. Эту дату я никогда не забуду.
Молодая женщина подходит ко мне и спрашивает номер. Номера я не вижу. Ее палец показывает на экран. REG. NUMBER: 060373.
Она просит меня следовать за ней и останавливается у двери, которая открывается в коридор, погруженный в темноту. Делает мне знак войти. Я ищу поддержки в ее глазах. Это конец моего пути, и мне не по себе. Она улыбается. Я вхожу. Она тихонько затворяет за мной дверь.
Я жду, стоя в темноте.
Медленно тянутся секунды.
Тишину разрывает удар.
И вспышка молнии зигзагом прорезает темноту.
Второй удар. Вторая вспышка, абсолютно синхронно.
Первый удар глухой. Второй звучный. И снова то же самое. Глухой. Звучный. Глухой. Звучный. И еще. И еще. И еще.
Я все понимаю и падаю на колени.
То, что я слышу, – это стук ее сердца. Усиленный до очень высокого уровня.
Стук сердца Пас.
Простая лампочка, висящая под потолком, голая лампочка, отзывается на эту пульсацию, загораясь в ее ритме.
В этой позе я остаюсь долго. Как раздавленный.
А потом я поднимаюсь.
Запрокинув лицо к мигающему свету, я слушаю. Слушаю, как бьется жизнь в теле Пас.
Я слушаю живую Пас.
Вечно живую здесь.
* * *
Теперь я сижу на пляже. Опустошенный. Полный ею. Когда я вышел, ослепнув от белизны комнаты, девушка в халате спросила меня, хочу ли я записать стук моего сердца. Моего. Каждый человек, добравшийся до этого пляжа, имеет право это сделать. Так решил художник – коллекционер сердец. Так будут они биться всегда на этом острове, вдали от всего. Это и есть «архивы сердца». Да, это они и есть. Ни я, ни мой сын никогда не узнаем, зачем Пас сюда приехала. И тут, как будто поняв, в каком я состоянии, девушка добавила, что можно оставить сообщение для тех, кто придет позже. Это уточнение подействовало на меня как электрический разряд. Я кинулся к столу с компьютером. Вернулся на страницу Пас. И нашел в самом низу иконку Add a message[109] Появились слова.
Amorcito[110], я уезжаю ненадолго, но мне это нужно. Ты меня больше не слушаешь. Так может быть, ты послушаешь стук моего сердца. Стук сердца, которое тебя любит. Mi corazon para mi corazon[111]. Позаботься о маленьком hombrecito[112], которого мы с тобой сделали и у которого тоже есть сердце, оно бьется, и его надо слушать. Я уезжаю, потому что люблю вас и хочу вернуться лучшей. Чтобы лучше вас любить. Мы вернемся сюда вместе. Ты увидишь, как здесь прекрасно, этот пляж, эта тишина, в которой бьются тысячи сердец, навсегда. Мне об этом рассказали. Я хотела увидеть сама и сначала одна, потому что мое сердце сейчас немного болит и мне надо его послушать. Я хотела написать тебе это, чтобы ты знал, что я думаю о тебе. Когда ты это прочтешь, я буду здесь. И твое сердце запишут. И его сердце тоже. Мы будем здесь все трое, вместе. Я люблю вас, mis corazones[113].
Она нас не бросила.
Я хочу увидеть сына. Я больше не хочу умирать.
Мы вернемся сюда.
Да, думаю, нам надо вернуться.
Благодарности
Моим учителям, которые открыли мне двери античного мира и привили любовь прививать.
Министерству национального образования моего детства, позволившему изучать греческий во всей республике.
Гесиоду и Гомеру, сногсшибательным рассказчикам, гениальным мифологам.
Мари-Франсуазе – за ее бесконечное терпение, доброжелательность, глаз-алмаз и ее откровения. Мне нравится наше содружество.
Полю и Ромену, внимательным читателям.
Маленькому народу с Амальфитанского побережья, Аннарите, Терезе, Николетте, Джованни, Диане и, конечно, Николе и Антонио, которые помогли мне нырнуть.
Ришару, моему разведчику в Стране восходящего солнца, Минамото-но Ёритомо[114] XXI века, и его «Прекрасной необходимости».
Людовику, моему издателю, и всей команде издательства «Галлимар».
Моим родителям, гостеприимно встречающим меня на прибрежных утесах.
Алине, чье сердце бьется.
Примечания
1
Поль Мари Вен (р. 1930) – французский археолог и историк античности, специалист по истории Древнего Рима. Выпускник Высшей нормальной школы Франции, в данный момент является почетным профессором в Коллеж де франс. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Замок Шамбор, или Шамборский замок, – один из замков Луары. Был построен по приказу Франциска I, который хотел быть ближе к любимой даме – графине Тури, жившей неподалеку.
(обратно)3
«Ослиная шкура» (1970) – фильм Жака Деми по сказке Шарля Перро с Катрин Денев в главной роли.
(обратно)4
Дельфин Сейриг (1932–1990) – французская актриса. Известна своими ролями в интеллектуальном кино, в частности в фильмах Алена Рене.
(обратно)5
Название реки Cher омонимично слову cher – дорогой.
(обратно)6
Диана де Пуатье (1500–1566) – возлюбленная и официальная фаворитка короля Генриха II Французского. Замок Шенонсо был подарен ей королем.
(обратно)7
По-французски Henri.
(обратно)8
Плиний Старший. Естественная история. Кн. II. Гл. 40.
(обратно)9
Квинт Смирнский (др.-греч. Κόϊντος Σμυρναῖος, лат. Quintus Smyrnaeus; Квинт Калабрийский, лат. Quintus Calaber) – древнегреческий поэт позднейшей эпохи (вероятно, IV века). «Калабрийским» Квинт называется потому, что одна из рукописей его произведения найдена в Калабрии в XV веке.
(обратно)10
Платон. Апология Сократа. Пер. М. С. Соловьева.
(обратно)11
Нана Мусхури, или Нана Мускури (Йоанна Мусхури, р. 1934) – знаменитая поп- и джазовая певица греческого происхождения. Посол доброй воли UNICEF.
(обратно)12
«Джанго Джанго» (Django Django) – британская арт-рок-группа, неожиданно ставшая популярной у массовой аудитории, несмотря на сложность своей музыки.
(обратно)13
На вулканическом острове Стромболи в Тирренском море проходили съемки фильма Роберто Росселини «Стромболи, земля Божья» (1950) с его женой Ингрид Бергман в главной роли.
(обратно)14
Подождите (ит.).
(обратно)15
Поразительно (англ.).
(обратно)16
шлюхи (ит.).
(обратно)17
Спасибо (ит.).
(обратно)18
Гомер. Одиссея. Песнь XII. Ст. 191. Пер. В. Вересаева.
(обратно)19
Шлюхи (исп.).
(обратно)20
Моя любовь (исп.).
(обратно)21
Изумительно (исп.).
(обратно)22
Перчик – corniciello, маленький рог, или перчик, непременно красного цвета, традиционный неаполитанский талисман, существующий со Средних веков.
(обратно)23
Добрый день (исп.).
(обратно)24
Кофе (исп.).
(обратно)25
Прекрасная пловчиха (ит.).
(обратно)26
Эстер Уильямс (1921–2013) – американская пловчиха, актриса и сценарист, звезда «водного мюзикла» 1940-1950-х годов, получившая прозвище Американская Русалка и Русалка Голливуда.
(обратно)27
Опасно, когда мокро (англ.).
(обратно)28
Невероятно (исп.).
(обратно)29
Испанское ругательство.
(обратно)30
С тобой я уйду / на судах через моря / Которые я знаю / нет, нет, они больше не существуют / я переживаю их с тобой (ит.).
(обратно)31
Ребенок (ит.).
(обратно)32
Пляж (ит.).
(обратно)33
Юноши и девушки (ит.).
(обратно)34
Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950) – австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли. Популяризировал термин «созидательное разрушение» в экономике и термин «элитарная демократия» в политологии.
(обратно)35
Кватрочéнто, также кваттроченто – общепринятое обозначение эпохи итальянского искусства XV века, соотносимой с периодом раннего Возрождения.
(обратно)36
С мидиями (ит.).
(обратно)37
Гомер. Одиссея. Песнь XI. Ст. 206–208. Пер. В. Вересаева.
(обратно)38
Мудак (ит.).
(обратно)39
Пестум – античный город, расположенный в регионе Кампания к югу от Салерно. Некогда это место было греческой колонией и называлось Посейдония. (Его археологическая зона внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.)
(обратно)40
Могилой ныряльщика называется одна из древнегреческих фресок в Пестуме (она будет подробно описана ниже).
(обратно)41
В начале XVI века Джованна д'Арагона, герцогиня Амальфи, и ее дети были заперты в башне Torre Dello Ziro. Герцогиня была обвинена в романе с дворецким, после смерти ее мужа. Отношения вызвали скандал, и братья герцогини решили заключить в башню сестру и ее детей, где они и были убиты. Местные жители избегают этого места из-за темной истории, произошедшей в давние времена.
(обратно)42
Фредерик Буржуа де Мерсей (1803–1860) – французский художник, путешественник, искусствовед и писатель.
(обратно)43
Пожалуйста (ит.).
(обратно)44
На память о Пестуме (ит.).
(обратно)45
Пало-Альто – город в Калифорнии, находится на севере знаменитой Кремниевой долины и, благодаря соседству со Стэнфордским университетом, является крупным научным центром. Центром высокотехнологичных отраслей промышленности, штаб-квартирой нескольких компьютерных и интернет-компаний.
(обратно)46
Английское название антиковедения.
(обратно)47
Долины (англ.).
(обратно)48
Французский (англ.).
(обратно)49
Пиндар (517 до н. э. – 438 до н. э.) – один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список Девяти лириков учеными эллинистической Александрии. Им особенно восхищался Гораций.
(обратно)50
Пьеро Форназетти (1913–1988) – известный миланский архитектор, дизайнер и декоратор, создатель фантазийного стиля предметов повседневного быта – мебели, одежды, предметов интерьера, на творчество которого повлиял стиль эпохи Возрождения, стиль современных художников и облик оперной певицы Лины Кавальери.
(обратно)51
«Дафнис и Хлоя» – один из пяти канонических греческих романов, написанный древнегреческим автором предположительно по имени Лонг во II веке н. э. (датировка романа дана учеными исключительно исходя из языковых особенностей текста).
(обратно)52
Бенжамен Мильпье (р. 1977) – франко-американский танцовщик и хореограф, солист труппы «Нью-Йорк Сити балле» в 1998–2011 гг., с октября 2014 г. – руководитель балетной труппы Парижской оперы; супруг актрисы Натали Портман.
(обратно)53
Имеется в виду террористическая атака исламистов на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» 7 января 2015 г.
(обратно)54
Жорж Волински, известный карикатурист, сотрудник «Шарли Эбдо», погибший при теракте.
(обратно)55
Быстрые спуски и головокружительные повороты (исп.).
(обратно)56
Имеется в виду альбом FFS, записанный совместно (2015) шотландской рок-группой Franz Ferdinand и американскими альтернативщиками от поп-рока Sparks.
(обратно)57
Рай для детей (исп.).
(обратно)58
Вяленая свиная колбаса с перцем.
(обратно)59
«Обычный мультик» – американский мультсериал производства телеканала Cartoon Network, созданный Джеймсом Куинтелом для канала Cartoon Network и выпущенный в эфир 6 сентября 2010 г.
(обратно)60
Мой сын (исп.).
(обратно)61
Небольшая бухта (исп.).
(обратно)62
Японский аниме-сериал (53 серии), выпущенный студией Toei Animation. Транслировался по телеканалу NHK с 7 ноября 1978 г. по 28 декабря 1979 г.
(обратно)63
Data Scientist (англ.) – дата-сциентист, специальность, требующая обладания глубокими знаниями в области математической статистики, машинного обучения и программирования.
(обратно)64
Работа (англ.).
(обратно)65
Самый крупный в Европе оптовый рынок, расположенный в пригороде Парижа.
(обратно)66
Быстрые спуски и головокружительные повороты (исп.).
(обратно)67
«Время приключений» – мультипликационный сериал, повествующий о приключениях мальчика Финна и его друга – волшебного пса, – в постапокалиптическом мире, называемом «Земли Ооо».
(обратно)68
Лучший аттракцион для семьи (исп.).
(обратно)69
Спасатель (англ.).
(обратно)70
Наслаждайтесь (исп.).
(обратно)71
Сумасшедшие гонки (англ.).
(обратно)72
Кресло-шезлонг австралийского дизайнера Марка Ньюсона считается «самым дорогим предметом мебели, созданным живущим сегодня человеком», после того как было продано более чем за 2 миллиона фунтов стерлингов.
(обратно)73
Имеется в виду социальная сеть «Твиттер» с ее эмблемой в виде синей птички.
(обратно)74
Имеется в виду знаменитая серия комиксов бельгийского художника Эрже о приключениях мальчика Тинтина.
(обратно)75
Фукидид. История Пелопоннесской войны. VII. 29. Пер. Г. А. Стратановского.
(обратно)76
Колтан – горная порода, содержащая металл тантал, который широко используется в современной электронике.
(обратно)77
Озеро Стимфалия (англ.) – озеро в Греции, расположено в северо-восточной части Пелопоннеса, в номе Коринфия.
(обратно)78
«Писко сауэр» – коктейль сауэр, распространенный в Перу и Чили. Состоит из писко (разновидность виноградной водки), сока лайма, сиропа и др. компонентов. В 2007 г. Институт культуры Перу признал рецепт коктейля национальным достоянием.
(обратно)79
Французская богиня (англ.).
(обратно)80
Криптонит – вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Наиболее часто показывается в комиксах и кино в зеленой форме, которая лишает Супермена и других криптонцев сил и может убить его. Благодаря популярности Супермена слово «криптонит» во многом стало распространенным аналогом выражения «ахиллесова пята».
(обратно)81
Сигэру Бан (р. 1957) – японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2014 г. В своих работах он использует нетрадиционные материалы – бамбук, ткань, бумагу и пластик.
(обратно)82
Хироси Сугимото (р. 1948) – японский фотограф.
(обратно)83
Еврипид. Вакханки. Ст. 731–732.
(обратно)84
Плейстоцен – эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад. Плейстоценовая эпоха сменила плиоценовую и сменилась голоценовой.
(обратно)85
Имеется в виду «темная комната» в гей-клубах (англ.).
(обратно)86
Пещера Шове – пещера с наскальными доисторическими рисунками на юге Франции вблизи небольшого города Вальон-Пон-д'Арк в долине реки Ардеш. Занесена в список исторических памятников Франции, является государственной собственностью.
(обратно)87
Имеются в виду теракты: атака на редакцию «Шарли-Эбдо», во время которой были убиты также полицейские на улице, и серия террористических атак в Париже 13 ноября 2015 г., жертвами которых стали 130 человек.
(обратно)88
Имеется в виду террористический акт в Ницце 14 июля 2016 г. 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии.
(обратно)89
Фестский диск – уникальный памятник письма, предположительно минойской культуры эпохи средней или поздней бронзы, найденный в городе Фест на острове Крит. Его точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны.
(обратно)90
Гомер. Илиада. III. 440–441. Пер. Н. И. Гнедича.
(обратно)91
Уличная одежда (англ.).
(обратно)92
Кельтское ожерелье – незамкнутое кольцо из скрученных нитей, обычно золотых или серебряных.
(обратно)93
Сезар – так произносится по-французски имя Цезарь.
(обратно)94
Красивая, правда? (ит.).
(обратно)95
Дядя (ит.).
(обратно)96
Сатирический роман Шарля-Луи де Монтескье (1721), в котором персидский вельможа отправляется в путешествие в Европу и пишет домой письма, комментируя французские нравы, обычаи и политику.
(обратно)97
Кендалл Дженнер – американская топ-модель и светская дива; Дженнифер Лоуренс – американская актриса, обладательница премии «Оскар».
(обратно)98
Маркиза Паива (настоящее имя Эсфирь Лахман, родилась в Москве, 1819–1884) – куртизанка, игравшая немалую роль в жизни Второй империи.
(обратно)99
Греческий кофе.
(обратно)100
Здравствуйте (греч.).
(обратно)101
Нет (греч.).
(обратно)102
Один из внутренних стилей ушу; в сокращенном варианте используется как оздоровительная гимнастика.
(обратно)103
«Это сказка, которую рассказывают о дельфине и мальчике из золота» (англ.). Слова из песни, ставшей популярной после фильма «Мальчик на дельфине» (1957) режиссера Жана Негулеско с Софи Лорен в главной роли; действие происходит в Греции.
(обратно)104
Цветок, разновидность лилии; асфодели часто встречаются в древнегреческих мифах, их описал Гомер, часто называют «цветком смерти».
(обратно)105
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ликург. Цит. по: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М.: Наука, 1994. 2-е изд., испр., доп. Т. I.
(обратно)106
«Синкансэн» – высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Принадлежит компании Japan Railways.
(обратно)107
Страна (англ.).
(обратно)108
Испания (англ.).
(обратно)109
Добавить сообщение (англ.).
(обратно)110
Любимый (исп.).
(обратно)111
Мое сердце для моего сердца (исп.).
(обратно)112
Человечек (исп.).
(обратно)113
Мои сердца (исп.).
(обратно)114
Минамото-но Ёритомо (1147–1199) – основатель сёгуната Камакура и первый его правитель; родился в Хэйан-кё, тогдашней столице Японии, известной сегодня как Киото.
(обратно)


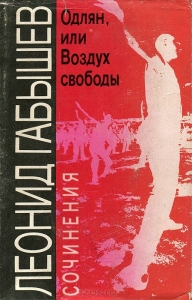
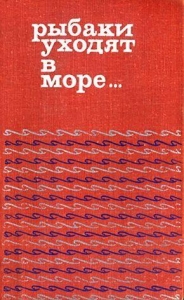

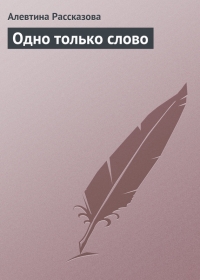
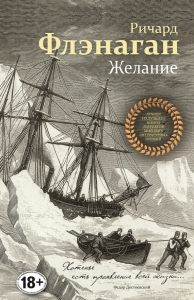
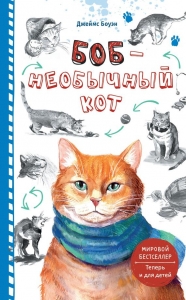

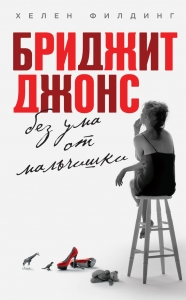
Комментарии к книге «Сирена», Кристоф Оно-ди-Био
Всего 0 комментариев