Марсель Паньоль Слава моего отца. Замок моей матери
Marcel Pagnol
LA GLOIRE DE MON PERE
© П. Л. Баккеретти, Т. Чугунова, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
Памяти моих родных посвящается
Слава моего отца Воспоминания детства
Я родился в городке Обань, у подножия горы Гарлабан, увенчанной короной из пасущихся коз, в эпоху последних пастухов.
Гарлабан – это огромная башня из голубых скал, выросшая у самого края План-д’Эгль, обширного каменистого плато над зеленой долиной реки Ювон.
Эта башня-скала чуть больше в ширину, чем в высоту, но так как она торчит на шестисотметровом скалистом плато, то вонзается в небо Прованса уже на большой высоте, и порой на ней устраивается передохнуть минутку-другую белое июльское облачко.
Гарлабан, собственно, еще не гора, но уже и не холм: именно здесь дозорные римского военачальника Гая Мария[1], завидев в ночи, как далеко, на вершине горы Сент-Виктуар вспыхнул огонек, разожгли костер из сухого валежника, и огненная птица, перелетая в июньской ночи с холма на холм, достигла скалы Капитолия и поведала Риму, что его галльские легионы только что перерезали в долине Экса сто тысяч варваров Тевтобода[2].
Мой отец был пятым ребенком в семье каменщика из Вальреаса, что близ Оранжа. Его род обосновался там несколько веков тому назад. Откуда они пришли? Вероятнее всего, из Испании – в архивах мэрии я отыскал фамилию Леспаньоль, а потом и Спаньоль.
К тому же все они из поколения в поколение были оружейниками и закаляли стальные мечи в водах реки Увез, над которой от этого поднимался пар; оружейное дело, как всякий знает, является благородным испанским занятием.
Однако, поскольку необходимость быть храбрым всегда обратно пропорциональна расстоянию между противниками, мушкетон и пистолет очень скоро вытеснили эспадон и шпагу, а следом мои предки обратились к пиротехнике и стали изготовлять порох, патроны и ракеты для фейерверков.
Однажды взрывом выбило окно, и моего прапрадядю выбросило на улицу вместе со снопом искр и вращающимися огненными шарами. И хотя он остался в живых, на его левой щеке перестала расти борода. Вот почему до конца жизни его звали Лу-Русти, что по-провансальски значит «поджаренный».
Должно быть, именно из-за этого весьма впечатляющего происшествия потомки Паньолей решили, не отказываясь совсем от патронов и ракет, больше не начинять их порохом и стали картонажными мастерами, каковыми являются и по сию пору.
Вот прекрасный пример истинно латинской мудрости: сперва они отвергли сталь, тяжелый, твердый материал, служащий для изготовления режущих предметов, затем порох, не способный ужиться с сигаретой, и посвятили себя производству картона, легкого, послушного, мягкого материала, который, по крайней мере, не взрывается.
Однако мой дед, не будучи «старшим сыном» в семье, не унаследовал картонажную мастерскую и, не знаю почему, стал каменотесом. Совершенствуясь в своем ремесле, он, по тогдашнему обычаю, обошел всю Францию и наконец обосновался сначала в Вальреасе, а потом в Марселе.
Был он малого роста, но широк в плечах и крепко сложен.
Он запомнился мне с седыми вьющимися волосами до плеч и красивой кудрявой бородой.
Черты лица у него были мелкими, но очень четкими, а черные глаза блестели, как спелые маслины.
Его власть над своими детьми была беспредельной, решения не подлежали обсуждению. А вот внуки и внучки заплетали его бороду в косички, а в уши засовывали фасоль.
Нередко – и всегда очень серьезно – рассказывал он мне о своем ремесле, или, точнее, о своем искусстве, потому как был настоящим мастером кладки камня.
Дед был весьма невысокого мнения о каменщиках-строителях. «Мы, настоящие мастера, – говаривал он, – кладем стены из обтесанных камней, которые очень плотно подгоняем друг к другу и крепим лишь с помощью шипов, вставленных в пазы, врубок и лапок… Конечно, и нам приходится заливать щели свинцом, чтобы камни не расходились, но все это тщательно скрыто и совершенно незаметно! А нынешние каменщики-строители берут камни, как они есть, не обтесывая, прилаживают как попало, а щели заливают раствором… Каменщик-строитель – тот же губитель камня: он прячет его, не умея обтесать как следует».
Как только у деда выдавался свободный день – что бывало раз пять или шесть в году, – он вывозил всю семью пообедать на травке в пятидесяти метрах от Пон-дю-Гар[3].
Пока бабушка готовила еду, а дети барахтались в реке, дед поднимался на мост, что-то измерял, рассматривал стыки, делал какие-то чертежи в разрезе, гладил камни. После еды он садился на траву напротив многовекового памятника – за ним полукругом располагалась вся семья – и до вечера созерцал его.
Вот почему даже тридцать лет спустя его сыновья и дочери при одном упоминании о Пондю-Гар закатывали глаза и испускали глубокие вздохи.
У меня на письменном столе лежит очень дорогое для меня пресс-папье. Это продолговатый железный брусок с овальным отверстием в середине. На его концах образовались довольно глубокие вмятины. Это молот деда Андре, которым он пятьдесят лет бил по твердым головкам стальных резцов.
Этот искусный мастер получил самое ничтожное образование. Он умел читать и подписываться, и ничего более. От этого он тайно страдал всю жизнь, в конце концов уверился в том, что образование есть Наивысшее Благо, и вообразил, что самые образованные люди – это те, кто учит других. Он из кожи лез вон, чтобы выучить своих шестерых детей на учителей. Вот почему, в двадцать лет окончив педагогическое училище в Экс-ан-Провансе, мой отец стал школьным учителем.
Педагогические училища в то время были самыми настоящими семинариями, только вместо теологии там читался антирелигиозный курс.
Молодым людям внушали, что Церковь всегда была не чем иным, как орудием угнетения, и что цели и задачи священников состоят в том, чтобы закрыть глаза народа черной повязкой невежества, рассказывая ему небылицы об аде или рае.
Явным доказательством лукавости «господ кюре» между прочим служило то, что они прибегали к латыни, таинственному языку, который, подобно магическим заклинаниям, пагубно воздействовал на невежественных прихожан.
Оба Борджиа[4] преподносились как типичные представители папства; не лучше подавались и короли – эти растленные тираны не интересовались ничем, кроме своих наложниц, ну разве что еще играли в бильбоке, пока их приспешники собирали непосильные налоги, размеры которых достигали чуть ли не десяти процентов от доходов народа.
Словом, история подавалась изящно подделанной в пользу истины… на республиканский лад.
Я не обвиняю Республику: учебники истории во всем мире, как известно, суть лишь пропагандистские книжки на службе властей.
Итак, новоиспеченные учителя были убеждены в том, что Великая французская революция была идиллической эпохой, золотым веком великодушия, братства, доходящего чуть ли не до нежности, одним словом, ознаменовалась своего рода взрывом человеколюбия.
Для меня остается загадкой, как можно было излагать исторические факты, не заостряя внимания учащихся на том, что эти «мирские ангелы» после двадцати тысяч убийств и бесчисленных грабежей взялись казнить друг друга.
Верно, с другой стороны, и то, что наш приходской священник, будучи человеком большого ума и непобедимого милосердия, тем не менее считал святую инквизицию своего рода «семейным советом» и утверждал, что если святые отцы и сожгли столько евреев и ученых мужей, то со слезами на глазах и чуть ли не с намерением обеспечить им всем место в раю.
В том-то и слабость нашего разума, что он нередко стремится лишь к оправданию наших убеждений.
* * *
Однако обучение будущих учителей не ограничивалось антирелигиозной пропагандой и подверстанной в пользу республиканских ценностей историей. Существовал и третий враг народа, который еще не отошел в прошлое, – алкоголь.
Именно в это время вышла «Западня»[5] и появились те страшные картинки, которыми были увешаны стены всех школ.
На них было нарисовано по нескольку экземпляров бурой печени, до того неузнаваемой из-за зеленых вздутий и фиолетовых впадин, придававших ей форму земляной груши, что художнику приходилось изображать рядом аппетитную печень образцового гражданина, чья гармоничная масса и победно-красный цвет позволяли осознать всю безысходность представленной на соседних рисунках трагедии.
Будущие учителя, которых всюду, вплоть до дортуаров, преследовал этот страшный орган (не говоря уж о поджелудочной железе в виде архимедова винта или о живописно украшенной узлами аорте), преисполнялись самым настоящим ужасом, и при одном виде стакана вина их начинало трясти от отвращения.
А террасы кафе в предобеденный час, когда француз пьет свой аперитив, казались им чем-то вроде кладбища для самоубийц. Один друг моего отца, захмелев однажды от простой воды, стал крушить в кафе столы, словно какой-нибудь антирелигиозно настроенный Полиевкт[6]. Будущие наставники молодежи были убеждены, что несчастные пропойцы скоро начнут видеть, как по стенам лазят крысы, а по знаменитой улице Кур-Мирабо разгуливают жирафы. Приводилась даже история одного талантливого скрипача, которому пришлось перейти на мандолину из-за судорожной дрожи в руках, вызванной тем, что спинной мозг у него плавал в жидкости, состоящей из вермута и смородинового ликера. Но пуще всего они ненавидели так называемые «способствующие пищеварению» настойки: бенедиктин, шартрез и прочие, как известно изготовляемые монахами «с особого королевского разрешения» (так гласили надписи на бутылках), в которых соединялись в ужасную троицу Церковь, Алкоголь и Монархия.
Помимо борьбы с этими тремя бедствиями, программа обучения включала еще много чего. Она была весьма обширна, отлично продумана и рассчитана на то, чтобы сделать из них просветителей того самого народа, который они превосходно понимали, поскольку почти все были сыновьями крестьян или рабочих.
Они получали общее образование – пожалуй, скорее широкое, чем глубокое, но бывшее в ту пору новшеством. И так как они постоянно видели, как их отцы вкалывают по двенадцать часов в день – в поле, на рыбачьей лодке, на строительных лесах, – то искренне радовались выпавшей им счастливой доле: ведь они были свободны по воскресеньям, а трижды в год на время каникул разъезжались по домам.
Тогда отец и дед, а иной раз и соседи, которые отродясь не знали другой школы, кроме труда в поте лица, приходили расспросить их, обсудить немудреные вопросы на отвлеченные темы, на которые никто в деревне не мог дать ответа. Будущие учителя отвечали, а старики степенно слушали, покачивая головой…
Вот почему в течение трех лет молодые люди жадно поглощали науку как драгоценную пищу, которой были лишены их предки; вот почему на переменах господин директор самолично обходил училище и выпроваживал из классов чересчур рьяных учеников, в наказание заставляя их гонять во дворе мяч.
По окончании училища им предстояло последнее испытание – диплом, являвшийся доказательством того, что очередной выпуск достиг зрелости.
После чего доброе семя – как это бывает при созревании плода – рассеивалось по всем уголкам департамента, чтобы сражаться с невежеством, прославлять Республику и ни в коем случае не снимать шляпы перед крестным ходом.
После нескольких лет гражданского апостольского служения в глухих заснеженных горных деревушках молодые учителя сползали на полсклона вниз до деревень покрупнее и там на ходу подхватывали в жены местную учительницу или девушку с почты. Затем миновали еще два-три селения, где улицы все так же шли под гору; и каждая остановка отмечалась рождением очередного ребенка. После третьего или четвертого ребенка учитель добирался до супрефектуры на равнине и наконец, уже весь в морщинах, будто телесная оболочка стала ему велика, увенчанный короной седых волос, вступал в главный город департамента. Там он преподавал в школе, где имелось восемь или десять классов, и сам вел старшие курсы, а иногда и выпускников.
* * *
Наступал день, когда торжественно праздновалось вручение ему Академических пальм[7], а спустя три года он «подавал в отставку» – таков уж был закон. Сияя от удовольствия, он говорил: «Наконец-то я буду сажать капусту».
После чего ложился и умирал.
Я знавал немало таких учителей старой закалки.
У них была непоколебимая вера в величие своей миссии, твердая уверенность в лучезарном будущем человеческого рода. Они презирали деньги и роскошь, отказывались от повышения по службе, ради того чтобы уступить место другому или чтобы завершить дело, начатое где-нибудь в обездоленной деревушке.
Один старинный друг моего отца окончил учительское училище первым номером и за такое отличие получил назначение сразу в Марсель, в один из грязных кварталов, населенных босяками, куда ночью никто не отваживался заглянуть Он проработал на одном месте сорок лет, с первого и до последнего дня в одном и том же классе, на одном и том же стуле.
Однажды вечером мой отец спросил его:
– И это все, к чему ты стремился?
– О да, – ответил он, – именно стремился! И пожалуй, достиг! Подумай только! Мой предшественник за двадцать лет пережил казнь шестерых своих учеников. А за мои сорок лет отрубили голову только двоим и еще одного в последнюю минуту помиловали. Значит, стоило провести там все эти годы.
* * *
Но самое замечательное то, что у этих безбожников были сердца миссионеров. Чтобы посрамить «господина кюре», добродетель которого у них считалась чистым лицемерием, сами они жили как святые, и их нравственные убеждения были несгибаемы, как у первых пуритан.
Имелся у них и свой епископ – инспектор округа, и свой архиерей – ректор, и даже свой папа – министр народного просвещения, писать которому следовало только на специальной бумаге, строго соблюдая принятые формы обращения.
«Как и священники, – говорил мой отец, – мы, учителя, своим трудом зарабатываем будущую жизнь, но только не для себя, а для других».
Так как отец тоже окончил училище в числе лучших, при «рассеивании семян» его отнесло не слишком далеко от Марселя: он осел в Обани. Это был городок с десятитысячным населением, прилепившийся к склону холма над долиной реки Ювон, его пересекала пыльная дорога, ведущая из Марселя в Тулон. Там обжигали черепицу, кирпич и глиняные горшки, набивали кровяные и свиные колбасы, на кожевенных фабриках дубили кожу, выдерживая ее семь лет в ямах с танином, так что ей потом не было сносу. Лепили там и «святиков» – это такие маленькие раскрашенные глиняные фигурки, которые расставляют в рождественских ясельках.
Моего отца звали Жозеф. Он был тогда темноволосым молодым человеком, не слишком высоким, но и не то чтобы маленьким. Нос у него был довольно внушительных размеров, но совершенно прямой, – к счастью, внимание от него отвлекали на себя усы и очки со стеклами овальной формы в тонкой стальной оправе. У него был низкий приятный голос, а иссиня-черные волосы в дождливую погоду завивались сами собой.
В одно прекрасное воскресенье он встретил маленькую брюнетку-портниху, которую звали Огюстина, и она ему показалась такой красивой, что он поспешил на ней жениться. Я и сейчас не знаю, как они познакомились, потому что в нашем доме о таких вещах не говорили. Да я их об этом никогда и не спрашивал, так как не мог представить себе ни их детства, ни юности.
Они раз и навсегда стали моими отцом и матерью. Отцу было на двадцать пять лет больше, чем мне, и это оставалось неизменным. Зато Огюстина была для меня ровесницей, потому что мы с ней составляли единое целое; в детстве я даже был уверен, что мы с мамой родились в один день.
Из прежней ее жизни мне известно лишь, что встреча с серьезным молодым человеком, который так ловко сбивал шары противника при игре в петанк и получал твердый оклад в пятьдесят четыре франка в месяц, ослепила Огюстину. Она перестала обшивать других и переселилась в его квартиру, где жилось тем более приятно, что та примыкала к школе и за нее не надо было платить.
Все месяцы, предшествующие моему рождению, мать очень серьезно беспокоилась: ведь ей было всего-навсего девятнадцать лет (впрочем, столько ей и будет всю ее жизнь). Рыдая, она объявила, что младенец никогда не родится, потому что она «ясно чувствует, что не знает, как это делается». Отец напрасно пытался ее урезонить. Она только сердилась на него, упрекала: «Это ты во всем виноват!» – и горько плакала. Когда будущий человечек начал шевелиться, горькие рыдания стали прерываться приступами неудержимого смеха. Испугавшись, отец призвал на помощь старшую сестру, которая воспитала его самого. Та, как и следовало ожидать, работала директором школы в Ла-Сьота и была не замужем. Старшая сестра пришла в восторг и решила, что нужно немедленно поселить будущую мать у нее, на берегу «Латинского моря», что и было сделано в тот же самый вечер. Мне говорили, будто Жозеф был этому очень рад и воспользовался свободой, чтобы приударить за булочницей, у которой он взялся привести в порядок счета: это что-то очень неприятное для меня, с чем я так и не свыкся. Между тем будущая мать гуляла по пляжу под лучами мягкого январского солнца, любуясь парусами рыбаков, которые в три часа дня отправлялись вслед за уходящим с горизонта солнцем. А потом, сидя у камина, где, посвистывая, полыхали голубоватым пламенем оливковые поленья, она вязала приданое для резвившегося у нее в животе чада, а тетя Мария подрубала пеленки и пела красивым чистым голосом:
Лишь ночь накроет землю черной шалью, На бригантине легкой, по волнам бегущей…Мать к тому времени успокоилась, тем более что ее милый Жозеф каждую субботу приезжал ее навестить на велосипеде булочника. Такая забота, продолжительный отдых, живительный воздух ласкового Средиземного моря преобразили юную Огюстину: лицо ее зарумянилось, и, говорят, она распевала песни уже с самого утра. Будущее представлялось ей в радужном свете, когда 28 февраля на заре ее разбудили первые схватки. Она сразу же позвала тетю Марию, но та решила, что тревожиться рано, поскольку доктор предсказал рождение дочери только к концу марта. Она затопила печку, чтобы приготовить успокаивающий настой. Но заинтересованная сторона стала утверждать, что все эти доктора ничего толком не понимают и что она кровь из носу должна срочно вернуться в Обань.
– Ребенок должен непременно родиться дома! Хочу, чтобы Жозеф держал меня за руку! Мария, давай поедем скорее! Я точно знаю, ребеночек хочет выйти!
Нежная Мария липовым настоем и словами пыталась ее успокоить. Потрясая ситечком, она заверила Огюстину в том, что, если предчувствие подтвердится, она попросит торговца рыбой, который каждый день в восемь часов отправляется в Обань, известить Жозефа и тот прилетит быстрее ветра, не жалея велосипеда булочника.
Но Огюстина решительно отодвинула чашку в цветочек и, заливаясь горючими слезами, принялась заламывать руки.
Тогда тетя Мария постучала в ставню соседа, обладателя повозки и лошаденки. В те благословенные времена люди еще готовы были оказать друг другу услугу по первой просьбе. Сосед запряг лошадь, тетя закутала Огюстину в шали, и мы рысцой тронулись в путь; а выглянувшее из-за холмов огромное солнце смотрело на нас сквозь ветви сосен. Но когда мы добрались до Ла-Бедуль, что на полпути к Обани, схватки возобновились, и тут уж тетя разволновалась не на шутку. Старая дева прижимала к себе закутанную в шали мать, давая ей советы: «Огюстина, сдерживай себя!» А Огюстина, вся бледная, только неестественно таращила большие черные глаза, обливалась пóтом и стонала. К счастью, мы уже миновали перевал и дорога пошла под гору, до Обани было рукой подать. Сосед убрал тормоз (тогда это называлось «механизмом») и хлестнул лошаденку, которой и без того ничего другого не оставалось, как лететь во весь опор вниз под тяжестью повозки. Добрались мы до дому как раз вовремя, акушерка, госпожа Негрель, спешно приняла меня, и мама смогла наконец вцепиться в мощную руку Жозефа.
* * *
Пока в этой истории нет ничего удивительного, погодите – сейчас будет.
В начале восемнадцатого века в Обани проживал богатый и старинный род торговцев Бартелеми. Заслуги их были столь значительными, что король со временем даровал им дворянское достоинство.
И вот в ночь с 19 на 20 января 1716 года госпожа Бартелеми (она была очень молода, жила в Обани, и мужа ее звали Жозеф) «почувствовала первые схватки». Она «поспешно села в карету», намереваясь поехать к матери в родной дом, самый красивый дом в Кассисе. Кассис был тогда маленьким рыбачьим поселком на расстоянии одного лье от Ла-Сьота, и дорога туда на три четверти пути та же, что и в Обань. Итак, госпожа Бартелеми, закутанная в одеяла и стонущая, миновала ущелья, затем перевал Ла-Бедуль… Наконец она добралась до Кассиса, «почти без чувств от боли, и, пока ее укладывали в постель, родила мальчика». Этот мальчик из Обани станет позднее аббатом Бартелеми, автором «Путешествия юного Анахарсиса по Греции»[8], 5 марта 1789 года будет избран членом Французской академии и займет там кресло номер двадцать пять: именно в этом самом кресле имею честь сидеть и я и тоже с 5 марта, только другого года. Из этой двойной истории напрашивается своеобразный вывод: лучший способ стать членом прославленного Общества «бессмертных» – это оказаться сыном очередного Жозефа и ухитриться родиться на зимней заре в тряской повозке от стонущей матери на дороге в Ла-Бедуль.
Воспоминаний об Обани у меня сохранилось немного, потому что я жил там только три года.
Прежде всего в памяти всплывает высокий фонтан под платанами на главной улице, прямо перед нашим домом. Это памятник, который соотечественники воздвигли тому самому аббату Бартелеми, имевшему репутацию «левого» из-за написанного им «Путешествия юного Анахарсиса». Мало кто из жителей Обани читал эту книгу, однако многие совершенно чистосердечно рассуждали о «юном анархисте». Тогда, разумеется, я об этом знать ничего не знал, но с упоением слушал песенку фонтана, который вторил чириканью воробьев.
А вот еще картинка, врезавшаяся в память: потолок с головокружительной скоростью падает на меня, а мать в ужасе кричит: «Анри, ты что, спятил? Анри, перестань, тебе говорят!»
Это дядя Анри, брат матери, подбрасывает меня вверх и ловит на лету. Я визжу от страха, но как только оказываюсь снова на руках у матери, требую: «Еще, еще!»
Дяде Анри было в ту пору тридцать лет. У него была красивая темная борода; он работал механиком по паровым машинам: собирал их в мастерских «Форж и Шантье де Ла-Сьота», как и его отец, мой дед со стороны матери, которого я не застал в живых.
Этот дед родился в Кутансе году этак в 1845-м, и звали его Гийом Лансо. Чистокровный нормандец, по тогдашнему обычаю, он обошел всю Францию, совершенствуясь в своем ремесле, и в один прекрасный день очутился в Марселе. Ему очень понравилась некая девушка (моя будущая бабушка), и он осел в этом городе.
В двадцать четыре года у него уже было трое детей – моя мать самая младшая.
Так как он был прекрасным знатоком своего дела и не боялся моря, его как-то раз послали в Рио-де-Жанейро починить паровой двигатель на пароходе. Он прибыл в этот тогда еще дикий край без всяких прививок, увидел, что люди словно мухи дохнут от желтой лихорадки, и не нашел ничего лучше, как последовать их примеру…
Дети так и не успели его узнать, а моя бабушка, которая прожила с ним только четыре года, мало что могла рассказать нам о нем – разве что о том, какой он был высокий, какие у него были синие, словно море, глаза, ослепительно-белые зубы и белокурые с рыжинкой волосы, как он, словно дитя, заливался смехом по любому пустячному поводу.
У меня даже нет его фотографии. Порой вечером, сидя в одиночестве у камина в своем деревенском доме, я зову его, но он не приходит. Он, должно быть, еще там, в далеких Америках. Я смотрю, как пляшет пламя, и думаю о своем двадцатичетырехлетнем дедушке, который умер, не успев обзавестись очками, не утратив зубов и пышной золотистой шевелюры, и меня удивляет, что у столь молодого человека из Кутанса такой старый внук.
Еще одно воспоминание – игра в петанк под платанами на главной улице. Мой отец в компании таких же, как он, великанов умопомрачительным образом подскакивает и бросает круглую железяку на невероятное расстояние. Иной раз раздаются бурные аплодисменты, но все непременно кончается тем, что великаны ссорятся из-за какой-то веревочки, которую вырывают друг у друга. Впрочем, до драки дело никогда не доходит.
Из Обани мы перебрались в Сен-Лу, крупное селение близ Марселя. Напротив школы находилась городская скотобойня, внешне напоминавшая сарай, где при настежь открытых дверях два огромных мясника оперировали животных. Пока мать хлопотала по хозяйству, я, забравшись на стул у окна в столовой, с огромным интересом наблюдал за убоем парнокопытных. Я убежден в том, что человек по природе своей жесток: дети и дикари это ежедневно доказывают. Когда несчастную корову ударяли молотком в лоб между рогами, ноги у нее подламывались, и она падала на колени: я просто восхищался силой мясника и победой человека над животным. А казнь свиней смешила меня до слез, потому что их тащили за уши, а они пронзительно визжали. Но самым интересным был убой баранов. Хирург-мясник изящно перерезал у них горло, не прерывая беседы с ассистентом и не обращая никакого внимания на то, что делал. Зарезав таким образом трех-четырех баранов, он укладывал туши ногами вверх на нечто напоминающее колыбель и с помощью мехов до отказа надувал их, отделяя таким образом шкуру от мяса; я думал, что он стремится превратить их в воздушные шары, и надеялся увидеть, как они взлетят. Но мать, которая всегда появлялась в самый интересный момент, заставляла меня покинуть наблюдательный пункт и, разрезая на куски говядину, чтобы приготовить традиционное мясо с овощами в бульоне, говорила что-то не совсем понятное о нежном сердце несчастной коровы, о доброте кудрявого барашка и бессердечности мясника.
Отправляясь на рынок, мать по пути забрасывала меня в класс к отцу, который обучал чтению шести-семилетних мальчуганов. Я смирно сидел в первом ряду и восхищался всемогуществом отца. Он держал в руке бамбуковую палочку и указывал ею на буквы и слова, написанные на черной доске, а иногда и ударял ею по пальцам нерадивого двоечника.
В одно прекрасное утро мать усадила меня за парту и молча вышла, пока отец своим великолепным почерком выписывал на доске: «Мама наказала непослушного сына». В тот самый момент, когда он поставил в конце предложения жирную точку, я выкрикнул:
– Неправда!
– Что ты сказал? – резко обернувшись ко мне, изумленно произнес он.
– Мама меня не наказывала! Ты написал неверно.
Он подошел ко мне:
– А кто сказал, что тебя наказали?
– Это написано.
От изумления он на целую минуту лишился дара речи.
– Да неужто ты умеешь читать? – выговорил он наконец.
– Да, умею.
– Ну-ка… – Указав бамбуковой палочкой на доску, он велел: – Читай!
Я прочел предложение.
Тогда он принес букварь, и я без всякого труда прочел несколько страниц…
Я уверен, что в тот день отец испытал самую большую радость, самую большую гордость за всю свою жизнь.
Когда появилась мать, она застала меня в окружении четырех учителей, которые, отослав других учеников играть во дворе, слушали, как я читаю по складам сказку «Мальчик-с-пальчик»… Но вместо того чтобы прийти в восторг от такого «подвига», она побледнела, положила свертки на пол, закрыла книгу и унесла меня на руках, приговаривая: «О господи, господи!»
На пороге стояла сторожиха, старуха-корсиканка, и крестилась. Позже я узнал, что именно она сбегала за матерью и внушила ей, что «эти господа» доведут ребенка до того, что «у него лопнут мозги». За обедом отец заявил, что все это – нелепые предрассудки, что я не делал никаких усилий и учился читать, как попугай учится говорить, и что он об этом даже не подозревал. Маму он не переубедил, и время от времени она прикладывала прохладную руку к моему лбу и спрашивала: «Головка не болит?»
Нет, голова не болела, но до шести лет мне было строго-настрого запрещено входить в класс, открывать книгу – во избежание разрыва мозгов. Окончательно мать успокоилась только через два года, когда в конце первой четверти учительница сказала ей, что память у меня поразительная, а ум развит как у грудного младенца.
Из Сен-Лу отец, подобно комете, перелетел прямо в Марсель, минуя пригороды, и, к своему несказанному удивлению, был назначен учителем в школе Шмен-де-Шартре, самой крупной начальной школе Марселя. Ею управлял «директор без класса», без пяти минут директор средней школы. Он имел право по собственному почину являться к господину инспектору округа и состоял членом комиссий на выпускных экзаменах в начальной школе, а иногда даже и в средней. Кстати, школьный сторож однажды сказал при мне польщенному отцу, что все двенадцать учителей школы Шартре – «самый что ни на есть учительский цвет» и что после четырех или пяти лет работы желающие сразу же назначаются директорами, и нередко в самом Марселе. Это высказывание сторожа школы Шмен-де-Шартре в дальнейшем часто повторялось в нашей семье; мать, которая этим очень гордилась, пересказала эти слова госпоже Мерсье и мадемуазель Гимар, добавив, что, пожалуй, сторож малость преувеличил, но весь вид ее говорил, что она сама не верила тому, что только что сказала.
Она по-прежнему была бледной, хрупкой, но счастливой в окружении своего Жозефа, двух своих мальчиков и своей новенькой швейной машинки. Это чудо современной техники позволяло мне помогать маме. Стоя на коленях под машинкой, уткнувшись носом в мамино платье, я нажимал руками на широкую педаль и по ее команде должен был немедленно останавливать машинку.
Мой брат Поль был трехлетним карапузом, белокожим, с пухленькими щечками, с огромными светло-голубыми глазами и золотистыми кудрями, как у того неведомого деда из Кутанса. Он был задумчивым, никогда не плакал и все играл один где-нибудь под столом с пробкой или бигуди. Однако его отличала удивительная прожорливость: порой на наших глазах разыгрывалась драма – он вдруг преображался, лицо его становилось синим, он начинал как-то странно двигаться, покачиваясь и растопырив руки, – это означало, что он опять подавился.
Мать в испуге била его по спине, совала ему в рот палец или трясла его, держа за пятки, как некогда поступала мать Ахиллеса.
Наконец со страшным хрипом он изрыгал большую черную маслину, или персиковую косточку, или же здоровенный ломоть сала. После чего снова принимался за свои одинокие игры, сидя на корточках, как большая жаба.
Жозеф стал просто неотразим. Теперь он носил новый синий костюм, достойный школы Шмен-де-Шартре, стальная оправа очков сменилась золотой, а овальные стекла – круглыми; в довершение всего у него появился галстук, как у настоящего художника, – черный бант с болтающимися концами. Но эта претензия на элегантность была оправдана тем, что ему и его коллеге господину Арно издательством «Видаль-Лаблаш» было заказано копировать настенные географические карты, чем они и занимались по четвергам и воскресеньям; за эту работу издательство платило, и порой у них выходило по сто франков за карту. Вклад «Видаль-Лаблаша» в семейный бюджет исчислялся суммой в двадцать пять франков в месяц, и мы воспринимали эту двойную фамилию как дважды благословенную.
И вот мне уже около шести. Я хожу в первый класс начальной школы и учусь у мадемуазель Гимар.
Мадемуазель Гимар – очень высокая, с хорошенькими черненькими усиками; когда она говорит, нос у нее беспрестанно двигается. Тем не менее, на мой вкус, она некрасива: вся какая-то желтая, как китаец, а глаза большие и выпуклые.
Она терпеливо обучает азбуке моих маленьких одноклассников, мне же совсем не уделяет внимания, ведь я уже свободно читаю, что воспринимается ею как преднамеренная каверза со стороны моего отца.
Зато на уроках пения она при всем классе заявляет, что я фальшивлю и что мне лучше помолчать. А мне только того и надо.
Пока детвора в такт ее палочке дерет горло, я кротко, с безмятежной улыбкой на устах безмолвствую. Закрыв глаза, сам себе рассказываю сказки и гуляю по берегу пруда в парке Борели – небольшом подобии Сен-Клу в конце проспекта Прадо.
По четвергам и воскресеньям тетя Роза – старшая сестра матери и такая же красивая, как она, – приходит к нам обедать, а потом на трамвае, словно на ковре-самолете, переносит меня в те райские места.
Там тенистые аллеи со старыми платанами, дикие заросли, лужайки, которые словно зовут покувыркаться на их мягкой мураве, сторожа, которые этого не позволяют, и пруды с целыми флотилиями уток.
В ту пору в парке водилось немало чудаков, которые учились управлять велосипедом: с остановившимся взглядом, стиснув зубы, они то и дело вырывались из рук инструкторов, во весь дух пересекали аллею и исчезали в придорожных кустах, после чего появлялись с велосипедом на шее. Мне было любопытно и смешно до слез. Но тетя не давала мне долго задерживаться в этом опасном месте и тащила меня вперед, в тихий уголок на берегу пруда, а я все упорно смотрел назад.
Мы всегда усаживались на одну и ту же скамейку перед лавровым кустом, зажатым между двумя платанами: тетя вынимала из сумки вязанье, а я был предоставлен самому себе.
Мое основное занятие заключалось в том, что я кидал уткам хлеб. Эти глупые пернатые прекрасно меня знали: стоило мне показать им корочку, как флотилия на всех парах устремлялась прямо на меня, и я принимался за раздачу. Но когда тетя не смотрела на меня, я, продолжая нежно ворковать с ними, начинал швырять в них камнями с твердым намерением убить хоть одну из уток. Именно эта мечта, которая никак не осуществлялась, составляла всю прелесть моих прогулок: еще в скрежещущем трамвае по дороге к Прадо меня всего трясло от нетерпения.
Но в одно прекрасное воскресенье я, к своему удивлению и огорчению, обнаружил, что на нашей скамье сидит какой-то господин. У него было румяное лицо, пышные каштановые усы, густые рыжие брови и круглые, слегка навыкате голубые глаза. Кое-где на висках проглядывала седина. Поскольку он читал газету, в которой не было картинок, я тут же отнес его к разряду стариков.
Тетя хотела было увести меня и, так сказать, разбить лагерь подальше, но я запротестовал: эта скамейка наша и уйти должен незнакомый господин.
Незнакомец проявил вежливость и тактичность. Не сказав ни слова, он подвинулся на самый краешек скамейки и подтянул к себе котелок, на котором лежали кожаные перчатки, – несомненный признак богатства и благовоспитанности их владельца.
Тетя присела на другой конец скамейки и вынула вязанье; я с мешочком хлебных корок побежал к пруду.
По дороге я подобрал очень красивый камешек размером с пятифранковую монету, почти плоский и на редкость острый. Как назло, сторож не сводил с меня глаз, поэтому я спрятал камешек в карман и приступил к кормежке, сопровождая ее такими любезными и ласковыми словами, что вскоре у берега собралась целая эскадра уток.
Сторож – которого, как мне показалось, ничем уже нельзя было удивить – большого интереса к зрелищу не выказал: он просто-напросто отвернулся и пошел себе неторопливым размеренным шагом прочь. Я тотчас же вытащил камешек, и тут мне выпало счастье – правда, не без примеси тревоги – попасть камнем прямо в голову старого папаши-селезня. Однако вместо того, чтобы опрокинуться в воду и камнем пойти ко дну, на что я уповал, этот видавший виды старый вожак повернулся другим бортом и стал улепетывать, вовсю работая перепончатыми ногами и издавая громкие крики негодования. Отплыв метров на десять от берега, он остановился и повернулся ко мне: приподнявшись над водой и размахивая крыльями, он прокричал в мой адрес все ругательства, какие только знал, поддерживаемый издающей душераздирающие вопли родней.
Сторож еще не успел отойти на приличное расстояние, и мне пришлось спасаться.
Когда я прибежал к тете, оказалось, что она ничего не видела, ничего не слышала, мало того, она и не вязала вовсе, а болтала с тем господином на скамейке.
– Какой прелестный мальчик! – сказал он. – Сколько тебе лет?
– Шесть.
– Я бы дал все семь! – поразился господин, после чего похвалил мой здоровый вид и заявил, что у меня очень красивые глаза.
Тетя поспешила уточнить, что я не ее сын, а сын ее сестры, почему-то при этом добавив, что она не замужем. Тут уж любезный старик расщедрился и дал мне два су, чтобы я мог купить себе вафельные трубочки у торговца на другом конце аллеи.
В этот день мне было предоставлено гораздо больше свободы, чем обычно. И я воспользовался этим, чтобы заглянуть, что там делается у велосипедистов. Забравшись из осторожности на скамейку, я наблюдал за их немыслимыми трюками.
Самый смешной случай произошел со стариком лет под сорок: забавно гримасничая, он так рванул на себя руль велосипеда, что тот остался у него в руках, а сам он грохнулся на бок. Его подняли; весь в пыли, с прорванными на коленях брюками, он возмущался не меньше, чем старый селезень на пруду. Я надеялся, что между взрослыми завяжется драка, но тут появились тетя и господин со скамейки и увели меня подальше от орущих людей, потому что пора уже было возвращаться домой.
Господин сел в трамвай вместе с нами: он даже заплатил за нас, несмотря на весьма решительные протесты тети, которая, к моему большому удивлению, при этом все больше и больше краснела. Позже я понял: она сочла, что ведет себя как настоящая куртизанка, позволив какому-то едва знакомому господину заплатить за нас три су.
Мы расстались с ним на конечной остановке, на прощание он долго махал нам котелком, который держал в высоко поднятой руке.
Прежде чем войти в дом, тетя, понизив голос, посоветовала мне никогда никому не рассказывать об этой встрече. Она довела до моего сведения, что этот господин – владелец парка Борели и что, если мы пророним хоть слово, он непременно об этом узнает и запретит нам там гулять. На мой вопрос почему, она ответила: «Это секрет». Я страшно обрадовался тому, что мне стал известен пусть и не сам секрет, но, по крайней мере, факт его существования. Я дал слово и сдержал его.
Прогулки в парк участились, и каждый раз на нашей скамейке нас ждал любезный «владелец парка». Однако его довольно трудно было узнать издалека, так как каждый раз он был одет по-новому. То в светлом пиджаке с голубым жилетом, то в охотничьей куртке с вязаным жилетом, а однажды я его видел даже во фраке. Со своей стороны, тетя Роза надевала теперь боа из перьев и кисейную шапочку, на которой сидела, широко растопырив крылья, голубая птица, будто высиживая кого-то в тетином шиньоне. Она брала у матери то ее зонтик, то перчатки, то ридикюль. Она смеялась, краснела и с каждым днем становилась все краше. Как только мы появлялись, «владелец парка» передавал меня в руки хозяина осликов, и я целыми часами ездил на них верхом, затем меня сажали на тележку, в которую была запряжена четверка коз, а под конец отводили к хозяину горки. Я знал, что эта щедрость не стоит нашему новому знакомому ни гроша – ведь ему принадлежит весь парк, – но тем не менее был за все благодарен и гордился тем, что у меня появился такой состоятельный друг и что он так любит меня.
Однажды, полгода спустя, мы с братиком Полем играли в прятки, я спрятался в буфете, отодвинув горку тарелок. Поль искал меня в спальне, я сидел неподвижно, затаив дыхание, и тут в столовую вошли отец, мать и тетя. Мать как раз говорила:
– Все-таки тридцать семь – это не молодость!
– Ну что ты, – возразил отец, – в этом году мне исполнится тридцать, а я считаю себя еще молодым. Тридцать семь – это самый расцвет! Да и Розе тоже не восемнадцать!
– Мне двадцать шесть, – уточнила тетя Роза, – и к тому же он мне нравится.
– Кем он служит в префектуре?
– Он заместитель начальника отдела. Зарабатывает двести двадцать франков в месяц.
– Ого! – вырвалось у отца.
– И, кроме того, у него есть еще какая-то рента.
– О-го-го! – снова поразился отец.
– Он сказал, что мы можем рассчитывать на триста пятьдесят франков в месяц.
Послышался протяжный свист.
– Ну что ж, поздравляю вас, дорогая Роза. Но он хоть красив?
– Нет, – ответила вместо Розы мать, – если уж речь зашла о красоте, то он некрасив.
И тут, внезапно распахнув дверцу буфета, я выскочил из него с криком:
– Неправда, он красивый! Он потрясающий! – и, убежав на кухню, запер за собой дверь на ключ.
В результате всех этих событий «владелец парка» в один прекрасный день явился к нам в сопровождении тети Розы. Его лицо под полями глянцевито-черного котелка расплывалось в широкой улыбке. А тетя Роза раскраснелась, да еще с ног до головы была одета во все розовое, ее красивые глаза блестели из-под голубой вуалетки, наброшенной на шляпку-канотье. Они только что вдвоем вернулись из небольшого путешествия, и все принялись без конца обнимать и целовать друг друга: да, сам господин «владелец парка» на наших изумленных глазах поцеловал сперва мать, а затем отца! Потом он подхватил меня под мышки, поднял и целую минуту смотрел на меня.
– Теперь меня зовут дядя Жюль, потому что я муж тети Розы, – сказал он наконец.
Но самое удивительное: настоящее-то его имя было вовсе не Жюль. Он был Томá. Но милая моя тетя, прослышав, что деревенские жители так называют ночной горшок, решила переименовать мужа в Жюля, а, как известно, это имя является еще более распространенным в народе названием того же предмета. Но тетя, невинное создание, которому не довелось служить в армии, этого, конечно, не знала, и сказать ей об этом ни у кого не хватило духу, тем более у Тома – Жюля, который слишком любил ее, чтобы противоречить, а уж когда был прав, и подавно!
Дядя Жюль родился среди виноградников золотистого Руссильона, где множество людей только тем и занимается, что катает неменьшее количество винных бочек. Оставив виноградники на попечение своих братьев, он окончил юридический факультет и стал «интеллектуалом» – гордостью семьи. И все же оставался каталонцем: его «р» звучало столь же раскатисто, как журчание ручья, перекатывающего камешки.
Желая рассмешить брата Поля, я подражал ему. Мы ведь были убеждены, что провансальский акцент представляет собой эталон французского произношения, поскольку так говорил отец – член выпускной экзаменационной комиссии начальной школы, а раскатистое «р» дяди Жюля было не чем иным, как внешним проявлением какого-то скрытого изъяна.
Время от времени он начинал протестовать против чрезмерно долгих школьных каникул:
– Я допускаю, что дети нуждаются в столь длительном отдыхе. Но учителей в это время можно было бы как-то использовать!
– Верно, они вполне могли бы два месяца в году заменять чиновников префектуры, переутомившихся от ежедневного послеобеденного сна и отсидевших зады на мягких кожаных подушках! – с иронией отвечал отец.
Но на этом дружеские перепалки и кончались. И никогда, если не считать осторожных намеков, не затрагивалась самая главная тема: дядя Жюль ходил в церковь! Когда отец узнал от матери (а той об этом под большим секретом сообщила тетя Роза), что дядя Жюль два раза в месяц причащается, он был крайне удручен и сказал, что «хуже этого уже ничего быть не может».
Мать умоляла его принять это как должное и в присутствии дяди Жюля отказаться от своего заезженного репертуара анекдотов про кюре и в особенности от известной песенки, в которой прославляются мужские достоинства его преподобия отца Дюпанлу.
– Думаешь, он и правда обидится?
– Убеждена, после этого он уж к нам ни ногой, да еще запретит Розе видеться со мной.
Отец грустно покачал головой и вдруг сердито закричал:
– Вот она, нетерпимость фанатиков! Разве я мешаю ему каждое воскресенье ходить в церковь и вкушать там свою долю Божественного? Разве я запрещаю тебе встречаться с сестрой только потому, что она замужем за человеком, который верит, будто Создатель Вселенной каждое воскресенье заполняет собой сотни тысяч чаш? Ну так я покажу ему широту своих взглядов. Я проявлю терпимость, и он будет просто смешон. Нет, я не стану припоминать ни инквизицию, ни дело Каласа[9], ни Яна Гуса, ни прочих, отправленных Церковью на костер. Ни словом не обмолвлюсь об обоих Борджиа и о папессе Иоанне![10] И даже если он попытается проповедовать мне свои религиозные догмы, наивные, как сказки моей покойной бабушки, я буду учтив с ним, разве что посмеюсь себе в бороду!
Впрочем, бороды у него не было и ему было вовсе не до смеха.
Тем не менее он сдержал слово, и их дружба не была омрачена отдельными намеками, которые иногда вырывались как бы сами по себе и тут же заглушались бдительными женами: у них всегда наготове были неожиданные восклицания или громкие раскаты смеха, причину посмеяться они придумывали после.
Дядя Жюль очень скоро сделался моим большим другом. Он часто хвалил меня за то, что я сдержал слово и не выдал тайну первых свиданий в парке Борели. Каждому, кто готов был его слушать, он сообщал, что «из этого ребенка выйдет большой дипломат» или же «первоклассный офицер» (это пророчество, хоть в нем и содержалась альтернатива, пока еще не сбылось). Он считал своим долгом проверять мой школьный дневник и награждал (а иногда и утешал) игрушками или леденцами. А между тем, когда я однажды посоветовал ему выстроить в своем великолепном парке Борели маленький домик с балконом, с которого можно будет наблюдать за велосипедистами, он как ни в чем не бывало признался, что никогда не был владельцем этого парка.
Я был удручен молниеносной потерей столь великолепного владения и пожалел, что так долго восхищался самозванцем.
В этот день я понял: взрослые умеют врать не хуже меня и я не могу чувствовать себя с ними в полной безопасности.
Но с другой стороны, это открытие, оправдывавшее мое вранье – прошлое, настоящее и будущее, – принесло мне душевный покой, и когда мне необходимо было солгать отцу, а моя еще не совсем окрепшая детская совесть роптала, я ей отвечал: «Как дядя Жюль!», после чего с невинным взглядом и безмятежным видом на диво ловко врал.
В один прекрасный день мы переехали в новый дом, так как отец считал, что наша квартира стала нам мала. Он выхлопотал «пособие на жилье», и мы стали жить на улице Терюс в просторной квартире на первом этаже; был еще и подвал, в который свет проникал со стороны маленького огородика.
То был один из важных этапов в жизни нашей семьи. Мать, раскрасневшись от гордости, поразила тетю Розу, показав ей, что теперь в ее распоряжении целых восемь стенных шкафов и гардеробов, а я в школе «воспевал» этот дворец и, желая дать хоть какое-то представление о его великолепии, утверждал – и это было сущей правдой, – что там можно играть в прятки! Из-за этой роскоши у меня появилось немало завистников, но, к счастью, многие не поверили и остались моими друзьями.
Прошло два года: я одолел дроби, имел превеликое счастье узнать о существовании озера Титикака, затем о Людовике Десятом по прозвищу Сварливый, о всяких там имя-племя-семя и о злосчастных правилах правописания причастий прошедшего времени. А братик Поль, забросив азбуку, по вечерам, лежа в кровати, постигал мудреную философию «Трех мелких комбинаторов Пьеникле»[11].
У нас родилась сестричка как раз в то время, когда мы с братом были приглашены на два дня к тете Розе печь блины на Масленицу. Это несвоевременное приглашение помешало мне до конца проверить смелую гипотезу Манджьяпана, моего соседа по парте, который утверждал, будто дети появляются из материнского пупа.
Сперва эта мысль показалась мне нелепой, но однажды вечером в результате весьма продолжительного осмотра собственного пупа я пришел к заключению, что он и впрямь похож на петлицу со своеобразной пуговкой посередине, из чего вытекало, что ее можно расстегивать, значит Манджьяпан прав.
Однако тут же мне в голову пришла другая мысль: у мужчин детей не бывает, зато бывают сыновья и дочери, которые зовут их «папа», но происходят дети, вероятнее всего, от матерей, точно как щенята или котята. Значит, мой пуп еще ничего не доказывал. Даже наоборот: его наличие у особ мужского пола очень подрывало авторитет Манджьяпана.
Как же быть? Кому верить?
Во всяком случае, раз у нас только что родилась сестричка, было самое время широко раскрыть глаза и держать ухо востро, чтобы вникнуть в великую тайну.
На обратном пути от тети Розы, именно в тот момент, когда мы пересекали площадь Ла-Плен, я сделал задним числом очень важное для себя открытие: за последние три месяца фигура матери явно изменилась, и она ходила откинувшись назад, как почтальон под Рождество. Однажды вечером Поль с некоторым беспокойством спросил у меня: «Что там у нашей Огюстины под фартуком?»
А я не знал, что ему ответить…
Мы застали мать, лежащую в родительской постели, улыбающуюся, но заметно побледневшую и обессиленную. А рядом в колыбели издавало пронзительный визг какое-то крошечное гримасничающее существо. Мне показалось, гипотеза Манджьяпана подтверждена. Представив себе страдания матери при расстегивании пупа, я стал осыпать ее нежными поцелуями.
Крошечное существо вначале казалось нам чужим. К тому же мать кормила малютку грудью, что крайне шокировало меня и пугало Поля. Он говорил: «Нет, ты подумай! Четыре раза в день она питается нашей Огюстиной». Но когда сестренка начала ходить, неуверенно покачиваясь из стороны в сторону и лопоча что-то непонятное, мы осознали собственную силу и мудрость и окончательно ее приняли.
* * *
По воскресеньям дядя Жюль с тетей Розой приходили к нам в гости, а по четвергам мы с Полем, как правило, обедали у них.
Они жили на улице Миним в шикарной квартире с газовым освещением, с газовой плитой на кухне и с горничной.
Однажды я, к своему большому удивлению, заметил, что милая моя тетя Роза, в свою очередь, начинает пухнуть, и сразу же сделал вывод, что в скором будущем ожидается еще одно расстегивание.
Мой диагноз был скоро подтвержден разговором между матерью и мадемуазель Гимар, хотя я уловил из него всего несколько слов.
Пока мясник отрезал отменный бифштекс стоимостью в четыре су, мадемуазель Гимар проговорила:
– Дети под старость – это чревато… – В ее голосе сквозило беспокойство.
– Розе всего двадцать восемь лет, – возразила мать.
– Для первого ребенка это уже немало. К тому же, не забудьте, мужу уже полных сорок!
– Тридцать девять, – уточнила мать.
– Двадцать восемь плюс тридцать девять равняется шестидесяти семи, – подсчитала мадемуазель Гимар, задумчиво и зловеще покачав головой…
Как-то вечером отец сообщил нам, что мама сегодня не будет ночевать дома, потому что она осталась у сестры, которая «почувствовала себя неважно». Мы вчетвером молча поужинали, потом я помог отцу уложить сестренку.
Это оказалось не таким уж простым делом, если учесть всякие там горшки, пеленки и наш страх, как бы ее не уронить и не «сломать».
– Знаешь, они ведь там сейчас тетю Розу расстегивают, – сообщил я Полю, стягивая с себя носки.
Он, лежа в постели, читал своих любимых «Трех мелких комбинаторов Пьеникле» и ничего мне не ответил. Но, решив во что бы то ни стало посвятить его в великую тайну, я настойчиво продолжал: «А знаешь зачем?»
Он по-прежнему не шевелился, и я понял, что он спит.
Тогда я осторожно вынул книжку из его рук, разогнул его колени и с одного раза задул лампу.
На другой день, в четверг, отец нам объявил:
– Вставайте! Да поживее! Мы идем к тете Розе, и я вам обещаю один сюрпризик!
– А я твой сюрприз уже знаю, – отозвался я.
– Ого, – сказал он, – а что именно ты знаешь?
– Не хочу говорить, но уверяю тебя, что я все понял.
Он посмотрел на меня с улыбкой, но больше ничего не сказал. Мы вчетвером вышли на улицу. Сестренка выглядела как-то непривычно в платье, которое мы надели на нее задом наперед, да и головку нам так и не удалось причесать из-за ее отчаянных воплей.
Беспокойство терзало меня. Сейчас мы увидим ребенка «под старость», как выразилась мадемуазель Гимар, ничего не объяснив, кроме того, что ему будет шестьдесят семь лет. Я представил себе тщедушное существо с седыми волосами и с седой, как у моего деда, бородой, пусть и не такой густой, а пожиже, – словом, с бородой младенца. Да, зрелище будет явно не из приятных. Но может быть, он сразу же заговорит и объявит нам, откуда он взялся. А вот это уже очень даже интересно.
Однако я был крайне разочарован.
Нас повели в спальню поцеловать тетю Розу. Вид у нее был вполне застегнутый, хотя она и была слегка бледна. Мать сидела на краю кровати, а между ними лежал младенец – младенец без бороды и без усов, – и его кругленькое щекастое личико с гребешком белокурых волосиков безмятежно спало.
– Вот ваш двоюродный братик! – сказала мать тихим голосом.
Обе они, взволнованные, растроганные, восторженные, смотрели на него с таким преувеличенным благоговением, а вошедший дядя Жюль был такой красный от гордости, что Поль не выдержал и увел меня в столовую, где мы с наслаждением принялись уплетать четыре банана, которые Поль заприметил в хрустальной вазе для фруктов, еще когда мы входили.
В один прекрасный апрельский вечер мы с отцом и Полем возвращались из школы. Это была среда, самый лучший день недели: ведь сегодня только тем и прекрасно, что за ним будет завтра, а после среды, как известно, идет четверг – в то время свободный день для французских школьников. По дороге, на улице Тиволи, отец мне сказал:
– Лягушонок, завтра утром ты мне будешь нужен.
– А зачем?
– Потом увидишь. Это сюрприз.
– А я не нужен? – забеспокоился Поль.
– Конечно нужен, – сказал отец, – но Марсель пойдет со мной, а ты останешься дома, чтобы проследить, как служанка подметет подвал. Это очень важно.
– Я, вообще-то, боюсь спускаться в подвал, – объяснил Поль, – но со служанкой бояться не буду.
На другой день, около восьми, отец разбудил меня, изображая, как труба играет зорю, и, откинув одеяло на моей постели, сказал:
– Будь готов через полчаса. А я пока побреюсь.
Я потер глаза кулаками, потянулся и встал. Поля не было видно: из-под простыни торчал лишь золотистый локон.
* * *
Четверг был у нас днем полного туалета, мать относилась к таким вещам очень серьезно. Я начал с того, что с ног до головы оделся, а потом стал изображать, что умываюсь, не жалея воды: то есть за двадцать лет до использования на радио звуковых трюков я сотворил симфонию звуков, создающих иллюзию мытья.
Прежде всего я открыл кран, со знанием дела выбрав то положение, при котором труба начинает гудеть: таким образом, мои родители будут поставлены в известность о том, что процедура мытья началась.
Пока вода с шумом бурлила в раковине, я смотрел на нее с почтительного расстояния. Минут через пять я резко повернул кран, оповестивший о прекращении доступа воды громким ударом, от которого, как от тарана, задрожала стена.
Потом я выждал минуту, которую использовал для того, чтобы причесаться. После звякнул железным тазом о кафельный пол и снова открыл кран, но уже плавно, осторожно. Кран засвистел, замяукал и снова прерывисто загудел. Позволив воде течь целую минуту – как раз столько мне было нужно, чтобы прочесть страницу любимой книжки «Пьеникле», в тот самый момент, когда Крокиньоль, подставив ножку полицейскому, пустился бежать перед словами «продолжение следует», – я снова резко закрыл кран.
Успех был полным: я добился двойного выстрела, от которого начала извиваться вся труба. Два-три удара по железному тазу, и туалет закончен, не подкопаешься, времени ушло тютелька в тютельку, и при этом я так и не прикоснулся к воде.
* * *
Когда я вошел в столовую, отец сидел за столом и считал деньги, мать сидела напротив и пила кофе. Ее иссиня-черные косы, закинутые за спинку стула, спускались до самого пола. Кофе с молоком уже ждал меня на столе.
– Ноги вымыл? – спросила мать.
Мне было известно, что она придает особое значение этой бессмысленной процедуре, необходимости которой я никак не мог понять (ног ведь в ботинках не видно), поэтому я ответил решительно:
– Даже обе.
– А ногти подстриг?
Мне казалось, признание в том, что «кое о чем» я забыл, подтвердит реальность остального.
– Нет, – ответил я, – как-то не подумал. Но ведь я их стриг в воскресенье.
– Хорошо, – сказала мать.
По-видимому, она была удовлетворена, а я тем более.
Я с аппетитом стал уплетать бутерброды, а отец тем временем рассказывал:
– Ты еще не знаешь, куда мы сейчас пойдем? Так вот… Твоей матери необходимо пожить на деревенском воздухе. Мы с дядей Жюлем пополам сняли виллу в холмах, где проведем летние каникулы.
Я был в восторге.
– А где находится эта вилла?
– За городом, далеко, в сосновом лесу.
– Это очень далеко?
– О да! – сказала мать. – Надо ехать на трамвае, а потом идти пешком, и не один час.
– Значит, это дикое место?
– Довольно дикое, – подтвердил отец. – Там начинается «гаррига», сплошные непролазные кустарники, которые тянутся от Обани до самого Экса. Это настоящая пустыня!
На пороге столовой появился босой Поль, чтобы узнать, что происходит.
– А верблюды там есть? – спросил он.
– Нет, верблюдов нет.
– А носороги?
– Что-то не видел.
Я собирался задать еще тысячу вопросов, но мать меня оборвала:
– Ешь!
И так как я совсем забыл о своем бутерброде, мать легонько подтолкнула мою руку ко рту и обернулась к Полю:
– А ты сначала иди надень тапки, а то опять преподнесешь нам ангинку. Ну-ка, бегом!
Поль убежал.
– Значит, ты меня сегодня повезешь в холмы?
– Нет, – сказал отец, – пока еще нет! Вилла совершенно пустая, туда надо завезти мебель. Только новая мебель стоит очень дорого, поэтому сегодня мы с тобой идем к старьевщику на Катр-Шмен.
* * *
У отца была страсть – покупать всякое барахло у старьевщиков.
Каждый месяц, получив в мэрии жалованье, он приносил домой целую кучу редкостных вещей, как то: дырявый намордник (0,5 фр.), циркуль-измеритель со сломанной ножкой (1,50 фр.), смычок для контрабаса (1 фр.), хирургическую пилу (2 фр.), корабельную подзорную трубу, которая все показывала вверх ногами (3 фр.), индейский нож для скальпирования (2 фр.), приплюснутый охотничий рожок с наконечником от тромбона (3 фр.), не говоря уж о всяких там таинственных предметах, которым никто не мог найти применения и которые валялись по всему дому.
Эти ежемесячные поступления были для нас с Полем настоящим праздником. Мать нашего энтузиазма не разделяла. Лишившись дара речи, она смотрела на лук с островов Фиджи или на альтиметр высокой чувствительности, стрелка которого, достигнув однажды отметки 4000 метров (неизвестно, то ли от подъема на Монблан, то ли от падения с лестницы), потом упорно отказывалась оттуда спускаться.
Она просила только об одном:
– Главное, чтобы дети к этому не прикасались!
Вооружившись спиртом, хлоркой и содой, она долго терла эти обломки чьей-то жизни.
Надобно заметить, в то время микробы были чем-то совсем новеньким, поскольку великий Пастер только что их изобрел, и мать представляла их себе этакими крошечными тиграми, готовыми пожрать нас изнутри.
Не переставая трясти охотничий рожок, до краев наполненный хлоркой, она со скорбным видом вопрошала:
– Бедный мой Жозеф, ну скажи на милость, что ты будешь делать с этой дрянью?
– Три франка! – с победным видом коротко отвечал бедный Жозеф.
Позже я понял, что он приобретал не саму вещь, а ее цену.
– Значит, еще три франка выброшены на ветер!
– Но, дорогая, если бы ты захотела изготовить этот охотничий рожок, тебе пришлось бы обзавестись медью, специальным оборудованием… Сотни рабочих часов ушли бы у тебя на придание формы куску меди…
Мать пожимала плечами; было очевидно, что ей отродясь не приходило в голову изготавливать охотничий рожок либо что-то подобное.
– Ты просто не понимаешь, что этот инструмент, пусть сам по себе и бесполезный, является на самом деле настоящим кладом, – снисходительно увещевал ее отец. – Представь себе на минутку: если отпилить раструб, получится слуховой рожок, морской рупор, воронка, труба для граммофона. А из оставшейся части, если ее закрутить спиралью, выйдет прекрасный змеевик для перегонки спирта. А еще можно ее выпрямить и сделать стрелометательную трубу или водопроводную, учти, кстати, из чистой меди! А если ее распилить на тонкие пластины, у тебя будет дюжин двадцать колец для занавесок; если пробить в ней сотню дырочек, она сгодится для душа. Ну а если надеть ее на грушу от клизмы, выйдет прекрасный пистолет для стрельбы пробками…
Так, к восхищению сыновей и отчаянию любимой жены, отец превращал бесполезный предмет в другие, столь же бесполезные, но гораздо более многочисленные.
Вот почему при одном слове «старьевщик» мать с некоторым беспокойством покачала головой. Но вслух свою мысль не высказала, а только спросила меня: «Носовой платок у тебя есть?»
Разумеется, носовой платок у меня был: уже неделю он лежал у меня в кармане, чистый-пречистый.
Мне, который ногтем указательного пальца умел выковыривать из носа все субстанции, мешающие дышать, применение носового платка представлялось еще одним родительским предрассудком.
Правда, я иногда пользовался платком, чтобы навести блеск на свои ботинки или вытереть лавку в классе, но мысль о том, что можно выдуть сопли в эту мягкую ткань и, свернув, сунуть все это в карман, казалась мне нелепой и отвратительной. Однако, поскольку дети рождаются слишком поздно, чтобы успеть воспитать своих родителей, им приходится, чтобы не огорчать их, уважать неизлечимые родительские мании. Вот почему, вытащив платок из кармана и прикрыв ладонью весьма живописную кляксу на нем, я, словно на перроне, помахал им перед успокоенной матерью и вышел вслед за отцом на улицу.
У тротуара стояла небольшая ручная тележка, которую отец позаимствовал у соседа. На ее бортике крупными черными буквами было выведено:
БЕРГУНЬЯС
ДРОВА – УГОЛЬ
Отец, пятясь, запрягся в оглобли.
– Ты мне понадобишься, – сказал он, – чтобы нажимать на тормоз при спуске по улице Тиволи.
Я взглянул вдоль улицы, которая круто, словно детская горка, поднималась к небу.
– Но, папа, – сказал я ему, – ведь улица Тиволи идет в гору!
– Верно! – ответил он. – Сейчас – в гору. Но я почти не сомневаюсь, что на обратном пути она пойдет вниз. И к тому же на обратном пути мы будем с грузом. А пока устраивайся-ка на тележке.
Я уселся в самой середине тележки – для равновесия.
Стоя за выпуклой оконной решеткой, мать смотрела, как мы отъезжаем.
– Главное, – крикнула она, – берегитесь трамваев!
В ответ отец, желая продемонстрировать, что ему все нипочем, весело заржал, два раза лягнул ногой воздух и пустился галопом навстречу приключениям.
* * *
Мы остановились в конце бульвара Мадлен перед неказистой темноватой лавчонкой. Весь тротуар перед ней был загроможден разношерстной мебелью, в центре возвышался допотопный пожарный насос, на котором висела скрипка.
Хозяин лавки был очень высокий, тощий и страшно грязный. У него была седая борода и длинные вьющиеся, как у трубадура, волосы, выбивавшиеся из-под большой широкополой шляпы, какие обычно носят художники. Он с меланхоличным выражением лица курил длинную глиняную трубку.
Отец уже побывал у него и попросил оставить за ним кое-какую «мебель»: комод, два стола и несколько связок полированных деревяшек, из которых, как утверждал старьевщик, можно собрать шесть стульев. Тут были также маленький диванчик, теряющий свои внутренности, как раненный быком конь, три продырявленных матраса, наполовину выпотрошенные соломенные тюфяки, шкафчик для посуды без полок, глиняный сосуд, отдаленно напоминающий петуха, и предметы домашней утвари, сплоченные ржавчиной в настоящий сервиз.
Старьевщик помог нам погрузить все это добро на тележку, которая выставила свою подпорку совсем точно так же, как ослы весной выставляют кое-что иное. Затем все это было крепко перевязано веревками, которые от долгого употребления разлохматились. И только потом наступило время торговаться. Что-то прикинув в уме, старьевщик пристально взглянул на отца и проговорил:
– С вас пятьдесят франков!
– Ого, – сказал отец, – это слишком дорого!
– Дорого, но красиво. Это комод, относящийся к определенной эпохе! – возразил старьевщик, указав пальцем на источенную жучками развалину.
– Охотно верю, – ответил отец. – Комод, безусловно, стильный и относится к какой-то эпохе, да только не нашей!
Старьевщик состроил брезгливую мину и сказал:
– Вы так любите модерн?
– Черт побери! – отпарировал отец. – Я все это покупаю не для музея, а для того, чтобы пользоваться.
Старик был заметно опечален этим признанием.
– Значит, на вас не производит никакого впечатления, что этот предмет обстановки, может быть, видел королеву Марию-Антуанетту в ночной рубашке?
– Он в таком состоянии, – ответил отец, – что я нисколько не удивился бы, узнав, что он видел самого царя Ирода в кальсонах!
– Тут я вынужден вас поправить, – сказал старьевщик, – и сообщить следующее: у царя Ирода, может быть, и были кальсоны, но комода не было! Тогда существовали лишь сундуки с золотыми гвоздями и деревянная посуда. Я все это говорю, потому что я человек честный.
– Безмерно вам благодарен, – сказал отец, – но, раз вы человек честный, вы все это мне уступите за тридцать пять франков.
Старьевщик перевел взгляд с отца на меня, покачал головой, скорбно улыбнулся и объявил:
– Это никак невозможно, потому что я должен пятьдесят франков домовладельцу, который сегодня в полдень придет за деньгами.
– Значит, – возмутился отец, – если бы вы ему были должны сто франков, вы посмели бы запросить с меня и столько?
– А что делать?! Где, по-вашему, мне их взять? Заметьте, если бы я был должен ему только сорок, я спросил бы с вас сорок. А должен был бы тридцать, то с вас было бы тридцать…
– В таком случае, – резонно заметил отец, – я лучше приду завтра, когда вы с ним расплатитесь и у вас уже не будет никакого долга…
– О, теперь это уже невозможно! – воскликнул старьевщик. – Уже ровно одиннадцать. Раз попали в эту историю, то вам не отвертеться. Впрочем, согласен: сегодня вам и впрямь не повезло. Однако от судьбы не убежишь! Вы молодой, здоровый, стройный как тополь, и оба глаза при вас, так что, пока на свете существуют горбатые и кривые, вы не имеете никакого права роптать на судьбу. Итак, с вас пятьдесят франков!
– Прекрасно, – сказал отец, – в таком случае мы сейчас свалим всю эту рухлядь на землю и отправимся к другому старьевщику. Малыш, развязывай веревки!
Старьевщик схватил меня за руку и закричал:
– Подождите!
Он посмотрел на отца с каким-то печальным негодованием, покачал головой и проговорил, обращаясь ко мне:
– Какой он у тебя горячий!
Подойдя к отцу, он торжественно объявил:
– О цене больше спорить не будем. Пятьдесят, и ни франком меньше. Но можно добавить товару.
С этими словами он вошел в лавку.
Отец торжествующе подмигнул мне, и мы проследовали за ним.
Лавка была забита шкафами, облезлыми зеркалами, касками, стенными часами, чучелами зверей; все это громоздилось, образуя некое подобие крепостной стены.
Старьевщик погрузил руку в эту свалку и стал извлекать оттуда разные предметы.
– Во-первых, – сказал он, – поскольку вы любитель стиля модерн, я даю вам в придачу этот ночной столик из эмалированного железа и этот кран в форме лебединой шеи, никелированный гальванопластическим способом. Теперь-то уж вы не сможете сказать, что это не модерн! Во-вторых, я даю вам вот это арабское ружье с насечкой, учтите, не кремневое, а капсюльное. Полюбуйтесь, какой у него длинный ствол! Его можно принять даже за удочку. Взгляните, – добавил он таинственным шепотом, – вот тут на прикладе арабскими буквами вырезаны инициалы! – Он указал на какие-то знаки, похожие на пригоршню запятых, и все так же шепотом спросил: – «А» и «К». Понимаете?
– Станете утверждать, – сказал отец, – что это собственное ружье Абд эль-Кадира?
– Я ничего не утверждаю, – твердо сказал старьевщик, – но были случаи и полюбопытнее! Имеющий уши да услышит! В придачу возьмите еще эту ажурную решетку для камина из чистой меди, этот большой пастуший зонт, который будет совсем как новый, если заменить верх, этот тамтам с Берега Слоновой Кости – настоящую музейную редкость – и этот портновский утюг. Ну как, идет?
– Благодарю, – смилостивился отец, – но мне хотелось бы еще вот эту старую клетку для кур.
– Ого, – сказал старьевщик, – я согласен, она действительно старая, но будет служить не хуже новой. Ну что ж, готов ее просто подарить вам.
Отец протянул ему лиловую бумажку в пятьдесят франков. Тот с достоинством взял ее, кивнув в знак благодарности.
Мы уже кончали рассовывать добычу под затянутые веревки, когда он, разжигая погасшую трубку, неожиданно предложил:
– А не подарить ли вам еще кроватку для малыша?
Войдя в лавку, старьевщик исчез в чащобе из шкафов и вскоре с торжествующим видом вынырнул оттуда.
В вытянутой руке он нес раму из четырех старых брусьев, столь скверно скрепленных друг с другом, что при малейшем движении четырехугольник превращался в ромб. К одному из брусьев маленькими гвоздиками был прибит прямоугольник из джутовой ткани с обтрепанными краями, жалко обвисший, словно флаг нищеты.
– Уверяю вас, – сказал старьевщик, – нужно лишь сколотить крестовину из брусочков, и порядок: ваш малыш будет спать как настоящий паша.
После чего он скрестил руки на груди, склонил голову набок и сделал вид, что засыпает с блаженной улыбкой на лице.
Мы горячо поблагодарили его. По-видимому, старьевщик был этим очень тронут и, подняв вверх правую руку, ладонь которой оказалась черной от грязи, воскликнул:
– Подождите! У меня есть для вас еще один сюрприз!
Он вновь быстро вбежал в лавку, но отец, надев на шею лямку, рывком сдвинулся с места и бойкой рысью побежал вниз по бульвару Мадлен.
Между тем щедрый старик, снова вынырнув на тротуар из своей лавки, уже размахивал огромным флагом Красного Креста, но мы не сочли нужным возвращаться за ним.
Увидев, с чем мы возвращаемся, ожидавшая нас у окна мать тотчас исчезла, а через минуту появилась в дверях.
– Жозеф, уж не собираешься ли ты внести в дом всю эту дрянь? – Такими, уже ставшими привычными словами она встретила нас на пороге дома.
– Эта дрянь, – уточнил Жозеф, – основа той будущей деревенской обстановки, от которой ты не сможешь оторвать глаз. Дай только время поработать над этим! Я все спланировал и точно знаю, что и как делать.
Мать покачала головой и вздохнула. Прибежал Поль и принялся помогать нам разгружаться.
Мы перетаскали всю эту рухлядь в подвал, где отец решил устроить мастерскую.
Работа началась с похищения из ящика буфета железной столовой ложки, что было поручено мне.
Мать долго искала ее и даже несколько раз натыкалась на нее, но так и не признала в ней ложку, потому что мы при помощи молотка превратили ее в мастерок.
Этим орудием, достойным Робинзона Крузо, мы вмазали в стену подвала две железки, к которым посредством четырех винтов прикрепили шаткий стол, таким образом обретший устойчивость и возведенный в ранг верстака.
Мы установили на нем визгливые тиски, которые успокоили капелькой масла. Потом произвели ревизию инструментария: оказалось, что у нас в наличии одна пила, один молоток, щипцы, гвозди различных размеров, но одинаково кривые от неоднократного употребления, винты, отвертка, рубанок, стамеска.
От этих сокровищ, от всего этого подспорья, я был в восторге, а маленький Поль к ним и притронуться не решался, потому что был убежден в хищном нраве острых и режущих орудий труда и не очень отличал пилу от крокодила. Тем не менее он сообразил, что грядут некие великие события. Он вдруг убежал и вернулся, радостно улыбаясь, с двумя обрывками веревочки, маленькими целлулоидными ножницами и гайкой, которую нашел на улице.
Мы встретили это дополнительное оборудование восторженными и благодарными возгласами, а Поль покраснел от гордости.
Отец усадил его на деревянную табуретку, посоветовав ни в коем случае оттуда не слезать.
– Ты нам будешь очень нужен, – сказал он. – Потому что инструменты очень хитрые: как только начинаешь их искать, они это понимают и прячутся…
– Это потому, что они боятся молотка! – догадался Поль.
– Конечно, – ответил отец, – вот ты с табуретки и следи за ними. Это позволит нам сэкономить немало времени.
* * *
Каждый вечер в шесть часов мы вместе с отцом выходили из школы и по дороге домой беседовали о нашей работе. По пути мы покупали кое-какие недостающие мелочи: столярный клей, винты, банку краски, рашпиль. Мы часто заглядывали к старьевщику, который стал нашим другом. Для меня его лавка была сказочным царством, в котором мне теперь позволялось свободно рыться. Там было все, что угодно, но только не то, что нужно… Входя с намерением купить метелку, мы выходили с корнет-а-пистоном или с дротиком, тем самым, которым, как утверждал наш друг, был убит принц Бонапарт[12]. Лишь только мы входили в дом, мать, по установившемуся обычаю, отнимала у нас нашу добычу, поспешно мыла мне руки и обрабатывала наши трофеи хлоркой. После медицинской обработки я нырял в подвал, где заставал отца с Полем в нашей «мастерской».
Она была освещена керосиновой лампой из слегка помятой меди с горелкой типа «матадор»: круглый фитилек, выходя из медной трубочки, поднимался до своеобразного металлического грибка, который заставлял пламя распускаться пышным цветком. Чтобы вместить его довольно широкие лепестки, стекло, очень точно названное англичанами «дымовой трубой», представляло у основания шар, который произвел на меня большое впечатление. Отец считал эту лампу чудом современной техники, она и впрямь распространяла яркий свет вкупе с крепчайшими современными запахами.
Начали мы со сборки стульев. Нам пришлось решать самую настоящую головоломку: перекладины никак не влезали в предназначенные для них гнезда и к тому же были разной длины.
Мы отправились к старьевщику с протестом. Выразив для начала крайнее удивление, он все же выдал нам целую охапку перекладин, сочтя своим долгом сопроводить их маленьким подарком в виде пары мексиканских стремян.
С помощью огромного количества столярного клея, пластины которого я растворял в теплой воде, были собраны, а потом и покрыты лаком все шесть стульев. Мать сплела для них из толстой веревки сиденья. Идущие по краю три ряда красной тесьмы придали им неожиданную изысканность.
Расставив стулья вокруг обеденного стола, отец долго любовался ими. Потом он объявил, что подновленная таким образом мебель стоит по меньшей мере в пять раз дороже, чем за нее уплачено, и в очередной раз заставил нас изумиться тому, какие исключительные «находки» ему удается отыскивать у торговцев подержанными вещами.
Потом наступила очередь комода, ящики которого так сильно заело, что пришлось его полностью разобрать и взяться за рубанок.
Эта работа продолжалась не больше трех месяцев, но в моей памяти она занимает огромное место, поскольку именно тогда я открыл – при свете горелки «матадор», – насколько умны мои руки и какая чудодейственная сила заключена в самых простых инструментах.
* * *
Одним прекрасным утром, в четверг, мы наконец смогли выставить в подъезде дома всю нашу дачную мебель. В качестве потенциального восторженного зрителя был вызван дядя Жюль, а наш друг-старьевщик прибыл как эксперт.
Дядя восхищался, старьевщик проводил экспертизу. Он похвалил шипы, одобрил пазы и нашел, что склеено все на славу. А поскольку все это ни на что не было похоже, он окрестил этот стиль «деревенский прованс», каковое название получило авторитетную поддержку дяди Жюля.
Мать была в восторге от этой мебели и, как и предсказывал отец, не могла оторвать от нее глаз. Особенно ее умилял столик на одной ножке, который я собственноручно покрыл тройным слоем лака цвета «красного дерева». Он и правда выглядел чудесно, но лучше было на него смотреть, чем трогать: чтобы поднять его и перенести на другое место, требовалось лишь прикоснуться ладонями к его поверхности, как при сеансе спиритизма. Я думаю, этот недостаток был замечен всеми, но никто не сказал ни слова, чтобы не омрачать нашего торжества.
Впрочем, позже я имел удовольствие отметить, что незначительная ошибка может обернуться значительным преимуществом. Поставленный в самом светлом углу столовой, словно редкое произведение мебельного искусства, столик поймал такое количество мух, что обеспечил нам тишину и чистоту на протяжении всех летних каникул, по крайней мере в первый год нашего пребывания на вилле.
Прежде чем уйти, щедрый эксперт открыл старый чемодан, с которым пришел, извлек оттуда громадную трубку, головка которой, вырезанная из корня какого-то дерева, была размером с мою голову, и подарил ее отцу как «курьез». Затем преподнес матери ожерелье из ракушек, которое якобы носила сама королева Ранавалу, и, извинившись, что не предвидел прихода дяди Жюля, который, впрочем, «со временем также получит свое», с манерами истинного вельможи распрощался с нами.
Первые две недели июля тянулись очень медленно.
Мебель ждала в подъезде дома, а мы – в школе, где как могли убивали время.
Учителя читали нам сказки Андерсена или Альфонса Доде, а почти все остальное время мы играли во дворе. Правда, без всякого энтузиазма: наши школьные игры потеряли вдруг прежнее очарование – мы медленно, но верно приближались к поре летних каникул с их бесконечными играми.
Я, как некие заклинания, все повторял про себя «вилла», «сосновая роща», «холмы», «цикады». Правда, немного цикад было и на вершинах школьных платанов, но вблизи я не видел ни одной, отец же обещал мне, что я увижу тьму цикад – к тому же так близко, что их можно будет просто ловить руками… Вот почему, слушая, как стрекочут, дразня нас, эти случайные здесь певицы, спрятавшиеся высоко в листве, я без всякой романтики говорил про себя: «Погоди же, дорогая! Дай только добраться до холмов, уж я тебе соломинку-то в зад воткну!» Такие вот добряки эти восьмилетние «ангелочки».
Как-то вечером дядя Жюль с тетей Розой пожаловали к нам на ужин. Это был ужин-совещание, на котором следовало выработать план назначенного на завтра отъезда.
Дядя Жюль, мнивший себя великим организатором, с ходу заявил, что из-за плачевного состояния дорог нанимать большой фургон не представляется возможным, да и стоило бы это невероятных денег, может быть целых двадцать франков!
А посему он заказал два средства передвижения. Небольшой фургон должен был перевезти его скарб, жену с малышом и его самого за семь с половиной франков.
Эта сумма включала также стоимость рабочей силы – одного грузчика, которому предстояло находиться в нашем распоряжении весь день.
Для нас же дядя Жюль нашел крестьянина по имени Франсуа, ферма которого находилась в нескольких сотнях метров от виллы. Дважды в неделю этот Франсуа приезжал в Марсель на рынок продавать фрукты. На обратном пути он должен был захватить нашу мебель за умеренную цену: четыре франка. Отец был в восторге от сделки, а Поль поинтересовался:
– А мы тоже сядем в повозку?
На что великий организатор отвечал:
– Вы доедете на трамвае до Ла-Барас, а оттуда уж догоните крестьянина pedibus cum jambis[13]. Для Огюстины местечко в повозке найдется, а вот трое мужчин вместе с крестьянином пойдут пешком.
Предложение было принято на ура; затем, часов до одиннадцати, никак не могли наговориться, причем разговор становился все более захватывающим: дядя Жюль делился планами относительно будущей охоты, отец представлял себе, как станет ловить насекомых, так что потом всю ночь напролет я стрелял из ружья в сороконожек, стрекоз и скорпионов.
На следующий день уже с восьми утра все были готовы. Мы, дети, были одеты в свои летние костюмчики: короткие парусиновые штанишки и белые рубашки с коротким рукавом; голубые галстуки делали их нарядными.
Все это было творением маминых рук, и только кепки с большими козырьками и парусиновые туфли на веревочной подошве были куплены в крупном магазине.
Отец был в коротком пиджаке с большими накладными карманами и хлястиком и в синей кепке, а мать – в белом платье в мелкий красный цветочек, которое ей удалось на славу. Вообще, в тот день она выглядела особенно молодой и красивой.
Сестренка в голубом чепчике от беспокойства широко раскрывала огромные черные глаза, видно почувствовав, как это бывает с кошками, что мы собираемся покинуть дом.
Крестьянин заранее предупредил нас: час нашего отъезда будет зависеть не от его желания, а от того, с какой скоростью станут разбирать абрикосы. Как назло, в этот день абрикосы шли неважно: уже наступил полдень, а его все не было.
Наскоро перекусив колбасой и холодным мясом в уже мертвом доме, мы то и дело подбегали к окну, чтобы не прозевать вестника летних каникул.
Наконец он показался.
* * *
Он сидел в голубой повозке, вылинявшей на солнце до такой степени, что из-под краски проглядывали прожилки дерева.
Ее высокие разболтанные колеса, вращаясь, свободно передвигались по оси: когда они доходили до ее конца, что случалось на каждом повороте, раздавался лязг. Железные обручи громыхали по булыжнику мостовой, оглобли стонали, а из-под копыт мула летели искры… Поистине, это была повозка приключений и надежд…
Возничий был без куртки и без рубахи, но в вязаном жилете из толстой, свалявшейся от грязи шерсти, надетом прямо на голое тело. На голове у него красовалась потерявшая всякую форму кепка с измятым козырьком. И при этом ослепительно-белые зубы сверкали на лице римского императора.
Он говорил по-провансальски, смеялся и щелкал длинным кнутом с рукояткой из плетеного камыша.
С помощью отца и вопреки усилиям Поля, который ему страшно мешал (он цеплялся за самые громоздкие вещи, уверяя, что тоже несет), крестьянин погрузил на повозку наш скарб, точнее сказать, соорудил на ней настоящую пирамиду из мебели, обеспечив равновесие с помощью целой сети канатов, веревок и веревочек и прикрыв все дырявой рогожей.
– Теперь готово! – крикнул он по-провансальски и, схватив поводья, попытался заставить мула сдвинуться с места, что удалось ему лишь с помощью нескольких оскорбительных ругательств в адрес бесчувственной твари, которую было не прошибить, даже резко натягивая удила.
Мы пустились вслед за нашим движимым имуществом, словно за катафалком, до улицы Мерентье, где расстались с хозяином повозки и сели на трамвай.
И вот с металлическим скрежетом, дребезжанием стекол и протяжным пронзительным визгом на поворотах чудесная машина помчалась вперед навстречу будущему.
Не найдя свободного места в вагоне, мы остались стоять – о счастье! – на передней площадке. Я видел перед собой спину «wattman»[14]: положив руки на рычаги, он с невозмутимым спокойствием то поощрял, то сдерживал порывы железного чудовища.
Я был зачарован этим всемогущим волшебником, чьи действия были покрыты мраком таинственности: эмалированная табличка строго-настрого запрещала кому бы то ни было обращаться к нему – не иначе как он знал слишком много секретов.
Медленно, но верно, пользуясь тряской и толчками, я протискивался между пассажирами и наконец добрался до него, бросив Поля на произвол судьбы: бедного малыша, застрявшего между длинными ногами двух жандармов, при каждом толчке бросало вперед, так что он утыкался лицом в ягодицы упитанной дамы, которая еще и угрожающе покачивалась.
Сверкающие рельсы стремительно мчались прямо на меня, порывом встречного ветра вывернуло козырек кепки, в ушах гудело; всего две секунды – и уже далеко позади остался скачущий конь.
Никогда позже, даже на самых современных машинах, я не испытывал такого торжествующего чувства гордости оттого, что я, маленький человек, – победитель времени и пространства.
Но этот метеор из железа и стали, приближаясь к заветным холмам, не довез нас до конца: нам пришлось расстаться с ним на самой дальней окраине Марселя, в Ла-Барас, а он продолжил свой бешеный бег по направлению к Обани.
Отец развернул план и повел нас к развилке узкой пыльной дороги, которая бежала мимо двух трактиров, стремясь прочь из города: мы бодрым шагом двинулись по ней вслед за Жозефом, который нес на плечах нашу сестренку.
До чего хороша была эта провансальская дорога! Она шла себе меж двух каменных стен, выжженных солнцем. Сверху к нам склонялись широкие листья смоковницы, густые плети ломоноса, ветви вековых олив. Буйная кайма дикорастущих трав и колючих кустарников у подножия стен свидетельствовала о том, что усердие дорожного смотрителя куда посредственнее самой дороги.
Я слышал пение цикад, на стене цвета дикого меда раскрытыми ртами пили солнце застывшие «лармезы». Это были маленькие серые ящерки, блестевшие так, будто они высечены из графита. Поль тотчас взялся охотиться на них, но добыл лишь их трепещущие хвостики. Отец объяснил нам, что эти прелестные существа столь же охотно расстаются со своими хвостами, как и воры, что оставляют свои пиджаки в руках поймавших их полицейских. Впрочем, дня через три у них отрастают новые хвостики – на случай нового бегства…
Через час ходьбы наша дорога пересеклась с другой, и мы оказались на своеобразной круглой площади, где не было ни души. Зато там имелась каменная скамья. Мы усадили на нее мать, и отец развернул план:
– Вот место, где мы сошли с трамвая, тут мы находимся теперь. А здесь перекресток Четырех времен года, где нас будет дожидаться наш возница, а может статься, что и мы его.
Я с удивлением смотрел на двойную линию, изображавшую нашу дорогу: она делала огромный крюк.
– С ума, что ли, сошли дорожные строители, что проложили такую изогнутую дорогу?
– Это не дорожники сошли с ума, – возразил отец, – а наше нелепое общество!
– Почему? – спросила мать.
– Потому что этот огромный крюк мы вынуждены делать из-за трех-четырех крупных поместий, через которые не разрешили проложить дорогу их хозяева: они находятся за этими стенами… Вот, – указал он точку на карте, – это наша вилла… Если напрямик, она от Ла-Барас находится всего в четырех километрах, но из-за нескольких крупных собственников нам придется отмахать целых девять.
– Для детей многовато, – сказала мать.
Но я считал, что многовато для нее, а не для нас. Вот почему, когда отец встал, чтоб идти дальше, я выпросил еще несколько минут передышки, сославшись на боль в щиколотке.
Наш путь еще целый час пролегал вдоль стен, между которыми мы были вынуждены катиться, словно шарики из игры в лабиринт…
Поль снова принялся было охотиться за хвостами ящериц, но мать отговорила его несколькими весьма трогательными фразами, отчего у малыша на глазах выступили слезы. В результате он заменил эту игру поимкой кузнечиков, которых давил меж двух камней.
Тем временем отец объяснял матери, что в обществе будущего все дворцы превратятся в больницы, все стены снесут и будут проложены только прямые дороги.
– Значит, ты хочешь, чтобы повторилась революция?
– Не революции я хочу. «Революция» – неудачное слово, оно изначально обозначает «полный оборот». То есть те, кто наверху, спускаются до самого низа, а потом поднимаются на прежнее место… и все начинается сызнова. Эти несправедливо возведенные стены появились вовсе не при старом режиме, наша Республика их не только терпит, но сама же и построила!
Я обожал эти социально-политические речи отца, которые понимал по-своему, и недоумевал, отчего президенту Республики никогда не приходило в голову позвать Жозефа в советчики, хотя бы во время каникул: за какие-нибудь три недели отец осчастливил бы все человечество.
Мы вдруг вышли на другую дорогу: она была гораздо шире прежней, но, пожалуй, не в лучшем состоянии.
– Мы почти дошли до места встречи, – сказал отец, – платаны, которые ты видишь вон там, стоят как раз на перекрестке Четырех времен года… Посмотрите сюда! – неожиданно воскликнул он, указывая на густую траву у основания стены. – Вот и обещание благих начинаний!
В траве валялись длиннющие проржавевшие железяки.
– Что это такое? – спросил я.
– Рельсы, – ответил отец, – рельсы для будущей трамвайной линии. Осталось только проложить их!
Рельсы лежали вдоль всей дороги, но скрывавшая их растительность красноречиво свидетельствовала о том, что строители не спешили прокладывать здесь трамвайную линию.
Мы дошли наконец до деревенского кафе «Четыре времени года». Это был маленький домик, приютившийся на развилке под двумя огромными платанами за высоким фонтаном из замшелого, грубо обтесанного камня. Сверкающие струйки, льющиеся из четырех изогнутых трубок, мурлыкали в тени свою прохладную песенку.
Хорошо было бы посидеть под кронами платанов за маленькими зелеными столиками, но мы не попались в эту «западню», в прелести которой скрывалась как раз ее главная опасность.
* * *
Мы прошли мимо и сели на парапет у обочины дороги. Мать развернула сверток с едой, и мы стали уплетать хрустящий золотистый, как встарь, хлеб, нежную колбасу с белыми прожилками, в которой я отыскивал зерна перца, вкрапленные в нее, как заветный боб в рождественский пирог, и апельсины, которые по пути к нам долго качало по волнам на испанских баланчеллах.
– Жозеф, это очень далеко! – между тем озабоченно говорила мать.
– А ведь мы еще не дошли! – весело отвечал отец. – Впереди не меньше часа ходьбы!
– Сегодня мы без вещей, а когда нужно будет тащить продукты…
– Дотащим, – постарался успокоить ее отец.
– Мама, – сказал Поль, – нас же трое мужчин. Тебе не придется ничего носить.
– Конечно, – подтвердил отец, – прогулки, правда, длинноватые, но очень полезные для здоровья! К тому же мы будем приезжать туда только на Рождество, на Пасху и на летние каникулы, всего три раза в год! Будем выходить рано утром, завтракать где-нибудь на травке на полпути. Потом еще разок остановимся перекусить. К тому же ты сама видела рельсы. Я поговорю с братом Мишеля, журналистом: недопустимо, чтоб рельсы так долго валялись и ржавели. Держу пари, не пройдет и полгода, как трамвай будет доставлять нас до самого Ла-Круа, что в шестистах метрах отсюда, а от него меньше часа ходьбы.
При этих словах я представил себе, как из травы выскакивают рельсы и сами укладываются на булыжник, а издали доносится приглушенное громыхание трамвая…
* * *
Однако, подняв голову, я увидел, что приближается не мощная машина, а шаткая пирамида нашей мебели.
Поль радостно вскрикнул и побежал навстречу мулу: крестьянин подхватил его и усадил верхом на шею вьючного животного… и вот так, верхом, крепко ухватившись за хомут, опьянев от гордости и страха, улыбаясь какой-то странной улыбкой, порожденной не то радостью, не то ужасом, малыш доехал до нас. Мной овладела постыдная зависть.
Повозка остановилась.
– А теперь мы усадим госпожу, – сказал крестьянин.
Свернув вчетверо мешок, он положил его на передок повозки у самых оглобель. Отец помог устроиться матери, которая села свесив ноги, примостил у нее на руках сестренку, чей рот был красочно измазан шоколадом, а сам зашагал рядом с ними. Я же, взобравшись на парапет, пританцовывая, шел следом.
Поль, совсем успокоившийся и торжествующий, грациозно раскачивался взад и вперед в такт шагам мула, а я с большим трудом удерживался от жгучего желания вскочить на мула позади него.
Горизонт был скрыт высоким и густым корабельным лесом, который тянулся по сторонам извилистой дороги.
После двадцати минут ходьбы перед нами внезапно открылся вид на деревушку, примостившуюся на самом верху холма между двумя ложбинами.
Справа и слева пейзаж замыкали два крутых каменистых склона, которые в Провансе называют «бары».
– Вот и деревушка Ла-Трей! – сказал отец.
Впереди дорога круто поднималась вверх.
– Здесь, – проговорил крестьянин, – госпоже придется сойти, а нам подтолкнуть повозку.
Мул и сам уже остановился, мать соскочила на пыльную дорогу, крестьянин снял Поля с его трона, а потом, открыв под днищем телеги нечто вроде ящика, вынул оттуда два больших деревянных клина и протянул один из них удивленной матери.
– Это тормозные колодки. Как скажу, подкладывайте одну сзади под колесо вот с этой стороны!
Мать засветилась от возможности участвовать в деле наравне с мужчинами и взяла огромную колодку в свои маленькие ручки.
– А я, – заявил Поль, – подложу с той стороны.
Его предложение было принято, а я очень обиделся на это еще одно нарушение прав старшинства. Но я взял ослепительный реванш, когда крестьянин протянул мне свой кнут, огромный кнут возницы, и сказал:
– А ты будешь хлестать мула.
– По заду?
– Да по всему, и рукояткой тоже!
После чего он поплевал на ладони, втянул голову в плечи и, вытянув руки вперед, уперся ими в задок повозки: тело его приняло почти горизонтальное положение. Отец по собственной инициативе принял такую же позу. Затем крестьянин, прокричав в адрес мула несколько очень обидных ругательств, велел мне: «Пико! Пико!» («Бей! Бей!») – и изо всех сил толкнул повозку. Я ударил животное, но не больно, а просто чтобы подать ему знак, мол, нужно поднатужиться: экипаж сдвинулся с места и прошел метров тридцать. Тут крестьянин, не поднимая головы, между двумя выдохами крикнул:
– Колодку! Колодку!
Мать, которая шла рядом с колесом, живо подсунула деревянный клин под железный обруч. Поль с замечательной ловкостью сделал то же самое с другой стороны, и повозка остановилась на пятиминутный отдых. Крестьянин воспользовался перерывом, чтобы сказать мне, что бить нужно гораздо сильнее и лучше по брюху.
– Нет! Нет, не хочу! – завопил вдруг Поль.
Отец совсем было умилился доброте малыша, и тут Поль, показывая пальцем на крестьянина, который того не ожидал, вдруг закричал:
– Ему надо выколоть глаза!
– Ого! – негодующе промолвил Франсуа. – Выколоть глаза мне? Это еще что за дикарь? По-моему, его следует запереть в ящик! – и сделал вид, что открывает ящик.
Поль отскочил и вцепился в отцовские брюки.
– Вот что получается, – веско проговорил отец, – когда хочешь выколоть глаза человеку. Конец один – тебя запрут в ящик!
– Это неправда, – заревел Поль, – я не хочу!
– Сударь, – вмешалась тут мать, – может быть, мы подождем немножко? Я полагаю, что он сказал так не всерьез!
– А, не всерьез… – отвечал Франсуа, – но даже в шутку такие вещи не говорят! Выколоть мне глаза! И как раз в тот день, когда я купил себе очки от солнца! – С этими словами он достал из кармана пенсне с темными стеклами, какие разносчики продают на базаре за четыре су.
– Ты все равно сможешь их носить, – заметил Поль с почтительного расстояния.
– Подумай, несчастный, – прозвучало в ответ, – ежели у тебя выколоты глаза, да ты еще напялил черные очки, что ж ты можешь увидеть? Ну да ладно, на первый раз тебе прощается… Вперед!
Все вновь заняли свои места. Я не очень сильно ударил мула по брюху, но при этом неистово заорал ему прямо в ухо, а крестьянин в это время обзывал его «клячей», «падалью» и почему-то не совсем почтительно отзывался о его матери.
Собрав все наши силы, мы добрались наконец до деревушки: от красноватой продолговатой черепицы ее крыш веяло стариной, в толстых стенах были прорублены узкие окошки.
Слева над долиной нависла площадка, поддерживаемая сгорбившейся стеной высотой чуть ли не в десять метров и окаймленная платанами. Справа шла улица. Я бы назвал ее главной, будь там какая-нибудь другая. Правда, был еще и переулочек: длиной всего метров в десять, но умудрившийся дважды круто изогнуться, прежде чем выйти на деревенскую площадь. Размером меньше школьного двора, эта крохотная площадь скрывалась под сенью древней шелковицы с изрытым глубокими трещинами стволом и двух акаций: стремясь навстречу солнцу, они старались перерасти колокольню.
В середине площади сам с собой беседовал фонтан. Это была двустворчатая раковина, выточенная прямо из камня. Словно розетка подсвечника, она была прикреплена к квадратному столбу с торчавшей из него медной трубочкой.
Франсуа распряг мула (повозка не прошла бы далее) и повел его к фонтану: бедняга-мул очень долго пил, не переставая похлестывать хвостом по бокам.
Мимо прошел какой-то крестьянин. Он был худощав, но огромного роста. Из-под затвердевшей от грязи фетровой шляпы торчала пара рыжих бровей, огромных, как ржаные колосья. Маленькие черные глазки сверкали, будто из глубины туннеля. Широкие рыжие усы скрывали рот, а щеки были покрыты щетиной недельной давности. Проходя мимо мула, он выразительно сплюнул, но при этом ничего не добавил. Потом демонстративно отвел взгляд и удалился неуклюжей походкой.
– Какой несимпатичный тип, а! – сказал отец.
– У нас не все такие, – отвечал Франсуа, – этот желает мне зла, потому что он мой родной брат.
Считая, что этим все сказано и других объяснений не требуется, он увел мула прочь; уходя, тот обронил несколько лепешек, а под конец вывернул прямую кишку наружу красным помидором.
Я испугался, что он от этого помрет, но отец успокоил меня:
– Он это делает из соображений гигиены. Это его манера соблюдать чистоплотность.
Мул снова был запряжен, и мы двинулись вслед за ним. Тут-то и началось волшебство: я вдруг ощутил, как во мне рождается любовь, которой предстояло длиться всю мою жизнь.
Перед моими глазами предстала необъятная картина, тянущаяся полукругом до самого неба: черные сосновые леса, отделенные друг от друга ложбинами, как волны, замирали у ног трех каменных великанов.
Дорога вилась по гребню меж двух впадин, на всем протяжении пути нас сопровождали небольшие пологие холмы. Огромная черная птица, застыв в воздухе, словно обозначила середину неба; отовсюду доносилось медное стрекотание цикад, казалось, что над нами раскинулось море музыки. Цикады спешили жить, зная, что вечером за ними придет смерть.
Крестьянин указал на вершины гор, которые подпирали небо в глубине открывшегося нам вида. Слева, в лучах заходящего солнца, ярко сверкала белая вершина, венчавшая красноватый конус.
– Вот это – Красная Макушка, – проговорил он.
Справа, чуть повыше, голубела другая вершина. Она состояла из трех будто нанизанных на один стержень террас, которые расширялись книзу, совсем как три волана на меховой пелерине мадемуазель Гимар.
– А это – Ле-Тауме, – сказал крестьянин и, пока мы любовались этим великаном, добавил: – Его еще называют Ле-Тюбе.
– А что это значит? – поинтересовался отец.
– Это значит, что его называют Ле-Тюбе или Ле-Тауме.
– Но откуда взялись эти названия?
– Оттуда и взялись. А почему их два, никто не знает. Вот ведь и у вас, и у меня по два имени.
Желая разделаться с этим научным объяснением, кстати показавшимся мне отнюдь не бесспорным, он звонко щелкнул кнутом прямо над ухом мула, тот ответил ему выразительной пальбой.
Справа, в глубине пейзажа, значительно дальше, высоко в небе терялась цепь холмов, державшая на своих плечах третью вершину, которая, слегка откинувшись назад, возвышалась над всей округой.
– А это Гарлабан. Обань с той стороны, у самого ее подножия.
– А я родился в Обани, – проговорил я.
– Значит, ты здешний.
Я с гордостью взглянул на своих родных и с окрепшей нежностью обвел взором благородный пейзаж.
– А я родился в Сен-Лу, – забеспокоился Поль, – я тоже здешний, а?
– Отчасти да, хотя не очень, – ответил крестьянин.
Поль, обидевшись, спрятался за меня. И поскольку он уже неплохо владел родным языком, тихо прошептал:
– Ишь старый болван!
Уже не было видно ни деревушки, ни фермы, да и вообще ни одной лачужки, а вместо дороги у нас под ногами шли две пыльные колеи, разделенные полосой высоких диких трав, которые щекотали брюхо мула.
Круто обрывающийся вниз склон справа порос высокими соснами-красавицами, возвышавшимися над густыми зарослями кермесовых дубков: дубки эти не выше обычного стола, но у них настоящие дубовые желуди, как у карликов нормальные человеческие головы.
За ложбиной красовался продолговатый холм с тремя уходящими вглубь уступами, ни дать ни взять трехпалубный корабль. На этих уступах полосами расположились три сосновые рощи, разделенные отвесами ослепительно-белых скал.
– А это бары Святого Духа, – продолжал крестьянин.
Заслышав это название, столь откровенно отдающее «мракобесием», отец повел своими сугубо светскими бровями и спросил:
– А что, народ здесь очень набожный?
– Есть немножко, – ответил крестьянин.
– А вы по воскресеньям в церковь ходите?
– Когда как… Когда засуха, я лично не хожу до тех пор, пока не пойдет дождь. Надо же как-нибудь Боженьке дать понять…
Я хотел было открыть ему, что Бога не существует, о чем я знал из самого достоверного источника, но раз безмолвствовал отец, скромно промолчал и я.
Я вдруг заметил, что матери трудно идти в ее ботинках с пуговицами, на каблуках в стиле Людовика Пятнадцатого. Не говоря ни слова, я догнал повозку и не без труда вытащил из-под веревки чемоданчик, лежавший сзади.
– Что ты делаешь? – удивленно спросила она.
Я положил чемоданчик на землю и вынул ее туфельки на веревочной подошве. Они были не больше моих. Она улыбнулась мне чудесной нежной улыбкой и сказала:
– Глупенький, мы же не можем здесь останавливаться!
– Почему? Мы их догоним!
Присев на камне у дороги, она переобулась под присмотром Поля, вернувшегося для того, чтобы проследить за этой процедурой, которая с точки зрения приличий казалась ему довольно смелой: он даже посмотрел по сторонам, желая убедиться, что никто не видит маминых ног в одних чулках.
Мать взяла нас за руки, мы бегом догнали повозку, и я пристроил на прежнее место ценную кладь.
«Какая мама маленькая! – подумалось мне. – На вид лет пятнадцать, не больше». Щеки ее порозовели, и еще я с удовольствием отметил, что икры ее стали казаться не такими детскими.
Дорога поднималась все выше, мы приближались к соснам.
Слева узкими уступами вниз до самого дна зеленеющей ложбины спускался косогор.
– У этого места тоже два названия, – между тем рассказывал крестьянин отцу. – Его называют Ле-Вала или Ручей.
– Ого! – обрадовался отец. – Тут есть ручей?
– Конечно есть, да еще какой!
– Дети, в ложбине есть ручей! – обернувшись к нам, проговорил отец.
– Разумеется, после дождя… – также обернувшись к нам, прибавил крестьянин.
На уступах Ле-Вала повсюду гнездами – в пять-шесть стволов от одного корня – стояли оливы. Росли они, слегка откинувшись назад, чтобы было где распустить единым пышным букетом свою листву. Тут были и миндальные деревья с нежно-зеленой листвой, и абрикосовые – с блестящими листьями.
Я не знал, как называются эти деревья, но сразу же полюбил их.
Между деревьями предоставленная самой себе земля заросла желто-бурой травой; крестьянин сообщил, что это бауко. Она походила на пересохшее сено, но таков уж ее природный цвет. Весной, желая разделить всеобщее ликование, она старается и чуть зеленеет. Но несмотря на чахлый вид, трава эта живучая и крепкая, как все растения, которые ни на что не пригодны.
Здесь же я впервые приметил темно-зеленые кустики, торчащие из бауко и напоминающие крохотные оливы. Стоило мне дотронуться до их маленьких листочков, как сильный незнакомый аромат, густой и острый, будто облако, окутал меня всего.
Это был тимьян, что растет меж камней провансальской гарриги: его скромные кустики спустились мне навстречу, чтобы возвестить маленькому школьнику об аромате, которым будут напоены для него страницы Вергилия[15].
Я сорвал несколько веточек и, держа их у самого носа, догнал повозку.
– Что это такое? – спросила мать, взяв веточки, и вдохнула исходящий от них аромат. – Да это тимьян, у нас будут чудесные рагу из крольчатины.
– С тимьяном-то! – пренебрежительно бросил Франсуа. – «Пебрдай» гораздо лучше.
– А это что такое?
– Что-то вроде тимьяна и в то же время напоминает мяту. Объяснить невозможно. Я вам просто покажу!
Потом он рассказал о майоране, розмарине, шалфее, фенхеле. О том, что ими нужно «нафаршировать брюхо зайца» или же «нарубить их мелко-мелко» вместе с «большим куском сала».
Мать с большим интересом внимала ему. Я же вдыхал божественный аромат этих веточек, и мне было стыдно слушать их.
Дорога все поднималась вверх, иногда пересекая небольшие плато. Обернувшись назад, можно было увидеть длинную долину реки Ювон, которая тянулась до сверкающего вдали моря под дымчатой пеленой тумана.
Поль шнырял по сторонам и бил камнем по стволам миндальных деревьев, откуда, неистово стрекоча, срывались целые стаи цикад.
Нам предстояло одолеть еще один, последний подъем, такой же крута, как и первый. Под градом ударов кнута мул, то сгибая спину дугой, то резко распрямляя ее и мотая головой из стороны в сторону при каждом рывке, дотащил-таки до самого верха шатающуюся повозку, груз которой раскачивался, как стрелка метронома, срезая попадавшиеся на его пути оливковые ветки. Одна ветка оказалась крепче ножки стола, та внезапно сломалась и свалилась прямо на макушку отца, отчего у него загудело в голове.
Пока мать старалась предотвратить появление шишки, прижимая к ушибленному месту монетку в два су, Поль, весело приплясывая, хохотал до слез. Я же поднял ножку стола, виновницу происшедшего, и с удовольствием убедился, что место разлома получилось длинным и косым, а значит, стол можно будет без труда починить. Я поспешил с этой утешительной вестью к отцу, который морщился под гнетом Наполеона Третьего, изображенного на монетке.
Мы догнали повозку, которую Франсуа остановил, чтобы дать передохнуть измученному мулу, на самом верху подъема, в рощице. Мул шумно дышал, раздувая свои тощие бока, напоминавшие обручи в мешке; нити прозрачной слюны стекали с его длинной, словно резиновой, нижней губы.
Отец левой рукой (правой он все еще потирал ушибленную голову) показал нам домик на противоположном склоне, наполовину скрытый большой смоковницей:
– Вот, это и есть Бастид-Нев, наше пристанище на каникулы! Сад слева тоже наш!
Сад, огороженный ржавой проволочной сеткой, имел по меньшей мере сто метров в ширину.
Я ничего не мог различить, кроме рощицы из оливковых и миндальных деревьев, разросшиеся ветки которых сплелись над густыми зарослями колючего кустарника. Да ведь этот девственный лес в миниатюре я видел во всех своих снах! С радостным криком я бросился вперед, Поль последовал за мною.
Между домом и огромной смоковницей стоял небольшой фургон, пара лошадей с хрустом жевала овес прямо из торб, привязанных к их ушам.
Дядя Жюль, сняв пиджак и засучив рукава рубашки, заканчивал разгрузку своей мебели, то есть опрокидывал ее с задка фургона на могучую спину грузчика.
Тетя Роза, устроившись в плетеном кресле на террасе перед домом, кормила из бутылочки кузена Пьера, который проявлял свой восторг, шевеля пальцами ножек.
Дядя Жюль здорово раскраснелся и был весел как никогда: он говорил громким голосом, и его «р-р-р» были подобны раскатам грома. На круглом железном столике стояли две пустые бутылки, а третья была опорожнена только наполовину.
– А, вот и вы, Жозеф! – ликующе закричал он. – Наконец-то! Я уже начал беспокоиться, что вы потерпели крушение по дороге.
– А вы, я вижу, тут не скучали, – довольно прохладно промолвил отец, указывая на три бутылки.
– Дорогой мой, – отвечал ему дядя, – имейте в виду: вино – вещь необходимая для человека физического труда, а для грузчиков в особенности. Я имею в виду «натуральное» вино, а это вино как раз такое, оно из моего винограда! Впрочем, вы и сами после разгрузки мебели с удовольствием опрокинете целую кружку!
– Дорогой Жюль, – возразил ему отец, – я, пожалуй, и приму пару капель, чтобы отдать должное вашей продукции, но уж никак не целую кружку, как вы изволили выразиться. В кружке такого вина, вероятно, содержится не менее пяти сантилитров[16] чистого алкоголя, а я еще не настолько привык к этому яду, чтобы перенести дозу, от которой, если ввести ее подкожно, подохнут три здоровенных пса. Впрочем, взгляните, до чего довел алкоголь этого человека! – Он указал на грузчика.
Тот, посасывая обвисшие усы, с покрасневшими глазами, пошатываясь и прерывисто дыша, приближался в эту минуту к фургону. Захватив одной рукой тумбочку, а другой два стула, он попытался с разбега проскочить в дверь, но застрял: с обеих сторон послышался треск, и его огромное пузо разразилось громогласным звуком.
Мать, желая скрыть смех, отвернулась, а тетя не удержалась и прыснула. Поль был в полном восторге, мне же было не до смеха: я испугался, что грузчик вот-вот упадет вместе с обломками мебели, корчась в предсмертных судорогах.
Вместо того чтобы броситься на помощь несчастному, ужасную печень которого я себе ясно представлял, дядя Жюль, побагровев от гнева, закричал:
– Куда прешь! Черт побери, да разве так можно?.. Ты что, не видишь, что дверь слишком узкая?..
– Вот именно, – заикал грузчик в ответ, – да ведь не я ее сделал.
– Наш друг прав, – вмешался отец, – не он смастерил эту дверь, как и самого себя… А раз они несовместимы, не имеет смысла упорствовать. Впрочем, вашу мебель уже разгрузили, а я обойдусь без него. К тому же он наверняка устал, и, так как его рабочий день кончился, лучше всего ему вернуться в город.
– Прекрасная мысль, – согласился грузчик. – Уже больше пяти, а я отец семейства, да еще с грыжей в придачу. Может быть, вы не верите; если хотите, могу показать.
– Пьяница и дурак, – заметил на это дядя Жюль.
– Дать бы вам по морде… Не знаю, что меня удерживает. – В голосе отца семейства, к тому же обладателя грыжи, появились угрожающие нотки.
Мать и тетя в испуге вскочили, отец встал между повздорившими мужчинами, но грузчик принялся отталкивать его, повторяя:
– Не знаю, что меня удерживает!
Поль, побледнев, спрятался за ствол смоковницы. Я искал глазами камень поострее, когда чей-то голос проговорил:
– А взгляни-ка сюда, и увидишь, что тебя удерживает!
Это был Франсуа: он медленно, очень спокойно приближался, держа в руке «таравеллу» – дубинку из крепкого дерева, служащую рычагом лебедки на задке телеги.
– Чего? Чего? – обернулся к нему взбешенный грузчик.
– Не «чего», а «из чего»! Из дерева! – прозвучало в ответ.
– Ого! – вырвалось у грузчика.
– Вот тебе и «ого»! – проговорил Франсуа, с видом знатока взвешивая дубинку в руке. И добавил, обернувшись к дяде Жюлю: – Вы ему заплатили?
– Еще нет, я ему должен семь с половиной франков.
– Заплатите! – велел Франсуа.
Дядя Жюль протянул пьянице три серебряные монетки.
– А на чай? – спросил работяга.
– Вы уже достаточно выпили, и, поверьте мне, это вам не на пользу, – попытался образумить его отец.
– Все вы сволочи, – постановил грузчик.
– Ну-ка, марш отсюда! – гаркнул Франсуа. – Садись на свою подводу да проваливай. Я помогу тебе развернуться, – добавил он да так взглянул на возницу, что тот вдруг сбавил тон.
– Ты, – сказал он, – настоящий друг, ты понимаешь жизнь. А эти буржуи, у-у-у! Я, может быть, проткнул кишки этой проклятой тумбочкой, а они даже на чай не дают. Но у них этот номер не пройдет! Им придется заплатить дороже самих налогов!
Пока Франсуа занимался лошадьми, крепко держа их под уздцы, грузчик с великим трудом собрал вожжи, а когда лошади были повернуты в нужном направлении, стал угрожать нам кулаком и слать в наш адрес проклятия. Франсуа достал кнут и с диким криком изо всех сил стеганул лошадей. В облаке пыли, под проклятия и треск фургон умчался в прошлое.
Начались самые счастливые дни моей жизни. Дом назывался Бастид-Нев, то есть Новая бастида[17], но новым он был уже давным-давно. Когда-то это была ферма, потом она пришла в упадок, превратилась в развалину, а тридцать лет назад была заново отстроена неким городским жителем, который торговал парусиной для тентов, половыми тряпками и вениками. Отец и дядя Жюль должны были платить ему по восемьдесят франков (то есть четыре луидора) в год, их жены считали такую плату завышенной. Зато дом выглядел как вилла, и вода была проведена «прямо в кухню»: дело в том, что смелый торговец вениками соорудил огромный резервуар для воды, плотно примыкающий к задней стене дома, такой же точно ширины и почти такой же высоты, как само здание, и стоило повернуть медный кран над раковиной, как сразу начинала течь прозрачная холодная вода…
Это была невероятная роскошь, и лишь позже я понял, что за чудо этот кран: от деревенского фонтана до далеких хребтов Этуаль простиралась страна жажды, на протяжении двадцати километров имелось не больше дюжины колодцев, бóльшая часть которых пересыхала уже в мае, да три-четыре родничка, укрытые в небольших пещерах, где из трещины в скале по мху, как по бороде, тихо стекала вода.
Вот почему, когда крестьянка, приносившая нам яйца или горох, входила в кухню, она, качая головой, долго не сводила глаз со сверкающего крана, символизирующего прогресс.
На первом этаже находилась огромная столовая (размером, пожалуй, метров пять на четыре), которую украшал небольшой камин из настоящего мрамора.
Лестница с поворотом вела на второй этаж, состоявший из четырех комнат. Окна этих комнат, являя чудо современной техники, были снабжены подвижными рамами с тонкой металлической сеткой для защиты от ночных насекомых, расположенными между ставнями и стеклами.
Освещение обеспечивали керосиновые лампы и, на случай необходимости, свечи. Но так как мы почти всегда ужинали на террасе перед домом, под смоковницей, то чаще всего мы пользовались лампой «летучая мышь».
Ах, что за чудо была эта «летучая мышь»! Как-то вечером отец вынул ее из большой картонной коробки, заправил керосином и зажег фитиль: вспыхнуло плоское, формой напоминающее миндальный орех пламя, которое он покрыл «стеклом». Потом все это он поместил в яйцеобразный никелированный каркас с металлической крышкой: эта крышка была ловушкой для ветра; вся в дырочках, она пропускала ночной ветерок, закручивала его и проталкивала уже обессиленным к невозмутимому пламени, которое его пожирало…
Когда я увидел, как на ветке смоковницы горит она, «летучая мышь», горит безмятежно, как лампадка на алтаре, я даже забыл о супе с сыром и решил, что свою жизнь посвящу науке… Этот ослепительный миндальный орех до сих пор заливает светом мое детство, и маяк Планье, который я посетил десять лет спустя, вряд ли поразил меня больше.
Впрочем, как и Планье, привлекавший перепелов и чибисов, лампа манила к себе всех ночных насекомых. Стоило повесить ее, как вокруг тотчас начинала виться стайка мотыльков-толстячков, тени которых плясали на скатерти: сгорая от обреченной любви, они уже зажаренными падали прямо в наши тарелки.
Были также и огромные осы, называемые «кабридан», которых мы оглушали салфетками, опрокидывая стаканы, а порой и графин. Жуки-дровосеки и жуки-олени появлялись из ночной тьмы с такой скоростью, как будто кто-то выстреливал ими из рогатки, и, звонко стукнувшись о лампу, падали в супницу. Жуки-олени, черные, глянцевые, выставляли вперед свои огромные, загнутые на концах рога, похожие на плоскогубцы: это чудовищное оружие было неподвижным и совершенно бесполезным для них, зато за него было очень удобно цеплять веревочную упряжь, и тогда взнузданный жук без труда тащил по клеенке огромный по сравнению с ним утюг.
Сад был не что иное, как очень старый, запущенный фруктовый сад, огороженный металлической сеткой, какие обычно идут на изготовление курятника, по большей части изъеденной ржавчиной. Зато само название «сад» было под стать названию «вилла».
К тому же дядя наградил титулом «горничной» крестьянку придурковатого вида, которая приходила после обеда мыть посуду, а иногда и стирать белье, что давало ей заодно возможность отмыть руки. Таким образом, нас можно было по трем признакам отнести к высшему сословию – сословию респектабельных буржуа.
Перед садом простирались скудные пшеничные или ржаные поля, окаймленные тысячелетними оливами.
За домом тянулись сосновые леса, образующие темные островки в необъятной гарриге, которая простиралась по холмам, ложбинам и плоскогорьям вплоть до горного хребта Сент-Виктуар.
Бастид-Нев была последней постройкой на пороге пустыни, и можно было пройти целых сорок километров, не увидев ничего, кроме трех-четырех низких полуразвалившихся средневековых ферм и нескольких заброшенных овчарен.
Утомившись за день от игр, мы ложились спать рано, а Поля, размякшего, как тряпичная кукла, приходилось уносить на руках: я едва успевал подхватывать его, когда он, с недоеденным яблоком или бананом в судорожно сжатом кулачке, чуть не падал со стула.
Каждый день, ложась в постель, я уже в полусознательном состоянии давал себе слово на следующее утро встать ни свет ни заря, чтобы не потерять ни минуты чудесного завтра. Но открывал глаза лишь часам к семи, сердитый и недовольный собой, ворча, словно опаздывал на поезд.
И тут же будил Поля: лежа лицом к стене, он сначала бормотал что-то невнятное, но не мог устоять перед распахнутым под звонкий стук массивных деревянных ставен окном, в которое врывались ослепительно-яркий свет, пение цикад и запахи гарриги, отчего комната сразу становилась просторнее.
Мы, голышом, с одеждой в руках, спускались вниз.
К кухонному крану отец приспособил длинный резиновый шланг. Он был проведен через окно прямо на террасу и заканчивался медным наконечником.
Мы обливали друг друга с ног до головы, сперва я Поля, а потом он меня. Эта процедура была гениальным изобретением моего отца, и ужасное «умывание» превратилось в игру, которая продолжалась до тех пор, пока мать не кричала нам: «Хватит! Когда опустеет резервуар, нам придется уехать!»
После этой страшной угрозы она перекрывала кран. Мы быстро проглатывали тартинки, выпивали кофе с молоком, и приключения начинались.
Выходить из сада было запрещено, но за нами не следили. Мать была уверена, что через ограду нам не пролезть, а тетя была в рабстве у кузена Пьера. Отец часто ходил в деревню за покупками или бродил по холмам, собирая травы. А дядя Жюль три дня в неделю проводил в городе, потому что у него было всего двадцать дней отпуска, который он таким образом растягивал на два месяца.
Так что, предоставленные по большей части самим себе, мы поднимались, случалось, и до опушки соснового леса. Но эти вылазки, в которых мы всегда держались начеку и в которые всегда брали с собой нож, часто кончались паническим отступлением обратно к дому из-за внезапной встречи с удавом, львом или пещерным медведем.
Первой нашей игрой была охота на цикад, которые, стрекоча, сосали сок миндальных деревьев. Вначале им удавалось ускользнуть от нас, но вскоре мы так приспособились ловить их, что возвращались домой в музыкальном сопровождении: они целыми дюжинами продолжали стрекотать в наших подрагивающих карманах. Ловили мы также бабочек-сфинксов с двумя хвостиками и большущими белыми крыльями с голубой каймой, которые оставляли на пальцах серебряную пыльцу.
Несколько дней подряд мы бросали на съедение львам христиан, то есть целыми горстями кидали маленьких кузнечиков в алмазную паутину огромных, словно из черного в желтую полоску бархата пауков: те за несколько секунд облачали своих жертв в шелка, очень деликатно сверлили дырочку в их голове и долго, с наслаждением гурманов сосали из них сок.
В перерывах между этими детскими забавами мы объедались сладким, изумительно липким лакомством – прозрачно-желтой, как мед, смолой миндального дерева, – которое дядя Жюль настоятельно не рекомендовал употреблять в пищу, утверждая, что этот клей «в конце концов склеит нам все кишки!».
Отец, радея о нашем продвижении на поприще знаний, порекомендовал нам отказаться от бессмысленных игр и посоветовал внимательно присмотреться к нравам насекомых, начиная с муравьев, в которых усматривал образец поведения примерных граждан.
Вот почему на другое утро мы долго очищали от травы и бауко главный вход в великолепный муравейник. Когда площадка радиусом не менее двух метров была приведена в полный порядок, я ухитрился проскользнуть в кухню, пока мать с тетей собирали за домом миндаль, и украл целый стакан керосина и несколько спичек.
Ни о чем не подозревающие муравьи двумя стройными колоннами двигались в противоположных направлениях, как грузчики по трапу корабля.
Убедившись в том, что никто не может нас увидеть, я медленно вылил керосин в главный вход муравейника. В голове колонны поднялась невероятная суматоха, из глубины муравейника наверх ринулись десятки насекомых: они в полной растерянности бегали взад и вперед, а те, у кого были большие головы, раскрывали и закрывали крепкие челюсти, ища невидимого врага. Потом я сунул в отверстие клочок бумаги. Поль претендовал на честь самому пустить огонь, с чем и справился великолепным образом. Поднялось красное коптящее пламя, и наше обучение началось.
К несчастью, муравьи оказались слишком горючим материалом. Мгновенно охваченные огнем, они рассыпались искрами. Этот маленький фейерверк был довольно забавным, но слишком коротким. К тому же после кремации разведчиков мы напрасно ждали появления могучих подземных легионов и громкого взрыва при встрече пламени с царицей муравьев. Это было верхом моих мечтаний. Но никто не появлялся, и скоро на месте муравейника осталась лишь маленькая, почерневшая от огня воронка, печальная и пустынная, как кратер потухшего вулкана.
Однако довольно скоро после этой неудачи мы нашли утешение в том, что пленили трех больших «прегадио», то есть богомолов, которые прогуливались, все из себя такие зеленые, по зеленым веточкам вербены, – мы сочли их весьма пригодными для научных исследований.
Отец поведал нам (не без злорадства истого безбожника), что так называемый богомол – жестокая беспощадная тварь, что его можно считать «настоящим тигром в мире насекомых» и что исследование его нравов представляет особый интерес.
Я решил взяться за данную задачу, а для этого спровоцировать драку между самыми крупными особями, для чего представил их друг другу, сведя почти вплотную шипами на лапках.
Продолжая наши исследования, мы установили тот факт, что эти букашки могут вполне жить без шипов, без конечностей и даже без половины головы… После пятнадцатиминутного прелестного детского развлечения один из борцов превратился в бюст, который проглотил сперва голову и грудную клетку своего противника, а потом не спеша принялся за вторую половину, которая все еще шевелилась, правда чуть судорожно.
Поль, нежная душа, стащил тюбик клея «Секотин», который клеит, как известно, все, даже железо, и взялся было склеивать оставшиеся половинки в одно целое, чтобы мы смогли торжественно отпустить насекомое на свободу. Но ему не удалось довести это благородное начинание до благополучного завершения, поскольку бюсту посчастливилось сбежать.
У нас в стеклянной банке был в запасе еще и третий тигр. Я решил устроить состязание между ним и муравьями, и эта счастливая мысль позволила нам насладиться захватывающим зрелищем.
Резко опрокинув банку, я приставил ее горлышко к главному входу в муравейник, где кипела работа. Тигр, длина которого превышала ширину банки, стоял на задних лапках и, вращая как бы надетой на ось головкой, оглядывался с любопытством туриста на все четыре стороны. Между тем из туннеля лавиной хлынули муравьи и начали штурмовать его лапки, в результате чего он утратил спокойствие и начал приплясывать, выбрасывая свои кусачки вправо и влево: каждый раз захватывая целую горсть муравьев, он подносил их к челюстям, откуда они выпадали уже в виде половинок.
Так как толстое стекло искажало неповторимое зрелище, а неудобное положение тигра мешало его движениям, я счел своим долгом убрать банку. Богомол снова принял естественное положение со скрещенными клещами, упираясь всеми шестью лапками в землю. Но за каждую лапку, судорожно сжав челюсти, ухватилось по четыре муравья: твердо опираясь о землю, они держали его мертвой хваткой. Укрощенный этими лилипутами тигр, как некогда Гулливер, уже не мог больше двигаться.
Тем не менее свободными пока клещами он хватал насевших на него муравьев-солдат поочередно в каждой из точек, в которых они пригвождали его к земле. Но не успевали разрезанные пополам муравьи пасть на землю, как другие тут же занимали их место, и все приходилось начинать сначала.
Я задавался вопросом, в каком направлении может измениться это положение, казавшееся вполне стабильным, то есть застывшим в определенном моменте цикла, как вдруг заметил, что движения хватательных ног стали уже не такими быстрыми и не такими частыми. Я пришел к выводу, что богомол начинает падать духом из-за неэффективности своей тактики и что он намерен изменить ее. И впрямь, через несколько минут его боковые атаки прекратились совсем.
Муравьи сразу же покинули его затылок, грудь, спину, и он остался стоять неподвижный, молитвенно скрестив свои клещи, почти прямой на своих шести длинных лапках, которые чуть-чуть подергивались.
– Он размышляет, – сказал Поль.
Эти размышления показались мне несколько затянувшимися, а исчезновение муравьев заинтриговало: я распластался на земле и только тогда понял, какая произошла трагедия.
Муравьи расширили естественное отверстие под трехгранным хвостом задумавшегося тигра: одна вереница входила туда, совсем как в двери большого магазина накануне Рождества, другая выходила оттуда. Каждый уносил добычу, а аккуратные «домохозяйки» методично перетаскивали внутренности богомола.
Несчастный тигр, все такой же неподвижный и сосредоточенный, занятый своего рода самоанализом, наблюдал за тем, что происходило у него внутри, и, лишенный мимики и голоса, не имел возможности выразить свои муки и отчаяние, а посему его агония была отнюдь не эффектной. Мы поняли, что он мертв, только тогда, когда муравьи отпустили его лапки и принялись разделывать тонкую оболочку, в которой когда-то помещались его внутренности. Они отпилили шею, нарезали на тонкие ровные ломтики его грудь, очистили от кожицы его лапки и очень тщательно вылущили страшные клещи, как делает повар, готовящий омаров. Все это было унесено под землю и размещено где-то в глубине кладовых теперь уже в совершенно другом порядке.
На камешках не осталось ничего, кроме красивых зеленых надкрыльев, которые некогда торжественно проносились над травяными джунглями, приводя в ужас добычу или неприятеля. Презираемые «домохозяйками», они как бы скорбно признавались в своей несъедобности.
Так закончились наши «исследования» нравов богомола и «аккуратности» трудолюбивых муравьев.
– Бедняга! – вздохнул Поль. – Здорово его прочистило!
– Так ему и надо! – ответил я. – Он живьем проглатывает кузнечиков, и цикад, и даже мотыльков. Сказал же тебе папа: это самый настоящий тигр. А мне на понос тигров вообще наплевать!
Энтомологические исследования нам уже порядком поднадоели, когда мы вдруг открыли свое истинное призвание.
В послеобеденный час, когда африканское солнце огненным дождем поливает умирающую траву, нас принуждали целый час «отдыхать» под тенью смоковницы на складных креслах, так называемых «шезлонгах», которые трудно разложить, не прищемив пребольно пальцы, и которые имеют обыкновение неожиданно складываться под лежащим на них человеком.
Этот отдых был для нас настоящей пыткой, и отец, великий педагог, то есть мастер золотить пилюли, сумел нас примирить с ним, дав нам несколько книг Фенимора Купера и Гюстава Эмара.
Маленький Поль, широко раскрыв глаза и чуть приоткрыв рот, слушал, как я вслух читаю «Последнего из могикан». Для нас это было откровение, впоследствии подкрепленное открытием «Следопыта». Мы стали индейцами, сынами девственного леса, охотниками на зубров, истребителями медведей-гризли, душителями удавов, теми, кто снимает скальпы с бледнолицых.
Мать согласилась пришить, не ведая, для каких именно целей, старую скатерть к дырявому одеялу, и мы разбили свой вигвам в самом диком участке сада.
У меня был настоящий лук, доставленный прямо из Нового Света, лишь ненадолго задержавшийся в лавке старьевщика. Я смастерил стрелы из тростника и, спрятавшись в кустарнике, со свирепым видом стрелял в дверь уборной – будочки в конце аллеи. Затем я украл «наточенный» нож в кухонном буфете, и, взяв его большим и указательным пальцем за лезвие, как это делают индейцы-команчи, что есть силы метал в ствол сосны, а Поль в это время издавал пронзительный свист, превращая нож в грозное оружие.
Однако скоро мы поняли, что нам нельзя принадлежать к одному и тому же племени, так как война – единственная по-настоящему интересная игра.
Поэтому я остался команчем, а Поль стал пауни, что позволяло мне скальпировать его по нескольку раз в день. А взамен, к вечеру, он убивал меня картонным томагавком и убегал со всех ног, так как я мастерски изображал предсмертную агонию.
Головные уборы из перьев, сооруженные мамой и тетей, и боевой грим из клея, варенья и толченого цветного мела окончательно придавали нашему индейскому облику жутковатую реальность.
Иногда оба вражеских племени закапывали томагавк войны и объединялись для борьбы против бледнолицых, жестоких янки с севера. Низко пригнувшись к земле, мы крались по воображаемым следам за врагами, пробирались за ними в высокой траве, внимательно исследуя метки, оставленные на кустах, или невидимые отпечатки ног, и я со свирепым видом долго рассматривал какую-нибудь шерстяную нитку, повисшую на золотом зонтике укропа. Когда следы расходились в разные стороны, мы молча расставались…
Время от времени, чтобы поддерживать связь, я испускал крик пересмешника, «столь искусно воспроизводимый, что он мог бы обмануть и самку», а Поль отвечал мне «хриплым лаем койота», который у него прекрасно получался: правда, за неимением живого койота он подражал собаке булочницы, паршивой шавке, то и дело хватавшей нас за штаны.
В другой раз нас преследовала целая группа трапперов во главе с Длинным Карабином – он же Следопыт, он же Соколиный Глаз, – и тогда мы долго шли задом наперед, чтобы запутать противника.
Потом где-нибудь посередине поляны я знаком останавливал Поля и в полной тишине прикладывался ухом к земле…
Я с неподдельной тревогой прислушивался к приближающейся погоне: слышал, как в глубине далеких саванн бешено скачет мое сердце.
Игра продолжалась и после того, как мы возвращались домой.
Стол накрывали под смоковницей. Лежа в шезлонге, отец читал половину газеты, так как другую половину читал дядя Жюль.
Мы появлялись, степенные, полные достоинства, как и полагается вождям, и я произносил: «Уг!»
– Уг! – отвечал отец.
– Согласны ли великие бледнолицые вожди принять краснокожих братьев в их каменный вигвам?
– Добро пожаловать, краснокожие братья! – отвечал отец. – Краснокожие братья, наверное, прошли длинный путь, потому что их ноги в пыли.
– Мы с Затерянной реки, провели в пути целых три луны!
– Все дети всемогущего Маниту – братья. Так пусть вожди разделят с нами пеммикан! Мы только просим их соблюдать священные обычаи бледнолицых: пусть они сперва помоют руки!
По вечерам под лампой «летучая мышь», окруженной мошкарой, сидя напротив моей прекрасной мамы и тихо покачивая отяжелевшими ногами, я прислушивался к разговору двух опытных вождей.
Они довольно часто спорили о политике. Дядя проводил очень обидные параллели между президентом Фальером[18] и королем Людовиком Четырнадцатым. Отец тут же парировал, описывая известного кардинала, застывшего в форме вопросительного знака от долгого сидения в железной клетке, куда его поместили по приказу короля. Потом заводил разговор о каком-то злодее по имени Налогнасоль, разорявшем народ.
Или же дядя нападал на каких-то «радикалов». Был среди них некто господин Комбль, о котором трудно было составить собственное мнение: отец говорил, что он великий и честный человек, а дядя Жюль величал его «негодяем из негодяев» и почему-то готов был расписаться под этими словами, причем на гербовой бумаге. Он неизменно добавлял, что этот Комбль стоит во главе шайки разбойников, так называемых «фармазонов».
Отец сейчас же заводил речь о другой шайке – о каких-то «иезуитах»: это были отвратительные «тартрюфы», которые абсолютно всем «рыли ямы».
Тут дядя Жюль почему-то вспыхивал и требовал от отца, чтобы он немедленно вернул ему «несметные богатства Церкви». На что отец, который, вообще-то, деньгами не дорожил, решительно отвечал: «Никогда и ни за что не отдадим вам богатства, отбираемые клерикалами у запуганных верующих даже на смертном одре!»
В такие минуты мать и тетю отчего-то непременно начинали интересовать вопросы о филлоксере в виноградниках Руссильона или о незаслуженном назначении какого-то учителя на должность преподавателя в институте, и тон разговора сразу менялся.
Впрочем, меня не интересовало, о чем они говорили.
Для меня были важны произносимые ими слова: я испытывал к ним настоящую страсть. Я буквально охотился за ними и тайком записывал их в книжечку, коллекционируя, как иные коллекционируют марки.
Меня приводили в восторг слова: гранат, дым, ворчливый, трухлявый, а еще больше слово рукоятка: оставшись один, я часто повторял их для самого себя, только чтоб иметь удовольствие слышать, как они звучат.
А в речи дяди Жюля было очень много совсем новых, незнакомых мне слов; они были либо прелестны, как, например, слова: с насечкой, антология, филигрань, либо грандиозны, как слова: архиерейский, уполномоченный.
Когда в потоке его речи проплывал такой трехпалубный военный корабль, я поднимал руку и просил объяснить, что это означает, в чем дядя никогда мне не отказывал. Именно тогда я впервые понял, что благородно звучащие слова всегда заключают в себе прекрасные образы.
Отец и дядя поощряли эту мою страсть, которая казалась им добрым предзнаменованием. Поэтому в один прекрасный день они вдруг подарили мне слово антиконституционный, хотя в разговоре оно не упоминалось (да и само это слово немало удивилось бы, появись оно в разговоре), и пояснили мне, что это самое длинное слово во французском языке. Им пришлось написать его на счете бакалейщика, который остался у меня в кармане.
С великим трудом я переписал его в записную книжку и каждый вечер, лежа в постели, перечитывал. Только через несколько дней мне удалось укротить это чудовище, и я дал себе обещание, что буду использовать его, если вдруг паче чаяния когда-нибудь в далеком будущем мне снова придется ходить в школу.
Числа десятого августа каникулы были прерваны на целых полдня грозой, которая породила, как и следовало опасаться, диктант.
Дядя Жюль, устроившись в кресле у застекленной двери, читал газету. Поль, сидя на корточках в темном углу, играл сам с собой в домино, точнее, после долгих размышлений и монологов пристраивал одну костяшку к другой как попало. Мать шила у окна. Отец, сидя за столом, точил бруском перочинный ножик и в то же время читал вслух какую-то запутанную историю, повторяя каждое предложение по два-три раза.
Это была притча Ламенне[19], в которой рассказывалось о приключениях виноградной кисти.
Некий отец семейства сорвал ее в своем винограднике, но не стал есть, а принес домой, чтобы подарить ее матери семейства. Та, растроганная до слез, тайком отдала ее сыну, который, в свою очередь, никому ничего не сказав, преподнес ее сестре. Но и она не прикоснулась к винограду, а дождалась возвращения отца, который, найдя кисть в своей тарелке, заключил всю семью в объятия и возвел очи к небесам.
Скитания виноградной кисти на этом заканчивались, а я задался вопросом, кто же ее съел, в конце-то концов.
– Вот притча, которую тебе следовало бы выучить наизусть, – произнес веским тоном дядя Жюль, сворачивая газету.
Я был возмущен его предложением, выраженным в столь категоричной форме и грозившим мне дополнительным трудом, и поинтересовался:
– Почему?
– Разве ты не тронут чувством, которое движет этими простыми людьми?
Я смотрел, как за окном идет дождь, покрывая черным лаком ветки смоковницы, и грыз ручку.
– Почему эта кисть обошла всех членов семьи? – не унимался дядя.
Он смотрел на меня своими полными доброты глазами. Мне захотелось сделать ему приятное, и я сосредоточил все свое внимание на этом вопросе: вдруг меня, словно молния, озарило, и я вскрикнул:
– Это потому, что она была обработана купоросом!
Дядя Жюль посмотрел на меня остолбенелым взглядом, стиснул зубы и весь побагровел. Он хотел было заговорить, но от негодования задохнулся. Он перепробовал три-четыре гортанных звука, но был не в силах развить их настолько, чтобы они стали членораздельными. В конце концов он поднял руки к небесам, а зад со стула и в сердцах воскликнул:
– Вот! Вот! Вот!..
Это тройное восклицание как бы прочистило его горло, и он наконец смог прокричать:
– Вот чему учит школа, из которой изгнан Бог! Великую силу любви он приписывает боязни медного купороса! Этот мальчик, который сам по себе вовсе не чудовище, не раздумывая дал чудовищный ответ. Измерьте, дорогой Жозеф, всю ту ужасную ответственность, которая лежит на вас!
– Ну что вы, Жюль! – сказала мать. – Поймите, он это сказал ради шутки!
– Ради шутки? – переспросил дядя. – Это было бы еще хуже!.. Я предпочел бы думать, что он неправильно понял мой вопрос. – Он обернулся ко мне. – Слушай меня внимательно. Если бы тебе попалась очень красивая виноградная кисть, великолепная, единственная в своем роде, ну разве ты не отдал бы ее матери?
– Конечно отдал бы, – простодушно отвечал я.
– Браво! – сказал дядя. – Вот слова, которые идут от души!.. – И, обернувшись к отцу, добавил: – Я счастлив убедиться в том, что, вопреки ужасному материализму, которому вы его учите, он в душе своей почерпнул Божьи заповеди и сохранил бы кисть для матери!
Поняв, что победа вот-вот достанется ему, я бросился на помощь отцу:
– Но по дороге я половину съел бы сам.
Недовольный дядя собрался было снова произнести речь, но не успел.
– И правильно! – решительно заговорил отец. – Ведь если бы у всех были столь высокие чувства, им пришлось бы отдавать друг другу и лучшую часть салата, и грудку курицы, и печенку кролика! А поскольку высшая добродетель по сути своей постоянна, то своеобразная карусель лакомых кусков должна была бы продолжаться всю жизнь, в то время как эти несчастные, которые, что там ни говори, нуждались в пище, стали бы в результате отбирать друг у друга головы уток, кости от антрекотов или кочерыжки капусты! Я только сейчас понял, благодаря его ответу, что эта притча – глупость чистейшей воды! А истина в том, что ваш Ламенне был ханжа и, наставляя верующих, дошел, как и все священники, до нелепейшей трепотни!
Только было дядя с ощетинившимися вдруг усами собрался дать отпор этой лобовой атаке, как в дверях появилась тетя Роза, почуявшая на кухне, где она следила за рагу из крольчатины, что назревает ссора. Она размахивала проволочной корзиночкой для салата, а в левой руке держала черный клеенчатый капюшон.
– Жюль! Дождь почти перестал! Скорее за улитками! – вдруг весело закричала она.
Не дав дяде опомниться, она сунула ему в руки корзиночку и чуть ли не до самого носа натянула на него капюшон, словно это был колпак, гасящий спор. В таком наряде ему трудно было бы разразиться филиппикой. Тем не менее он попытался издать несколько раскатистых «р-р-р»:
– Чер-рт возьми! Это чер-ресчур-р гр-р-устно и стр-рашно! Бедный р-ребенок!
Но тетя, смеясь, повернула его к двери и легонько вытолкнула вон из комнаты под проливной дождь, затем закрыла дверь и через стекло послала ему воздушный поцелуй, нежность которого была вовсе не поддельной. Потом она обернулась к нам и рассерженным тоном проговорила:
– Жозеф, к чему было начинать этот спор!
Дядя Жюль, очень любивший дождь, вернулся только через час, промокший до костей, но веселый.
Слизь красивой бородой свисала с корзиночки, на плечах у дяди красовались эполеты из улиток, а на вершине черного капюшона восседала предводительница улиточного племени, улитка-богатырша, безуспешно пытавшаяся сориентироваться и тревожно шевелящая усиками.
Отец играл на флейте, мать слушала его, подрубая полотенца, сестренка спала на ее руках, а я играл в домино с Полем. Все дружно бросились поздравлять дядю с удачей; о Ламенне больше не вспоминали. Но вечером за ужином дядя жестоко отомстил мне за все.
Мать подала на стол рагу из крольчатины в ореоле ароматов всевозможных пряностей. За невероятные успехи на поприще образования мне обычно оставляли печенку, и я уже искал ее глазами в бархатистом на вид соусе.
Но на этот раз дядя Жюль опередил меня и ловко поддел ее вилкой. Он поднес ее к керосиновой лампе, осмотрел, понюхал и сказал:
– Великолепно зажарена. Свежайшая! Видно, нежная и сочная. Несомненный деликатес. И я счел бы своим долгом преподнести ее кому-нибудь из присутствующих, не будь за этим столом человека, который может подумать, что она отравлена купоросом!
После чего залился саркастическим смехом и на моих глазах с наслаждением съел ее.
В середине августа мы были оповещены о том, что назревают великие события.
Однажды после обеда я устанавливал на небольшом, заросшем травкой бугорке индейский столб для пыток, как вдруг примчался Поль со странной вестью:
– Слушай, дядя Жюль стряпает!
Я был так удивлен, что, бросив все, побежал разгадывать тайну под названием «дядя Жюль – повар»!
Он стоял у плиты и наблюдал за шипящей сковородкой: там в кипящем масле со свистом жарились толстые желтые лепешки. Тошнотворный запах распространялся по всей кухне, и я тут же решил, что этого я в рот не возьму.
– Что это такое, дядя Жюль?
– Вечером узнаешь, – ответил он и, схватив ручку сковородки, резко дернул ее так, как это делают, когда жарят каштаны.
– Мы это будем есть вечером? – спросил Поль.
– Нет, – ответил дядя Жюль, – ни сегодня, ни завтра и вообще никогда.
– Тогда зачем ты это готовишь?
– Много будешь знать, скоро состаришься. А теперь бегите играть на улицу, потому что если брызнет масло, то лица у вас на всю жизнь останутся в дырочках, как ситечки. Ну, живо, марш отсюда!
Как только мы вышли, Поль сказал:
– А готовить он все-таки не умеет.
– А по-моему, он не готовит. Тут какая-то тайна. Давай спросим у папы!
Но папы не было. Они ушли с мамой на прогулку. К тому же без нас, что мне показалось предательством.
Пришлось терпеть до вечера.
Вся вторая половина дня была посвящена сочинению неподражаемой «Предсмертной песни вождя команчей» (слов и музыки):
Прощайте, прерии! Стрелой врага Обезоружена моя рука. Но и под пыткой Чистой остается Моя душа, И путник Диву лишь дается. О, подлый пауни, Разбойник и подлец, Как ты ни ухищряйся, Близок твой конец! Услышь мой смех, Сарказма полный! Своими пытками, На кои я плевать хотел, Укусы комариные Ты мне напомнил.Всего в песне было семь или восемь куплетов…
Я поднялся в свою комнату и долго «репетировал» в тишине и уединении.
Потом я взялся за боевую раскраску Поля, а затем и за свою. И наконец, увенчанный перьями, со связанными за спиной руками, я степенно направился к столбу пыток. Поль крепко привязал меня к нему, издавая при этом хриплые гортанные звуки, словно ругался на языке пауни, после чего затеял воинственную пляску вокруг меня. Я завел «Предсмертную песнь вождя».
Я исполнял ее так искренне и мне так удался «смех, сарказма полный», что мой мучитель, слегка встревоженный, предусмотрительно отошел подальше.
Но довершила мой триумф последняя строфа:
Прощайте, братья, други И примулы, что распустились по весне! Прощай и конь, твои надежные подпруги. Служили верою и правдой мне! Утешьте мать мою, чей слышу стон, Скажите ей, что сын ее любимый… Повержен, пал на поле брани он.Тут мой голос так патетически задрожал, что я и сам растрогался, по моему лицу потекли слезы. Голова моя упала на грудь, глаза закрылись, и я умер.
Я услышал душераздирающие рыдания и увидел, как Поль убегает с воплем:
– Он мертв! Он мертв!
Освободить меня пришел отец, и было ясно, что к моим воображаемым пыткам он был не прочь добавить совершенно реальный подзатыльник. Я был горд своим успехом трагика и собирался дать повторное представление после ужина. Но, проходя через столовую на кухню, чтобы вымыть руки, я наткнулся на потрясающий сюрприз.
Отец и дядя раздвинули стол во всю длину, накрыли его мешковиной и на всей его поверхности разложили всевозможные чудеса. Сначала шло несколько рядов пустых патронов, причем у каждого ряда был свой цвет: красный, желтый, синий, зеленый.
Потом шли мешочки из грубого холста, размером не больше кулака, но тяжелые, как камни. И на каждом мешочке была начертана крупная черная цифра: 2, 4, 5, 7, 9, 10.
Было там еще нечто вроде маленьких весов, только с одной-единственной чашей, и прикрепленный к столу своеобразной прищепкой с винтом странный медный прибор с деревянной кнопкой на ручке. И наконец, в самом центре стола возвышалось блюдо с дядиной стряпней.
– Вот то, что я готовил утром, это жирные пыжи, – пояснил он.
– А зачем это? – спросил Поль.
– Чтобы изготовить патроны, – ответил отец.
– Ты собираешься на охоту? – спросил я.
– Ну да!
– С дядей Жюлем?
– Ну да!
– А разве у тебя есть ружье?
– Ну да!
– Где же оно?
– Потом увидишь. А пока иди мой руки, потому что суп уже на столе!
Разговор за ужином под смоковницей был захватывающим.
Мой отец, дитя города и пленник школы, за всю свою жизнь никого не убил, ни пернатого, ни мохнатого. Дядя Жюль – другое дело, он охотился с детства и вовсе этого не скрывал.
Уже за супом они заговорили о дичи.
– На что, по-вашему, можно рассчитывать в здешних местах? – спросил отец.
– Я кое-что разузнал в деревне, – ответил дядя.
– Вам наверняка дали ложные сведения, – заметил отец, – потому как к дичи крестьяне относятся ревниво.
– Разумеется, – лукаво улыбнулся дядя, – но я не признался, что мы собираемся охотиться, а просто поинтересовался, какою дичью они могли бы нас снабжать за деньги!
– Хитро! – одобрил отец.
Я был восхищен дядиной находчивостью, хоть мне и показалось, что это противоречит нашим нравственным принципам.
– И что же они вам предложили?
– Во-первых, мелких птиц.
– Совсем маленьких? – спросила потрясенная мать.
– Ну да! – ответил дядя. – Эти дикари убивают все, что летает.
– Неужели и бабочек? – спросил Поль.
– Нет, бабочки оставлены мальчишкам. Но они не жалеют даже малиновок!
– Уж очень скудная тут земля, – заметил отец. – Какой может быть урожай без воды! В основном здесь живут очень бедные люди, и охота как-то поддерживает их. Крупных птиц они продают, а маленьких едят сами!
– К тому же, – вставил дядя, – жаворонки на вертеле – это, я вам скажу…
– Во всяком случае, – воскликнула тетя, – канареек убивать не смей!
– Ни канареек, ни попугаев! Клянусь… А вот трясогузок и садовых овсянок…
– Садовые овсянки – это так вкусно, – сказала тетя.
– А певчих дроздов… – проговорил дядя, подмигнув нам, – певчих дроздов вы нам разрешаете убивать?
– О да, – сказала мать. – Жозеф умеет их жарить на вертеле. Мы их ели в прошлом году на Рождество.
– Когда я вижу дрозда, съедаю его целиком! Кроме клюва, конечно, – вставил Поль.
– Затем, – продолжал дядя, – думаю, мы можем рассчитывать на кроликов.
– О да, – подтвердил я, – они водятся даже около дома и у большого миндального дерева устроили себе уборную. Там полно их какашек!
– Прошу без грубых слов! – сурово одернула меня мать.
– Потом здесь наверняка водятся куропатки, и, может быть, даже красные!
– Они что, совсем красные? – поинтересовался Поль.
– Нет, сами они каштанового цвета, грудка у них черная, лапки красные, а на крыльях и на хвосте красивые красные перья.
– То, что надо для индейских головных уборов!
– Ну, что еще? Говорили они и о зайцах!
– Но, – возразил отец, – Франсуа утверждал, что их тут нет.
– Предложите ему шесть франков за штуку, и вы увидите, что он их вам притащит! Он продает их по пять франков хозяину постоялого двора в Пишорисе. Надеюсь, наши ружья избавят нас от необходимости выкладывать денежки.
– Это было бы замечательно! – сказал отец.
– Я согласен, что заяц стоит выстрела, мой дорогой Жозеф. Но есть кое-что и получше. В лощинах Ле-Тауме водится королева дичи.
– Что именно?
– Угадайте!
– Слониха! – воскликнул Поль.
– Нет, – сказал дядя, но, увидев огорчение моего братика, добавил: – Я не думаю, чтобы там водились слонихи, но и ручаться, что их нет, тоже не могу. Ну, Жозеф, напрягитесь! Какая дичь самая редкая, самая красивая, самая осторожная?! Мечта охотника?!
– Какого она цвета? – поинтересовался я.
– Коричневого, красного и золотого.
– Фазан! – воскликнул отец.
Но дядя отрицательно покачал головой:
– Ха! Фазан довольно красив, согласен, но он глуп, и, когда он взлетает, попасть в него так же легко, как в бумажного змея. А гурман сказал бы, что мясо его жесткое и безвкусное: чтобы оно стало хоть сколько-нибудь съедобным, ему надо дать вылежаться, то есть протухнуть! Нет, фазан вряд ли король дичи!
– Тогда кто же он, этот король? – спросил отец.
Дядя встал и, воздев руки к небу, торжественно произнес:
– Только это не король, а королева. Это бартавелла!
Это слово он произнес, растягивая слоги и широко раскрыв глаза от восторга. Однако ожидаемого эффекта не получилось.
– А что это такое?
Дядя и тут не растерялся.
– Вот видите, – воскликнул он удовлетворенно, – это такая редкостная дичь, что сам Жозеф о ней никогда не слыхал! Так вот, бартавелла – это королевская куропатка, и, пожалуй, в большей степени королева, чем куропатка, потому что она огромная и отливает пурпурным блеском. На самом деле это почти тетерев. Она водится в горных каменистых ложбинах и так же осторожна, как лиса: два дозорных всегда охраняют стаю, и подкрасться к ней чрезвычайно трудно.
– А я знаю, – сказал Поль, – как надо действовать: я лягу на живот, подползу, как змея, и совсем не буду дышать!
– Прекрасная идея, – сказал дядя, – как только мы выследим бартавелл, так сразу прибежим за тобой.
– И часто вам приходилось убивать их? – поинтересовалась мать.
– Нет, – ответил дядя скромно, – я не раз видел их в Нижних Пиренеях, но они были слишком далеко, и мне ни разу не удавалось выстрелить в них.
– А кто вам сказал, что бартавеллы водятся здесь? – продолжала расспрашивать мать.
– Один старый браконьер, которого зовут Мунд де Парпальюн.
– Он что, дворянин? – спросил я.
– Вряд ли, – отвечал отец, – это просто значит Эдмонд, повелитель бабочек.
Эта фамилия привела меня в совершенный восторг, и я дал себе слово навестить этого таинственного сеньора.
– Он сам-то их видел? – спросил отец.
– Он убил одну в прошлом году и снес ее в город. Выручил за нее целых ДЕСЯТЬ ФРАНКОВ.
– Боже мой! – воскликнула мать, молитвенно сложив руки. – Если бы вы могли приносить по штуке в день… это меня вполне устроило бы!
– Оказывается, это мечта не только охотника, – сказал отец, – но и домохозяйки! Не говорите больше о бартавеллах, дорогой мой Жюль, не то они будут сниться мне всю ночь, а моя милая жена от них уже без ума!
– Но меня вот что беспокоит, – вступила в разговор тетя Роза, – по словам горничной, здесь водятся также и дикие кабаны.
– Дикие кабаны? – встревожилась мать.
– Ну да, – подтвердил дядя, улыбаясь, – дикие кабаны… Но успокойтесь, сюда они не придут! Только в самый разгар лета, когда высыхают все родники на горе Сент-Виктуар, они спускаются вниз к маленькому источнику под названием Тутовое Дерево, единственному ключу в этих местах, который никогда не пересыхает. В прошлом году Батистен убил там парочку!
– Это просто ужасно! – сказала мать.
– Отнюдь, – возразил Жозеф, стараясь успокоить ее, – дикий кабан не нападает на людей. Напротив, почуяв человека издалека, спасается от него бегством. И нужно быть очень искусным, чтобы подкрасться к нему.
– Как к бартавеллам! – воскликнул Поль.
– Кроме тех случаев, – изрек дядя серьезным тоном, – когда он ранен!
– Вы думаете, тогда он может убить человека?
– Еще бы! – воскликнул дядя. – У меня был друг, товарищ по охоте, которого звали Мальбуске. Он был дровосеком, но из-за несчастного случая на работе стал калекой.
– Что значит «калека»? – спросил Поль.
– Это значит, что у него осталась только одна рука. Он больше не мог работать топором и занялся браконьерством.
– С одной рукой? – удивился Поль.
– Ну да!.. С одной рукой! И уверяю тебя, очень даже метко стрелял! Каждый день он добывал куропаток, кроликов, зайцев, которых тайком продавал на кухню в дворянский замок. И вот однажды Мальбуске нос к носу столкнулся с диким кабаном: зверь был не очень крупный, семьдесят килограммов, мы потом его взвесили. Итак, Мальбуске поддался соблазну и выстрелил. Выстрелил и не промахнулся, но у зверя осталось достаточно сил, чтобы броситься на него, опрокинуть и разорвать на части. Да, именно на части, – повторил дядя. – Когда мы набрели на его след, то прежде всего увидели вьющийся по середине тропинки изжелта-зеленоватый шнур чуть ли не в десять метров длиной – это были кишки Мальбуске.
Мама и тетя брезгливо заохали, а Поль расхохотался и захлопал в ладоши.
– Жюль, – сказала тетя, – не следовало бы рассказывать такие ужасы при детях.
– Напротив, – возразил отец, умевший извлекать из самых страшных происшествий воспитательный смысл, – это для них прекрасный урок. Им не помешает знать, что кабан – опасный зверь. Если вам случайно приведется его увидеть, немедленно забирайтесь на ближайшее дерево.
– Жозеф, – попросила мать, – обещай мне сейчас же, что ты тоже залезешь на дерево, не сделав ни единого выстрела.
– Этого только не хватало! – воскликнул дядя Жюль. – Я же вам, кажется, сказал, что у Мальбуске не было патронов с крупной дробью. Но у нас-то они есть!
Он принес из ящика целую горсть патронов и положил на стол.
– Они длиннее остальных, потому что я набил в них двойную порцию пороха, этими зверь будет сражен наповал!.. При условии, – добавил он, обернувшись к отцу, – что попадешь в самое уязвимое место на левой лопатке. Обратите внимание, Жозеф, я сказал, на левой!
– Но, – возразил Поль, – если кабан будет убегать, будет виден только его зад. Что же тогда делать?
– Нет ничего проще. Даже удивительно, что ты не догадался.
– Стрелять в левую заднюю половинку!
– Ничего подобного! – сказал дядя. – Надо просто знать, что дикие кабаны обожают трюфели…
– Ну и что? – удивилась мать.
– А то, Огюстина, – отвечал дядя, – что вы наклоняетесь влево и как можно громче кричите: «Ой, какой прелестный трюфель!» Тут кабан, не удержавшись от соблазна, оглядывается и поворачивается к вам своей левой лопаткой.
Мы с матерью расхохотались, отец лишь улыбнулся, а Поль с серьезным видом заявил:
– Ты так говоришь ради смеха!
Он не смеялся, потому что уже ни в чем не был уверен.
Этот охотничий ужин продолжался гораздо дольше обычного, и пробило уже девять, когда мы встали из-за стола и занялись изготовлением патронов. Я был допущен присутствовать при этом, так как заявил, что для меня это «урок естествознания».
– На полчаса, не больше, – бросила мать, унося на руках сомлевшего Поля, который издавал невнятные, но явно протестующие звуки.
– Прежде всего проверим ружья! – постановил дядя.
Достав из кухонного буфета спрятанный за стопками тарелок прекрасный футляр из настоящей кожи (мне стало досадно: как можно было не обнаружить его!), он вытащил из него великолепное ружье, которое выглядело совершенно новым. Оба его ствола были прекрасного матово-черного цвета, спусковой крючок был никелированный, а на рельефном прикладе расположилась собака, как бы вросшая в лакированное дерево.
Отец взял в руки дядино ружье, рассмотрел его и присвистнул от восхищения.
– Свадебный подарок от старшего брата, – пояснил дядя, – шестнадцатый калибр, «верней-каррон» с центральным боем.
Дядя взял у отца ружье, передернул затвор; раздался громкий щелчок, дядя принялся заглядывать внутрь стволов, направив ружье на лампу.
– Смазано прекрасно, завтра проверим его более тщательно! – проговорил он и, обернувшись к отцу, спросил:
– А где ваше?
– У меня в комнате.
Отец поспешно вышел.
Я не знал, что у отца есть ружье, и возмутился, что он не поделился со мной таким сногсшибательным секретом; я ждал его возвращения с большим нетерпением, стараясь угадать по его шагам и звяканью ключей, в каком именно месте он его прятал. Но шпионаж не удался; отец торопливым шагом спускался обратно.
Он внес в кухню огромный желтый футляр, наверняка купленный – тайком от меня – у старьевщика: длинные царапины на нем свидетельствовали о его почтенном возрасте, а беловатый оттенок царапин – о том, что этот предмет изготовлен мастером по папье-маше.
Открыв жалкий картонный футляр, отец со смущенной улыбкой произнес:
– После вашей современной модели мое, конечно, выглядит жалко, но оно досталось мне от отца.
Превратив таким образом старинную берданку в достопочтенную семейную реликвию, он вытащил из футляра три части длиннющего ружья.
Дядя взял их, соединил воедино, с ловкостью волшебника щелкнул затвором, затем, оценив габариты ружья, воскликнул:
– Господи боже мой, да это же мушкет!
– Почти, – согласился с ним отец, – но, говорили, бьет очень метко.
– Не исключено! – согласился дядя.
Приклад был без резьбы, с него уже давно сошел лак. Спусковой крючок не был никелированным, а курок был таких размеров, что походил на изделие кузнеца-самоучки. Я почувствовал себя несколько униженным.
Дядя Жюль открыл затвор и с задумчивым видом принялся его рассматривать.
– Если это не какой-нибудь неизвестный старинный калибр, то, должно быть, двенадцатый!
– Так и есть, – подтвердил отец. – Я купил гильзы номер двенадцать!
– Со штифтом, конечно?
– Да, со штифтом.
Он взял из картонной коробки две-три пустые гильзы и протянул их дяде. На их медных основаниях торчали маленькие гвоздики без головок. Дядя вложил одну гильзу в ствол.
– Ствол чуть разболтался, но это действительно калибр двенадцать со штифтом. Эта модель уже давно не в ходу, потому как не вполне безопасна.
– Почему небезопасна? – живо поинтересовалась мать.
– Самую малость, – сказал дядя, – но все-таки опасность имеется. Видите ли, Огюстина, как только курок ударяет по этому медному гвоздю, порох воспламеняется. А гвоздь этот ничем не закрыт, не предохранен и может сработать от случайного удара.
– Например?
– Например… если патрон выскользнет из рук охотника и упадет вниз гвоздиком, выстрел может произойти у ног охотника.
– Это вряд ли может иметь смертельный исход, – проговорил отец успокаивающим тоном, – да и чтоб я уронил патрон, такого никогда не случится.
– Однако, – отвечала вполголоса мать, – сегодня утром туалетное мыло ты ронял три раза…
– Во-первых, – возразил обиженный отец, – туалетное мыло – предмет очень скользкий, потому что это жир, чего не скажешь о патроне; во-вторых, когда берут в руки туалетное мыло, то не думают о мерах предосторожности: каждый дурак знает, что оно не взорвется. И наконец, следует добавить, что глаза у меня были закрыты, потому как я намыливал голову, а ни один человек в здравом уме, имея дело с патронами, не закроет глаза. Значит, ты можешь быть вполне спокойна.
– Жозеф прав, – подтвердил дядя. – И я почти не сомневаюсь, что он не будет ронять патроны. Но может произойти кое-что другое… Кстати, я сам был свидетелем невероятного происшествия.
Я был тогда очень молод, то было еще время ружей с подобными патронами. Председатель общества охотников, господин Беназет, – (дядя произносил «Беназетэ»), – был такой огромный, что ночью издалека его можно было принять за столитровую бочку вина, так вот для него пришлось изготовить патронташ из двух патронташей, чтоб он смог надеть его на себя…
Однажды после сытного обеда в компании охотников он поскользнулся и со своим огромнейшим патронташем прокатился по лестнице до самого низа: патронташ был набит такими вот патронами со штифтом… знаете, казалось, что стреляет целый взвод, и, к моему сожалению, должен вам сообщить, что это и стало причиной его смерти…
– Жозеф, – проговорила мать, побледнев, – тебе надо купить другое ружье, иначе ты на охоту не пойдешь!
– Ну что ты! – отвечал отец, рассмеявшись. – Во-первых, я ничуть не похож на столитровую бочку, и, во-вторых, я не буду председательствовать на «сытном обеде в компании охотников» в краю заядлых любителей вина. Уверен, взрыв, погубивший господина Беназета, прежде всего вызвал образование гейзера красного вина!
– Очень даже вероятно, – рассмеялся дядя. – К тому же, Огюстина, могу вас заверить, что этот несчастный случай пока единственный в своем роде. – Дядя вдруг вскочил и вскинул ружье к плечу.
– Оставайся на месте! Не шевелись! – крикнула мне мать.
Дядя раз пять-шесть повторил этот маневр, целясь поочередно то в стенные часы, то в лампу на потолке, то в подставку с вертелами. Наконец он вынес приговор:
– Ружье очень старое и весит лишних три фунта. Но оно хорошо ложится в руку и легко вскидывается к плечу. По-моему, оно великолепно!
Лицо отца расплылось в улыбке, и он уже было стал посматривать на присутствующих с некоторой гордостью, как вдруг дядя добавил:
– Если только оно не взорвется.
– Что?! – вскрикнула мать.
– Не бойтесь, Огюстина, будут сделаны все необходимые испытания, и первые выстрелы мы произведем с помощью веревки. Если оно взорвется, у Жозефа больше не будет ружья, зато он сохранит правую руку и глаза. – Он снова принялся рассматривать затвор. – Может случиться также, что при несколько большем заряде изменится его калибр и оно превратится в крупнокалиберное для уток. В конце концов, завтра станет ясно. А сегодня вечером давайте займемся боеприпасами! – Тут в его тоне появились командные нотки. – Для начала погасить в доме все огни! Опасность, которую представляет собой эта керосиновая лампа, достаточно велика! – И, обернувшись ко мне, добавил: – С порохом не шутят!
Мать в страхе побежала на кухню и вылила кастрюльку воды на последние угольки, которые все еще краснели в плите. Отец в это время проверял герметичность медной лампы и прочность подвески.
Когда эти меры предосторожности были приняты, дядя сел за стол, усадив отца напротив себя.
Тетя, для которой эта опасная процедура не содержала, по-видимому, ничего таинственного, поднялась к себе в комнату, чтобы покормить из бутылочки маленького Пьера, и обратно больше не спускалась.
Мать села на стул в двух метрах от стола, а я встал меж ее колен. Я думал, что таким образом – в случае взрыва – мое тело защитит ее.
Дядя взял одну из баночек и осторожно соскреб с нее прорезиненную ленточку, обеспечивавшую герметичность. Я увидел торчащий из пробки крошечный черный шнурок: дядя осторожно захватил его большим и указательным пальцем, потянул, и пробка вышла.
Затем он наклонил горлышко баночки к листу белой бумаги, и из него высыпалась щепотка черного пороха.
Я подошел поближе, загипнотизированный тем, что происходило на моих глазах… Значит, вот он – порох, то страшное вещество, которое поубивало столько зверей и людей, повзрывало столько домов и забросило Наполеона в саму Россию… похож на измельченный уголь, и больше ничего…
Дядя взял большой медный наперсток, прикрепленный к ручке из темного дерева.
– А это мерка для измерения заряда, – пояснил он мне, – на ней нанесены деления на граммы и дециграммы, что обеспечивает вполне удовлетворительную точность.
Он наполнил ее до краев, после чего опрокинул содержимое на чашечку аптечных весов. Чашечка опустилась, потом медленно поднялась, весы находились в равновесии.
– Порох не сырой, – заметил он, – имеет положенный ему вес, блестит, словом, великолепен.
Наконец началось наполнение гильз, процесс, в котором участвовал и отец: он забивал поверх пороха жирные пыжи, нажаренные дядей Жюлем.
Потом наступила очередь дроби, а потом снова пыжей, которые накрывали картонным кружочком – крупная черная цифра на нем указывала калибр дроби.
Затем настал черед закупоривания: небольшим приспособлением с ручкой загибались края патрона, получалось нечто вроде валика, который наглухо запирал смертоносную смесь.
– Шестнадцатый калибр, – спросил я, – больше двенадцатого?
– Нет, – ответил дядя, – чуть поменьше.
– Почему?
– Действительно, – удивился отец, – почему самые маленькие номера соответствуют самым крупным калибрам?
– Тайна тут невелика, – авторитетно заявил дядя Жюль, – но хорошо, что вы задали этот вопрос. Шестнадцатикалиберное ружье – это такое ружье, для которого можно изготовить шестнадцать круглых пуль из одного фунта свинца. Для двенадцатикалиберного тот же фунт свинца дает лишь двенадцать круглых пуль, а если бы существовало однокалиберное, оно стреляло бы пулями в фунт свинца.
– Вот ясное объяснение, – сказал отец, – ты понял?
– Да! – ответил я. – Чем больше пуль делают из одного фунта, тем меньше их величина. И выходит, что дырка ружья тем меньше, чем крупнее номер его калибра.
– Вы, конечно, имеете в виду фунт в пятьсот граммов?
– Не думаю, – сказал дядя. – По-моему, речь идет о старинном фунте в четыреста восемьдесят граммов.
– Прекрасно! – проговорил отец с неожиданным интересом.
– Почему?
– Потому что я вижу тут кладезь для составления задачек пятиклассникам: охотнику, у которого было семьсот шестьдесят граммов свинца, удалось отлить двадцать четыре пули для своего ружья. Зная, что вес старинного фунта равняется четыремстам восьмидесяти граммам и что цифра, обозначающая калибр, представляет собой количество пуль, которое можно изготовить для ружья из фунта свинца, определите калибр данного ружья.
Эта педагогическая находка меня слегка обеспокоила, я испугался, как бы она не была проверена на мне в ущерб моим играм. Но меня успокоила мысль, что отец, кажется, слишком загорелся новой страстью, чтобы пожертвовать своими каникулами для разрушения моих, и дальнейшее подтвердило, что я рассудил правильно.
В этот вечер, который закончился тем, что на столе, как на плацу, были выстроены шеренги разноцветных патронов, подобных оловянным солдатикам, меня живо интересовало все.
И в то же время что-то меня беспокоило, я чувствовал какую-то неудовлетворенность, причину которой никак не мог определить.
И только снимая носки, я понял, в чем дело.
Дядя Жюль говорил весь вечер, как ученый и профессор, тогда как мой отец, член выпускной экзаменационной комиссии начальной школы, с тупым видом внимал ему, словно какой-то школяр.
Я был унижен и оскорблен.
На следующее утро, пока мать подливала мне кофе в чашку с молоком, я поделился с ней своими переживаниями.
– А ты рада, что папа пойдет на охоту?
– Не очень, – ответила она. – Это слишком опасное развлечение.
– Ты боишься, как бы он не упал с лестницы вместе со своими патронами?
– О нет, не такой уж он неуклюжий… Но все-таки порох… такая коварная штука.
– А я не рад по другой причине.
– По какой же?
С минуту, которую я кстати использовал, чтобы сделать глоток кофе с молоком, я колебался.
– Разве ты не видишь, как дядя Жюль важничает? Все время приказывает, все время поучает!
– Но это-то как раз чтобы научить… он это делает по дружбе.
– А я прекрасно вижу, что он страшно доволен, что оказался умнее папы. И это мне вовсе не нравится. Папа всегда его обыгрывает, и в петанк, и в шашки. А тут, я уверен, он проиграет. По-моему, глупо играть в игры, которых не знаешь. Я, например, никогда не играю в мяч, потому что у меня слишком тощие икры и другие стали бы смеяться надо мной. Зато я играю в шарики, в классики, в прятки, потому что всегда выигрываю.
– Но, дурачок, охота – не соревнование. Это прогулка с ружьем, и раз ему это нравится, значит пойдет ему на пользу. Даже если он не подстрелит дичи.
– Если он ничего не принесет, мне будет неприятно. Да, неприятно. И я перестану его любить.
У меня появилось желание заплакать, которое я заглушил бутербродом. Мама прекрасно это поняла и поцеловала меня.
– В чем-то ты, пожалуй, прав, – сказала она. – Вначале, конечно, папа не будет таким ловким, как дядя Жюль. Но через неделю он станет таким же метким, а через две, ты увидишь, уже он будет давать советы!
Она не лгала, чтобы меня утешить. У нее не было сомнений. Она была уверена в своем Жозефе. Но меня терзало беспокойство, какое терзало бы детей глубокоуважаемого господина президента Французской республики, если бы он сообщил им о своем намерении участвовать в летней велогонке «Тур де Франс».
Следующий день выдался еще более тяжелым.
Дядя Жюль разложил на столе части ружей и занялся их чисткой, одновременно предавшись воспоминаниям о своих охотничьих подвигах.
Он рассказывал о том, как в виноградниках и сосновых лесах своего родного Руссильона перестрелял десятки зайцев, сотни куропаток, тысячи кроликов, не говоря уже о «редчайших экземплярах».
– Однажды вечер-р-ром я возвр-р-ращался домой ни с чем и был взбешен, потому что дважды стрелял по зайцам и оба раза промахнулся!
– Почему? – спросил Поль с раскрытым ртом и округлившимися глазами.
– Забыл!.. Но факт, что я испытывал стыд и досаду… И вот, миновав Тапскую рощу, я вошел в виногр-р-радник Брукейр-р-роля, и что же я там вижу?
– Да, что же я вижу? – с тревогой в голосе переспросил Поль.
– Бартавеллу! – не удержавшись, воскликнул я.
– А вот и нет! – ответил дядя. – Оно не летало и было гораздо крупнее. Итак, что же я вижу? Бар-р-рсука! Огр-р-ромного бар-р-рсука, который уже уничтожил целый р-р-ряд великолепного сорта виногр-р-рада! Я мигом вскинул ружье к плечу и бабах!..
Далее всегда следовало одно и то же, что для нас всегда было ново.
Дядя стрелял, потом для верности «дублировал выстрел», и убитое наповал животное пополняло бесконечный список дядиных побед.
Отец молча слушал его героические рассказы и скромно, как и подобало подмастерью, чистил дуло своего ружья круглой щеточкой, прикрепленной к концу длинной палочки, а я меланхолично протирал тряпочкой спусковой крючок и скобу.
В полдень ружья были собраны, смазаны, вычищены до блеска, и дядя Жюль объявил:
– После обеда проведем испытания!
* * *
Повести о подвигах дяди не было конца, мы выслушивали ее на протяжении всего обеда и даже перенеслись в Пиренеи для рассказа об охоте на серну.
– Беру бинокль, и что же я вижу?
Поль напрочь забыл о еде, так что – после гибели двух серн – тетя и мать стали умолять рассказчика прервать на время эпопею, что, кажется, ему очень польстило.
Я воспользовался передышкой, чтобы ловко вставить личный вопрос.
С самого начала сборов я ни минуты не сомневался, что мне будет позволено сопровождать охотников. Но ни отец, ни дядя не высказывались по этому поводу со всей определенностью, а я не осмелился задать вопрос прямо, боясь решительного отказа: вот почему я пошел окольным путем.
– А собака? – спросил я. – Разве вам не понадобится собака?
– Да, не худо было бы иметь ее, – сказал дядя, – да где взять обученную собаку?
– Разве они не продаются?
– Конечно продаются! – сказал отец. – Но стоят самое меньшее пятьдесят франков!
– Это безумие! – воскликнула мать.
– Что вы! – возразил дядя. – Если бы можно было найти хорошую собаку за пятьдесят франков, будьте уверены, я бы ни секунды не колебался! Но за такую цену вы получите самую обыкновенную дворнягу, которая непременно потеряет след зайца и приведет вас к норе какой-нибудь крысы! Обученная собака стоит не менее восьмидесяти франков, а то и все пятьсот!
– И к тому же, – тут в разговор вмешалась тетя, – что мы будем делать с ней по окончании охотничьего сезона?
– Придется продать ее за полцены! А кроме того, – добавил дядя, – очень опасно держать собаку в доме, где есть младенец.
– Верно, – сказал Поль, – не ровен час, съест маленького кузена!
– Вряд ли! Но может, не желая того, заразить его какой-нибудь болезнью.
– Ангиной, например! – воскликнул Поль. – Уж я-то знаю, что это такое! Но у меня это было не от собаки, а от сквозняков!
Я не настаивал: собаки не будет. Значит, они рассчитывают на то, что за подстреленной дичью буду бегать я. Прямо об этом не говорилось, но это явно подразумевалось. И к чему было добиваться торжественного обещания взять меня на охоту, особенно в присутствии Поля, который выразил желание наблюдать за охотой «издалека» с ватой в ушах, что было расценено мной как необоснованная претензия, способная серьезно повредить моим собственным планам.
Поэтому я и промолчал.
После обеда взрослые пошли отдохнуть.
Мы воспользовались этим, чтобы оснастить рулями цикад: иначе говоря, мы втыкали черешки листьев миндаля в зад тотчас смолкавшим несчастным певицам, а потом я их подбрасывал вверх. Они начинали беспорядочно летать туда-сюда, а мы хохотали от души, глядя на них и на их немыслимые кульбиты.
Часа в три отец окликнул нас.
– Идите сюда! – закричал он. – Встаньте позади нас. Мы сейчас будем пробовать ружья!
Крепко привязав отцовский мушкет к двум параллельным веткам, дядя Жюль стал разматывать длинную бечевку, один конец которой приводил в действие спусковой рычаг. В десяти шагах от ружья он остановился.
Подоспевшие мать и тетя заставили нас отойти еще дальше.
– Осторожно! – сказал дядя. – Я вложил тройной заряд и буду стрелять из двух стволов одновременно! Если ружье взорвется, осколки просвистят у самых наших ушей!
Все спрятались за стволы олив и осторожно выглядывали оттуда.
Одни мужчины геройски стояли без прикрытия.
Дядя дернул за бечевку: мощный взрыв сотряс воздух, отец бросился к запеленутому, как младенец, ружью.
– Выдержало! – закричал он и стал весело срезать бечевку.
Дядя открыл затвор и стал внимательно его осматривать.
– Великолепно! – объявил он наконец. – Ни трещинки, ни какой-либо деформации! Огюстина, теперь я ручаюсь за безопасность Жозефа: это ружье столь же прочно, как артиллерийское орудие!
Но стоило успокоенным женам отойти, как он тихо сказал отцу:
– Однако увлекаться не стоит. Я могу, конечно, поручиться, что до этого испытания оружие было в полной исправности. Но случается иногда, что само испытание наносит стволу ущерб. Это риск, на который придется пойти. А теперь проверим кучность боя.
Он вынул из кармана газету, развернул ее и быстро зашагал по окаймленной ирисами дорожке, ведущей к уборной.
– У него что, живот схватило? – спросил Поль.
Но дядя не вошел в будочку: с помощью четырех кнопок он прикрепил развернутую газету к двери и тем же быстрым шагом вернулся к отцу.
Он зарядил свое ружье только одним патроном.
– Осторожно! – предупредил он, поднял ружье к плечу, прицелился и выстрелил.
Поль, заткнув уши пальцами, припустил бегом к дому.
Оба охотника поспешили к газете: она вся была буквально изрешечена.
Дядя Жюль долго с удовлетворенным видом рассматривал ее.
– Дробь легла кучно. Я сейчас выстрелил из ствола с чоком. Для тридцати метров – отлично!
Он вынул из кармана вторую газету.
– Теперь вы, Жозеф! – разворачивая ее, сказал он.
Пока он прикреплял новую мишень, отец зарядил свое ружье. Мать и тетя после первого выстрела вышли на террасу. Поль, наполовину спрятавшись за ствол смоковницы, смотрел только одним глазом, заткнув уши указательными пальцами.
Дядя рысцой отбежал назад и скомандовал:
– Пли!
Отец прицелился.
Я боялся, как бы он не промахнулся: это означало бы его окончательное унижение, после которого, на мой взгляд, следовало бы вовсе отказаться от охоты.
Он выстрелил. Раздался ужасный грохот, плечо отца резко дернулось. Направляясь к мишени спокойным шагом, он не выглядел ни взволнованным, ни удивленным, но я его опередил.
Отец попал в самую середину двери: дробинки окружали газету со всех четырех сторон. Во мне вспыхнуло ликующее чувство гордости, я стал ждать, что и дядя Жюль выразит свое восхищение.
Но тот подошел к мишени, осмотрел ее, обернулся и просто сказал:
– Не ружье, а лейка!
– Он попал в самую-самую середину! – гордо произнес я.
– Неплохой выстрел! – согласился дядя снисходительно. – Но взлетевшая куропатка имеет мало общего с дверью уборной. А теперь мы попробуем дробь номер четыре, пять и семь.
Каждый из них выстрелил еще по три раза, и всякий раз за этим следовали осмотр мишени и дядины комментарии.
– Для двух последних выстрелов возьмем самую крупную дробь! – наконец воскликнул он. – Жозеф, держите покрепче приклад, потому что я сделал полуторный заряд. А вы, дамы, заткните уши, потому что сейчас услышите гром!
Они выстрелили оба вместе: грохот был оглушительный, и дверь резко дернулась.
Улыбающиеся, довольные собой, они подошли к нам.
– Дядя, – спросил я, – это убило бы дикого кабана?
– Безусловно! – воскликнул дядя. – При условии попадания в цель…
– В уязвимую левую лопатку!
– Точно!
Он сорвал с двери прикрепленные к ней газеты, и я увидел десятка два маленьких свинцовых шариков, глубоко засевших в дереве.
– Крепкое дерево, – сказал дядя, – дробь не пробила его насквозь! А если б у нас были пули…
Пуль у них, к счастью, не было, потому что из-за двери мы услышали слабый голос. Кто-то робко спросил:
– Можно мне теперь выйти?
Это была наша «горничная».
День открытия охотничьего сезона приближался, и в доме ни о чем, кроме охоты, не говорили.
По окончании цикла эпических повествований дядя Жюль перешел к техническим объяснениям и наглядным демонстрациям. В четыре часа, после полуденного отдыха, он обычно говорил:
– Жозеф, я сейчас перед вами произведу разбор «королевского выстрела», который в то же время является «королем выстрелов». Слушайте внимательно! Вы спрятались за кусты, ваша собака между тем обегает виногр-р-радник. Если она знает свое дело, то кр-р-расные кур-р-ропатки полетят прямо на вас. Тут вы делаете шаг назад, но ружье не поднимаете, потому что дичь увидит его и успеет улететь. Как только пернатые появляются в поле вашего зрения, вы вскидываете ружье и прицеливаетесь. Но в самый момент выстр-р-рела вы резко поднимаете конец ствола сантиметров на десять, нажимая на спусковой крючок, опускаете голову и нагибаетесь.
– Почему?
– Потому что если вы попали, то тут же получите прямо в лицо птицу весом в килограмм, мчащуюся со скоростью шестьдесят километров в час. А теперь перейдем к практике. Марсель, сбегай за моим ружьем.
Я бросался в столовую, откуда возвращался уже медленно, с благоговением прижимая к груди драгоценное оружие.
Дядя всякий раз открывал затвор, желая убедиться, что ружье не заряжено.
Потом он занимал позицию за живой изгородью сада. Отец, Поль и я располагались за его спиной полукругом. Сдвинув брови, пригнувшись и прислушиваясь, дядя старался разглядеть сквозь листву не жалкую каменистую дорожку, а золотые виноградники Руссильона. Вдруг он дважды издавал пронзительный и короткий лай. Потом с силой, но через расслабленные губы выдувая воздух, подражал шуму, с которым взлетает стайка красных куропаток. Затем делал тот самый шаг назад и пристально всматривался в небо поверх изгороди. Потом рывком поднимал конец ствола и кричал: «Пах! Пах!» После чего мы вчетвером, втянув головы в судорожно сжатые плечи, стояли не шевелясь, закрыв глаза и готовясь выдержать удар «птицы весом в килограмм, мчащейся со скоростью шестьдесят километров в час».
Дядя нас освобождал своим «Бум!.. Бум!». Это означало, что две куропатки упали за нами. Минуту он шарил взглядом, ища их, после чего одну за другой подбирал с земли, потому что во время своих демонстраций он непременно убивал «по две штуки зараз». Наконец, свистнув собаку, тяжелым шагом усталого охотника возвращался и садился в тенек.
– Должно быть, это непросто, – обычно задумчиво говорил отец.
– Еще как непросто! Тут нужна сноровка! Признаться, никогда не слышал, чтоб новичку этот выстрел удавался с первого раза… Но если у вас есть способности, о чем я пока не могу судить, вполне возможно, что через год… Попробуйте-ка!
Отец покорно, в свою очередь, брал ружье и в точности повторял пантомиму дяди Жюля.
Иногда по утрам мы с отцом отправлялись по дороге к ложбине Рапон. По обеим сторонам дороги стояли невысокие деревца; мы тайком репетировали «королевский выстрел»: я исполнял роль куропатки и, когда мне надо было взлететь, изо всех сил бросал поверх кустов камень, а отец, резко вскинув ружье к плечу, старался поточнее навести на него дуло…
Когда отец обучался стрельбе по кроликам, я без предупреждения бросал в траву старый полусгнивший деревянный шар, единственный уцелевший от комплекта кеглей, когда-то служивших прежним хозяевам.
Иногда он велел мне спрятаться в кусты и закрыть глаза. Там я ждал, весь обратившись в слух и стараясь уловить малейший шорох. И вдруг, положив мне руку на плечо, отец спрашивал: «Ты слышал, как я подошел?»
Итак, отец готовился к открытию сезона так тщательно, послушно и прилежно, что впервые в своей жизни я стал сомневаться в его всемогуществе, и мое беспокойство все возрастало.
Занялась очередная заря, наконец настал канун великого дня.
Стали примерять охотничьи костюмы. Папа купил себе синюю кепку, которая мне показалась очень эффектной, коричневые кожаные гетры и высокие башмаки на веревочной подошве. Дядя Жюль надел баскский берет, сапоги со шнурками спереди и совершенно необыкновенную куртку, которая стоит того, чтобы о ней было сказано несколько слов.
С первого взгляда моя мать заявила:
– Это не куртка! Это сорок карманов, пришитых друг к другу!
Карманы были даже на спине. Позже я убедился, что всякое богатство имеет и оборотную сторону.
Когда дядя что-нибудь искал в карманах, он сначала ощупывал куртку с лицевой стороны, потом подкладку, потом то и другое одновременно, чтобы определить местонахождение искомого предмета. Самым трудным было понять, как до него добраться.
Так, например, маленький дрозд, забытый им однажды в этом лабиринте, только через две недели известил о своем присутствии ужасающей вонью. Его сперва учуяла своим носом, а потом и нашла благодаря желтому клюву, проткнувшему подкладку, тетя Роза. Тут уж и дядя взялся проверять карманы, что позволило ему обнаружить кроличье ухо, кашицу из улиток и старую зубочистку, которая вонзилась ему под ноготь указательного пальца… И все же для извлечения трупика дрозда пришлось прибегнуть к ножницам.
Но в день примерки куртка произвела огромное впечатление и была воспринята как залог обильной добычи.
Церемония примерки перед зеркалом продолжалась весьма долго, было видно, что охотники получали от нее немалое удовольствие. Женам пришлось положить ей конец и отобрать у все еще любующихся собой мужчин их облачение, чтобы укрепить пуговицы.
Ружья были еще раз начищены и смазаны, мне выпала честь вкладывать патроны в кожаные гнездышки на поясах отца и дяди.
Потом с лупой в руке они стали исследовать полевую карту.
– Подъем начнем сразу за домом, – постановил дядя, – поднимемся до Редунеу, это здесь! – Он воткнул в карту булавку с черной головкой. – До этого места нам вряд ли попадется что-то стоящее, разве что дрозды, певчие или обыкновенные…
– Уже кое-что! – обрадовался отец.
– Пустяки! Наша цель – не будем строить иллюзий – это, конечно, не бартавелла, но хотя бы куропатка, кролик или заяц. Думаю, мы найдем их в Эскаупрес – так, во всяком случае, мне сказал Мунд де Парпальюн. Значит, от Редунеу мы спустимся в Эскаупрес, потом поднимемся до подножия Ле-Тауме, который обогнем справа, чтоб добраться до источника Тутового Дерева. Там пообедаем, примерно в полпервого, а затем…
Но продолжения разговора я уже не слышал, потому что думал о собственном плане.
Настало время поставить вопрос ребром и добиться подтверждения того, в чем я ничуть не сомневался, хотя моя уверенность и была несколько поколеблена необычно пассивным поведением окружающих по отношению ко мне.
О том, во что буду одет я, речи не заходило вовсе. Наверняка считали, что для охотничьей собаки мой костюм вполне пригоден…
Как-то утром я признался «горничной», что с нетерпением жду открытия сезона. Эта особа засмеялась и ответила:
– Напрасно ты воображаешь, что они возьмут тебя с собой!
Нелепые слова идиотки, к которой не стоило обращаться. Гораздо больше меня беспокоило другое: мне казалось, что я улавливал в поведении отца какую-то неловкость, несколько раз за столом он – без всякого повода – говорил, что сон необходим детям, всем детям без исключения, и что будить их в четыре часа утра очень опасно для их здоровья. Дядя горячо поддерживал его и даже приводил примеры из жизни маленьких детей, заболевших рахитом или туберкулезом только оттого, что их каждое утро заставляли вставать ни свет ни заря.
Я думал, что все эти речи предназначены для Поля с целью подготовить его к тому, что на охоту его не возьмут. Но тем не менее у меня от них остался какой-то очень неприятный осадок и нечто вроде смутного сомнения. Я набрался смелости.
Прежде всего нужно было куда-нибудь услать Поля.
Он как раз стоял перед дверью и самозабвенно щекотал брюшко цикады, которая пела от удовольствия, если только не пищала от боли.
Я протянул ему сачок для бабочек и шепнул, что в глубине сада я только что видел раненую колибри, которую можно поймать без труда.
Эта новость привела его в крайнее волнение: братишка отпустил цикаду и предложил: «Бежим туда!»
Я сказал ему, что никак не могу пойти с ним, потому что меня заставляют мыться, да еще с мылом.
Я хотел пробудить в нем жалость и в то же время вызвать страх, как бы и ему не вменили в обязанность сделать то же самое. Это мне вполне удалось: соблазненный надеждой поймать колибри и напуганный перспективой мытья, он вырвал у меня из рук сачок и исчез в зарослях дрока.
Я вошел в дом в тот момент, когда дядя Жюль, складывая карту, говорил:
– Двенадцать километров по холмам – это не так много, но все-таки и не так мало!
– А я буду нести еду, – храбро заявил я.
– Какую еду? – удивился дядя.
– Нашу. Я возьму две сумки и понесу еду.
– А куда? – спросил отец.
От этого вопроса у меня перехватило дыхание: я понял – он делает вид, что не понимает.
Я отчаянно бросился в бой и затараторил, делая остановки лишь затем, чтобы набрать воздуха.
– На охоту! У меня же нет ружья, значит я буду нести еду, это вполне естественно. Вам она может мешать. И потом, если вы положите продукты в ягдташи, то не будет места для дичи. И потом, я ведь хожу совсем бесшумно. Я хорошо изучил повадки краснокожих, умею ходить как команч. Я, например, ловлю цикад сколько хочу. И потом, я хорошо вижу издалека, на днях ведь это я показал вам того ястреба… вы еще не сразу его разглядели. И потом, у вас нет собаки, вы не сможете найти убитых куропаток, а я ведь маленький, легко проскальзываю через колючие кустарники… И потом, пока я буду их искать, вы сможете подстрелить других. И потом…
– Подойди ко мне! – Отец положил свою большую руку на мое плечо и посмотрел мне в глаза. – Ты слышал, что сказал дядя Жюль: двенадцать километров по холмам! С твоими маленькими ножками тебе столько просто не одолеть!
– Маленькие, но крепкие. Потрогай, они как дерево!
Он пощупал мои голени:
– Верно, у тебя хорошие мускулы…
– И потом, я же легкий. У меня нет такого толстого зада, как у дяди Жюля, так что я никогда не устаю!
– Ого! – отозвался дядя Жюль, очень довольный тем, что можно изменить тему разговора. – Мне не очень-то по душе, когда кто-то позволяет себе критиковать мой зад!
Я не стал вступать в спор и продолжал гнуть свое:
– Кузнечики вот тоже небольшие, а прыгают гораздо дальше тебя! И потом, когда дяде Жюлю было семь лет, отец всегда брал его на охоту. А мне теперь уже восемь с половиной исполнилось. А ведь дядя говорил, что отец у него был суровый. Значит, это несправедливо… И потом, если вы не хотите меня брать, я сразу же заболею, меня уже немного подташнивает! – С этими словами я подбежал к стене и, уткнувшись в локоть, разрыдался.
Отец не знал, что сказать, и только молча гладил меня по волосам.
Вошла мать и, не вымолвив ни слова, усадила меня к себе на колени.
Я был в крайнем отчаянии. Прежде всего потому, что открытие сезона представлялось мне началом великого пути в мир приключений, в неведомые гарриги, с которых я уже давно не сводил глаз. А главное, я хотел помочь отцу в предстоящем ему испытании: пробираться через непролазные кустарники и выгонять на него дичь. И даже если он не попадет в красную куропатку, я скажу: «Я видел, как она упала!» – и торжественно принесу ему несколько перьев, собранных мною в курятнике, чтобы поднять его дух. Но сказать об этом я не мог, и эта невысказанная любовь разрывала мне сердце.
– Вы слишком много говорили с ним об этом! – укоризненно проговорила мать.
– Это было бы опасно, – сказал отец, – особенно в день открытия сезона. Мы ведь будем не одни… А он маленький, в кустарнике его могут принять за дичь.
– Но я-то их увижу, охотников! – закричал я сквозь рыдания. – И если я заговорю с ними, они поймут, что я не кролик!
– Хорошо, обещаю: ты пойдешь с нами через два-три дня, когда у меня будет больше опыта и мы отправимся не так далеко.
– Нет и нет! Я хочу в день Открытия!
Тут дядя Жюль явил великодушие и благородство.
– Может быть, я вмешиваюсь не в свое дело, – сказал он, – но, по-моему, Марсель заслужил быть на Открытии вместе с нами. Ну не плачь. Пусть несет продукты, как и предложил, и тихонько следует за нами на расстоянии десяти шагов! Согласны, Жозеф? – спросил он отца.
– Если согласны вы, я не против.
От благодарности, вызвавшей новые слезы, у меня перехватило дыхание.
Мать нежно погладила меня по голове и поцеловала мокрые от слез щеки.
Тогда я бросился к дяде, вскарабкался на него и прижал его большую голову к своему громко стучавшему сердцу.
– Успокойся! Успокойся! – повторял отец.
Запечатлев два звонких поцелуя на дядиной щеке, я спрыгнул вниз, поцеловал руку отца и, воздев руки к небу, исполнил дикую пляску, закончившуюся прыжком, который перенес меня на стол, откуда я начал посылать тысячу воздушных поцелуев присутствующим.
– Только не надо говорить об этом Полю, потому что он очень маленький. Он не сможет пойти так далеко, – сказал я некоторое время спустя.
– Ну и ну! – сказал отец. – Значит, хочешь солгать своему брату?
– Лгать не буду, просто ничего ему не скажу.
– А если он сам заговорит с тобой об этом? – спросила мать.
– Солгу, это ведь для его же пользы.
– Он прав! – постановил дядя и, посмотрев мне прямо в глаза, добавил: – Ты только что произнес очень важные слова, постарайся их не забыть: разрешается лгать детям, когда это для их же пользы. Не забудь! – повторил он.
Но тут появился Поль, несколько сконфуженный тем, что не нашел раненую птицу, и разговор сразу же прекратился.
* * *
Радость моя была так велика, что за ужином я не мог есть, несмотря на замечания матери. Но после того как дядя заговорил об аппетите охотников как о черте, характерной для этого племени, я проглотил отбивную котлету и потребовал добавки жареной картошки.
– Что с тобой? – спросил отец.
– Набираюсь сил на завтра!
– А что ты собираешься делать завтра? – спросил дядя тоном ласкового любопытства.
– Как! Собираюсь на открытие.
– Открытие? Но ведь это не завтра! – воскликнул он. – Завтра воскресенье! Неужели ты думаешь, что в этот день разрешается убивать божьих тварей? А обедня, как быть с ней? Ах да! Вы ведь семья безбожников! Вот почему этому ребенку пришла в голову сумасшедшая мысль, что можно открывать охоту в воскресный день!
Я был поражен:
– Но тогда когда же это?
– В понедельник… послезавтра.
Это была удручающая новость, потому что предстоящий день ожидания обещал быть сплошной пыткой. Что поделаешь? Я смирился, очень неохотно, но молча. Потом дядя Жюль объявил, что засыпает на ходу, и все разошлись спать.
Уложив маленького Поля, мать подошла поцеловать меня на сон грядущий и сказала:
– Завтра, пока ты будешь делать стрелы, я закончу новые индейские костюмы. А на обед будет пирог с абрикосами и взбитыми сливками.
Я понял, что она обещает мне это лакомство, чтобы смягчить мою досаду, и нежно поцеловал ее руки.
Но как только она вышла, заговорил маленький Поль. Я его не видел, потому что мать задула свечку. Его тонкий голосок был спокоен и холоден:
– А я знал, что они тебя не возьмут на Открытие. Я в этом был уверен!
– А я вовсе и не просился с ними, – лицемерно ответил я. – Открытие – это не для детей.
– Ты большой лгун. Я сразу же понял, что колибри – это для отвода глаз. Поэтому быстро вернулся, встал под окно и слышал все, что вы говорили и как ты плакал! И даже как ты пообещал солгать мне. Но мне, знаешь, наплевать на охоту. Настоящие выстрелы меня пугают. Но все-таки ты лгун, а дядя Жюль – лгун похлеще тебя.
– Почему?
– Потому что это завтра. Я-то знаю. Мама приготовила после обеда яичницу с помидорами и положила ее в ягдташи вместе с огромной колбасой, отбивными котлетами, хлебом и бутылкой вина. Я все видел. А ягдташи спрятаны в шкафу на кухне, чтоб ты не видел. Они рано утром отправятся, а ты останешься в дураках.
Эта новость была ошеломляющей, но я отказывался ей поверить:
– Значит, ты смеешь утверждать, что дядя Жюль сказал неправду? Я видел его в сержантской форме, дядю Жюля-то! И у него есть орден!
– А я тебе говорю, что они идут на охоту завтра. А теперь не разговаривай со мной больше, потому что я хочу спать.
Тоненький голосок замолк, и я остался лежать в ночи с широко раскрытыми глазами, терзаемый сомнениями.
Имеет ли право лгать сержант? Конечно нет. Доказательство – сержант Бобийо.
Но тут я вспомнил, что дядя Жюль никогда не был сержантом и что это я сам – в расстройстве – только что выдумал. К тому же в его прошлом была страшная история с парком Борели.
Как он поступил, когда я раскрыл его самозванство? Просто, без всякого смущения, рассмеялся.
Тем не менее я начал было искать оправдание тому уже давнишнему вранью, чтобы хоть как-то смягчить его теперешнюю доказательную силу, когда вдруг страшное воспоминание промелькнуло в моей голове.
Именно сегодня после обеда, когда я имел глупость сказать, что собираюсь соврать Полю – для его же пользы, – дядя Жюль очень охотно ухватился за мои слова. Он горячо одобрил их, желая заранее оправдать свою преступную комедию.
Я был в отчаянии от этого предательства. А мой отец, который ни слова не сказал мне! Мой отец, который оказался немым соучастником заговора, направленного против его маленького сына… И мама, моя дорогая мама, которая придумала утешительные взбитые сливки… Я совсем расчувствовался, думая о своей печальной доле, и тихо заплакал. Звучавший серебряной флейтой зов совы вдалеке еще более усиливал мое отчаяние.
Потом мной овладело сомнение: Поль иногда бывал дьявольски хитер. Не выдумал ли он эту историю, чтоб отомстить мне за фокус с колибри?
Весь дом, казалось, спал; я без малейшего шума встал, мне понадобилось не меньше минуты, чтобы повернуть ручку двери… Из-под дверей других комнат не выбивался свет. Я босиком спустился вниз, ни одна ступенька не скрипнула. Лунный свет, проникающий в кухню, помог мне отыскать спички и свечку. Стоя перед дверью рокового шкафа, я минуту колебался. За этим куском бесчувственного дерева мне предстояло обнаружить доказательства злодейства дяди Жюля или коварства Поля – в любом случае меня ждало душевное потрясение…
Я медленно повернул ключ… потянул к себе дверцу… она подалась… Я вошел в просторный стенной шкаф, поднял свечку: оба больших ягдташа из натуральной кожи с карманами из сетки предстали моим глазам… Они были набиты до краев, были готовы лопнуть, из каждого торчало по закупоренному горлышку бутылки… На полке, рядом с ягдташами, лежали оба патронташа, в которые я собственноручно вкладывал патроны. Какой готовился праздник! Огромное возмущение поднялось во мне, и я принял отчаянное решение: я пойду с ними вопреки их воле!
С кошачьей ловкостью поднялся я обратно в спальню и составил план.
Прежде всего – необходимо держать глаза открытыми. Если я засну, все пропало. Ни разу в жизни мне еще не удавалось проснуться в четыре утра. Значит, не засыпать.
Во-вторых, приготовить одежду, которую, верный своим привычкам, я разбросал по всей комнате… На четвереньках, в темноте, я отыскал свои носки и сунул их в ботинки.
После довольно долгих поисков под кроватью Поля нашлась моя рубашка. Я вывернул ее налицо, то же самое сделал с трусами и положил все это на кровать в изножье. Затем я снова лег, очень гордый принятым решением, и изо всех сил раскрыл глаза.
Поль спокойно спал. Теперь уже две совы перекликались через равные промежутки времени. Одна сидела поблизости от моего окна, наверное на большом миндальном дереве. А голос другой, не такой низкий, но, по-моему, более красивый, доносился снизу, из лощины. Мне пришло в голову, что это жена отвечает мужу.
Узкий луч лунного света просачивался через дырочку в ставне, отчего сверкал стакан на моей тумбочке. Дырочка была круглая, а луч плоский. Я решил узнать у отца объяснение этому явлению.
Вскоре сони на чердаке затеяли возню, закончившуюся дракой с прыжками и тонким визгом. Потом наступила тишина, и через стенку до меня донесся храп дяди Жюля, спокойный и размеренный храп честного человека… или отпетого мошенника. «По-моему, – сказал он, – Марсель заслужил быть с нами на Открытии!»
Быстроногий Олень действительно прав: у бледнолицых двойной язык!
И у него хватило духу лгать мне «для моей же пользы»!.. Значит, довести меня до отчаяния – это и есть моя польза? А я-то с такой нежностью прижал его к своей груди!
Я торжественно поклялся, что никогда ему этого не прощу.
Потом я стал думать о немом предательстве отца, но дал себе слово хранить молчание об этом удручающем событии, и пошел быстрее по тропинке, окаймленной неколючими кустарниками, которые ласково касались моих голых ног. В руках у меня было длинное, как удочка, ружье, которое сверкало на солнце. Моя собака, белый спаниель с огненно-рыжими пятнами, бежала впереди, принюхиваясь и время от времени издавая жалобный лай, точь-в-точь похожий на музыкальный зов совы; другая собака издалека отвечала ей. Вдруг невдалеке вспорхнула огромная птица с клювом аиста, но это была бартавелла. Она быстро и мощно летела прямо на меня. «Королевский выстрел!» Я сделал шаг назад, прицелился… резкий толчок вверх, бабах! Бартавелла в облаке перьев упала к моим ногам. Я не успел ее поднять, потому что прямо на меня летела вторая птица. Десять, двадцать раз мне удалось сделать «королевский выстрел», к великому изумлению дяди Жюля, который с отвратительным лицом лжеца вдруг показался из зарослей. Тем не менее я угостил его взбитыми сливками и оставил ему всех своих бартавелл с такими словами: «Позволяется лгать взрослым, когда это для их же пользы!» После чего я лег под дерево и совсем было заснул, но тут моя собака подбежала ко мне и зашептала мне в ухо: «Эй! Они уходят без тебя!»
Я проснулся. Поль стоял у моей кровати и тихо тянул меня за волосы.
– Я слышал, – сказал он, – как они прошли мимо двери. Прислушались. Я увидел свет через замочную скважину. А потом спустились вниз на цыпочках.
На кухне из крана текла вода. Я поцеловал Поля и бесшумно оделся. Луна уже зашла: тьма была непроглядная. Я на ощупь отыскал одежду.
– Что ты делаешь? – спросил Поль.
– Пойду с ними.
– Они этого не хотят.
– Я буду следовать за ними на расстоянии, по-индейски, все утро… В полдень, когда, как они говорили, они присядут обедать у какого-нибудь колодца, я возникну перед ними, а если они захотят послать меня обратно, скажу, что собьюсь с пути, и они не решатся на это.
– А может, ты получишь здоровую оплеуху.
– Что поделаешь! Я уже получал, иногда совсем ни за что…
– Если ты спрячешься в кустах, может, дядя Жюль примет тебя за дикого кабана и убьет. Так ему и надо, только ты-то будешь мертв!
– Не беспокойся за меня.
Тайное заимствование у Фенимора Купера позволило мне добавить: «Пуля, которая меня убьет, еще пока не отлита!»
– А маме что сказать?
– Она с ними внизу?
– Я не знаю… Ее я не слышал.
– Я оставлю ей записку на кухонном столе.
С большими предосторожностями, не задев ставни, я открыл окно. Взобрался на подоконник и прижал глаз к той самой лунной дырочке.
Светало. Вершина Ле-Тауме над еще темными плоскогорьями была розово-голубая. Во всяком случае, я четко видел дорогу к холмам: они не смогут ускользнуть от меня.
Я стал ждать. Вода на кухне перестала течь.
– А если встретишь медведя? – прошептал Поль.
– Их здесь никто никогда не видел.
– Может быть, они прячутся. Будь очень осторожен. Возьми острый нож на кухне в ящике.
– Прекрасная мысль. Возьму.
В тишине мы услышали шаги, стук подбитых гвоздями башмаков. Затем открылась и закрылась дверь.
Я кинулся к окну и чуть-чуть приоткрыл ставни. Предатели обошли дом и стали подниматься к опушке соснового леса – тут уж я их увидел. Папа был в своей кепке и кожаных гетрах. Дядя Жюль – в берете и сапогах со шнуровкой спереди. Оба были красивы, несмотря на нечистую совесть, и шли бодрым шагом, словно убегали от меня.
Я поцеловал Поля, который тут же опять лег в кровать, и спустился на первый этаж. Там я быстренько зажег свечку и написал на странице, вырванной из своей тетрадки:
Милая мамочка! Они в конце концов взяли меня с собой. Не порть себе кровь.
Оставь мне взбитых сливок. Целую тебя две тысячи раз.
Я положил записку на видное место на кухонном столе. Потом быстро сунул в сумку кусок хлеба, две плитки шоколада и апельсин. И наконец, сжимая ручку острого ножа, бросился вслед за «руженосцами».
Я их уже не видел и ничего не слышал. Но для команча найти их было плевым делом.
Как можно бесшумнее я добежал по склону холма до опушки соснового бора. Остановился, прислушался: кто-то шел по камням чуть выше. Я снова побежал, цепляясь по пути за колючие кустарники, и вскоре добрался до конца соснового бора на краю плато: когда-то здесь разводили виноград. Теперь здесь росли сумах, розмарин и можжевельник. Их кусты были не очень высокими, и я увидел вдали кепку и берет. Они все еще несли ружья на плече и шли тем же бодрым шагом. У высокой сосны они остановились: берет стал спускаться по склону косогора налево, а кепка продолжала идти прямо. Она то появлялась, то исчезала, эта кепка, как будто не шла, а кралась.
Я понял: охота началась… Сердце в груди забилось быстрее… Я затаил дыхание и стал ждать.
Вдруг раздался оглушительный выстрел, эхо которого потом долго перекатывалось по крутым склонам ложбины… Я подскочил к ближайшей сосне, в крайнем испуге влез на нее и уселся верхом на толстую ветку, боясь внезапного появления дикого кабана, того самого, который размотал на целых десять метров кишки однорукого браконьера.
Так как никто не появлялся, я начал опасаться, как бы зверь не выпотрошил отца, и стал молить Бога – если Он действительно существует – направить кабана на дядю, который верил в рай, а потому с большей охотой отправился бы к праотцам.
Но тут слева от меня над кустом можжевельника появился берет: в высоко поднятой руке он держал черную птицу размером с небольшого голубя и кричал: «Отменный дрозд!»
Кепка, вынырнув из зарослей дрока, быстро приблизилась к берету. Они, по-видимому, о чем-то условились и снова разошлись.
Я мигом соскользнул с дерева и стал размышлять. Стоит ли спускаться за ними в лощину? Высокие кустарники помешают мне видеть охоту, к тому же, как сказал отец, мне будет угрожать шальной выстрел.
Если же продолжать двигаться по хребту вдоль обрыва позади скипидарных деревьев, можно все видеть, оставаясь при этом незамеченным. К тому же, если они ранят дикого кабана, я буду вне пределов досягаемости и даже смогу прикончить чудовище, сбрасывая на него каменные глыбы. Итак, я бросился вперед через кермесовые дубки, которые царапали мои голени, через заросли можжевельника и дрока. Сначала я сделал довольно большой крюк по плато, потом нырнул в гущу кустарника и добрался до края обрыва.
Они шли по широкой лощине меж голубых скал. Посередине вилось высохшее русло дождевого ручейка. Деревьев было мало, зато повсюду тянулись густые заросли колючего аржераса, которые доходили охотникам до пояса.
Отец шел по склону с моей стороны. Ружье он нес прямо перед собой, локтем прижимая к телу приклад, правую руку держа на спусковом крючке, а левую на скобе. Он шел осторожным шагом, слегка пригнувшись к земле, переступая через заросли колючих кустарников.
Он выглядел красиво (красиво и грозно!), и в эту минуту я очень гордился им. Дядя шел параллельно ему по противоположному склону. Время от времени он останавливался, поднимал камень и, бросив вниз в глубину лощины, ждал несколько секунд: я видел их гораздо лучше, чем если бы был вместе с ними.
После третьего брошенного им камня из кустарника вдруг вылетела крупная птица и стрелой понеслась прочь от охотников. Дядя с волшебной быстротой вскинул ружье на плечо, прицелился и выстрелил: птица камнем упала вниз, несколько перьев, падая вслед за ней, медленно закружились в солнечных лучах.
Перепрыгивая через колючки, отец кинулся вперед, поднял добычу и издалека показал ее дяде. Тот закричал: «Это бекас! Положите его в свой ягдташ и снова держитесь своего направления в двадцати метрах от обрыва!»
Такая меткость, такое хладнокровие, такое мастерство восхитили меня: дядя Жюль только что доказал, что все его охотничьи рассказы – чистая правда. Я почувствовал, как моя злость на него тает вместе с желанием снять с него скальп: такой Буффало Билл имеет право на все! Вспомнив, что я его племянник, я гордо выпятил грудь.
Охотники продолжали двигаться вперед; когда же они миновали мой наблюдательный пункт, я начал осторожно отступать и по обширному плато, заросшему колючим кустарником, описал еще одну дугу, чтобы снова быть впереди. Солнце сверкало в двух метрах над горизонтом, я бежал в аромате попираемой моими ногами утренней лаванды.
Когда мне показалось, что я обогнал их, я свернул к обрыву, но вдруг увидел, что передо мной бежит что-то вроде курицы с золотым оперением и красными пятнами у основания хвоста. Я замер от волнения: красная куропатка! Это красная куропатка!.. Она неслась быстро, как крыса, и скоро скрылась в недрах огромного куста можжевельника. Не раздумывая я бросился за ней. Но красные перья бежали уже с другой стороны куста, потому что курица была не одна: я увидел двух, потом четырех, потом целый десяток похожих птиц… Тут я взял чуть правее, вынуждая их бежать к обрыву, и этот маневр мне удался. Но они не стали взлетать, будто понимая, что мое невооруженное присутствие не требует от них крайних мер. Я поднял с земли несколько камней и бросил их: раздался оглушительный треск, напоминающий грохот, производимый опорожняемой железной вагонеткой. Я перепугался и несколько секунд ждал появления какого-нибудь чудовища и только потом понял, что это взлетела стая куропаток. Она пронеслась к обрыву и нырнула в лощину.
Когда я добежал до края обрыва, почти одновременно раздалось два выстрела. Я увидел отца, который только что выстрелил и теперь следил взглядом за полетом великолепных куропаток… Они спокойно и плавно, как всегда, парили в утреннем воздухе…
Но тут из развесистого куста дрока вдруг вынырнул берет, над которым торчало ружье. Он не спеша выстрелил: первая куропатка качнулась влево и упала, будто сорвавшись с неба. Остальные рванулись вправо, ружье описало дугу, и раздался второй выстрел: вторая куропатка словно взорвалась в воздухе и почти отвесно упала вниз. Я тихо вскрикнул от радости… Поискав немного, охотники нашли добычу, лежавшую на расстоянии пятидесяти метров друг от друга, и подняли ее высоко над головой. С криком «браво» отец стал укладывать куропатку в ягдташ. Но тут я с удивлением заметил, что он подскочил на месте и принялся судорожно вынимать из ружья пустые гильзы: великолепный заяц, только что пробежавший меж его ног, не дождался окончания этой процедуры и скрылся в кустах, задрав хвост и навострив уши…
Дядя Жюль, возведя руки к небесам, восклицал:
– Несчастный! Нужно было ср-р-разу же пер-р-резар-р-р-яжать! Как только выстр-р-релил, тут же пер-р-р-езар-р-ряжай!!!
Отец удрученно развел руками, став похожим на распятие, и грустно пер-ре-зар-р-рядил ружье.
На протяжении всей этой сцены я продолжал стоять на самом краю обрыва, но охотники, загипнотизированные куропатками, не замечали меня. Я вдруг сообразил, как был неосторожен, и, сделав несколько шагов назад, вновь спрятался.
Я был потрясен нашей неудачей, принявшей для меня масштабы настоящей катастрофы. Отцу два раза подряд не удавался «королевский выстрел», а заяц, глумясь над ним, заставил его выполнить легкое антраша, перед тем как показать ему свой зад. Это было удручающе комично.
Я тотчас начал подбирать ему оправдания: находясь под самым обрывом, он не мог видеть приближения куропаток, тогда как дядя Жюль стрелял в них словно в тире.
С другой стороны, отец еще не привык к своему ружью, а дядя Жюль сказал, что это как раз самое важное… И наконец, это первая его охота, первые охотничьи переживания, и потому ему не пришло в голову «пер-р-резар-р-рядить». Но в конечном счете я был вынужден признать, что этот эпизод подтверждает мои опасения, и принял твердое решение никогда никому не говорить об этом, а особенно ему самому.
Что будет теперь? Удастся ли ему сделать достойный выстрел? Он, мой отец, школьный учитель, член выпускной экзаменационной комиссии, человек, который так легко сбивает шары противника, который часто играет в шашки против знаменитого Рафаэля на глазах у толпы шашечных знатоков, – неужели он придет с охоты ни с чем, тогда как дядя Жюль будет увешан куропатками и зайцами, словно витрина мясной лавки? Нет, нет и нет! Этому не бывать! Я буду весь день следовать за ним и загонять к нему столько птиц, кроликов и зайцев, что хоть одного из них он в конце концов да убьет!
Все это я обдумывал, нервно жуя веточку розмарина, прислонившись спиной к сосне, на которой среди аромата разогретой на солнце смолы стрекотали маленькие черные цикады, обитатели холмов, как будто пилили сухой тростник. Я снова задумчиво двинулся вперед, сунув руки в карманы и опустив голову. Прервал мои размышления приглушенный расстоянием выстрел. Я рванул к краю обрыва. Охотники были уже довольно далеко от меня: они подходили к концу лощины, выходившей на большую каменистую равнину… Я бросился догонять их, но увидел, как они повернули направо и исчезли в сосновом бору у подножия Ле-Тауме, которое вдруг выросло передо мной.
Я решил спуститься на дно лощины и идти по их следам… Но оказался у обрыва метров в сто. Не было видно никакого спуска. Я подумал, не вернуться ли мне назад по собственным следам, чтобы отыскать дорогу, по которой пошли они, когда я от них отстал. Прошло уже больше часа с начала охоты. Я подсчитал, что мне понадобится по меньшей мере двадцать минут только для того, чтобы вернуться на прежнее место, и то если бегом. А потом придется подниматься по лощине, а по ней трудно бежать из-за кустов колючего дрока выше меня: значит, еще добрых полчаса! А за это время где они окажутся! Я сел на большой камень, чтобы обдумать положение.
Может быть, просто-напросто вернуться домой? Тогда я, бесспорно, утрачу свой авторитет у Поля, а мать будет меня утешать с оскорбительной для меня нежностью. Мне, правда, останется слава храброго разведчика и полного опасностей возвращения домой, которые при умелом рассказе выиграют еще больше. Но имею ли я право покинуть Жозефа? Со смехотворным ружьем в руках и в очках от близорукости? Сможет ли он выстоять против короля охотников? Нет! Такая измена с моей стороны будет хуже его предательства.
Итак, проблема состояла в том, как их догнать… Не собьюсь ли я с пути в этих безлюдных местах?
Но я с дерзкой усмешкой отогнал от себя эти детские страхи: надо лишь сохранять хладнокровие и решительность истинного команча. Раз они обходили гору вдоль подножия, слева направо, значит я с ними непременно встречусь, если пойду напрямик. Я принялся разглядывать Ле-Тауме. Гора была огромная, и мне предстояло преодолеть очень большое расстояние. Я решил сэкономить силы, подражая легкому бегу индейцев: прижать локти к бокам, скрестить руки на груди, откинуть плечи назад и опустить голову. Бежать на цыпочках. Остановка через каждые сто метров, чтобы прислушаться к лесному шуму и сделать три спокойных и глубоких вдоха.
С чисто индейской решительностью я двинулся в путь.
Подъем теперь стал едва ощутим. Под ногами была огромная плита голубоватого известняка, изрытая трещинами и покрытая, словно вышивкой, тимьяном, рутой и лавандой… Кое-где попадались выросшие прямо на камнях стрельчатый можжевельник или одинокая сосенка ростом чуть выше меня, сучковатый и толстый ствол которой так контрастировал с ее небольшой высотой: было ясно, что это вечно голодное деревце не один год ведет жестокий бой с камнем и что всего одна капля сока стоит ему немало дней терпения.
По левую руку от меня располагалась вершина Ле-Тауме, слишком долго мокнувшая в небе и ставшая оттого бледно-голубого цвета – цвета застиранного белья; я легко бежал к ее левому подступу сквозь подернутый дымкой и трепетавший от зноя воздух. Каждые сто метров, соблюдая индейский ритуал, я останавливался и трижды наполнял грудь воздухом.
Спустя двадцать минут я оказался под самой вершиной, и пейзаж изменился. Каменистое плато пересекала берущая тут начало дикая лощина; между каменными глыбами росли громадные сосны и высокие колючие кустарники.
Я легко спустился на дно лощины, но взобраться на другой ее склон оказалось делом невозможным: с расстояния я недооценил высоту, а потому дальше пошел низом вдоль обрыва, уверенный, что найду какой-нибудь лаз, ведущий наверх.
Завесы из длинных стеблей ломоноса и переплетающиеся скипидарные деревья не позволяли мне продвигаться вперед с прежней скоростью, и легкая трусца индейского вождя замедлилась. Листочки кермесовых дубков, каждый из которых был обрамлен четырьмя торчащими колючками, набивались в мои башмаки на веревочной подошве, оттого что те при ходьбе на цыпочках чуть разошлись по бокам: время от времени я останавливался, снимал туфли и выколачивал их о камни, чтобы избавиться от колючек.
То и дело из-под ног или над головой взлетали птицы… Я не мог ничего видеть дальше десяти метров вокруг себя. Деревья, густые кустарники и крутые склоны лощины заслоняли от меня остальной мир.
Во мне зародилась смутная тревога: я достал из сумки грозный острый нож и крепко сжал его в руке.
Воздух был неподвижен, острые запахи холмов словно невидимым дымком наполняли дно лощины. Тимьян, лаванда и розмарин окрашивали в зеленый цвет золотистый аромат древесной смолы, длинные застывшие слезы которой блестели в светлой тени на черной коре деревьев. Я совершенно бесшумно продвигался в полной тишине, как вдруг в нескольких шагах от меня раздался ужасающий грохот.
Это была какофония из неистовых трубных звуков, душераздирающих рыданий и отчаянных воплей.
Таинственные звуки достигали такой силы, которая возможна лишь в каком-нибудь кошмарном сне, эхо, отражаясь от склонов лощины, приумножало их и еще более усиливало.
Я замер на месте, задрожав и похолодев от ужаса. Вдруг все стихло и наступила какая-то неестественная тишина, показавшаяся мне еще более угрожающей. В это мгновение позади меня по кромке обрыва пробежал кролик, отскочивший из-под его лап камешек сорвался и покатился вниз до самой осыпи голубых камней, веером раскинувшейся на выступе, напоминающем балкон. Вся осыпь сдвинулась с места, и раздался такой звук, словно повалил град или началось светопреставление; мои стопы завалило камнями. Несчастный вождь команчей подскочил как ужаленный и повис на сосне, ствол которой он, то есть я, прижимал к сердцу, как родную мать. Я глубоко дышал, прислушиваясь к тишине. Как приятно было бы услышать сейчас цикаду! Но цикады здесь не водились.
Я был со всех сторон окружен сосновыми ветками, а внизу на сухих иголках блестело лезвие моего ножа.
Только я собрался бесшумно спуститься вниз, как снова раздалась грозная какофония, еще более мощная, чем прежняя. Охваченный паническим страхом, я добрался почти до вершины сосны, больше не в силах сдерживать слабые стоны… И вдруг увидел на самых верхних ветках высохшего дуба с десяток сверкающих птиц: крылья их были ярко-голубыми с двумя белыми полосками, шейки и гузки светло-бежевого цвета, хвосты черные с голубым, клювы ярко-желтые. Без всякой причины, будто ради одного лишь удовольствия, закинув голову назад, они остервенело, с демонической силой ревели, кричали, стонали, мяукали. Страх сменился яростью. Я соскользнул с дерева, поднял свой нож, затем великолепный плоский камень и бросился к дереву, где сидели эти сумасшедшие. Но, заслышав мои шаги, вся компания взлетела и перенесла свой дурацкий концерт на сосну на вершине обрыва.
Я сел на раскаленные камни якобы затем, чтобы еще раз вытряхнуть башмаки, а на самом деле чтобы прийти в себя после стольких переживаний, и съел целую полоску шоколада.
Я долго прислушивался к холму, но не услышал ничего, кроме мертвой тишины. Что такое? Ни единого охотника в день открытия? Я только потом узнал, что никто из местных в этот день на охоту не выходит: считается постыдным платить за «право на охоту» на родных землях, и в этот день местные жители сидят по домам, опасаясь усердия жандармов из Обани, особенно рьяно выполняющих свои обязанности в день открытия сезона.
Я осмотрелся, желая прикинуть, сколько я прошел, и увидел высоко в небе незнакомую гору, каменистая вершина которой имела чуть ли не пятьсот метров в длину. Это была Ле-Тауме, но поскольку я всегда видел ее с другой стороны, то и не узнал. Так и первый астроном, который увидит обратную сторону Луны, занесет ее в разряд новых светил.
Сначала я растерялся, а потом забеспокоился. Я еще раз огляделся вокруг, но не обнаружил ни одного знакомого ориентира и понял, что нужно идти назад, домой, или, точнее, по направлению к дому, а чтобы не опозориться, решил никому не показываться на глаза и ждать, пока вернутся охотники, на опушке соснового леса. И только вместе с ними войти в дом.
Итак, я пошел обратно по собственным следам, что мне казалось проще простого, но я не учел коварства природы. Дороги, которые ты оставляешь позади себя, пользуются этим, чтобы изменить свой облик. Тропинка шла вправо, а теперь передумала – и вот идет влево… Раньше она спускалась полого вниз – и вот поднимается вверх, как свежая насыпь, а деревья играют в третьего лишнего.
Но я был на дне лощины, и сомнений быть не могло: дорога одна – нужно повернуть назад и идти вверх по лощине, не принимая во внимание колдовство природы.
Сжимая в руке нож, я пошел обратно. Как настоящий команч, я искал свои следы: отпечаток ноги, сдвинутый с места камень, сломанную ветку.
Ничего не найдя, я вспомнил о великолепной смекалке, которой отличался Мальчик-с-пальчик, гениальный изобретатель приема, помогающего не заблудиться в незнакомом месте, но подражать ему было уже поздновато.
Неожиданно я вышел на своеобразный перекресток: лощина разветвлялась на три узких ущелья, которые куриной лапой поднимались до склона таинственной горы… при спуске двух из них я не заметил…
Как это могло произойти? Я стал соображать, поочередно глядя на каждое из трех ответвлений… И тут меня осенило: колючие кустарники были выше меня, спускаясь, я смотрел прямо перед собой и видел только то ущелье, по которому шел, а оно, как я уже сказал, было довольно извилистым. Но куда же мне идти? Мне следовало бы спокойно подумать и понять, что я спускался по первому ущелью слева, раз на плато я не пересек ни одного из двух других. Но потерявший дорогу незадачливый вождь команчей совсем растерялся: он беспомощно опустился на землю и заплакал.
Однако я очень скоро понял постыдную бесполезность отчаяния: нужно было что-то предпринять, нужно было действовать немедленно, как подобает мужчине. И прежде всего собраться с силами, потому что, несмотря на отменную твердость моих икр, я с беспокойством почувствовал, что устал.
У входа в одно из ущелий возвышался каменный дуб – из одного корня росло семь или восемь стволов, образующих круг, его темно-зеленые ветки торчали из гущи кустарников, где царапающий аржерас сплетался с кермесовым дубком. Эта колючая поросль казалась непролазной, но я окрестил свой нож «мачете» и принялся прорубать себе путь.
Четверть часа спустя после беспримерных усилий и тысячи обжигающих уколов я наконец прорвался через оборонительное кольцо и, обнаружив меж стволов просторную круглую площадку, поросшую бауко, уселся там с ободряющим сознанием полной безопасности: я скрыт от глаз и при этом могу легко вскарабкаться на один из стволов – неоценимое преимущество на случай появления раненого кабана.
Я улегся на мягкую траву, положив под голову скрещенные руки. В центре кроны каменного дуба открывался вид на большой круг неба, в самой середине которого парила какая-то хищная птица, не сводившая глаз с земли.
Мне подумалось, что этот гриф или кондор наблюдает за тем, как отец и дядя жарят на розмариновых углях отбивные, потому что солнце было уже в зените.
Отдохнув несколько минут, я открыл сумку и с большим аппетитом съел хлеб и шоколад. Но я ничего не взял попить, и горло у меня совсем пересохло.
Страшно захотелось съесть апельсин. Но команч должен предвидеть превратности судьбы, и я засунул апельсин обратно в сумку, потому что имел в своем распоряжении другой способ утоления жажды: из книг Гюстава Эмара мне было известно, что достаточно пососать камешек, чтобы испытать ощущение отрадной прохлады. Предусмотрительная природа в этом лишенном родников крае на камешки не поскупилась. Я выбрал совершенно круглый, гладкий камешек величиной с горошину и положил его под язык, как рекомендовалось в инструкциях.
Ущелье справа поднималось к небу; я увидел, что в пятистах метрах передо мной оно кончалось у самого края пологой осыпи, которая наверняка позволит мне выйти на какое-нибудь плато, откуда я смогу наконец обозреть окрестности, может быть, увидеть деревню или даже наш дом. Я сразу же воспрянул духом и бодрым шагом отправился в путь.
Новое ущелье также сплошь ощетинилось колючим кустарником, с той лишь разницей, что тут господствовали можжевельник и розмарин. Эти растения казались гораздо старше тех, которые я видел до сих пор; я успел полюбоваться деревцем можжевельника, таким широким и высоким, что оно напоминало маленькую готическую часовенку, и кустом розмарина намного выше меня. Мало жизни было в этой пустыне: довольно вяло пела свою песню одинокая сосновая цикада да неутомимо взялись преследовать меня три или четыре маленькие лазурно-голубые мухи, жужжа совсем как взрослые, допекающие своими наставлениями ребенка.
Вдруг надо мной пронеслась тень. Я поднял голову и увидел того самого кондора. Он уже спустился с высоты и величаво парил: размах его крыльев показался мне в два раза больше размаха моих рук. Хищная птица удалилась от меня влево. Я подумал, что она прилетела сюда из чистого любопытства, желая бросить взгляд на пришельца, который отважился вторгнуться в ее царство. Но, описав широкую дугу за моей спиной, кондор возвратился ко мне справа, и тогда я с ужасом понял, что он описывает круг, центром которого являюсь я, и что он мало-помалу снижается.
Тут мне вспомнился голодный гриф, который однажды преследовал в саванне раненого Следопыта, погибающего от жажды. «Эти жестокие твари целыми днями преследуют выбившегося из сил путника и умеют терпеливо ждать, пока он не выбьется окончательно из сил, чтобы наброситься на него и рвать его еще трепещущую плоть».
Тогда я схватил нож, который имел неосторожность засунуть в сумку, и стал демонстративно точить его о камень. Мне показалось, что кольцо смерти перестало сжиматься. Затем, чтобы показать хищнику, что я все еще полон сил, я пустился в дикую пляску, закончившуюся раскатами саркастического смеха: эхо подхватило их и так искусно прокатило по ущелью, что мне самому стало страшно…
Но ненасытное чудовище, кажется, ничуть не оробело и возобновило свое роковое снижение. Я поискал глазами, теми самыми глазами, которые оно должно было выклевать своим крючковатым клювом, убежища и – о счастье! – в двадцати метрах справа от себя в каменистом склоне ущелья увидел стрельчатую арку. Я выставил нож острием вверх и, сдавленным голосом выкрикивая угрозы, направился к месту, возможно, последнего моего убежища…
Я шел напрямик через можжевельник и розмарин, раздираемый колючками кермеса; из-под моих ног скатывались камешки… Когда убежище было всего в десяти шагах, я понял: увы, слишком поздно! Убийца замер в двадцати-тридцати метрах над моей головой: я видел, как трепещут его громадные крылья, как вытянулась в мою сторону его шея… Он бросился вниз с быстротой падающего камня. Обезумев от ужаса, закрыв глаза руками, я с воплем отчаяния бросился на живот под большой куст можжевельника.
В то же мгновение раздался страшный грохот, напоминающий тот, что возникает при разгрузке вагонетки: в десяти метрах от меня взлетела испуганная стайка красных куропаток, а хищная птица уже вновь широко и мощно взмывала ввысь, унося в когтях трепещущую, оставляющую за собой шлейф скорбных перьев добычу.
Я с большим трудом сдерживал нервные рыдания, которые Чистое Сердце осудил бы, и, хотя опасность уже миновала, укрылся в убежище, чтобы там постараться прийти в себя.
Это была расселина в форме шатра чуть выше меня и шириной примерно в два шага. Я ногой расчистил себе место среди бауко, ковром покрывавшего землю, после чего уселся у стенки и стал обдумывать свое положение.
Прежде всего я понял, что кондор вовсе не намеревался нападать на меня, а охотился на куропаток: несчастные пернатые долго бежали впереди меня, не смея подняться в воздух из-за летающего убийцы, который только и ждал подходящей минуты…
Это умозаключение успокоило меня и в плане дальнейшего развития событий: кондор уже не вернется.
Затем я поздравил себя с тем, что выбрал для утоления жажды гладкий и очень круглый камешек, потому что, как оказалось, с испугу я его проглотил.
Кожу на правой щеке начало «стягивать». Я дотронулся до нее пальцами, чтобы потереть, но ладонь так к ней и прилипла: прислонившись к сосне, когда меня напугали голубые птицы, я вымазал ее смолой.
Я знал по опыту, что, не имея под рукой растительного или сливочного масла, ничего нельзя сделать, кроме как терпеть эти подергивания, испытывая ощущение, что у тебя картонная щека. Но раз ты решил быть команчем, о таких незначительных невзгодах не стоило даже упоминать.
Гораздо большую тревогу вызывало состояние моих икр. Они были исполосованы длинными красными царапинами, которые перекрещивались, как проволока железной сетки, и из них все еще торчало немалое количество колючек. Я терпеливо стал вытаскивать их ногтями одну за другой. Поскольку от многочисленных ранок саднило кожу, я принялся собирать травы: каждый знает, что дикорастущие травы быстро заживляют раны… С травами я, скорее всего, ошибся, потому что, как следует натерев икры тимьяном и розмарином, я почувствовал такое сильное жжение, что стал приплясывать на месте, вопя от боли… Чтобы облегчить свои страдания, я немедленно съел половину апельсина, отчего мне стало получше.
Затем я попытался взобраться на плато, но преодолеть груду скатывавшихся камней оказалось труднее, чем я предполагал, из чего я сделал вывод, что осыпи обладают врожденной способностью осыпаться: стоило мне добраться на четвереньках до самого верха, как я возвращался обратно вниз, словно на конвейере из камней. Я уже начал отчаиваться в успехе предприятия, когда обнаружил лаз вверх, слишком узкий для взрослого, но вполне пригодный для меня.
И вот наконец я выбрался на плато. Оно было огромное, с весьма скудной растительностью: те же кермесы, розмарин, можжевельник, тимьян, рута, лаванда, те же маленькие сосны с искореженными стволами, наклоненные к югу, куда дует мистраль, те же огромные плиты голубого камня. Я оглядел горизонт: меня окружали холмы, которые, в свою очередь, были оправлены кольцом незнакомых мне далеких гор. Положение было серьезное.
Я решил, что прежде всего нужно сориентироваться. Отец мне сто раз говорил: «Если смотришь прямо на восход, закат будет позади тебя. Слева от тебя будет север, справа юг. Это ясно как божий день!»
Ну да, как божий день. Но где же восход? Я посмотрел на солнце. Оно уже миновало середину неба, и так как я знал, что полдень прошел, то был очень доволен, что нашелся закат.
Итак, я встал к нему спиной, развел руки и громко и уверенно произнес: «Направо от меня юг. Налево север».
После чего сообразил, что за неимением ориентира такие чудесные познания ничем не могут мне помочь. В каком направлении мой дом? Эти проклятые ложбины вынудили меня плутать… Я совсем отчаялся, и мое отчаяние было так глубоко и безнадежно, что я решил играть во что-нибудь другое.
Сначала я бросал камни, как это делают местные пастухи, сопровождая бросок ударом кисти о бедро. На плато был великолепный выбор совершенно плоских камней всевозможных размеров. Они летели высоко, с волшебной легкостью вращаясь в воздухе. По мере того как я совершенствовал свою технику, они достигали все более высокой отметки. Десятый камень попал в можжевельник, откуда брызнула великолепная зеленая ящерица величиной с мою руку… Она промелькнула длинным изумрудом и исчезла в зарослях…
Я побежал за ней, зажав в каждой руке по камню. Желая вспугнуть ящерицу, я бросил первый камень. В то же мгновение из густой зелени выскочил необычный зверек величиной с полевую крысу и, сделав чуть ли не пятиметровый прыжок, опустился на большой каменистый выступ. Он не задержался там и четверти секунды, но я успел заметить, что он похож на крошечного кенгуру: непропорционально длинные задние лапки были черные и гладкие, как у курицы, тело покрывал мех бежевого цвета, а на голове торчали крохотные ушки. Я узнал тушканчика, вспомнив, как дядя Жюль мне его описывал. Он вновь вскочил, легкий, как птица, и в три прыжка достиг миниатюрного лесочка из кермесов.
Я напрасно пытался проникнуть туда вслед за ним, его уже нигде не было, но когда я искал его, то набрел на нечто вроде конусообразного шалаша, сложенного с большим искусством из плоских камней. Каждое следующее кольцо камней сужалось на один палец внутрь, так что наверху кольца наконец соединялись. В середине верхнего кольца оставалось отверстие величиной с тарелку, которое закрывалось красивым плоским камнем. Вид этого убежища напомнил мне о моем печальном положении: солнце уже спускалось к горизонту, и этот пастуший шалаш мог бы спасти мне жизнь…
Я не сразу вошел в него: всякий знает, что в прериях в заброшенном шалаше скрывается порой индеец-сиу или апач с занесенным над головой томагавком, готовясь размозжить башку слишком доверчивому путнику… С другой стороны, я мог там наткнуться на змею или ядовитых пауков, на гигантского скорпиона песков, который со свистом кидается вам прямо в лицо…
Просунув сосновую ветку в дыру, служившую входом, я стал размахивать ею, произнося угрозы. Ответом мне было полное молчание. Приметив щель, я заглянул внутрь. Там не было ничего, кроме ложа из сухой травы, на котором, должно быть, когда-то спал охотник.
Я залез в шалаш, который показался мне прохладным и вполне надежным. Здесь, по крайней мере, я смогу переночевать в безопасности, защищенный от ночных хищников вроде пумы или леопарда. Но я тут же забеспокоился, вдруг сообразив, что входное отверстие ничем не закрывается!.. Мне пришла в голову мысль собрать побольше плоских камней и загородить ими вход на случай опасности. Я оставил роль бесстрашного траппера и хитрого команча и взял на вооружение неизбывную выносливость Робинзона.
Первая неудача: вокруг шалаша не было ни одного плоского камня. Но где же их нашел построивший его пастух? И тут меня озарила гениальная догадка: он их нашел там, где их теперь больше нет, то есть рядом. Искать нужно дальше. Мои поиски увенчались успехом!
Я перетаскивал строительный материал, расцарапав себе все руки, и думал: «Пока никто не беспокоится. Охотники думают, что я дома, а мама – что я с ними… Но что будет, когда они вернутся! Мама, может быть, упадет в обморок! В любом случае будет плакать».
Тут я и сам расплакался, не переставая прижимать к животу камень, который хоть и был совсем плоский, но весил не меньше меня.
Я бы с удовольствием, подобно Робинзону, «обратил к небу горячую молитву», чтоб получить помощь Провидения. Но молитв я не знал. И к тому же Провидению, которого не существует, но которое все знает, было не до меня. К чему бы оно стало интересоваться мною?
Однако мне приходилось слышать поговорку «Береженого Бог бережет». Поэтому я решил, что мое мужество равняется молитве, и продолжал, не переставая плакать, собирать строительный материал.
«Несомненно одно, – думал я, – они начнут меня искать… Поднимут тревогу в деревне, и, когда наступит ночь, я увижу, как ко мне поднимается длинная цепь факелов „из просмоленного дерева“. Мне лишь надо было разжечь костер „на самой высокой скале“».
К несчастью, спичек у меня не было. А что касается индейского способа, которым можно без малейшего труда зажечь сухой мох простым трением друг о друга двух палочек, то я уже несколько раз пытался осуществить его на практике, но даже с помощью Поля, который дул во всю мочь, я так ни разу и не смог высечь ни единой искорки и решил, что тут уж ничего не поделаешь – неудача наверняка обусловлена отсутствием сугубо американского сорта дерева либо особого вида мха. Значит, ночь будет темная и ужасная и, как знать, не последняя ли в моей жизни?
Вот до чего довели меня собственное непослушание и вероломство дяди Жюля.
Тут мне вспомнилась фраза, которую отец часто повторял и заставлял меня несколько раз переписывать на уроках по чистописанию (курсив, рондо и прочее): «Принимайся за дело, даже сомневаясь в успехе, и продолжай его, даже не добившись успеха».
Он долго объяснял мне ее смысл и говорил, что это самая прекрасная фраза во французском языке.
Я повторил ее несколько раз и почувствовал, что она, подобно магическому заклинанию, делает меня маленьким мужчиной. Мне стало стыдно, что я плакал, отчаивался.
Ну потерялся в холмах: подумаешь! С того момента, как я вышел из дому, я почти все время поднимался по довольно крутым склонам. Стоит мне только спуститься, и я обязательно найду какую-нибудь деревню или хотя бы выйду на проезжую дорогу.
Я сосредоточенно съел вторую половинку апельсина, а потом с горящими икрами и стертыми ногами бросился бегом вниз по пологому плато.
Повторяя про себя магическую фразу, я перемахивал через кусты можжевельника. Справа за лентами облаков начинало краснеть солнце, точно так, как изображено на коробках конфет, которые под Рождество тети дарят племянникам.
Больше четверти часа двигаясь вперед – сначала резвым скоком тушканчика, потом легкой пробежкой козы, а затем пружинистым шагом теленка, – я остановился, чтобы перевести дух. Оглянувшись назад, я установил, что одолел не меньше километра и уже не вижу тех трех ущелий: они словно потонули в огромном плато.
Я стал как будто бы различать противоположный склон какой-то лощины со стороны заката. Дальше я пошел прогулочным шагом, желая сэкономить силы на будущее.
Да, это действительно была лощина, глубина которой открывалась по мере того, как я приближался к ней. А может быть, это та самая, утренняя?
Я шел с вытянутыми вперед руками, раздвигая терпентинные деревца и кусты дрока ростом с меня… Я был в пятидесяти шагах от обрыва, когда вдруг грянул первый выстрел, а через две секунды – второй! Звук донесся снизу: я бросился вперед, вне себя от радости, и тут стая очень крупных птиц, вынырнув из лощины, вылетела прямо на меня… Вожак внезапно кувыркнулся, сложил крылья, пронесся через большой куст можжевельника и грузно ударился о землю. Я нагнулся, чтоб схватить его, когда меня чуть не оглушило сильным ударом, от которого я упал на колени: другая птица свалилась мне прямо на макушку, и на минуту у меня потемнело в глазах. Я крепко потер гудящую голову и увидел, что моя рука вся в крови. Я подумал, что это моя кровь и готов был расплакаться, но тотчас обнаружил, что и птицы все в крови, и это меня успокоило.
Я поднял их обеих за лапки – они все еще вздрагивали в предсмертной агонии.
Это были куропатки – но их вес меня удивил: каждая была с петуха, и как высоко я ни поднимал руки, их красные клювы все равно касались земли.
Сердце радостно забилось в груди: бартавеллы! Королевские куропатки! Я подошел с ними к краю обрыва, – может, это дублет дяди Жюля?
Но даже если это не он, все равно охотник, который ищет куропаток, встретит меня с большой радостью и отведет домой: я спасен!
С трудом пробираясь сквозь густые заросли аржераса, я услышал звонкий голос, который рассыпáл свое раскатистое «р-р-р» прямо в эхо: голос дяди Жюля, голос спасения, голос Провидения!
Сквозь ветви я увидел его. Лощина, довольно широкая и со скудной растительностью, была не слишком глубока. Дядя Жюль спускался по противоположному склону и кричал очень недовольным голосом:
– Нет, Жозеф, нет! Нельзя было стр-р-релять! Они летели прямо на меня! Это ваши никчемные выстр-р-релы их отогнали!
Тут я услышал голос отца, которого я не мог видеть, потому что он был под самым обрывом:
– Я был на хорошем расстоянии, и мне даже кажется, что в одну я попал!
– Да что вы! – презрительно возразил дядя Жюль. – Может быть, вы и попали бы в одну, если б дождались, пока они станут пролетать мимо! Но вы изволили произвести «королевский выстрел», да еще дублетом! Утром вы уже дали маху, стреляя по куропаткам, которые явно намеревались покончить жизнь самоубийством, а теперь повторили тот же выстрел по бартавеллам, к тому же по бартавеллам, которые летели прямо на меня!
– Должен признаться, немножко поторопился, – отвечал отец виноватым тоном, – но все-таки…
– Все-таки, – резко перебил его дядя, – факт в том, что вы не попали в королевских куропаток величиной с бумажного змея, хотя и стреляли из лейки, которой можно изрешетить целую простыню. Самое печальное, что такой уникальный случай уже никогда не повторится! А если бы вы предоставили выстрелить мне, они были бы в нашем ягдташе!
– Признаюсь, виноват. А все-таки я видел, как летели перья…
– Я тоже, – усмехнулся дядя Жюль, – видел, как летели великолепные перья, которые уносили бартавелл со скоростью шестьдесят километров в час к вершине обрыва, где теперь они, должно быть, над нами, дураками, смеются.
Я подошел ближе и уже видел бедного Жозефа. В кепке, сдвинутой набекрень, он нервно жевал стебелек розмарина и печально покачивал головой. Тут я вскочил на камень, нависший прямо над обрывом, и, напрягшись, как лук, закричал изо всех сил: «Он их убил! Обеих! Он их убил!»
И, подняв над головой свои маленькие окровавленные руки, с которых свисали четыре золотистых крыла, я воздал должное славе моего отца перед лицом заходящего солнца.
Доброго вестника, будь он даже преступником, всегда ждет хороший прием.
Отец снизу смотрел на меня с сияющей улыбкой. Он ничего не сказал, кроме: «Обеих, Жюль, обеих!»
Потом, вдруг осознав, что происходит, воскликнул:
– Что ты тут делаешь?
Но в его голосе сквозило лишь счастливое удивление.
Я бросил птиц одну за другой к ногам победителя и соскользнул вниз по узкой тропинке. Коснувшись дна лощины, я отскочил в сторону, потому что мой спуск вызвал камнепад.
Отец тем временем любовался своими птицами и дрожащей от волнения рукой искал место смертельных ран.
Дядя Жюль строго спросил меня:
– Что ты делал так далеко от дома в шесть часов вечера? Разве ты не знаешь, что мог заблудиться?
– Я и правда заблудился! – сказал я. – Я вам все расскажу. Но сначала дайте попить: я с утра умираю от жажды…
– Как! – воскликнул отец. – Ты не обедал дома?
– Нет! Я следовал за вами на расстоянии. Я тебе все объясню, но дай попить. У меня язык распух… Это мешает мне говорить…
– Осталось только белое вино! – Дядя наполнил маленькую кружку.
– Только глоток, – сказал отец, – напьешься дома…
Я послушался, потом стал рассказывать свою одиссею. С гордостью объяснил я им, что именно я загнал к ним утром первых куропаток.
– Я понял, – сказал дядя, – что там наверху кто-то есть. Но думал, что это охотник… Твое непослушание, значит, пошло нам на пользу: я вынужден это признать, хотя не одобряю тебя.
– А бартавеллы! – восхищенно проговорил отец, раздувая им перья и любуясь их нежным телом. – Без него мы никогда бы их не нашли и даже не искали бы. Я вернулся бы домой ни с чем и опозоренный.
– Я поделился бы с вами своими дроздами, – сказал дядя великодушно.
– Это была бы ложь!
– Ха, – усмехнулся дядя Жюль, – охотничье вранье не заслуживает даже того, чтоб признаться в нем на исповеди!
Мы сидели на больших камнях.
– Что у тебя с лицом? – внезапно спросил отец, словно очнувшись от сна.
– Ничего, это смола.
Тут я начал рассказывать, как бесшумно покинул дом, оставив матери записку, как намеревался догнать их у источника Тутового Дерева, что пережил при встрече с кондором.
Но дядя уменьшил страшного хищника до размеров ястреба-перепелятника и объявил, что уже в десять лет убил двух таких камнями.
Раздосадованный, я не стал признаваться в своих страхах, одиночестве и отчаянии, решив оставить этот душераздирающий рассказ для моей чувствительной матушки и всегда внимательного Поля.
Отец меня почти не слушал – из-за бартавелл: он вытирал кровь, которая сочилась из их клювов, и поглаживал их длинные красные перья.
Дядя вдруг встал.
– Мой дорогой Жозеф, – сказал он, – я думаю, что пора возвращаться: для первого дня более чем достаточно, я совсем отходил себе ноги!
Я тоже намял себе ноги, и подняться мне было нелегко.
Отец с нежностью посмотрел на меня и погладил по голове, потом разрядил ружье и протянул его мне:
– Возьми!
Это была изрядная награда, и я с благоговением взял в руки оружие триумфа.
Потом он открыл свой ягдташ, в котором уже лежало несколько штук дичи.
– Здесь для них уже нет места, – объявил он. – К тому же жалко их мять!
Двумя обрывками бечевки он за шеи подвесил бартавелл к патронташу, одну справа, другую слева, а потом, повернувшись ко мне спиной, присел, опираясь обеими руками о колени, и велел:
– Лезь, лягушонок!
Закинув огромное ружье за спину, я устроился на его плечах. Дядя Жюль двинулся впереди нас, не ослабляя внимания на случай возможного последнего подвига.
– Может быть, заяц попадется, – проговорил он.
Я очень боялся, что это случится, потому что от зайца померк бы блеск бартавелл; но мы не увидели даже заячьего уха, и в самый неожиданный для себя момент, когда мы вышли из соснового бора, чуть пониже я обнаружил крышу нашего дома.
По сторонам дорожки стояли оливковые деревья моих цикад… Я смеялся от удовольствия, запустив руки в кудрявые волосы отца…
Когда мы проходили мимо оливы, увитой плющом, из-под нее внезапно выскочил крошечный индеец-сиу: голова его была увенчана перьями, а за спиной висел колчан. Он дважды со свирепым видом выстрелил в нас из пистолета и с диким воплем бросился к дому:
– Мама, мама, они убили уток!
После чего мать и тетя, которые сидели с шитьем под смоковницей, встали и в сопровождении «горничной» двинулись нам навстречу: так состоялось наше триумфальное возвращение в родные пенаты.
Все три женщины тихо вскрикивали от радости и восхищения.
Пока я спускался с отцовской спины, Поль очень ловко отвязал одну бартавеллу и понес ее на руках к трем женщинам.
И тут «горничная», молитвенно сложив руки и возведя глаза к небесам, воскликнула в благоговейном восторге:
– Царица Небесная! Королевская куропатка!
Тем временем дядя Жюль с шумом вытряхивал на стол на террасе содержимое своего ягдташа: две пригоршни певчих и обыкновенных дроздов, пять или шесть куропаток и двух кроликов. После чего отец, в свою очередь, опорожнил свой ягдташ: три куропатки и вальдшнеп.
– Смотрите, Роза, все это убил Жюль! – сказал отец.
– А ты что же, так ни разу и не попал? – разочарованно спросила мать.
– Я, – скромно отвечал отец, – убил только бартавелл.
Мне было ясно: оба они в душе своей возрадовались.
Я побежал к «леднику» – ящику из-под мыла, в котором был большой кусок льда, – чтобы выпить холодненького.
Рядом со вспотевшим графином я обнаружил две компотницы взбитых сливок и бросился целовать мать, которая настояла на том, чтобы безотлагательно отмыть мое грязное лицо: после четырех намыливаний потребовалось еще и оливковое масло, но, несмотря на все эти меры, целую неделю на правой щеке у меня сохранялось большое бурое пятно, жутко противное и липкое…
Увидев печальное состояние моих икр, мать усадила меня в шезлонг, прокалила с помощью спички иголку и принялась извлекать занозы, от которых саднило кожу. Поль вплотную наблюдал за операцией, вместо меня издавая вопли от боли, а я оставался безучастным, неподвижным и торжествующим, как воин, вернувшийся с поля боя.
Тем временем отец со всеми подробностями рассказывал об охотничьих подвигах дяди Жюля: о его нюхе, не меньшем, чем у охотничьей собаки, его бесшумной походке, трезвости решений, невероятной реакции на появление дичи и неотвратимой меткости его выстрелов… Дядя слушал славословия в присутствии своей восторженной жены и моей восхищенной матери. Прослушав пять или шесть строф восторженных восхвалений, он был совершенно «дебартавеллизирован» и принялся петь дифирамбы Жозефу: его нервозности, его первым неудачам, его стараниям овладеть собой, его неутомимости и, наконец, его чудному наитию, завершившему этот великолепный день. Кончил он фразой, от которой засверкали черные глаза матери:
– «Королевский выстрел» дублетом в королевских куропаток, произведенный новичком, – могу сказать лишь одно: это нечто невиданное.
Я, в свою очередь, хотел было тоже принять участие в хоре и пропеть осанну самому себе, раз они забыли обо мне, как вдруг веки мои смежились, я почувствовал, как мамины пальцы разжали мою руку, судорожно сжимавшую шезлонг, и меня понесли к дому. Я пытался протестовать – ради взбитых сливок, – но мои уста выдали лишь слабое бормотание; ослепительно-белый прыгающий тушканчик величиной с зайца унес меня в четыре прыжка в тенистые долины сна.
На другое утро мать на краешке кухонного стола составляла «список», то есть перечень покупок, которые отец должен был сделать в деревне.
– Лягушонок, – сказал отец, – возьми свою сумку, пойдешь со мной. Список большой, груз будет немалый! Дело не в весе, а в объеме. Я хочу взять с собой ружье: я заметил одного ястреба-перепелятника, который частенько кружит над курятником госпожи Тофи. Если он нынче встретится нам, мы ему скажем пару слов!
Когда список был закончен, он прочел его вслух. Между тем мама вынула бартавелл из кухонного шкафа и положила их на стол.
– Что ты собираешься делать? – с беспокойством поинтересовался отец.
– Ощипать, выпотрошить и вечером зажарить к ужину.
– Несчастная! Это не домашняя птица, это дичь! И какая дичь! Мы будем их есть не раньше завтрашнего дня, потому что сегодня это было бы преступлением! Впрочем, – добавил он, – у меня идея. Не мешало бы подвергнуть их экспертизе Мунда де Парпальюна. Никогда нельзя упускать случай поучиться, а этот старый браконьер наверняка знает больше, чем иной натуралист.
Он привязал обеих птиц к поясу, взял ружье и повесил его через плечо.
В веселом расположении духа мы отправились в путь. Я нес все три пустые сумки, а отец шел впереди, обшаривая глазами оливковые рощи, уступами поднимающиеся по обеим сторонам дороги. Мы увидели несколько стаек воробьев, но истребитель бартавелл пренебрег подобной мелочью.
Я был в восторге оттого, что иду с ним, и очень гордился его подвигом, но старался не показывать тщеславного чувства, боясь упреков.
Однажды господин Арно, страстный рыболов, поймал на удочку огромную скорпену и принес в школу фотографию, запечатлевшую его подвиг.
В то время фотография представляла собой документ особой важности, который увековечивал память о раннем детстве, о военной службе, о венчании или о путешествии за границу.
На своеобразной открытке красовался улыбающийся господин Арно: он стоял выпятив грудь, с удочкой в левой руке, а в правой, поднятой к небу, держал – за хвост – рыбу с ядовитыми колючками.
Помню, описав нам эту торжественную картину, отец заключил:
– Я вполне могу допустить, что он доволен тем, что поймал великолепный экземпляр, но сфотографироваться вместе с рыбой! Так уронить свое достоинство! Из всех пороков тщеславие определенно самый нелепый!
Сказано это было без какого-то особого пафоса, но с улыбкой сожаления, которая уничтожила мое восхищение господином Арно: вот почему я считал, что наш визит к Мунду де Парпальюну не имеет иной цели, кроме сугубо научной.
Мы дошли до маленькой приземистой фермы, где жил знаменитый Мунд. Перед домом простиралось необработанное поле, где десятка два оливковых деревьев, ошалевших от свободы, выглядели исполинскими кустарниками, потому что Мунд никогда не подстригал их.
Он сидел верхом на скамейке под смоковницей перед домом и макал в ведро со смолой тонкие деревянные палочки. Он поднял голову: густая шапка седых волос переходила в щетинистую бороду, с одной стороны белую, а с другой пожелтевшую от курения; одна сигарета и сейчас висела, приклеенная к уголку рта.
У него были черные пронзительные глаза, а мохнатые руки были сплошь покрыты бурыми пятнами.
Он увидел бартавелл, встал и подошел к нам, приоткрыв рот.
– Царица Небесная! – воскликнул он. – Кто же это вам продал?
– Это стоило мне всего двух выстрелов, – улыбнулся отец.
– Дублет? – сказал Мунд недоверчиво. – Дублетом бартавелл?
– Ну да! – подтвердил отец и кончиком указательного пальца погладил черные усы.
– Где же?
– В лощине Ланселот, под самым обрывом, по направлению к Пастан.
Мунд, взяв обеих птиц, прикинул, сколько они весят.
– Самое удивительное, что вы их отыскали.
– Почему?
– Потому что эти птицы, даже убитые на лету, продолжают лететь еще пятьсот-шестьсот метров.
– Малыш был над обрывом. Именно он увидел, как они упали.
– Браво, паренек! – сказал мне Мунд. – На днях я возьму тебя с собой на охоту. – И важно объявил, словно это было жизненное правило: – Если не имеешь собаки, заведи себе детей!
Потом отец задал уйму вопросов о бартавеллах, об их происхождении, о нравах, о том, трудно ли подкрасться к ним, о быстроте их полета.
Из этих вопросов отца и ответов старого Мунда ясно вытекало, что удачный дублет в сочетании с бартавеллами есть подвиг если не невозможный, то, во всяком случае, редчайший и достойный «первоклассного ружья».
Как только была установлена эта истина, мы тут же покинули Мунда, который начал было рассказывать о собственных успехах с хвастовством, напомнившим мне о тщеславии господина Арно, и спустились вниз к деревне.
В маленькой лавочке, куда уже набилось пять-шесть покупательниц, отец протянул «список» бакалейщику. Но тот, держа листок в руке, не сводил глаз с птиц.
– Глухари! – воскликнул он некоторое время спустя.
Отец вывел его из заблуждения и поведал ему о жизни и повадках бартавелл. Бакалейщик предложил взвесить их, на что отец любезно согласился. Взвешивание было произведено на глазах у собравшихся вокруг кумушек.
Вес более крупной птицы достигал 1530 граммов, другой – 1260: бакалейщик жаждал точности. Опрятненькая старушка (служанка господина кюре) посоветовала набить их «пебрдаем», перед тем как жарить на вертеле, и не сразу приближать их к раскаленным углям, а подвигать постепенно, самое меньшее в три приема. В награду за ценные советы она попросила разрешения взять одно перо из хвоста, которое таким образом было украдено с головного убора вождя пауни; все вновь прибывающие с уважением смотрели на охотника, способного на такой подвиг.
Мы оставили список бакалейщику, который взялся все приготовить.
– Надо бы еще расспросить господина Венсана, – сказал отец.
Господин Венсан служил архивариусом в префектуре и был другом дяди Жюля: он проводил каникулы здесь, в деревне, где родился.
Но на улице мы встретили почтальона, который тоже охотился в окрестностях городка Алло. Он сам нас остановил, и я очень удивился, увидев, как он принялся массировать шеи бартавелл большим и указательным пальцем.
– Между нами, – проговорил он вполголоса, – вы их поймали с помощью силков?
– Ничего подобного! – возмутился отец. – Этот дублет мне удалось сделать «королевским выстрелом».
Но почтальон был «ревнив до дичи» и все щупал шеи птиц, надеясь обнаружить перелом. Тогда отец, раздувая перья, показал ему смертельные раны, которые почтальон стал недоверчиво рассматривать. Пришлось еще уточнить калибр ружья, номер дроби, расстояние, час и место выстрела. Наконец он преодолел свою зависть.
– Сударь, – сказал он, – снимаю перед вами фуражку. Я уже два года гоняюсь за этими птицами: пять раз стрелял в них, а досталось мне всего четыре пера! Позвольте пожать вашу руку!
Между тем вокруг собрались деревенские дети и громко выражали свое восхищение. Выйдя на маленькую площадь, мы столкнулись с господином кюре. Он пришел набрать воды и читал требник у фонтана, одновременно на слух определяя, когда вода польется через край кувшина.
Появление нашей группы заставило его поднять голову, и, поскольку «подобные ему пользуются любым поводом», он улыбнулся отцу широкой обаятельной улыбкой и сказал очень приятным голосом:
– Сударь, если эти королевские куропатки не приобретены в какой-нибудь лавке, прошу принять мои поздравления!
Первый раз в жизни я видел отца, лицом к лицу столкнувшегося с лицемерным врагом. К моему великому удивлению, ответ его был отменно вежлив:
– Они прямо из лощины Ланселот, господин кюре.
– Мне редко доводилось видеть таких красивых, – сказал господин кюре, – и я склонен думать, что сам святой Юбер, покровитель охотников, был с вами!
– Святой Юбер и мое двенадцатикалиберное!
– И еще ваша меткость! – молвил господин кюре. – У вас тут старый самец и самка двух лет… Мой отец был страстным охотником, вот почему я в этом довольно неплохо разбираюсь. Это не Caccabis rufa, которая гораздо меньше. Это Caccabis saxatilis, то есть горная куропатка, которую еще называют греческой куропаткой, а в Провансе – бартавеллой.
– Откуда это название? – поинтересовался отец.
– Вы, наверное, решите, что я большой знаток, но должен вам признаться, что приобрел свои познания недавно. Вчера один крестьянин при мне упомянул о бартавеллах, и мне стало любопытно, какова этимология этого слова. Я счастлив поделиться с вами своими знаниями, поскольку этот вопрос вас интересует. В словаре сказано, что это французское слово, которое происходит от старопровансальского «бартавело», обозначающего замóк грубой работы. Птица так названа якобы из-за своего скрипучего голоса. Но по моему очень скромному мнению, это объяснение не вполне удовлетворительно. Я поговорю об этом с господином каноником из Ла-Мажор[20], который завтра будет у меня обедать, и, если узнаю от него что-нибудь интересное, с удовольствием сообщу вам. Простите меня, кувшин наполнился, да и колокол меня призывает.
Он очень вежливо приподнял свою черную квадратную шапочку, мой отец приподнял фуражку, господин кюре взял кувшин и удалился.
Вместе с неотступно следовавшей за нами детворой мы направились к господину Венсану: там нам сказали, что он ушел в город и вернется только на следующий день. Тем не менее отец стал искать его по всей деревне и зашел даже в клуб, чтобы спросить у игроков в петанк, не видели ли они его.
Нет, никто его не видел, но зато все увидели бартавелл, которых никто и не собирался от них скрывать: в результате игроки прервали игру, стали восхищаться, взвешивать птиц в руках, задавать сотню вопросов. Отец дал две сотни ответов и объяснил, что это не Caccabis rufa, a Caccabis saxatilis.
Наконец, идя навстречу всеобщему желанию, он соизволил наглядно продемонстрировать свой «королевский выстрел», настаивая на том, что нужно обязательно сохранить для второго выстрела ствол «с чоком». Технические пояснения, которые могли бы тянуться до вечера, были, к счастью, прерваны башенными часами на церкви, пробившими у нас над головой полдень.
Возвращаясь за сумками к бакалейщику, мы еще раз повстречали господина кюре. В руках у него был фотографический аппарат, который имел форму, размеры и изящество булыжника.
Сияя улыбкой, он подошел к нам и сказал:
– Если это вас не затруднит, я бы хотел сохранить память о столь незаурядной удаче.
– Да что там, простая случайность, – скромно отвечал отец, – может быть, и не заслуживает такой высокой чести.
– Да нет же! Мне доставит удовольствие послать вам снимок, который будет приятным воспоминанием о летних каникулах.
Отец послушно выполнил требования фотографа, всем своим видом показывая мне, что ему это в тягость, но он не смеет проявить невежливость.
Опустив приклад на землю, он положил левую руку на конец ствола, а правой обнял меня за плечи. Господин кюре с минуту смотрел на нас, моргая глазами, потом подошел к нам и иначе повернул бартавелл, которые все еще висели у отца на патронташе, чтобы лучше были видны их грудки в крапинках.
Наконец он отступил на четыре шага, прижал аппарат к животу, опустил голову и закричал:
– Замерли! – (Раздалось громкое, как у дверного замка, щелканье.) – Раз, два, три! Благодарю!
– Мы живем в Ле-Беллон, – сказал отец, – в Бастид-Нев.
– Знаю, знаю, – отвечал господин кюре и добавил чуть взволнованным тоном: – Так как не имею возможности видеть вас часто, я вручу снимок, предназначенный для вас, вашему уважаемому свояку, самому видному из наших прихожан. До свидания, и еще раз примите мои поздравления!
Он удалился, такой вежливый, дружелюбный, улыбающийся, такой симпатичный, что мне захотелось следовать за ним, и это заставило меня оценить всю опасность, которую его обманчивая наружность представляет для общества.
Когда мы свернули за угол, отец объяснил:
– Мы в маленькой деревне: было бы нетактично отказываться. Может быть, он на это и надеялся, чтобы потом обвинить нас в нетерпимости. Но мы его перехитрили!
В обратный путь, наверх в деревню, мы двинулись бодрым шагом.
Птицы все подпрыгивали на поясе у отца, и, так как они были подвешены за шею, я сказал ему, что он убил бартавелл, но кончится тем, что есть мы будем лебедей.
На другой день их зажарили на вертеле – это был исторический, чуть ли не парадный обед.
Однако он был отмечен удручающим происшествием: дядя Жюль, крестьянский аппетит которого восхищал всю семью, сломал зуб – дорогой, фарфоровый – о семикалиберную дробинку, застрявшую в нежной мякоти гузки. Вновь на его лице засияла улыбка лишь тогда, когда отец объявил, что деревенский кюре – человек ученый, к тому же очень симпатичный, и что разговор с ним привел его в восторг.
На следующий день, когда мы отправились на охоту, я увидел, что, отказавшись от кепки, отец надел старую фетровую шляпу коричневого цвета – от солнца, мол, которое слепит иногда и через очки. Но я заметил, хотя и не сказал ни слова, что тулья фетровой шляпы была украшена лентой, которой не бывает на кепках, и что за эту ленту заложено два красивых красных пера на память о двойном «королевском выстреле».
С тех пор в деревне, когда речь заходила об отце, говорили:
– Ну вы знаете, тот самый господин из Ле-Беллон?
– Это тот, у которого большие усы?
– Да нет! Другой! Охотник! Тот, с бартавеллами.
* * *
В следующее воскресенье, вернувшись с мессы, дядя вынул из кармана желтый конверт.
– Это вам, – сказал он, – от господина кюре.
Сбежалось все семейство: в конверте было три экземпляра нашей фотографии.
Это был блеск: бартавеллы были огромны, Жозеф был представлен в зените славы, он не являл ни удивления, ни тщеславия, а лишь спокойную уверенность в себе бывалого охотника после сотого дублета в бартавелл.
Меня же солнце заставило слегка скривить лицо, что, по-моему, было некрасиво, но мать и тетя нашли в этом дополнительную прелесть и долго выражали свое беспредельное восхищение.
А дядя Жюль мило сказал:
– Если вы ничего не имеете против, мой дорогой Жозеф, я бы с удовольствием взял себе третий экземпляр, господин кюре сказал мне, что напечатал его для меня…
– Если такой пустяк может доставить вам удовольствие… – развел руками отец.
– О да! – подхватила с энтузиазмом тетя Роза. – Я вставлю фотографию в рамку под стекло, и мы повесим ее у нас в столовой!
Я испытал большую гордость от мысли, что нас каждый вечер будет освещать роскошный газовый свет.
А «дорогой» Жозеф не выказывал ни малейшего смущения. Мать уткнулась подбородком в его плечо, сам же он долго рассматривал картину своего апофеоза, оправдывая продолжительность осмотра чисто техническими соображениями. Сначала он объяснил, что это бромосеребряная бумага, а бромистое серебро имеет особое свойство чернеть, когда на него падает свет. Потом, держа снимок в вытянутой руке, заметил, что освещение великолепное, хотя от высокого полуденного солнца его нос кажется длиннее обычного, «что, между прочим, не имеет никакого значения», затем, сняв очки, принялся рассматривать фотографию вблизи, со всех сторон, и сообщил нам, что резкость наведена отлично, а это явно свидетельствует о том, что господин кюре прекрасно знает свое дело.
Наконец, поглаживая меня по голове, он сказал:
– Раз у нас два снимка, мне очень хочется послать один моему отцу, чтобы показать ему, как Марсель вырос…
Маленький Поль захлопал в ладоши, а я расхохотался. Да, он очень гордился своим подвигом, да, он собирался послать один снимок своему отцу, а другой показывать всей школе, как это делал господин Арно.
Я поймал своего дорогого сверхчеловека на явном проявлении того, что ничто человеческое ему не чуждо, и почувствовал, что от этого стал любить его еще больше.
И тогда я запел фарандолу и пустился на солнце в пляс…
Замок моей матери Воспоминания детства
После известной эпопеи с бартавеллами я сразу был допущен в братство охотников, но, разумеется, в роли загонщика и приносящей убитую дичь собаки.
Каждое утро, ближе к четырем часам, отец, приоткрыв дверь моей комнаты, шепотом спрашивал:
– Ты с нами?
Ни мощный храп дяди Жюля в одной из соседних комнат, ни дикий рев кузена Пьера, который в два часа ночи по-своему извещал весь дом о том, что его давно пора кормить из бутылочки, – ничто не будило меня, а вот шепот отца заставлял моментально вскакивать с кровати.
Стараясь не шуметь, чтобы не беспокоить спящего маленького Поля, я одевался в темноте, а затем спускался в кухню: дядя Жюль, с заспанными глазами и тем туповатым выражением лица, с каким смотрят на тебя только что проснувшиеся взрослые люди, варил утренний кофе, пока отец заполнял едой ягдташи; я принимался вставлять патроны в патронташи.
Мы бесшумно выходили из дому. Дядя Жюль тщательно, на два оборота, запирал дверь и, положив ключ на выступ кухонного окна, закрывал ставни.
Занималась прохладная утренняя заря. В небе боязливо мерцали уже совсем бледные планеты. На отвесных скалах План-д’Эгль чуть светлел расшитый белесоватым туманом подол исчезающего ночного мрака, а в сосновом бору в Птитёй какая-то грустная сова прощалась со звездами.
Вместе с зарей мы поднимались до красных скал в Редунеу, но не задерживались там и шли дальше, молча и бесшумно, поскольку в этом месте на пути стаек садовых овсянок располагался «пост» Батистена, сына Франсуа; он поджидал их, запасшись деревянными палочками и клеем, который нередко даже висел у него в волосах.
Потом, гуськом, мы пробирались в полумраке до овчарни Батиста. Это была старинная овчарня, где порой наш друг Франсуа проводил ночь со своими козами: здесь, на обширном склоне, что полого поднимается к вершине Тауме, в красных лучах новорожденного солнца из ночи выступали сосны, терпентинные деревья, кусты и травы гарриги, и в какое-то мгновение перед нами вдруг выныривала, подобно носу корабля, выплывающего из морского тумана, одинокая горная вершина.
Отец и дядя спускались в одну из расположенных по сторонам лощин, то налево – к Эскаупрес, то направо – к Гарет и Пастан.
Я же продолжал идти по краю плоскогорья, в тридцати-сорока метрах от обрыва. И выгонял на охотников всякую встречную пернатую дичь, а когда мне удавалось всполошить зайца, я бежал к обрыву и подавал сигналы, как матрос на мачте в прежние времена: отец и дядя поспешно поднимались ко мне, и мы беспощадно загоняли длинноухую тварь.
Никогда уж больше не посчастливилось нам встретить бартавелл, хотя, не говоря о них, мы повсюду их искали, в особенности в той заветной ложбине, откуда пошла слава моего отца. Мы подкрадывались к ней ползком, пробираясь через заросли дубков-кермесов и колючего дрока, что позволяло нам заставать врасплох куропаток и зайцев, а однажды нам даже попался барсук, которого дядя Жюль убил наповал одним выстрелом чуть ли не в упор. Но королевские куропатки улетели навсегда в легенду, где так до сих пор и пребывают, не иначе как объятые смертным страхом перед Жозефом, ореол славы которого от этого засиял пуще прежнего.
Прочно восседая на вершине славы, он превратился в грозного стрелка: успех зачастую дает толчок развитию таланта. Убежденный в том, что отныне он просто не способен промахнуться, выполняя «королевский выстрел», он при любом удобном случае демонстрировал его, причем выходило это у него настолько легко, что в один прекрасный день дядя Жюль заявил:
– Это уже не «королевский выстрел», а «выстрел Жозефа»!
А сам дядя Жюль оставался по-прежнему несравненным мастером «стрелять в зад», по его собственному выражению, всем тем, кто не без основания убегал или улетал от нас, – зайцам, кроликам, куропаткам и дроздам: они вдруг прерывали свой бег или полет и падали, сраженные выстрелом именно в тот момент, когда я считал их вне пределов досягаемости.
Мы добывали столько дичи, что дядя Жюль стал приторговывать ею, и под бурные аплодисменты всей семьи заработанные нами таким образом деньги пошли на уплату аренды летней «виллы», составлявшей восемьдесят франков в месяц.
Я тоже был причастен к громкому успеху этого предприятия. Иногда вечером, за ужином, дядя говорил:
– Этот мальчик лучше любой охотничьей собаки. Он на ногах с утренней зари до вечерней, не устает, не производит шума и к тому же безошибочно определяет, где прячется дичь. Сегодня он загнал к нам стаю куропаток, вальдшнепа плюс штук пять-шесть певчих дроздов. Ему остается научиться лаять…
При этих словах Поль, выплюнув уже зажеванное мясо в тарелку, принимался на диво хорошо и громко лаять. Тетя Роза журила его, а мама как-то задумчиво смотрела на меня, видимо задаваясь вопросом, благоразумно ли со столь тощими икрами, как мои, одолевать такие расстояния каждый день.
В одно прекрасное утро, часов около девяти, я бежал трусцой по плоскогорью, что простирается над ложбиной с источником Тутового Дерева.
Дядя Жюль спрятался на дне лощины в густых зарослях плюща, а отец притаился на склоне под можжевельником за завесой ломоноса.
Длинной палкой из можжевельника, чья чрезвычайно твердая древесина кажется мягкой, поскольку на ощупь она нежная и гладкая, я нещадно лупил по кустам колючего дрока, но так никого и не выгнал, ни куропаток, ни быстроногого зайца с ложбины Бомсурн.
Тем не менее я продолжал добросовестно исполнять свои обязанности охотничьей собаки, как вдруг приметил на краю обрыва что-то вроде конической башенки, составленной из пяти-шести крупных камней, нагроможденных друг на друга явно чьей-то рукой. Подойдя поближе, я увидел у ее основания мертвую птицу. Ее шейка была зажата между двумя железными скобами силка с пружиной. Птица была больше дрозда, на головке у нее, словно плюмаж на шляпе, красовались несколько великолепных перьев. Я нагнулся было поднять ее, но чей-то голос окликнул меня:
– Эй, парень!
Обернувшись, я увидел мальчика моих лет, который строго смотрел на меня.
– Брать чужие силки нельзя, – строго сказал он. – Чужая ловушка – это святое!
– Я не собирался брать, – ответил я. – Просто хотел посмотреть.
Он подошел ко мне. Это был крестьянский мальчик. Темноволосый, с тонкими чертами провансальского лица, черными глазами и длинными, как у девочки, ресницами. На нем была, под старым жилетом из серой шерсти, коричневая рубашка с длинными рукавами, засученными выше локтей, короткие штаны и матерчатые туфли на веревочной подошве, как у меня, а вот носков на нем не было.
– Чужую дичь из чужого силка имеешь право брать, – уточнил он, – но силок надо наладить заново и положить на место. – Он вынул птицу из силка и добавил: – Это жаворонок, по-нашему «бедуид».
Засунув птицу в холщовую сумку, висевшую у него на шее, он вытащил из кармана жилета трубочку из тростника, закупоренную грубо обтесанной пробкой, открыл ее и выпустил в левую руку большого крылатого муравья. С поразительной ловкостью закупорив трубочку, он ухватил муравья большим и указательным пальцем правой руки, одновременно легким движением левой руки разжимая концы миниатюрных щипчиков – дужек из тонкой металлической проволоки, прикрепленных как раз посередине силка. Эти концы, смыкаясь, образовывали крошечное кольцо. Он поместил в него тонкое тулово муравья, и тот намертво застрял там: крылья не позволяли ему отступить назад, а толстое брюшко – протиснуться вперед.
– Откуда у тебя такие муравьи? – поинтересовался я.
– Это летающие муравьи, по-нашему «алюды». Их полно в любом муравейнике, но они из него никогда не выходят наружу. Надо копать больше метра или дожидаться первого сентябрьского дождя. Как только после дождя выйдет солнце, тут они разом и вылетают… Накроешь мокрым мешком выход из муравейника, и дело в шляпе…
Наладив силок заново, он установил его на прежнее место у каменной башенки.
Крайне заинтригованный, я наблюдал, как он это делает, примечая все подробности. Наконец он поднялся с колен и спросил:
– А ты кто? – И, желая внушить мне доверие, добавил: – Меня зовут Лили. Я из Ле-Беллон.
– И я из Ле-Беллон.
– О нет, – засмеялся он, – ты не из Ле-Беллон. Ты из города. Не тебя ли зовут Марсель?
Я был польщен:
– Да. Откуда ты меня знаешь?
– Я первый раз тебя вижу. Но мой отец перевозил вам мебель. Он мне говорил о тебе. А твой отец тот самый, с двенадцатикалиберным ружьем? Тот, кто подстрелил бартавелл?
Мною овладело чувство гордости.
– Точно, это он.
– Ты мне расскажешь?
– О чем?
– О бартавеллах. Где это было, как у него получилось и все такое.
– Конечно расскажу…
– Только попозже. Когда я кончу обход… А сколько тебе лет?
– Девять.
– А мне восемь. Ты силки ставишь?
– Нет, я не умею.
– Если хочешь, я тебя научу.
– О да! – с восторгом откликнулся я.
– Пойдем со мной. Я обхожу свои ловушки.
– Сейчас не могу. Загоняю дичь к отцу с дядей. Они спрятались на дне ложбины. Я должен выгнать к ним молодых куропаток.
– Куропаток сегодня не будет… Обычно здесь их три стаи… Но сегодня утром мимо проходили дровосеки и спугнули их. Две стаи улетели к Ла-Гарет, а третья спустилась вниз, в Пастан… А вот большого зайца выгнать к ним можно, он где-то тут неподалеку, я видел его петулье.
Под этим словом подразумевались заячьи какашки.
Мы отправились осматривать силки, молотя палками по попадавшимся на нашем пути зарослям.
Мой новый друг вынул из силков несколько белогузок (этих птиц по-провансальски называют еще и «тракемотье»), пару бедуидов и трех дарнагасов.
– Городские зовут эту птицу кривоклювом или клестовкой, а мы в деревне говорим «дарнагас», то есть глупышка, потому что она и вправду очень глупая… Если во всей округе есть только одна такая птица и поставлен только один силок, будь уверен: она обязательно угодит в него и позволит себя задушить… Вкуснятина, – добавил он. – Смотри, еще одна дурачина!
Он бросился к другой башенке и извлек из нее ящерицу. Это был великолепный экземпляр: ярко-зеленого цвета, с крохотными золотистыми крапинками по бокам и нежными бледно-синими дугообразными пятнышками на спинке. Лили выбросил в кусты трупик. Я кинулся поднимать его.
– Подари мне его, а?
– На что он мне… – засмеялся Лили. – Говорят, в старину их ели, вроде очень вкусно. А у нас зверьков с холодной кровью не едят. Я уверен, ими можно отравиться…
Я положил красивую ящерку в свою сумку, но, пройдя метров десять, выбросил, потому что в следующий силок попалась еще одна, длиной чуть ли не с мою руку и ярче первой.
Лили принялся ругаться по-провансальски, умоляя Деву Марию оградить его от всякой гадости.
– А почему? – удивился я.
– Разве не понятно? Они засоряют мне силки. Раз попалась ящерица, птица уже не попадется; значит, одной добычей меньше!
Потом пришел черед крыс. Они «засорили» два силка. Это была разновидность больших голубых крыс с очень мягкой шерстью. Лили снова выругался.
– Из таких мой дед готовил прекрасное рагу. Эти зверюшки чистенькие, живут на воле, кормятся желудями, корнями, ягодами терновника… Они такие же чистые, как и кролики. Но все же это крысы, так что… – Он как-то брезгливо скривил рот.
В последние силки попались четыре дарнагаса и одна сорока.
– Смотри-ка, белобокая! Как она тут оказалась? Да еще угодила в пустой силок, без всякой приманки! Не иначе как свихнутая…
Не договорив, он подал мне знак не шуметь, затем указал на заросли колючего дрока чуть поодаль:
– Там что-то шевелится. Давай пойдем в обход и посмотрим, что там, только ни гугу!
Он двинулся бесшумным мягким шагом, как истый команч, каким он и являлся, не ведая о том. Я пошел вслед за ним, но он знаком велел мне забирать левее и держаться подальше от зарослей дрока. Сам он тоже не торопясь пробирался по направлению к ним, я же бросился в обход, чтобы исполнить задуманный им маневр.
За десять метров до цели Лили остановился, кинул камень и раз десять, широко расставив руки, подпрыгнул на месте, испуская дикие вопли. Я последовал его примеру. Вдруг Лили бросился вперед. Я увидел, как из зарослей дрока, прижав уши, стремглав выскочил огромный заяц: не заяц, а лось! Мне удалось перекрыть ему дорогу: он метнулся в сторону и нырнул в какой-то лаз. Добежав до края обрыва, мы увидели, как он стремительно скачет вниз, а затем несется по дну лощины под кустами. Мы ждали с замиранием сердца. Один за другим грянули два выстрела. Потом еще два.
– Двенадцатикалиберный выстрелил вторым. Поможем им отыскать зайца. – С этими словами Лили стал спускаться по лазу с чисто обезьяньей ловкостью. – Кажется, что здесь трудно пройти, а на деле так же легко, как по лестнице.
Я устремился за ним. Он, судя по всему, высоко оценил мою ловкость.
– Хоть ты и из города, а справляешься неплохо, – с видом знатока бросил он в мою сторону.
Спустившись с обрыва, мы побежали по ровной покатости склона.
Рядом с источником, под высоченными соснами, в тени приютилась поляна. На ней стояли отец с дядей и с гордостью разглядывали убитого косого. Они обернулись к нам.
– А кто его убил? – робко поинтересовался я.
– Оба, – ответил дядя. – Я дважды попал в него, но он как ни в чем не бывало продолжал бежать и упал только после двух выстрелов твоего отца… Ведь эти зверюшки легко переносят, когда в них попадает дробь.
Это было сказано таким тоном, как будто речь шла не о выстрелах, а о фраке или котелке.
Потом он перевел взгляд на моего нового друга.
– Нашего полку прибыло! – проговорил он.
– Я его знаю, – вступил в разговор отец. – Ты ведь сын Франсуа?
– Да, – ответил Лили. – Вы меня видели, когда были у нас на Пасху.
– А ты, кажется, охотник хоть куда. Так мне твой отец сказал.
– Ну что вы! – покраснел Лили. – Я только птиц ловлю… силками.
– И много попадается?
Лили огляделся, после чего опрокинул сумку и вытряхнул из нее на траву все содержимое. Я замер от восторга: птиц было штук тридцать.
– Знаешь, – сказал он, – ловить их легко. Главное – иметь алюдов. А я знаю, где их достать, – там, внизу, в Вала, есть одна ива… Если завтра утром ты свободен, пойдем со мной: у меня кончаются их запасы.
Между тем дядя с интересом рассматривал выставленную напоказ добычу маленького охотника.
– Ого! – сказал он, шутливо погрозив Лили указательным пальцем. – Да ты, я смотрю, настоящий браконьер?
– Я? – удивился тот. – Да я же из Ле-Беллон!
Отец поинтересовался, что он хочет этим сказать.
– Здешние холмы принадлежат здешним жителям. Значит, мы не браконьеры!
Было ясно как божий день: все местные браконьеры – охотники, а охотники из Алло и тем паче из города – браконьеры.
Мы позавтракали вчетвером здесь же, на поляне. Разговор с Лили нас очень заинтересовал – он знал тут каждую ложбинку, каждую балку, каждую тропинку и чуть ли не каждый камень. К тому же он знал, какая и где водится дичь, в какие часы ее можно застать, знал все звериные повадки, но мне показалось, что об этом он рассказывал как-то неохотно, довольствуясь скорее ответами на вопросы дяди Жюля, часто уклончиво, с хитрым выражением лица.
– Больше всего, пожалуй, в этом краю не хватает воды, – посетовал отец. – Кроме источника Тутового Дерева, есть ли какие другие?
– Разумеется! – опрометчиво воскликнул Лили, но тут же прикусил язык.
– Есть еще ключ на Пастан, – вставил дядя. – Он указан на полевой карте.
– И на Эскаупрес есть ключ, – добавил Лили. – Там отец поит своих коз.
– Это тот, что мы видели на днях, – подтвердил дядя.
– Наверняка есть и другие, – убежденно проговорил отец. – Не может быть, чтобы в таком обширном горном массиве дождевые воды не выходили где-то на поверхность.
– А может быть, здесь недостаточно дождей? – предположил дядя.
– Это не так! – живо откликнулся отец. – В Париже в год выпадает четыреста пятьдесят миллиметров осадков, а здесь целых шестьсот!
Я с гордостью посмотрел на Лили и даже подмигнул ему: мол, чего только не знает мой отец! Но до Лили, видимо, не дошло, насколько ценно только что сказанное.
– Учитывая тот факт, что здешние плоскогорья состоят из наслоенных друг на друга горизонтальных пластов водонепроницаемых горных пород, – продолжал объяснять отец, – мне кажется неоспоримым тот факт, что поверхностные сточные воды скапливаются в низинах и проникают в почву, образуя подземные водоемы. Некоторые из этих водоемов, вероятнее всего, слишком близко подходят к поверхности земли, и потому вода просачивается там сквозь породы. Ты, наверное, знаешь и другие ключи?
– Да, я знаю семь ключей, – подтвердил Лили.
– А где они находятся?
Лили явно затруднялся с ответом, но все же нашелся и отчеканил:
– Где они, говорить запрещено.
Этот ответ удивил отца не меньше моего.
– А почему?
Лили покраснел, проглотил слюну и выпалил:
– Потому что где находится ключ, раскрывать нельзя!
– Это что еще за правило? – вскинулся дядя.
– Все ясно: в этом безводном краю источник – это сокровище, – пояснил отец.
– К тому же, – простодушно изрек Лили, – если бы они знали, где ключи, то могли бы пить из них воду!
– А «они» – это кто?
– Те, из Алло или из Пейпена. Они бы наведывались сюда и охотились бы здесь каждый день! – Он вдруг неожиданно оживился. – А еще все эти дураки со своими походами… С тех пор как кто-то рассказал им о ключе в Птитоме, бывает, человек по двадцать заявляются к нам… Во-первых, это пугает молодых куропаток, во-вторых, однажды эти болваны залезли в виноградник Шабера, и, в-третьих, напившись, они, бывало, мочились в ключ. Однажды даже оставили дощечку с надписью: «Мы написали в ключ!»
– А почему они так поступили? – поинтересовался дядя.
– Потому что Шабер до этого дал по ним выстрел, – откровенно признался Лили.
– По-настоящему? Из ружья? – спросил я.
– Да, но издалека, к тому же мелкой дробью… Его можно понять, у него одно-единственное вишневое дерево, а те крали у него вишни! – возмущенно объяснял Лили. – А мой отец считает, что стрелять следовало самой крупной дробью, с которой идут на дикого кабана!
– Поистине дикие нравы! – прокомментировал дядя.
– Это не мы, а они дикари! – решительно возразил Лили. – Два года назад они жарили на углях свои отбивные, и загорелся сосновый бор вокруг овчарни Муле! К счастью, бор был небольшой и поблизости не было никаких построек. А если бы они то же самое устроили в Пастан, вы только представьте себе!
– Все правильно, – согласился отец, – люди из города опасны, потому что они не знают…
– Раз не знаешь, – разгорячился мальчик, – сиди дома!
Он за обе щеки уплетал яичницу с помидорами.
– А мы не из таких, мы не туристы. Ключи не пачкаем, так что ты мог бы нам указать, где они находятся.
– Я бы с удовольствием, – примиренно проговорил Лили. – Но это запрещено. Даже родным нельзя говорить…
– Даже родным… вот это да! – удивился отец.
– Быть может, наш друг чуть-чуть преувеличивает? – вставил дядя.
– А вот и нет! Это сущая правда! Есть один ключ, который еще мой дед знал, так вот, он так никому и не сказал, где тот находится…
– Откуда же ты знаешь?
– Да у нас в том месте небольшое поле, в конце Пастан. Иногда мы ходили туда пахать землю, гречиху там сажали. В полдень, когда садились есть, дедушка говорил: «Отвернитесь!» – и куда-то уходил с пустой бутылкой.
– И вы не смотрели? – спросил я.
– Дева-заступница! Да он бы всех поубивал! Мы сидели на земле, ели и даже шелохнуться боялись. А через какое-то время он возвращался к нам с бутылкой ледяной воды.
– И вы никогда-никогда так ничего и не узнали? – поразился отец.
– Вроде бы перед самой смертью он сделал попытку открыть тайну… Подозвал к себе моего отца, пролепетал: «Франсуа, ключ, ключ-то…» – и все… отдал концы. Слишком поздно спохватился. А мы, как ни искали, так никогда и не нашли. Да что там, этот ключ навсегда потерян для нас…
– Вот уж поистине бессмысленная расточительность, – подвел итог дядя.
– Верно, – грустно согласился Лили. – Может, хоть птицы пьют из него?
После того как мы с Лили стали друзьями, для меня началась новая жизнь. Когда мы с отцом и дядей выходили из дому на заре, после утреннего кофе, мы неизменно заставали его сидящим на земле под нашей смоковницей и усердно занимающимся подготовкой силков.
У него их было ровно три дюжины, а у меня две дюжины – отец купил их для меня в скобяной лавке в Обани, где они продавались под лицемерным названием «крысоловка».
Я всячески уговаривал отца купить мне несколько ловушек побольше, предназначенных для «умерщвления» молодых куропаток.
– Нет, – отрезал отец, – было бы нечестно ставить силки на такую великолепную дичь.
Я тут же засомневался в честности охоты с ружьем типа мушкет, которым он сам бил наповал застигнутых врасплох пернатых.
– Зато куропатка может и не попасть в силок, потому как она умная, хитрая, у нее даже есть шанс уцелеть…
– Может быть, ты прав, – согласился отец. – Но что ни говори, силок не относится к благородным охотничьим приспособлениям… Есть у меня и другая причина отказать тебе: на этих ловушках стоит чересчур мощная пружина. Ты рискуешь сломать себе палец!
Я тотчас принялся доказывать ему, что умею, и довольно искусно, пользоваться такого рода силками, и отец был вынужден признать, что так оно и есть. Но поскольку я продолжал настаивать, он в конце концов вполголоса привел последний аргумент:
– К тому же они слишком дорогие.
Я сделал вид, будто не расслышал его слов, и с радостным криком бросился к рогатке, вполне «разумной» по цене – всего-навсего три су.
«Крысоловки», размером не больше блюдечка, оказались страшно действенными: стоило птице коснуться такого силка, как он буквально набрасывался на нее и насмерть вцеплялся ей в горло, так что даже у крупного дрозда не было шансов спастись.
Загоняя дичь к охотникам, мы одновременно расставляли свои смертоносные ловушки, то прямо на земле, то на краю отвесных скалистых обрывов, по-здешнему – баров, то на какой-нибудь раздвоенной ветке, которую мы надламывали таким образом, чтобы она находилась в положении плашмя и была скрыта в самой гуще терпентинного дерева, которое Лили по-своему называл петелен.
Это дерево, столь охотно произрастающее в стихах на пасторальную тему, увешано гроздьями красных и синих ягод, до которых охочи все птицы без исключения: пристроил силок в терпентинном дереве и жди себе, пока в него попадет зяблик, малиновка или певчий дрозд…
Всю первую половину дня мы расставляли силки, поднимаясь все выше, затем наша охотничья четверка останавливалась перекусить у какого-нибудь источника, в светлой тени сосен.
Ягдташи всегда были битком набиты едой, но съедалось все, вплоть до крошек. Пока мы уплетали яичницу с помидорами (когда она холодная, пальчики оближешь!), на углях розмарина жарились, шипя, великолепные отбивные. Порой дядя Жюль, с полным ртом, вдруг хватался за ружье и стрелял в небо сквозь ветви сосны по невидимой мишени, после чего на нас неожиданно сваливался вяхирь, или иволга, или ястреб-перепелятник…
Когда не оставалось ничего, кроме костей и корочек от сыра, отец с дядей, прикрыв лица от назойливых мух носовыми платками, ложились вздремнуть на ложе из бауко, а мы поднимались к барам на первый обход расставленных утром силков.
У нас с Лили была безупречная память на места, деревья, кусты и камни. Завидев издалека, что силка нет на месте, я бросался вперед, волнуясь, как траппер, надеющийся обнаружить в силке горностая или серебристую лису.
Задушенная птица почти всегда лежала с силком вокруг шеи под деревом или у сложенной нами из камней башенки. Но если мы не находили ни силка, ни добычи, вот тут-то эмоции перехлестывали через край, как у игрока в лотерею в тот миг, когда из вращающегося барабана уже вышли три шарика с первыми тремя цифрами его лотерейного билета и он ждет следующего.
Чем дальше от своего места силок, тем больше угодившая в него птица. Разыскивая жертву, мы углублялись в кустарники, описывая концентрические круги вокруг того места, где была устроена западня.
Чаще всего это был отменный певчий дрозд, жирненькая альпийская перепелка, вяхирь или сойка…
Иной раз нам не удавалось отыскать саму ловушку, унесенную вместе с попавшейся в нее жертвой каким-нибудь стервятником, привлеченным судорожными попытками птицы освободиться.
А бывало, нас ждало разочарование, которое кроме как смехотворным и не назовешь: в силок попадалась большая крыса, огромная ящерица или длиннющая сколопендра цвета дикого меда. Однажды мы долго безрезультатно искали силок, но не теряли надежды и наконец нашли его, а в нем белую сову: вытянувшись на своих желтых лапках, растопырив перья, она словно исполняла какой-то танец с силком вокруг шеи. Наполовину задушенная, шепча какие-то глухие страшные заклинания, она весьма неприветливо встретила нас, неестественно тараща утопающие в перьях глаза. Когда я не без опаски подошел к ней, она вдруг совершила странный прыжок: выбросив обе лапы вверх, она мертвой хваткой вцепилась в силок и откинулась назад на крестец. Схвати она только одну из латунных дужек силка, ей, наверное, удалось бы освободиться, но она прижимала обе дужки к своей хрупкой и без того уже изрядно помятой шейке. Близкая смерть заставила ее открыть клюв. Собравшись с последними силами, она резким движением попыталась сорвать с себя ловушку и одним махом оторвала себе голову.
Своеобразному шару из перьев-щетинок, взвившемуся в небо, наверно, померещилось, что он наконец-то взлетел, но он шлепнулся на камни с задранным кверху клювом и еще более округлившимися от удивления глазами.
Когда намного позже – в средней школе – наш преподаватель господин Лаплан поведал нам, что сова – птица Минервы, а посему является символом мудрости, я разразился таким хохотом, что мне пришлось письменно спрягать четыре латинских глагола из числа самых каверзных, включая и деепричастные формы.
Совершив первый обход силков, мы ждали, когда наступит пять или шесть часов вечера, тем самым давая нашим ловушкам возможность «поработать» еще.
А пока охотники отдыхали после обеда, мы разведывали расщелины и пещерки в скалах, собирали на плоскогорье Экскаупрес пебрдай, то есть чабер, или лаванду на горе Тауме. Часто, лежа под сосной в густом кустарнике – подобно диким зверям, мы хотели все видеть, оставаясь незамеченными, – мы с Лили часами вели вполголоса разговор.
* * *
Лили знал все: какая будет погода, где находятся потайные ключи, в каких овражках растут грибы или дикорастущие виды салата, где найти сосновые шишки со съедобными ядрышками, где собирать ягоды терновника или земляничника; он знал, где в чаще непролазного кустарника затерялось несколько уцелевших от филоксеры лоз, на которых в уединении созревал кисловатый, но вкуснейший виноград. Он умел смастерить из простого тростника флейту с тремя дырочками. Выбрав высохшую веточку ломоноса, он обрезáл ее таким образом, чтобы на ней не было сучков, и мы раскуривали ее, словно сигару, что было возможно благодаря множеству невидимых для глаза трубочек, из которых состоит сердцевина веточки.
Он представил меня старой ююбе на Пондран, рябине на Гур-де-Рубо, четырем смоковницам в Прекатори, земляничникам в Ла-Гарет, а однажды показал Певучий Камень на вершине холма Красная Макушка.
На самом краю обрыва стояла одинокая каменная башенка со множеством отверстий и в залитой солнцем тишине пела, причем, в зависимости от направления ветра, на разные лады.
Лежа на животе среди бауко и тимьяна по обе стороны башенки, мы с Лили приникали к ней, обняв ее отполированную временем поверхность, и, закрыв глаза, слушали, как она поет.
Новорожденный мистраль заставлял Певучий Камень весело смеяться, но, когда ветер приходил в неистовство, Камень жалобно мяукал, как бездомный кот. Ему был явно не по вкусу ветер с востока, вестник дождя: Камень вздохами, переходящими в тревожный шепот, возвещал о воде с небес. А потом, словно в глубине воображаемого промокшего леса, грустно и долго звучал чего только не повидавший на своем веку охотничий рожок.
А когда с моря дул так называемый девичий ветерок, звучала самая что ни на есть настоящая музыка.
Слышны были хоралы, исполняемые прекрасными дамами, разодетыми, как маркизы былых времен, и приседавшими в реверансе. А иной раз как будто стеклянная флейта своим тончайшим отточенным голоском где-то в облаках подпевала поющей на берегу ручейка девочке.
Но мой дорогой Лили ничего такого себе не представлял, и когда пела девочка, он думал, что это поет певчий дрозд или овсянка. Но он же не был виноват в том, что его слух не улавливал всего этого, он по-прежнему вызывал во мне беспредельное восхищение.
Желая отплатить ему за столькие чудеса, я рассказывал ему о городе: о больших магазинах, где можно купить все на свете, о витринах с игрушками под Рождество, о шествиях с факелами за музыкантами 141-го пехотного полка[21], о сказочной феерии парка Мажик-сити, где мне довелось покататься на русских горках: я воспроизводил мерное постукивание чугунных колес по рельсам, пронзительные вопли пассажирок, и Лили подхватывал их…
С другой стороны, удостоверившись в том, что по своему невежеству он был не прочь считать меня чуть ли не всезнающим ученым, я всячески старался подтвердить это его мнение обо мне, столь отличное от мнения моего отца, сногсшибательными фокусами из области устного счета, которые, впрочем, были тщательно мною подготовлены: именно Лили я обязан тем, что знаю наизусть таблицу умножения и могу с ходу ответить, сколько будет тринадцатью тринадцать.
Чуть позже я подарил ему несколько слов из личной коллекции, начав с самых коротких, таких как «ватман», «дифирамб», «пункция», «плагиат», а однажды, желая ослепить его словом «волдыреобразный», схватился голыми руками за крапиву. Позже я искусно вставлял в разговор слова «прозелит», «латентный», «коммюнике» и – верх великолепия – «уполномоченный», наградив этим титулом (кстати, совершенно не по праву) местного бригадира жандармерии.
И наконец, в один прекрасный день я одарил его самым длинным словом во французском языке, предварительно написав его каллиграфическим почерком на клочке бумаги: антиконституционный. Когда Лили удалось прочесть его, он, не жалея комплиментов, горячо поздравил меня, признавшись при этом, что «вряд ли будет пользоваться этим словом часто»; меня такое признание ничуть не обидело. Я не ставил целью расширить его словарный запас, а только вызвать у него еще большее восхищение моими познаниями, которое росло с каждым новым необычным словом.
Но о чем бы мы ни говорили, разговор неизменно сводился к охоте: я пересказывал ему охотничьи байки дяди Жюля, и частенько, прислонившись к сосне, сложив на груди руки и покусывая зернышки с зонтика дикого фенхеля, он важно просил: «Расскажи еще о бартавеллах…»
Никогда прежде я не был так счастлив, но порой меня мучили угрызения совести, ведь я совсем забросил маленького Поля. Он не жаловался, но мне все равно было жаль его, я воображал, как он одинок. Поэтому в один прекрасный день я решил взять его с нами на охоту.
Накануне я предупредил отца с дядей, что мы с Лили выйдем в путь не с раннего утра, а намного позже – из-за маленького Поля – и догоним их в лощине под Пастан, где нам предстояло позавтракать.
Они, кажется, были разочарованы моим отступничеством и старались переубедить меня. Но безуспешно.
Я безмолвно смаковал свою победу: было время, когда они отказались взять меня с собой на открытие охотничьего сезона, а теперь, оказывается, расстроены, что меня с ними не будет, потому как я стал незаменимым… Так, должно быть, радуются американцы, когда мы, французы, зовем их на помощь после того, как когда-то выгнали со своей земли их предков под надуманными предлогами политического или религиозного порядка.
На следующее утро, часов в шесть, мы отправились в путь втроем: я, Лили и еще не совсем проснувшийся маленький Поль, который довольно радостно зашагал между нами навстречу приключениям.
В сосновом бору в Птитёй, мы проверили первый силок – в него попался зяблик.
Поль сразу же вынул его из силка, минуту смотрел на него, после чего залился слезами.
– Он мертв! Он мертв! – задушенным голосом запричитал он.
– Ну конечно, – отвечал Лили, – силки их душат.
– Не хочу! Не хочу! Нужно его раздушить!
Он попробовал было дунуть мертвой птице в клюв, затем, желая помочь ей взлететь, подбросил ее вверх… Но бедняга-зяблик брякнулся о землю так, как будто у него никогда и не было крыльев… Тут маленький Поль, собрав камни, в порыве гнева стал бросаться ими в нас, и мне пришлось взять его на руки и отнести домой.
Мне было жаль оставлять его дома, чем я поделился с мамой.
– Не волнуйся, – успокоила она меня, – он так обожает сестричку, так терпелив с ней, целый день только о ней и заботится. Не правда ли, Поль?
– О да, мама!
Он и впрямь «заботился» о сестричке: запускал горсть цикад в ее тонкие вьющиеся волосы, и плененные таким образом насекомые устраивали там концерт, стрекоча своими молоточками и щекоча ее, отчего она смеялась, страшно побледнев от ужаса; либо усаживал ее в двух метрах от земли на развилке в оливковом дереве, делая вид, что уйдет, бросив ее на произвол судьбы; однажды, боясь спуститься вниз, малышка вскарабкалась на самую верхушку, и мать издалека вдруг с неописуемым страхом обнаружила крохотное личико дочурки, торчащее над отливающей серебром кроной дерева.
Она бросилась за отцовской складной лестницей, и с помощью тети Розы ей удалось спустить дочку вниз – так пожарные снимают с крыш чересчур отважных котят. Поль как ни в чем не бывало заявил, что она «убежала от него», и бедняжка-сестричка с этого дня стала считаться чем-то вроде обезьянки, которой нипочем самые рискованные высоты.
В другой раз он засунул ей за шиворот плоды «жопадера»: так в Провансе называют – и вполне заслуженно – ягоды шиповника, после чего за ней закрепилась репутация жуткой плаксы.
Он утешал ее, закармливая смолой миндального дерева, а однажды дал пожевать якобы лакричную пастилку, чье происхождение никак не было связано с аптекой и являлось продуктом жизнедеятельности зайчонка. Он по секрету сообщил мне об этом своем подвиге в тот же вечер, поскольку опасался, что отравил ее.
Я в ответ признался ему в том, что и сам неоднократно угощал его еще тепленькими черными оливками, которые подбирал на пути следования стада коз, и никаких нежелательных последствий из этого не проистекало. Он был в восторге от моего признания, которое давало ему возможность без всяких угрызений совести продолжать свои поистине братские шалости.
Но, как я узнал позже от великого Шекспира: crime will out, то есть преступление рано или поздно обязательно будет раскрыто, и в один прекрасный вечер, вернувшись с охоты, я застал Поля рыдающим в подушку.
В тот роковой день он придумал новую игру, с очень незамысловатыми правилами… Он сильно щипал сестру за налитые ягодицы, и она издавала пронзительные крики. Тогда Поль, как бы не помня себя от страха, сломя голову несся к дому с криком: «Мама! Быстрее! Ее укусила оса!»
Два раза подряд мама верила ему и каждый раз, прибегая с ватой и нашатырным спиртом, пыталась ногтями вытащить несуществующее жало, отчего сестра заходилась в крике, к величайшему удовольствию излишне чувствительного Поля.
Но он допустил большую ошибку, в третий раз затеяв свою братскую шутку.
Мама, у которой уже появились кое-какие подозрения, застала его на этот раз на месте преступления: для начала он получил от нее великолепную оплеуху, а затем был высечен плеточкой; наказание он принял безропотно, но последовавшее за ним внушение, исполненное патетических наставлений, разбило ему сердце, так что в семь часов вечера он все еще был безутешен. За ужином он сам себя лишил сладкого, а жертва его шуток в порыве благодарности, преисполнившись нежных чувств, плакала и угощала его собственной порцией крема с карамелью…
Таким образом, убедившись в том, что Полю некогда скучать, я легко подавил в себе угрызения совести и оставил его наедине с его преступными играми.
Однажды утром мы отправились на охоту под низким пасмурным небом, как бы оседлавшим вершины холмов и чуть заалевшим на востоке; небольшой прохладный ветерок с моря медленно гнал по небу мрачные тучи: отец заставил меня надеть на голову картуз, а поверх рубашки куртку с длинным рукавом.
Лили пришел в берете.
– Дождя не будет, лучшей погоды для охоты не придумаешь, – взглянув на небо, постановил дядя.
– Выпей он всю воду, что сейчас хлынет, ему до самого Рождества пи́сать без остановки! – подмигнув мне, шепнул Лили.
Я был в восторге от его слов. Лили не без некоторой гордости поведал мне, что услышал их от своего старшего брата Батистена.
Начало дня прошло как обычно, но часам к десяти утра на подступах к Тауме нас застиг ливень. Он продолжался не более десяти минут, и мы переждали его под густыми ветвями большой сосны; отец не преминул воспользоваться этой передышкой и разъяснил, что ни в коем случае не следует спасаться от грозы под деревом. Но грома не было, и вскоре мы снова отправились в путь и благополучно добрались до лощины Бомсурн, где и позавтракали.
По дороге мы с Лили поставили штук пятьдесят ловушек, а отец с дядей подстрелили четырех кроликов и шесть куропаток.
Между тем просветлело, и дядя веско заявил:
– Конец! Небо прочистилось. Дождя больше не будет!
Лили опять подмигнул мне, но повторять свое великолепное высказывание не стал.
Напрасно обегав ложбину Жардинье в поисках дичи, отец с дядей расстались с нами и отправились по направлению к Пастан, а мы с Лили решили вернуться в свои охотничьи угодья.
Мы поднимались вверх вдоль осыпей, когда Лили вдруг сказал:
– Ни к чему спешить. Чем дольше не осматриваешь силки, тем лучше!
Положив руки под голову, мы улеглись под старой рябиной, торчавшей среди зарослей боярышника.
– Я не удивлюсь, если нам попадется несколько рябинников, по-нашему сайров, ведь сегодня наступила осень.
Я не поверил своим ушам.
В Центральной и Северной Франции начиная с первых дней сентября легкий ветерок, чуть холоднее обычного, как бы мимоходом срывает то с одного, то с другого дерева лист ярко-желтого цвета, и тот плывет себе, грациозно кружась, словно птица… Это возвещает о начале увядания леса, который сначала рыжеет, потом чернеет и наконец становится таким жалким оттого, что все его листья постепенно улетели вслед за ласточками, стоило осени протрубить в свой золотой рог.
А в моем краю, в Провансе, сосновые и оливковые леса желтеют только перед тем, как умереть, тогда как первые сентябрьские дожди, отмывая листву и возвращая ей зеленый цвет, словно воскрешают апрель. На плоскогорьях, сплошь заросших гарригой, тимьян, розмарин, тутовые деревья и дубки-кермесы никогда не роняют листьев; вечно синеет шильная трава, так что наступающей осени приходится тихо, как тать, прокрадываться в глубину ложбинок и там, чтобы скрыть свое явление, воспользовавшись ночным дождем, окрасить в желтые тона крохотный виноградник или четыре-пять персиковых деревьев, таких чахлых на вид, а еще заставить покраснеть наивные ягоды земляничника, вечно принимающего ее за весну.
Вот почему дни летних каникул, неизменно похожие друг на друга, не позволяли понять, какое время года на дворе, – на лике уже мертвого лета не появлялось ни морщинки.
Я оглянулся, ничего не понимая:
– А кто тебе сказал, что наступила осень?
– Через четыре дня Святой Михаил, тогда и прилетят первые сайры. Пока это только пробный полет, а настоящего жди на следующей неделе, в октябре…
От последнего слова у меня защемило сердце. Октябрь… НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА!
Я отказывался думать об этом, изо всех сил гнал от себя эту страшную мысль, находясь в том самом умонастроении, которое стало мне понятно позднее, когда наш преподаватель Эме Сакоман объяснил нам суть субъективного идеализма Фихте. Как и немецкий философ, я был уверен, что внешний мир сотворен лично мною и что в моей власти просто силой воли вычеркнуть из него любые неприятные события. Именно по причине этой врожденной убежденности, которую жизнь неизменно опровергает, дети приходят в такую ярость, когда какое-нибудь событие, которое они считали подвластным себе, беспардонно идет наперекор их желаниям.
Так и я попробовал выбросить из головы наступление октября со всеми вытекающими из этого последствиями. До них пока еще было сравнительно далеко, и поэтому они не противились тому, чтобы я забыл о них, как противилось бы событие нынешнего дня. Мне это удалось сполна, поскольку на помощь пришел отдаленный раскат грома, положивший конец нашему разговору.
Лили встал и прислушался. По небу вновь где-то над городком Алло, с другой стороны Тауме, прокатился гром.
– Ну вот! Началось, – проговорил Лили. – Увидишь, что будет через час!.. Пока еще далеко, но движется к нам…
Выйдя из зарослей шиповника, я увидел, что небо изрядно потемнело.
– И что нам делать? Может быть, вернуться в Бомсурн?
– Ни к чему. Я знаю одно местечко, там, где кончается Тауме, – мы не промокнем и все увидим. Пошли со мной.
Он отправился в путь. Я за ним.
В то же самое мгновение от нового раската грома, прозвучавшего уже ближе к нам, как-то глухо ухнув, пошатнулся окружающий пейзаж. Лили обернулся ко мне.
– Не бойся. У нас еще есть время, – бросил он, тем не менее прибавив ходу.
Мы взобрались вверх по двум отвесным лазам; небо становилось сумеречным. Когда мы добрались до подножия скалы, я увидел, как на нас надвигается огромная фиолетовая завеса… и вдруг ее пронзила бесшумно сверкнувшая ярко-красная молния.
Вскарабкавшись вверх по третьему, почти вертикальному лазу, мы оказались на предпоследней перед плоскогорьем террасе. Шагах в пятидесяти перед собой мы увидели треугольную расселину меньше метра шириной у основания.
В нее-то мы и забрались. Эта своеобразная пещера, у входа чуть расширяющаяся, сужалась по мере того, как мы продвигались по ней, углубляясь и в скалу, и во мрак.
Набрав несколько плоских камней, Лили устроил своего рода скамью, с которой вся близлежащая округа была видна как на ладони.
– Можно начинать! – сложив руки рупором, бросил он грозовым тучам.
Однако ничего не последовало.
У наших ног, тремя террасами ниже, распростерлась словно ныряющая в глубину ложбина Жардинье, чей сосновый лес доходил до двух отвесных каменистых обрывов над ущельем Пастан, те, в свою очередь, ныряли меж двух плоскогорий со скудной растительностью.
Справа, почти на уровне наших глаз, виднелись отлогие подступы к Тауме, где мы поставили силки.
Слева от ложбины Жардинье располагалась кремнистая крутизна обрыва, по верху которого шла черная кайма из сосен и каменных дубов – водораздел между скалами и небом.
Этот пейзаж, который я всегда видел не иначе как трепещущим, танцующим в знойном воздухе жарких летних дней, замер, напоминая огромные рождественские ясли из картона.
Над нашими головами проплывали зловещие фиолетовые тучи, и голубоватый свет дня с каждой минутой все больше тускнел, словно пламя гаснущей керосиновой лампы.
Мне не было страшно, но мною овладело странное ощущение беспокойства, какая-то идущая из глубины животная тревога.
Обычные ароматы холмов – и прежде всего аромат лаванды – прибило к земле, они стали густыми, чуть ли не осязаемыми.
Мимо нас очертя голову, словно за ними гнались охотничьи собаки, промчалось несколько кроликов, потом из ложбины бесшумно вылетели куропатки с широко раскрытыми крыльями и расположились шагах в тридцати слева от нас, под выступом серого обрыва.
И только тогда, в торжественной тишине холмов, завели свою песнь неподвижно стоящие сосны.
Это был отдаленный шепот, еле уловимый гул, слишком слабый, чтобы отозваться эхом, но какой-то подрагивающий, непрестанный, волшебный.
Мы не шевелились, не говорили. Откуда-то со стороны Бомсурн донесся крик перепелятника, сначала пронзительный, отрывистый, а потом долгий, словно зовущий на помощь; на серую скалу перед моими глазами упали первые капли дождя.
Капли были редкими, тяжелыми, стукаясь о скалу, они отскакивали от нее и словно взрывались, после чего на камне оставались фиолетовые пятна размером с монетку. Затем они сблизились во времени и в пространстве, и поверхность скалы залоснилась, как городской тротуар под дождем. И наконец, проткнув грозовые тучи, сверкнула короткая молния, за ней раздался сухой треск, грянул гром, и разверзлись хляби небесные, из которых с оглушительным грохотом на гарригу обрушились тонны воды.
Лили расхохотался, он был бледен, я почувствовал, что и сам я побледнел, но обоим стало легче дышать.
Отвесно падающие струи дождя скрыли пейзаж, был виден только какой-то полукруг, еле-еле просматривающийся за плотной кисеей из белых жемчужных капель. Время от времени вспышка молнии, такая короткая, что казалась неподвижной, озаряла ярким светом черный свод, и черные абрисы деревьев проступали сквозь стену дождя, напоминающую стеклянную. Было холодно.
– Интересно, где мой отец? – вслух подумал я.
– Они, верно, уже добрались до пещеры в Пастан или до ложбины Зив, – отозвался Лили и, несколько секунд подумав, добавил: – Я тебе сейчас открою большой секрет, но клянись, что никогда никому не скажешь об этом! Ты должен дать клятву на деревянном и железном крестах.
Это была особая клятва, подходящая для событий исключительной важности. Выражение лица у Лили было серьезным как никогда, он ждал. Я встал и, вытянув правую руку вперед, под стук дождя громко отчеканил:
Клянусь на кресте деревянном, Клянусь на железном кресте! А клятву сорву – в ад попаду!Выждав для пущей важности секунд десять, Лили встал:
– Хорошо! А теперь пойдем со мной. На ту сторону.
– На какую «ту сторону»?
– Пещера, где мы находимся, – сквозная. Это тайный проход под Тауме.
– Ты уже ходил по нему?
– Много раз.
– Ты никогда не говорил мне об этом.
– Потому что это большой секрет. Только трое его знают: Батистен, мой отец и я. А теперь еще и ты – значит четверо.
– Разве это так важно?
– Еще бы не важно! А жандармы! Стоит им появиться у Ле-Тауме, а ты раз – и уже выходишь с другой стороны. Они-то прохода не знают: пока обойдут кругом, тебя уже ищи-свищи! Ты поклялся, смотри же, никому!
– Даже моему отцу?
– У него есть охотничьи права. Зачем ему об этом знать?
В глубине скалы пещера сильно сужалась и заворачивала влево. Лили, выставив вперед одно плечо, протиснулся в узкое отверстие.
– Не бойся. Дальше будет шире.
Я последовал за ним.
Коридор в скале шел то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Шума дождя слышно не было, но скала сотрясалась от рокота грома.
За последним поворотом стало светлее. Туннелеобразный коридор выходил наружу на другой стороне горы, и, по всей вероятности, Эскаупрес был под нами, но его сплошь заволокло пеленой тумана. К тому же на нас серыми валами надвигались грозовые тучи; минуту спустя из них хлынула вода, как на берег в прилив, и скоро нас затопило: в десяти шагах не было видно ни зги.
Пещера, в которой мы оказались, была шире первой, с потолка свисали сталактиты, а ее порог находился в двух метрах от земли.
Стихия разбушевалась не на шутку. Теперь дождь лил как-то особенно яростно, его струи густо и торопливо заливали все вокруг; вдруг вспышки молний стали следовать одна за другой безостановочно: каждый следующий раскат грома словно подхватывал предыдущий, слабеющий, и эта эстафета раскатов доходила до нас усиленной несмолкающим эхом.
От ударов дождевых капель подрагивало и роняло лоснящиеся листья растущее у порога терпентинное дерево. Было слышно, как справа и слева от нас, перекатывая камешки и камни покрупнее, неслись дождевые потоки, образующие, по всей видимости, крохотные водопады и звонко бурлящие водовороты.
Мы были, как нам думалось, в полной безопасности, исступление творящегося вокруг было нам нипочем, как вдруг раздался страшный удар грома и совсем рядом с нами кровавая вспышка молнии врезалась в отвесную скалу, сорвав с нее целую глыбу.
И тогда мы услышали, как трещат стволы деревьев на склоне, по которому несутся, подпрыгивая, каменные обломки, подминая под себя все, что попадается им на пути, чтобы потом, словно от взрывчатки, расколоться где-то далеко на дне ложбины.
На этот раз я задрожал от страха и отступил вглубь пещеры.
– Красиво! – произнес Лили, но я прекрасно понял, что и ему не по себе: подойдя ко мне, он сел рядом и добавил:
– Красиво, но бестолково.
– Это надолго?
– Может быть, на час, вряд ли больше.
Тонкие струйки воды потекли на нас из трещин в конусообразном каменном своде, терявшемся во мраке, а затем ливануло так, что нам пришлось пересесть.
– Самое обидное, что дюжина ловушек, как пить дать, пропадет… А уцелевшие придется хорошенько просушить у огня и смазать жиром, потому что… – Запнувшись на полуслове, он вдруг уставился куда-то за моей спиной и прошептал почти беззвучно одними губами: – Нагнись, только очень медленно, и возьми два крупных камня!
Онемев от ужаса и втянув голову в плечи, я продолжал неподвижно стоять на месте. Лили медленно нагнулся, по-прежнему не сводя глаз с чего-то, что находилось за моей спиной, но выше меня. Я тоже, в свою очередь, медленно нагнулся… Лили между тем поднял с земли два камня размером с кулак: я сделал то же самое.
– Обернись, только не спеши, – прошептал он.
Обернувшись, я увидел, как надо мной блестят в темноте два фосфоресцирующих глаза.
– Это вампир? – выдохнул я.
– Нет, это он, филин.
Вглядевшись изо всех сил, я различил силуэт птицы.
Она сидела на выступе скалы и величиной была чуть ли не под два фута. Вероятно, хлынувшая в пещеру вода вынудила ее покинуть свое гнездо, расположенное где-то под потолком пещеры.
– Если станет нападать, береги глаза! – прошептал Лили.
Тут мною внезапно овладел жуткий страх.
– Уйдем, – взмолился я, – уйдем! Лучше промокнуть, чем ослепнуть!
Я выскочил наружу прямо в туман, Лили за мной.
Я потерял картуз; дождь барабанил по моей непокрытой голове, мокрые волосы падали на глаза, застилая их.
– Держись поближе к скале! – крикнул Лили. – Мы не так сильно промокнем, а главное, не собьемся с пути.
И впрямь, в четырех шагах невозможно было различить хоть что-то.
Сперва я подумал, что, раз эти места нам хорошо известны, достаточно будет узнать хотя бы одно дерево, или одну каменную глыбу, или куст, чтобы определить, где мы находимся. Но туман не только мешал видеть: в силу своей неоднородности он еще и неузнаваемо искажал все вокруг. Он позволял различить призрачные очертания горбатой сосенки, зато полностью скрывал стоящий рядом с ней огромный дуб, а когда через какое-то время сосна исчезала, то откуда-то возникала половина ствола и кроны дуба. Все кругом беспрестанно менялось, и, не будь скалы, за которую мы держались, нам пришлось бы остановиться и ждать под проливным дождем.
К счастью, стихия мало-помалу утихала: гроза уже удалялась в сторону Гарлабан, и дождь ослаб. Он словно опомнился и лил более упорядоченно, отвесно, но с каким-то необыкновенным упорством.
Наша путеводная нить – скала вдруг кончилась, на смену ей пришел крутой подъем к Тауме. Дальше нам предстояло продвигаться вперед на свой страх и риск, как ребенку, отдернувшему руку от лестничных перил.
Лили шел первым.
Хотя дождевые потоки изрядно размыли тропинку, он все же отыскал ее, пристально всматриваясь в окружающее нас пространство и себе под ноги. Протянувший в тумане две изогнутые сухие ветки старый испанский можжевельник безошибочно подтвердил: мы на верном пути; дальше мы припустили бегом.
Наши туфли на веревочной подошве хлюпали. От мокрых волос простыл лоб. Куртка и рубашка прилипли к телу.
Издалека донеслось приглушенное, но непрерывное громыхание, нарушившее вновь установившуюся тишину. Лили замер и прислушался:
– Это где-то в Эскаупрес хлещет… Но точно не скажу.
Мы стали слушать: грохот, казалось, доносился со всех сторон, размноженный эхом и слегка приглушенный дождем.
– А может быть, это в Ла-Гарет или в Па-дю-Лу, – задумчиво проговорил Лили, – побежали, а не то простудимся!
Прижав локти к туловищу, он рванул вперед, я за ним, боясь, как бы не потерять из виду его маленький пляшущий силуэт, увлекающий за собой шлейф тумана.
Но минут через десять он вдруг остановился и обернулся ко мне:
– Тропинка явно идет под гору. Овчарня Батиста, по-моему, уже недалеко.
– Мы еще не видели трех терпентинных деревьев.
– Сегодня всего не увидишь.
– Да, но одно из них протягивает ветки прямо поперек тропинки. Даже в тумане мы не могли пропустить его!
– Я что-то не обратил внимания…
– Зато я смотрел в оба!..
– Значит, они должны быть дальше.
Он снова побежал. Повсюду слышалось легкое журчание множества крохотных ручейков. Большая черная птица, раскрыв крылья, пролетела в десяти метрах над нами. Я понял, что мы уже давно сбились с пути. Лили тоже это понял и снова остановился.
– Я думаю… думаю, что…
Он был растерян, не знал, что делать, и принялся поочередно клясть и туман, и дождь, и богов, пустив в ход все провансальские ругательства, какие только знал.
– Погоди! – остановил я его. – У меня идея. Только не шуми.
Я повернулся вправо и, сложив руки рупором, издал громкий крик, после чего весь обратился в слух.
Слабое эхо подхватило мой крик, потом еще одно.
– Кажется, звук отражается от гряды в Эскаупрес, почти у Красной Макушки.
Я крикнул еще раз, глядя прямо перед собой. Ответа не последовало. Я повернулся вправо, и мы крикнули вместе.
На этот раз эхо было чуть громче, за ним последовало еще два: это ответило эхо в Пастан.
– Я знаю, где мы, – сказал я, – мы взяли слишком влево, и если не изменим направления, то попадем на обрыв в Ла-Гарет. Иди за мной.
Я побежал, держась правее… С наступлением вечера туман стал густеть; я принялся кричать на все четыре стороны, ожидая услышать знакомое эхо, и постепенно определил наше местонахождение по эху в Эскаупрес, которое звучало все ближе.
Наконец подошвы моих ног ощутили знакомые круглые камни.
Я свернул с тропинки направо, и мне показалось, что я различил впереди что-то продолговатое и темное.
Вытянув руки вперед, я пошел прямо перед собой и вдруг наткнулся на дерево: ощупав его мясистые листья, я догадался – это смоковница…
Она росла у заброшенной овчарни Батиста: ощутив доносящийся от нее специфический запах, усилившийся после грозы, мы поняли, что спасены. Дождь тоже это понял и прекратился.
Мы возрадовались, нас переполняла гордость, что мы оказались на высоте, не сдрейфили и нам будет о чем рассказать.
Но в тот момент, когда мы быстрым шагом спускались по крутой тропинке в Редунеу, я услышал, как где-то далеко за нами прокричала птица.
– Это чибис, – объяснил Лили. – Они здесь не останавливаются, летят дальше, в теплые края.
И вдруг появилась стая: она летела клином, из-за тумана очень низко над землей, птицы были еле различимы; они пролетели над нашими головами, как будто последовав за тем жалобным криком. Их путь лежал к новым каникулам.
Мы подошли к дому, как обычно, с задней стороны.
На втором этаже теплился огонек, в свете которого сквозь туман блестели водяные пылинки: мама держала высоко в темноте керосиновую лампу, чье раскаленное стекло треснуло от попавшей на него капли дождя, – это напоминало жалкий маяк в ночи.
В очаге полыхало пламя: отец и дядя, облачившись в халаты, в домашних туфлях, беседовали с Франсуа, их охотничьи куртки сушились перед огнем на спинках стульев.
– Сама видишь, они не заблудились! – весело закричал отец, завидя нас.
– Еще бы! – воскликнул Франсуа. – Такого и быть не могло.
Пощупав мою куртку, затем куртку Лили, мама, не на шутку разволновавшись, громко закричала:
– Они вымокли до нитки! Словно в море окунулись!
– Это им только на пользу… – преспокойно вставил Франсуа. – Детям вода не страшна, тем более когда это вода с неба!
Тетя Роза бегом спустилась по лестнице, словно спешила на пожар. В руках у нее было несметное количество одежды и полотенец. Мы с Лили и пикнуть не успели, как оказались в чем мать родила перед очагом, к великому удовольствию Поля и полному смущению Лили: с присущей крестьянским детям стыдливостью, он как мог прикрывался охотничьими куртками. Но тетя Роза, недолго думая, стала растирать его полотенцем, поворачивая его так и этак, словно это неодушевленный предмет. Мама точно так же обращалась со мной.
– Они красные, как жопадеры! – заявил Франсуа, не без интереса наблюдавший за происходящим. – И это им на пользу!
Лили одели в мой старый костюм с матросским воротником, это сразу придало ему внушительный вид, а меня облачили, а лучше сказать, завернули в отцовскую фуфайку, которая доходила мне до колен, а на ноги по самые бедра натянули мамины шерстяные чулки.
Потом нас усадили перед огнем, и я принялся рассказывать о нашей одиссее, самым захватывающим эпизодом которой была встреча с филином. Разумеется, я не мог представить его своим слушателям просто сидящим на выступе скалы в пещере, а потому он бросался на нас, вращая фосфоресцирующими глазами и выставив огромные когти, угрожающе кружил над нами… Все то время, пока я изображал кого-то страшного, машущего крыльями, Лили пронзительно кричал. Тетя Роза слушала наш рассказ, раскрыв от удивления рот, мама обеспокоенно качала головой, а Поль на всякий случай даже прикрыл глаза руками. Успех был таким ошеломляющим, что мне самому сделалось жутко, и даже много лет спустя мне нередко снилось, как разъяренный хищник бросается на меня с явным намерением выклевать мне глаза.
Затем дядя Жюль с чисто героическим хладнокровием принялся рассказывать об их собственной полной опасностей эпопее.
Застигнутые грозой в ущелье, они чудом спаслись от огромных каменных глыб, которые с невероятной частотой падали то перед ними, то позади них, потом от молнии, надвое расколовшей большое ореховое дерево на Птит-Бом, а позже, вымокшие до нитки, обессиленные, преследуемые потоком, с каждой минутой становившимся все более бурным, они избежали верной гибели, но только благодаря тому, что мчались во весь дух, на что дядя Жюль, по его собственному признанию, считал себя неспособным.
Однако его рассказ не произвел желаемого впечатления; и правда, кто станет волноваться, коль скоро речь идет о матерых усатых охотниках.
– Ничего не поделаешь! Такое время года!.. Теперь уж вряд ли распогодится… – только и дождались они от Франсуа. – Значит, договорились, приеду в воскресенье. Ну, всего вам, мы пошли! – проговорил он, вставая со стула.
Он вышел, уводя с собой Лили в моем старом матросском костюмчике, от которого должна была прийти в восторг его мать.
* * *
За столом я с аппетитом ел все, что подавалось; в какой-то момент дядя Жюль произнес незамысловатую фразу, на которую я сперва не обратил никакого внимания:
– Думаю, наши пожитки не станут слишком уж большим грузом для повозки Франсуа, и найдется место для Розы, младенца, Огюстины и крошки. А быть может, и для Поля. Эй, Поль, что ты об этом скажешь?
Но Поль ни о чем не мог говорить: я заметил, как у него вдруг отвисла, вспухла и завернулась к подбородку нижняя губа. Мне была хорошо знакома эта его гримаса, которую я изящно сравнивал с закраиной ночного горшка сестрички. Как обычно, вслед за первым симптомом последовал приглушенный всхлип, и две крупные слезы выступили на его голубых глазах.
– Да что это с ним? – удивился дядя.
Мама немедленно усадила Поля на колени и принялась нежно баюкать рыдающего и шмыгающего носом сына.
– Ну что ты, дурачок, ты ведь прекрасно понимаешь, это не могло длиться вечно! К тому же мы скоро вернемся. Рождественские каникулы не за горами!
Меня пронзило предчувствие беды.
– О чем она? – спросил я.
– О том, что каникулы кончились! – ответил дядя Жюль и преспокойно наполнил вином свой стакан.
– Когда кончились? – спросил я приглушенным голосом.
– Послезавтра утром мы уезжаем. Сегодня пятница, – ответил отец.
– Сегодня была пятница, – поправил его дядя Жюль, – а уезжаем мы в воскресенье утром.
– Надеюсь, ты не забыл, что в понедельник начинается новый учебный год!.. – напомнила тетя Роза.
Я целую минуту ошеломленно смотрел на них и никак не мог взять в толк, о чем речь.
– Что с тобой? – удивилась мать. – Это же не новость! Мы уже неделю обсуждаем это.
Они и впрямь говорили об этом, но я упорно отказывался слышать. Я знал, что катастрофа неминуема, так же как каждый знает, что когда-нибудь умрет, но думает про себя: «Еще не время расстраиваться. Подумаю об этом в свое время».
А время как раз приспело, и я был настолько потрясен, что не мог вымолвить ни слова, у меня перехватило дыхание. Отец все понял и ласково заговорил со мной:
– Ну что ты, сынок, что ты? Ты целых два месяца провел здесь на каникулах…
– Что уже само по себе чрезмерно! – прервал его дядя Жюль. – Будь ты президентом Французской республики, вряд ли у тебя было бы столько свободного времени!..
Этот хитроумный аргумент не произвел на меня особенного впечатления, поскольку я уже давно решил для себя: намечать столь высокую цель стоит только после прохождения воинской службы.
– К тому же, – добавил отец, – впереди у тебя учебный год, которому предстоит сыграть значительную роль в твоей жизни; не забудь, что в июле тебе сдавать конкурс на получение государственной стипендии, без чего ты не сможешь поступить в лицей.
– Ты знаешь, как это важно! – вмешалась мать. – Ты постоянно твердишь, что хочешь стать миллионером. Если ты не поступишь в лицей, то никогда им не станешь!
Она твердо верила в то, что богатство является своего рода премией, непременно в конце концов венчающей усердие и большие знания.
– К тому же, – подхватил дядя, – в лицее ты будешь изучать латинский язык и, даю тебе слово, придешь от него в восторг! Я, например, даже во время каникул удовольствия ради занимался латинским языком.
Эти странные речи, имеющие отношение к каким-то будущим далеким временам, ничуть не затмевали трагическую реальность: каникулы кончились. Я почувствовал, как у меня задрожал подбородок.
– Надеюсь, ты не собрался заплакать? – проговорил отец.
Я тоже надеялся и сделал над собой огромное усилие, какое делает команч, привязанный к столбу пыток; мое отчаяние превратилось в бунт, и я перешел в наступление:
– Вообще-то, это ваши дела. Но меня прежде всего беспокоит другое – маме никак не осилить пешком дорогу до Ла-Барас.
– Раз это тебя так беспокоит, – парировал отец, – вот что я скажу тебе. В воскресенье утром, как ты только что услышал из уст дяди Жюля, женщины с детьми сядут в повозку Франсуа, и он довезет их до Ла-Трей, а там уже мы воспользуемся омнибусом.
– Каким омнибусом?
– Тем, что курсирует по воскресеньям, он доставит нас до остановки трамвая в Ла-Барас.
Упоминание о воскресном омнибусе, который мы никогда еще не видели, подтвердило наличие тщательно разработанного плана на случай отъезда: они все предусмотрели.
– А смоквы, что будет со смоквами? – выпалил я.
– Какие смоквы?
– Ну те, что на смоковнице, на нашей террасе. На дереве их еще добрая половина осталась, и созреют они только через неделю. Кому они достанутся?
– Может быть, и нам, если мы вернемся сюда через полтора месяца и проведем здесь осенние каникулы. Это как раз на праздник Всех Святых.
– Да с воробьями, певчими дроздами и дровосеками не останется ни одной! А как с бутылками вина в погребе, неужели оно пропадет?
– Напротив, – возразил дядя, – чем старше вино, тем лучше.
Это победное дядино утверждение охладило мой пыл, и я немедленно изменил тактику.
– Пусть так, – согласился я, – а об огороде вы подумали? Папа посадил помидоры, а мы еще ни одного не съели! А как с ростками лука-порея? Они не больше моего мизинца!
– Я, может быть, ошибся в своих расчетах, – смиренно признался отец, – но в этом прежде всего виновата засуха. До сегодняшнего дня не было ни одного дождя.
– Ну так с сегодняшнего дня дожди зарядят, и все это вырастет до огромных размеров! И все зря?!
– Успокойся, – ответил отец. – Мы с огромным удовольствием сами съедим эти овощи дома в Марселе, ведь Франсуа обещал мне ухаживать за ними, а когда станет приезжать на рынок, то будет привозить их нам целыми корзинами!
Я выдумывал тысячу самых нелепых предлогов, стараясь доказать, что столь резкий отъезд неосуществим, как будто было возможно отложить начало учебного года. И сам же чувствовал, насколько никудышны мои доводы; мной уже овладевало отчаяние, как вдруг у меня появилась гениальная идея…
– Я прекрасно знаю, что надо учиться, и мне даже хочется в школу, – начал я.
– В добрый час! – обрадовался дядя Жюль, поднимаясь из-за стола.
– Наконец ты начинаешь здраво рассуждать! – вторил ему отец.
– Но я думаю, – продолжил я, – что городской воздух маме не полезен, даже вреден. Ты сам так сказал. Да, да, сказал. Смотри, как она здесь похорошела! И сестричка тоже. Теперь она умеет лазить по деревьям и кидать камни! Значит, надо следовать примеру дяди Жюля!
– А при чем здесь дядя Жюль?
– Ну, он ведь почти каждый день ездит в Марсель на своем велосипеде. Утром туда, вечером обратно! Пусть он одолжит тебе свой велосипед, меня можно усадить на руль или возить на спине. А мама с сестренкой и Полем останутся здесь. Во-первых, в школе Поль ничего не делает, только сидит за партой. Во-вторых, ты сам видел, как он только что плакал! А если повезти его в город, он будет плакать не переставая! Я же знаю, какой он, наш Поль…
– Пожалуй, неплохая идея, но теперь уже поздно. Завтра поговорим. Утро вечера мудренее, – постановил отец, вставая из-за стола.
– Точно, – подтвердил дядя Жюль. – Пора спать, завтра нам предстоит спозаранку выйти из дому, поскольку завтра, в наш последний день здесь, нам разрешено поохотиться в лесах под Пишорисом. Это самый красивый охотничий заповедник во всем краю!
Отец взял на руки заснувшего Поля и понес наверх, все остальные потянулись вслед за ним.
– Как тебе моя идея? – вполголоса спросил я у мамы.
– Идея великолепная, но это будет утомительно для твоего отца!
– А может быть, не будем возвращаться сюда каждый день. Только в среду и в субботу…
– А в другие дни мне одной будет страшно!
– Да нет! Я попрошу Лили ночевать здесь…
– Это все меняет! Осталось спросить Лили. Если согласится, мы спасены! – съязвил дядя Жюль.
– Лили уже стрелял из ружья! Да еще как здорово! Из ружья своего брата.
– Замечательно! А теперь спать. Тебе необходимо выспаться. Я поговорю с твоим отцом, и завтра все уладим, – положила конец разговору мама.
Меня разбудил свежий воздух: это Поль только что распахнул окно. Занималась заря. Вернее, я принял за зарю тусклый свет, проникший в нашу спальню, но, услышав, как на крыше щебечут желоба и дождевая вода, весело напевая, льется в отдающую звонким эхом цистерну, понял, что уже давно наступило утро.
Было не меньше восьми часов, отец почему-то не разбудил меня; стало ясно – надежде на последнюю охоту не суждено осуществиться: ее залило дождем.
– Как только дождь прекратится, пойду за улитками, – заявил Поль.
– А тебе известно, что завтра нам уезжать? – спросил я, вскочив с постели.
Мне хотелось пробудить в нем зрелищный приступ отчаяния, который можно было бы обернуть на пользу дела.
Он сосредоточенно завязывал шнурки ботинок и не отвечал.
– Понимаешь, мы больше не пойдем на охоту, больше не будет ни муравьев, ни богомолов, ни цикад.
– Все равно они все сдохли! Не осталось ни одного, – ответил Поль.
– В городе нет деревьев, нет сада, нужно ходить в школу… – подливал я масла в огонь.
– О да! – обрадовался он. – В школе есть Фюзье. Он красивый, Фюзье! Я его очень люблю. Я ему обо всем расскажу. Дам ему миндальной смолы…
– Значит, тебе доставляет удовольствие, что каникулы кончились? – ехидно поинтересовался я.
– Ну да! – выпалил он. – А еще дома у меня есть коробка с солдатиками!
– Почему же ты тогда вчера плакал?
– Не знаю, – ответил он, захлопав своими голубыми глазами.
Мне стало тошно от такой покорности судьбе, но я не падал духом; спустившись вниз, в столовую, я застал там всех наших, повсюду были вещи.
Отец упаковывал в два деревянных ящика обувь, домашнюю утварь и книги. Мать складывала на столе белье, тетя до отказа заполняла чемоданы, дядя перевязывал тюки, сестренка, сидя на высоком детском стульчике, сосала большой палец, а «горничная», стоя на четвереньках, собирала сливы из корзины, которую нечаянно опрокинула.
– А, вот и ты! – приветствовал меня отец. – Пропала наша последняя охота. Ничего не поделаешь…
– Обидно, конечно. Желаю, чтобы жизнь не приготовила тебе огорчений похуже! – утешил дядя Жюль.
Мать поставила на заваленный стол чашку кофе с молоком и великолепные тартинки. Я сел.
– Папа, ты подумал насчет моей идеи?
– Какой идеи?
– Чтобы мама осталась здесь с Полем, а мы с тобой…
– Милый мой, да это просто нелепо! – прервал меня дядя Жюль.
– Но ведь ты сам так делал? Не хочешь нам свой велосипед одалживать?
– Да я с удовольствием, будь твое предложение осуществимым. Но ты не сообразил, что я заканчивал работу в пять часов вечера и приезжал сюда в половине восьмого! Это было летом, когда еще очень светло! А твой отец будет заканчивать работу в школе в шесть вечера, а осенью в шесть часов уже темно! Вы же не можете каждый день в кромешной темноте проделывать этот путь!
– Ну а если у нас будет фонарь? Я буду его держать…
– Что ты мелешь? – вмешался в разговор отец. – Ты же видишь, какая погода! И дождь будет идти все чаще и чаще, так что вряд ли стоит преодолевать столько километров только ради того, чтобы сидеть тут по вечерам у огня. – Его тон стал более суровым. – Да к чему столько объяснений? Все очень просто – каникулы кончились, вот-вот начнется учебный год. Завтра мы уезжаем.
Он принялся забивать один из двух ящиков. Мне вдруг стало окончательно ясно: он забивает гроб с канувшими в прошлое летними каникулами и ничего уже не поделаешь.
Делая вид, что мне все это нипочем, я подошел к окну и прижался к нему лицом. Струйки дождя неспешно стекали по стеклам; так же неспешно по моему лицу текли слезы…
В кухне надолго установилась тишина.
– Кофе остынет, – проговорила наконец мама.
– Я не голоден, – не поворачивая головы, ответил я.
– Ты и вчера за ужином ничего не ел. Ну иди, сядь сюда, – настаивала она.
Я не ответил. Она направилась было ко мне, но отец начальническим тоном остановил ее:
– Не трогай его. Раз ему не хочется есть, значит еда может нанести ему вред. Не стоит брать на себя такую ответственность. Удав, кстати, ест только раз в месяц.
В мертвой тишине он вбил в крышку ящика четыре гвоздя: война была объявлена.
Я стоял у окна, спиной к ним.
Они переговаривались между собой.
– У нас были потр-р-рясающие каникулы, но и вер-р-р-нуться домой чертовски пр-р-риятно! – доносилось до меня.
– Может быть, это что-то не совсем нормальное, но я жду не дождусь, когда снова окажусь в классе со своими учениками, перед моей черной классной доской!
«Неужели этот маньяк от образования забыл о бартавеллах?» – мелькнуло у меня в голове.
Что касается тети Розы, та прямо заявила:
– А мне здесь знаете, чего не хватает? Газа. Если честно, я уже дни считала, когда мы вернемся в город и можно будет пользоваться газом!
Мыслимое ли дело, чтобы прелестная и кажущаяся столь разумной женщина высказывала такие нелепости и предпочитала шипящую вонь городского газа насыщенному ароматом сосновой смолы ветерку с холмов?
Но дяде Жюлю все же удалось превзойти ее по части святотатства.
– А мне, представьте себе, больше всего не хватало комфортабельной уборной, без муравьев, пауков и скорпионов, со смывным бачком.
Вот, значит, о чем были все помыслы этого заядлого толстозадого любителя вина: среди ароматов тимьяна, розмарина и лаванды, под пение кузнечиков и цикад, под ярко-голубым небом, где свершалось действо провансальских празднеств, он мечтал о городском унитазе со смывным бачком! И открыто признавался в этом!
Возмущению моему не было предела, однако я с гордостью отметил, что хотя бы мама не святотатствовала и не хулила мои любимые холмы: наоборот, на ее лице была напечатлена грусть с оттенком нежности; я подошел и незаметно поцеловал ее руку.
После чего уселся в темном углу и принялся размышлять.
Нельзя ли выиграть целую неделю или даже две, прикидываясь тяжелобольным? Всем известно: если вы перенесли брюшной тиф, родители непременно отправят вас в деревню; именно это случилось с моим другом Вигье – он три месяца провел в Нижних Альпах у тетки. Но что именно следует предпринять, чтобы срочно заболеть брюшным тифом или, по крайней мере, правдоподобно изображать больного?
Не поддающиеся проверке головная боль, тошнота, страдальчески опущенные веки неизбежно производят нужное впечатление. Но в случае серьезного заболевания родители неукоснительно прибегают к термометру, и мне уже не раз доводилось сталкиваться с неумолимым вердиктом сего приспособления. К счастью, мы забыли его в Марселе в ящике ночного столика, мне было об этом известно… Но я понимал: при малейшем подозрении на опасное заболевание меня обязательно и, вероятнее всего, не теряя ни минуты, доставят туда, где это приспособление имеется.
А что, если сломать себе ногу? По-настоящему? Однажды мне показали дровосека, который отрубил себе два пальца топором, чтобы не отбывать воинскую повинность, и добился своего. Но лишаться чего-либо мне не хотелось, потому что кровищи при этом прольется немерено, да и отрезанное не отрастет уже никогда. А вот когда сломана кость, внешне все остается по-прежнему и потом все срастается.
Моему однокашнику Качинелли лошадь однажды ударом копыта перебила ногу, так у него все срослось, как будто ничего и не было, и он бегал так же быстро, как и раньше! Однако при внимательном рассмотрении эта гениальная идея оказалась несостоятельной: если я не смогу ходить, меня все одно увезут на повозке Франсуа и придется целый месяц пролежать в шезлонге с наложенным гипсом и, как мне поведал тот же Качинелли, терпеть, что ногу «день и ночь растягивают с помощью железяки весом в сто килограммов»!
Значит, никаких сломанных ног.
Но что же придумать? Должен ли я смириться и расстаться – на целую вечность – со своим дорогим Лили?
В эту минуту он как раз показался на отлогой тропинке, ведущей к нашему дому. От дождя его защищал холщовый мешок, надетый на голову.
Я сразу же воспрянул духом и задолго до его прихода бросился открывать дверь.
Он долго выбивал ботинки о каменный порог, чтобы не заносить в дом грязь, затем вошел и вежливо поздоровался с присутствующими, которые весело отвечали ему, не прекращая отвратительных сборов в дорогу.
Лили подошел ко мне:
– Надо бы сейчас пойти проверить ловушки… Если отложить на завтра, ребята из Алло сопрут их.
– В такой дождь? – поразилась мать. – Ты что, хочешь подхватить воспаление легких?
В те времена этой болезни страшились пуще любой другой. Но мне не терпелось покинуть место, где я не мог свободно говорить с Лили, и я настоял на своем.
– Послушай, мама, я надену свой плащ с капюшоном, а Лили возьмет плащ Поля.
– Знаете, сударыня, – вставил Лили, – дождь поутих и ветра нет.
– Это их последний день, – вмешался в разговор отец. – Оденем их потеплее, напихаем газет под одежду. Пусть наденут башмаки вместо эспадрилий. В конце концов, они же не сахарные, не растают, к тому же погода, кажется, налаживается.
– А вдруг будет как вчера? – обеспокоенно возразила мать.
– Вчера мы же все вернулись домой целыми и невредимыми, хотя и стоял туман. А сегодня тумана нет!
Мама стала одевать нас. Рубашку и фланелевую безрукавку на груди и на спине она проложила несколькими номерами «Маленького провансальца», предварительно сложив их вчетверо. Кроме того, мне пришлось напялить на себя две вязаные фуфайки, затем блузу, застегнув ее на все пуговицы, а потом еще и плащ из толстого сукна. И наконец мама надела мне на голову берет, натянув его по самые уши, а поверх него накинула остроконечный капюшон, какие носят гномы из сказки про Белоснежку и городские приставы.
Все это время тетя Роза то же самое проделывала с Лили. Плащ Поля оказался ему короток, но, по крайней мере, мог защитить от ненастья голову и плечи.
Стоило нам выйти за порог, как дождь прекратился и на блестящие от дождя оливковые деревья брызнул луч солнца.
– Пошли быстрее! – предложил я. – Они сейчас отправятся на охоту, придется опять гоняться за дичью вместо охотничьих собак, а сегодня мне это противно. Раз решили уехать завтра, пусть сами справляются.
Вскоре мы уже шагали по сосновому бору, где оказались вне досягаемости. Две минуты спустя прозвучал протяжный крик, но на зов дяди Жюля откликнулось только эхо.
Несмотря на плохую погоду, ловушки сработали вполне успешно, и, когда мы добрались до Фон-Брегет, наши холщовые сумки были битком набиты белогузками и хохлатыми жаворонками…
Такая удача явно доказывала, насколько нелеп и жесток был завтрашний отъезд, и только усугубила мое горе.
Мы как раз были на подступах к самой высокой террасе Тауме, где нас дожидались наши последние силки, когда Лили задумчиво вполголоса проговорил:
– Все-таки жаль… У нас алюдов припасено на всю зиму…
Я знал это. Мне было горько, и я предпочел промолчать.
Он вдруг стремглав бросился бежать к краю обрыва, где рос великолепный можжевельник, нагнулся, достал что-то и поднялся с вытянутой вперед рукой: на ней лежала птица, которую я издалека принял за маленького голубя.
– Это наша первая сайра! – крикнул он.
Я подошел к нему.
Это был тот самый большой дрозд-рябинник, которого мой отец однажды назвал литорной.
Голова у него была иссиня-серая, с рыжего горла веером спускались к белоснежному животу черные крапинки… Я взял его в руки: он был очень тяжелый. Я потерянно смотрел на него.
– Послушай… – начал вдруг Лили.
В соснах вокруг нас перекликалось множество птиц: их голоса напоминали сорочьи, но были менее грубыми, менее крикливыми, чем голос этой птицы-воришки. Наоборот, их нежно-гортанные звуки отдавали легкой печалью, присущей осени… Эти сайры прилетели для того, чтобы стать свидетелями моего отъезда.
– Завтра, – сказал Лили, – я приготовлю ловушки Батистена для певчих дроздов, а поставлю их вечером. Уверяю тебя, в понедельник утром мне понадобятся целые две сумки, чтобы унести их.
– В понедельник утром ты будешь в школе! – сухо возразил я.
– А вот и нет! Стоит мне сказать матери, что сайры прилетели, и я могу их ловить на пятнадцать-двадцать франков в день, она не пошлет меня в школу – не такая она дура! До пятницы, а может быть, и до следующего понедельника я могу быть спокоен.
Тут я представил себе, как он без меня будет шагать по залитой солнцем гарриге, обходя кустарники и заросли испанского можжевельника в поисках поставленных ловушек, а я буду сидеть под низким потолком школьного класса напротив черной доски с изображениями всевозможных квадратов и ромбов…
У меня внезапно перехватило горло, на меня накатил приступ отчаяния и гнева.
Я заливался слезами, топал ногами, икал, катался по гравию под шелест номеров «Маленького провансальца», которые были напиханы под мою одежду.
– Нет, нет! Не уеду! Нет! Не хочу в город! Нет! Не поеду! – вопил я.
Стайка сайр вспорхнула и нырнула в ложбину, а потрясенный моим отчаянием Лили бросился ко мне и крепко обнял меня, так что захрустели все шестнадцать слоев «Маленького провансальца», разделявших наши отчаявшиеся сердца.
– Успокойся! Не изводи себя! – повторял он. – Нельзя так портить себе кровь! Послушай, послушай меня…
Я слушал его, но что он мог сказать мне, кроме того, что он мой самый верный друг.
Стыдясь своего малодушия, я сделал над собой большое усилие:
– Если меня заставят вернуться в город, я уморю себя голодом. Кстати, я уже сегодня утром ничего не ел.
Мои слова явно встревожили Лили.
– Совсем ничего?
– Ничего.
– У меня есть яблоки. – Лили принялся шарить в своей сумке.
– Не надо! Не хочу! Не хочу ничего!
Я отказался столь непреклонным тоном, что он не посмел настаивать.
– Решено. Пусть едут, раз им хочется, а я остаюсь здесь, – после продолжительной паузы решительно проговорил я.
Желая подчеркнуть, что мое решение окончательное и обсуждению не подлежит, я сел на большой камень и скрестил руки на груди. Лили недоумевающе смотрел на меня:
– Но что ты будешь делать?
– Ха, очень просто. Завтра утром или, может быть, этой ночью соберу пожитки и спрячусь в пещере под Ле-Тауме.
– Неужели ты и правда так сделаешь? – вытаращив глаза, спросил Лили.
– Ты меня плохо знаешь!
– Они сразу же станут искать тебя!
– Не найдут!
– Тогда они сообщат жандармам и деревенскому сторожу из Алло.
– Поскольку никто не знает о пещере – ты сам так сказал, – этим меня не найти. Для начала напишу письмо отцу и оставлю на кровати. Напишу, чтобы он меня не искал, потому что найти меня невозможно, и пригрожу, что, если он обратится к жандармам, я брошусь вниз с отвесной скалы. Я отца хорошо знаю. Он все поймет и ничего никому не скажет.
– Но расстроится он здорово!
– Он бы расстроился еще больше, умри я дома в Марселе.
Этот аргумент убедил меня самого и подтвердил бесповоротность моего решения, но Лили, поразмыслив, поинтересовался:
– Я был бы очень рад, если б ты остался. Но как ты будешь жить один в пещере?
– Во-первых, я возьму с собой еду. В доме есть шоколад и целая коробка печенья. И потом, ты, наверно, слышал о том отшельнике, что двадцать лет жил в ложбине Пастан. Я буду делать, как он: собирать дикую спаржу, ходить по улитки и по грибы и посажу турецкий горох!
– Ты не умеешь его готовить.
– Научусь. Еще буду ходить в Пондран и воровать сливы папаши Румье: он никогда их не собирает… Буду сушить на солнце смоквы, миндаль, ягоды рябины, терновника, собирать ежевику.
Было видно: я его не очень-то убедил, что меня подстегнуло.
– Видно, что ты совсем не читаешь книг! А я прочел их не меньше двух десятков! И могу утверждать, что немало людей выживает в девственных лесах… Хоть те и кишат ядовитыми пауками, да такими большими, что им не уместиться и в супнице, они ни с того ни с сего бросаются тебе в лицо… а еще огромными удавами, свисающими с деревьев, а еще упырями, высасывающими твою кровь, когда ты спишь, а еще свирепыми индейцами, которые гонятся за тобой, чтобы отрубить тебе голову и высушить ее на солнце, пока она не скукожится до размеров кулака. А здесь всего этого нет – ни индейцев, ни диких зверей… Разве что дикие кабаны? – замявшись, добавил я.
– Нет, их зимой не бывает.
– Почему?
– Летом их сюда гонит жажда. Зимой у них есть вода, так что они остаются на своих насиженных местах, ближе к Сент-Виктуар…
Это было прекрасное и весьма утешительное известие, поскольку мне нередко доводилось видеть во сне тропинку с размотанными кишками бедного однорукого браконьера.
– А на чем ты будешь спать ночью? Вот вопрос.
– Постелю бауко прямо на земле в углу пещеры. Это не хуже тюфяка… Человек ко всему привыкает. Ты, конечно, не знаешь, кто такой Робинзон Крузо, а я знаю. Это был моряк. Он плавал как рыба, но не умел быстро бегать, потому что на корабле не побегаешь… Так вот, когда он потерпел крушение и очутился один на необитаемом острове, через три месяца он бегал так быстро, что догонял диких коз.
– Хо-хо! С этим типом я не знаком, зато коз знаю прекрасно! Если это он тебе об этом рассказал, можешь быть уверен: он самый настоящий врун! – решительно возразил Лили.
– Говорю тебе, это написано в книге, одной из тех, какими награждают лучших учеников в конце учебного года.
С этим невозможно было спорить: Лили пришлось уступить, что он и сделал, не потеряв, однако, лица:
– Конечно, если козы были суягными, тогда, пожалуй. Но если тебе, к примеру, вздумалось бы поймать коз моего отца…
– Да на что они мне сдались! Я просто хотел привести пример, что ко всему можно привыкнуть! Если мне доведется поймать одну из коз твоего отца, то я просто выдою из нее стакан молока и сразу отпущу!
– Это можно, никто и не заметит.
Наш разговор продолжался до полудня.
Мало-помалу, по мере того как я разворачивал перед его глазами картину своей новой жизни, Лили позволял убедить себя.
Для начала он пообещал пополнить мои запасы съестного, стащив из погреба матери мешок картошки и по крайней мере две палки колбасы. Потом пообещал каждый день оставлять для меня половину своей порции хлеба и целую порцию шоколада. Позже, как человек практического склада, он приступил к рассмотрению финансовой стороны вопроса.
– Во-первых, из нескольких дюжин пойманных нами певчих дроздов домой я стану относить только половину, а вторую половину будем продавать хозяину постоялого двора в Пишорисе! Один франк за тордра, два франка за сайру. На эти деньги ты сможешь покупать хлеб в Обани!
– Можно торговать улитками на рынке!
– А еще фенхелем! – обрадованно закричал он. – Травник в Ла-Валентин дает три су за килограмм!
– Я буду вязать пучки, а ты – относить ему!
– Этих денег хватит и на покупку ловушек для кроликов!
– И на железную проволоку для силков! Если попадется заяц, то продадим его не меньше чем за пять франков!
– А еще купим клея, чтоб ловить певчих дроздов живьем! Живой дрозд стоит шесть франков!
Когда я поднялся с камня, чтобы идти домой, огромная стая скворцов, резко изменив направление полета, внезапно нырнула вниз и обрушилась на сосновый лес. Верхушки сосен вдруг ожили от нескольких сот пернатых. Я был ошеломлен и восхищен.
– Каждый год, – пояснил Лили, – они задерживаются здесь на две недели, не меньше. Облюбуют какое-нибудь дерево и возвращаются к нему каждый вечер. Ты только представь себе: будь у нас с собой штук пятьдесят палочек с клеем, сколько бы мы их поймали сегодня!
– Дядя Жюль сказал, что их можно приручить…
– Верно, – подтвердил Лили. – У моего брата был один скворец, говорящий, но он знал только местные сдова!
– А я научу его говорить по-французски.
– Вряд ли тебе это удастся – птицы-то деревенские…
Мы бодрым шагом пошли домой, строя множество планов.
Мне уже представлялось: вот я иду себе, засунув руки в карманы, по обрыву Тауме, ветерок треплет мои волосы, а на плече у меня восседает верный друг-скворец, мы с ним оживленно беседуем, и он нежно пощипывает меня за ухо.
Между тем дядя Жюль с отцом отправились на охоту в Пишорис, слегка обиженные нашим с Лили дезертирством. Лили разделил с нами – тетей Розой, мамой, сестренкой, Полем и мною – нашу трапезу.
За столом он хранил серьезное выражение лица, я же изображал бурную веселость, которой была очень рада мама. Я смотрел на нее с нежностью, но не отрекся от своего решения следующей ночью покинуть ее.
* * *
Позже я часто задавался вопросом, как я мог без всяких угрызений совести и без малейшего беспокойства за своих родных принять подобное решение, и понял это только сейчас.
До невеселой поры полового созревания мир детей совсем не похож на мир взрослых: дело в том, что они обладают чудесным даром вездесущности.
Каждый день, завтракая за семейным столом, я в то же время обегал холмы, вынимал из ловушки еще не до конца окоченевшего дрозда.
Этот куст, этот дрозд, эта ловушка были для меня столь же реальны, как эти клеенка и кофе с молоком на столе, как этот портрет господина Фальера[22], застенчиво улыбающегося со стены. Когда отец неожиданно задавал мне вопрос: «Ты где витаешь?», я моментально возвращался в столовую, но продолжал пребывать в своих грезах: оба этих мира, реальный и внутренний, сосуществовали для меня на равных правах.
Я тотчас откликался: «Я здесь!», но таким тоном, как будто выражал протест.
Я и правда был здесь, рядом с ними, и некоторое время искренне играл в совместную с ними жизнь, но стоило мне услышать жужжание мухи, как внутри меня мгновенно возрождался образ ложбины Лансло, где когда-то меня так долго преследовали три маленькие синие мухи: сила памяти у детей такова, что в этом вдруг воскресшем воспоминании я различал тысячу мелких подробностей, которые прошли, как мне казалось, незамеченными, – так вол, пережевывающий жвачку, распознает в ней вкус семян и цветов, которые он проглотил, сам того не зная.
Для меня стало привычным покидать дорогую моему сердцу семью, поскольку часто мысленно я был без нее и далеко от нее. И мое завтрашнее бегство в пещеру не стало бы чем-то новым и возмутительным. Единственным изменением в привычном образе жизни стала бы моя физическая разлука с ними.
Но что будет с ними во время нашей разлуки? Я об этом не особенно задумывался, так как не был уверен, что их существование продолжится в мое отсутствие; если же оно и продолжится, то это будет какое-то нереальное, а следовательно, не причиняющее им боли существование.
С другой стороны, я же не собирался покинуть их навсегда; я твердо намеревался вернуться к ним и тем самым вдруг воскресить их. Своим возвращением я дал бы им столько подлинной радости, что она свела бы на нет все их тревоги, они вдруг очнулись бы от кошмарного сна и все кончилось бы как нельзя лучше – всеобщим, еще бо́льшим счастьем.
* * *
После завтрака Лили ушел, объяснив, что мать нуждается в его помощи: он должен растолочь цепом турецкий горох; на самом деле, зная, что его мать в поле, он собирался обследовать погреб и кое-что позаимствовать.
Я не мешкая поднялся к себе, якобы для того, чтобы собрать личные вещи, которые необходимы мне в городе, и принялся за сочинение прощального письма:
Дорогой папа,
дорогая мама,
дорогие родители,
прежде всего не беспакойтесь. Это ни к чему. Я нашел теперь свое призвание – жить атшельником.
Я взял с собой все необходимое.
Что касается учебы, теперь уже поздно, потому что я навсегда от нее Отказался.
Если у меня не получится, я вернусь домой. Мое счастье – в Приключенниях. Опасности никакой. Я запасся двумя таблетками аспирина фирмы «Заводы Роны». Не растраивайтесь!
К тому же я буду не один. Один человек (неизвестный вам) будет приносить мне хлеб и оставаться со мной в грозу.
Не ищите меня: меня просто невозможно найти.
Папа, заботься о здоровье мамы. Я буду думать о ней каждый вечер.
Мною же ты должен гордиться, потому что, для того чтобы стать атшельником, нужна Храбрость, а у меня ее сколько угодно. Что я и доказываю.
Когда вы вернетесь сюда, вы меня не узнаете, если я не скажу вам «А это я».
Поль будет немножко завидовать, но это не важно. Целуйте его крепко-крепко заместо его Старшего Брата.
Я вас нежно целую, особенно мою дорогую маму.
Ваш сын
МарсельАтшельник с ХолмовЗатем я пошел за старым обрывком веревки, который заприметил в траве у колодца Букан. Длиной он был не больше двух метров, и некоторые его волокна порвались, перетершись о закраину колодца. Тем не менее мне показалось, что он выдержит мой вес и позволит благополучно спуститься из окна моей комнаты. Я спрятал его под матрас.
Дошло дело и до сбора «пожитков»: немного нижнего белья, пара ботинок, острый нож, топорик, вилка, ложка, тетрадь, карандаш, моток бечевки, кастрюлька, гвозди и несколько старых, почти непригодных инструментов. Все это я спрятал под кроватью с намерением увязать в одеяло, как только все уснут.
Обе мои холщовые сумки ранее были отложены в шкаф до будущего охотничьего сезона. Я заполнил их тем, что удалось извлечь из приготовленных к отъезду в город тюков: сушеными миндальными орехами и сливами, небольшим количеством шоколада.
Тайные приготовления к побегу привели меня в возбужденное состояние. Бессовестно шаря в чужих вещах, в том числе вещах дяди Жюля, я сравнивал себя с Робинзоном Крузо, обследующим трюм севшего на мель потерпевшего крушение корабля и обнаруживающим там тьму бесценных предметов, как то: молоток, моток веревки или пшеничные зерна.
Когда все было готово, я решил посвятить маме последние часы, которые мне предстояло прожить рядом с нею.
Я очень тщательно почистил картошку, вымыл и высушил салат, накрыл на стол, время от времени подбегая к маме и целуя ей руку.
Последний ужин оказался на удивление вкусным и сытным, приготовленным словно нарочно для того, чтобы отпраздновать счастливое событие.
Ни у кого не нашлось ни одного слова сожаления. Наоборот, все казались очень довольными перспективой возвращения в городской муравейник.
Дядя Жюль говорил о своей префектуре, отец скромно признался, что есть надежда на получение Академических пальм к концу года, тетя Роза в очередной раз превозносила пресловутый газ… Мне было ясно: мысленно они уже в городе.
Они, но не я.
Камешек звякнул, ударившись о железную окантовку деревянной ставни. Это был условный сигнал. Я уже был одет и медленно, стараясь не производить никаких звуков, открыл окно. Снизу донесся приглушенный шепот:
– Ты готов?
Вместо ответа я спустил на веревке свой узел. Потом булавкой приколол Прощальное письмо к подушке и надежно привязал веревку от колодца к шпингалету окна. Послав сквозь стену воздушный поцелуй маме, я плавно соскользнул вниз по веревке.
Лили стоял под оливковым деревом. Я едва различал его.
– Пошли! – сделав шаг по направлению ко мне, вполголоса произнес он.
Подняв с земли довольно тяжелый мешок, он пригнулся и рывком взвалил его на спину.
– Здесь картошка, морковь и ловушки.
– А у меня с собой хлеб, сахар, шоколад и два банана. Пошли, поговорим после.
Мы молча поднялись по крутому склону до Птитёй.
Я с упоением вдыхал прохладный ночной воздух и ничуть не беспокоился по поводу своей новой жизни.
В который уж раз мы следовали по дороге, ведущей наверх к Ле-Тауме.
Ночь была тихая, лишенная прежней бескрайней широты: ни одной звезды на небе. Я продрог.
Летние певцы из числа насекомых – народец, населяющий каникулы, – больше не наполняли своими пульсирующими ритмами грустную тишину еще пока неразличимой осени. Вдали слышался напоминающий мяуканье зов лесной совы, а другая сова, поближе к нам, словно на флейте исполняла свою ночную песню, которой печально вторило эхо с Рапон.
Мы шли быстрым шагом, как и подобает беглецам. От тяжелой ноши ныли плечи, мы не говорили ни слова. Неподвижные сосны, обступившие тропинку, выглядели какими-то жестяными истуканами, дневные запахи были словно разбавлены вечерней росой.
После получаса ходьбы мы добрались до овчарни Батиста и присели на широкий камень, служащий порогом.
Первым заговорил Лили:
– Знаешь, еще немного, и я бы к тебе не пришел!
– Потому что твои родители следили за тобой?
– Да нет, не поэтому.
– А почему?
– Я думал, ты не решишься, – помедлив с ответом, проговорил Лили.
– Не решусь на что?
– Остаться в холмах. Я думал, ты говорил об этом просто так и в конце концов…
Его слова задели мое самолюбие.
– Значит, ты, видно, принимаешь меня за девчонку, которая то и дело меняет решение? Думаешь, я трепло? Учти – если я что-то решил, то сделаю, кровь из носа! И если бы ты не пришел, я бы ушел один! А если тебе страшно, оставайся: я знаю, куда идти!
С этими словами я встал и уверенно двинулся вперед. Он тоже встал, взвалил мешок на спину и бросился за мной. Обогнав меня, он остановился.
– Ты просто бесподобен, – бросив на меня взгляд, взволнованно проговорил он. Я тотчас принял «бесподобный» вид, но промолчал. – Равных тебе нет! – продолжая пристально смотреть на меня, добавил он.
После чего, повернувшись ко мне спиной, пошел вперед… Однако шагов через десять опять остановился и, не оборачиваясь, повторил:
– Ничего не скажешь: ты просто бесподобен!
Это его восхищение мною, так льстившее моему тщеславию, вдруг встревожило меня, и мне пришлось приложить усилия, чтобы и дальше оставаться «бесподобным».
Это мне чуть ли не удалось, как вдруг издалека, откуда-то справа, донесся странный звук: как будто кто-то скользит, скатываясь вниз по каменной осыпи. Я остановился и прислушался. Звук повторился.
– Это просто ночной звук, – пояснил Лили. – Не поймешь, что это. Конечно, немножко пугает, но никакой опасности нет, ты быстро привыкнешь.
Скоро мы добрались до края обрыва над План-де-Ла-Гарет. Слева от нас начинался густой сосновый бор Ле-Тауме. Утренний туман поднимался с земли, струясь между стволами деревьев, и неторопливыми клубами плыл над кустарником. Необычный лай, пронзительный и отрывистый, прозвучав три раза, заставил меня вздрогнуть.
– Это охотник?
– Нет, это лис. Когда он так лает, это значит, он загоняет какого-то зверька к своей самке, предупреждает ее…
И снова раздалось троекратное взвизгивание; я вспомнил, что в учебнике по естественным наукам объяснялось: слон трубит, олень издает трубный глас, а лис тявкает.
Обретя название, прозвучавший в ночи звук утратил устрашающий характер: лис, как и полагается, тявкал, только и всего. Учебник с определяющим этот звук глаголом я тысячу раз носил в школу и обратно в своем школьном ранце: я перестал бояться и собирался поделиться с Лили своими научными, так утешительно действующими познаниями, как вдруг слева от меня, в туманной глубине соснового бора, под ветвями промелькнула довольно высокая тень.
– Лили, – вполголоса проговорил я, – я только что видел чью-то тень.
– Где?
– Вон там.
– Тебе почудилось, ночью почти невозможно разглядеть тень…
– Говорю тебе, я что-то видел!
– Может быть, лис!
– Нет, это было что-то высокое… Не твой ли это брат отправился за певчими дроздами?
– О нет!.. Слишком рано… До рассвета еще не меньше часа.
– Или браконьер?
– Вряд ли… А не… – Не договорив, он, в свою очередь, стал молча всматриваться в сосняк.
– О чем ты подумал? – спросил я.
– Как она выглядела, эта тень? – ответил он мне вопросом на вопрос.
– Ну, как будто человек.
– Высокий?
– Трудно сказать, это же далеко было… Ну да, скорее высокого роста.
– В плаще? В длинном таком плаще?
– Знаешь, я не разглядел. Видел только, как тень двигалась, а потом исчезла то ли за сосной, то ли за можжевельником. Почему ты спрашиваешь? Ты имеешь в виду кого-то конкретного в длинном плаще?
– Может быть, – задумчиво отвечал он. – Лично я никогда его не видел. Но отец видел.
– Кого же?
– Большого Феликса.
– Он пастух?
– Да, – ответил Лили, – пастух былых времен.
– Почему былых?
– Потому что это произошло в былые времена.
– Ничего не понимаю.
Он приблизился ко мне и шепотом объяснил:
– Вот уже пятьдесят лет, как он умер. Но лучше о нем не говорить, не то он услышит и явится!
Я ошеломленно уставился на Лили.
– Это призрак! – шепнул он мне на ухо.
Я был настолько потрясен, что, желая прийти в себя, прибег к своему испытанному средству – язвительному смеху и спросил его с едкой иронией:
– А ты разве веришь в призраков?
Лили явно испугался и еле слышно ответил:
– Потише! Говорят тебе, он может услышать и заявиться!
Желая сделать ему приятное, я понизил голос:
– Вот что я тебе скажу: мой отец, человек ученый, и мой дядя, служащий префектуры, утверждают, что все это выдумки чистой воды. Когда заходит речь о призраках, им становится смешно – смешно до слез. И мне тоже! Вот именно – СМЕШНО.
– Ну а моему отцу совсем не смешно, потому что он этого призрака своими глазами видел, притом четыре раза.
– Твой отец славный человек, но даже читать не умеет!
– Я тебе не о том говорю, что он умеет читать, а о том, что он его видел!
– А где он его видел?
– Однажды ночью он лежал в овчарне Батиста и вдруг услышал, как снаружи кто-то ходит. А потом раздался глубокий вздох, какой испускает умирающий. Отец приник к щели в двери и увидел здоровенного пастуха в длинном плаще, огромной шляпе и с посохом в руке. И совершенно серого – с головы до ног.
– Может быть, это был настоящий пастух? – не повышая голоса, чтобы не раздражать Лили, спросил я.
– Да нет! Это был самый что ни на есть призрак, потому что, когда мой отец открыл дверь, за нею не было ничего – ни пастуха, ни призрака, НИЧЕГО.
Это было неопровержимое доказательство.
– А зачем он является, этот призрак? Чего ему надо?
– Говорят, он был очень богат, у него овец было не меньше тысячи. А разбойники его убили: всадили ему меж лопаток огромный кинжал и забрали у него большой мешок с золотыми монетами. Вот почему он то и дело возвращается сюда, стонет и ищет свое золото.
– Он же знает, что не мы его ограбили.
– Мой отец так ему и сказал.
– Он с ним говорил?
– Конечно говорил. Когда призрак явился ему в четвертый раз, отец заговорил с ним через дверь. Так и сказал ему: «Послушай, Феликс, я сам пастух, как и ты. Где твое золото, не знаю. Так что не приставай, потому как мне нужно выспаться». Призрак не проронил ни слова, но стал насвистывать, это продолжалось чуть ли не десять минут кряду. Тут мой отец рассердился и заявил ему: «Ты что, Феликс, осатанел, что ли? Я к мертвым со всем своим почтением, но, если ты будешь продолжать в том же духе, я выйду, и, клянусь, ты у меня получишь четыре крестных знамения, а в придачу еще и шесть пинков под зад.
– Он так и сказал?
– Да, прямо так и сказал – и сделал бы, что обещал, но тот все понял: ушел и больше не возвращался.
Рассказ Лили был настолько нелепым, что я решил не верить ему и призвал на помощь некоторые любимые высказывания своего отца.
– Честное слово, зря ты рассказываешь мне всякие сказки о призраках: это просто предрассудки. Все эти призраки и привидения – выдумки простого народа. А крестное знамение – это вообще морякобесие.
– А вот и нет! – возразил он. – Крестное знамение от призраков – верное дело! Это каждый знает. Тебе любой скажет, что от этого они распадаются надвое.
Я как-то не очень уверенно усмехнулся и спросил:
– А ты, разумеется, умеешь это делать?
– Конечно умею!
– Ну-ка, покажи, что это за штука такая!
Он несколько раз подряд торжественно перекрестился. Я, усмехнувшись, последовал его примеру. И тут из тьмы словно вынырнуло нечто гудящее, и я почувствовал, как меня стукнуло по лбу, не сильно, но резко. Я не смог сдержать вскрика. Лили наклонился и что-то поднял.
– Это жук-олень, – сказал он и, раздавив его каблуком, двинулся дальше.
Я зашагал вслед за ним, время от времени оглядываясь назад.
Мы подошли к подножию Ле-Тауме, я четко различал контуры отвесного обрыва, нависшего над подземным ходом, где меня ждала новая, полная приключений жизнь.
Лили вдруг остановился:
– Мы с тобой кое о чем забыли! – В его голосе прозвучала крайняя тревога.
– О чем же?
Но вместо того чтобы ответить на мой вопрос, он покачал головой, скинул мешок в кусты лаванды и заговорил сам с собой:
– Как мы могли забыть об этом? Просто невероятно. Мне бы вспомнить. И ты тоже забыл… Что же нам теперь делать?
Он сел на камень и, не переставая качать головой, скрестил руки на груди и замолчал.
Эта смахивающая на театральную пантомима меня раздосадовала, и я набросился на него:
– Да что с тобой? С ума сошел? О чем таком мы забыли?
Он пальцем указал мне на обрыв и произнес одно-единственное непонятное слово:
– Неясыть.
– Что ты хочешь сказать?
– Неясыть.
– Да о чем ты?
Мои вопросы явно рассердили его, и он нервно заговорил:
– Да о том филине, что хотел выколоть нам глаза! О том пугаче! У него гнездо под потолком пещеры, наверное, и его пугачиха с ним… Мы только одного видели, но держу пари на двенадцать ловушек, что там их двое!
Это было как гром среди ясного неба. Каким бы «бесподобным» ты ни был, бывают минуты, когда судьбе удается-таки огорошить тебя, подстроив изрядную каверзу.
Целых два филина! Я представил себе, как они кружат над моей головой, следя за мной своими фосфоресцирующими глазами, наставив на меня свои страшные когти и раскрыв желтые клювы, позволяющие видеть черный-пречерный язык: после моего устрашающего рассказа и не менее устрашающих ночных кошмаров эти хищники представлялись мне в тысячу раз опаснее, чем прежде… Я изо всех сил закрыл глаза и сделал глубокий вдох.
Нет, нет, это невозможно: лучше сидеть в школе в классе господина Бессона, со всякими там квадратами и ромбами на доске, и изучать права и обязанности образцового гражданина.
– Их, наверное, двое! – как заведенный повторял Лили.
И тут я ощутил, что мне стало тем легче оставаться «бесподобным», что я уже решил про себя отступиться при первом удобном случае от новой жизни.
– Ну и что? И нас тоже двое. Неужели ты боишься? – холодно спросил я.
– Да, боюсь! Ты одного не понимаешь. Эту неясыть мы видели днем – поэтому она не напала на нас… А вот ночью другое дело – когда ты будешь спать, они вдвоем налетят на тебя и выклюют тебе глаза… Неясыть ночью хуже орла!
Я подумал, что если проявлю чрезмерную храбрость, то он откажется пойти со мной.
– Поэтому мы с тобой подождем до рассвета, а там сами на них нападем! – веско ответил я. – Привяжу острый нож к палке и поставлю в известность милых пташек, что в пещере новый квартирант! А теперь давай прекратим болтовню и подготовимся к бою! – решительно объявил я, не двигаясь с места.
Лили посмотрел на меня и вскочил на ноги.
– Ты прав! – горячо вскричал он. – В конце концов, это всего-навсего птицы! Сейчас срежем две длинные ветки можжевельника, свою я как следует заострю, и мы нанижем их, как цыплят на вертел.
Он сделал несколько шагов и, раскрыв пастуший нож, пригнулся, влез в заросли и принялся за работу.
Сидя на камешках под сосной, я размышлял.
– А если они не выползут из своей дыры, я туда засажу палку – и ты услышишь, какой галдеж поднимется! – не переставая возиться в кустах, бросил Лили.
Я понял, что он не шутит и серьезно готовится к сражению с филином. Это он был «бесподобным»; мне стало стыдно, что я струсил.
Я призвал на помощь одного из своих любимых героев, Робинзона Крузо… Что бы он сделал, обнаружив двух хищных птиц в своем первом жилище? Нетрудно было вообразить себе, как он сразу же скрутил бы им шеи, ощипал и зажарил на вертеле из бамбука, возблагодарив Провидение! Если я спасую перед этими грозными «пташками», то утрачу право запоем читать приключенческие романы, а персонажи с иллюстраций, до сих пор всегда смотревшие мне прямо в глаза, станут демонстративно отводить взгляд, не желая видеть «трусливое сердце койота».
Кстати, речь уже шла не о двух филинах, мощных и беспощадных хищниках, одно упоминание о которых приводит в ужас, а всего-навсего о двух так называемых неясытях, которые показались мне в тысячу раз менее опасными.
Недрогнувшей рукой взялся я за острый нож и стал точить его о камень.
Остался нерешенным вопрос с призраком. Я принялся повторять безапелляционное утверждение моего отца: ПРИЗРАКОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Затем на всякий случай раз пять или шесть осенил крестом все вокруг, отчего призраки должны были распасться надвое.
Лили вылез из зарослей, таща за собой две идеально прямые ветки, длиннее его самого, и вручил мне одну из них.
Вынув из кармана бечевку, я крепко привязал рукоятку грозного ножа к более тонкому концу своей палки. Лили рядом со мной усердно затачивал свое копье, как оттачивают карандаш.
Утренняя заря просачивалась сквозь белесоватый туман: в мутном ее свете видно было, как ватные клочья тумана застряли под кронами сосен, повисли на верхушках кустарников. Было промозгло.
Нервное напряжение, служившее мне верой и правдой всю ночь, вдруг ушло, и я ощутил, какой огромной ценой дается моей шее держать голову, я прислонился спиной и затылком к стволу сосны, и мои отяжелевшие веки сомкнулись, согревая словно засыпанные песком глаза. Я, без всякого сомнения, заснул бы, если бы не услышал, как где-то чуть ниже соснового бора что-то ворохнулось.
– Слышал? – прошептал я.
– Это кролик!
– Кролики не лазают по деревьям.
– Ты прав. Тогда лис. – Лили по-прежнему оттачивал свое копье. – Ты просто бесподобен! – снова добавил он.
Только я собрался сказать ему, что это совсем не так, как между черными сосновыми стволами, которые начали светлеть, увидел высокий силуэт: тот самый пастух, укутанный в длинный плащ, в широкополой черной шляпе, медленно брел среди овец из лохматого тумана, а между лопаток у него торчала крестообразная рукоятка кинжала…
Дрожащей рукой четыре или пять раз я осенил видение крестом. Но вместо того чтобы распасться на части, призрак обернулся ко мне, перекрестился сам, с вызовом возведя очи к небесам, и направился к нам, усмехаясь… Я хотел закричать, но от жуткого страха задохнулся и потерял сознание… И сразу почувствовал, как две руки крепко держат меня за плечи; еще немного – и я завопил бы, если бы не услышал голос Лили:
– Эй! Проснись! Сейчас не время спать!
Он старался поднять меня, поскольку я завалился на бок.
– Ты видел? – пролепетал я.
– Да, видел, как ты стал заваливаться! К счастью, тут повсюду тимьян, не то ты мог бы расцарапать себе все лицо, грохнувшись головой о камни! Тебе так хочется спать?
– Да нет! Уже прошло. А призрака ты не видел?
– Ничего не видел, зато опять услышал, как где-то там… Может, это Мунд де Парпальюн… Нельзя, чтоб он нас увидел… Смотри, какое у меня копье!
Он так искусно выстругал ножом палку, что она казалась отполированной, как мрамор. Он дал мне пощупать острие, оно было отточено и кололо не хуже моего ножа…
На краю неба ближе к Сент-Бом слабо мерцали одинокие звезды. Лили встал.
– Мы готовы, – решительно произнес он. – Но еще не так светло, чтобы ринуться в бой с неясытью. Еще успеем завернуть к источнику Фон-Брегет: там и наполним наши бутылки.
Я зашагал следом за ним по кустикам промокшей от утренней росы дикой лаванды.
Источник Фон-Брегет находился слева от Ле-Тауме под небольшим скалистым обрывом. Вода сочилась из скалы и набиралась в квадратное углубление размером с творило каменщика и глубиной не больше двух пядей: какой-то козий пастух былых времен терпеливо выдолбил выемку в обомшелой расщелине, и она всегда была наполовину полна ледяной воды.
Лили положил в нее пустую бутылку, послышалось звонкое бульканье, напоминающее воркование вяхиря.
– Сюда будешь приходить за водой, – объяснил он. – Источник никогда не пересыхает и дает не меньше десяти литров в день!
И тут меня осенило, чего, кстати, мне уже некоторое время недоставало. Изобразив на лице беспокойство, я переспросил:
– Десять литров, говоришь! Ты уверен?
– Ну да! А может, и все пятнадцать!
– Ты шутишь?! – вскричал я, прикидываясь ошеломленным и возмущенным.
– Вовсе нет! Сказал, пятнадцать, значит так оно и есть!
– А что мне, по-твоему, делать с пятнадцатью литрами воды? – закричал я еще громче.
– Тебе, пожалуй, всего не выпить!
– Нет, конечно, но мне же надо еще умываться!
– Ну, для этого хватит и пригоршни!
– Тебе, может быть, и хватит, – ухмыльнулся я, – мне же необходимо намыливаться с головы до пят и затем смывать с себя всю грязь.
– А почему? Ты болен?
– Нет. Но пойми, я из города, значит на мне полным-полно микробов. А микробов надо опасаться!
– Микропов? А что это такое?
– Что-то вроде вшей, но они такие маленькие, что их не видно. И если я не буду каждый день мыться с мылом, они за меня так возьмутся, что в один прекрасный день, когда ты зайдешь за мной, ты найдешь хладное тело и тебе ничего не останется, кроме как сбегать за киркой и похоронить меня.
От столь мрачного прогноза мой дорогой Лили страшно расстроился:
– Да, это была бы та еще подлость!
Беззастенчиво кривя душой, я тотчас набросился на него:
– Это ты во всем виноват! Если б ты не поручился, что в Фон-Брегет воды сколько угодно, то…
Он явно был в отчаянии:
– Да я же не знал! У меня-то микропов нет! Даже не знаю, как их по-нашему звать-то! Я моюсь только по воскресеньям, как и все! Батистен говорит, что мыться противоестественно и от этого можно заболеть! Мунд де Парпальюн, тот вообще ни разу в жизни не мылся, ему за семьдесят, а он свеж как огурчик!
– Ну да ладно, будет тебе оправдываться… Дали мы с тобой маху, да еще какого… Крах полнейший, но ты ведь не нарочно… Это судьба… Так было начертано… И, опершись на копье, я торжественно произнес: – Прощай! Я побежден! Возвращаюсь домой.
С этими словами я пошел в сторону плоскогорья; заревая алая полоса окаймляла далекие зубчатые отроги Святого Духа.
Пройдя метров двадцать, я заметил, что Лили не сдвинулся с места; я остановился, боясь, как бы он не потерял меня из виду в чуть брезжущем утреннем свете. Воткнув древко копья в камешки гарриги, я оперся на него обеими руками, демонстративно уронил на них чело и застыл в позе доведенного до отчаяния воина.
Моя тактика удалась на славу: Лили моментально догнал меня и крепко обнял.
– Не плачь, – повторял он, – только не плачь…
– Я? Плакать? – усмехнулся я. – Не плакать мне хочется, а кусаться! Ну да ладно, довольно об этом!
– Дай мне свой узел, – предложил он. – Раз я виноват, хочу нести.
– А твой мешок?
– Я его там оставил. Вернусь за ним днем. А теперь давай-ка прибавим шагу, пока они не нашли твое письмо… Я уверен, они еще не встали…
Он побежал впереди меня; я за ним следом, не говоря ни слова, но время от времени испуская весьма впечатляющие вздохи.
Издалека дом казался черным и безжизненным, но, когда мы подошли поближе, сердце у меня екнуло: ставни папиной комнаты обрамляла полоска света.
– Держу пари, он сейчас одевается, – сказал я.
– Значит, он еще не нашел письмо. Лезь скорее!
Лили подсадил меня и помог дотянуться до висевшей из окна моей спальни веревки, которая могла бы выдать мое бегство, но вместо этого обеспечила мне возможность возвращения домой. Затем Лили передал мне узел.
Туман почти рассеялся, высоко в небе вдруг грянул свою песню жаворонок: занимался новый день, ознаменовавшийся моим постыдным ночным поражением.
– Вернусь за мешком, – бросил Лили, – и сразу обратно.
Прощальное письмо лежало на том же месте. Отколов булавку, я взял его и порвал в клочки, а затем в два или три приема выбросил их в окно, после чего, стараясь не шуметь, прикрыл его.
В наступившей тишине до меня донесся разговор из папиной комнаты.
Он вполголоса и, как мне показалось, весело так и сыпал словами: мне даже послышалось что-то вроде смеха.
Ну конечно, ему было смешно, что кончились каникулы… Едва проснувшись, он смеялся, думая о том, как вытащит из ящика своего школьного стола постылые карандаши, чернила и мел…
Я спрятал узел под кровать: если его обнаружат, скажу, что хотел облегчить ношу матери.
Потом лег в постель: мне было стыдно, я весь окоченел… На поверку я оказался просто-напросто жалким трусом, самым настоящим «презренным сердцем койота». Лгал родителям, лгал своему другу, лгал себе.
Как ни пытался я подыскать оправдания самому себе, у меня ничего не получалось, я готов был расплакаться… И, натянув толстое одеяло на задрожавший подбородок, я сбежал в сон…
Когда я проснулся, дневной свет просачивался в комнату через ту самую дырочку в ставнях, в которую по ночам проникал луч луны; постель Поля была уже пуста. Я открыл окно: шел дождь. Это не была гроза, громогласная и фиолетовая, просто накрапывал бесконечный, неспешный и безмолвный дождь-сеянец.
Послышался скрип колес по гравию, и я увидел, как из-за угла дома показался сначала Франсуа, держащий на поводу мула, а вслед за ним повозка, увенчанная широко раскрытым зонтом. Под зонтом укрылась тетя Роза: укутанная в одеяло, окруженная многочисленными предметами багажа, левой рукой она держала кузена Пьера, а правой нашу сестренку. Из чего я заключил, что мама и Поль отказались ехать на данном средстве передвижения, где, кстати сказать, им было бы очень тесно.
Дядя Жюль шел сзади, неся над головой зонт и толкая перед собой велосипед: я с грустью наблюдал, как они удаляются по дороге в город, такой безрадостной.
Я застал своих за столом: с ними был и Лили, все они с большим аппетитом поглощали завтрак.
Меня встретили небольшой овацией. У отца было странное выражение лица.
– Как видно, горе не помешало тебе крепко заснуть в эту последнюю ночь, – рассмеялся он.
– Он даже храпел во сне! – воскликнул Поль. – Я немножко подергал его за волосы, чтобы разбудить, но он ничего не почувствовал!
– Это он от усталости! – пояснил отец. – А теперь давай поешь, потому как уже девять утра и мы вряд ли доберемся домой раньше часа дня, несмотря на то что воспользуемся воскресным омнибусом!
Я стал уплетать тартинки за обе щеки. Мне было стыдно перед Лили за провал моего плана, я хотя и поглядывал на него, но лишь украдкой.
– А почему они уехали? – спросил я, не зная, о чем говорить.
– Потому что Франсуа должен доставить овощи в кафе «Четыре времени года» не позднее десяти утра, – ответила мама. – Тетя Роза будет ждать нас у Дюрбека на конечной остановке омнибуса.
Облачившись в плащи, мы отправились в путь под дождем; Лили, укрывшись мешком, также пошел с нами: он во что бы то ни стало хотел проводить нас. По колеям текли дождевые потоки, все звуки были приглушены, на дороге нам не встретился ни один пешеход, ни одна повозка.
Омнибус ждал нас у зеленых ворот при въезде в деревню.
Тетя Роза с детьми уже сидела в нем вместе с празднично разодетыми по случаю воскресенья местными жителями.
С крыши длиннющей конной повозки темно-зеленого цвета свисали короткие брезентовые занавески, украшенные веревочной бахромой. Пара лошадей била копытом, возница в серой накидке и клеенчатой шляпе уже сигналил с помощью рожка, созывая опаздывающих пассажиров.
На виду у всех присутствующих мы попрощались с Лили.
Мама его поцеловала, отчего он, как обычно, зарделся, затем пришел черед Поля прощаться. Потом мой. Когда я стал крепко, по-мужски трясти руку своего друга, я увидел на его глазах слезы, а губы у него болезненно искривились. Мой отец подошел к нам:
– Ну, Лили, ты же не станешь плакать, как младенец, на глазах у всех?
Но Лили, понурив голову в капюшоне из мешка, только сконфуженно скреб землю кончиком ботинка. Мне тоже хотелось плакать.
– Вы должны понять: в жизни существуют не только развлечения. Я тоже хотел бы остаться здесь и жить среди холмов. Даже в какой-нибудь пещере. Даже один, как отшельник! Но невозможно всегда делать только то, что нравится. – (Намек на отшельника поразил меня, но я понимал: сама идея настолько естественна, что, раз она возникла у меня, она могла возникнуть у любого другого.) – В июне будущего года Марселю сдавать очень важный экзамен, – продолжал отец, – так что ему предстоит много заниматься, особенно правописанием. Глагол «беспокоиться» он пишет через «а», и, держу пари, он не сумеет правильно написать существительное «отшельник».
Я почувствовал, что краснею, но мое беспокойство продолжалось не больше секунды: отец не успел прочесть мое письмо, раз я нашел его на прежнем месте. А если бы он прочел его, меня, несомненно, ждал бы серьезный разговор, когда я вернулся домой!
– Следовательно, он должен усердно изучать многие предметы, – как ни в чем не бывало наставительно говорил отец. – Если он приложит усилия и добьется успехов, то мы еще не раз вернемся сюда на каникулы: на Рождество, на Масленицу и на Пасху. А посему нечего распускать нюни перед людьми, просто пожмите друг другу руку, как подобает настоящим охотникам, каковыми вы и являетесь!.. До свидания, милый Лили. Не забудь, что тебя ждет экзамен на аттестат об окончании школы и что образованный крестьянин стоит двух или трех неграмотных!
Он наверняка продолжал бы и дальше свою проповедь, но тут возница еще раз повелительно протрубил в рожок и дважды звонко щелкнул плетью. Мы поспешили сесть в повозку.
Задняя скамья, повернутая спиной к лошадям, была не занята, но, так как маму и Поля подташнивало, когда они сидели против движения, все наши уселись среди крестьян, я же сел сзади один.
Возница убрал тормоз, и мы тронулись в путь рысцой.
По-прежнему сеял мелкий дождик.
Вжав голову в плечи, весь съежившись, я жевал веточку мяты, судорожно сжимая в кармане ловушку, – из смертоносного этот предмет вдруг превратился в священную реликвию, в некое обещание… Вдали, сквозь завесу дождя, так зримо над обступившими ее холмами возвышалась вечная синяя громада моей любимой Ле-Тауме.
Я вспоминал о горбатой рябине под обрывом в Бом-Сурн, о звенящих каплях воды в Фон-Брегет, о трех неистово жужжащих мухах в ложбине Прекатори… Я думал о расстелившемся густым ковром тимьяне в Пондран, о кишащих птицами терпентинных деревьях, о Певучем Камне, о трогательной лаванде, что растет на камешках гарриги…
По обеим сторонам узенькой дороги убегали назад две стены из голых камней, с которых промокшими прядями свисала постенница.
Высокая колымага погромыхивала, давя железными ободами колес дорожный гравий, копыта бежавших рысцой лошадей издавали звонкое цоканье, и глухо, как промокшая хлопушка, щелкала возничья плеть…
Меня разлучали с родиной: нежные капли дождя плакали вместо меня, стекая по моим щекам… Я не стремился, выпятив грудь и рассекая лбом ветер, к какой-либо цели: во власти одиночества и непередаваемого отчаяния, под ритмичное цоканье лошадиных копыт я продвигался в будущее, пятясь назад, как королева франков Брунгильда[23], которую долго волочили по камням, привязав ее белокурые волосы к хвосту лошади.
Итак, я снова, без всякой радости, ходил в школу: платаны на школьном дворе уже роняли пожелтевшие листья, и по утрам сторож сжигал их, собрав в кучки у высокой серой ограды… В окне вместо соснового бора я видел однообразный ряд деревянных дверей уборных в глубине двора.
Я поступил в четвертый класс начальной школы, классного учителя звали господин Бессон.
Он был молодой, высокого роста, худой, уже с лысиной и не мог разогнуть указательный палец на правой руке, тот так и оставался в виде крючка.
Он радушно принял меня, но внушил мне большое беспокойство, сказав, что от того, как я буду учиться в этом году, зависит вся моя будущая жизнь и что он будет обязан «до упора завинчивать гайку», поскольку я являюсь «его» кандидатом, то есть тем, кого он выдвигает на конкурс на получение «государственной стипендии». В этом своеобразном турнире предстояло помериться силами отличникам начальной школы с лучшими учениками средней.
Вначале я был уверен в себе, поскольку прилагательное «средний» отожествлял с понятием «второго сорта», что в моем понимании означало «легкий».
Но я очень быстро сообразил, что отец со своими коллегами-учителями придерживаются иного мнения и что честь нашей школы поставлена на карту в связи с моими результатами.
Верховная ставка, состоящая из учителей, «взяла командование в свои руки», по примеру бригады уголовного розыска, чьи следователи постоянно сменяют друг друга, допрашивая подозреваемого.
Господин Бессон, у которого я учился по шесть часов в день, вел следствие и сбор данных.
Мне вменялось в ЧЕТВЕРГ УТРОМ ровно в девять утра как штык быть в школе.
Сам господин Сюзан, высокочтимый преподаватель старших классов, чьи педагогические методы действовали безотказно, ждал меня в пустом классе для того, чтобы расшевелить мое воображение с помощью дополнительных хитроумных задачек про догоняющие друг друга поезда, про едущих навстречу друг другу велосипедистов, про отца семейства, которому изначально в семь раз больше лет, чем сыну, но который с годами утрачивает это преимущество.
Часам к одиннадцати на смену ему приходил господин Бонафе, который проверял выполненные мною задания по грамматическому анализу текста и предлагал новые, на которые ныне я точно уже не способен. В остальные дни недели я был обязан прогуливаться по двору на переменах с господином Арно (который когда-то задумывался о карьере в почтовом ведомстве) и выслушивать бесконечную литанию, состоящую из названий городков-супрефектур всех французских департаментов (в которых я, кстати, так на своем веку и не побывал, так что моя память, к счастью, легко избавилась от этого груза).
И если бы только это! Господин Мортье, обладатель красивой светлой бородки и золотого кольца на мизинце, порой после вечерних занятий, доверив своих учеников попечению моего отца, приводил меня в опустевший класс и задавал нескончаемые вопросы по истории Франции. Эта наука интересовала меня, но только в той степени, в какой она была близка романам, к примеру: ответ короля франков Хлодвига при его крещении на повеление архиепископа: «Склони голову, гордый вождь сикамбров!» – «А ты, согбенный старик, выпрямись!»; выходка вождя викингов Роллона Нормандского, обезглавившего обоих рыцарей, посланных к нему королем Франции Карлом Простоватым для охраны его дочери, которую тот пообещал Роллону в жены; железная клетка, в которую французский король Людовик Одиннадцатый приказал заключить несчастного кардинала Ла Балю на одиннадцать лет; суп из вороньего мяса, которым, по преданию, якобы лакомились солдаты Наполеона, отступая из России; пресловутая «пуговица на гетрах наших солдат», чье отсутствие было объявлено причиной проигранной нами Пруссии войны в 1870 году.
Мой отец оставил за собой заботу о моей грамотности и что ни утро, до завтрака, потчевал меня диктантом в шесть строк, каждое из предложений которого было заминировано, как какой-нибудь нормандский пляж на театре военных действий в июне 1944 года. Львиная доля трудностей приходилась на употребление причастий.
Мы смотрели на выходящих из театра зрителей.
Мы подошли к вышедшим из театра зрителям.
Мы смотрели на бежавших к тюрьме жандармов.
Мы присоединились к бегущим к тюрьме жандармам.
Я старался как мог, но частенько все эти зрители и жандармы переставали для меня существовать и напрасно выходили из театра или бежали к тюрьме, потому что мне вдруг слышался стрекот цикад, а вместо голых веток платанов на школьном дворе виделось кровавое закатное небо над вершиной Красной Макушки и мой дорогой Лили, спускающийся по крутой тропинке, ведущей в Ла-Бадок: вот он идет, засунув руки в карманы и весело насвистывая, на шее у него ожерелье из садовых овсянок, а на поясе висят дрозды…
На занятиях, когда господин Бессон длинной линейкой показывал на карте изгибы никому не нужной реки, перед моими глазами из школьной стены медленно проступала высокая смоковница у овчарни Батиста: из густой массы словно лакированных листьев ввысь устремляется мертвая ветка, на самом конце которой восседает черная с белым сорока.
И в эту минуту сладостная боль переполняла мое детское сердце; и пока доносящийся как будто издалека голос учителя произносил названия притоков, я пытался исчислить вечность, отделявшую меня от рождественских каникул. Я подсчитывал дни, затем часы, потом время, уходящее на сон, и сквозь легкий туман зимнего утра смотрел в окно на школьные часы: большая стрелка на них продвигалась толчками, и я словно воочию видел, как каждый толчок сопровождается падением в небытие крохотных отрезков времени – минут, так похожих на обезглавленных муравьев.
Вечером я покорно делал домашние задания при свете керосиновой лампы, так что у меня почти не оставалось времени на общение с Полем. Он же день ото дня становился все интереснее, поскольку один из его однокашников был в своем роде «кладезем научных познаний» в области всевозможных дурацких хохм, так что Поль почти каждый вечер делился с нами очередной сортирной шуточкой вроде: «Как ты?» – «Как Ашка!» и подобными ей, которые смешили его до слез. Нам с ним практически некогда было поговорить, разве что во время выполнения домашней обязанности, ответственность за которую дважды в день лежала на нас обоих, – мы вместе накрывали на стол.
Моя дорогая мама была очень обеспокоена тем, что я так долго корплю над уроками, скрючившись за письменным столом, а утренние занятия по четвергам и вовсе представлялись ей варварством: она ухаживала за мной, как за выздоравливающим, и только для меня готовила вкуснейшие яства, к сожалению сопровождавшиеся принятием внутрь столовой ложки рыбьего жира.
Главное, я, что называется, держал удар, и мои успехи доставляли столько удовольствия отцу, что мучения казались мне не столь уж и невыносимыми.
В один прекрасный день, возвращаясь из школы в полдень после дополнительного урока по грамматике, я вошел в дом и услышал голос маленького Поля.
– Тебе пришло письмо по почте! С маркой на конверте! – перегнувшись через перила, кричал он мне в гулкой тишине лестничной клетки.
Я взлетел наверх, перескакивая через две ступеньки, так что медные перила зазвенели, как арфа.
На столе, возле моей тарелки, лежал конверт желтого цвета, на котором разновеликими буквами было косо написано мое имя.
– Держу пари, – сказал отец, – это весточка от твоего друга Лили!
Мне никак не удавалось вскрыть конверт, один за другим я разорвал все четыре его уголка: тогда отец, взяв его у меня, с ловкостью настоящего хирурга острием ножа аккуратно взрезал его.
Из конверта выпали лист шалфея и засохшая фиалка.
Три вырванных из школьной тетради листочка были исписаны крупным почерком, волнообразные строки огибали чернильные пятна. В письме сообщалось:
Привет, старина!
Берусь за Перо, штоб сообщить тебе: в этом году певчие дразды не прилетели, ну ни аднаво! даже дарнаги, и о тех поминай как звали, как и Тебя. Я и двух не паймал, курапатки тоже. Больше на ахоту не хажу, пустая трата времени! Лутше заниматься в Школе и выучить Арфаграфию. Што еще? Даже альюдов и тех почти не сыскать, а каторые есть, те – савсем маленкие, птицы не хатят их есть. Просто беда, харашо, что тибя здесь нет, это просто ужас. Скарее бы ты приехал, тагда и птицы тоже прилетят, курапатки будут и дразды к раждеству. К таму же ани украли двенацать лавушек и не меньше питьдесят драздов. Я знаю кто взял самые красивые лавушки. Храмой из Ало. Уж я ему припомню, памяни мое слово. К таму же холадно, дует мистраль. Каждый день на ахоте у меня ноги как лед. К шастью у миня есть теплый Шарф, но я все адно скучаю по тибе. Батистен даволен: каждый день приносит по трицать драздов, пойманых на клей. Пазавчэра десять садовых авссянок, а в суботу двенацать саир. Пазавчера я хадил на Красную макушку, хател послушать Камень. Атмарозил ухо, а Камень не хочет больше петь, только плачет, вот и все новости. Мой привет чесной кампании. Шлю листик шалфея для тибя и фиалку для тваей матери. Твой друг на всю жизнь Лили.
Мой Адрес: Ле Белон через Лавалантин Франция.
Я уже три дня по вечерам пишу тибе. Мама рада, ана думает, што я делаю Упражнения. Я пишу на Титради. Патом атрываю лист. Граза сламала вдребезги бальшую сасну в Лагарет. Астался только ствол. Притом острый как свисток. Пращай. Я скучаю по тибе. Мой адрес: Ле Белон через Лавалантин Франция. Почталена завут Фернан. Все ево знают. Он не может ошибится, он очень харашо знает меня.
Твой друг на всю жизнь Лили.Расшифровать написанное с учетом своеобразного правописания оказалось делом не из легких. Однако мой отец, большой специалист по этой части, кое-как с грехом пополам справился с этой задачей.
– К счастью, у него впереди еще три года, чтобы подготовиться к экзамену на аттестат об окончании школы! – заметил он и, обращаясь к матери, добавил: – У этого ребенка доброе сердце, к тому же он наделен удивительной чуткостью. – И, обернувшись ко мне, посоветовал: – Сбереги это письмо. Позже ты поймешь, чего оно стоит.
Я взял листочки, сложил их и сунул в карман, но ничего не ответил: я все понял раньше отца.
На другой день, выйдя из школы, я прямиком направился в табачную лавку и купил необычайно красивый лист почтовой бумаги. По краям листа шла кружевная вязь, а наверху слева красовалась выгравированная ласточка, держащая в клюве телеграмму. Конверт из плотной атласной бумаги украшали цветочки незабудки.
В четверг после полудня я долго составлял черновик моего ответа на письмо Лили. Я уже не помню, какие именно там были слова, но хорошо помню общий смысл.
Сначала я от души посочувствовал ему в связи с исчезновением дроздов, попросил передать мои самые искренние поздравления Батистену, умеющему ловить их на клей, даже когда их нет. Затем поведал ему о своих школьных занятиях, о том, как обо мне пекутся учителя и как они мною довольны. Вслед за этим, не слишком скромным пассажем, шел другой, о том, что, пусть рождественские каникулы и начнутся только через тридцать два дня, мы все равно будем еще достаточно молоды, чтобы скитаться по холмам, при этом я обещал ему целые полчища дроздов и садовых овсянок. Потом, рассказав, как живет вся наша семья, которая, как мне казалось, «преуспевает», я попросил его передать мои соболезнования «сломанной вдребезги» сосне в Ла-Гарет и мой самый дружеский привет Поющему Камню. Кончил я письмо уверениями в горячей дружбе, в которой никогда не посмел бы признаться ему в лицо.
Дважды перечитав свое произведение в прозе и внеся в него кое-какие незначительные поправки, я вооружился новым пером и промокашкой и, высунув от натуги язык, начисто переписал свой ответ.
Я прилежно вывел буквы, а правописание прямо-таки довел до совершенства, заглядывая в словарь Пти-Ларусс, чтобы не сделать ошибок в нескольких подозрительных словах. Вечером я показал свое творение отцу: указав мне на кое-какие окончания и вычеркнув одно лишнее «н», он поздравил меня с замечательным письмом, отчего маленький Поль преисполнился гордости.
После, лежа в постели, я перечитал письмо Лили, и его правописание показалось мне таким забавным, что я не мог удержаться от смеха… Но тотчас спохватился: ведь все его ошибки и неловкие обороты были результатом долгих часов прилежной работы и свидетельствовали об огромных усилиях, приложенных им во имя дружеских чувств; я бесшумно встал и босиком, с керосиновой лампой в руках, перенес собственное письмо, школьную тетрадь и чернильницу на кухонный стол. Вся семья спала, в доме стояла полная тишина: слышалась только тихая песенка воды, подтекающей из крана в цинковый тазик в раковине.
Первым делом я резким движением вырвал три страницы из тетради, так что на бумажных листах остались неровные зубчатые края, чего я и добивался. Затем старым пером переписал заново свое чересчур замечательное письмо, убрав из него остроумную фразу, в которой я подтрунивал над его благородной ложью. Мимоходом я избавился от исправлений отца в окончаниях и добавил пару-тройку орфографических ошибок, копируя их прямо из письма Лили: «драздов», «ни аднаво», «пазавчэра», «к шастью» и «авссянок». Наконец я разбросал наугад по тексту энное количество неуместных прописных букв, как это было у него.
Эта тщательная работа заняла не меньше двух часов, в какой-то момент я почувствовал, что меня обуревает желание спать… Тем не менее я еще раз перечитал его письмо, а затем свое. Мне показалось, что я неплохо справился с задачей, но все-таки чего-то недоставало. И тогда я сделал следующее: зачерпнув пером чернил, я уронил на свою изящную подпись своеобразную слезу – она брызнула и черным солнцем расплескалась по бумаге во все стороны.
Последние тридцать два дня четверти, ставшие еще длиннее из-за дождя и осеннего ветра, показались мне нескончаемыми, но с помощью большой стрелки на школьных часах я их в конце концов одолел.
В один из декабрьских вечеров, вернувшись домой после школы, – господин Мортье задержал меня в классе на четверть часа дольше обычного, на этот раз в прекрасной компании Королей-лентяев[24], – я вошел в столовую и почувствовал такую радость, что сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди.
Мама занималась тем, что впихивала в картонный чемодан теплую шерстяную одежду.
Свет подвесной керосиновой лампы с горящим во всю мощь фитилем освещал стол, на котором вокруг блюдечка с маслом лежали части разобранного отцовского ружья.
Я знал, что до каникул оставалось ровно шесть дней, но до этих пор старался не представлять себе наш отъезд, чтобы сохранять выдержку. Однако при виде сборов в дорогу, которые уже сами по себе являлись частью грядущих каникул, я так разволновался, что слезы подступили у меня к глазам. Положив ранец на стул, я бросился в отхожее место, заперся там и предался слезам пополам со смехом.
Вышел я оттуда минут через пять, немножко успокоившись, но с бьющимся сердцем. Отец собирал ружье, мать примеряла на голове Поля связанный ею шерстяной шлем.
– Мы поедем, даже если будет дождь? – слегка задушенным голосом поинтересовался я.
– В нашем распоряжении только девять дней, так что поедем в любую погоду, – ответил отец.
– А если будет гром? – спросил Поль.
– Зимой грома не бывает.
– А почему?
– Потому что «почему» кончается на «у», – отрезал отец. – Но разумеется, если будет лить как из ведра, отложим отъезд до утра следующего дня.
– А если дождь будет обычный?
– Тогда вытянемся в струнку, пойдем быстрым шагом, с закрытыми глазами и проскользнем между струйками!
* * *
В четверг во второй половине дня мама повела нас к тете Розе, чтобы узнать, каковы ее намерения. Нас ждало большое разочарование: тетя объяснила, что не сможет «отправиться с нами на виллу» из-за кузена Пьера; по правде сказать, наш кузен начинал занимать неоправданно большое место в жизни семьи. Этот сосунок, страстный любитель бутылочки, уже издавал какие-то бессмысленные звуки, на которые тетя отвечала настоящими фразами, для того чтобы уверить нас: он произнес нечто разумное. Зрелище было удручающее.
К тому же, к вящему восторгу нашей матушки, тетя завернула губы этой маленькой обезьянки и показала нам что-то вроде зернышка риса на его десне, уверяя нас, что это зуб и что из-за этого зуба она боится везти кузена туда, где холодно, ветрено, идет дождь и, само собой, отсутствует пресловутый газ.
Мы попробовали было уговорить ее, но безрезультатно. Пришлось примириться с очевидным: от прежней тети Розы не осталось и следа.
А вот охотничий инстинкт дяди Жюля никуда не делся: он заверил нас, что будет каждое утро приезжать на велосипеде, охотиться вместе с нами на дроздов, а вечером возвращаться в Марсель. Это было сказано довольно бодрым, хоть и наигранным тоном, и было ясно: он предпочел бы постоянно оставаться с нами. И тут ко мне впервые в жизни пришло понимание: взрослые никогда не делают того, что им хочется, а значит, они полные дураки.
Спускаясь по лестнице в полумраке, Поль сделал из этой подобной катастрофе ситуации вывод и мимоходом как-то равнодушно бросил:
– Когда у меня будут дети, я кому-нибудь их подарю.
В пятницу утром отец отправился на свое последнее перед каникулами дежурство в школе, где оставалось уже совсем немного школьников: напрасно стараясь согреться, они топтались на казавшемся больше обыкновенного дворе. Последние дни стоял страшный холод: бутылка с оливковым маслом в кухонном шкафу казалась наполненной ватой, и я воспользовался этим, чтобы объяснить Полю, что на Северном полюсе «всегда так по утрам».
Однако мама заранее расстроила планы внезапно наступившей зимы. Слой за слоем экипировала она каждого из нас: фланелевое белье, вязаные фуфайки, так называемые комбинезоны, то есть соединенные в одно целое жилет и брюки, блузы и куртки, шерстяные подшлемники-ушанки, в которых мы выглядели точь-в-точь как охотники на тюленей.
Я был в восторге от подобного великолепия, но позже обнаружил, что у него есть и оборотная сторона. Несметное количество пуговиц, застежек, петель и булавок имело тот недостаток, что трудно было помочиться, не промочившись: маленькому Полю это так ни разу и не удалось.
Что касается сестренки, то она представляла собой нечто вроде передвижного одеяла, из которого торчал лишь ее красный носик. Сама мама, в меховой шапочке, в пальто с воротником из меха, разумеется кроличьего, и с муфтой, походила на тех красавиц – канадских фигуристок, что были изображены на почтовом календаре, а разрумянившись от холода, была еще краше обыкновенного.
Часов в одиннадцать из школы вернулся Жозеф. На нем была – на зависть коллегам – новая охотничья куртка, попроще, чем у дяди Жюля, поскольку у отца было меньше карманов, но зато более авантажная, с медными пуговицами, украшенными изображениями собачьих голов, которые нельзя было не заметить на фоне синевато-серой материи, из которой она была сшита.
После завтрака, который мы проглотили, даже не обратив внимания на то, что едим, каждый стал готовиться к дороге.
Мама предвидела, что с окончанием теплого времени года в местной «булочной-табачной-бакалейной-галантерейной-продуктовой» лавке, мы не сможем купить ничего, за исключением разве что хлеба, муки, горчицы и соли, да еще какого-нибудь турецкого гороха в виде крупной дроби, который нужно вымачивать в течение трех суток, прежде чем варить в воде, отчего та становится пепельного цвета.
Вот почему мы взяли с собой внушительный запас съестного.
Все это богатство (включая целый батон колбасы самого высокого качества, о чем свидетельствовала опоясывающая его золотистая бумажная лента) было уложено в узлы. Подобных довольно увесистых узлов было три.
Был еще и четвертый, таких же размеров, битком набитый ватой, пустыми коробками и мятой бумагой, который я приготовил для маленького Поля, чтобы он тоже мог нести посильную ношу, не ударив в грязь лицом. Это еще не все: поскольку семейный бюджет не позволял нам обзавестись предметами домашней утвари в двух экземплярах, Бастид-Нев оказался лишенным необходимого.
А потому отец набил в огромный рюкзак много всякого хозяйственного добра, как то: кастрюли, дуршлаг, одну сковородку обычную, другую – для жарки каштанов, воронку, терку для сыра, кофеварку с кофемолкой, гусятницу, кружки, ложки, вилки, пересыпав все это каштанами, дабы заполнить пустоты и избежать грохота при транспортировке.
Весь этот груз был водружен на отцовскую спину, как фрахт на корабль, после чего мы отправились на Восточный вокзал.
Так называемый Восточный вокзал на самом деле был подземной конечной остановкой одного из городских трамваев, да и само его название представляло собой чисто марсельскую хохму. В данном случае под «востоком» не подразумевался ни Китай, ни Средняя Азия, ни даже город Тулон, речь шла всего-навсего о городке Обань (в двадцати километрах от нас), где под самыми что ни на есть западными платанами кончались рельсы дороги, ведущей на восток.
Тем не менее «вокзал» произвел на меня громадное впечатление – из-за туннеля, который брал начало именно в этом месте. Туннель уходил во мрак и был весь покрыт черной сажей, поскольку прежде здесь ходил трамвай на паровой тяге с трубой в форме воронки, который в свое время был последним словом прогресса. Но поскольку прогресс никогда не умолкает, им было произнесено другое последнее слово – «трамвай на электрической тяге».
Итак, мы дожидались трамвая, стоя, как в загоне, между перилами из железных брусьев, в середине длинной очереди, которая с появлением новых пассажиров становилась не длиннее, а плотнее.
Я до сих пор вижу такую картину: Жозеф стоит в очереди, неестественно откинувшись назад под тяжестью рюкзака, выставив вперед подбородок, опершись, словно епископ на жезл, на половую щетку, которую держит щетиной вверх…
Сперва послышался скрежет колес на поворотах, затем из ночи вынырнул мигающий огоньками трамвай и остановился перед нами.
Кондуктор в форменной фуражке открыл створки турникета, и лавина пассажиров внесла нас в трамвай.
Мать, зажатая между двумя кумушками впечатляющих размеров, ничего особенного не предприняв, оказалась сидящей на хорошем месте; а мы, мужчины, остались стоять на задней площадке, поскольку застряли там и не могли протиснуться дальше из-за габаритов нашего багажа. Отец оперся спиной о перегородку салона, и тут сковородки с воронкой – несмотря на каштаны-глушители – принялись совершенно бессовестным образом исполнять нечто напоминающее благовест.
Туннель, слабо освещенный фонарями, расставленными в нишах, состоял исключительно из поворотов, то мягких, то резких, а потому четверть часа нас порядочно трясло под непрерывный скрежет колес, пока мы наконец не покинули недра земли, вынырнув на поверхность точно в начале бульвара Шав, едва ли в трехстах метрах от пункта отправления… Отец объяснил нам, что удивительный подземный путь взялись прокладывать сразу с двух концов, так что бригады землекопов долго блуждали под землей, прежде чем встретиться, да и то встреча эта произошла благодаря счастливой случайности.
Прокатиться по свежему воздуху было приятно, дорога не заняла много времени, и я был весьма удивлен, увидев, что отец готовится покинуть трамвай: я не узнал предместье Ла-Барас.
В городе единственными признаками наступившей зимы являются гудение огня в печке, вязаный шарф, пелерина, фонарщик, нажимающий на резиновую грушу с керосином, ранние сумерки; а вот предместье, напоминающее в эту пору рисунок пером, явило мне картину настоящей зимы.
Под зимним солнцем, таким небольшим по сравнению с летним, неярким и по-монашески постным, мы заново обрели дорогу, ведущую в каникулы. Она стала намного шире: декабрь месяц, этот дорожный смотритель, пройдясь по обочинам, задушил дикие травы, обнажил подножие каменных стен. Мягкая летняя пыль, эта минеральная мука, которую одним удачным пинком ноги можно превратить во впечатляющее облако, теперь словно окаменела, и лепнина затвердевших ухабов крошилась под ногами. Поверх стен тянулись исхудавшие ветви смоковниц, свисали черные плети ломоноса. Ни цикад, ни кузнечиков, ни ящериц. Все было обеззвучено и обездвижено. И только оливы сохранили свой летний наряд, но я видел: и они озябли и не хотят говорить.
Нам не было холодно благодаря всему тому, что было на нас наверчено, и тому, что было на нас навьючено, и мы бодрым шагом продвигались по дороге, так непохожей на прежнюю. С большим аппетитом мы перекусили на ходу, отчего путь показался короче. Но стоило мне завидеть конусообразную вершину Красной Макушки, как солнце внезапно скрылось. Это был не летний закат, осиянный победными лучами, окрашенными в пурпурные и алые тона, а едва заметное, украдкой и как бы нехотя, соскальзывание под серые, бесформенные и преуныло-плоские тучи. Все разом померкло, ватное небо опустилось и накрыло, словно крышка, гребни холмов, обступивших нас подобно бескрайней морской равнине.
По дороге я все думал о своем друге. Где-то он сейчас? Мы доберемся до дому только к наступлению ночи. Может быть, мы увидим его в Бастид-Нев сидящим на каменном пороге дома и рядом с ним будет лежать холщовая сумка, набитая певчими дроздами? Или, может быть, он вышел встречать меня?
Я не смел надеяться на это в такой поздний час и при таком холоде: к фиолетовому полумраку добавилась мелкая студеная морось. И тут, сквозь водяную пыль, я увидел, как сверкнул оповещающий о близости деревни язычок пламени первого керосинового фонаря у подножия крутого подъема.
В круге желтого света, трепещущего на мокрой дороге, я различил силуэт человека в плаще с капюшоном…
Я бросился к Лили, он ко мне. Я остановился в двух шагах от него… Он тоже – и по-мужски протянул мне руку. Я крепко молча пожал ее.
Он был красным от удовольствия и волнения. А я, наверное, и подавно.
– Ты ждал нас?
– Нет, я пришел повидаться с Дюрбеком, – ответил он, указав на зеленые ворота.
– Зачем?
– Он обещал дать алюдов. Их полным-полно в иве, что растет на краю его луга.
– И он тебе их дал?
– Нет. Его не было дома… Я немножко подождал, вдруг вернется… Наверное, уехал в Камуэн.
Но в ту же секунду отворились ворота и на дорогу вышел маленький мул. Он тащил повозку с зажженными фонариками, а управлял ею Дюрбек.
– Привет честной компании! – крикнул он, проезжая мимо нас.
Лили покраснел еще больше и вдруг устремился к моей матери, чтобы освободить ее от ноши.
Я не стал больше задавать вопросы. Я был счастлив, потому что знал: он солгал. Да, он проделал долгий путь и ждал меня в эту пасмурную ночь под Рождество, стоя под моросящим ледяным дождем, чьи сверкающие капельки повисли на его длинных ресницах. Мой названый брат пришел из Ле-Белон и стоял здесь уже несколько часов; он оставался бы и дольше, до самого глухого ночного часа, дожидаясь, когда из-за поворота на блестящей от дождя дороге покажется острый капюшон его друга.
* * *
В сочельник поохотиться по-настоящему не удалось: пришлось помогать матери по дому: утеплить окна (сквозняки заводили свои ледяные мелодии!), натаскать из соснового бора валежника про запас. Однако, несмотря на все эти заботы, мы успели поставить несколько ловушек под оливковыми деревьями в замерзшей высохшей траве, усыпанной черными оливками.
Лили удалось сохранить алюдов в деревянном ящичке, где они питались промокательной бумагой: сервированные нами вместе с оливками, они соблазнили два десятка перепелов, которые, угодив с ветки прямо на вертел, украсили своим присутствием рождественский ужин, состоявшийся в тот же вечер. У потрескивающего в камельке огня мы устроили праздничный пир с традиционными тринадцатью десертами[25].
Лили – наш почетный гость – не сводил с меня глаз, стараясь во всем подражать истому джентльмену, которого видел во мне.
В углу столовой красовалась крохотная сосна, исполнявшая роль елочки: на ее ветках висела дюжина новых ловушек, охотничий нож, пудреница, заводной поезд, латунная проволока для силков, леденцы, пробковый пистолет и прочие чудеса. Лили смотрел на все это, вытаращив глаза и не произнося ни слова, ни дать ни взять кролик, которого фокусник вытащил из шапокляка. Это был поистине незабываемый вечер: на моем веку еще не было ни одного вечера, который длился бы так долго. Я до отвала наелся финиками, засахаренными фруктами и взбитыми сливками, Лили не отставал от меня и с таким азартом поглощал сласти, что к полуночи уже с трудом дышал и по несколько минут сидел с раскрытым ртом. Мама трижды предлагала нам лечь. Мы трижды отказывались, поскольку на столе еще оставался изюм, который мы принялись поглощать без особого, надо сказать, удовольствия, просто потому, что он казался нам верхом роскоши.
Ближе к часу ночи отец заявил, что «эти дети вот-вот лопнут», и поднялся из-за стола.
И в эту минуту где-то вдали послышался, или это мне только показалось, мышиный писк велосипеда дяди Жюля: поскольку был уже час ночи и на дворе трещал нешуточный мороз, я подумал, что этого не может быть и мне просто померещилось.
– Жозеф, это Жюль! Как бы чего не случилось! – в свою очередь прислушавшись, удивленно промолвила мать.
Отец тоже прислушался: поскрипывание колес донеслось и до его ушей.
– Точно, это он. Но не беспокойся: если бы что-то случилось, он бы не приехал!
Отец встал и распахнул дверь настежь: мы разглядели контуры огромного медведя, который расстегивал ремни на багажнике велосипеда. Дядя Жюль триумфатором вступил в дом: на нем была шуба с длинным ворсом и шерстяное кашне, четырежды обмотанное вокруг шеи.
– С Рождеством Христовым! – провозгласил он, стаскивая с себя кашне и кладя на стол большой сверток.
Я сразу же бросился к свертку – в нем были игрушки, ловушки, большой кулек засахаренных каштанов и бутылка ликера.
Отец поморщился, но, рассмотрев блестящую разноцветную этикетку на бутылке, кажется, успокоился.
– Ликер – это, конечно, вино, но особого сорта, это вареное вино[26], которое при кипении очистилось от алкоголя! – наставительно проговорил он.
Он налил нам по глоточку, и праздник продолжился. Мама унесла заснувшего Поля.
– Мы счастливы, что вы приехали, – сказал отец, – мы вас не ждали… Значит, вы оставили Розу с младенцем одну?
– Мой дорогой Жозеф, – отвечал дядя, – я не мог повести их на рождественскую мессу, которую ни разу в жизни не пропустил. С другой стороны, было бы неразумно возвращаться домой к часу ночи, рискуя их разбудить. И потому я решил отстоять мессу в Ла-Трей, а затем вместе с вами отпраздновать Рождество Христово!
Взявшись снимать обертку из фольги с засахаренных каштанов на глазах Лили, который в жизни своей никогда не видывал такого лакомства, я счел идею дяди превосходной.
– Месса, – продолжал дядя, – прошла просто великолепно. Огромные рождественские ясли, вся церковь утопает в веточках цветущего розмарина, детский хор исполнил поразительные по красоте рождественские провансальские песни четырнадцатого века. Очень жаль, что вас там не было!
– Я бы мог там побывать любопытства ради, – отвечал отец, – но считаю, что те, кто посещает храм лишь ради зрелища и музыки, не уважают веру других.
– Прекрасное убеждение. Впрочем, не важно, были вы там или нет. Вы все равно там сегодня побывали, – проговорил дядя, весело потирая руки.
– Как так? – поинтересовался отец с легкой иронией в голосе.
– Вы были там со всем вашим семейством, потому что я долго молился за вас!
Дядино высказывание застигло Жозефа врасплох, он не знал, что ответить, а мама дружелюбно улыбнулась дяде, который все быстрее потирал руки.
– И о какой милости просили вы Всемогущего? – придя в себя, спросил Жозеф.
– О самой прекрасной. Я молил Его не лишать вас и дальше Его присутствия и послать вам веру! – с пылом проговорил дядя, чьи глаза светились нежностью.
Отец, с неподдельным удовольствием жевавший сразу три или четыре каштана, помедлил с ответом столько времени, сколько требовалось, чтобы дожевать и торопливо проглотить, после чего приглушенным голосом произнес:
– Вам известно: я не очень-то верю в то, что сам Творец Вселенной способен снизойти до того, чтобы возиться с такими микробами, как мы, но ваша молитва – прекрасное доказательство той дружбы, которую вы питаете ко мне, и я вас от души благодарю за это.
Тут он встал, чтобы пожать руку дяди. Дядя тоже встал: они с улыбкой посмотрели друг на друга.
– С Рождеством Христовым, мой дорогой Жозеф! – проговорил дядя и, схватив отца за плечо своей большой рукой, расцеловал в обе щеки.
Дети вряд ли знают, что такое настоящая дружба. У них либо приятели, либо сообщники, они меняют друзей, меняя школу, или класс, или даже парту. В этот вечер, рождественский вечер, я испытал душевное волнение, которого прежде мне испытывать не доводилось; в эту самую минуту пламя в очаге вздрогнуло, и я увидел, как в легком дыму из него выпорхнула синяя птица с золотой головкой.
* * *
Когда наконец пришло время ложиться, мне расхотелось спать. Было уже слишком поздно. Я намеревался побеседовать с Лили, для которого мама положила в моей комнате тюфяк: но он слегка «переусердствовал» с вареным вином, в котором отец не слишком-то разбирался, и тотчас заснул, не имея даже сил раздеться.
Вытянувшись на спине, сунув руки под голову и широко раскрыв глаза, я лежал в ночи и до мельчайших подробностей припоминал все то, что произошло за этим чудесным рождественским ужином, озаренным добротой дяди Жюля, как вдруг мною овладело большое беспокойство: мне вспомнилась история с солдатом Тринкетом Эдуаром, рассказанная когда-то отцом за столом.
Этот Тринкет, двоюродный брат господина Бессона, в то время отбывал воинскую повинность в Тарасконе. Его папаша, вдовец, обожал своего единственного сына и очень беспокоился о нем. В один прекрасный день он с радостью узнал, что полковник того полка, где служил его сын, не кто иной, как его друг детства… Он тотчас вооружился своим лучшим пером и написал ему длинное письмо, в котором вспоминал старые добрые времена и рекомендовал сына как образцового солдата и единственное свое утешение на склоне лет.
Полковник, настоящий друг, тотчас вызвал к себе Тринкета Эдуара, желая заверить его в благосклонном к нему отношении, но явившийся дежурный адъютант, приняв стойку «смирно», доложил, что образцовый солдат, с чрезвычайного разрешения начальства, уже неделю назад отбыл домой, чтобы присутствовать на похоронах старого отца, поддержать безутешную мать и уладить со своими четырьмя братьями и сестрами щекотливые вопросы, связанные с наследством.
Полковника чуть не хватил апоплексический удар, на розыски образцового шутника были посланы жандармы.
Поскольку Тараскон город маленький и люди там охотно выкладывают все, что знают, Тринкета отыскали в тот же самый вечер на постоялом дворе «Три императора», где он выступил в роли четвертого: он тайком проживал там в комнате рыжеволосой местной служанки, которая снабжала его за счет заведения всем необходимым. Жандармы явились как раз в тот момент, когда он уплетал за обе щеки паштет из певчих дроздов. Образцовый солдат Тринкет Эдуар в наручниках был возвращен в казарму, где полковник посадил его на три недели на гауптвахту, кишевшую крысами. Вот пример того, что может случиться с теми, кого рекомендуешь без просьбы с их стороны.
Разумеется, мне было доподлинно известно, что Бога не существует, но все же я не был в том уверен на все сто. Уйма людей, причем весьма серьезных, посещают храм. Сам дядя часто общается со Вседержителем, а ведь дядя не сумасшедший.
В результате долгих размышлений на эту тему я пришел к выводу, правда не совсем разумному, что Господь, не существующий для нас, существует для других, точно так же как английский король существует для одних англичан.
Но в таком случае дядя повел себя довольно неосторожно, обратив внимание Господа на нас: ведь если тот станет разбираться, кто мы и что мы – а может быть, он как раз этим и занимается в данную минуту, – наверняка, он не на шутку разгневается, как тот полковник, и, вместо того чтобы ниспослать нам веру, возьмет да и обрушит на наши головы три или четыре удара грома, от которых обвалится наш дом. Однако, слыша за стеной мирный и доверчивый храп дяди Жюля, я успокоил себя мыслью, что почитаемый им Господь отнюдь не устроит ему подобной гадости и что, следовательно, я могу беззаботно заснуть, по меньшей мере в эту ночь, что я сразу и сделал.
Охота на другой день не задалась, поскольку отец и дядя отправились на нее без нас. Проснувшись к полудню, мы с Лили позавтракали традиционным супом «эго-булидо»[27], то есть несколькими сваренными в воде головками чеснока, и довольно вяло провели вторую половину дня у огня, покуда маленький Поль, которого уберегла от наших излишеств врожденная гиперсомния, преспокойно догрызал последние засахаренные каштаны и подтрунивал над нами, называя нас головастиками-толстолобиками. Но следующая ночь поправила наше пошатнувшееся здоровье, и началась по-настоящему зимняя охота.
* * *
Эти восемь дней рождественских каникул прошли как во сне. Но все было иначе, не так, как летом: мы пребывали в полном смысле слова в другой стране.
Утром, в шесть часов, было еще темно. Я вставал, трясясь от холода, и спускался вниз, где разжигал огонь из сухих дров, затем варил кофе, самолично смолотый накануне для того, чтобы утром не будить маму. Отец в это время брился. Через какое-то время слышался скрип велосипеда дяди Жюля, точного, словно пригородный поезд: нос у него был красный, как земляника, усы увешаны крохотными льдинками, он энергично, как очень довольный человек, потирал руки.
Мы завтракали, сидя у огня и разговаривали вполголоса.
Потом до нашего слуха доносился топот шагающего по замерзшей дороге Лили.
Я наливал ему большую чашку кофе, от которой он сначала отказывался: «Я уже пил», что было неправдой.
Затем мы вчетвером в темноте отправлялись на охоту.
Фиолетовый бархат небосвода вызвездило мириадами звезд. Это были уже не мягкие летние звезды. Светлые и холодные, они сурово мигали, похожие на кристаллы, образовавшиеся под действием ночного мороза… Над Красной Макушкой, еле различимой во мраке, висела, словно уличный фонарь, огромная планета, такая близкая, что казалось, можно увидеть космическое пространство за ней. Ни звука, ни шепота; в заледеневшей тишине слышен только звонкий стук наших ботинок, ступающих по твердым рождественским камням.
Куропатки стали недоверчивыми, в морозном воздухе иначе звучало эхо, и приблизиться к ним было нелегко. И все же отцу с дядей удалось подбить четырех зайцев и немалое количество кроликов, а также всполошить и подстрелить нескольких вальдшнепов. Что касается наших ловушек, они так регулярно снабжали нас певчими дроздами и жаворонками, что заведомый ежедневный успех лишил охоту привлекательности.
И все же мне довелось испытать радость и гордость: я добил сарыча размером с зонтик, если смотреть на него в профиль. Птица-убийца парила высоко в облаках, отец из ложбины Лансло выстрелил в нее, она пала вниз и, лежа на спине когтями вверх, смотрела, как я подхожу к ней. Ее желтые глаза пылали ненавистью. Вообразив себе, что именно она этим летом в пещере собиралась выклевать мне глаза, я беспощадно убил ее, забросав камнями.
Мы возвращались домой, когда темнело: лежа плашмя на полу перед очагом, где пылали смолистые ветки, мы сражались в шашки, в домино, в «гуся»[28], пока отец играл на флейте; иногда вся семья собиралась за столом, чтобы сразиться в лото.
В половине седьмого нанизывали добычу на вертел, и рыжий жир нежных дроздов пропитывал толстые куски поджаренного деревенского хлеба…
По утрам казалось, что этим неподражаемым и чудесным дням не будет конца, но, когда пробил час отъезда, они вдруг показались такими скоротечными.
В последний вечер, упаковав вещи, мама, видя, как мне грустно, сказала:
– Жозеф, нужно бы приезжать сюда по субботам.
– Когда проведут трамвайную линию, пожалуй. Но до тех пор…
– Когда проведут трамвайную линию, у детей отрастут усы. Взгляни на них: они никогда не выглядели такими здоровыми, а я никогда не ела с таким аппетитом.
– Вижу, – задумчиво отвечал отец. – Но дорога занимает целых четыре часа!.. Мы добирались бы до места в восемь вечера в субботу, а в обратный путь нам приходилось бы отправляться в воскресенье во второй половине дня.
– А почему не в понедельник утром?
– Потому что мне нужно быть в школе ровно в восемь, ты же знаешь.
– А я кое-что придумала, – загадочно произнесла мать.
– Что именно?
– Увидишь.
Отец удивился.
– Знаю, о чем ты думаешь, – поразмыслив, добавил он.
– Нет, – ответила мать. – Не знаешь. Не задавай мне больше вопросов. Это мой секрет. Ты узнаешь обо всем, только если мне удастся кое-что.
– Хорошо, – согласился отец, – подождем.
Идея у нее была неплохая.
На рынке она часто встречала жену господина директора: это была высокая красивая женщина, которая носила длинное золотое колье на шее и золотые часы на шелковом поясочке плиссе.
Моя мать, робкая и худенькая, скромно приветствовала ее издалека. Но так как ради своих детей она была способна на все, то вскоре она стала здороваться более уверенно, затем держаться поближе и в конце концов коснулась руки госпожи директорши в ящике с картошкой. У той было доброе сердце, она отсоветовала маме покупать эти клубни, объяснив, что они тронуты морозом, и отвела ее к другой торговке. Два дня спустя они уже вместе ходили по рынку, и на следующей неделе госпожа директорша пригласила маму к себе домой попить английский настой под названием чай.
Жозеф знать ничего не знал об этом знакомстве и был крайне удивлен, когда прочел на школьной доске объявлений постановление господина директора: всемогущее начальство, в силу какой-то неожиданной причуды, решило вменить моему отцу в обязанность присматривать за школьниками в четверг утром, а взамен учителям пения и физкультуры принимать на своих занятиях его учеников в понедельник утром, в результате чего мой отец мог быть в этот день свободен до половины второго.
Так как мужчинам не дано понимать что-либо в женских интригах, он никогда бы не узнал правду, если бы господин Арно, который всегда был в курсе всего происходящего в школе, поскольку близко знал горничную господина директора, не поведал ему на одной из перемен о подноготной этого дела.
И тогда перед Жозефом встали две проблемы: во-первых, должен ли он отблагодарить своего начальника? Он объявил за столом, что ничего подобного делать не собирается, потому что это означало бы признать, что господин директор перестроил расписание занятий в государственной школе в угоду одному из ее учителей.
– Тем не менее, – недоумевающе рассуждал он, – надо что-то придумать…
– Успокойся, я уже придумала, – улыбнулась мать.
– Что ты собираешься делать?
– Я послала красивый букет роз госпоже директорше.
– Хо-хо! – удивился он. – Боюсь, как бы это не показалось… ну, слишком фамильярным. Или слишком претенциозным… Конечно, она кажется очень симпатичной… Но как она отнесется к этому, вот в чем вопрос…
– Уже отнеслась, и прекрасно. И даже сказала мне, что я «золотце»!
– Как, ты с ней говорила? – вытаращил глаза отец.
– Ну разумеется! – рассмеялась мать. – Мы каждый день ходим вместе на рынок, и она меня зовет Огюстиной.
Тут отец, сняв очки, протер их краешком скатерти и снова надел для того, чтобы рассмотреть маму. В его взгляде было столько изумления. Это и была вторая его проблема: каким чудом?.. Пришлось ему рассказать все в подробностях, начиная с ящика с картошкой… В конце повествования он молча несколько раз покачал головой. После чего во всеуслышание заявил:
– Она обладает гениальной способностью вести интригу!
В его голосе слышались восхищение и возмущение одновременно.
* * *
Вот как получилось, что начиная с Масленицы мы почти каждую субботу поднимались на свою «виллу» в холмах.
В феврале дороги развезло: грязь хлюпала и брызгала из-под ног во все стороны. В апреле стены вдоль дороги как-то внезапно украсились пышной зеленой растительностью, так что кое-где над головой образовались зеленые своды. Путь наш пролегал среди красот, но был не близок.
С учетом обычного нашего груза и коротких передышек на отдых в теньке путешествие в один конец занимало четыре часа. Когда наконец мы добирались до «виллы», все были совершенно измотаны. Особенно мать: иногда ей приходилось всю дорогу нести на руках спящую сестренку и потому в конце пути она была без сил… Из-за ее побледневшего лица и черных кругов под глазами я нередко отказывался проводить выходные в гарриге. Под предлогом покалывания в боку или ужасной головной боли я немедля ложился вечером в постель. Но ночью в своей спаленке, когда я закрывал глаза, мои дорогие холмы представали передо мной, и я засыпал под оливой среди кустиков благоухающей лаванды, с которыми в эти выходные мне не суждено было свидеться.
Одним прекрасным апрельским субботним днем, часов в пять, наш уставший, но веселый караван шествовал меж двух каменных стен, золотых от солнца. И вдруг впереди, метрах в тридцати, открылась маленькая дощатая дверь. Из нее вышел мужчина и запер ее на ключ.
Когда мы проходили мимо него, он вдруг бросил взгляд на моего отца и воскликнул:
– Господин Жозеф!
На нем была форменная одежда темного цвета с медными пуговицами и фуражка, какие носят железнодорожные служащие. У него были черные тонкие усики и большие карие глаза, сверкнувшие от удовольствия.
Мой отец также взглянул на него, рассмеялся и сказал:
– Бузиг! Что ты тут делаешь?
– Что я тут делаю? Работаю, господин Жозеф. Я обходчик на Марсельском канале, в нашем ведомстве это называется багорщик, и, признаться, это место получил не без вашей помощи! Это ведь вы постарались, чтобы я сдал экзамен на аттестат об окончании школы! Я уже семь лет как багорщик.
– Багорщик? – переспросил отец. – А при чем тут, собственно, багор?
– Ха! – торжествующе воскликнул Бузиг. – На этот раз кое-чему научу вас я! Багорщик – это тот, кто ведет наблюдение за каналом.
– Раз ты багорщик, значит у тебя есть багор? – поинтересовался Поль.
– Дело не в этом! – непонятно почему подмигнув нам, ответил Бузиг. – Главное, что у меня есть большой ключ, – он показал нам висевший у него на поясе огромный Т-образный трубчатый ключ, – и вот эта маленькая черная книжка. Я открываю и закрываю задвижки, проверяю напор и расход воды… Если я вижу трещину в облицовке или замечаю, что накопился ил либо расшаталась арматура мостика, я все это записываю в книжку и вечером подаю рапорт. Если я вижу в воде дохлую собаку, я ее вылавливаю, а если люди загрязняют воду или купаются в канале, составляю протокол.
– Ого! – воскликнул отец. – Да ты, я смотрю, важный чин!
Бузиг, опять подмигнув нам, довольно усмехнулся.
– К тому же, – добавил отец, – это не слишком утомительно.
– О нет, – согласился Бузиг. – Это далеко не каторга. – И добавил скорбным тоном, словно собрался заплакать: – Я же, согласитесь, добрейший малый, кто же пожелает сослать меня на каторгу? Я никогда никому не причинял зла, разве что орфографии! А как вы, господин Жозеф? Вижу, у вас прибавление в семействе, а госпожа Жозеф все такая же тоненькая, но по-прежнему очаровательная. – Положив руку на мою голову, он поинтересовался: – А куда вы идете, да еще с таким грузом?
– По правде сказать, – ответил отец не без гордости, – мы направляемся в наш деревенский дом, чтобы провести там воскресенье.
– Смотри-ка! – обрадовался Бузиг. – Вы разбогатели?
– Да нет, – отвечал отец. – Но меня повысили и изрядно прибавили мне жалованье.
– Тем лучше, – сказал Бузиг, – мне это очень приятно. Ну-ка, дайте мне часть ваших узлов, хочу проводить вас!
Он взял у меня из рук заплечный мешок с тремя килограммами мыла, а у брата – холщовый узел с сахаром и лапшой.
– Это очень мило с твоей стороны, Бузиг, – сказал отец, – но нам еще идти и идти.
– Держу пари, вы идете в Акат.
– Дальше.
– Значит, в Камуэн?
– Еще дальше.
Бузиг широко раскрыл глаза:
– Неужели в Ла-Трей?
– Наш путь лежит через эту деревню, но мы идем еще дальше.
– Но после Ла-Трей ничего нет!
– Это не так, после Ла-Трей есть Ле-Беллон!
– Ну и ну! – ошеломленно промолвил Бузиг. – Канал там не проходит и никогда не будет проходить. А откуда вы берете воду?
– Из цистерны и из колодца.
Бузиг, сдвинув фуражку на затылок, чтобы легче было почесать голову, оглядел поочередно нас всех.
– А где вы сходите с трамвая?
– В Ла-Барас.
– О, бедняжки! – Он быстро прикинул что-то в уме. – Получается как минимум восемь километров пешком!
– Девять, – уточнила мать.
– И часто вы совершаете этот путь?
– Чуть не каждую субботу.
– О, бедняжки! – повторил он.
– Пожалуй, далековато, но когда мы там, мы ни о чем не жалеем…
– А вот мне всегда жаль себя, когда приходится прикладывать большие усилия, – веско заявил Бузиг. – Но я кое-что придумал! Сегодня вам не придется топать девять километров. Вы пойдете со мной, будем держать путь вдоль канала, который по прямой пересекает все эти имения. Через полчаса мы будем в Ла-Трей!
Вынув из кармана блестящий ключ, он открыл дверь, которую незадолго перед тем запер.
– За мной! – скомандовал он и шагнул вперед.
Но отец остановился на пороге:
– Бузиг, ты уверен, что это законно?
– Что вы имеете в виду?
– Ты распоряжаешься этим ключом и имеешь право проходить по чужим землям в силу своего должностного положения. Но имеем ли мы право следовать за тобой?
– А кто об этом узнает?
– Вот видишь! – сказал отец. – Раз ты надеешься, что нас никто не увидит, значит тем самым признаешь, что ты не имеешь на это права.
– Но что в этом дурного? Я встретил своего бывшего учителя и горжусь тем, что могу показать ему место, где работаю.
– Это может тебе дорого стоить. Если твое начальство узнает…
Бузиг два-три раза подряд как-то загадочно подмигнул нам, затем два раза пожал плечами, после чего, усмехнувшись, покачал головой и наконец вымолвил:
– Раз приходится во всем признаться, вот что я вам скажу: случись что, я все улажу, поскольку моя сестра замужем… ну или вроде того… за одним из членов генерального совета департамента!
Это фраза сначала показалась мне загадочной, но потом я вдруг представил себе, как его сестра, которая замужем или вроде того, выходит из мэрии под руку с генералом в парадной форме и он дает ей ценные советы.
Так как мой отец, кажется, все еще колебался, Бузиг добавил:
– К тому же это она сделала так, чтобы Бистань был произведен в заместители директора канала, так что, посмей Бистань хоть в чем-то упрекнуть меня, она его уложит на месте одним ударом подголовного валика.
Я моментально проникся восхищением перед этой храброй особой, способной сокрушать врагов своего брата, даже не поранив их. Мой отец, по всей видимости, был того же мнения, поскольку мы двинулись за Бузигом и вступили на чужую территорию.
Канал протекал по верху невысокой насыпи меж двух изгородей из приземистых деревьев и кустарников, торчавших из густых зарослей розмарина, фенхеля, ладанника и ломоноса.
Бузиг стал нам объяснять, что вся эта буйная растительность беспредельно ценна, поскольку скрепляет почву насыпи, поэтому хозяевам имений запрещено избавляться от нее.
Цементное русло канала имело в ширину не больше трех метров; в прозрачной воде отражались белоснежные облака, плывущие по апрельскому небу.
Мы шли гуськом по узкой тропинке между берегом канала и цветущей изгородью.
– Вот и мой канал, как он вам нравится?
– Очень красиво, – ответил отец.
– Да, очень красиво; но канал уже начинает ветшать… Взгляните на облицовку берегов: повсюду сверху донизу идут трещины… Так теряется немало воды, и местами это уже не канал, а дуршлаг.
Последнее слово поразило Поля, который несколько раз повторил его.
Подойдя к маленькому мостику, Бузиг гордо вымолвил:
– А вот тут уже год, как берег обновлен. Это я позаботился о том, чтобы его обновили с помощью влагостойкого цемента.
Отец стал рассматривать берег, который казался и впрямь совершенно новым.
– Однако тут трещинка, – вдруг заявил он.
– Где? – забеспокоился Бузиг и нагнулся к воде.
Указав на тончайшую серую черточку, отец принялся скоблить ее кончиком ногтя. Цемент стал крошиться; перетирая крошки, отец вгляделся в них и заявил:
– Это не влагостойкий цемент. Да и доля песка завышена.
Бузиг выпучил глаза:
– Как! Вы уверены?
– Уверен! Мой отец работал каменщиком, так что я в этом деле неплохо разбираюсь.
– Ого! – отозвался Бузиг. – Я напишу обо всем этом в своем рапорте, и подрядчику, который это допустил, не поздоровится!
– Если не заделать эту трещинку, через месяц она будет шириной с четыре пальца…
– Это дуршлаг! – вдруг завопил Поль.
– Займемся этим безотлагательно, – пообещал Бузиг.
Отщипнув кусочек цементного покрытия, он завернул его в листочек, вырванный из записной книжки, и пошел дальше.
Мы пересекли четыре огромных имения.
В первом из них возвышался замок с башенками в окружении клумб с цветами, а дальше шли виноградники и фруктовые сады.
– Это замок какого-то дворянина. По всей видимости, он болен, никто его не видел, – пояснил Бузиг.
– Если этот аристократ встретит нас на своей земле, он вряд ли будет доволен. Я лично не очень люблю дворян, – проговорил отец.
Обучение в стенах педагогического училища в Экс-ан-Провансе наложило на отца неизгладимый отпечаток. Однако кое-кто из аристократов, с которыми он был знаком по книгам, снискал его благосклонность: Дюгеклен, Баярд, Латур д’Овернь, Шевалье д’Ассас и особенно король Генрих Четвертый – последний был ему дорог, поскольку скакал на четвереньках, чтобы рассмешить своих маленьких детей. Но в целом отец считал дворян людьми наглыми и жестокими, подтверждением чему служил тот факт, что им нередко отрубали головы. Ведь чужие бедствия никогда не внушают нам доверия, и ужас, испытываемый перед резней, обезображивает и самих жертв.
– Он граф, – уточнил Бузиг, – о нем здесь сложилось неплохое мнение.
– Может быть, потому, что его не знают. Но у него на службе наверняка есть держиморды.
– Испольщик и сторож. Испольщик – добрейший старик, сторож тоже не из молодых. Это великан. Я несколько раз встречал его, но он со мной не заговаривал. «Здрасте», «до свидания», вот и все!
Мы благополучно добрались до второй двери. Канал протекал под низенькой аркой, длинные пряди постенницы свисали с нее, ложились на поверхность воды и словно уносились вдаль вместе с течением. Бузиг щелкнул замком, и мы оказались в девственном лесу.
– А это замок Спящей красавицы. Ставни всегда закрыты, я никогда здесь никого не встречал. Вы можете петь, кричать – никакой опасности, что кто-то увидит или услышит вас, – разъяснил нам наш провожатый.
Заброшенные поля заросли земляничником и терпентинными деревьями; посередине парка из вековых сосен располагалось огромное квадратное строение; добраться до него казалось невозможным, поскольку подлесок состоял из тесных рядов колючего дрока (того самого аржераса с провансальских холмов). Маленький Поль был глубоко поражен тем, что за закрытыми ставнями замка спит сама Спящая красавица и что благодаря Бузигу мы одни знаем об этом.
Потом на нашем пути оказалась еще одна ограда и еще одна дверь: мы пересекали территорию третьего поместья.
– Этот замок принадлежит нотариусу, – пояснил Бузиг, – смотрите, он всегда закрыт, кроме августа. И живет тут только семья крестьян. Я часто встречаю дедушку: он ухаживает за этими великолепными сливовыми деревьями. Он глухой как тетерев, но очень приветливый… Он все время говорит о войне семидесятого года и требует, чтобы нам вернули Эльзас и Лотарингию.
– Истый патриот своей страны, – прокомментировал отец.
– О да! – согласился Бузиг. – Жаль только, что выжил из ума.
Мы так никого и не встретили, но нам посчастливилось лицезреть сквозь изгородь нижнюю заднюю половинку крестьянина, обрабатывающего грядки с помидорами.
Бузиг открыл еще одну дверь: она была пробита в стене из тесаного камня высотой не меньше четырех метров; поверху стена была утыкана острыми черепками, которые свидетельствовали о не слишком развитом чувстве гостеприимства хозяина данного имения.
– Этот замок самый большой и самый красивый из всех. Но хозяин живет в Париже, и тут никогда никого нет, кроме сторожа… Посмотрите сами!
Сквозь изгородь мы увидели две высокие башни, стоящие по обе стороны замка, который был высотой по меньшей мере с десятиэтажный дом. Все окна были закрыты, кроме нескольких мансардных, расположенных под самой крышей из грифеля.
– Там наверху квартирка сторожа… Оттуда он и следит за мародерами, которые наведываются грабить фруктовый сад…
– В эту минуту он, может быть, следит за нами? – заметил отец.
– Вряд ли. Сад с той стороны. Туда он по большей части и смотрит.
– Он тоже твой друг?
– Не сказал бы. Это бывший унтер-офицер.
– Они, как правило, не отличаются хорошим характером.
– Это как раз тот самый случай. Но он постоянно пьян в доску и к тому же прихрамывает. Если бы он нас увидел, что вряд ли нам грозит, вам нужно было бы только ускорить шаг, ему бы ни за что вас не догнать, даже с его псом!
– У него есть пес? – обеспокоенно спросила мать.
– Да, – успокаивающе ответил Бузиг, – пес у него огромный, но ему не меньше двадцати лет, он кривой и еле-еле передвигается: хозяину приходится тащить его за собой на цепи. Уверяю вас, никакой опасности нет. Но чтобы успокоить вас, пойду взгляну. Ждите меня за этим кустом!
В защищающей нас от чужих взглядов изгороди зияла большая дыра. Бузиг решительно прошел вперед и остановился посередине опасного пространства. Засунув руки в карманы, сдвинув фуражку на затылок, он долго вглядывался сначала в замок, а потом во фруктовый сад.
Мы ждали, сгрудившись, словно овцы, под кустом земляничника. Мать побледнела и отрывисто дышала. Поль перестал грызть кусок сахара, украденный им из того свертка, который он же и нес. Отец, вытянув голову вперед, вглядывался во что-то сквозь листву.
– Путь свободен. За мной! – наконец-то повелел Бузиг и добавил: – Только слегка пригнитесь!
Отец, сложившись в три погибели, так что его поклажа волочилась по земле, пошел первым.
Поль, согнув спину под прямым углом, как столетний старик, буквально исчез из виду, скрытый травой. Я, в свою очередь, двинулся вперед, крепко прижимая лапшу к принявшему горизонтальное положение туловищу. Наконец тронулась с места и мать: не привыкшая к гимнастическим упражнениям, она как-то неловко пошла вперед, опустив голову, вся сжавшись, похожая на лунатика на краю крыши. Несмотря на нижнюю юбку и корсет на китовом усе, она выглядела как тростинка…
Нам пришлось еще два раза совершать тот же маневр. Наконец мы добрались до ограды. Бузиг отпер маленькую дверь… нас ждал радостный, восхитительный сюрприз: мы оказались напротив деревенского кафе «Четыре времени года».
– Это просто невероятно! – восторженно воскликнула мать.
– Однако так оно и есть! – довольно проговорил Бузиг. – Мы срезали крюк, который делает дорога!
Отец между тем вытащил из карманчика на груди серебряные часы:
– Мы за двадцать четыре минуты одолели путь, который обычно проходим за два часа сорок пять минут.
– Я же вам сказал! – воскликнул Бузиг. – Этот ключ быстрее автомобиля.
Мне показалось, что он слегка преувеличивает, поскольку недавно прочел в газете под фотографией автомобиля фирмы «Панар» нечто немыслимое: «Этот автомобиль проезжает один километр за одну минуту».
– Я же вам сказал! – повторил Бузиг. – Это проще простого! А теперь опрокинем по стаканчику!
Он отважно ступил на террасу кафе, окруженного платанами, на которых уже появились первые листочки.
Владелец заведения, здоровенный мужчина с густыми рыжими усами, усадив нас за железный стол, принес бутылку белого вина.
Мне было интересно, как поступит отец? Откажется от столь щедрого предложения Бузига или выпьет белое вино прямо на наших изумленных глазах?
– А что, любезный, нет ли у вас минеральной воды «Виши»? – обратился он к хозяину.
Тот недоумевающе посмотрел на него.
– Если вы непременно этого хотите, у меня в погребе найдется бутылка, – наконец проронил он.
– Э-э! – как-то очень забеспокоился Бузиг. – У вас что-то с печенью?
– Нет, но я люблю смешивать белое вино с газированной водой. Получается своего рода шампанское с весьма приятным вкусом, – нашелся отец.
Я был в восторге от гениального рецепта, позволяющего уменьшить концентрацию яда, смешав его с целебной водой, той, что продается в аптеках. А вот Бузиг без всякой опаски опрокинул подряд два стакана чистого белого вина.
Между тем мать не переставала восторгаться тем, как мало времени ушло у нас на дорогу.
– А теперь, госпожа Жозеф, – сказал Бузиг, широко улыбаясь, – позвольте мне сделать вам подарок. – Хитро подмигнув нам, он вынул из кармана тот самый отливающий серебром ключ. – Берите, госпожа Жозеф, это вам.
– Зачем? – поинтересовался отец.
– Чтобы экономить по два часа каждую субботу плюс еще два часа в понедельник утром! Берите. У меня есть другой, – проговорил он, демонстративно достав из кармана точно такой же ключ.
Отец медленно, три раза подряд, повел головой слева направо:
– Нет, это невозможно.
Мать положила ключ на стол.
– Но почему? – удивился Бузиг.
– Потому что я тоже нахожусь на государственной службе. Представляю себе выражение лица господина инспектора академии, если ему доложат, что один из его учителей, вооружившись поддельным ключом, незаконно разгуливает по чужим владениям!
– Но ключ не поддельный! Он служебный!
– Тогда и подавно! – настаивал отец. – Ты не имеешь права передавать его посторонним лицам.
– Но никто вам никогда ничего не скажет! Вы же сами видели, как все прошло! – разнервничался Бузиг.
– Никто ничего не сказал, потому что мы никого не встретили. Но ты сам сказал, когда мы проходили по «Спящей красавице»: «Здесь нам ничто не грозит». Значит, в других местах что-то нам все же грозило!
– Ба, святой вы человек! – воскликнул Бузиг. – «Грозит» не значит «катастрофа»! Этим я хотел сказать, что в самом неблагоприятном случае ворчун и мог бы подать жалобу в службу канала, но дальше она не пошла бы, поскольку моя сестра… Не забывайте про мою сестру!
Я полностью придерживался его мнения. Но не отец.
– Я отнюдь не сомневаюсь в способностях и влиятельности твоей сестры, хотя меня и смущает, что она занимается не слишком почетной деятельностью. Но у меня есть принципы, – сурово произнес он.
– Ой, ой, ой! – взвился Бузиг. – Принципы, ой, ой, ой! – И тоном взрослого, обращающегося к ребенку, добавил: – Ну что вы, господин Жозеф, какие тут принципы?
– Мне было бы стыдно проникать тайком в чужие владения, да еще с целью сугубо частного порядка, только ради своих личных интересов; мне кажется, это было бы недостойно школьного учителя, преподающего уроки нравственности… А если бы вот этот паренек, – он положил руку на мое плечо, – увидел своего отца, крадущегося, как какой-нибудь мародер, вдоль изгороди, что бы он подумал, а?
– Я бы подумал, что так короче, – обронил я.
– Совершенно верно, – подтвердил Бузиг.
– Слушай, папа, – вмешалась в разговор мать, – я знаю многих, которые согласились бы, не колеблясь ни минуты. Два часа в субботу вечером и два часа в понедельник утром – выигрыш в четыре часа!
– Я предпочитаю идти лишние четыре часа и сохранить уважение к самому себе.
– И все же жестоко заставлять детей маршировать столько времени, как будто они уже вступили в Иностранный легион, – печально проговорил Бузиг, – да с таким снаряжением, да еще с их тонкими, как вермишелины, ногами… Госпожа Жозеф тоже не отличается богатырским сложением.
– Ходьба – самый здоровый из всех видов спорта, – возразил на это отец.
– А также самый утомительный, – вздохнула мать.
– Слушайте, вот что я придумал, – вдруг снова загорелся Бузиг, – это все уладит: я дам вам фуражку, какие носят служащие канала. Вы будете идти впереди, а если кто вас и увидит издалека, вы ему помашете рукой в знак приветствия, и никто вас ни о чем не спросит.
– У тебя определенно наклонности рецидивиста! – возмутился Жозеф. – Фуражка служащего канала на голове у школьного учителя! Неужели ты не понимаешь, что это может довести до каталажки?
– А моя сестра? Вы опять забываете про мою сестру!
– Ты бы поменьше говорил о ней! Я благодарю тебя за предложение, которое свидетельствует о твоей благодарности и дружбе. Но должен отказаться, не настаивай!
– Тем хуже, очень жаль… – Налив себе солидную порцию белого вина, он вздохнул: – Жаль из-за детей и госпожи Жозеф… Жаль. Я хотел оказать вам услугу. Но прежде всего, прежде всего, от этого пострадает сам канал.
– Канал? Что ты хочешь сказать?
– Как! – вскричал Бузиг. – Значит, вы не отдаете себе отчета в том, насколько важно сказанное вами по поводу цемента?
– Верно, – неожиданно вмешалась мать, приняв озабоченный и очень серьезный вид, как у какого-нибудь специалиста в той или иной технической отрасли, – ты, кажется, не вполне отдаешь себе отчет!
– Да будет вам известно, – пылко продолжал Бузиг, – подрядчик, который переборщил с песком, будет обязан возвратить нам по крайней мере две тысячи франков, а может быть, и того больше – все две тысячи пятьсот! Я непременно доложу обо всем по начальству, и мошенник свое получит. А благодаря кому? Благодаря вам!
– Я сказал это просто так, – возразил отец. – Я не уверен до конца…
– Да нет же! Нет! Вы уверены! Впрочем, все это будет проверено в лаборатории. А ведь вы только один раз приблизились к каналу и не очень внимательно присматривались, потому что вам было не до того… А если бы вы бывали здесь дважды в неделю!.. О-ля-ля!
Он повторил это «О-ля-ля!» с каким-то мечтательным восторгом.
– Значит, ты полагаешь, что мое тайное – и бесплатное – сотрудничество являлось бы своеобразной платой за право прохода? – задумчиво произнес отец.
– Оно сторицей, если не больше, окупило бы это право! – воскликнул Бузиг. – А что до меня, – добавил он, – если бы вы по понедельникам посылали мне записочку в виде небольшого отчета, я сразу же переписывал бы его – разумеется, добавив пару-тройку орфографических ошибок – и передавал начальству! Вы представляете себе, как упрочилось бы мое положение? Немножко вы, немножко сестра, – глядишь, через год я стану начальником отдела!
– Жозеф! Прежде чем отказаться, ты бы хорошенько подумал, – посоветовала мать.
– Что я и делаю, – произнес отец и отхлебнул от своего коктейля.
– Это же дуршлаг! – вмешался вдруг в разговор взрослых Поль.
– Если бы мы могли добираться до места к семи часам вечера, это было бы сказкой… – мечтательно проговорила мать. – К тому же, – добавила она, обращаясь к Бузигу, – сколько бы мы сэкономили на обуви для детей!
– И не говорите, – подхватил Бузиг, – у меня тоже двое мальчишек, а сколько стоит пара ботинок, мне прекрасно известно…
Все надолго замолчали.
– Верно и то, – наконец заговорил отец, – что если я смогу быть полезным обществу, пусть даже действуя не совсем законно, то… С другой стороны, если я в силах тебе помочь…
– Помочь мне! – воскликнул Бузиг. – Да это может изменить всю мою карьеру!
– Я в этом не уверен, однако подумаю. – Отец взял ключ и с минуту смотрел на него. – Еще не знаю, воспользуюсь ли им… Посмотрим на следующей неделе. – С этими словами он сунул ключ в карман.
В понедельник утром, когда мы возвращались в Марсель, отец отказался воспользоваться волшебным ключом; он некоторое время смотрел, как тот сверкает у него на ладони, затем опять сунул его в карман, приговаривая:
– С одной стороны, спускаться намного легче, чем подниматься; с другой стороны, мы пойдем налегке, значит не стоит и рисковать сегодня.
Так что мы пошли обычным маршрутом. Но в тот же вечер, после уроков, отец на полчаса исчез куда-то: когда он появился снова, под мышкой у него было три или четыре книги. Сколько их было точно, не скажу, поскольку это были просто кипы страниц с напечатанным текстом, чьи пожелтевшие, обветшавшие от времени края напоминали кружева на панталонах моей бабушки.
– Получить необходимые знания не помешает, – бросил он мне.
Это были разрозненные тома: «Каналы и мосты-водоводы», «Орошение бесплодных земель» и «Водонепроницаемые покрытия», как это понималось в эпоху господина де Вобана.
– Именно в старых книгах, – объяснил отец, – и можно почерпнуть самый что ни на есть здравый смысл и лучшие из проверенных рецептов.
Разложив на кухонном столе эти почтенные реликвии, он, не откладывая в долгий ящик, принялся за дело.
В следующую субботу, в пять часов, мы оказались перед первой дверью. Отец решительно открыл ее: он находился в полном согласии со своей совестью, поскольку переступал запретный порог отнюдь не для того, чтобы сократить слишком длинную дорогу, а чтобы уберечь от разрушения ценнейший канал и тем самым спасти Марсель от засухи, вслед за которой неизбежно последовали бы и чума, и страшная азиатская холера.
И все же, опасаясь сторожей, он забрал у меня свертки и произвел меня в разведчики.
Я шел первым вдоль изгороди, насколько было можно прячась за листвой.
Глядя в оба и держа ухо востро, я проходил метров двадцать и останавливался, прислушиваясь к тишине… Наконец подавал знак маме с Полем, ждущим моего сигнала под самым большим кустом. Они бежали ко мне, и мы прижимались друг к другу. Последним появлялся отец с записной книжкой в руках. Приходилось ждать его некоторое время, потому как он что-то добросовестно записывал в нее.
В этот раз мы никого не встретили, и единственное достопамятное событие опасного перехода было связано с Полем.
Мама, приметив, что он как-то по-наполеоновски держит правую руку под непромокаемым плащом, спросила вполголоса:
– Ты не поранился?
Не открывая рта и не глядя на нее, он отрицательно помотал головой.
– Ну-ка, – попросила мама, – покажи руку!
Он молча послушался: его крохотные пальчики сжимали рукоятку острого ножа, украденного им из ящика кухонного шкафа.
– Это для сторожа, – хладнокровно объяснил он. – Если он подойдет к нам и захочет задушить папу, я зайду со спины, всажу ему нож прямо в ягодицы и убью наповал!
– Ты еще маленький, дай сюда! – поздравив его с отважным намерением, попросила мама.
Он охотно отдал ей грозное оружие и при этом дал ценнейший совет:
– А раз ты большая, ткни ему прямо в глаз!
Сторожа из последнего имения мы боялись пуще всех прочих, поэтому прошли по охраняемым им землям, дрожа от страха, как зайцы. К счастью, он не появился на нашем пути, и два часа спустя, сидя за круглым столом, мы благословляли имя Бузига.
За ужином ни о стороже, ни о его псе не было сказано ни слова, но, когда мы с Полем легли спать в нашей спаленке, разговор зашел о них. Мы долго рассматривали различные способы, как убрать с нашего пути врага: аркан, глубокая яма с десятком наточенных ножей, всаженных в землю острием вверх; силки из стальной проволоки, набитая порохом сигара. Полю, который пристрастился к тому времени к приключенческим романам, пришла в голову жестокая мысль воспользоваться стрелами из тростника, отравленными способом погружения в могилы на деревенском кладбище. Так как я оспаривал действенность данного способа борьбы со сторожем, он сослался на пример бразильских индейцев, которые хранят несколько месяцев труп сдохшего дедушки, чтобы всегда иметь под рукой вонючие жидкости, накопившиеся внутри покойного, дабы было чем отравить стрелу.
Я заснул под его рассказ и в лучезарном сне увидел, как сторож с обезображенным взрывом сигары лицом, сплошь утыканный стрелами, торчащими из его тела, словно иглы дикобраза, жутко корчится под действием яда и наконец валится в яму, где его поджидают шесть остро наточенных ножей, а Поль, отплясывая как гном, гнусаво выводит: «Это дуршлаг! Это дуршлаг!»
Теперь мы могли отправляться «в холмы» каждую субботу, не слишком уставая, и вся наша жизнь изменилась.
На лице матери опять заиграл румянец; Поль неожиданно, как чертенок из табакерки, вырос; я же раздался в груди, хотя ребра были видны по-прежнему: я частенько с помощью клеенчатого портновского метра измерял окружность своих бицепсов, размеры которых приводили Поля в восторг.
Что касается отца, тот пел по утрам, пока брился похожей на саблю бритвой перед треснутым зеркальцем, которое он вешал на оконный шпингалет.
Был бы я маленькой змеей, О, бесподобное блаженство… –заводил он дискантом, неожиданно переходя на впечатляющий бас:
Вспомни время былое, Как под крыльями счастья Ты приходил к аналою Господа молить об участье.Он то и дело напевал что-то себе под нос на лестнице и даже порой на улице. Но это хорошее настроение, длившееся всю неделю, в субботу на заре резко обрывалось, поскольку стоило ему продрать глаза, как он начинал собираться с духом, чтобы вступить на незаконную стезю.
* * *
Два значительных события ознаменовали этот период.
Однажды – это было в мае, когда дни становятся длиннее, а миндальные деревья словно отягчены цветами, как шапками снега, – мы проходили – без малейшего шума – по землям «дворянина». Мы уже добрались до середины имения, где поросль, из которой состояла изгородь, была гуще, чем в других местах, так что наш страх пошел на спад. Несмотря на тяжелый груз – запас хлорки, порошка для стирки и связанные веревкой части стула, – я легко ступал впереди всех.
На глади канала играли солнечные зайчики. Поль шел за мной и напевал какую-то песенку.
Вдруг я остановился как вкопанный. Сердце мое екнуло.
Впереди, метрах в двадцати, от изгороди отделилась чья-то высокая фигура и, сделав шаг, встала посередине тропинки. Человек наблюдал за тем, как мы приближаемся. Он был очень высокий. С седой бородой. На нем была фетровая шляпа, какие носили мушкетеры, и длинная куртка из серого вельвета. Он опирался на тросточку.
– Не бойся! Вперед! – изменившимся голосом скомандовал мне отец.
Я храбро двинулся дальше.
Подойдя поближе, я увидел лицо незнакомца.
Широкий розовый шрам пересекал его лицо ото лба, на который была надвинута шляпа, до подбородка, теряясь в бороде, по пути задевая краешек правого глаза, закрытого ввалившимся веком.
Эта маска произвела на меня такое сильное впечатление, что я буквально остолбенел, не смея идти дальше.
Отец обогнал меня, держа в одной руке записную книжку «эксперта», а в другой шляпу.
– Добрый день, сударь, – поздоровался он.
– Добрый день, – низким звучным голосом ответил незнакомец. – Я вас ждал.
В ту самую минуту мать испустила приглушенный вскрик. Я проследил за ее взглядом и еще больше растерялся, обнаружив, что у изгороди стоит еще и сторож в куртке с позолоченными пуговицами.
Он был даже выше своего хозяина, и его огромное лицо украшали две пары рыжих усов: одна под носом, вторая над голубыми глазами с густыми красными ресницами.
Он стоял в трех шагах позади того, со шрамом, и смотрел на нас с какой-то жестокой улыбкой.
– Я думаю, сударь, – продолжал отец, – что имею честь говорить с владельцем этого замка.
– Я действительно владелец, – ответил незнакомец, – и уже несколько недель, несмотря на все ваши усилия остаться незамеченными, наблюдаю издалека за вашими маневрами.
– Дело в том, – начал было отец, – что один из моих друзей, служащий канала…
– Я все знаю, – оборвал его «дворянин». – До сих пор я не выходил к вам потому, что приступ подагры на три месяца приковал меня к шезлонгу. Но приказал, чтобы в субботу вечером и в понедельник утром сторожевых псов не спускали с цепи.
Я не сразу понял, о чем он говорит. Отец сглотнул слюну, мать сделала шаг вперед.
– Сегодня утром я вызвал этого служащего… как там его, Бутик?
– Бузиг, – уточнил отец. – Это мой бывший ученик; я ведь школьный учитель и…
– Знаю, – снова прервал его старик. – Этот Бутик мне обо всем рассказал. Домик в холмах, слишком короткая трамвайная линия, слишком длинный путь пешком, дети, тяжелые свертки… Кстати, – добавил он, сделав шаг к матери, – кажется, милая дама нагружена сверх меры. Позвольте мне, сударыня… – И, раскланявшись перед матерью, точь-в-точь кавалер, просящий прекрасную даму оказать ему честь потанцевать с ним, с сугубо королевской решительностью забрал у нее оба больших узла с вещами.
– Владимир, возьми свертки у детей, – велел он, обернувшись к сторожу.
Великан в мгновение ока выхватил у нас рюкзаки, сумки и связку деревяшек, они же будущий дачный стул, после чего, повернувшись к нам спиной, внезапно встал на колени и предложил Полю:
– А ну-ка, лезь мне на плечи!
Поль, забыв о страхе, разбежался, подпрыгнул и оказался сидящим верхом на шее сердобольного чудовища, которое сразу же пустилось вскачь, издавая громогласное ржание.
Глаза у мамы наполнились слезами, отец словно онемел.
– Что ж, вам пора, – проговорил «дворянин».
– Сударь, – справившись наконец с волнением, вымолвил отец, – не знаю, как вас благодарить, я тронут, очень тронут.
– Вижу, – вдруг сказал старик, – и я в восторге от столь искреннего проявления чувств… Но я не совершаю ничего особенного. Вы просто проходите через мое имение, не причиняя мне никакого ущерба. Я не против: так что нет причины диву даваться! А как зовут эту прелестную малютку?
Он подошел к сестренке, сидящей у матери на руках, но она, закрыв лицо руками, принялась реветь.
– Ну что ты? – попыталась успокоить ее мать. – Ну-ка, улыбнись господину…
– Нет, нет, не хочу! – кричала та. – Он гадкий! Нет, не хочу!
– Она совершенно права, – рассмеялся старик, став еще более некрасивым, – я вечно забываю о своем шраме, оставшемся от последнего удара копьем одного улана на заросшем хмелем поле в Эльзасе; тому уж тридцать пять лет. Она слишком молода, чтобы ценить воинскую доблесть… Прошу вас, сударыня, идите дальше и скажите ей, что меня поцарапала кошка: это послужит ей уроком, как вести себя с кошками!
Он проводил нас до конца имения, беседуя с отцом.
Я шел впереди них и видел вдали светловолосую голову маленького Поля: она подпрыгивала над изгородью, его золотистые кудри развевались в лучах солнца.
Дойдя до двери, мы застали Поля сидящим на наших вещах: он уплетал за обе щеки яблоки сорта ранет, которые гигант очищал для него от кожуры.
Настало время распрощаться с нашими благодетелями. Граф пожал руку моему отцу и вручил ему свою визитную карточку:
– Если меня не будет, покажите эту карточку привратнику – он вас пропустит. Начиная с этого дня не нужно больше идти вдоль канала: прошу вас звонить у ворот парка и проходить по главной аллее. Так короче.
Потом, к моему великому удивлению, он остановился в двух шагах от матери и раскланялся перед нею, словно перед королевой. После чего, подойдя к ней и весьма изящно и с достоинством наклонившись, поцеловал ей руку.
Мама отвесила ему робкий реверанс, как сделала бы маленькая девочка, и, раскрасневшись, бросилась к отцу. В эту самую минуту между ними пронеслась золотая стрела: это Поль стремглав бросился к старому дворянину и, схватив его большую руку в коричневых пятнах, покрыл ее страстными поцелуями.
Вечером за столом, после того как мы поужинали при свете керосиновой лампы «Матадор», мама попросила:
– Жозеф, покажи-ка визитку, которую он тебе дал.
Отец протянул ей карточку, и она прочла вслух:
Граф Жан де Х…
Полковник Первого кирасирского полка
Чем-то взволнованная, мать на минуту замолчала.
– Так, значит, это… – промолвила она наконец.
– Точно, – подтвердил отец, – это как раз тот славный полк, что под Райхсхоффеном…[29]
Начиная с этого незабываемого дня переход через первое имение превратился для нас в праздник.
Привратник – он же ветеран войны – настежь открывал перед нами ворота; тотчас откуда-то появлялся Владимир и забирал у нас тяжелые вещи. Затем мы направлялись к замку поздороваться с полковником. Он угощал нас леденцами с лакрицей и несколько раз приглашал пополдничать. Однажды отец принес ему книгу, даже не книгу, а разрозненные листы, обнаруженные им у старьевщика: в них повествовалось о битве при Райхсхоффене, с иллюстрациями и планами. Фамилия полковника стояла там на почетном месте, и мой отец, считавший себя противником решения проблем военным путем, долго оттачивал три цветных карандаша, а потом обвел ими те страницы, на которых автор воздавал хвалу отважному «Первому кирасирскому полку».
Старый вояка был тем более заинтересован книгой, что отнюдь не одобрял трактовки событий, представленной автором, о котором он судил как о человеке, «явно на своем веку ни разу не водрузившем на седло свои гражданские ягодицы», и тотчас приступил к сочинению повествования о том, как все было на самом деле.
Каждую субботу, провожая нас по своему парку, он срывал по пути большие красные розы – это был сорт, выведенный им самим и названный «Розы короля». Срезав шипы с помощью маленьких серебряных ножниц, он преподносил букет матери в минуту расставания и всякий раз заставлял ее зардеться. Она никому не доверяла розы и в понедельник утром забирала их с собой в город. Всю неделю, чуть поникнув головками, они алели в белоснежной глиняной вазе на столике в углу столовой, и наш республиканский дом был как будто пожалован королевской милостью.
Замок Спящей красавицы никогда не вызывал у нас страха. Отец в шутку говорил, что ему страсть как хочется переселиться сюда на время каникул. А мать боялась повстречаться тут с призраками.
Мы с Полем несколько раз пытались открыть ставню на цокольном этаже, чтобы увидеть Спящую красавицу в окружении неподвижных рыцарей. Но дубовые доски были слишком толстыми для моего школьного ножичка с жестяным лезвием.
Однажды, заглянув внутрь через какую-то щель, Поль увидел-таки огромного повара в окружении восьми поварят: все они застыли перед вертелом с диким кабаном. Я, в свою очередь, припал к щели, но ничего не смог рассмотреть.
Описание Поля настолько точно соответствовало одной из иллюстраций Вальверана, художника довольно осведомленного, что я вдруг учуял, или мне только померещилось, застарелый дух жареного мяса и необычный, полный тайны запах остывшего дыма, который растревожил меня.
А вот третий замок – замок нотариуса – приберег для нас неожиданный и не очень приятный сюрприз.
Однажды мы проходили мимо изгороди в том месте, где она была более редкой, чем в других местах, как вдруг раздалось:
– Эй, вы куда идете?
Громкий и рассерженный окрик привел нас в ужас.
Прямо на нас, потрясая вилами, чуть не бегом надвигался крестьянин лет сорока. У него была густая шапка кудрявых волос и черные усища, ощетинившиеся, как у кота.
Отец, испугавшись, сделал вид, что не видит его, и продолжал что-то писать в записной книжке – нашей охранной грамоте, – но нападавший был объят настоящей яростью: словно разъяренный конь подлетел он к нам, я почувствовал, как задрожала рука матери, которую я сжимал, а Поль в испуге нырнул в кусты.
Намеревавшийся уложить нас всех на месте человек остановился в четырех шагах от нас. Подняв вилы высоко над головой зубьями вверх, он воткнул рукоять в землю. Затем, растопырив руки, стал неистово махать ими и вплотную приблизился к отцу, судорожно дергая головой. И при этом его уста, на которых выступила пена, источали елей:
– Вы только не бойтесь. Хозяева смотрят на нас. Они у окна второго этажа. Надеюсь, старик скоро откинет копыта, однако с полгодика еще продержится.
Затем, подбоченясь и грозно наклонившись над моим отцом, он стал теснить его.
– Когда эти окна открыты, здесь не ходите. Лучше идите низом, вдоль поля с помидорами. Дайте мне вашу записную книжку, он требует, чтобы вы предъявили документы и я переписал вашу фамилию и адрес.
С этими словами он вырвал записную книжку из рук отца, который не очень уверенно начал было: «Меня зовут…»
– Вас зовут Эсменар Виктор, улица Республики, дом двадцать два. А теперь бегите, да так, чтобы было на что посмотреть!
Указательным пальцем вытянутой руки он со свирепым выражением лица указывал нам путь к свободе. Пока мы ускоренным шагом удалялись, он, сложив ладони рупором, угрожающе закричал:
– И чтоб я вас здесь больше не видел, потому что в следующий раз я буду стрелять!
Как только мы оказались в безопасности с другой стороны ограды, мы остановились, чтобы поздравить друг друга с удачей и вдоволь посмеяться. Отец, сняв очки, отер пот со лба и принялся философствовать:
– Таков уж народ: его недостатки проистекают от невежества. Но сердце у него доброе, как хлеб насущный, а сам он великодушен, какими бывают только дети.
Между тем дети, то есть мы с Полем, приплясывали на солнце и с сатанинской радостью пели:
– Он вот-вот откинет копыта! Он вот-вот откинет копыта!
Начиная с этого дня крестьянин с вилами (его звали Доминик) с распростертыми объятиями встречал нас по субботам.
Мы всегда проходили низом, вдоль поля с помидорами, и неизменно заставали Доминика за работой: он то обрабатывал виноградник, то полол картофельное поле, то подвязывал помидоры.
Отец, сообщнически подмигнув ему, здоровался с ним:
– Семья Эсменар от души приветствует вас.
Доминик, в свою очередь, подмигивал отцу и долго смеялся, услышав эту еженедельно повторяемую шутку.
– Приветствую вас, Эсменар Виктор! – громко отвечал он.
Мой отец смеялся в ответ, и вся наша семья ликовала.
Мать дарила ему пакетик трубочного табака, и он запросто принимал этот смертоносный подарок.
– Он уже откинул копыта? – обычно спрашивал у него Поль.
– Еще нет, – отвечал Доминик, – но ждать недолго! Он сейчас лечится в Виши, пьет исключительно минеральную водичку! – И добавлял: – Вон там, под смоковницей, кузовок со сливами, это для вас… Только не забудьте вернуть кузовок…
В другой раз это была корзина с помидорами или луком; взяв угощение, мы шли дальше гуськом по траве, попирая ногами удлинившиеся от заходящего солнца собственные тени.
Но впереди нас ждал четвертый замок, с пьяным сторожем и больным старым псом. Дойдя до его запертой двери, мы не сразу открывали ее.
Постояв молча, отец приникал к замочной скважине и долго вглядывался. Затем, вытащив из кармана масленку от маминой швейной машинки, он впрыскивал в замок несколько капель машинного масла. И наконец, совершенно бесшумно вставив ключ, медленно поворачивал его.
Легко, очень осторожно толкнув дверь, словно боясь, что она взорвется, он приоткрывал ее, просовывал в нее голову и прислушивался, одновременно взглядом производя разведку в запретной зоне. Входил. За ним на чужую территорию ступали и мы. Он запирал дверь. Все это делалось бесшумно. Но самое трудное было впереди.
И хотя мы никогда никого там не встречали, одна лишь мысль о старом злобном псе будоражила наше воображение.
«Пес наверняка страдает бешенством, собаки больше ничем не болеют», – думал я.
– А я вот не боюсь. Смотри! – говорил мне Поль и показывал горсть кусочков сахара, которой он намеревался запустить в страшное чудовище, чтобы отвлечь его внимание, пока отец станет душить сторожа.
Слова Поля звучали весьма уверенно, что не мешало ему идти на цыпочках. Мама время от времени останавливалась, бледная, с заострившимися чертами лица, прижимая руку к сердцу. Отец наигранно-веселым тоном вполголоса урезонивал ее:
– Огюстина, это просто нелепо! Ты умираешь от страха, хотя даже не знаешь этого человека.
– Достаточно того, что о нем говорят! Я знаю, какая у него репутация!
– Человек не всегда такой, как о нем говорят!
– Полковник сказал, что это старый кретин.
– Без всякого сомнения, поскольку он пьет. Но чтобы старый пьянчуга был еще и злым, это редкость, и вот что я тебе скажу: я уверен, что он нас уже видел, и не раз, но молчит, поскольку ему нет до этого дела. Хозяева всегда отсутствуют, а мы ничего плохого не делаем. Станет он, хромой, гоняться за нами со своим больным псом?
– А я боюсь. Пусть это нелепо, но я боюсь.
– В таком случае, если ты продолжаешь вести себя как ребенок, я пойду в замок и просто-напросто попрошу разрешения.
– Нет-нет, Жозеф! Умоляю тебя… Это скоро пройдет… Нервы шалят. Сейчас пройдет…
Я смотрел на нее: бледная как полотно, она стояла вплотную к одичалым кустам роз, даже не чувствуя уколов их шипов.
Затем она набирала в грудь воздуха и, улыбаясь, говорила:
– Ну вот, прошло. Пойдем!
И мы шли дальше, и все заканчивалось как нельзя более благополучно.
В июне не выдалось ни одного свободного воскресенья: мне казалось, что этот месяц стиснут между двумя высокими стенами и образовавшийся длинный тюремный коридор заканчивается массивной железной дверью, распахивающейся только навстречу конкурсу на получение государственной стипендии.
Месяц целиком был посвящен повторению учебных предметов, чему я отдался всей душой, но не из любви к науке, а из тщеславного чувства, что я чемпион, которому предстояло бороться за честь школы Шмен-де-Шартре.
Это тщеславное чувство довольно быстро превратилось в чисто актерскую показуху. На переменах я одиноко бродил по школьному двору вдоль ограды. Устремив сосредоточенный взгляд куда-то вдаль, что-то воодушевленно бормоча себе под нос, я разыгрывал перед своими однокашниками спектакль под названием «ученик, повторяющий выученное», они же не смели даже приблизиться к Мыслителю, а если какой-то смельчак и обращался ко мне, я делал вид, что падаю вниз с неких эмпиреев науки, и обращал измученный взгляд на наглеца, навлекавшего на себя упреки, сделанные вполголоса «болельщиками» чемпиона.
Вся эта комедия, которую я ломал с искренностью актера, пошла мне на пользу: играя роль героя, актер, пусть и заурядный, сам становится настоящим героем. Мои учителя только дивились моим успехам, и, когда наступил день конкурса, я, воплощенный отличник, – отложной воротничок, галстучек, приглаженные волосы, бледность, все как положено – великолепно справился с испытанием.
Господин директор, у которого были связи в государственной экзаменационной комиссии, известил нас о том, что мое сочинение «высоко оценили», диктант был написан «безупречно», а мой почерк произвел приятное впечатление на членов жюри.
К сожалению, мне не удалось решить вторую задачу по математике о составе каких-то сплавов.
Ее условие было изложено столь замысловато, что ни один из двухсот кандидатов ее не понял, кроме некоего Оливá, который, решив ее, тем самым обеспечил себе первое место. Я оказался вторым.
Меня не ругали, но это стало для всех разочарованием, которое вылилось во всеобщее негодование, когда господин директор, собрав учителей на школьном дворе, принялся громким голосом читать роковое условие задачи. Он сказал – и я при этом присутствовал, – что он и сам с первого взгляда ничего не понял.
Господин Бессон заверил, что это одна из тех задач, какие предлагаются на экзамене на аттестат об окончании дополнительных курсов начальной школы; господин Сюзан держался твердого мнения, что составитель этой головоломки, судя по всему, никогда не общался с детьми; а господин Арно, сильный и крепкий на вид молодой человек, заявил, что тут просматривается умопомрачительное лукавство и изощренное коварство «преподавателей средней школы». В заключение он сказал, что здравомыслящему человеку тут не разобраться, и поздравил меня с тем, что я ничего не понял.
Однако всеобщее возмущение улеглось, когда стало известно, что этот Олива вовсе не предатель, поскольку он тоже был из начальной школы, расположенной на улице Де-Лоди и приходящейся нашей школе как бы сестрой; мысль о том, что оба первых места получили свои, превратила мой провал в успех.
Что касается меня, я испытал глубокое разочарование и пытался самым низким способом обесчестить опасного Олива, утверждая, что ребенок, так умело разбирающийся в сплавах, может быть разве лишь отпрыском фальшивомонетчика.
Это романтичное предположение, несущее в себе заряд мести, было воспринято Полем с чисто братской радостью, и я уже вознамерился распространить слух об этом по всей школе, что, наверное, и сделал бы, если бы меня не ослепила другая мысль, сверкнувшая, как свет на выходе из туннеля, – мысль о том, что мы стоим на пороге летних каникул!
Все – и Олива, и злосчастная задача, и директор, и преподаватели средней школы – исчезло, не оставив по себе и следа… Я вновь стал смеяться и мечтать, а также, дрожа от радости и нетерпения, готовиться к ОТЪЕЗДУ.
Кое-что, правда, омрачало радужную картину: дядя Жюль с тетей Розой оставались в городе. А без них дом, казалось мне, будет пуст. К тому же я боялся, как бы наша охотничья команда не была обезглавлена отсутствием вожатого. Отсутствием, кстати сказать, малооправданным, так как им всего-то нужно было съездить в Руссильон для того, чтобы показать кузена Пьера родне дяди – виноградарям, якобы с нетерпением ожидающим знакомства с ним.
«Дитя престарелых родителей» между тем превратилось в толстого карапуза, которого все смешило, включая и шишки на лбу, и который начинал уже лопотать. Поскольку он еще не принял окончательного решения о том, как произносить звук «р», я счел своим долгом предупредить тетю Розу, насколько опасно везти его в чужие края, где ему навяжут страшный перпиньянский выговор.
Она успокоила меня, твердо пообещав быть до первого августа в дорогом нашем Бастид-Нев.
И вот наступило тридцатое июля, торжественный канун великого события.
Как я ни старался уснуть, мне так и не удалось достигнуть состояния, помогающего побыстрее прожить ненужные часы: все же я с проком использовал их, заранее проживая кое-какие моменты ослепительной эпопеи, что должна была начаться утром следующего дня. Я нисколько не сомневался: все будет еще лучше, чем в прошлом году, поскольку я стал старше и крепче, а еще потому, что постиг секреты холмов. Меня накрывало волной нежности от мысли, что моему дорогому Лили тоже не спится.
Первая половина следующего дня была посвящена приведению в порядок городского дома, который мы покидали на целых два месяца, в связи с чем мне было велено сходить в москательную лавку за шариками нафталина, которые потом, с наступлением холодов, находишь в карманах своего пальто.
Потом мы завершили сборы, которые мать вела уже несколько дней, поскольку это был самый настоящий переезд… Она не раз напомнила отцу, что нам не обойтись без Франсуа с его мулом, но отец, поначалу ничего не отвечавший, в конце концов признался в том, что семейный бюджет и без того уже изрядно пострадал от многочисленных покупок, которые должны были обеспечить нам комфорт и уют на время летних каникул, а потому любые новые расходы, пусть и незначительные, например в четыре франка, которые требовалось заплатить Франсуа, могли нанести нашим финансам непоправимый урон.
– К тому же, – добавил он, – нас, тех, кто может нести груз, уже четверо, Поль теперь достаточно силен, чтобы нести по меньшей мере три килограмма…
– Четыре, – откликнулся Поль, раскрасневшись от гордости.
– А я могу справиться по меньшей мере с десятью килограммами! – живо вставил я.
– Но, Жозеф, – взмолилась мать, – посмотри, сколько всего! Сколько у нас свертков, узлов, чемоданов! Разве ты не видел? Неужели ты не видишь?
Но отец, полузакрыв глаза и протянув руки к какому-то видению, слащавым голосом запел:
Закрыв глаза, я вижу: Во глубине холмов Наш домик белоснежный Затерян средь лесов.* * *
Мы перекусили на скорую руку, а затем так ловко распределили груз, что нам удалось отправиться в путь, захватив с собой все.
Я нес две холщовые сумки: в одной были большие куски мыла, в другой консервные банки и колбасные изделия.
Кроме того, с двух сторон под мышками у меня было зажато по тщательно перевязанному свертку – с одеялами, простынями, наволочками и полотенцами. В постельное белье мама засунула еще и кое-какие хрупкие предметы.
Слева в белье были запрятаны два колпака для керосиновых ламп и крохотная нагая танцовщица из гипса с поднятой вверх ножкой.
Справа – гигантская солонка из венецианского стекла (приобретенная за полтора франка у нашего друга-старьевщика) и большой будильник (два с половиной франка), которому своим громогласным звонком предстояло поднимать на ноги охотничью компанию по утрам. Мы забыли выключить его перед выходом, и я всю дорогу слышал его мощное жестяное тиканье.
И наконец, карманы у меня были битком набиты спичечными коробкáми и бумажными пакетиками с перцем, мускатным орехом, гвоздикой, нитками, иглами, пуговицами, шнурками и двумя запечатанными воском чернильницами.
Полю на спину водрузили наполненный пакетами сахара старый школьный ранец, к которому привязали еще и завернутую в шаль подушку, так что сзади его голова была не видна.
В левой руке он держал авоську, довольно легкую, но весьма объемистую, – там были запасы липового чая, вербены, ромашки и целебных трав, из тех, что собирают на праздник святого Иоанна. Правую его руку оставили свободной на тот случай, если бы ему понадобилось взять на буксир сестричку; та прижимала к груди любимую куклу.
Мать собралась сама нести два дерматиновых чемодана с нашим «столовым серебром» (изготовленным из луженого железа) и фаянсовыми тарелками. Все это имело внушительный вес, и я решил вмешаться. Рассовав по своим карманам половину вилок, засунув ложки в авоську Поля, я умудрился запихнуть в свои холщовые сумки еще и шесть тарелок. Мама ничего не заметила.
До отказа набитый рюкзак отца и его оттопыренные карманы весили больше меня.
Первым делом мы подняли рюкзак на стол. Затем, подойдя к столу, отец встал к нему спиной. Его бедра и без того уже изрядно увеличились в объеме из-за висевших на поясе холщовых мешочков, из которых торчали рукоятки различных инструментов, горлышки бутылок и стебли лука-порея. В два приема Жозеф встал на колени.
Мы сдвинули рюкзак со стола на его спину. Маленький Поль, раскрыв рот, судорожно стиснув кулаки и втянув голову в плечи, следил за опасной процедурой, сомневаясь, выживет ли отец. Но отец устоял, мы услышали, как он застегивает кожаные ремни, после чего рюкзак, сначала медленно, стал уверенно подниматься вверх. В полной тишине хрустнуло от натуги одно отцовское колено, потом другое, и вот непобедимый Жозеф выпрямился во весь свой рост.
Он глубоко вдохнул, два-три раза повел плечами, чтобы ремни рюкзака поудобнее легли на плечи, и принялся ходить по столовой.
– Великолепно, – прокомментировал он, после чего ровным уверенным шагом подошел к двум большим чемоданам, набитым до такой степени, что пришлось подстраховаться и трижды обвязать каждый из них веревками, тем самым укрепив их. Их вес заметно оттянул отцовские руки, которые стали вдруг казаться длиннее: он воспользовался этим для того, чтобы зажать под мышками с одной стороны потертый дерматиновый футляр с охотничьим ружьем, а с другой – морской бинокль, видимо когда-то не на шутку пострадавший от страшных штормов у мыса Горн: слышно было, как внутри его бубенцами позвякивают линзы.
* * *
Нелегко далось нам восхождение на заднюю площадку трамвая. Нелегко дался и спуск с нее, я до сих пор помню кондуктора, держащегося за кожаную веревку колокольчика и с нетерпением дожидающегося окончания нашей многотрудной высадки с транспортного средства.
Однако мы пребывали в самом веселом расположении духа, и наши силы словно удвоились от предвкушения залитых солнцем летних каникул, которым, казалось, не будет конца.
У прохожих наш кортеж вызывал жалость, и какие-то люди предложили нам свою помощь: отец, смеясь, отказался и даже пустился вскачь, желая доказать, что его силы намного превышают тяжесть груза…
Тем не менее один жизнерадостный ломовик, перевозивший кого-то с квартиры на квартиру, не сказав ни слова, забрал у мамы оба чемодана и повесил их под днищем своей повозки – так они там и качались вплоть до решетки ворот полковника.
Владимир, который, кажется, уже ждал нас, первым делом по устоявшейся традиции вручил матери красные розы и сообщил, что его хозяин не встает из-за нового приступа подагры, но собирается сделать нам сюрприз – навестить нас в Бастид-Нев, что наполнило нас радостью, гордостью и смущением. Потом он завладел всеми свертками и узлами, которые не были закреплены на том или другом члене семьи, и двинулся по направлению к двери Доминика, через «Спящую красавицу».
Переход по третьему имению показался нам бесконечным: Доминика не было и все окна были закрыты.
Мы сделали привал под большой смоковницей: отец, встав спиной к колодцу, примостил рюкзак на его закраину и долго растирал натруженные плечи, после чего мы с новыми силами продолжили путь.
И вот наконец мы оказались перед той самой черной дверью, которая более всего вызывала наше беспокойство и за которой нас могла ждать свобода.
Мы вновь ненадолго остановились, чтобы молча собраться с духом и подготовиться к последнему и самому трудному рывку.
– Жозеф, у меня предчувствие! – вдруг пролепетала побелевшая мать.
– И у меня тоже! – засмеялся отец. – У меня предчувствие, что эти каникулы будут незабываемыми! У меня предчувствие, что мы будем питаться великолепными шашлычками из певчих дроздов, кривоклювов и куропаток! У меня предчувствие, что дети прибавят в весе целых три кило каждый! Ну, вперед! Нам вот уже полгода никто ничего не говорил, так почему сегодня кто-то что-то скажет?
Впрыснув в замок капельку машинного масла, он благополучно справился с ним, затем, отворив дверь настежь, прошел вперед, пригнувшись, чтобы не застрять в двери с грузом, и вступил на территорию четвертого замка.
– Марсель, дай мне свои свертки и марш в разведку! Чтобы успокоить маму, следует принять все меры предосторожности. Только не торопись.
Я побежал вперед – ни дать ни взять индеец-сиу на тропе войны – и, под защитой изгороди, стал прислушиваться и приглядываться.
Ничего. Все окна замка были закрыты, включая даже окна караулки.
– Давайте сюда! Сторожа нет! – вполголоса повелел я арьергарду, ожидавшему моих приказаний.
– Так оно и есть! – подтвердил, подойдя, отец, окинув взором фасад замка.
– Да почем ты знаешь? – спросила мать.
– Но ведь это вполне естественно, что сторож иногда уходит из замка! Он же тут один: наверняка пошел за покупками!
– А меня как раз беспокоит то, что все окна закрыты. Он, может быть, спрятался за ставнями и следит за нами оттуда через дырочку.
– Ну что ты! – ответил отец. – У тебя больное воображение. Держу пари, мы могли бы с песнями продолжать путь. Но чтобы поберечь твои нервы, будем играть в индейцев-команчей, «от чьих шагов даже не вздрагивают высокие дикие травы прерии».
Предельно осторожно, без излишней спешки, мы пошли дальше. Отец, придавленный своей ношей, ужасно вспотел. Поль остановился, чтобы обернуть пучком травы веревку, натиравшую ему пальцы. Испуганная сестренка молчала не хуже своей куклы. Время от времени, прижав к губам крохотный указательный палец, она с улыбкой цедила «тсс», вытаращив огромные, как у загнанного зайца, глаза. При виде бледной и безмолвной матери у меня сжималось сердце, но впереди, поверх деревьев, над стенами, я уже видел синюю вершину Красной Макушки, где уже сегодня до наступления ночи я буду расставлять ловушки под песню одинокого кузнечика; и еще я знал, что у подножия Ла-Трей меня с равнодушным видом ждет Лили, которому не терпится выплеснуть на меня все новости, все планы и одарить меня своей дружбой.
Завершив длинный переход без помех, хотя и не без страха, мы наконец оказались перед последней дверью, которая как по волшебству должна была распахнуться навстречу летним каникулам.
– Ну что? Как твое предчувствие? – обернувшись к матери, со смехом произнес отец.
– Открывай же, умоляю… Скорее… Скорее…
– Не волнуйся! Ты же видишь, все закончилось!
Отец повернул ключ в замке и потянул дверь к себе. Дверь не поддавалась.
– Кто-то повесил цепь и висячий замок! – упавшим голосом произнес он.
– Я знала! – воскликнула мать. – Ты можешь сорвать все это?
Я пригляделся: цепь была пропущена через петли: одна из них была на самой двери, другая на показавшейся мне подгнившей дверной раме.
– Да, можно! – выпалил я.
Отец схватил меня за запястье:
– Несчастный! Это будет взлом!
И тут вдруг раздался чей-то мерзкий голос, от которого словно несло перегаром:
– Верно! Именно взлом! За это можно получить срок до трех месяцев!
Из зарослей неподалеку от двери выступил мужчина огромных размеров, хотя и среднего роста. На нем была форменная одежда и фуражка. На поясе висела кобура из черной кожи, откуда торчала рукоятка армейского револьвера. Он держал на поводу устрашающего пса, того самого, которого мы так долго боялись.
Пес был похож на теленка с мордой бульдога.
Его короткая шерсть грязно-желтого цвета была испещрена большими проплешинами, контуры которых напоминали очертания материков на географических картах. Левая задняя лапа, которую он держал на весу, то и дело судорожно дергалась; отвислая толстая губа казалась еще длиннее от текущей изо рта слюны, а жуткую морду венчали два огромных клыка, предназначенные не иначе как для «убийства невинных младенцев». В довершение всего один глаз чудовища был закрыт бельмом молочного цвета, другой глаз, желтый, угрожающе таращился на нас, а из носа, забитого слизью, время от времени вырывался громогласный свистящий храп.
Рожа мужчины было не менее ужасающей. Кожа на носу была вся в дырочках, как у ягод земляники, усы, с одной стороны тронутые сединой, с другой стороны цветом напоминали коровий хвост, а нижние веки были увешаны наростами, напоминающими волосатые анчоусы.
Мать со стоном спрятала лицо в букете дрожащих роз. Сестричка заплакала. Побледневший отец не шевельнулся. Поль спрятался за его спиной, а я сглатывал слюну…
Мужчина смотрел на нас, не говоря ни слова: слышно было только рычание огромного пса.
– Сударь… – начал было отец.
– Что вы тут делаете? – проорало чудовище. – Кто позволил ступать по землям господина барона? Может быть, вы его гости или родственники?
Своими злобно сверкающими глазами навыкате он всмотрелся в каждого из нас.
При каждой фразе его огромное пузо начинало трястись, при этом револьвер подскакивал.
– Для начала ваше имя? – проговорил он, сделав шаг к отцу.
– Эсменар Виктор, – вырвалось у меня.
– Молчи! Не время шутить! – бросил Жозеф.
Обвешанный поклажей со всех сторон, он с большим трудом вытащил из кармана бумажник, вынул из него удостоверение личности и протянул его.
Чудовище бросило взгляд на документ и, обернувшись ко мне, произнесло:
– Смотри, какая выучка! Уже умеет называть вымышленное имя! – Снова переведя взгляд на удостоверение, он воскликнул: – Учитель! На государственной службе! Ничего себе! Учитель, который тайком проникает в чужое имение! Учитель! Впрочем, это, может быть, подделка. Уж если ребенок называет вымышленное имя, отец способен предъявить липовый документ.
Жозеф наконец обрел дар речи и произнес пространную речь в свою защиту. Он что-то долго нес о «вилле» (которую почему-то называл домишком), о здоровье детей, о бесконечных переходах, изнуряющих маму, о строгости господина инспектора Академии образования. Он был искренен и говорил с пафосом, но выглядел жалко. У меня кровь прилила к лицу, я весь кипел от ярости. Вероятно, отец понял, что я испытываю, поскольку растерянно повелел, обращаясь ко мне:
– Нечего здесь стоять. Иди поиграй с братом.
– Поиграй?! – взревел сторож. – Во что поиграть? В кражу слив? Стоять! Это послужит тебе уроком! – И, обернувшись к отцу, спросил: – А ну, расскажите, что это за ключ? Это вы его изготовили?
– Нет, – еле слышным голосом отвечал отец.
Страшилище стало рассматривать ключ, обнаружило на нем какую-то метку и закричало:
– Это служебный ключ! Вы его украли?
– Ну конечно нет!
– Значит?.. – Сторож с ухмылкой смотрел на нас.
– Я нашел его, – поколебавшись, храбро солгал отец.
Тот вновь ухмыльнулся:
– Понятно! Нашли ключ на дороге и сразу же поняли, что он от дверей поместий вдоль канала… Кто вам его дал?
– Этого я вам сказать не могу.
– Ах вот оно что! Отказываетесь говорить? Так и запишем в рапорте, и тот, кто одолжил вам этот ключ, вряд ли будет иметь возможность ступать на территорию этого имения.
– Нет! – пылко возразил отец. – Вы не посмеете! Вы не нанесете непоправимый урон человеку, который по доброте душевной, из дружеских побуждений…
– Это бессовестный служащий! – проревел сторож. – Я раз сто видел, как он крадет у меня смоквы…
– Вы, наверное, ошиблись, я уверен в его честности!
– Доказательством чему служит, конечно, то, что он дал вам ключ, принадлежащий ему по служебному положению.
– Есть кое-что, о чем вы не догадываетесь. Он поступил так, исходя из чувства долга, ради канала. Дело в том, что у меня есть кое-какие познания по части цементов и растворов, позволяющие мне участвовать в определенной мере в поддержании в надлежащем состоянии данного инженерного сооружения. Взгляните в мою записную книжку!
Сторож взял книжку из рук отца и стал перелистывать ее.
– Значит, вы утверждаете, что находитесь здесь в качестве эксперта?
– В определенной мере да, – подтвердил отец.
– А эти, – издевательски спросил сторож, ткнув в нас, – тоже эксперты? Ни разу в жизни не видел столь малолетних экспертов. Зато прекрасно вижу то, что зафиксировано в этой книжке: вы уже полгода каждую субботу незаконно пользуетесь возможностью проходить по этой территории! Лучше улики не придумаешь! – Он сунул записную книжку в карман. – А теперь открывайте все эти тюки!
– Нет, – отказался отец, – это мои личные вещи.
– Отказываетесь? Берегитесь! Я давал присягу по службе и имею право потребовать этого.
Подумав с секунду, отец снял рюкзак и развязал его.
– Если бы вы упорствовали, я бы пошел за жандармами.
Пришлось открывать чемоданы, узлы, свертки, вытряхивать все из сумок… все это представление продолжалось не меньше четверти часа. Наконец наши жалкие сокровища были разложены на покатом, покрытом травой склоне насыпи, словно призы в ярмарочном тире… Тут была и сверкающая венецианская солонка, и гипсовая танцовщица, задравшая ножку, и большой будильник, беспристрастно, как и подобает звездочету, отслеживающему движение небесных светил, показывающий время: 4 часа 10 минут, одно и то же для всех, включая тупицу-сторожа, недоверчиво уставившегося на него.
Проверка нашего снаряжения была долгой и тщательной. А изобилие провианта вызвало откровенную зависть пузатой образины.
– Похоже на ограбление продуктовой лавки! – подозрительно промолвил он, после чего принялся детально рассматривать белье и одеяла, не хуже какого-нибудь испанского таможенника. – А теперь ружье!
Ружье, судя по всему, он оставил на закуску. Вынимая его из потрепанного футляра, он поинтересовался:
– Оно заряжено?
– Нет, – ответил отец.
– Тем лучше для вас.
Передернув затвор, он приложил его к глазу, словно трубу телескопа.
– Чисто. Тем лучше для вас, – повторил он, возвращая ружье в первоначальное состояние с громким щелчком, напоминающим звук захлопывающейся ловушки для крыс. – С подобной пищалью легко промахнуться, охотясь на куропатку, но можно пристрелить сторожа. По крайней мере такого, который не был бы постоянно начеку…
Он обвел нас мрачным взглядом: я увидел в его глазах лишь бездонную и беспросветную тупость. Позже, в средней школе, впервые прочтя строчку Бодлера «глупость с бычьим лбом»[30], я сразу же припомнил его. У него не хватало только рогов. Однако надеюсь, к чести женщин, что когда-то они все же украшали его лоб.
– А патроны где? – неожиданно приветливо спросил он.
– У меня еще нет патронов, – ответил отец. – Я изготовлю их только накануне открытия охотничьего сезона, из-за детей… К чему хранить в доме готовые патроны?
– Разумеется, – согласился сторож, строго уставившись на меня. – Когда ребенок называет вымышленное имя и показывает явное расположение к взлому, ему не хватает только заряженного ружья!
Я, признаться, даже возгордился подобной оценкой. Я уже минут десять думал о том, как бы броситься к нему, выхватить у него из-за пояса револьвер и с упоением уложить его на месте. Если бы не огромный пес, который перехватил бы меня и сожрал, я бы, клянусь, попробовал.
Отдав ружье отцу, сторож снова бросил взгляд на наши пожитки:
– А я и не знал, что у школьных учителей такое хорошее жалованье! – В его голосе прозвучало подозрение.
Отец зарабатывал всего-навсего сто пятьдесят франков в месяц, но он воспользовался словами сторожа и вставил:
– Потому-то хотелось бы и дальше оставаться школьным учителем.
– Если вас уволят, виноваты будете вы. Я тут ни при чем! А теперь забирайте свои пожитки и марш отсюда туда, откуда пришли. Я же по горячим следам составлю рапорт. Вперед, Масток!
Повернувшись к нам спиной, он потянул за цепь, которая служила поводком его страшному псу, тот поплелся за хозяином, но обернулся к нам и не спускал с нас взгляда, отчаянно рыча, как будто жалел, что ему не удалось нас загрызть.
И тут вдруг с неожиданностью фейерверка грянул трескучий звон будильника; мать, вскрикнув, повалилась навзничь на землю, я бросился к ней и подхватил ее в тот момент, когда она потеряла сознание. Сторож, уже спустившийся с насыпи, обернулся и засмеялся.
– Прекрасно сыграно, но впустую! – довольно бросил он, после чего шатающейся походкой удалился, таща за собой звероподобного пса, с которым они были так похожи.
* * *
Мать скоро пришла в себя. Жозеф пытался привести ее в чувство, но лучше английских нюхательных солей на нее подействовали слезы и поцелуи сыновей.
Тут обнаружилось, что сестричка исчезла. Она спряталась в зарослях ежевики, как испуганная мышка, и не отвечала на наши призывы, стоя неподвижно на коленях и прикрыв глаза руками.
Затем мы всё вновь упаковали кое-как, рассовав по сумкам и тюкам колбасы, мыло, водопроводный кран и т. д.
– Как же слаб человек, когда преступает закон! – вполголоса приговаривал отец. – Этот сторож – отвратительная свинья и трус, каких мало. Но на его стороне закон, а я пленник собственного самозванства. Мне вменялось в вину все – моя жена, мои дети, мой ключ… Да, невесело начинаются наши каникулы. Даже не знаю, какой у них будет конец…
– Жозеф, – прервала его вдруг ободрившаяся мать, – это же еще не конец света!
На что отец ответил загадочной фразой:
– Пока я учитель, у нас будут каникулы. Но если через неделю я перестану быть учителем, я стану просто безработным…
Он взвалил на спину рюкзак и подтянул лямки.
Обратный путь был мрачнее мрачного. Поскольку мы в спешке как попало упаковали наши вещи, по пути мы теряли то одно, то другое. Я замыкал шествие и подбирал то гребешок, то банку с горчицей, то напильник, то шумовку, то зубную щетку.
– Я знала, – время от времени тихо повторяла мама.
– Да нет, – сердито возражал ей отец, – ты не знала, а просто боялась. И правильно делала, но это могло случиться в любой момент. Тут нет ничего загадочного, и предчувствие тут ни при чем, все дело в моей глупости и жестокости этого дурака. Как же слаб человек, когда преступает закон! – без конца повторял отец.
С тех пор жизнь научила меня обратному: человек слаб, когда им движут чистые побуждения.
Мы добрались до двери, и на наши головы свалилась новая катастрофа: Жозеф, по своему обыкновению, очень тщательно запер за нами все двери, а ключ – ключ летних каникул и наших бедствий остался в кармане безжалостного сторожа…
Скинув рюкзак, Жозеф стал осматривать ограду: перелезть через нее было невозможно – она была слишком высока и к тому же утыкана поверху острыми черепками, поблескивающими на солнце…
Мы были в полном отчаянии.
Порывшись в кармане рюкзака, отец вытащил из него плоскогубцы. Он был мрачен, но действовал решительно. Мы молча смотрели на него и смутно чувствовали: сейчас он берет на себя огромную ответственность за то, что произойдет дальше.
Он спустился с насыпи, дошел до виноградника и хладнокровно и не спеша отрезал кусок проволоки, поддерживающей лозы, затем смастерил из нее небольшой крючок. На его лице ясно читались решимость и бунт человека, которому нечего терять и чье бесчестье настолько велико, что больше уже быть не может.
Подойдя к двери, он всунул крючок в замочную скважину, закрыл глаза и нагнулся, чтобы слышать, что происходит с замком под воздействием преступной отмычки. Впервые в жизни я видел взломщика за работой, и этот преступник был не кто иной, как мой отец!
Наконец, после множества неудачных попыток, сопровождаемых безотрадным звяканьем, от которых Жозеф разнервничался, послышался резкий веселый щелчок, и взломанная дверь пропустила нас.
Мы бросились вперед, опередив отца.
– Еще не все! Дверь нужно запереть! – крикнул он.
Он еще некоторое время возился с замком, пока вновь не раздался щелчок.
Тогда Жозеф выпрямился, и на его искаженном лице показалась улыбка, словно эта маленькая победа над беспорядком навсегда снимала с него вину.
Мы бодро двинулись к следующей двери, но поскольку за нею нас ждала дружба Доминика, отцовская рука уже не дрожала, и он продемонстрировал нам мастерское владение отмычкой; мне показалось, что отец гордится своей ловкостью, он даже весело подмигнул нам и самоуверенно усмехнулся.
– Я считаю, что мы находились в ситуации, в которой применима самооборона. Сторож имел право обвинять нас, но не выносить приговор… Расскажем обо всем Доминику – он человек разумный, посоветует, что делать.
Но ставни фермы оставались закрытыми… Доминик, скорее всего, ушел в деревню играть в шары. Зато в доме нашего друга-полковника мы застали Владимира. Выслушав до конца рассказ отца, в котором им был опущен конец, Владимир заговорил:
– Я бы охотно навестил этого человека. Но я говорил с ним всего три раза за свою жизнь и трижды дал ему по морде. Если пойду опять, будет то же самое. Лучше посоветоваться с полковником. К сожалению, он в больнице. Мне было запрещено сообщать вам об этом, но приходится. Ему сделали операцию. Завтра утром пойду навестить его и, если он будет себя хорошо чувствовать, расскажу… Но не знаю, сможет ли он помочь…
– Но ведь хозяин того имения тоже дворянин! Он барон… – начал было отец.
– А вот и нет, – уточнил Владимир. – Мой хозяин говорит, что никакой он не дворянин и что его фамилия Баранони. Говорят, он крупный торговец мясными изделиями… Однажды, выйдя из церкви в Ла-Валентин, он подошел к моему хозяину и представился: «Я барон из поместья Акат», на что господин граф ответил: «А я думал, вы не кто иной, как барон де Баран». Тот ушел, не сказав ни слова.
– Ну, если так, надеяться не на что, – махнул рукой Жозеф.
– Ну что вы! Что вы! Нельзя же так расстраиваться. Пойдемте-ка со мной, пропустим по стаканчику! И никаких отказов! Вам станет лучше!
Он заставил отца с матерью выпить по рюмочке виноградной водки, которую оба они героически проглотили, как пьют лекарство, затем принес для нас с Полем крем-ликер какао[31], а сестричке чашку молока, которой она страшно обрадовалась.
Мы снова отправились в путь с новыми силами, но в большом смятении. Отец, не на шутку разгорячившись от двух глотков алкоголя и, видимо, принимая свой рюкзак за солдатский ранец, чеканил шаг, но взгляд его потух, а лицо словно окаменело.
Мама казалась мне хрупкой, как птичка. Мы с Полем тащили сестренку, которая, крепко держа нас своими маленькими, чуть растопыренными руками, не позволяла нам вилять.
Пришлось сделать тот самый огромный крюк, и на всем этом пути никто из нас не проронил ни слова.
Лили, не дождавшись нас у подножия Ла-Трей, двинулся нам навстречу, так что мы застали его уже стоящим на перекрестке в Ла-Круа.
Пожав мне руку, он поцеловал Поля, затем, покраснев, взял из рук мамы ее ношу. У него был какой-то праздничный вид, но вдруг он забеспокоился и вполголоса спросил у меня:
– Что случилось?
Сделав ему знак молчать, я чуть поотстал от отца, который шел впереди словно лунатик, и вполголоса рассказал ему о трагедии. Казалось, он не придал ей должного внимания, но, когда я заговорил о протоколе и о штрафе, он побледнел и удрученно остановился.
– Он записал все в свою записную книжку?
– Сказал, что запишет, и наверняка уже сделал это.
Вместо ответа Лили присвистнул. Штраф для жителей его деревни означал разорение и бесчестие. Однажды в холмах был убит жандарм из Обани, и было это делом рук вполне добродушного крестьянина, который пошел на это только потому, что тот собрался оштрафовать его.
– Вот так так, – расстроенно протянул Лили. – Ну и дела…
Он пошел вперед, понурив голову. Время от времени он бросал на меня взгляд, в котором читалось отчаяние.
Поравнявшись с деревенским почтовым ящиком, он вдруг сказал:
– А если поговорить об этом с почтальоном? Он, наверное, знает этого сторожа. И у него тоже есть фуражка. – В его понимании фуражка была признаком власти, он думал, что фуражки могли найти общий язык друг с другом. – Завтра утром поговорю с почтальоном.
Наконец мы добрались до Бастид-Нев: дом ожидал нас в полумраке под кишащей воробьями большой смоковницей.
Мы помогли отцу распаковать вещи. Он был мрачен и время от времени производил горлом какой-то недовольный звук. Мать безмолвно готовила кашу для сестренки, пока Лили разжигал огонь в очаге под чугунком.
Я вышел из дома полюбоваться садом. Поль уже залез на оливковое дерево, из всех его карманов доносилось стрекотание; у меня защемило сердце: вокруг была такая красота, я сам себе наобещал столько радостей, но от них не оставалось ровным счетом ничего.
– Я поговорю об этом со своим отцом, – тихо пообещал Лили, подойдя ко мне, и, сунув руки в карманы, двинулся через виноградник Орньона.
* * *
Вернувшись в дом, я зажег керосиновую лампу «Матадор», поскольку, кроме меня, никто до этого не додумался бы. Несмотря на жару, отец сидел перед очагом и смотрел, как пляшет пламя. Скоро закипел суп, зашипела яичница. Поль тоже вернулся и помог мне накрыть на стол. Желая показать родителям, что не все еще потеряно, мы с большим усердием выполнили свою обязанность, но при этом говорили вполголоса, словно в доме лежал покойник.
За ужином отец вдруг повеселел и разговорился. Шутливо воспроизводя то, что мы пережили, он очень смешно описывал сторожа, наши пожитки, разбросанные по траве, и пса, который рвался к колбасе. Поль громко хохотал, но я прекрасно понимал: отец из кожи лезет, чтобы рассмешить нас, но мне хотелось плакать.
Ужин не занял много времени, мы с Полем пошли спать.
Родители оставались внизу для того, чтобы разложить по шкафам запасы съестного.
Но снизу не доносилось иных звуков, кроме приглушенного шепота.
Четверть часа спустя, убедившись, что Поль спит, я босиком бесшумно спустился по лестнице и стал подслушивать их разговор.
– Жозеф, ты преувеличиваешь, это просто смешно. Не гильотинируют же тебя.
– Разумеется, нет, – отвечал отец. – Но ты не знаешь, каков инспектор академии. Он пошлет рапорт ректору, и все может кончиться увольнением.
– Ну что ты говоришь! Это выеденного яйца не стоит.
– Возможно. Но для вынесения официального выговора учителю этого вполне достаточно. Для меня выговор равняется увольнению, поскольку я сам попрошусь в отставку. Невозможно оставаться на преподавательской должности, имея выговор.
– Как! – ошеломленно проговорила мать. – Ты готов отказаться от прав на пенсию?
В доме часто заходил разговор о пенсии как о некоем волшебном процессе, вследствие которого школьный учитель превращается в рантье. Само слово «пенсия» было неким магическим заклинанием, которому не было равных. Но в тот вечер и оно оказалось бессильным, отец печально пожал плечами.
– Но что ты будешь делать? – спросила мать.
– Не знаю, буду думать.
– Ты бы мог стать частным преподавателем. Господин Верне прекрасно зарабатывает частными уроками.
– Да, но он не получал выговора. Он досрочно попросился на пенсию после блестящей карьеры. Тогда как я… Если бы родители моих новых учеников узнали, что я получил выговор, они сразу же выставили бы меня за дверь!
Я был убит его аргументами, которые казались мне неоспоримыми. Что же он будет делать? Вскоре я получил ответ и на этот вопрос.
– Пойду к Распаньето – он крупный торговец картошкой. Мы вместе учились в школе. Однажды он сказал мне: «Ты был силен в математике. Мое дело так разрослось, что такой человек, как ты, мне бы не помешал». Ему я смогу объяснить все как было, и он не станет меня презирать.
Я сразу же благословил это имя – Распаньето. Я его не знал, но отчетливо представлял себе: этакий добрый гигант с черными усами, запутавшийся, как и я, в арифметических действиях и вручающий отцу ключ от наполненного золотом ящика стола.
– Друзья… на них не всегда можно рассчитывать, – заметила мать.
– Знаю. Но Распаньето многим мне обязан. Я подсказал ему решение задачи на экзамене на аттестат об окончании школы. К тому же хочу успокоить тебя. Я тебе об этом никогда не говорил, но у меня есть облигации железнодорожного займа стоимостью в семьсот восемьдесят франков. Они спрятаны в атласе Видаль-Лаблаша.
– Невероятно! Значит, у тебя есть от меня тайны?
– Ну да. Это было припасено на черный день – на случай беды, операции или болезни… Я сделал это с самыми добрыми намерениями! Мне не хотелось бы, чтобы ты думала…
– Не извиняйся, – улыбнулась мать, – я сделала то же самое. Но у меня всего лишь двести десять франков. Больше я не сумела сэкономить из тех пяти франков, которые ты мне даешь по утрам.
Я тотчас мысленно сложил: 780 и 210. Вышло 990 франков. У меня в копилке было семь франков; несмотря на скрытность Поля, мне было доподлинно известно, что и у него есть по меньшей мере четыре франка. Итого тысяча и один франк.
Я сразу же утешился, и мне вдруг очень захотелось подойти к ним и сказать, что не стоит искать работу, когда у тебя больше тысячи франков.
Но продавец песка[32] бросил мне в глаза целую горсть, так что я на четвереньках вскарабкался по лестнице, дополз до своей комнаты и упал замертво.
На другое утро отца дома не было: он ушел в Марсель. Я предположил, что он решил повидаться со своим другом – торговцем картошкой, чье имя я забыл. Мама прибиралась в доме и напевала.
Лили появился очень поздно, часам к девяти.
Он сообщил мне, что обо всем поведал своему отцу, и вот что тот сказал:
– Этого сторожа я знаю. Это он донес служащим заставы на Мунда де Парпальюна за то, что тот припрятал в шляпу-котелок четырех певчих дроздов. Они заставили его выложить четыре франка. Если этот тип когда-нибудь появится в здешних местах, ему недолго ждать выстрела, который он заслужил.
Это было весьма утешительным известием, однако выстрел прогремел бы слишком поздно.
– А с почтальоном ты говорил?
– Да, – с явным смущением ответил Лили. – Он уже был в курсе, потому как утром повстречал сторожа.
– Где?
– В замке. Он туда доставил письма.
– И что тот ему сказал?
– Все. Сторож как раз составлял протокол, – делая над собой усилие, произнес Лили. Это было страшным известием. – Так вот, почтальон посоветовал сторожу не составлять протокол. На что тот ему ответил: «Я от такого удовольствия не откажусь ни за что!» Почтальон поинтересовался: «Почему?» – «А потому, что у этих учителей круглый год каникулы». Тогда почтальон сообщил ему, что твой отец – это тот, кто подстрелил бартавелл. А сторож ему: «Мне на это наплевать!» – и как ни в чем не бывало продолжал составлять протокол. По словам почтальона, было видно: тому это доставляет удовольствие.
От рассказа Лили я совсем пал духом.
Тогда Лили вытащил из своей холщовой сумки две аппетитные розовые сосиски и в ответ на мой удивленный взгляд разъяснил:
– Они отравлены. Мой отец готовит их и раскладывает на ночь вокруг курятника, для лисиц. Хочешь, сегодня вечером перебросим их через ту стену?
– Ты хочешь отравить пса?
– А может быть, заодно и сторожа, – с милой улыбкой отвечал Лили. – Я выбрал самые красивые, чтоб ему захотелось попробовать их. Стоит ему откусить кусочек, как он тут же замертво упадет.
Меня до слез обрадовал его грандиозный замысел. Но смерть сторожа, которая могла бы произойти лишь на третий день (разумеется, если нам повезет, а ему нет), все равно не помешала бы протоколу дойти до адресата… И тем не менее мы решили в тот же вечер забросить сосиски отмщения куда следовало.
А до тех пор мы отправились в ложбину Рапон расставлять ловушки и затем до полудня собирали на кривых деревцах заброшенного фруктового сада миндаль и рябину.
Первый обход ловушек дал нам шесть рыжехвосток и крупного певчего дрозда-корсиканца.
Вернувшись домой, я разложил птиц на кухонном столе, вытряс содержимое наших сумок и как бы ненароком бросил:
– С дичью, миндалем, рябиной да еще дикой спаржей и грибами любое бедное семейство способно припеваючи жить круглый гол.
Мама нежно улыбнулась и, подойдя ко мне с разведенными в стороны намыленными руками, поцеловала в лоб.
– Не беспокойся, дурачок! – сказала она. – До этого пока еще не дошло.
* * *
Лили обедал с нами: его посадили – знак высшей почести – на место отца, который должен был вернуться из Марселя только к вечеру.
Я завел разговор о сельском образе жизни и заявил, что будь я на месте отца, то сделался бы земледельцем. Лили, на мой взгляд прекрасный знаток в подобного рода делах, принялся прославлять сперва урожайность и одновременно неприхотливость турецкого гороха, который не нуждается ни в воде, ни в навозе, ни даже в земле и питается чуть ли не одним святым духом, а затем удивительную быстроту роста скороспелой стручковой фасоли.
– Делаешь лунку, кладешь на дно фасолину, засыпаешь землей и бегом прочь! Не то она тебя догонит. – Посмотрев на мать, он добавил: – Конечно, я слегка преувеличиваю, но это лишь для того, чтобы было понятно.
В два часа дня мы опять отправились в холмы, в сопровождении Поля, большого специалиста по выковыриванию улиток из старых стен или оливковых пней. Целых три часа трудились мы без передышки, накапливая запасы, которые позволили бы нам противостоять грядущей нехватке съестного. К шести часам мы тронулись в обратный путь, нагруженные миндалем, улитками, ягодами лесного терновника, украденными в саду папаши Этьена великолепными синими сливами, к тому же с полной до краев сумкой почти спелых абрикосов, сорванных с одного очень старого абрикосового дерева, которое уже пятьдесят лет упорно продолжало плодоносить в одиноких развалинах заброшенной фермы.
Я заранее предвкушал, как обрадую маму всеми этими богатствами, но оказалось, что Огюстина не одна: рядом с террасой, где она сидела, стоял отец и, запрокинув голову, пил из пористого глиняного горшка в форме петуха, который держал над обращенным к небу лицом.
Я бросился к нему.
Он казался утомленным, его туфли были покрыты дорожной пылью. Он нежно поцеловал нас с Полем, погладил Лили по щеке и посадил сестренку себе на колени. Затем заговорил с мамой так, как будто нас не было.
– Я заходил к Бузигу. Не застал его. Оставил ему записку, в которой сообщил о постигшей нас беде. Затем зашел в больницу навестить полковника и застал там Владимира. Полковника прооперировали, посещения запрещены, переговорить с ним можно будет дней через пять-шесть. Но тогда будет уже слишком поздно.
– Ты заходил к инспектору академии?
– Нет, зато видел его секретаршу.
– Ты ей рассказал?
– Нет. Она подумала, что я пришел узнать, что нового, и сообщила, что меня перевели в третий разряд, – с горькой усмешкой пояснил отец.
– И какова была бы прибавка к жалованью?
– Двадцать два франка в месяц.
Размер суммы произвел на маму такое впечатление, что ее лицо исказилось, как будто она собиралась заплакать.
– К тому же, – продолжал отец, – она сообщила, что готовится мое награждение орденом Академических пальм!
– Ну вот видишь, Жозеф, – воскликнула мама, – нельзя же уволить учителя, награжденного Академическими пальмами!
– Зато, – возразил отец, – из списка на награждение можно вычеркнуть провинившегося учителя.
С глубоким вздохом он опустился на стул, сложил руки на коленях и повесил голову. Маленький Поль громко заплакал.
– Кто это там идет? – вдруг вполголоса произнес Лили.
В конце белеющей среди холмов дороги, где-то в Коле, показалась чья-то темная фигура, которая направлялась к нам быстрым шагом.
– Это господин Бузиг! – крикнул я и кинулся ему навстречу.
Лили бросился за мной.
Мы встретились с Бузигом на полпути к дому, но я заметил, что он смотрит поверх наших голов. Оказалось, что отец с матерью тоже не остались на месте и уже стояли у нас за спиной. Лицо нашего друга сияло. Он сунул руку в карман.
– Держите. – Он протянул отцу черную записную книжку, которую отнял у него сторож.
Мать испустила вздох, который был похож на крик.
– Он вам ее отдал? – спросила она.
– Отдал – не то слово. Вернул взамен на протокол, который я ему вчинил.
– А как с его протоколом на меня? – каким-то хриплым голосом поинтересовался отец.
– Превращен в конфетти. Там у него было целых пять страниц. Я превратил их в конфетти, и теперь они плывут вниз по каналу… В данный момент, – задумчиво добавил он, словно это было исключительно важно, – они должны быть где-то под Сен-Лу или даже в Ла-Пом… Следует это отметить!
Он два-три раза подмигнул нам, подбоченился и расхохотался. Как он был в эту минуту красив!.. Тут я услышал, как стрекочут кругом два миллиона цикад и самый первый одинокий кузнечик летних каникул распиливает в волшебном жнивье серебряный брус.
У нас в доме вина не было, а притрагиваться к священным бутылкам дяди Жюля мама не хотела; но в ее спальне в шкафу в запасе имелась бутылка анисовки фирмы «Перно» на тот случай, если понадобится принимать любящих выпить гостей.
Усевшись под смоковницей, Бузиг налил себе впечатляющую порцию этого яда и принялся рассказывать нам про свою встречу с нашим заклятым врагом.
– Как только я прочел утром вашу записку, я отправился за подкреплением: Бинуччи, такой же, как и я, обходчик канала, и Фенестрель, «фонтанщик», – мы втроем пошли разбираться, в чем дело. Когда я захотел было открыть ту самую дверь (ох, Матушка-заступница, благодарю Тебя!), обнаружилось, что он не додумался снять цепь и висячий замок! Мы обошли имение вокруг, добрались до парадных ворот, и я стал звонить в колокольчик, что тебе монастырский звонарь в колокола. Минут через пять появился разъяренный сторож.
«Вы что, – говорит, – с ума сошли, так трезвонить? Особенно вы!» – ткнул он в меня, открывая дверь.
«А при чем тут я?»
«Потому что за вами кое-что числится и мне есть что вам сказать».
«Скажете потом, начнем с того, что и у меня есть что вам сказать, и я могу уложить это в одно слово. А звучит оно так: „Штраф!“»
Тут он как вытаращит глаза, огромные такие. Даже тот, что барахлит.
«Первым делом, – вмешался Фенестрель, – пройдемте на место преступления. Необходимо зафиксировать правонарушение, добиться от виновного признания и конфисковать цепь и висячий замок».
«Что?» – заорал ошеломленный сторож.
«Не орите, вы нас пугаете!» – прикрикнул я на него.
Мы вошли на территорию поместья.
«Я сейчас вам расскажу про цепь и про замок!»
«Это вы повесили его?»
«Да, это я. А знаете почему?»
«Нет, не знаю. И мне нет надобности это знать, чтобы оштрафовать вас».
«Статья номер восемьдесят два Уложения», – вставил Фенестрель.
Сторож поочередно взглянул на наши фуражки и изменился в лице. Тут вмешался и Бинуччи.
«Да не бойтесь, – сказал он примирительным тоном, – дело вне компетенции исправительного суда. Дальше полицейского участка оно не пойдет. Максимальный штраф франков двести, не больше».
«Максимальный или минимальный, мне все равно. Для меня важно собрать вещественные доказательства», – сухо проговорил я и направился к той самой двери.
За мной двинулись все остальные, включая и прихрамывающего сторожа.
Пока я снимал цепь с двери, он стоял рядом, красный как рак. Тут я вынул свою записную книжку:
«Ваша фамилия, имя, место рождения».
«Вы не посмеете!»
«Но по какому праву вы препятствуете нашему проходу вдоль канала?» – вставил Фенестрель.
«Это не против вас», – ответил сторож.
А я ему:
«Разумеется, это не против этих господ, а против меня! Я прекрасно знаю, что вы меня невзлюбили! Так вот, мне вы тоже не слишком нравитесь, и потому я доведу дело до конца!»
«До какого такого конца?» – спрашивает он.
«Вы пожелали лишить меня работы. Что ж, я пойду на все, чтобы вы потеряли свою! Когда ваш хозяин получит повестку в суд и ему придется явиться во Дворец правосудия, он, может быть, поймет, что лучше нанять другого сторожа, и надеюсь, что следующий будет более воспитанным, чем вы».
– Друзья мои, видели бы вы, что с ним тут сделалось!
А я все не унимался: «Ваша фамилия, имя, место рождения».
«Клянусь, это было направлено не против вас! Я хотел поймать людей, которые расхаживают тут, пользуясь поддельным ключом!»
Тут я принял свой самый внушительный вид:
«Хо-хо! Поддельный ключ? Слышишь, Бинуччи? Поддельный ключ!»
«Да вот он!» – вскричал сторож и достал ключ из кармана.
Я выхватил его у него из рук и сказал Фенестрелю: «Возьми ключ и сохрани его. Мы потом все расследуем. Это дело в компетенции руководства канала. А людей этих вы поймали?»
«Конечно поймал. Вот записная книжка, которую я изъял у того субъекта, вот мой рапорт, адресованный вашему руководству, а вот и протокол!»
Он передал мне вашу записную книжку и два рапорта по нескольку страниц каждый, в которых он излагал суть дела.
Я стал читать его каракули, а потом вдруг и говорю ему:
«Несчастный! Несчастный! В официальном рапорте признаетесь, что собственноручно навесили на дверь цепь с замком. Да известно ли вам, что при добром короле Людовике Четырнадцатом вас за это немедленно отправили бы на галеры!»
«Это не самоубийство, но очень похоже!» – вставил Бинуччи.
Смотреть на сторожа было просто жалко. Он был уже не красный как рак, а белый как смерть.
«И что же вы намерены делать?» – говорит он мне.
Я покачал головой, прикусив губу. Демонстративно переговорил с Фенестрелем, потом с Бинуччи, потом со своей совестью.
Он ждал со злобным выражением лица, но явно насмерть перепуганный. Наконец говорю ему:
«Слушайте, это случилось в первый раз, но пусть будет в последний… Об этом больше ни слова. Если вам дорога ваша фуражка, вы тоже – никому ни-ни!»
С этими словами я разорвал оба его рапорта и сунул записную книжку в карман вместе с цепью и замком. Мне подумалось, что здесь, в холмах, они вам пригодятся!
Бузиг выложил на стол свои трофеи.
Восторгам нашим не было конца, и Бузиг согласился с нами поужинать.
– Дело окончательно улажено, но на всякий случай лучше вам больше не ходить вдоль канала, – посоветовал он, разворачивая салфетку.
– Об этом нет и речи, – заверил его отец.
А мама, снимая жареных дроздов с шампуров и раскладывая их по тарелкам, вполголоса вставила:
– Даже если бы нам разрешили, у меня не хватило бы духу еще раз побывать там. Мне кажется, я лишилась бы сознания.
Когда Лили прощался, мама поцеловала его: уши у него стали красными-красными, как гребешок петуха, и он очень быстро покинул столовую, так что мне пришлось броситься вслед за ним и шепнуть, что я буду ждать его на рассвете: он кивнул в знак согласия и убежал в летний вечер.
Ужин прошел очень весело. Когда мама стала извиняться за то, что ему не предлагают вина, Бузиг невозмутимо объявил:
– Ничего. Меня вполне устраивает анисовка.
Отец робко осмелился объяснить ему:
– Будь уверен, мне не жалко спиртного, которое ты сейчас будешь пить. Но не повредит ли оно твоему здоровью…
– Моему здоровью! – удивился Бузиг. – Но, дорогой господин Жозеф, это как раз то, что причиняет минимальный вред! Вот вы пьете здесь воду из цистерны. А знаете ли вы, что это за вода?
– Это дождевая вода с неба, очищенная солнцем.
– Держу пари, что найду в вашей цистерне с десяток черных пауков, двух-трех ящериц и по крайней мере двух жаб… Как известно, вода из цистерны не что иное, как экстракт жабьей мочи! А вот перно все очищает!
Отец махнул рукой.
За ужином он долго распространялся о наших злоключениях, на что Бузиг не преминул еще раз поведать о своем подвиге. Отец привел дополнительные подробности, свидетельствующие о зверском отношении к нам сторожа, на что Бузиг ответил, упирая главным образом на испуг и робость негодяя, приведенного в непомерный страх появлением трех фуражек с канала. Дойдя до четвертой версии этого вергилиевского двуголосного повествования, отец приоткрыл завесу над тем, что сторож чуть не застрелил нас на месте, а Бузиг детально описал, как эта образина, заливаясь горючими слезами, ползала на коленях и детским голосом молила о прощении.
После крема-желе, взбитых белков и бисквитных пирожных Бузиг вдохновенно принялся повествовать о «подвигах» своей сестры.
Для начала он сравнил жизнь человеческую с горным потоком, который следует преодолевать, перескакивая с одного камня на другой, предварительно рассчитав свой прыжок.
Его сестра, Фелисьена, сперва вышла замуж за профессионального игрока в петанк, который частенько оставлял ее одну дома ради участия в соревнованиях, где он блистал (так впервые в своей жизни я услышал слово «рогоносец»). Тогда она перепрыгнула на другой камень, то бишь на одного из начальников марсельского трамвайного депо; затем на торговца бумажными изделиями с Римской улицы, после на торговца цветами с Канебьер, кстати по совместительству члена городского совета, и, наконец, на того самого члена генерального совета департамента, о котором уже шла речь выше. В данный момент она готовилась к последнему прыжку, который перенес бы ее на другой берег горного потока в объятия самого господина префекта.
Мать с большим интересом выслушала рассказ об отважном продвижении по жизни методом перепрыгивания по камням, но, казалось, была несколько удивлена.
– Неужели мужчины такие дураки? – вдруг спросила она.
– Хо-хо! – отозвался Бузиг. – Они отнюдь не дураки, просто она умеет взяться за дело!
Тут он добавил, что одного умения маловато и что у сестры имеется кое-что еще: природа наделила ее таким выдающимся «балконом», что сам не увидишь – не поверишь! Он вынул из кармана бумажник, собираясь показать нам фотографию, которая, по его словам, была «просто шикарная».
Мы с Полем раскрыли вовсю глаза, но в тот самый момент, когда он стал демонстрировать интереснейший документ, мама взяла нас за руки и увела в спальню.
Обильный ужин, радость от полного разгрома нашего врага и таинственная фотография смутили мой первый сон. Мне снилось нечто бессвязное: молодая женщина, нагая, как статуя, одним прыжком перескакивала через канал и падала на генерала, похожего на моего отца, отчего тот взрывался со страшным треском.
Я проснулся, мало что соображая: снизу до меня донесся голос отца:
– Однако позволь мне выразить сожаление о том, что в нашем мире порок слишком часто бывает вознагражден!
Бузиг отвечал ему каким-то странным гнусавым голосом:
– Жозеф, Жозеф, не морочь мне голову…
Время течет и крутит колесо жизни – так вода крутит колесо водяной мельницы.
Пять лет спустя я шагал за черной повозкой, чьи колеса были столь высокими, что сзади я видел копыта лошадей. Я был во всем черном, рука маленького Поля изо всех сил сжимала мою руку. Нашу маму увозили от нас навсегда.
Об этом страшном дне у меня не осталось другого воспоминания, словно мои пятнадцать лет отказывались признать, что есть такое сильное горе, которое может убить. На протяжении многих лет, до зрелого возраста, нам с Полем и с отцом так и не хватило духу говорить о ней.
Потом маленький Поль стал очень большим. Он был выше меня на целую голову, носил окладистую, словно из золотого шелка бороду. Он пас свое стадо коз в холмах, окружающих гору Этуаль, которую он не пожелал покинуть, а по вечерам сквашивал козье молоко для приготовления сыра, используя ситечки, сплетенные из камыша; ночью, закутавшись в длинный плащ, спал прямо на земле. Это был последний из вергилиевских пастухов. Но в тридцать лет его не стало! Он умер в больнице. На ночном столике осталась его губная гармошка.
Моему дорогому Лили не удалось попрощаться с ним вместе со мной на маленьком кладбище в Ла-Трей, поскольку он уже много лет лежал тут же, под клумбой, усаженной бессмертниками: в 1917 году в одном из мрачных северных лесов пуля угодила ему прямо в лоб, оборвав его молодую жизнь, и он упал под дождем на холодные цветы, названия которых не знал.
Такова людская доля. Немного радостей, на смену которым приходит неизбывное горе.
Нет нужды ставить об этом в известность детей.
Прошло десять лет, я основал в Марселе кинематографическую компанию. Дела шли успешно, и я решил построить под небом Прованса киногородок. Продавец недвижимости принялся за поиски «имения» таких размеров, чтобы можно было воплотить в жизнь эту прекрасную затею.
Я был в то время в Париже, и он по телефону сообщил мне, что нашел подходящее место, добавив, что нужно немедленно, в ближайшие часы, заключить сделку, так как имелись и другие претенденты на покупку данного имения.
Он был в восторге от того, что нашел, а я знал, что он честный человек, так что я купил имение, даже не взглянув на него.
Неделю спустя небольшой караван автомобилей отправился туда со студий на улице Прадо. Звукорежиссеры, операторы, технические работники всех мастей держали курс на землю обетованную, и во время переезда все оживленно галдели.
Очень высокие железные ворота стояли открытыми настежь.
Мы проехали до конца засаженной вековыми платанами аллеи и остановились перед замком. Это был не памятник архитектуры, а просто огромный особняк какого-то богатого буржуа времен Второй империи, который наверняка немало гордился четырьмя восьмиугольными башнями и тридцатью балконами из резного камня, украшавшими каждый из фасадов здания…
Мы сразу же спустились вниз на луга, где я намеревался построить киностудии.
Тут уже трудилось множество людей: кто-то раскладывал цепи для межевания, кто-то втыкал в землю белые колышки. Я с гордостью взирал на то, как рождается великое предприятие, как вдруг увидел вдали идущую по верху какого-то вала изгородь из кустов…
У меня перехватило дыхание, и, сам не зная почему, я бросился туда через луга и время.
Да, это было то самое место. Это был канал моего детства, с его кустами боярышника, ломоноса, шиповника в белых цветочках и ежевики, скрывающей шипы под мясистыми плодами с косточками…
Вдоль заросшей травой тропинки бесшумно вне времени текла вода, и кузнечики прошлых времен все так же прыскали у меня из-под ног, похожие на брызги. Я медленно двинулся дорогой летних каникул, и рядом со мной шагали дорогие тени.
И только увидев его сквозь изгородь, над далекими платанами, я узнал тот ужасный замок – замок страха моей матери.
Несколько секунд мне чудилось, что сейчас навстречу выйдет сторож со своим псом, но тридцать минувших с тех пор лет поглотили предмет моей ненависти: умирают ведь не только праведные.
Я держал путь вдоль канала: это был по-прежнему «дуршлаг», но маленького Поля уже не было со мной, чтобы посмеяться над этим, обнажив ряд ровных молочных зубов…
Кто-то позвал меня: я спрятался за изгородь и дальше пошел еще медленнее, стараясь не шуметь, как в детстве…
Наконец я увидел перед собой ограду: за черепками, торчащими наверху стены, над голубыми холмами плясал июнь, но у подножия стены, ближе к каналу, все еще имелась та ужасная черная дверь, что отказалась пропустить нас и была свидетельницей унижения отца.
В порыве слепой ярости я обеими руками схватился за огромный камень и, подняв его высоко над головой, шарахнул им изо всех сил по двери – сгнившие доски разлетелись в щепки, навсегда ставя точку на прошлом.
Мне показалось, что стало легче дышать и развеялись злые чары, царившие в этом месте.
Но, укрывшись в объятиях шиповника, под гроздьями белых цветов, по ту сторону времени уже много лет стояла очень молодая темноволосая женщина, прижимавшая к сердцу красные розы полковника. Она по-прежнему слышала крики сторожа и хриплое дыхание его пса. Бледная, дрожащая и навсегда безутешная, она не знала, что находится у своего сына.
Сноски
1
Гай Марий (158–86 до н. э.) – древнеримский полководец и политический деятель.
(обратно)2
Тевтобод – по легенде, гигант, король кимвров.
(обратно)3
Пон-дю-Гар – римский акведук через реку Гардон (I в. н. э.). Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
(обратно)4
Борджиа – род, подаривший католическому миру двух пап римских и два десятка кардиналов. Символ распущенности и вероломства.
(обратно)5
«Западня» (1877) – роман Эмиля Золя.
(обратно)6
Полиевкт – герой одноименной трагедии Пьера Корнеля (1606–1684).
(обратно)7
Орден Академических пальм – во Франции награда за заслуги в народном образовании и науке.
(обратно)8
Жан-Жак Бартелеми (1716–1795) – основоположник жанра археологического романа. «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» (1788) – роман из семейной и общественной жизни древних греков.
(обратно)9
Жан Калас (1698–1762) – торговец из Тулона, ставший жертвой предвзятого суда, из-за того что являлся протестантом, – символ религиозной нетерпимости.
(обратно)10
Папесса Иоанна – женщина, якобы занимавшая папский престол под именем Иоанна VIII.
(обратно)11
Пьеникле – серия комиксов Луи Фортона о трех мошенниках, впервые появившаяся в 1908 г. в журнале «L’Epatant».
(обратно)12
Принц Бонапарт – Наполеон IV Эжен Луи-Жозеф Бонапарт (1856–1879), принц империи, единственный ребенок Наполеона III и императрицы Евгении Монтихо. Его гибель привела к утрате практически всех надежд бонапартистов.
(обратно)13
На своих двоих (лат.).
(обратно)14
Вагоновожатый (англ.).
(обратно)15
В 1958 г. Марсель Паньоль перевел «Буколики» Вергилия на французский. Подчеркивая связь земли Прованса и описанных древнеримским автором пейзажей, он стремился отбросить наложенный на него ярлык «певца родного края», вписав свое творчество в русло классической литературы.
(обратно)16
Сантилитр – французская мера объема, одна сотая доля литра.
(обратно)17
Бастида – на юге Франции так называются небольшие сельские дома, сложенные из местного камня.
(обратно)18
Арман Фальер (1841–1931) – государственный деятель, президент Франции (1906–1913).
(обратно)19
Фелисите Робер де Ламенне (1782–1854) – аббат, один из основателей христианского социализма.
(обратно)20
Так марсельцы называют кафедральный собор Сент-Мари-Мажор у порта. На холме над старым портом есть еще базилика Нотр-Дам-де-Ла-Гард, она же Матушка-Заступница.
(обратно)21
Речь идет о праздновании на 14 июля или иных праздниках.
(обратно)22
См. примеч. на с. 116.
(обратно)23
Брунгильда (543–613), супруга Сигиберта I. В 613 г. ей было уже 70 лет, она хотела снова управлять государством, когда утомленный междоусобицей народ провозгласил королем Хлотаря; ее схватили и, обвинив в убийстве десяти членов королевского дома, после трехдневных истязаний на виду у войска привязали к хвосту дикой лошади, которая и волочила ее до тех пор, пока она не умерла.
(обратно)24
Короли-лентяи – прозвище последних франкских королей из династии Меровингов, которые правили лишь номинально, поскольку реальная власть находилась в руках майордомов.
(обратно)25
На праздничном ужине в Провансе на Рождество принято подавать 13 десертов (фрукты, орехи, кондитерские изделия), символизирующих Христа и 12 апостолов. Традиция родилась в начале XX века.
(обратно)26
На юго-западе Франции, в Каоре, растет специфический сорт винограда, из которого с незапамятных времен делают вина каор (кагор). Первоначально кагор поставлялся только во дворцы королей, придворной знати и в хоромы высшего духовенства. Церковными канонами определяются время и место его потребления (обычно во время таинства причастия). Глубокий красный цвет символизирует кровь Христову. Столь стойкий цвет и необычный вкус связаны с технологией производства классического французского кагора. Сначала гроздь давят специальным прессом и получают мезгу. Затем полученную мезгу в течение 18–24 часов нагревают до 70–80 °С, в результате чего экстрактивные вещества более интенсивно переходят из кожицы и семян в сусло. Потом вино потихоньку остывает. Благодаря такому способу приготовления конечный продукт и приобретает насыщенный красный цвет, а во вкусе присутствуют тона варенья, поэтому во Франции такие вина называют «вареными».
(обратно)27
Традиционный провансальский суп, который готовится на следующий день после рождественской трапезы: в воде варят несколько головок чеснока и в конце разбивают яйцо.
(обратно)28
Одна из настольных игр с использованием игральной кости.
(обратно)29
6 августа 1870 г. при Райхсхоффене Вторая немецкая армия под командованием кронпринца Прусского разбила армию маршала Мак-Магона.
(обратно)30
«Полночные терзания: «быколобая всемирная глупость». Бодлер. Цветы зла. Перевод Эллиса.
(обратно)31
Довольно крепкий (до 25°) ликер.
(обратно)32
Продавец песка – сказочный персонаж, знакомый во Франции каждому: он проходит по улицам поздним вечером и бросает песок в глаза детям, чтобы они засыпали.
(обратно)



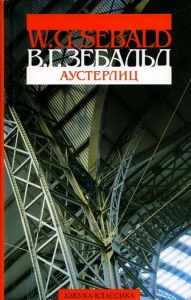


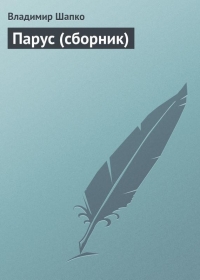

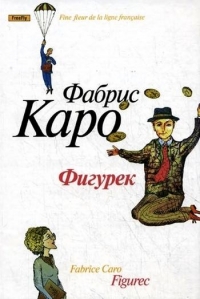
Комментарии к книге «Слава моего отца. Замок моей матери», Марсель Паньоль
Всего 0 комментариев