Шуля Примак МОЕ ДЕРЕВО НЕ СОСТАРИТСЯ Рассказы
МОСКВА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Горек, горек удел живущего в разлуке с Москвой. Тяжело и муторно привыкать к тихой провинциальной жизни уездного города А. Нет в нем разудалой московской гульбы и движухи. Тихо и покойно проходят вечера. Не томимся мы в пробках по дороге в закрытые клубы и эксклюзивные тусовки. Некуда, совсем некуда, выгулять за пределами Садового новую шубу, или дизайнерскую сумочку, или удачно обновленные губы. Это сиськи новые можно носить куда угодно. Новые сиськи хоть на тель-авивский рынок, хоть на мюнхинский октоберфест — везде они к месту и народ им рад. Вот правильно сделанные губы за МКАДом оценить некому. Этот вид тюнинга годен только в пределах Москвы Центральной.
Так же прискорбно обстоит дело и с культурным контентом. Алкающие искусства и богатого духовного мира лишены вне Москвы всего того бесконечного и неисчерпаемого выбора, который может предложить столица. Не блещут огнями многочисленные театры. Не рябит в глазах от афиш. Не везут усталые курьеры цветные конверты с пригласительными на премьеры и бенефисы. Пылятся в коробках лабутены. Задвинуты в угол гардероба лакированные сумочки. Сиротливо висит на гвоздике перламутровый бинокль. Некуда идти. Ну, то есть, и в наших палестинах тоже имеют место быть премьеры и бенефисы. Правда, крайне редко. И народ на них ходит в строгом кежуале. Среди кавалеров приняты джинсы с футболкой или рубашкой. Дамы предпочитают скромные платьишки в цветочек или радикально черные одежды. Мелькнет порой в толпе веселых аборигенов пожилая леди в бежевых кружевах и с ниткой жемчуга в стиле миссис Марпл. Но статистики такие леди не делают, будучи осколками прежней, нездешней жизни. У нас же здесь — все по простому. Народно.
В ресторанном бизнесе вне Садового кольца тоже не все как хотелось бы. Ну то есть да, порции у нас большие, еда вкусная, а официанты заботливы. Да, конечно. С другой стороны, заботливые официанты у нас фамильярны и грубоваты, в отличие от своих московских собратьев. На Москве халдей хамоват и заискивающ одновременно. И еда в Москве — либо полное беспросветное фу, биологический мусор, либо произведение искусства, ум отъешь. И конечно, московские ресторанные интерьеры! Ах! Шарман! Наши-то, наши, совсем без фантазии живут. Развесят по стенам фото владельца заведения в обнимку со всякими локальными знаменитостями — и вся недолга. Ну, иногда если кто с претензией на ретро или просто после развода вещи приткнуть некуда, тогда ресторан декорируется портретами покойных предков, ковром и самоваром — бабушкиным приданным или вывесками с названиями улиц, где жил владелец в годы буйной юности. Ни каких вам расписных потолков, зимних садов и антикварных комодов. Потому что пришел поесть — ешь и иди. А на девушку свою впечатление производи в койке, а не дизайном выбранного ресторана. Как-то так. Не концептуально, в общем.
Так что черствую сиротскую горбушку разлуки с Москвой приходится запивать односолодовым виски в кругу друзей, обсуждая вещи по московским меркам неприличные. У нас говорят о работе, о детях и о местной политике. И еще о иудаизме. Даже если все участники диалога не слишком религиозны. В особенности — если не религиозны. Ну, понемногу и вскользь можно и о культуре. Но информативненько — где что идет до конца месяца, был/не был, понравилось или нет, есть ли стоянка. Но без этих вот глубокомысленных московских штучек вроде режиссёрского замысла или гениальной игры актера Т., недавно ушедшего от лифтерши к пловчихе. Никаких соплей, короче.
Скучно живем. Сытно. Но скучно. Сижу в ноябрьский солнечный полдень. Страдаю, обливаюсь слезами разлуки по лучшему городу на земле. Жалуюсь на жизнь другу. А он мне и говорит:
— Давай-ка я тебе, мать, историю из детства расскажу.
Как известно, я чужие истории очень люблю, особенно если из детства. Истории из взрослой жизни я давно уже разлюбила. В историях из взрослой жизни у всех героев внезапно нет денег или они спят не с теми или не там. А про детство — отчего ж не послушать. Дети — цветы жизни, как говорили классики.
— Давай — говорю — историю из детства. Тем более мы земляки, росли буквально через улицу. С разницей в чуть ли не с десяток лет росли, но вдруг отзовется в сердце ностальгия по родному городу.
У рано овдовевшей Цили Марковны был единственный сын Семочка. Семочка был чудным ребенком. Хорошеньким, послушным и воспитанным мальчиком. До второго класса начальной школы Семочка радовал маму, бабушку и учителей. Не шалил, не грубил, ходил со скрипочкой в музыкальную школу и обращался на Вы ко всем незнакомым людям. Циля Марковна с умилением смотрела на круглые щечки и пушистые ресницы своего отпрыска. Как и всякая еврейская мать, она предрекала любимому сыночку музыкальную карьеру и мысленно видела Семочку раскланивающимся перед рукоплещущим залом областной филармонии. Дальше областной филармонии ее мечты не простирались. Ни в Москве, ни в Ленинграде, не тем более за границей Циля Марковна не бывала и потому успех и славу сыну пророчила в известных ей единицах измерения. А еще она готовила сыночку бульон из курочки, пекла коржики и на все праздники заносила бутылку дефицитного коньяка Семочкиному преподавателю скрипки. Ей казалось, что она делает все как нужно, чтобы вырастить нового Ойстраха.
Дома еврейского квартала в нашем городе после войны были в основном одноэтажным частным сектором. Вернувшись из эвакуации, люди отстраивали на месте разрушенных немцами родовых гнезд небольшие домишки на берегу Буга, разбили вокруг сады и огороды — так и жили. Не богато, тесно, но среди своих. К середине шестидесятых сады и огороды у населения отняли. Вырубили вишневые и яблоневые деревья, уничтожили малинники и заросли крыжовника, снесли сарайчики и хлипкие дощатые курятники. Вокруг квартала рядами, как заградотряд, встали пятиэтажки. Заселили новостройки в основном пролетарии, бывшие жители бараков и коммуналок. Во дворах стали собираться алкаши и гопота. Агрессивные подростки из неблагополучных семей и отсидевшие за хулиганство и кражи молодые люди наводнили тихий район. Мальчику со скрипочкой стало очень неуютно возвращаться по вечерам домой. Сначала Семочка пытался неслышной мышкой прошмыгнуть через дворы. Но его дразнили и обзывали. Пару раз даже били. Мама горько плакала, промывая сыну ссадины и латая драную куртку. Потом он некоторое время дрался в одиночку, всякий раз, когда ему вслед кричали — жиденек. Потом тихий воспитанный еврейский мальчик принял правила игры и сколотил что-то вроде бригады сопротивления из соседских пацанов. Впятером или шестерым было проще и результативнее драться. За год маменькины сынки из крошечных домишек у реки отрастили мышцы, зубы и отвагу. Теперь их даже побаивались. Скрипка была заброшена, Циля Марковна плакала теперь от разочарования и тревоги. Ее нежный птенчик вырос босотой — поделать с этим было нечего.
На весь квартал был единственный участковый — дядя Мыкола. Выглядел участковый устрашающе. Громадный, усатый, со здоровенными кулачищами. В подростковые свары и разборки дядя Мыкола не лез, еврейско-украинским конфликтом не заморачивался. В его компетенцию входила профилактика серьезных правонарушений типа грабежа, краж и попыток убийства. Пьяных мужей, гонявших своих благоверных по двору ремнем, участковый поучал зуботычиной и добрым смачным матом. А вот застигнутому за попыткой зарубить соседа топором слесарю из жилконторы дядя Мыкола так навалял, что слесарь пролежал с сотрясением и переломами больше месяца в больнице. Та же участь постигла и одного свежеосвободившегося уголовника, пытавшегося в темноте хватать местных школьниц. Участкового уважали, понимая, что бьет он за дело и пусть строг, но справедлив.
Поэтому, когда однажды субботним утром дядя Мыкола образовался на крыльце Цили Марковны, она ужаснулась. Сема, мирно пивший чай с маковым пирогом на кухне, побледнел, оставил кружку и попытался проскользнуть мимо дяди Мыколы во двор, но был пойман за шиворот и водворен обратно железной рукой участкового.
— Доброе утречко, Циля Марковна, — прогудел Мыкола, нависая над хрупкой женщиной, как статуя Командора. — Как дела у вас? Как Семен учится?
— Да все слава Богу, Николай Тарасович, — пролепетала перепуганная мать, поглядывая на бледного Семочку, уныло сидевшего у стола. — Вы чаю может с нами выпьете?
— Выпью — отозвался участковый, усаживаясь напротив Семена и буравя его тяжелым взглядом.
У Семочки сердце нырнуло в низ живота и затрепетало там, как рыбка, выброшенная на берег. Сердцу юного борца за сионизм и еврейское влияние в квартале было отчего затрепетать. Вчера вечером бригада Семена, а точнее Семочка с Йосиком, сыном директора продмага, совершили очередную акцию возмездия. Друзья сперли новый дорогой велосипед у заядлого антисемита и хулигана Гришки-Ножа. Гришка давно нарывался на справедливую кару за свои гадкие высказывания и поступки. А вчера днем мальчики видели, как Гришка выбил из рук подслеповатой старухи Рабинович кошелку с покупками и со смехом смотрел, как пожилая женщина собирает раскатившиеся по двору картофелины. Этим поступком Гришка-Нож переполнил чашу народного гнева, и его было решено наказать. Придумано было спереть велосипед. Тем более что новый велосипед был куплен неизвестно с каких доходов вечно пьяной Гришкиной матерью Тамарой и потерю единственного ценного предмета в семье она бы своему уроду-сыночку точно бы не спустила. Так что борцы за справедливость по-тихому умыкнули велик, спрятали его на свалке за гаражами и весь вечер наслаждались проклятиями и матом, которыми поливала Гришку его фурия мамаша. Предприимчивый Йосик предложил выждать недельку, а потом продать добычу на запчасти одному барыге с колхозного рынка. То, что Гришкина мать побежала в милицию, для Семочки стало неприятным сюрпризом.
— Слыхал я, — начал дядя Мыкола, отставив пустую чашку и отряхнув крошки пирога с кителя, — что вы с Гришей Томкиным все время собачитесь. А, Семен?
Семочка помотал головой в том смысле, что нет, не о чем ему, сыну Цили Марковны, говорить с этим Гришей.
— А еще я слышал, — продолжил участковый, не впечатленный этой пантомимой, — что вы у Гриши лисапед украли. А это подподает под 144 статью УК, до трех лет лишения свободы. Шо ты мне про это можешь сказать?
Не сводя глаз с белого как мел лица матери, Семочка встал перед участковым и принялся врать. Врал Семочка вдохновенно и виртуозно, речь его, складная и яркая, лилась как песня. Из его рассказа выходило, что несмотря на ужасный Гришкин характер и вопиющее поведение, Семен всегда старался уладить конфликты мирно. Что даже представить себе ситуацию, на которою намекает участковый, совершенно невозможно. Что ни о каком велике Сема слыхом не слыхивал, видом не видывал. Что Гришка, небось, сам велик продал да пропил, а теперь валит все на невинного мальчика, вдовьего сына, примерного ученика и пионера. Что вчера весь вечер он, Семочка, делал уроки в красном уголке библиотеки, и там его видела куча народу. И вообще, как теперь ему жить, после этих позорных обвинений, как смотреть в глаза матери, которая одна тянет семью.
Лицо матери постепенно приняло живой цвет. Дядя Мыкола подпер красную небритую щеку кулаком и слушал Семочку так, как слушал бы знаток музыки пластинку Ойстраха. Усы участкового обвисли, взгляд слегка затуманился. По окончании пламенного спича дядя Мыкола встал, расправил китель и сказал, глядя влажными от умиления глазами на Семочку и его маму:
— Вы звыняйте, Циля Марковна, если шо. Сердцем, сердцем я послушал Вашего сына. И от усего сердца мне ясно, шо пришел я не по адресу. Я таки ему верю.
Семочка выдохнул и приободрился. Дядя Мыкола сгреб парнишку в объятья, похлопал по спине и еще раз громко сказал:
— Сердцем тебе верю, Семен, сердцем!
А потом низко наклонился, прижал Семеново ухо к пахнущим махоркой усам и прошептал:
— Шоб утром завтра лисапед был у Тамарки! Шоб без дураков, слышишь? — и снова громко, уже выходя в двери: — Сердцем тебе услышал, самым сердцем.
Друг мой улыбнулся и отпил шикарного израильского Мерло из одноразового стаканчика. Босота и есть, подумала я, такое вино да из пластика, господи!
— Сердцем, сердцем тебе верю, что скучаешь по Москве, — сказал он и протянул стаканчик мне. — Бокалов нет, не кривись. Тебе понты или выпить?
ВЕДЬМА
Алену в поселке считали ведьмой.
Поселок, собственно, давным-давно был окраиной довольно большого города, но в поселковом образе жизни перемен от соединения с городом не произошло. Узкие улицы с щербатым асфальтом обступали одноэтажные домики частного сектора и деревянные бараки. В зеленых палисадниках старые яблони и сливы скупо плодоносили в сезон, а большую часть года служили столбами для бельевых веревок, на которых местные поселянки, по старой традиции, развешивали свой нехитрый гардероб. Удобные пластиковые сушилки, компактные и интимные, в поселке не прижились. Не прижились и другие новшества. В единственном кафе-стекляшке «Радуга» не было wi-fi, в местной поликлинике в регистратуре не держали компьютер и упорно писали все бумаги от руки. Местный почтальон и участковый не знали новых названий улиц и упорно пользовались топонимическими ориентирами. Улица Планерная у местных всегда называлась Красной, по цвету красного кирпичного здания поселковой управы, ныне Дома Творчества. Улица Авиаторов (городские власти называли улицы в поселке в честь всяких летных дел) носила прозвище Грязной, поскольку большую часть года была покрыта незамерзающими и невысыхающими лужами неизвестного происхождения. А площадь Космонавтики, с автобусной остановкой, супермаркетом и торговым центром Космонавт называлась коротко — У Дуси или Дуся, в честь давно почившей в бозе самогонщицы бабы Дуси, чей дом стоял аккурат там, где ныне квартирует отделение сотового оператора и киоск с овощами. Потомки Дусиных покупателей верно хранили память о женщине, восставшей против системы и хранили ее имя в памяти народной.
Возле каждого дома в поселке стояла ветхая, как и сами дома, лавочка. На лавочках в светлое время суток сидели женщины, емко именуемые пенсионерками. То есть в диапазоне от 55 до 80 лет примерно. Дольше 80 лет в поселке жить было неприлично, и не сумевшие умереть до этой даты были обречены запираться от осуждающих взглядов в своих домах. Участковая врачиха, Лариса Анатольевна, таких журила, напоминала, что на молодых времени и средств не хватает. А вы, мол, пожили, пора и честь знать. Пенсионеров мужчин в поселке было немного. Не заживались мужики в поселке, мерли до пенсии. А женщины, выйдя на законный отдых, надевали фланелевые халаты, повязывали головы платками и становились на вечный прикол у ворот своих домишек. Через год сидения на лавочке любая, даже самая активная и ухоженная женщина превращалась в склочную старуху, способную обсуждать только сериалы да соседей. Женщины на лавочках были неразличимы, как близнецы и лишены индивидуальности, как куклы серийного производства. Их коллективный разум выносил вердикты по любому поводу. Поселяне, от мала до велика, находились под пристальным присмотром стоглазого цербера Лавочки. Ярлыки навешивались на всю жизнь, которою и приходилось прожить, оправдывая кредит доверия, выданный обществом.
— Ритка — проститутка, в короткой юбке, сволочь, ходит.
— Андрей — буржуй, на Каене ездит.
— Леша — тряпка и подкаблучник, с коляской гуляет в парке, пока жена евойна в парикмахерской сидит.
— Ленка, Лешина жена — сука злобная, до чего хорошего мужика довела.
— Ивановы — все наркоманы, даже ребенок у них наркоманский, больной, ноги не ходют.
— Марьиванна — дура набитая. Зачем с мужем разводилась? Ну бил он ее. Так кого ж муж не бил? А мужик после развода от горя запил да помер. Хороший же мужик был, Петровне вон дважды швейную машинку чинил, копейки не взял.
— Сережка-то бандит, с ним тихо надо. С мужиками пьет, в спортзале целый день, вон здоровый-то какой, бычара!
Вот этот-то суд присяжных и приговорил, что Алена ведьма.
Впрочем, и было с чего. Алена приехала в поселок тому уж четверть века как и поселилась в крошечном деревянном домике в конце Косого переулка, принадлежавшем прежде старому немому Матвею, умевшему сводить бородавки и вправлять вывихи и грыжи. Матвей точно был колдун, домишко его стоял пустой после его смерти довольно долго. Никто даже на снос не желал покупать. А потом трах-бах, в нем поселилась сухая седая женщина, невесть как и когда переехавшая в поселок. Выглядела Алена не как положено нормальной пенсионерке. Стройная, ладная, седая коса вокруг головы калачом. И седина у нее какая-то не людская. У всех бурая соль с перцем, а у нее точно пена на деревенском молоке — густая, белая, с блеском. Глаза кошачьи, цвета спитого чая, желтые. Одевалась Алена тоже не ладно. В ее-то возрасте розовые крепдешиновые платья да красные брючные костюмы — где такое видано, а? Впрочем, вопрос возраста странной Алены занимал пенсионерский клуб уже много лет. За почти три десятилетия внешне она не изменилась ни капли.
В дом к себе таинственная женщина никого не приглашала. Дети ее и внуки приезжали очень редко и у матери больше пары суток не жили. Сколько соседки не пытались выспросить у Алениной родни подробности ее жизни, ничего не выходило. Сыновья, худые и невысокие, похожие на мать, отшучивались. Невестки, очкастые и некрасивые, поджимали губы, давая понять, что сплетничать не намерены. А внуки и вовсе затыкали уши наушниками, выходя из обшарпанной калитки палисадника. Не докричишься.
Сама Алена частенько уезжала неизвестно куда и зачем. Иногда исчезала на несколько дней, иногда и на месяц. На чем уезжала и как возвращалась, соседи никогда не видали. Только по свету в мутных окошках нехорошего дома и понимали, дома хозяйка или опять в отлучке. Гости к Алене приходили странные. То на дорогой машине приедет дама в шубе до полу, то пропитый бомж юркнет в покосившуюся дверь. Иной раз и кортеж из черных джипов загораживал улицу. На прямой вопрос, что все эти люди ищут у нее дома, Алена кротко говорила:
— Лечу я людей. Я врач. С многолетним стажем.
Понятно, ни одна душа в поселке не верила, что старая карга выписывала своим гостям антибиотики и слабительное. Точно, колдует она там. А после того, как однажды Алена вылечила соседке сильный приступ артрита, просто сжав горячими, как кипяток руками больное колено, стало окончательно ясно, что ведьма и есть. Алену боялись и дома ее сторонились.
Новая социальная работница, Эллочка всем в поселке очень нравилась. Не девочка уже, но красивая, ухоженная и без снобизма. Вежливая, внимательная. Одевалась строго и просто, навещала старух по домам, выслушивала их беды, настоящие и мнимые, всегда старалась помочь. Те пенсионерки, что попроще, Эллочку просто любили. А те, что поумнее, уважали и даже немного побаивались. Была в этой сорокалетней женщине какая то неуловимая сила, пугающая и холодная. Как будто в перине, мягкой и теплой, был спрятан тонкий стальной клинок, едва ощутимый на ощупь. Сталь эта, беспощадная и смертоносная, проглядывалась редко. Но стоило Эллочке побеседовать, вежливо и спокойно с каким — нибудь наркоманом, отбирающим у бабушки пенсию или с дочерью, по пьяной лавочке поколачивающей старую мать, как буяны становились как шелковые. Да и участковая врач и патронажная медсестра по ее вызову являлись неукоснительно и денег у пациенток вымогать не смели. Ох, не простая была женщина Эллочка, совсем не простая.
В день, когда Эллочка собралась навестить Алену, стояла пыльная июльская жара. В полдень лавочки Косого переулка пустовали, все обычные заседательницы попрятались дома, в прохладной тени. Все да не все. В двух шагах от калитки Алениного дома соцработница столкнулась с бабой Ниной, толстой, склочной и громогласной предводительницей переулка. Баба Нина, облаченная в синтетический сарафан в васильках и маках, волокла по мостовой сумку-тележку, пыхтя и отдуваясь.
— Ты, милая, к Алене, штоль? — без лишних предисловий спросила Нина, и не давая собеседнице открыть рот, зачастила, обтирая багровое от жары лицо смятой косынкой — ты с ней поосторожнее. Она ведьма, все знают. Ты, милая, у нее не пей ничего и не ешь. И руками не давай себя трогать. У нее руки нехорошие. И не перечь ей, слышишь. А то проклянет, или еще чего хуже. Кладбищенской земли под порог насыплет или булавку подсунет заговоренную и все, пиши пропало.
Элла молчала, задумчиво разглядывая деревянный дом, спрятанный за зеленью двух старых заскорузлых яблонь внутри заросшего одуванчиками и лопухом двор. Дом покосился, синяя краска выгорела и облупилась, над крыльцом с прогнившими ступенями криво висел брезентовый навес. Ничего необычного она не чувствовала. Никакой угрозы или беспокойства. Дом как дом. Элла обошла словоохотливую бабу Нину и толкнула калитку. Двор был неухоженный, вокруг дома, как баррикады, высились сложенные в кучи остатки разнокалиберной мебели, железный лом неведомого происхождения и несколько пластиковых бочек с мутной водой. Поднявшись на крыльцо по скрипучим ступеням, Элла без раздумий постучала в дверь, покрытую струпьями облезшей краски, и дверь почти мгновенно отворилась. В проеме, темном после резкого полуденного света, стояла обычная худенькая старушка с розовом спортивном костюме. На ногах у нее были алые шлепанцы с огромными стразами. В руках у хозяйки была увесистая книга, заложенная ближе к концу пожелтевшим конвертом. Обычная старушка, подумала Элла.
— Проходите, — сказала Алена и пошла вперед, приглашая гостью пройти из темных узких сеней в единственную комнату с наглухо задернутыми шторами.
Привыкнув немного к полутьме, которую создавала настольная лампа, стоящая на какой-то тумбе в самом углу комнаты, Элла огляделась. Вся комната была уставлена шкафами, тумбами и комодами так, что посредине оставался крошечный пятачок, в котором стояло раскладное кресло и столик, размером со столовский поднос. На столике светил экраном роскошный ноутбук и лежал планшет. Все свободное пространство было забито книгами. В основном философские и религиозные трактаты, с удивлением отметила гостья, присаживаясь на предложенную хозяйкой низкую табуретку. Весь долгий, достаточно бестолковый разговор Элла разглядывала свою собеседницу, пытаясь понять, есть ли в ней какие то особые способности. Но нет, перед ней сидела обычная старуха, пусть и немного странная со своей белой косой на плече и оранжевыми огоньками в кошачьих глазах. Старуха, перескакивая с пятого на десятое, несла несусветную чушь. В седой голове хозяйки дома смешались детские воспоминания, мечты юности, христианство, буддизм и идеи социализма. Алена, сидя с ногами в кресле, рассказывала то про погибшего на войне отца, то о студенческой поездке на Соловки, то об изменах покойного мужа, то о каких-то монахах. Все эти истории она перемежала цитатами из Библии, историями о боге Вишну и об иудейском празднике Кущей. Элла спросила о книгах, желая унять хозяйское красноречие, но Алена вдруг встрепенулась и стала связно, с толком рассказывать, как всю жизнь занимается самообразованием, что книги выписывает по интернету, ездит на лекции и на семинары, даже и в Москву.
— Я учусь, учусь все время, — лепетала Алена, — я же людей лечу, с малых лет людям помогаю, у меня жар из рук идет, я вижу где у человека проблема, и лечу. Вот я же вижу, Вы хорошая, добрая. Давайте я вас полечу, хотите?
Старуха подалась вперед, Элла внимательно посмотрела на бледное, обтянутое тонкой сухой кожей лицо и протянула свои руки ладонями вверх, одновременно произнося:
— Спасибо, ничего не нужно лечить, я здорова.
Алена схватила протянутые руки гостьи узкими детскими ладошками. Никакого жара эти старческие руки не излучали. Руки были хрупкие, прохладные и слабые.
— Бедная, — подумала Элла, — давление у нее низкое. И гемоглобин тоже низковат. Не удивительно, если она всю пенсию на книги тратит, да на семинары, то на нормальную еду не остается. Да и сколько у нее той пенсии. Бедная, бедная…
Размышляя таким образом, Элла привычно сосредоточилась, напряглась, и из ее раскрытых ладоней по тонким голубым сосудам Алениных рук потек розовый щекотный свет, веселый и теплый. Через несколько секунд щеки старушки порозовели тонким девичьим румянцем, руки и ноги согрелись, в глазах потух оранжевый огонек.
— Я вижу, что Вам не нужно, — забормотала старуха, не разжимая пожатие. — Спасибо, спасибо, спасибо.
Когда Элла вышла из калитки, ее уже ожидала небольшая толпа пенсионерок, поднятых по тревоге неугомонной бабой Ниной. На нее смотрели жадно и испытующе два десятка тусклых глаз и, отвечая на незаданный вопрос, Элла бросила, садясь в припаркованную у забора машину:
— Да какая ваша Алена ведьма, что вы! Просто старая одинокая женщина.
Соседки разочаровано повздыхали и стали расходиться.
А в доме, за плотно задернутыми шторами, в полумраке захламленной комнаты, Алена рыдала и смеялась от счастья, рассматривая последние розовые всполохи на кончиках пальцев.
— Я не одна, — всхлипывала Алена и прижимала теплые ладони к разрумянившимся щекам. — Я не одна, господи, я не одна, не одна….
ВИШНЯ
Во дворе бабушкиного Дома росла вишня. Ее, судя по рассказам, посадила прабабка Сара сразу после войны, когда вернулась с дочерьми из эвакуации отстраивать разрушенный дом. С тех пор, как я себя помню, это было большое, раскидистое дерево с мозолистым мощным стволом. Рабочее плодоносящее дерево. Очень высокое — ветки были вровень с крышей, очень массивное — в ствол упирали лестницу и стоя прямо на толстых ветвях, собирали ягоды. Вишня накрывала Двор и Дом моего детства ажурным шатром.
Приход весны приносил во двор горьковатый запах нежных клейких листьев. Просеянный через частое сито ветвей неяркий апрельский свет был зеленым и блестящим, пока однажды по утру не превращался в зефирный, розово-белый. Вишня зацветала пышно и царственно. Над Двором парило подрагивающее кружевное облако цветов. А через месяц это облако обрушивало на Двор и Дом теплую беззащитную метель лепестков. И тогда становилось видно, что у нас отдельная прекрасная вселенная — метель из лепестков мела только в границах нашего мира. За его пределами, четко очерченными вишневым снегопадом, царил полный штиль. И волшебство превращения крошечных зеленых завязей в тяжелые алые ягоды каждое лето происходило неотвратимо и ожидаемо. Вишни поспевали, аккумулировали свет и жар солнца, и сами превращались в полупрозрачные теплые звезды.
Под деревом стоял круглый стол и несколько скамеек. С мая по октябрь под вишню перемещался центр жизни всей семьи. Женщины, наши бабушки и мамы, управляли отсюда вселенной. Мы, многочисленные разновозрастные дети, балованная аристократия, веселились и развлекались под их присмотром и защитой. Мужчины выходили под вишню вечерами в субботу, чаще в одиночку. Читали газету, молча курили. Очень редко садились сыграть в домино. Но их быстро вытесняли дамы. Это была их территория.
Бабушка, ее сестры, соседки и подруги решали за круглым столом проблемы, обсуждали дела прошлые и текущие. Пили чай. Время от времени кто-то из них выносил к чайному столу тарелочку домашнего печенья или солидный ломоть пирога. Правила хорошего тона не позволяли немедленно съесть угощение, и тарелочка, накрытая от мух салфеткой, томилась нетронутой, до сумерек. Только когда над столом зажигалась желтая двадцативатная лампа, свисающая на витом проводе прямо с вишневой ветки, одна из дам отламывала от лакомства небольшой кусочек и вдумчиво дегустировала. После полной драматизма паузы она объявляла, что печенье удалось, как никогда, и интересовалась рецептом. Счастливая и гордая изготовительница подробно и со вкусом посвящала собрание в сакральные секреты замачивания изюма или замеса теста. После кулинарного экскурса можно было есть.
Начиная с середины июля, во Дворе варили варенье. Огромный медный таз был один на всех, и потому варили по очереди. На сложенный из нескольких кирпичей импровизированный очаг устанавливали таз, под ним разводили огонь, и женщины в цветастых халатах, с выбившими из под косынок волосами, склонялись над пузырящимся варевом, как макбетовские ведьмы. Над ними вились, звеня, праздничные осы. За столом под вишней производили сложнейшие ритуальные действия, призванные определить степень готовности варенья и его качество. На специально выдержанное в холодильнике фаянсовое блюдечко наливали с деревянной ложки алую или золотистую лужицу. Строгие неподкупные эксперты по движению вязкой жидкости, по преломлению света в крупных ленивых каплях выносили вердикты, не подлежащие обжалованию. Варенье оставляли вариться, или снимали с огня, или добавляли в него смородиновый лист. Мы, малышня, получали облепленные осами миски с пенками и ели их, когда с хлебом, а когда и просто ложкой. Одной на всех, честно передаваемой друг другу из липкой руки в липкую руку, после тщательного облизывания.
Вишни мы ели прямо с веток, горячие, полные горечи и меда. Сок, алый как кровь, заливал наши руки и лица, пятнал одежду. И ничем было ни отмыть и не отстирать эти неоспоримые улики лета. Если бы существовал прибор, который способен обнаруживать невидимые следы вишневого сока, как обнаруживают криминалисты замытые следы крови, то и сейчас можно было бы увидеть на нас светящиеся кляксы, брызги и подтеки тридцатилетней давности. Вишневый сок — несмываемая печать нашего детства, клеймо, метка семьи, двора, стаи. Вишня превращалась потом в рубиновое прозрачное тяжелое варенье, в крепкую темную наливку, становилась багровой мясистой начинкой пирогов и вареников.
Так, лето за летом, вишня вырастила три поколения нашей семьи. Сначала бабушки вышли замуж, привели своих мужчин во Двор и под вишней появились коляски, в которых спали их маленькие дочери — наши будущие мамы. Мамы выросли и тоже вышли замуж, и уже мы играли в тени вишни, в калейдоскопе солнечных бликов. Пока тоже не подросли. В последние два лета нам казалось скучным крутиться возле взрослых. Мы целыми днями валялись на травянистом пляжике на берегу реки, прямо через дорогу от Дома. Возле мам и бабушек играли во дворе наши младшие братья. Первое поколение мужчин, родившихся в Доме, потрясало деревянными мечами. Под вишню мы возвращалась за полночь, обгорелые, пышущие дневным жаром. Подростки- полуженщины, наивные красавицы, мы мечтали каждую ночь вслух, пока видимые сквозь темную листву звезды не начинали дрожать и таять. Дар предвиденья, которым наделены все дети, заставлял нас в деталях описывать свое выдуманное будущее, теперь уже наполовину сбывшееся. Теплые моря и вечно синие небеса напророчили мы себе тогда, в июльские ночи, и дороги, и мужей, и детей. Только о старости мы тогда не говорили, потому что не верили в старость, впрочем, как и сейчас.
Зимой вишня засыпала. Листья с нее опадали разом, ржавой разменной монетой осени засыпало двор в одну ночь. А потом на сером фоне холодного неба прорисовывались черные вены и сосуды ветвей, тонкие капилляры сучьев. В одну из зим мы ушли. Бросили Дом, и Двор, и вишню. Уехали искать новую жизнь. И через недолгое время к нам присоединились братья. А потом и родители. Бабушки умерли. Дом продали.
Новые владельцы вишню спилили. Она, так нам сказали, перестала плодоносить. Это ведь было очень старое дерево. Но мы-то точно знали, что дело совсем в другом — плоды этого дерева были предназначены только для потомков прабабки Сары. Только для внуков и правнуков черноглазой полнотелой старухи, мудрой и сильной, как и положено праматери, основательнице клана. Только для тех, кто был рожден в доме, отстроенном ею победной весной сорок пятого из обгорелого кирпича и покореженного железа. Только для нас. Когда мы уехали, концепция потеряла смысл и право на существование.
Через двадцать лет я приехала навестить Дом и Двор впервые после ухода. На месте вишни не осталось ни пня, ни ямы. Дерево, больше полувека раскидывавшее над нами зеленые милосердные крылья, просто бесследно исчезло. А без вишни, без живого духа ее, двор оказался чужим. И дом, над крышей которого больше не нависают черные заскорузлые ветки — ладони ангела хранителя, тоже не похож на родовое гнездо. Просто старый кирпичный дом. Ни какого волшебства, незачем тосковать. Конец фильма. Занавес закрылся.
Перед моим домом в кибуце растет олива. Я не волнуюсь, мое дерево не состарится — век оливкового дерева долог — иногда сотни лет.
ОБ УДАЧНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ
На второй год в Москве моя израильская кошка Перах, как Марина Мнишек, «умерла с тоски по своей воле». Рыжая королева пустыни не вынесла заточения на восьмом этаже дома в центре столицы и натурально умерла от сердечной недостаточности. Дождалась, пока мы уедем домой в отпуск, и умерла. Похоронами кошки занимался наш шофер.
«С ритуалом 1500, без ритуала 500», — сообщил он.
«Давай без ритуала, покойница по-русски все равно не понимала», — ответила я, давясь слезами.
Перах унесли. Теперь она в раю, и наверняка получила там более подобающий облик, чем тот, в котором умерла. Какая из нее домашняя кошка? А вот львица — в самый раз.
Вернувшись домой через день, мы застали осиротевшую дочку Перах, нашу вторую кошку, Терри, сидящей посреди прихожей у двери. Четверо суток Терри орала благим матом, не ела и не пила. Не отходила от двери, через которую унесли ее мать. И вопила. Выла, как деревенская баба — низко и безысходно, захлебываясь, задыхаясь. Мы не спали пять ночей. Мы и предположить не могли, что бессмысленный кусок меха, каким мы до сих пор считали нашу Терри, может так тосковать и маяться. На пятое утро Терри легла и продолжала плакать лежа. Ее больше не держали ноги.
«Поехали на птичий рынок, — сказал Шломо. — Иначе все это плохо кончиться, и, похоже, для всех».
На птичий рынок ехать не советовали буквально все. Знакомые, водители и уборщица, блоги в Интернете, друзья в фейсбуке. Просто в один голос твердили, что взять с Птички животное — это принести в дом букет неизвестных в ветеринарии заболеваний. А еще лишай, ушных и желудочных паразитов, блох, чесотку, черта лысого. Но было понятно, что у нас нет больше ни одной минуты на промедление. Терри эту ночь не переживет. И нам не даст пережить. Мы поехали.
Котят было множество. Было сумрачно и холодно. Мы довольно долго крутились, пытаясь выбрать визуально своего котенка. Особенно трудно было принять решение еще и потому, что было ясно — большинство этих несчастных зверюшек умрут через два-три дня, если их не заберут по домам сердобольные люди. Обреченные маленькие пленники смирно сидели в прозрачных пластиковых коробках, жались друг к другу, дремали. Понять, кто из них может стать членом нашей семьи, было невозможно. Хотелось убежать. И Шломо уже почти убежал. Я попросила еще один круг, чтобы убедиться, что Наша кошечка не останется по ошибке в этом ужасном месте. Я-то точно знала, что она там. Она сидела в тесном ящике с почти десятком разномастных котят из разных пометов. И смотрела на меня серыми, как болотная вода, глазами.
«Вот! Вот! — я ткнула пальцем в сторону этого ясного серьезного взгляда. — Можно мне ее подержать?»
Тетка, читающая газету под рукописным плакатом «Бесплатно в добрые руки», засуетилась, вытащила Сероглазку из ящика и передала мне безвольное невесомое тельце. Котенок беззвучно обвис в руке, прохладный и подозрительно легкий.
«Она мурчит! Мурчит! И такая ласковая! — тетка всеми силами старалась пристроить свой скоропортящийся товар. — И здоровенькая! Вот, ушки чистые!»
У котенка были большие, бело-розовые прозрачные уши, розовые подушечки на лапках и неожиданно приятный запах, чистый, детский.
Терри страшно зашипела на маленькую пришелицу, скромно жмущуюся к коробке из под печенья, в которой мы привезли ее домой. Потом набычилась, задрала хвост и ушла на кухню, к мискам, поесть и попить. Бониту, а по-домашнему Бони, похожую на фею из мультика, Терри категорически не приняла. Била, гоняла по квартире, не подпускала к еде. Бони вела себя, как застенчивая девочка из приличной семьи. В конфликты не лезла, нам не навязывалась, ела мало и аккуратно. Мы не верили в свою удачу. Какая лапочка! Какая безобидная! Фея, просто фея.
Фея освоилась, отъелась и превратилась в проказливого бесенка. Белая гуттаперчевая молния со свистом врезалась в мебель, обрушивала полки и посуду, безостановочно теребила растерянную Терри. Бони наладилась таскать в зубах игрушки, прятать мелкие вещички по углам, воровать вкусности и вообще совать розовый нос и пушистый хвост в такие места, куда нормальный зверь не сунется. Я ее даже практически постирала. В стиральной машинке. Серьезно. Бони запрыгнула в открытую дверцу и спряталась за бельем, я захлопнула, добавила порошка и включила. Через минуту, услышав жалобный мяв, я вернулась к машинке и увидела мокрую перепуганную Бони, отчаянно барабанящую лапками в стеклянную дверцу. Изнутри! На нее лилась вода, под ней крутнулся барабан. От моего вопля мужа и сына вынесло из кроватей. Шломо как-то там остановил машинку, разгерметизировал дверцу и вынул Бони. Бен, хохоча, все это время держал орущую меня. Кошку высушили, меня отпоили коньяком, подтерли лужу, и жизнь потекла по-прежнему. Бони еще неделю благоухала ариэлем «альпийская свежесть», но видимых травм ее блондинистая психика не получила. А я до сих пор включаю стиральную машину, только лично убедившись, что маленькая скотина спит где-нибудь подальше.
За год из невесомой крошки выросла элегантная пушистая кокетка, по-прежнему слишком легкая и компактная. Солидной, приличной еврейской кошки из нее не выйдет, это уже ясно. С Терри они давным-давно поладили и подружились, живут душа в душу. Теперь обе музы шалят вместе. Услышав грохот и звон очередного обвала, мы только горестно вздыхаем — она и Терри всему этому научила.
«А и то, — сетует Шломо, сметая осколки стакана, пока я оттираю кофе с ковра, — чему тут удивляться. Нам же говорили — нельзя брать котенка с птичьего рынка».




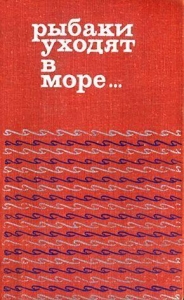





Комментарии к книге «Мое дерево не состарится. Рассказы», Шуля Примак
Всего 0 комментариев