Земные заботы
Предисловие
На протяжении последних двух десятилетий в обиход скандинавских критиков и литературоведов прочно вошло понятие «женская литература». Этой теме посвящается немало специальных статей; соответствующие рубрики впервые появились в обобщающих трудах по истории национальных литератур. Мало того — создаются фундаментальные исследования, в которых развитие «женской литературы» предстает как обособленная, замкнутая в себе часть общего литературно-исторического процесса. Так в Дании в 1982 г. выходит двухтомное сочинение С. Далагера и А.-М. Май «Датские писательницы», где авторы предпринимают попытку проследить путь женской литературы от средневековой баллады до произведений наших современниц. В Норвегии в 1990 г. завершается публикация трехтомной «Истории норвежской женской литературы», подготовленной сотрудниками трех университетов и заключающей в себе характеристику творчества женщин-литераторов начиная с XVII века по 1980-е гг. Весьма показателен такой факт: когда в 1984 г. в Копенгагенском университете состоялась защита докторской диссертации, посвященной проблемам женской литературы XIX в., то датское телевидение (впервые за свое существование) провело ее трансляцию. Интерес к женской теме находит свое отражение и в том, что на скандинавские языки переводится большое количество соответствующей зарубежной литературы — исторической, философской, социологической и художественной. Стоит, например, упомянуть, что в 70-х гг. в Дании трижды издается, в разных переводах, повесть Н. Баранской «Неделя как неделя».
Что же понимается под термином «женская литература» и чем был вызван такой взрыв интереса к ней? Большинство существующих определений сводится к следующему: речь идет о произведениях, написанных женщинами, повествующих о женских проблемах и адресованных преимущественно женщинам. Поскольку при этом полностью игнорируются такие важные моменты, как художественный метод, идейная направленность, исторические параметры и жанровая специфика, под общей рубрикой оказывается разнородная масса произведений, далеко не равноценных как по общественной значимости, так и по эстетическим качествам. Что касается причин, вызвавших столь пристальное внимание к женской литературе, то они достаточно очевидны: никогда ранее «женский вопрос» не подвергался такому интенсивному и бурному обсуждению в самых широких кругах общественности и не находил такого яркого отражения в художественной литературе Скандинавии. Впрочем, это явление характерно для всей западной литературы данного периода, и скандинавские писательницы во многом идут теми же путями, что их французские, американские и немецкие современницы. Однако в выборе тем, в их трактовке и нюансировке наблюдаются и некоторые отличия: так в скандинавской женской литературе практически отсутствует проблема «деловой женщины», утратившей свои «исконные женские качества», — проблема, занимающая многих их зарубежных коллег.
Интерес к проблемам, связанным с положением женщины в семье и в обществе, имеет давние традиции в литературе Скандинавии, причем повышение этого интереса всегда совпадало с периодами обострения общественной борьбы, составляя одну из ее неотъемлемых сторон. Можно вспомнить немало имен писателей, внесших свой вклад в художественное исследование этих проблем: Хенрик Ибсен и Сигрид Унсет в Норвегии, Мартин Андерсен Нексе и Карин Михаэлис в Дании, Фредерика Бремер и Муа Мартинсон в Швеции — это лишь немногие из них, те, чьи произведения переводились на русский язык. Общий круг вопросов, охватываемых «женской темой», был очерчен еще в литературе конца XIX — начала XX вв.; в наши дни эти вопросы получают новое истолкование, соответствующее изменениям, происходящим в материальной и духовной сферах жизни общества.
Расцвет женской литературы, начинающийся в 1970-х гг., порожден резкой активизацией женского движения, в свою очередь тесно связанной с молодежными волнениями предшествующего десятилетия. Характеризуя эти выступления как «бунт сыновей против отцов», советский социолог Э. Щербаненко констатирует: «Сегодня есть все основания говорить о „бунте дочерей“ — против отцов, братьев, мужей и не мужей тоже, об активизации и росте женского протеста, как оформленного в движение, так и разрозненного, индивидуального, чисто психологического толка».
Процесс, результатом которого это явилось, прослеживается достаточно легко. Экономический подъем конца 50 — начала 60-х гг. способствовал массовому вовлечению женщин в производство, что обеспечило их материальную независимость и возможность участия в общественной жизни. Естественным следствием этого стали значительные изменения в структуре семейных отношений, в повседневном быту, в принципах воспитания детей. Однако уже к концу 60-х гг. в экономике наметился ощутимый спад, вновь возникла, исчезнувшая было безработица, и очень скоро женщина оказалась под угрозой насильственного возвращения в уже ставшие для нее узкими рамки традиционной «исконно женской» роли в семье и обществе. Ответом на это и стал взрыв протеста, обретший самые разнообразные формы, начиная с провозглашения лозунга: «Нет женской борьбы без классовой борьбы, нет классовой борьбы без женской борьбы» — и кончая проповедью «сексуальной революции».
Дух протеста против принижения женщины как личности — будь то в сфере интимных или социальных отношений — представляется наиболее общим признаком всех разновидностей женской литературы и ее наиболее положительной чертой. И именно по тому, какое конкретное воплощение этот протест получает, по какому адресу он направлен и какие цели ставит себе автор, различаются, прежде всего, между собой произведения, которые принято объединять под наименованием «женская литература».
«Первыми ласточками» были здесь не художественные в полном смысле слова произведения, а книги, относящиеся к очень популярному в тот период жанру документальной прозы, образцом для которых стала книга шведки Майи Экелёф «Репортаж от поломойного ведра», вышедшая в 1970 г. (на русский язык переведена под названием «Записки уборщицы»). Иногда это сборники интервью, взятых у женщин разного возраста и социального положения и записанных на магнитофон, в других случаях — анализ данных, полученных путем опроса работниц того или иного предприятия. Эти книги имели широкий общественный резонанс и сыграли роль некоей прелюдии, подготовившей читательскую аудиторию к восприятию женской литературы художественного плана.
Подобно обусловившему ее появление общественному движению, женская литература характеризуется изобилием разнообразных вариантов и оттенков. Некоторые писательницы стоят на позициях воинствующего феминизма, объявляя источником всех личных и социальных проблем эгоизм, черствость и деспотические наклонности, присущие представителям мужского пола как таковым. Другие ищут корни женского неравноправия в сфере физиологии, восставая против «табу», традиционно налагаемого на обсуждение интимных сторон жизни. Жесткой критике подвергается институт моногамного брака, представляемый как анахронизм, сковывающий личную и сексуальную свободу женщины. Однако появляется немало и таких произведений, в которых авторы стремятся рассматривать женские проблемы в более широком контексте. Иногда ситуация, в которой находится женщина, связывается с общим неблагополучием в области межличностных отношений: замкнутая в рамках семейных проблем и забот, вырванная, из общественной действительности, женщина особенно страдает от растущей разобщенности людей, от некоммуникабельности и душевной опустошенности. Такая постановка вопроса характерна прежде всего для произведений, рисующих жизнь представительниц так называемого «среднего слоя», материально обеспеченных, чаще всего — не работающих. Заметно расширяется круг затрагиваемых проблем в тех случаях, когда речь идет о положении женщины, занятой трудовой деятельностью вне дома: работницы, служащей, представительницы той или иной интеллигентной профессии. Сам материал позволяет здесь более наглядно обнаружить зависимость индивидуальной судьбы от совокупности производственных и социальных отношений. Закономерно встают такие вопросы, как размер заработка: хотя с середины 70-х гг. неравенство в оплате мужского и женского труда формально устранено, реально женщины имеют меньше возможностей получить профессиональную подготовку и специальное образование и потому редко достигают высокой квалификации. Актуальна и проблема «двойной нагрузки», которую несет работающая женщина: на ее плечи по-прежнему ложится большая часть забот о доме и воспитании детей.
Расцвет женской литературы органически связан с заметным усилением реалистических тенденций, которым отмечена общая картина скандинавской литературы конца 60 — начала 70-х гг. Интерес к острым проблемам современности, правдивое изображение повседневного быта, точность временных и социальных координат, проникновенный психологизм — таковы черты, присущие лучшим образцам творчества скандинавских писательниц. И хотя вопрос о правомерности выделения женской литературы из единого русла развития национальной литературы в теоретическом плане далеко не бесспорен, нельзя не признать, что в данном случае мы имеем дело с явлением, примечательным как с социальной, так и с эстетической точки зрения.
* * *
Предлагаемая вниманию наших читателей книга включает в себя произведения трех писательниц — датской, норвежской и шведской. Авторов отличает друг от друга не только национальность и возраст, но и подход к избранной теме, способ ее художественного воплощения. Эти три романа не могут, естественно, дать исчерпывающего представления обо всем многообразии женской литературы последних десятилетий, но каждый из них по-своему для нее характерен.
«Зимние дети» — произведение, ставшее писательским дебютом известной датской художницы Деи Триер Мёрк. Появление этого романа в 1976 г. вызвало подлинную сенсацию: по данным статистики, он был прочитан каждым четвертым жителем страны, принадлежащим к возрастной группе от 15 до 25 лет; в течение последующих пяти лет общий тираж книги превысил 100 000 экземпляров (при населении немногим более 5 млн.). Очень скоро роман обрел своих читателей и за пределами Дании — к началу 80-х гг. он был переведен на 13 языков. Немало способствовал популярности романа фильм, поставленный по нему в 1978 г. выдающимся датским кинорежиссером Астрид Хеннинг Йенсен, одним из авторов экранизации романа Нексе «Дитя человеческое», считающейся крупным достижением национального киноискусства 40-х гг.
Деа Триер Мёрк родилась в 1941 г. в Копенгагене. Со школьных лет увлекалась рисованием, способности к которому унаследовала от матери, архитектора по профессии. С 1957 по 1964 г. училась в копенгагенской Академии Художеств, а затем в течение трех лет совершенствовала свое мастерство за рубежом — в Польше, Чехословакии, Советском Союзе. Об этих поездках художница рассказала в двух книгах путевых очерков, иллюстрированных ее зарисовками. В 1969 г. Деа Триер Мёрк становится одним из организаторов политически ангажированной группы художников «Рёде Мор». Она активно участвует в молодежном и женском-движении, успешно работает в области плакатной и книжной графики.
Роман «Зимние дети» сочетает в себе большинство особенностей, присущих произведениям женской литературы. По форме это нечто вроде «репортажа из родильного дома»: повествование охватывает строго определенный период времени, каждый фрагмент его предваряется указанием на соответствующую дату. Следует подчеркнуть, что время действия выбрано далеко не случайно — события в романе развертываются вокруг начала 1975 г., объявленного ЮНЕСКО Годом женщины. В основе содержания присутствует документальный материал — автор специально обращает на это внимание читателя, открывая свою книгу словами благодарности группе женщин, чьими рассказами и письмами она воспользовалась в ходе работы. Вне всякого сомнения, большую роль сыграл и личный опыт — в первой половине 70-х гг. Деа Триер Мёрк стала матерью троих детей. Впечатление предельной достоверности изображаемого достигается путем детального описания больничного распорядка дня, различных медицинских процедур, введением множества бытовых подробностей. Этому способствует и конкретность места действия — речь идет об одной из крупнейших копенгагенских больниц, а также указание на происходящие в мире события — в повествование вводятся фрагменты подлинных газетных и журнальных статей.
Выбор сюжета и принципа композиции позволяет писательнице совершенно естественно сконцентрировать внимание на женских проблемах и судьбах и говорить о них с поразительной откровенностью, доверительно и проникновенно. Героини романа принадлежат к разным социальным слоям, стоят на отнюдь не одинаковом культурном уровне, отличаются друг от друга по характерам и мировоззрению. Деа Триер Мёрк создает целую галерею тонко психологически очерченных женских образов, показывает своих персонажей в их взаимоотношениях и в контактах с медицинским персоналом, отдельными штрихами набрасывает контуры их семейной ситуации. Об одних говорится подробно — прежде всего о Марии Хансен, история которой играет в романе роль сюжетного стержня; другие проходят как бы «вторым планом», образуя живой и многокрасочный групповой портрет. Но главное заключается в том, что все они равны перед великим таинством природы — рождением новой жизни. Здесь, в стенах больницы, существует замкнутый женский мир, где все объединены одинаковыми надеждами и тревогами, окружены заботами одних и тех же врачей, акушерок, сестер. Все это создает ощущение некой вневременной и внесоциальной солидарности, но, как убедительно показывает писательница, ощущение это преходяще. Для каждой из женщин пребывание в больнице — лишь своеобразная «остановка в пути», после которой им предстоит вновь вернуться в свою среду, к своим индивидуальным проблемам.
С некоторыми персонажами «Зимних детей» мы встречаемся вновь в романах «Центр города» (1980) и «Свадебный подарок» (1984), где узнаем о крушении казавшегося таким прочным союза Сигне и Якоба, о растущей отчужденности между Марией и Захариасом, о ее новой любви, тоже не безоблачно счастливой.
Пристальное внимание к вопросам физиологии, характерное для значительной части женской литературы, мотивировано в романе «Зимние дети» опять-таки выбором сюжета и положенного в основу книги жизненного материала и потому не кажется искусственным. В размышлениях Марии относительно того, как мало подготовленными оказывается большинство женщин ко всему тому, что связано с беременностью и родами, отчетливо звучит голос самой Деи Триер Мёрк. Не случайно через год после выхода романа она публикует книгу «Вступление в мир» — специальное пособие для женщин, снабженное множеством рисунков и последовательно излагающее все стадии родового процесса. Некоторая доля «просветительной» задачи просматривается, несомненно, и в романе, но все же здесь акцент сделан на изображении не столько физического, сколько психологического состояния персонажей, на их душевных переживаниях.
В этом смысле весьма примечательно то, как изображен в романе персонал больницы. Писательница показывает врачей, акушерок, сестер так, как воспринимают их находящиеся на их попечении женщины: как естественную принадлежность того замкнутого мира, в который сами они погружены лишь на время. Образы медиков почти лишены индивидуальных черт, многие из них остаются безымянными. Все они внимательны, компетентны, но между ними и пациентками существует психологическая преграда, возникающая из разницы в отношении к происходящему. Для каждой женщины переживаемое ею — уникально, для персонала — это частный случай привычной повседневной жизни, то, из чего складываются трудовые будни. Преграда рушится лишь в критический момент родов, когда и те, и другие обостренно чувствуют себя приобщенными к могучим и непредсказуемым силам природы.
Роман «Зимние дети» завершается тем, что центральная героиня, Мария, покидает больницу и возвращается в «большой мир». В каком-то смысле это символично: в следующих своих произведениях Деа Гриер Мёрк выходит за пределы чисто женской проблематики. В романах «Каштановая аллея» (1978) и «Корабль в бутылке» (1988) она рисует душевный мир ребенка, открывающего для себя многообразие жизни; в романе «Центр города» женские и семейные проблемы тесно переплетены с общественно-политическими. Наконец в романе «Вечерняя звезда» (1982) писательница обращается к сложным философским и нравственным вопросам бытия, к раздумьям о конечности отдельной человеческой жизни и вечности природы.
Эволюция творчества Деи Триер Мёрк наглядно отражает изменения, происходящие в характере женской литературы в целом. Показателен в этом отношении и роман норвежской писательницы Мари Осмундсен «Благие дела» (1984). Судьба женщины, проблемы, с которыми она сталкивается, образуют сюжетную основу произведения, но они рассматриваются не изолированно, а в сочетании с целым рядом проблем более общего свойства.
Мари Осмундсен родилась в 1951 г., она на десять лет моложе Деи Триер Мёрк. Но дебютировали они почти одновременно. Первый роман Осмундсен — «Мы это сможем!» — появился в 1978 г. и, в отличие от «Зимних детей», не стал заметным событием литературной жизни. Однако в последующие годы интерес к творчеству писательницы возрастает. Уже вторая ее книга — «На пути к небу» (1979) — вызывает одобрительные отзывы критиков, отмечающих, что Мари Осмундсен «…во всяком случае, не идет проторенными дорогами, она прокладывает свой собственный путь». В 1982 г. выходят сразу две книги: сборник «Йо-йо-йо», включающий в себя семь новелл (одна из них, «Свой парень», переведена на русский язык и опубликована в 1989 г. в антологии «Великанова купель»), и повесть «Зеленая дама», адресованная детям.
К моменту появления романа «Благие дела» Мари Осмундсен завоевывает признание как видная представительница женской литературы. В одной из рецензий на роман «На пути к небу» говорится: «Если в нашей стране существует собственно женский литературный язык, то у Мари Осмундсен мы находим его в концентрированном виде». Своим новым произведением писательница упрочила эту репутацию.
Роман «Благие дела» вобрал в себя наиболее характерные черты женской литературы: протест против принижения личности женщины, против условностей и предрассудков господствующей морали, стремление открыто говорить о самых интимных переживаниях и отношениях, углубленный психологизм. И в то же время писательница действительно избегает в нем «проторенных дорог», найдя свежую и оригинальную форму, в которой эти черты раскрываются. Метод, которым она пользуется, можно, скорее всего, определить как «фантастический реализм»: предельная правдивость бытовых деталей и психологических характеристик совершенно естественно сочетается у Мари Осмундсен с элементами ирреального. Именно это позволяет ей поднять изображаемое на уровень философского обобщения.
Гном, сложные взаимоотношения с которым играют такую большую роль в жизни одной из героинь, Карианны, таинственная «болезнь» другой — Рут — присутствуют в романе отнюдь не только ради занимательности. И в том, и в другом случаях мы угадываем наличие глубокого философского и психологического подтекста. Обеим женщинам свойственно сознание своего душевного одиночества, бессилия перед лицом жизненных проблем, но в силу различия своих человеческих качеств реагируют они на это не одинаково. Карианна эгоистична, активна, перенесенные страдания и обиды рождают в ней озлобление — и в ее жизни возникает гном, как материализация владеющих ею чувств. Рут — человек бесконечно уязвимый, чутко откликающийся на беды других людей, болезненно ощущающий свою ответственность за окружающих; ее «путешествия» можно истолковать как некий вариант эскапизма, результат страха перед действительностью, отчаянные поиски «убежища» от нее.
Фантастическая символика романа сложна, она не поддается однозначной расшифровке — особенно ясно это сказывается в загадочном финале. Однако в нем можно усмотреть по-своему логичное завершение пути, пройденного каждой из героинь. Карианна, «продавшая душу» злу из эгоистических, пусть даже не всегда осознанных побуждений, совершившая предательство в отношении собственного ребенка, а затем и в отношении подруги, расплачивается за это гибелью любимого, а взятая ею на себя роль судьи и палача окончательно убивает в ней самой все человеческое, кроме страха. («За все нужно платить», — говорит Карианне гном.) Эгоизм и ненависть — чем бы они ни мотивировались — не могут быть основой жизни, и Карианна обречена на «изгнание» из мира человеческих отношений. Рут, испытав ужас ледяного одиночества, обретает решимость принять на себя ответственность за судьбу другого человека; простив Карианну, проникнувшись к ней состраданием, она тем самым выходит из изоляции, «возвращается» в реальную действительность, очевидно — навсегда.
Многозначно уже само название романа. В нем угадывается полемическая заостренность в отношении вынесенных в эпиграф слов Бьёрнсона: «благие дела», совершаемые персонажами, не только не «спасают мир», но и приводят к непредсказуемым трагическим последствиям, оборачиваются своей противоположностью. Мысль автора заключается, очевидно, в том, что «дела» эти не искренни, они продиктованы эгоизмом, хотя сами люди это не всегда сознают.
Можно, наверно, найти и другие ответы на заданные Мари Осмундсен «загадки». Это и является целью писательницы — пробудить фантазию и мысль читателя, его творческую активность. Один из норвежских критиков справедливо характеризует своеобразие художественной манеры Осмундсен: «Она концентрирует внимание на том, как индивидуальная личность воспринимает тот мир, в котором мы живем… Результатом становится такое изображение действительности, которое в высшей степени побуждает читателя к взаимодействию, к диалогу».
И действительно, рассказывая о личных судьбах и переживаниях своих героинь, через призму их восприятия, Мари Осмундсен раскрывает перед нами живую, детально выписанную картину современной общественной действительности Норвегии. История взаимоотношений Карианны с ее женихом Бьёрном позволяет автору показать столкновение неординарной личности с ограниченным мещанским обществом, где идеалом жизни является сытое благополучие, а мировоззренческие принципы черпаются из иллюстрированных еженедельников. В связи с историей Рут в романе ставятся актуальные вопросы семейных отношений, высказываются критические замечания в адрес медицинской науки. В ткань повествования вплетаются сообщения о политических событиях, напоминания о трагедиях второй мировой войны, споры о позиции Норвегии в отношении менее развитых экономически стран.
Из многообразия общественных проблем, затронутых в романе, одной уделяется особое внимание. Это проблема расовой и национальной нетерпимости, ставшая чрезвычайно острой в Скандинавии за последние годы. Массовая иммиграция из стран Азии и Арабского Востока, появление множества «иностранных рабочих» в сочетании с ростом безработицы породили небывалую для Скандинавских стран напряженность в национальном вопросе, дали толчок к развитию шовинизма и возникновению неонацизма.
Жертвой расовой ненависти становится в «Благих делах» Даниэл — цыган, родившийся в Норвегии, воспитанный в норвежской семье и ощущающий себя норвежцем. Мари Осмундсен создает впечатляющие портреты убийц Даниэла— туповатых инфантильных парней, подпавших под влияние новоявленного «фюрера» — бывшего солдата войск ООН, служившего в Ливане. Впитав в себя яд расовой ненависти, они видят в каждом арабе, пакистанце, турке преступника, торговца наркотиками, растлителя норвежских девушек. И это неумолимо превращает в преступников их самих. Как показывает Осмундсен, каждый из парней, сам по себе, мог бы быть малоприятен, но достаточно безобиден; объединенные вокруг Эриксена, вооруженные и вымуштрованные им, они становятся страшной силой, опасной не только для «иноземцев», но и для всего норвежского общества. Эта группа предстает в романе как эмбрион возрождающегося фашизма, уже сыгравшего однажды роковую роль в судьбе Норвегии. Нет сомнений, что с подобными явлениями необходимо бороться, но как — этот вопрос остается в романе открытым. Отчаянный поступок Карианны, продиктованный жаждой мести, ничего не меняет в сути проблемы: ее не решить применением тех же методов, какими действуют единомышленники Эриксена. Не случайно гном отказывает Карианне в помощи, говоря, что она «стреляет из пушек по воробьям», в то время как весь воздух пропитан злом.
Проблему межнациональных отношений Мари Осмундсен рассматривает как многоаспектную. В связи с образом Даниэла она касается еще одной «болевой точки» современного скандинавского общества — это судьба детей разных национальностей, воспитанных в скандинавских семьях. Начиная с 60-х гг. в Скандинавии функционирует разработанная система ввоза малолетних представителей населения слаборазвитых стран и передачи их для усыновления в обеспеченные семьи. Формально эти дети становятся скандинавами, большинство из них полностью теряют связь со страной своего рождения и не знают родного языка, но внешность, цвет кожи нередко заставляют окружающих видеть в них «чужаков».
Устами Даниэла Осмундсен подвергает сомнению правомерность и бескорыстие подобных «благих дел». Может ли материальное благополучие компенсировать человеку отрыв от национальных корней, разлуку с пусть неимущими, но родными матерью и отцом? Наконец, не кроется ли за благотворительной акцией эгоистическое желание влить свежую кровь в организм нации? Трагическая гибель Даниэла добавляет к этим вопросам еще один: где гарантия того, что общество в состоянии защитить тех, кого оно, не спрашивая их согласия, приобщило к своей жизни, к своим проблемам?
Роман «Благие дела» — яркое свидетельство того, что женская литература, в своих лучших образцах, раздвигает первоначальные рамки, обогащается новыми темами и средствами художественной выразительности. Мари Осмундсен, как и ее героини, живет в «большом мире», и все происходящее в нем затрагивает их в равной мере, не позволяя замкнуться в личных женских проблемах. Писательница продолжает интенсивно работать в области различных жанров: после «Благих дел» ею уже опубликовано три романа — «Семья» (1985), «Наследство» (1988) и «Парень, который убивал время» (1990), — книга для детей — «Самый маленький лис» (1986) — и сборник новелл «Драконово яйцо» (1986). Официальным признанием заслуг Осмундсен стало присуждение роману «Наследство» премии на литературном конкурсе.
Автор третьего романа, включенного в настоящий сборник, шведская писательница Герда Антти, занимает, пожалуй, особое место в женской литературе. Она родилась в 1929 г. и принадлежит, таким образом, к иному поколению, чем Деа Триер Мёрк и Мари Осмундсен. Ее дебют состоялся еще до того, как начался подъем женской литературы: в 1961 г. она опубликовала сборник стихотворений «Здесь и сейчас». Однако известность пришла к Герде Антти именно на гребне этого подъема. Если первый сборник ее рассказов— «Вечер за вечером» (1965) — особого внимания к себе не привлек, то следующий — «Не хуже, чем всегда» (1977) — имел огромный успех как у читателей, так и у критиков. С не меньшим интересом были встречены и романы Антти — «Каждое мгновение в отдельности» (1980) и примыкающий к нему сюжетно «Я как-нибудь справлюсь» (1982), а затем и «Земные заботы» (1987).
Произведения Антти многими нитями связаны с женской литературой 70—80-х гг.: в центре внимания автора — перипетии женских судеб, личные и семейные проблемы; все события и взаимоотношения персонажей передаются так, как они воспринимаются женским сознанием (повествование чаще всего ведется от первого лица). И в то же время творчество Герды Антти характеризуется более широким диапазоном тем, большей объективностью и масштабностью обобщений, чем это присуще созданиям многих ее современниц. Не случайно исследователи отмечают у Антти наличие преемственности в отношении классического реализма прошлого. Ее произведения неотделимы от современности, но речь в них идет об общечеловеческих понятиях и ценностях, и поэтому они обладают непреходящей актуальностью. Как справедливо заключает один из рецензентов, книги Антти «…могут быть прочитаны через десять или двадцать лет с тем же интересом и пользой, что и сегодня».
Улла, героиня-повествовательница романа «Земные заботы», значительно старше героинь Деи Триер Мёрк и Мари Осмундсен, и это во многом определяет общую тональность произведения. Накопленный жизненный опыт, пережитые за полвека радости и горести сделали Уллу, по ее собственному выражению, «умной», научили ее быть более снисходительной и терпимой к людям, глубже вникать в суть вещей. Роман строится как неторопливый, исполненный раздумий рассказ о повседневной действительности, о ее темных и светлых сторонах, о надеждах и разочарованиях. События, описываемые в романе, не выходят за пределы того, с чем так или иначе встречается в жизни каждый человек. Все изображаемое окрашено оптимистическим мировосприятием героини, сознающей сложность бытия, но считающей, что любое переживание, будь то радость или горе, обогащает человека, наполняет его жизнь содержанием. «Не лишайте людей их страданий» — эти слова, неоднократно повторяемые Уллой, отражают позицию героини, которой выпавшие ей на долю испытания помогли обрести жизненную мудрость и стойкость.
Герда Антти дает своей героине в союзницы природу — прекрасную и гармоничную, вечно обновляющуюся. Близость к природе наделяет Уллу особым взглядом на мир, в ней черпает она силы и мужество. Писательница находит удивительно емкие образы, когда от имени своей героини сравнивает жизнь человека с зеленым ландшафтом, размеченным «вехами», или со срезом древесного ствола, где широкие кольца чередуются с узкими. Все, что лежит в границах естественного, принимается Уллой как должное; чувство страха и протест вызывает в ней то, в чем ей видится Недопустимое нарушение законов природы, — человеконенавистничество, жестокость войн, трагедия Чернобыля.
Помимо веры в неодолимость сил природы, Улла обладает оружием, помогающим ей справляться с жизненными трудностями, — способностью воспринимать происходящее (да и собственное поведение!) с изрядной долей иронии. Достаточно вспомнить, например, историю «рождения» и последующей «смерти» в сознании Уллы «Флоренс Найтингейл», олицетворяющей безудержное самопожертвование.
Повествование в романе льется естественно и непринужденно, словно задушевный разговор с сочувствующим и все понимающим собеседником. В рассказ о происходящих в настоящее время событиях вклиниваются воспоминания о прошлом, откровенные признания, размышления на самые различные темы. И все это пронизано искренней человечностью, лиризмом, волнующей теплотой.
Нельзя не заметить, что вопросы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, получают у Герды Антти истолкование, не слишком характерное для женской литературы. Ее героиня не склонна считать виновниками возникающих коллизий только мужчин (не случайно писательница известна как противница крайнего феминизма). Жизненный опыт подсказывает Улле, что избежать конфликтов, добиться гармонии возможно лишь усилиями обеих сторон, обоюдным вниманием и терпимостью. Даже тогда, когда дело касается ее самой или ее близких — родителей, сестры, дочери, — Улла не судит безапелляционно, она пытается сохранить объективность, разобраться в сложившейся ситуации, войти в положение каждого, кто в нее так или иначе вовлечен.
Призыв к терпимости и пониманию отнюдь не перерастает у Герды Антти в проповедь всепрощения и равнодушия к людским недостаткам. Ее героиня органически не приемлет любые проявления фальши, лицемерия, безответственности. Ее возмущает безразличие к человеку как таковому — отсюда ее откровенно критическая, язвительно-ироническая оценка отвлеченной бездушной науки: социологии, оперирующей среднестатистическими данными, медицины, упражняющейся в бесплодном экспериментировании, психиатрии, сводящей внутренний мир личности на уровень более или менее исправно работающего механизма.
Роман «Земные заботы» — талантливо написанная и по-настоящему глубокая книга. Внешне будничное, непритязательное повествование насыщено философским смыслом: жизнь сложна и многогранна, она соткана из радостей и печалей, но самой природой человеку даровано мужество, чтобы он мог противостоять невзгодам, и жизнелюбие, помогающее и в самой житейской обыденности находить крупицы счастья. Пример героини романа призван научить нас не забывать об этих дарах и не пренебрегать ими.
* * *
Итак, нашим читателям предоставлена возможность познакомиться с тремя образцами скандинавской женской литературы, с творчеством трех новых для них авторов. Они очень разные — и сами писательницы, и их произведения. Общая тема — судьба женщины в современном мире — находит в каждом из романов свою индивидуальную трактовку, рассматривается под своим углом зрения. Но в них ясно чувствуется внутренняя близость, ее истоки — гуманистическая направленность, искренняя тревога, которую внушает авторам духовный климат современного общества, отчетливо звучащий в их книгах призыв к человеческой солидарности и взаимопониманию. И именно это сообщает произведениям скандинавских писательниц общечеловеческую значимость, привлекает к ним интерес и симпатии читателей — не только женщин, но и мужчин.
И. Куприянов
Деа Триер Мёрк, Зимние дети
Деа Триер Мёрк, ЗИМНИЕ ДЕТИ
Роман
Перевод К. Федоровой
Dea Trier Morch, Vinterborn
Kobenhavn, 1976
© Cyldendal 1976
Благодарю женщин, которые своими рассказами, письмами и замечаниями по корректуре помогли мне в создании этой книги, —
Анну-Мету, Шарлотту, Дейту, Гудрун, Ханну, Иби, Яну, Енни, Ютту,
Кирстен, Лотту, Ранди, Суси.
16 декабря, понедельник
Хуже всего в больнице — ночь, холодная, враждебная. Так трудно ее пережить. Такая она долгая.
Что днем белое, сейчас черное, а что было черным, сейчас белое. Больничная ночь — негатив, на котором не отдохнуть взгляду.
Тихое дыхание. Тела, неспокойно ворочающиеся во сне.
Мигает синяя лампа. Кто-то из больных дернул шнур в изголовье. Неслышными шагами вплывает ночная дежурная — узнать, в чем дело.
Рано утром, когда наконец все погрузилось в глубокий сон, дверь открывается и бодрый голос возвещает:
— Доброе утро, женщины! Шесть часов!
Женщины нехотя начинают ворочаться, обалдело поднимают головы со смятых подушек, недоуменно переглядываются и снова опускаются в теплое гнездышко постели.
Две помощницы акушерки заходят в палату. Они умницы. Они не зажигают сразу резкий верхний свет, только маленькие лампочки у кроватей.
Первая раздает градусники и измеряет кровяное давление. Вторая спрашивает:
— Можно я вас послушаю?
Осторожно откинув одеяло, она прикладывает стетоскоп к теплому тяжелому сонному животу и слушает слабое «туп, туп, туп» — биение сердца плода.
Потом она смотрит на свои часики, говорит «спасибо», укрывает снова пациентку одеялом и переходит к следующей кровати.
В дверях появляется темный силуэт нянечки.
— А теперь, пожалуйста, в туалет.
К этой процедуре новенькой привыкнуть труднее всего. Вечная возня с мочой. Ее цвет, запах, количество — ни капли ведь нельзя пролить.
Затем женщины переходят в низкое помещение, где сложено чистое белье — рубашки, трусики, полотенца, простыни, наволочки, пододеяльники. Здесь они взвешиваются и записывают свой вес на листке бумаги, лежащем на уголке ванны, которой никогда не пользуются, поскольку в последние два-три месяца беременности принимать ванну не рекомендуется. На стене висит новенькая кожаная куртка. Она сшита из множества разноцветных кусочков кожи. Это куртка юной медсестрички. Той, что сменила утром ночную дежурную.
После этого можно снова лечь и спать до восьми, если, конечно, не предпочтешь пойти принять душ.
Самая приятная утренняя процедура — завтрак. Он подается точно в одно и то же время, и все-таки каждый день его ждут с нетерпением, гораздо большим, чем обед или ужин. Дело в том, что к утру пациентки успевают основательно проголодаться — ведь после вечерней трапезы проходит целая вечность.
Маленький блестящий алюминиевый контейнер медленно движется по коридору. Из палат выходят женщины в халатах. Полосатых, цветастых, клетчатых. Красных, желтых, голубых. Черных и белых. Женщины толпятся вокруг столика с дымящимся кофе и чаем. Здесь же похлебка из пива с ржаным хлебом, йогурт. А еще ржаной хлеб, французские булочки и хрустящие хлебцы. Сыр. Масло. Желтый апельсиновый мармелад и красное земляничное варенье.
Женщины снуют туда и сюда с коричневыми лакированными подносами. Запасаются едой основательно.
А вот яйца здесь обычно переваривают. Они всегда холодные, желток у них светло-желтый, белок голубовато-белый. Совсем не то, что крупные деревенские яйца, к которым Оливия привыкла дома.
Оливия на диете. У нее сахарный диабет, и ей можно только 1500 калорий в день. Взглянув на свою тарелку, она недовольно морщится:
— Я же терпеть не могу сыр!
— Ну так и не ешь, — говорит Линда.
— Не оставляйте в палате стаканы, — говорит нянечка. — Используя их снова и снова, мы экономим одиннадцать миллионов.
Медсестра ходит из палаты в палату вместе с черноволосой нянечкой, меняя постельное белье и убирая кровати. Они взбивают подушки и встряхивают одеяла, действуя аккуратно и очень проворно.
Следом за ними приходит другая нянечка и раскладывает чистые ночные рубашки и полотенца.
В нулевой палате медсестра с треском поднимает жалюзи.
— Ну, как спалось?
— Спасибо, великолепно, — отвечает Гертруда.
— Как бы не так! — взрывается маленькая тощенькая Линда. — Зверски болела спина, черт бы ее побрал.
— А как твои дела, Ольсен?
Оливия, крупная благодушная женщина, сидит на своей кровати у окна.
— По понедельникам я играю в лотерею, а Хольгер — по средам.
— Что за лотерея? — спрашивает медсестра.
— «Банко». Каждый раз я покупаю билетов на двадцать крон.
— Понятно.
Оливия вынимает из тумбочки вязанье.
— Скоро уже полтора месяца, как я здесь лежу.
— Но осталось-то всего ничего, а, Оливия?
— А ты не посмотришь, как у меня с эстриолом?
— Ты же прекрасно знаешь, я не могу этого сделать.
— В последний раз доктор сказал, что он у меня здорово снизился.
— Тем более незачем мне смотреть в истории болезни, — говорит сестра, берет поднос и выходит в коридор.
Светает. Клиника просыпается. Клиника — это муравейник. Улей. Продукт коллективного труда. Огромный живой организм. Огромный отряд людей, которые здесь работают. Огромный отряд пациенток, которые лежат здесь, иногда и подолгу. Целый конгломерат зданий, оборудования, инвентаря. Взглядов и мнений, которые здесь возникают и процветают. Политических решений, которым клиника вынуждена подчиняться.
Клиника просыпается и начинает жить.
В половине девятого бледное зимнее солнце поднимается над крышами. Его косые лучи падают в палаты, освещают кровати.
С улицы доносится шум автомобилей.
Невысокая худощавая женщина заходит, таща за собой огромный лоток с газетами, еженедельниками, женскими журналами и журналами для мужчин, гороскопами, кроссвордами, фруктами и сигаретами, зубочистками, туалетным мылом, одеколоном, косметикой и множеством других вещей, которые должны скрасить жизнь обитательницам клиники.
Оливия с трудом выбирается из постели с десятикроновой бумажкой в руке.
— Эй, Оливия, по-моему, апельсинов тебе нельзя.
— Апельсины полезны для зрения, я стала так плохо видеть.
— Мне «Роман-газету» и «Экстрабладет». Сигареты «Сесиль» и «Черный пудель», — говорит Линда.
— А мне «Берлингске», — говорит Гертруда. — И «Жить лучше». Спасибо.
Оливия возвращается в постель, прижимая к себе пару оранжевых апельсинов и «Датскую семейную газету».
Линда сидит, положив под спину подушку и развернув на одеяле купленный журнал.
— Безработица, безработица, безработица! Хоть не читай газет. Вот пожалуйста, еще одна фабрика закрывается.
— Нет, вы подумайте! Здесь сказано, что принц Чарльз обручился с Каролиной Монакской.
Некоторое время слышится лишь посасывание и почмокивание да шуршание свежих газетных листов, которые просматриваются в трех кроватях нулевой палаты.
Четвертая кровать пуста, и постель накрыта голубым пластиком.
Обход. Пациентки смирно сидят на своих кроватях, тщательно причесанные, ногти на ногах свеженакрашены.
Зав. отделением входит в палату № 0, где уже толпятся медсестра, старшая сестра, две помощницы акушерки и нянечка.
Спокойно, неторопливо переходит он от кровати к кровати, подолгу вчитывается в историю болезни, гораздо дольше, чем это в обычае у молодых врачей, и ласково спрашивает:
— Ну, как дела, фру Эриксен?
— Спасибо, прекрасно, — отвечает Гертруда.
— Да, похоже, что у вас все идет прекрасно. Давайте во вторник обследуем фру Эриксен.
Сестра делает себе пометку.
— А как дела у фру Линды Ларсен?
Линда не может вымолвить ни слова. В глазах стоят слезы.
— У фру Ларсен боли в спине в результате травмы, полученной несколько лет назад, — поясняет старшая сестра.
— Может быть, попробовать массаж? — Врач заглядывает в историю болезни. — Давайте-ка пощупаем ваш животик.
Акушерка подходит к кровати и кладет руки Линде на живот.
— Можно я на Рождество поеду домой? — шепотом спрашивает Линда.
— Такая возможность не исключается.
— А можно мне спать с мужем?
— Вот этого я вам решительно не советую.
Линда прячет лицо в одеяло.
— Ну а у нас как дела? — Зав. отделением останавливается перед кроватью Оливии, бросив взгляд на табличку у нее в изголовье. Полустертая карандашная надпись гласит: «Диабет».
— Временами я очень плохо вижу.
— Мы направим вас к окулисту. Он посмотрит ваши глаза.
— И потом, господин доктор, хорошо бы кесарево мне сделали двадцать восьмого. Тогда мой муж сможет принять участие в лотерее.
— Посмотрим.
— Там больше трехсот выигрышей. — Оливия умоляюще смотрит на старшую сестру и повышает голос, словно боясь, что ее не расслышат: — Моей золовке досталось полпоросенка. Он у нее и сейчас в морозилке лежит.
— Вот и чудесно!
Зав. отделением направляется к выходу.
— Хорошо бы меня оперировали хоть двадцать девятого, моему свекру как раз стукнет семьдесят!
Дверь тихонько закрывается.
— Черт возьми! Это просто свинство с его стороны. Ну почему он не разрешает мне спать с Алланом? — говорит Линда, чуть не плача.
— Да врачу совершенно все равно, чем ты занимаешься у себя дома, — говорит Гертруда. — Ты что, одолжение ему делаешь, что лежишь здесь?
— О Господи! Ну хотя бы один разок. Разве он понимает, что такое быть женой Аллана!
— Пойдешь на обследование, смотри, чтоб врач особо не ковырялся, — говорит Оливия Гертруде, утомленно прикрывая глаза. — Он знаешь, как больно делает!
После обхода персонал собирается в дежурке.
Пациентки крадутся по коридору, держа в руках баночки с мочой и поглядывая краем глаза на сборище за стеклянной дверью. Похоже на немой фильм, где персонажи, сидя за столом, пьют кофе и едят печенье. Старшая сестра, видимо, отчитывается перед зав. отделением, потом слушает его замечания. Медсестра с шариковой ручкой в руке склонилась над раскрытой папкой с пластмассовыми карманами, готовая записывать указания на маленькой цветной карточке. Зав. отделением обеими руками описывает в воздухе круг. Старшая сестра кивает. Чашка с кофе застыла в воздухе между блюдечком и ее губами.
Такое впечатление, что на этих утренних летучках решается судьба пациенток. А что, ведь эти люди в белых халатах, наверное, и вправду сейчас решают, что с ними будет дальше? Кого вскоре выпишут. Кому будут делать кесарево сечение, а кому предоставят разрешиться от бремени старым, как мир, способом — через влагалище.
А кто-то будет вынужден набраться терпения и убедить себя в том, что придется лежать здесь еще целую вечность.
В 12 часов в палату вносят дымящиеся тарелки и расставляют по тумбочкам.
— Гертруда, ты будешь рыбу?
— Рыбу я обожаю!
— А я терпеть не могу! У нас дома рыбы никогда не бывает. Ни рыбного филе, ни фрикаделек — ничего такого, что имеет отношение к этой холодной твари. Я ни за что к ней не прикоснусь. Никогда в жизни!
Рослая, плечистая Оливия низко склонилась над тарелкой и пристально вглядывается в отварную треску с картошкой. Отдельно на маленькой тарелочке сырые овощи. Слава Богу, а то ведь и в рот не полезет.
Гертруда осторожно выбирает из рыбы косточки, выкладывает одну за другой на край тарелки, разрезает картофелины на аккуратные, одинаковые куски.
Она любит, чтобы во всем был порядок. Если рыба, то очищенная. Салфетка — твердо накрахмаленная. Карандаш — остро отточенный. Порядок. Симметрия. Так и только так.
Покончив с едой, она составила все на поднос, спустила ноги с кровати, сунула их в розовые, отделанные мехом туфельки и, выпрямившись, легкой походкой отправилась с посудой в коридор.
Послеобеденный сон легок и некрепок. Он — как трепещущая на ветру белая простыня, которую вывесили для просушки. Женщины спят, лежа на спине или на боку, и их дыхания почти не слышно.
Желтые и бледно-розовые тюльпаны на длинных стеблях склонили головки, растопырив зеленые копья листьев, и, кажется, тоже дремлют в вазах.
Спать днем приятнее и уютнее, чем ночью. Все мрачные мысли куда-то улетучиваются в этом сладком, отрадном послеполуденном сне.
Большие животы тоже успокаиваются. Каждый живот — как маленькое озеро, в котором плещется рыба. Барахтаются маленькие ручки и ножки. Жидкость толкается в брюшную стенку.
Живот — это земной шар. Живот — это Вселенная со своими планетами и созвездиями. Живот — это барабан. Живот — это тучная корова на лугу. Большая мышца в форме груши. Загадка.
В разгар сна дверь открывается. Оказывается, нулевая палата сегодня проспала. Настал час посещения.
Трое в по-зимнему темной одежде тихонько заходят в палату. Гертруда вскакивает.
— Ох, извините, я не успела причесаться!
Гости снимают шубы и шарфы и осторожно складывают в ногах свободной кровати возле умывальника. Затем просят у Оливии разрешения взять стул и усаживаются вокруг Гертруды.
Они распаковывают цветы. Именно те, что и положено в этом случае и в это время года. Разговаривают они приглушенными голосами, чтобы не потревожить двух других пациенток.
Пожилая дама протягивает Гертруде маленькую книжку, и Линда слышит, как она шепчет:
— А уж разрезать ее тебе придется самой, Труда.
— Спасибо, мама.
— Может, все-таки нам попытаться выхлопотать тебе отдельную палату? — шепчет совершенно седой господин.
— Но Труде вовсе не хочется лежать одной, правда, Труда? — шепчет молодой человек в клетчатом шарфе. Рука жены в его руке.
Там лежат те, кто может себе это позволить, думает Линда. Вроде вот этих. Она перевертывается на бок, отворачивается к окну, зажигает сигарету и раскрывает свою любимую «Роман-газету». Первый рассказ называется «Под звездами» — «Place of many stars». Линда делает глубокую затяжку и начинает читать.
— По-моему, вы просто рехнулись, — сказал Керри парень с бензоколонки, заливая бензином бак ее красной спортивной машины. — Окончательно рехнулись! Ни за что вам эту дорогу не одолеть!
Керри Каупер скрестила руки и улыбнулась ему. Но ее синие глаза светились решимостью. Она упрямо встряхнула длинными светлыми волосами.
— Почему же? — говорит она. — Я не первая, кто решил объехать на машине всю Австралию.
— Ну, мы пойдем, Гертруда. Не будем вам мешать, — шепчет пожилая дама и тянет за рукав мужа. — Пошли, Георг.
Родители помахали на прощанье и удалились.
— Муж у тебя что надо, — говорит Оливия.
— Ты находишь?
— А чем он занимается?
— Он инженер. Окончил Политехнический.
Сидит, командует, а на него работают, думает Линда.
— А тот, пожилой, — твой отец?
Гертруда кивает.
— Он еще работает или как?
— Он заведующий отделом в министерстве торговли.
Когда солнце уже садилось, в палату вошла медсестра в сопровождении длинноволосой мрачноватой девицы в вязаной шапочке и поношенной цигейковой шубке. Сестра помогла ей разобраться, показала шкаф и громко объявила:
— Это Мария Хансен. А это фру Ольсен, фру Ларсен и фру Эриксен.
Потом она отметила ее поступление на табличке над кроватью и вышла. Новенькая медленно, с трудом разделась и вытянулась на кровати, заложив руки за голову и упершись взглядом в потолок. Ясно было, что разговаривать у нее нет охоты.
Из окон палаты видно, как солнечный диск, опускаясь все ниже, приближается к горизонту и становится все больше и больше. С водянисто-красного зимнего неба падают ледяные шарики, какой-то миг полежат на крышах домов и тут же тают.
Уходя за горизонт, солнце оставляет на небе красную полоску, будто окровавленную повязку, кусочек марли, который понемногу впитывает в себя весь свет.
На короткое мгновение ярче разгораются все краски — желтые автобусы становятся желтее, дорожные указатели и вывески магазинов на Тагенсвей словно светятся собственным светом — пока синяя тьма не начнет выползать из переулков и дворов и подниматься из подвалов.
Нелегко привыкнуть к тому, что ужин подается уже в пять часов. Но тут ничего не поделаешь. Таков распорядок дня в клинике.
Обычно это бутерброды из расчета по четыре на человека. Но при желании можно получить больше.
Оливия в ужасе смотрит на свой диабетический рацион.
— Господи Боже, я думала, хоть пиво дадут. А эту бурду я и в рот взять не могу.
Гертруда пьет только пахтанье. Бережет фигуру. Глядя на нее, трудно поверить, что она на девятом месяце.
Новенькая взяла себе яблочный сок. Вид у нее все такой же неприступный. Кашляет и сморкается, на губе лихорадка.
— Запомните! — громко объявляет маленькая толстушка, дежурная медсестра. — Стаканы в палате не оставлять. Они нужны другим.
— Молодец! — Оливия хлопнула сестричку по плечу. — А где, скажи, ты спрятала мою тарелку с сырыми овощами?
Новая пациентка, Мария Хансен, стоит в конце длинного коридора и пытается сориентироваться. Смотрит в окно на краны и бульдозеры — это клиника ведет строительство.
Молодой месяц, острый и прозрачно-фиолетовый, висит наискосок над крышами, глядя на мерцающие огоньки города.
Мария оборачивается и смотрит вдоль длинного, с низким потолком коридора. Он тих и темен. Вдоль стен стоят шкафы, столики на колесах и составленные штабелями стулья.
Как раз слева от нее палата № 0. Затем следуют № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5. Больше палат здесь нет.
За нулевой палатой расположены туалет и душевая. Затем идет малюсенькая чистенькая кухонька. А затем дежурка за стеклянной дверью.
Мария осторожно стучит в стекло и кивает акушерке, склонившейся над историями болезни.
— В чем дело?
— Не дадите ли чего-нибудь от кашля? Так першит в горле!
Акушерка берет ключ, висящий на цепочке у нее на поясе, и отпирает настенный шкафчик с лекарствами. Маленькая лампочка бросает свет на узкие полки, заставленные стаканами и пузырьками из темного стекла.
Мария тыльной стороной ладони вытирает рот и ставит стакан на стол.
— Сколько здесь больных?
— Сейчас человек, наверное, двадцать. — Акушерка смотрит на нее. — Какой у тебя срок?
— Восьмой месяц. По виду гораздо больше, да?
За дежурной идет смотровая и лаборатория, где проводятся всевозможные исследования, стекла и дверь здесь матовые, а дальше, наверное, моечная. С маленьким круглым окошечком в двери.
За моечной — кладовка и еще один туалет.
Последняя комната по правую руку — прямо возле входной двери — маленькая гостиная.
Мария заглядывает в нее.
Четыре женщины смотрят телевизор. При этом они вяжут, курят, сосут шоколад и успевают еще болтать без умолку.
— Ты вообще-то спрашивала?
— Нет. Боюсь показаться дурой.
— Да ну, не дрейфь. Чего ж им не ответить? Давай я помогу тебе составить вопрос.
Около семи часов захлопали входные двери в конце коридора. Посторонние люди в темной зимней одежде — взрослые и дети — растекаются по разным палатам, и нянечки с ног сбились, добывая вазы для цветов, которые несут посетители.
Угловатая остроносая женщина, затянутая в узкое демисезонное пальто, в очках с толстыми стеклами, открывает дверь нулевой палаты. Остановившись у раковины, она перебегает взглядом с одного лица на другое.
— Привет, мам.
— Здравствуй, Линда.
— Надо же, выбрала все-таки время навестить!
Демисезонное пальто присаживается на стул возле кровати. Молчание. Но сколько можно молчать? Худенькой рукой Линда разглаживает одеяло, придумывая, о чем бы заговорить. Ей очень хочется быть поласковее, но она не знает, как начать.
— Тут вот яблоки, — говорит мать, глядя сквозь толстые очки куда-то в стену, мимо Линды.
— Как там отец?
— Да ничего.
— А Анкер?
— Теперь все в порядке.
Как всегда, оставаясь наедине с матерью, Линда испытывает только мучительную неловкость и отчужденность.
Муж Гертруды врывается в палату, как порыв ветра, концы клетчатого шарфа трепещут за спиной.
Он наклоняется к Гертруде и что-то шепчет ей на ухо.
— Ха-ха-ха! Не может быть!
— Ей-Богу! Сама увидишь…
Одной рукой он обнял Гертруду за плечи, в другой держит каталог фирмы обоев.
— Как вот эти, нравятся?
— Да, пожалуй. А что тогда в столовую?
Девушка в длинношерстной афганской дубленке расположилась на кровати Марии в самом изголовье. Близко наклонившись друг к другу, они оживленно перешептываются. Девушки так похожи, что не может быть никакого сомнения — это сестры.
Только у Оливии, как всегда, нет посетителей. Но она, как ни в чем не бывало вяжет, поднося вязанье к самым глазам. И хотя настольную лампу она повернула так, что свет падает прямо на ее рукоделие, она все-таки упускает петлю и чертыхается.
В каждую тумбочку встроено радио. Сделано это так, что слушать можно только через наушники. Мария пробует, как оно работает, находит первую программу, ложится в наушниках на подушку и закрывает глаза.
…с вьетнамским рисом продолжается. Силы Национального фронта Освобождения Южного Вьетнама недавно заняли четвертый районный центр в Южном Вьетнаме. За последнее время они освободили многие населенные пункты. На очереди уничтожение опорных пунктов, которые Сайгон до сих пор использовал как исходные позиции для попыток захвата освобожденных территорий. Боевые действия ведутся в основном в дельте Меконга и в окрестностях Сайгона, потому что именно на этих территориях, граница между которыми очень неустойчива, власть находится в руках Временного революционного правительства Южного Вьетнама и правительства Сайгона. Между тем урожай риса…
— Давай-ка сделаем укольчик.
У кровати Оливии акушерка. В руке у нее шприц с инсулином.
Оливия улыбается, открывая испорченные зубы, кладет вязанье, встает с кровати и задирает больничную рубашку. Акушерка вонзает иглу в белую плоть. Гертруда, содрогнувшись, отворачивается.
— Ну, вот и все. До следующего раза.
— А ты не послушаешь ребеночка, а, Расмуссен? Пожалуйста.
— Ну уж ладно, ложись давай.
Акушерка склоняется над Оливией, кладет ладони ей на живот, осторожно нажимает. Ее руки легко и очень уверенно скользят по окружности большой мышцы.
— Вот здесь у него ножки, — говорит она. — Похоже, он у тебя весит чуть побольше шести фунтов. Что ж, это неплохо.
Пациентки любят, когда акушерки ощупывают им живот.
— Представляешь, в воскресенье придет Хольгер, — говорит Оливия, оправляя рубашку. — Я так рада, так рада, сказать невозможно! Мы не видимся по две недели. Это же просто пытка.
— А кто он у тебя?
— Он рабочий. Но теперь он на пособии вот уже полтора года. Последний раз он работал на фруктовой плантации в Скельскёре — а потом вдруг оказалось, что он им больше не нужен. Так что теперь он дома, воспитывает нашего сына.
Оливия с гордостью показывает портрет в пластмассовой рамке. На нем кудрявый светловолосый мальчуган с мишкой в руках.
— У нас есть еще моя инвалидная пенсия, но ее ненадолго хватает. Разве это деньги, если хочешь чем-то побаловать своего ребенка.
— Твоей пенсии вместе с пособием по безработице вполне достаточно, чтобы хватало на жизнь, — вмешивается Гертруда, отложив щетку для волос.
— У Хольгера больная спина. Из-за мешков, которые он таскал два года назад. Он ходит на лечение. Ну и жилье нам обходится не так уж дешево!
— И все равно, — настаивает Гертруда, ничуть не тронутая ее объяснением.
Две другие женщины видят на добродушном лице Оливии признаки раздражения.
— Думаешь, так уж весело получать эти подачки от властей? Лучше бы от них не зависеть.
— А чем плохо получать деньги от властей? — спрашивает Мария.
Впервые соседки по палате услышали ее голос.
— Слишком хорошо нам живется. Вот в чем дело, — говорит Гертруда, выбирая из щетки длинные светлые волосы. — Из-за этого и развелось столько бездельников.
И Гертруда легонько пристукнула кончиками пальцев по газете, словно именно оттуда она почерпнула свою мудрость.
— А меня вот уволили, когда узнали, что я беременна, — подает свой тоненький голосок Линда. — Я служила в конторе одной крупной фирмы и неплохо справлялась со своей работой.
— Сколько тебе лет-то? — спросила Гертруда.
— Будет двадцать один.
— Господи! И чего ж ты так торопишься завести ребенка?
— Да я ни о чем другом и не мечтала после выкидыша прошлой осенью.
И Линда спряталась за своей «Роман-газетой».
Итак, субботним утром, когда она, как договорились, ждала, что Дон придет к ней и сообщит, что взял билеты на самолет, вместо него пришел Уилл с письмом. В нескольких небрежных фразах Дон сообщал, что в данный момент жениться он не настроен…
Ночью разразилась буря. Рваные облака несутся по небу, то и дело закрывая молодой месяц. Порывы ветра бьются в больничные окна, точно обезумевшие птицы. Стекла дребезжат в рамах. Ледяной холод ползет из-под дверей, растекаясь по полу. Во мраке больничного коридора, в отделении для невезучих что-то мечется, свистит…
Линда всхлипывает во сне.
Слышится ужасный, пронзительный вой кареты «скорой помощи». Она останавливается внизу.
Марии не спится. Она кашляет и задыхается. Проклятая простуда. Три-четыре раза в год она непременно ее настигает.
Она вновь и вновь вспоминает разговор, который привел в конце концов к тому, что она оказалась в этой палате.
— Возможно, вы забеременели на месяц раньше, чем полагаете, — сказал светловолосый врач в консультации.
— Нет. Совершенно исключено. Я уверена, что буду рожать десятого февраля.
— Можно я посмотрю ваш живот?
Он осторожно прощупал ее живот, потом посмотрел результаты исследования ультразвуком, которые ей только что сделали.
— Слишком много воды!
— Я и чувствую себя неважно.
— Это излишняя нагрузка на вас и на ребенка.
— И чем это грозит?
— Может помешать развитию плаценты. Мы не имеем права отпустить вас в таком состоянии. Я считаю, что вы должны лечь в клинику, сегодня же! Можете вы это сделать? Вы ведь работаете и, конечно, захотите зайти домой, попрощаться с мужем?
— Я не замужем, а мои родители живут в Ютландии. Но на работу надо сообщить.
— А где вы работаете?
— В детском саду в центре города.
«Может помешать развитию плаценты…» Мир померк. Марии казалось, она катится вниз по откосу с горы. Она же так гордилась своей беременностью. Значит, с ней и вправду что-то неладно. Значит, это была не просто мнительность.
Она пытается отогнать от себя неприятные мысли. Поворачивается на бок, подтыкает под спину одеяло, чтобы удобнее было лежать. Ах, если бы сон подкрался сейчас к ней, принял бы в свои объятья и унес с собой в безбрежный серый океан…
Но как раз в тот момент, когда она готова вот-вот соскользнуть в небытие, ее снова выбрасывает на поверхность, и снова сна ни в одном глазу.
«Может помешать развитию плаценты». Плацента для плода жизненно необходима. Мария зажигает лампочку над кроватью и прислушивается к свисту ветра за окном. Если бы у нее были часы. Сейчас, вероятно, около четырех. Поздно уже принимать снотворное и слишком рано еще, чтобы вставать. Самое тяжкое время между вчера и сегодня.
Неожиданно, словно мертвец из гроба, поднимается Линда. Она простирает руки в слишком длинных рукавах и бормочет:
— Нет-нет, ох, нет!
17 декабря, вторник
Нулевая палата квадратная, в ней много света. Стены окрашены серой краской, потолок белый. Сквозь жалюзи можно видеть старые, более низкие здания. Это бывший военный госпиталь — красные кирпичные стены и красная черепица крыш.
Мария оглядывает помещение. На кроватях у окон спят самая высокая женщина в палате Оливия и маленькая тощенькая Линда. Рядом с Линдой — златокудрая Гертруда. Рядом с кроватью Гертруды шкаф для одежды, а возле кровати Марии раковина умывальника.
На стене над кроватью Оливии висит цветная фотография — два светло-серых котенка. Это создает какое-то игривое, легкомысленное настроение. Других картин в палате нет, только фото на тумбочках у пациенток.
— Фру Ольсен, вам к окулисту!
Медсестра открывает шкаф, достает коричневое пальто Оливии и коричневые полуботинки.
— Вот смотрите: здесь на талончике сказано, куда надо идти. Выйдете на лестничную клетку и спуститесь на лифте в глазное отделение.
Огромная сутуловатая фигура Оливии маячит посреди комнаты. Ее длинные белые ноги в коричневых башмаках — как два дерева в кадках.
Длинным указательным пальцем она тычет в Линду.
— Если приедет киоск, купи мне эту штуку, знаешь какую? А то я умру!
Линда махнула ей своей «Роман-газетой».
Баська трет и трет пол отжатой половой тряпкой. Думаете, легко довести его до стерильной чистоты?
На Баське зеленый нейлоновый халатик с короткими рукавами и шлепанцы. Губы у нее темно-красные, резко очерченные, уголки приподняты вверх. Временами она замирает, облокотившись на швабру, задумчиво глядя в окно. Взгляд ее устремлен в бесконечность.
— Баська, Баська!
Пациентки любят ее, и каждая старается привлечь к себе ее внимание. Это она выполняет их персональные заказы на покупки.
— Баська, ты давно приехала сюда из Польши?
— Чего?
— Давно ты в Дании?
— Шесть лет.
— Ты, наверное, большая патриотка, раз никак датский язык не выучишь?
— Чего?
— Ничего, проехали.
Линда лежит на спине, читает «Роман-газету». Роман «Под звездами» приближается к концу, и сладкие мурашки бегут у Линды по спине.
Керри прошептала: «Мне так необыкновенно хорошо сейчас, какая-то слабость, но все равно замечательно. Все кажется так хрупко и будто не взаправду». Рик ласково отстранил ее от себя и долго и нежно смотрел ей в глаза. Потом он убрал светлые, слегка растрепавшиеся локоны с ее лица, провел кончиками пальцев по ушам. Потом так же провел по носу и шутливо нажал на его кончик. «Очень хрупко, — согласился он. — Но все взаправду». Он обнял ее, прижал к себе и стал целовать долгими и страстными поцелуями. Никаких сомнений у нее уже не осталось — он любит ее, а она любит его. Он улыбался ей, и она, счастливая, вздохнула, и вдруг оказалось, что будущее, которое виделось таким печальным, таким неприветливым, теперь обещает миллион светлых, сияющих дней. Теперь над нами небо, думала Керри, сидя на лошади впереди Рика. А в небе много, много звезд… Конец.
Линда отложила журнал и смотрит в потолок. Она думает об Аллане. Будто это они с Алланом, на одной лошади, едут через всю Австралию, как Керри и Рик, и…
От этих мыслей ее отвлекла Баська, которая отодвинула ее тумбочку, чтобы вымыть пол.
— Ну, Оливия, не расстраивайся. Это же еще не наверняка. Может, и не так все плохо.
Но Оливия ее не слышит.
Маленькая Линда сидит рядом с ней на кровати, обнимая худенькой рукой широкие, сейчас безнадежно поникшие плечи.
— Он сказал совершенно ясно: зрение у меня ухудшается.
— Подумай о малышке, которого ты скоро увидишь.
— А если я ослепну!
Обе сидят молча и смотрят в пространство. Оливия всхлипывает и вытирает нос рукавом.
— Мне бы только видеть Хольгера и Калле. И маленького! Больше ничего не надо.
Линда протягивает ей бумажную салфетку. Она сама готова заплакать. И вдруг ее осеняет замечательная идея.
— Знаешь что, давай я тебе прочитаю твой гороскоп.
Оливия подняла голову.
— Ну давай, что ли… Я — Лев.
— Вот слушай. — Линда раскрывает «Роман-газету»: — Вы переполнены идеями, которые жаждете воплотить в жизнь. И хорошо, если вы понимаете, что необходимо все тщательно обдумать, прежде чем вы потратите много времени и денег на что-то такое, что не принесет вам желаемой прибыли. На этой неделе вам будет сопутствовать удача в игре.
— Как бы не так! Я же не смогу пойти на лотерею.
— Прочитай про Рыб, прочитай про Рыб! — кричит Гертруда из своего угла у шкафа.
— Пожалуйста. Слушайте гороскоп Гертруды: Похоже, появится возможность произвести кое-какие перемены в доме.
— А как же!
— Но следите, чтобы не взять на себя больше, чем вы сможете одолеть. Ваше материальное положение, похоже, стабилизируется. Постарайтесь держаться на этом уровне.
— Постарайтесь держаться на этом уровне! Ха-ха! — Гертруду прогноз явно развеселил.
Мария не очень прислушивается, о чем они там болтают. Она повернулась к ним спиной и читает зелененькую брошюрку. Внизу под текстом рисунок — рука держит фабрику, дымящую трубами. Последний абзац ей приходится прочитать три раза подряд, чтобы хорошенько разобраться в смысле. И все-таки до конца она так и не поняла.
Так в чем же дело? Почему термин Средства производства используется вместо термина Капитал? Что, разве Средства производства и Капитал не одно и то же? Нет. Капитал может принимать различные формы, в том числе и Средств производства. Но Средства производства — не всегда Капитал. Под Средствами производства понимается все множество Орудий производства, зданий, сырья и прочего, что используется людьми в промышленности.
— Ты что, всерьез изучаешь «Азбуку политэкономии»? — спрашивает Гертруда.
— А ты всерьез изучаешь свою дурацкую газету? — язвит Мария.
— Но ты же педагог в детском саду, да? Я, честно говоря, не хотела бы поместить своего ребенка в твой детсад.
Мария улыбается.
— Но ты же не коммунистка? — испуганно спрашивает Гертруда.
— А Хольгер — коммунист, — вмешивается Оливия. — И я тоже за них иногда голосую.
— А за кого, по-твоему, голосует Аллан? Сейчас, когда он без работы? — возмущенно кричит Линда со своей кровати у окна.
— Господи Боже! — Гертруда в отчаянии хватается за голову. — Надо же было мне попасть в такую палату!
Входит медсестра. В руках у нее большой запечатанный конверт.
— Что это вы все такие встрепанные?
— Да так, ничего.
— Линда, — говорит она. — Тебе на ультразвук. Вот твоя история болезни. Смотри, сама не вскрывай.
Легкая стычка на классовой почве в патологическом отделении не случайна, думает Мария. Конечно, Гертруде и в голову не придет отдать ребенка в мой детский сад. Она невольно улыбается. Вот уже полтора года, как они пытаются создать структуру коллективного руководства. Дело нелегкое. Пять супружеских пар уже забрали детей, а воспитательница на полставки и санитарка — обе подали заявление об уходе. Правда, с января придут двое новеньких.
Хороший народ, со стажем. Только бы сработаться.
Да, но то, что она сейчас угодила в больницу, ее коллегам жизнь не облегчило. Все женщины рожают детей, но в таком маленьком коллективе каждый работник на счету. Придется им искать ей замену на шесть недель раньше, чем предполагалось.
В последнее время проводилось множество всяких собраний. С родителями и с персоналом. С педагогами из других детсадов. Собрания в профсоюзе. Не говоря уже о семейных группах, на которые теперь поделили детский сад, чтобы иметь возможность подробнее поговорить о каждом ребенке. В последние месяцы четыре вечера в неделю были заняты подобными собраниями. А поскольку приходилось еще отсиживать лекции по политэкономии — это было уже чересчур.
Она устала и схватила простуду, и ей становилось все хуже и хуже.
Мария не замужем. Мать-одиночка — обычное явление в современном обществе. Больше половины родителей в их детском саду такие вот одиночки — и матери, и отцы. Супружество, похоже, уходит в прошлое.
Ее друга зовут Захариас. Он гренландец. Учится в педучилище и играет в одном гренландском бит-оркестре. Образцом им служит группа Суме и их новый солист певец Расмус Люберт.
Мария и Захариас еще не пробовали жить вместе. Был разговор о том, чтобы вместе с другими, у кого тоже дети, организовать своего рода коммуну. Чтобы жить в коллективе. Вот это было бы дело.
Ребенок не был запланирован. Но и не явился такой уж неприятностью. Когда Мария обнаружила, что беременна, она была очень рада.
Двадцать восемь — как раз подходящий возраст для того, чтобы обзавестись ребенком.
Если б только не это вот многоводье. Так не повезло!
Линда в ультразвуковом кабинете. Она лежит на узкой кушетке, живот ей смазали арахисовым маслом. Каждую минуту она ждет, что вот ей будет больно. Но боли нет. Только щекотно.
И все-таки Линда сжала кулаки, в ней напряжена каждая мышца. Никак она не научится расслабляться.
Молодой мужчина с черными усиками водит по ее животу металлической штукой — взад и вперед. Вообще-то, аппарат здорово смахивает на тот, что стоит в кабинете зубного врача.
Молодой врач посматривает то на ее живот, на котором пупок торчит, точно пробка, то на экран аппарата, стоящего перед ним на низком столике.
На экране вырисовывается картина из белых точек и штрихов. Время от времени врач задерживает движение металлической штуки и фотографирует изображение на экране с помощью поляроидной камеры. И тут же вынимает мокрый снимок и через плечо передает светловолосой женщине, которая все это время стоит у него за спиной и смотрит. И все это время они вполголоса весело переговариваются. Линда слышит, что они обсуждают график рождественских каникул.
Звонит телефон. Блондинка берег трубку, слушает, поднимает голову и вполголоса обращается к врачу:
— Это снизу, из консультации для беременных. Они спрашивают, можем ли мы подтвердить foetus mortuus[1]?
— Foetus mortuus?
— Да. Пациентка ощущает онемение матки. Пробы на беременность положительные, возможно потому, что ткань плаценты не повреждена. Алло! Да! Можем.
Она качает ногой.
— Сможем ли мы констатировать перелом шейного позвонка? Да, я думаю, сможем. Пусть пациентка поднимется к нам немедленно.
Она со вздохом кладет трубку. Боже мой! Взгляд ее падает на Линду, которая лежит затаившись, как мышонок, на своей кушетке.
Линда все слышала, но ничего не поняла. Она лежит и смотрит на экран. Наконец, набравшись храбрости, спрашивает о том, что ее занимает больше всего.
— А мою больную спину можно посмотреть?
— Нет.
— А кто у меня — мальчик или девочка, — можно увидеть?
— Нет. Но можно примерно прикинуть, какой у вас срок. И потом, можно увидеть плаценту и расположение плода.
— Хотите посмотреть изображение своего ребенка? — спрашивает светловолосая. — Вот смотрите, здесь отчетливо видно головку и туловище, а вот это ручка…
Когда Линда немного погодя, замерзшая, на негнущихся ногах, сжимая в руках большой конверт, выходила из дверей, навстречу ей попалась юная пара. Оба в куртках «аляска» с большими меховыми воротниками. Парень обнимает девушку за плечи, у девушки совершенно потерянное лицо.
— Ну как парень из ультразвука, хорош, а?
Линда давно уже заметила, что Оливия заглядывается на мужчин.
— Да, он очень симпатичный.
— Еще бы! — Оливия подмигнула Линде. — Небось не удержалась, заглянула в свою историю болезни.
— Да ты что, Оливия! — возмутилась Гертруда. — Такие вещи ни в коем случае нельзя делать. Это нарушение правил.
— Если бы я могла понять хоть слово из того, что они там пишут, я бы обязательно заглянула, — говорит Оливия.
Мария устроилась в гостиной. Просто для разнообразия. Она сидит в кресле, на коленях у нее развернутая газета.
На диване женщина в синем халате. Щеки у нее запали, да и живот не слишком велик. Если не знать, что у нее двойня, ни за что не догадаешься.
Рядом с женщиной сидит ее муж, здоровенный детина, который, сам того не ведая, ходит в отделении под кличкой «Страшила Ольферт». Это-то Линда успела ей сообщить.
На стуле сидит отпрыск этой парочки, пятилетний Ольферт, и играет с резинкой.
Слезы тихо бегут из глаз женщины, но мужа это, видимо, ничуть не трогает.
— Мне наплевать, Ивонна, — говорит он. — Реви сколько хочешь. Мне впору самому завыть. Кто, черт возьми, по-твоему, должен обслуживать телефон, пока тебя нет? Можешь ты мне это сказать?
— Разве твоя мать не может помочь?
— Мать! Да что она понимает в нашем деле!
— Я знаю, что тебе трудно.
— Да, черт возьми! Очень трудно! Одному мне никак не справиться.
Страшила Ольферт так грохнул кулаком по столику, что пепельница подпрыгнула.
Ивонна пустыми глазами смотрит в пространство.
— Они сказали, что, если я выпишусь, они снимают с себя всякую ответственность.
— И прекрасно. Бери ответственность на себя.
Линда и Оливия в ванной помогают друг другу расчесывать волосы.
— Я слышала это собственными ушами, — говорит Оливия.
— Ультразвук? Ты уверена? — переспрашивает Линда, сжимая зубами заколку. — Неужели вреден?
— Точно. Говорят, в Швеции его вообще запретили.
— Нет-нет, не может быть, — чуть не плачет Линда.
Занавеска, отгораживающая душ, висит криво. Все здесь, в ванной, старое, изношенное и плохо работает.
В гостиной пусто, но телевизор включен.
На экране беззвучно мигает таблица. Пепельница на низком столике перед диваном полна окурков, смятых оберток от шоколада и сигарет.
Ивонна поправила подушки, выключила телевизор и сидит нахохлившись, втянув голову в плечи и глядя в пространство. Ей страшно подумать о ночи, которая обступает ее со всех сторон.
Потом она встает, плотнее запахивает темно-синий халат и медленно бредет по длинному, пустому в этот час коридору.
Дежурка тоже пуста, но настольная лампа горит, и на раскрытом кроссворде лежат очки и вязанье.
Ивонна подходит к большому окну в конце коридора, останавливается, держась одной рукой за бок, другой за спину, и смотрит вниз, на стройплощадку. Краны и строительные леса спят в темноте. Лишь немногие неоновые трубки освещают крыши вагончиков и дощатый забор.
На небе меж облаков сияет созвездие Ориона.
18 декабря, среда
Палата № 2. Здесь лежит только одна пациентка. Сигне Даль, гончар из Лейре.
— Давайте мы вас осмотрим?
Зав. отделением кивает молодой акушерке, которая стоит возле него, заложив руки за спину.
Та подходит к пациентке, кладет ей на живот красивые узкие ладони. Они скользят по животу от груди до паха, осторожно прощупывают нижнюю часть матки, затем медленно движутся снова вверх. Под конец она повернулась к пациентке спиной и принялась прощупывать низ живота.
— По-моему, воды не так уж много, — говорит она, глядя на заведующего. — А ребенок весит кило восемьсот, не больше.
— Пожалуй, так оно и есть.
Сигне садится на кровати.
— Меня очень беспокоит, что, возможно, количество эстриола снизилось у меня гораздо раньше, чем это было обнаружено.
— Теоретически это допустимо, но в данном случае мы такую возможность исключаем.
Врач улыбается.
— Что вы читаете?
Он берет верхнюю из стопки книг на тумбочке.
— «Керамика и датская керамическая посуда». Прекрасно, что вы не теряете времени даром.
— Привет, Баська!
— Привет, Сигне!
Уборщица-полька единственная из персонала, которая называет пациенток по именам. Собственно, это не положено, но внедряется все больше и больше. Хотя принято к пациенткам обращаться по фамилии — фру такая-то, замужем она или нет и какого возраста, не имеет значения.
— Я купила тебе фруктов, — говорит Баська и ставит на тумбочку картонную коробку. В ней прикрытые кусочком розовой шелковой бумаги два авокадо и лимон.
— А как насчет крупной соли?
— Вот, пожалуйста.
— Ты просто прелесть, Баська. Спасибо тебе огромное.
В дверь заглядывает медсестра.
— Сигне Даль, вы, случайно, не воспользовались баночкой фру Ларсен? У вас в моче что-то не то.
— Нет, надеюсь, что нет, — говорит Сигне, смущенно запахиваясь в черное кимоно.
— Кстати, вам письмо — держите.
Большой белый конверт, оклеенный вдоль и поперек множеством марок.
— Это от детей.
— И много их у вас?
— Три девочки — шести, четырех и двух лет.
— Бог ты мой! И вам еще не надоело?
— Нет. Но вообще-то больше заводить мы не собирались.
— А где вы живете?
— В Лейре. В старой школе, где у нас керамическая мастерская. Мы оба гончары. А раньше мы жили в Копенгагене.
Она разложила на подушке содержимое пакета. Тут размытая фотография с перекошенной перспективой и забавное вязанье старшей дочери, что-то вырезанное из бумаги от средней и что-то совсем уж непонятное, накарябанное карандашом — от самой маленькой. Приложено коротенькое письмо от мужа. Сигне дважды перечитала его и положила в тумбочку.
Затем она приклеила скотчем на стену подарки от детей. Там у нее уже целый вернисаж.
И вновь на нее нахлынули сомнения и укоры совести. Она здесь разлеживается, а ее семья вынуждена управляться своими силами. Якобу приходится ухаживать за детьми и в то же время работать — месить глину, крутить гончарный круг, поддерживать огонь в печи, сушить, обжигать готовые изделия. Надо ведь и на жизнь зарабатывать. Слава Богу, ему хоть на работу ходить не нужно.
Да, эта беременность совсем не ко времени!
Первые семь месяцев, казалось, все было в порядке.
Сигне прекрасно себя чувствовала и даже радовалась. Она закончила свою работу с глазурью, и вместе с Якобом они взялись за выпуск новых изделий. Она регулярно проверялась здесь, в Государственной клинике. Тут родила своих троих детей. И так получилось, что и четвертого будет рожать здесь же, хотя за это время они успели переехать из Копенгагена в Лейре.
Но однажды, в начале декабря, раздался неожиданный звонок из клиники. Последний анализ показал, что количество эстриола в моче угрожающе снизилось. Необходимо срочно явиться.
Якоб отвез ее в город.
— Что за штука этот эстриол? — спросил он по дороге.
— Какой-то гормон, который выделяется в мочу. По нему можно судить, как функционирует плацента. И его должно быть много. А у меня мало!
В клинике их принял дежурный врач.
Он сказал, что по некоторым признакам ребенок не очень хорошо себя чувствует. К тому же и весит он всего 1200 граммов.
Кесарево сечение можно сделать немедленно. Кровь нужной группы приготовлена.
Сигне сказала, что просит их не беспокоиться.
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что раз ребенку плохо и он такой маленький, значит, не надо его трогать. Природа сама позаботится, чтобы все пришло в норму.
— Но послушайте. Если плод страдает, а матка не может его вытолкнуть, для ребенка же будет лучше, если его освободят механическим путем и поместят в кувез.
Сигне минутку подумала.
— Даже если вы сейчас сделаете мне кесарево, мой ребенок не будет жить в инкубаторе.
Врач в растерянности уставился на нее.
— Вы, конечно, можете рискнуть, и, возможно, ребенок все-таки выживет, но в кувезе будут значительно лучшие условия для его развития.
— Могу я сама решать, что лучше для моего ребенка?
Врач отрицательно качнул головой.
— Нет. Вы имеете право решать, сделать ли вам аборт. Но когда ребенок уже рожден, за него отвечаем мы.
— А когда ребенка уже можно рожать? — спросил Якоб.
— Когда наберет тысячу грамм. Так принято считать. Но иногда родятся дети с меньшим весом, чем положено, и ничего, выживают.
Но когда Сигне наконец примирилась с мыслью, что у нее нет выхода, кроме кесарева сечения, операцию отменили так же поспешно, как ранее назначили.
Поставили новый диагноз. Признали положение менее серьезным, чем полагали раньше.
Вместо операции предложили лечь на сохранение, а там — время покажет.
Прощаясь, Якоб крепко сжал ее руку.
— Значит, так надо, — сказал он. — Ты там береги себя. А за нас не беспокойся.
С этой минуты он остался один со всем хозяйством на руках.
К счастью, его мать живет поблизости. Но ей скоро семьдесят, так что ее особенно не загрузишь.
И вот Сигне уже около двух недель лежит здесь. И — никогда бы не поверила! — наслаждается непривычным положением. Какое же это счастье, впервые за много лет — да, за шесть лет — полный отдых! Можно спать, дремать, читать, принимать душ сколько тебе угодно. За ней всячески ухаживают, подают еду, за ней убирают. Можно пообщаться с людьми, с которыми в ином случае она никогда бы и не встретилась.
Но не всегда у нее такое прекрасное настроение. Временами ее одолевают сомнения, беспокойство. Четверо детей один за другим — не слишком ли много! Да и перерывы между родами чересчур коротки. Она не успевает восстановить свое здоровье. И к тому же она уж не молода. В 36 лет ребенок — тяжелое бремя. Якобу-то что, ему легче…
Три раза все сошло хорошо. Можно ли требовать большего?
Она вспоминает своих дочек — крепкие, здоровенькие, веселые детишки.
А ведь каждые последующие роды увеличивают риск осложнений и для беременности, и для самих родов. Идеальный вариант — вторая беременность. Так здесь обычно говорят.
А может быть, это из-за глазури она угодила в больницу? Все эти годы они работали с классической глазурью: кварц, каолин, свинцовый сурик с добавлением окиси железа или меди. У Якоба уже несколько лет назад находили отравление свинцом. Оба они отнеслись к этому спокойно. Но в июле было два случая, когда и у нее тоже онемели кончики пальцев. Это несомненный признак отравления.
Да, в июле. Тогда у нее не было еще и трех месяцев! Но все жизненно важные органы плода формируются уже в первые три месяца беременности.
Теперь-то она убедила Якоба, что нужно работать только с современной глазурью, где используется сплав кварца со свинцом, так что свинец в чистом виде не фигурирует. Новая глазурь хуже старой, но с точки зрения здоровья предпочтительнее.
Якоб! Она ужасно скучает по нему. Больше, чем по детям. Больше, чем по работе.
Честолюбивый молодой офицер обратил на себя благосклонное внимание своего командования и необыкновенно быстро сделал карьеру. Его направили сначала во Францию, затем в Россию, а по возвращении на родину он женился на фрейлине королевы Софии. В великосветских кругах он чувствовал себя вполне непринужденно, блестящий, обаятельный, душа общества. Пригодились ему и кое-какие слова и обороты, сохранившиеся в памяти с тех еще времен, когда он бывал в доме пробста.
Гертруда мужественно старается не слушать вульгарный, чтобы не сказать хуже, разговор между соседками по палате.
— Целых четыре года после рождения нашего первенца я боялась спать с Хольгером. Лежала доска доской и только думала, как бы опять это не случилось.
Гертруда упорно смотрит в книгу.
— Бог ты мой! Что же, негде было взять пессарий или презерватив? Это же так просто! — спрашивает Мария из своего угла, явно заинтересовавшись проблемой.
— Пять лет назад мы попробовали — и получили Калле! С первого же раза!
— А спираль не пробовала?
— Ну нет уж, спасибо. От нее можно рак заработать. Я сама читала в одной газете.
Газеты, газеты, думает Мария, как же здорово они просвещают население.
Линда с видом умудренной женщины продолжает давать советы:
— А пилюли? Они совершенно безвредные.
— Пилюли! — Оливия прямо взвилась. — Хочешь, чтоб у меня тромб получился? Я уже достаточно намучилась со всякими хворями.
Она вздохнула, разгладила свое вязанье.
— Но мне все-таки жалко Хольгера. Ведь он никогда не получает своего… Однажды я даже решила посоветоваться с нашим доктором. И знаете, что он мне ответил?
— Что же?
— А ничего! Ни словечка. Выписал рецепт от нервов. Как будто это может помочь. Особенно Хольгеру.
Мария, подперев кулаком щеку, рассматривает Оливию.
— А когда я снова забеременела, я чуть не умерла от страха. Я обнаружила это, когда было уже несколько месяцев, поздно было аборт делать. Первого я рожала так тяжело, но теперь вот у нас Калле, и мы не расстались бы с ним ни за что на свете — ни за какие блага!
Оливия улыбается, открывая испорченные передние зубы, портрету мальчугана в пластмассовой рамке.
— Они тут советуют мне стерилизоваться — все равно, мол, им ковыряться у меня в животе. Говорят, вам же лучше: будете получать полное удовольствие.
Оливия прищелкнула языком.
— Так что у меня есть надежда осчастливить Хольгера.
Гертруду прямо передернуло.
— Если у тебя диабет, больше двоих детей иметь нежелательно. Так они говорят. Уже третий ребенок может быть ослабленный. Ну вот мы с Хольгером и дали подписку на стерилизацию.
— А это не больно? — с опаской спрашивает Линда.
— Говорят, нет, не больно.
Оливия очень горда тем, что может сообщить столько ценных сведений по медицинской части.
Тебе, видно, ничего не стоит забеременеть, — говорит Гертруда, отрываясь наконец от книжки. — Я вот ждала этого восемь лет.
— Теперь-то я рада, что у нас будет двое детей, — раздумчиво добавляет Оливия. — Ведь при сахарной болезни приемышей брать не разрешается.
Разговор заглох.
Гертруда снова открыла книжку и продолжает чтение.
Великий певец Ашил Папен из Парижа в течение недели пел в Королевской опере в Стокгольме и, как всегда, буквально покорил публику. Как-то вечером одна из придворных дам, мечтавшая завести роман с великим певцом, рассказала ему о диком величественном пейзаже Норвегии. Его романтический дух воспламенился этим описанием, и по пути домой, в Париж, он объехал норвежские берега. Но он чувствовал…
— Интересная книжка? — спрашивает Линда, очищая яблоко.
Гертруда не отвечает.
— Гертруда, интересная у тебя книжка?
— Ужасно интересная.
— Роман?
— «Пир Бабетты». Карен Бликсен.
— А я как-то прочла классную книжку «Живи вовсю и умри молодым». Достань где-нибудь и почитай.
Заходит акушерка. Ее фамилия Расмуссен. Так ее все и зовут. Она спрашивает, не нужно ли кому-нибудь снотворное. Потом, переходя от кровати к кровати, прослушивает стетоскопом животы.
— Тик-таки-таки. Это стучит сердечко твоего ребенка, — говорит она Гертруде. — Точно карманные часики. Ты в прекрасной форме.
— Как ты думаешь, сделают они мне кесарево двадцать девятого? — спрашивает Оливия своим певучим голосом. — Хольгер так был бы рад!
— На этот вопрос я не могу тебе ответить, — говорит Расмуссен и поворачивается к Марии.
Мария поднимает глаза, довольная, что ее оторвали от брошюры, но все же отмечает ногтем последнее предложение.
К тому же имеются промежуточные группы — техническая интеллигенция, гуманитарии и пр., которые, конечно, работают за зарплату, но труд которых оплачивается по иным расценкам, чем у рабочих, и потому…
Она ложится навзничь и тут же ощущает неудобство.
Акушерка это замечает.
— Тебе неприятно лежать на спине?
Мария кивает.
— А что за болячка у тебя на губе?
— Да это от простуды.
Мария трогает лихорадку.
Расмуссен осторожно ощупывает раздавшийся живот.
— Воды у тебя явно многовато, — говорит она.
— А спустить ее нельзя?
— Нет. Она тут же восстановится. И к тому же после этого могут наступить преждевременные роды.
— А почему меня заставляют больше лежать и отдыхать?
— Это полезно для плода. Так он лучше питается, в плаценте активнее происходит кровообращение. Понимаешь?
— А эта лишняя вода не может повредить ребенку?
— Вообще-то нет. Вода не должна повредить — мало ее или много.
Расмуссен подняла голову.
— Что-то я не слышу биения сердца. Придется сходить за усилителем.
«Не слышу биения сердца». У Марии внутри все сжалось.
Акушерка вернулась с маленьким аппаратом, приложила его к напряженному животу Марии.
И он тут же зазвучал, будто включили допотопный радиоприемник. Нежный шелест, словно звездная осыпь.
— Перистальтика, — буднично констатирует Расмуссен. — А теперь, слышишь, мягкие, нежные толчки в такт с твоим пульсом. Это все утробные звуки. А вот и его сердечко, слышишь? Ишь, как работает, прямо машина.
Мария чуть не задохнулась от радости. Кашель бьет ее, в глазах блестят слезы. Нежное «тик-таки-таки» — это он, ее ребенок, он живет, его сердечко бьется.
В патологическом отделении Рёрбю и Расмуссен называют «Пара номер семь» — как знаменитых когда-то велогонщиков.
Они вечерние дежурные. Приходят в три часа и уходят в одиннадцать вечера, когда их сменяют ночные дежурные.
Они работают две недели подряд, а потом две недели отдыхают.
Рёрбю — нянечка, а Расмуссен — акушерка. То, о чем пациентки не смеют спросить у дневного персонала, чего не поняли во время обследования, — все это обрушивают они на вечернюю смену.
Рёрбю и Расмуссен находят время поболтать. Они могут и пошутить и поддразнить, заставив всех смеяться. И у обеих по двое детей, так что им не чужды тягостные мысли, одолевающие пациенток. Они понимают беременных женщин. Они говорят с ними на одном языке. К тому же они не расположены сентиментальничать.
Основательно поработав, приведя отделение в полный порядок и подготовив пациенток ко сну, Рёрбю и Расмуссен уходят домой. После их ухода становится как-то пусто и уныло, и безликая больничная атмосфера понемногу воцаряется в отделении, просачиваясь в палаты, настигая пациенток, укрывшихся под одеялами.
Укладываясь спать, Сигне думает о том, как ей, в общем-то, хорошо здесь, в клинике.
Ну да, ей все здесь нравится. Еда, совсем не похожая на ту, к которой она привыкла. Нравится, что в палате гораздо теплее, чем у них дома. Нравится персонал и товарки по несчастью. Судьба каждой женщины — это целая история, неважно, где она разыгрывается, в Копенгагене или в Скельскёре.
Всю свою взрослую жизнь Сигне работала, рассчитывала каждый шаг, целеустремленно продвигаясь от одного пункта к другому. В общем, вся жизнь в трудах и заботах.
И в ее нынешнем положении особенно нравится ей то, что у нее есть свободное время. Что над ней не висит бремя ответственности и она впервые в жизни может позволить себе спокойно размышлять.
Она долго лежит, наслаждаясь тишиной и вглядываясь в темноту.
19 декабря, четверг
В гинекологическом кресле, в помещении за дверью с матовыми стеклами, лежит Карен-Маргрете. На спинке стула висит ее халат в крупных цветах. Сбоку на маленьком столике она видит разные инструменты — зеркало, щипцы, стакан с тампонами, пульверизатор.
Она лежит на спине, высоко поднятые и разведенные в стороны ноги в белых больничных носках покоятся на специальных подставках. Слышно, как зав. отделением натягивает резиновые перчатки и медсестра кладет на живот пациентки свою легкую прохладную руку.
Врач, глядя в потолок, вводит средний и указательный пальцы правой руки во влагалище, ощупывает матку, шейку матки. Левая его рука скользит по поверхности живота. Осторожными движениями прощупывает он ребенка.
Карен-Маргрете старается расслабиться. Она обращает взгляд вверх и чувствует, как все ее тело наливается тяжестью. Дышит ровно и спокойно. Рука врача в ее влагалище словно куда-то отдаляется, и вдруг, к своему изумлению, она ощущает вспыхнувшее где-то глубоко внутри острое чувство блаженства.
Врач вполголоса обращается к медсестре. Она отмечает что-то в карточке.
— Так, спасибо, вы можете встать.
Он стягивает перчатки и листает исписанную историю болезни.
— Вам сорок один. А вашему мужу?
— Пятьдесят два.
— И это будут ваши первые роды. А прежде вам случалось забеременеть? Нет. Здесь вот записано, что раньше вы не беременели.
— Мы представить себе не могли, что нам так повезет, — шепчет она. — Мы оба так счастливы!
— Случаются ли у вас головные боли или головокружения?
— Да, иногда кружится голова.
— А тумана в глазах не бывает?
— Нет, но иногда вдруг начинает болеть голова. Такая противная сверлящая боль.
Его карие глаза улыбаются пациентке. Она благодарно улыбается ему в ответ.
С тех пор как Карен-Маргрете убедилась, что беременна, она только и думает о своем животе. Каждый Божий день. С утра до вечера. Что там внутри. Как оно выглядит. И хорошо ли ему там.
Она была счастлива. У нее прибавилось сил, и на работе она успевала больше, чем раньше. Живот был округлый и упругий. Врач был ею доволен. Кровяное давление несколько повышенное, но состав крови вполне удовлетворительный. Почки в порядке. Никакой отечности. Изредка побаливает голова. А вообще все показатели в норме.
Как это приятно, когда все в норме!
Так было до известного момента. Затем вдруг появились отеки, сначала на щиколотках, а спустя пару дней — и повыше. Слегка поднялось давление, и в моче появился белок. Вокруг нее захлопотали. Не страдает ли она мигренями? Да, случались приступы.
И вот ее положили на сохранение, и на табличке над кроватью появилась надпись «токсическая беременность».
Но сама Карен-Маргрете абсолютно спокойна и уверенна. Ничто не может поколебать ее радость и надежду. Ей должны помочь. И все будет в порядке.
— Если хочешь, я с удовольствием буду присутствовать при родах, — сказал ей муж.
— Ты серьезно говоришь?
— Конечно. Решай сама, как тебе лучше, а я со своей стороны готов…
— Я ужасно хочу, чтобы ты был со мной. Мне это очень поможет. И потом, мы, значит, будем вместе во всем, с самого начала.
Карен-Маргрете вешает свой цветастый халат на спинку стула у кровати, смотрит на свою соседку, семнадцатилетнюю Конни из Хундестеда.
Конни спит. Одеяло вот-вот соскользнет у нее на пол. Карен-Маргрете осторожно поправляет его.
В дверь заглядывает медсестра.
— Вам надо принять фенемал — пятьдесят миллиграмм.
По коридору, скрипя, продвигается большая тяжелая тележка с книгами. Ее тащит высокий молодой человек со светлой бородкой, а замыкает шествие пожилая дама в очках и белом халате, она подталкивает тележку сзади. Тележка останавливается у большого окна перед нулевой палатой.
— Не хотите ли чего-нибудь почитать?
— Спасибо, у меня есть, — говорит Линда, поспешно хватаясь за свою «Роман-газету»: еще навяжут какое-нибудь занудство.
— А вы?
— Мне читать нельзя, — говорит Оливия. Она по обыкновению вяжет, держа вязанье перед самыми глазами.
— Есть у вас что-нибудь про роды? — спрашивает Мария.
— Да-да. Вот, пожалуйста. Книжка называется «Психопрофилактика родов». Ее написала одна из наших здешних акушерок.
Библиотекарь протягивает ей тоненькую брошюрку в голубой пластиковой обложке.
— А простой смертный может это понять?
— Нет ли у вас Карен Бликсен? — спрашивает Гертруда.
Сквозь распахнутую дверь слышен разговор между молодым человеком и окружившим его персоналом отделения.
— Как насчет Агаты Кристи — может, подойдет? А Мария Ланг? Вале и Шёвалль, знаете ли, ничуть не хуже.
Пожилая библиотекарша собралась уходить.
— Не скажете вы мне, что читают люди, лежа в больнице? — говорит Мария. — Очень мне любопытно узнать.
— Что читают? Что читают… Во всяком случае, не слишком толстые книги. Что-нибудь такое, что можно прочесть за день-другой. Больше всего пациенты любят романы, такие, чтобы дух захватывало. А еще документальные истории из времен второй мировой войны, про шпионов, про подводные лодки, про диверсии и переправку беженцев. А также детективы и юмор. Мемуары тоже в ходу. Ну и женщин-писательниц многие любят. И само собой, всяческие руководства по вязанию, по оформлению интерьера…
— А как насчет длинноволосых?
— Этих народ не читает! Кто их может осилить! Если и читают, то лишь в психиатрическом отделении.
— Как вы назовете своего ребенка? — спрашивает Конни.
— Как-нибудь очень красиво, — мечтательно говорит Карен-Маргрете. — Каким-нибудь очень красивым именем. Мы думали, может, Брайан или Бенни.
— Да почему вы так уверены, что будет мальчик?
— Обязательно мальчик. Это было установлено, когда мне делали хромосомный анализ.
— А зачем они делали такой анализ?
— Потому что, изучая набор хромосом, можно выяснить, не будет ли ребенок монголоидом. Когда женщина немолодая, такая опасность увеличивается.
— А почему? — любопытствует юная Конни, уютно подсунув руку под щеку. Вряд ли она понимает, что такое монголоид или хромосома. С тем же успехом Карен-Маргрете могла бы сказать, что нужно изучить набор монголоидов, чтобы установить, что ребенок не будет хромосомой. Но это не имеет никакого значения. Конни просто приятно поболтать с Карен-Маргрете. Впервые в жизни с ней обращаются как со взрослой.
— Дело, вероятно, в том, что яичники у женщины с возрастом стареют, у мужчин-то сперма каждый раз обновляется, — поясняет Карен-Маргрете. — И еще, наверное, в том, что плацента чем старше, тем хуже функционирует. И знаешь, я очень благодарна, что о нас здесь так заботятся. Кажется, какие бы ни были у нас неполадки, они справятся. И вообще, мы здесь прямо как на курорте.
Конни энергично кивает, хотя она в жизни не бывала на курортах. Но все равно она готова согласиться со всем, что Карен-Маргрете ни скажет.
Когда Конни сюда положили, ей первым делом наказали поменьше двигаться. Проверили активность схваток и сутки держали под капельницей, потом сделали вливание для стимуляции работы легких у плода. Несколько дней она лежала с поднятыми ногами и получала только жидкую пищу, чтобы перистальтика не беспокоила возбужденную матку.
Даже в уборную ходить не разрешали. Приходилось каждый раз вызывать нянечку. Ужасно трудно было привыкнуть пользоваться судном. И к тому, что кто-то посторонний осторожно умывает тебя тепловатой водичкой с мылом, да еще спрашивает, не холодно ли тебе.
После капельницы, чтобы прекратить схватки, ей прописали пилюли по четыре раза в день.
В конце концов матка у нее настолько успокоилась, что ей разрешили вставать и самостоятельно ходить в туалет.
Но сама Конни вряд ли понимает, зачем с ней столько возятся. Что такого, если ребенок родится на месяц или два раньше? Дойдет в инкубаторе, только и всего.
Солнечные лучи падают в палату. Конни любуется ясным прозрачным декабрьским днем. Ей сказали, что на Рождество она сможет поехать домой.
Она раскрывает «Смотри и слушай» и читает первое, что попалось на глаза:
Когда занимаешься зимним спортом, очень важно пользоваться солнцезащитными очками. Если вы хотите во время отпуска побегать на лыжах, вам необходимо захватить с собой крем активного солнцезащитного свойства, потому что снег отражает солнечные лучи и усиливает их действие…
Тут Конни начинает зевать. Веки ее тяжелеют.
Солнцезащитные свойства, хромосомы, монголоиды, курорты… Она ложится и натягивает одеяло по самые уши.
Проходя мимо раскрытой двери в палату, Мария кивает Карен-Маргрете.
В своем белом халате и в пластмассовых босоножках она выходит на лестничную клетку, похожую на гигантскую шахту, вырубленную в каменной пирамиде.
Лифт со свистом носится вверх и вниз. Каталки катятся из одного отделения в другое. Вечно озабоченные врачи, сестры и акушерки бегают по ступенькам.
Все звуки здесь, на лестнице, холодные, жесткие. Пациентки, в тех редких случаях, когда им приходится сюда попадать, чувствуют себя очень неуютно. Чаще всего их вынуждает необходимость позвонить по телефону из кабины, которая находится в самом низу, у наружной двери.
Наружная дверь открывается и закрывается. Посетители в темной зимней одежде, заходя с улицы, выглядят здесь чуждо. Они неуверенно оглядываются по сторонам, и выражение лица у них при этом покорное, даже виноватое.
Мария занимает очередь к телефону. Ей надо позвонить Эве и Захариасу и попросить, чтобы они помогли ей отменить все дела, которые были у нее намечены на ближайшие недели. Она ведь не выйдет отсюда, пока не родит. С этим надо смириться, ничего не поделаешь.
Ледяной ветер со свистом выбивается из-под двери, холодит голые ноги пациенток.
— А мне разрешили уехать домой! — сияя от радости, сообщила Гертруда, когда Мария вернулась в палату.
Счастливая, — вздыхает Линда.
Гертруда достает из шкафа кожаную сумку и опорожняет тумбочку. Заботливо укладывает вещи в сумку.
— Возьмете мои тюльпаны? Жалко ведь выбрасывать. А газеты я сложила на подоконнике.
— Библиотечные книги я сдам за тебя, — говорит Мария.
В дверь стучат, и муж Гертруды смущенно заглядывает в палату.
— Ты готова?
Она кивает. Он перекидывает через плечо ее пальто и берет сумку. Свободной рукой он открывает перед ней дверь.
— Счастливо оставаться и спасибо за компанию — может, еще встретимся в родильном отделении!
Везет же некоторым, думает Линда. Такой галантный муж, как это здорово! Несет твои вещи, открывает перед тобой дверь — такая внимательность! Аллан этому никогда не научится, хоть вывернется наизнанку.
Пока раздавали тарелки с отварной грудинкой и тушеными овощами с петрушкой, черноволосая нянечка с потрясающим проворством убрала освободившуюся кровать. Использованное постельное белье сложено в мешок. Сверху чистая постель накрыта куском прозрачного голубого пластика — будто запломбирована.
— Господи Боже! Дел невпроворот, — вырвалось у нянечки. — Каждый раз перед Рождеством такая вот суматоха! Из-за этих волнений потом и начинают рожать все подряд.
Карен-Маргрете, кроме обычного рациона, получает еще два яйца в день. Но вот съесть их не так-то просто. Тем более что ей совсем не дают соли. Соли в отделении не полагается. А Карен-Маргрете и помыслить не может о том, чтобы нарушить порядок.
Конни же ест с жадностью. Кстати, у нее в тумбочке есть соль. Бутерброд с ростбифом она отложила на потом. Давно уж не приходилось ей попробовать такой вкусноты. Разве вот на конфирмации младшего братишки прошлой весной.
Вряд ли она задумывается над тем, что значит иметь ребенка. Просто будет ребенок, и все. Сначала он маленький, потом вырастет. А сама ты тут вроде и ни при чем. Вырастет, никуда не денется.
Старики, когда она сказала им, что ждет маленького, сначала подняли хай. Отец бегал взад-вперед по комнате и кричал, что яблоко от яблони недалеко падает. Но в конце концов мать сказала, что, мол, за беда, одним ребенком больше или меньше, прокормим. Но чтоб это было в последний раз! Заруби себе на носу, Конни.
19 декабря, четверг
— Как, девушки, будем сегодня смотреть телевизор?
Расмуссен стоит посреди палаты, под мышкой у нее торчит стетоскоп.
— Так это в гостиную надо идти, — говорит Линда.
— А я хочу наладить вам ваш собственный телевизор.
Все очень обрадовались, и Расмуссен принялась передвигать и переставлять мебель — кровати, тумбочки, стулья, — разбирать шнуры, удлинители…
Кровати она развернула таким образом — а это очень сложное дело, — чтобы каждая пациентка могла, лежа в наиболее удобном для нее положении, видеть экран, не затрудняя глаз.
— Ради меня можешь особенно не стараться, милая Расмуссен, — говорит Оливия. — Я все равно ничего не увижу.
Телевизор включен, на экране что-то замигало, задергалось и появилось изображение.
— Можно присоединиться?
В палату входит Сигне с горячим чайником.
— Кто-нибудь хочет чаю?
Расмуссен подтолкнула к ней большое кресло.
Мария достала из тумбочки бутылку «Юбилейной».
Линда предложила лакричные палочки и сигареты. И она и Сигне заядлые курильщицы. И обеих из-за этого мучит совесть.
Чем хорош телевизор — он располагает к разговору. Пока идет передача, лучше думается, возникает множество идей и хочется ими поделиться.
— Скажи, Расмуссен, — спрашивает Сигне, — а как обходились женщины в прежние времена? Ведь тогда рожениц не умели ни разрезать, ни зашить, не то что сейчас.
— Ха! — Расмуссен стоит, прислонившись спиной к шкафу. — Как обходились! Лежали в кровати, пока само не зарастет — вкривь да вкось. Надо думать, ваши бабушки выглядели не так уж красиво — снизу-то…
— Ой, ужас! — Линда даже зажмурилась.
— В прежние времена женщины вообще дольше лежали после родов, чем нынче, — говорит Расмуссен. — В шестнадцатом веке, например, считалось, что родовой период длится сорок дней. Раз беременность сорок недель, стало быть, и после родов сорок дней.
Она слегка приглушила дебаты насчет государственного бюджета и продолжает:
— И все сорок дней оба, и женщина и ребенок, считались нечистыми. Ребенок вообще язычник, пока его не окрестят. И женщина тоже должна была пойти в церковь и очиститься.
Картины средневековых ужасов живо встают перед глазами пациенток. Мария смотрит на акушерку как завороженная.
— А вот такой стишок вы знаете?
Сорок недель тому ровно было. Что Мария Иисуса Христа носила.— Как здорово! А еще что-нибудь в этом роде? Ну пожалуйста, Расмуссен.
— Ладно, слушайте. Есть одна коротенькая молитва, ее полезно читать, когда начинаются роды:
Дева Мария, дай ключи мне свои, Помоги отворить мне чресла мои.— Я обязательно ее вспомню, когда придет мой срок, — говорит Мария. — Она наверняка мне поможет.
— Она всем помогает!
— А что же все-таки делали, если женщина не могла разродиться? — спрашивает Сигне.
Расмуссен пристукнула по ладони стетоскопом.
— Принимались развязывать все узлы. Сначала на самой роженице — повязку на волосах, ленты на платье. Потом развязывали, распускали все, что есть в доме, — узлы, кушаки, ремни… Да и все ящики надо было выдвинуть, и дверцы шкафов отворить настежь.
Линда поглубже забралась под одеяло. Оливия поднесла ближе к глазам свое вязанье.
— Как хорошо, что мне будут делать кесарево.
— А если и это не помогало, тогда открывали окна. Все нараспашку!
— Представляю, какой ужасный там поднимался сквозняк!
— Само собой. Ну а если ребенок все-таки не вылезал, не волнуйтесь, народ находчив, и на этот случай имелся выход. Так вот, если, к примеру, у ребенка было неправильное положение, тогда мужа отправляли в сарай расколошматить что-нибудь покрупнее из хозяйственной утвари — плуг, сани или еще что. Иногда помогало.
Мария зажигает на своей тумбочке свечу, и тень от акушерки падает на стену.
— Ну как, хватит на сегодня?
— Да нет, что ты! — говорит Сигне. — Это же так интересно. Все равно как фильм ужасов по телику.
И Расмуссен продолжает:
— Но когда ребенок наконец родился, надо первым делом снова закрыть, завязать, застегнуть все, что находится в доме. Чем скорее, тем лучше. А то не успеешь оглянуться, как ребенка подменят.
— Подменят? — не поняла Линда.
— Ну да. И если у новорожденного окажется что-нибудь не в порядке, так и знай: тролли тебе его подменили.
Мария сжала руками голову.
— Как же бедные женщины, наверное, боялись родов в те времена!
— Конечно. Было, правда, еще одно средство… Но опасное! Если женщина хотела родить легко и без боли, ей надо было найти дерево со сросшимися кольцом ветками. Волшебное дерево. И в полночь, тайком ото всех, голой пролезть сквозь отверстие между сросшимися ветками. И все, легкие роды ей обеспечены. Но платить приходилось дорогой ценой — ведь ребенок при этом мог оказаться оборотнем…
Все древние женские страхи перед родами словно сгустились в воздухе. Женщины дрожат. Но вместе не так страшно. Общность и греет и защищает, как защищала и в средние века.
— А теперь, мои дорогие, половина десятого, мне пора.
Сигне встала и включила звук. Потом разлила желающим водку и чай. Потом все расселись по своим кроватям и стульям и стали смотреть шведский фильм 66-го года «Моя сестра — моя любовь».
20 декабря, пятница
В нулевую палату втолкнули каталку. Она останавливается у опустевшей кровати Гертруды возле шкафа.
Полненькое смуглокожее существо с бесконечными предосторожностями сползает на постель. Санитар кладет пальто и сумку в изножье кровати и ставит на пол пару туфель.
Черные волосы новенькой стянуты в пучок. Кожа у нее золотистая, брови очень густые, а щеки румяные. Она приземистая и очень полная.
Типичная жена рабочего-иммигранта. Сильная, здоровая. Но робкая. Старается не привлекать к себе внимания.
В палате долго стоит молчание. Его прерывает только появление медсестры со шприцем в руке.
— Как там мой сахар? — спрашивает Оливия.
— Тебе изменили дозу инсулина. Но ты не волнуйся, все будет хорошо.
Медсестра подошла и представилась новенькой.
Оливия опустила рубашку, закрыв свое длинное бедро, и решила поинтересоваться у незнакомки:
— Ты итальянка?
— ?
— Рим? Нет? Ну тогда, может, югославка?
— ?
Оливия напрягает мозги, припоминая географию Европы.
— Так, может, Греция?
— А может, она из Африки? — встревает Линда, подняв голову с подушки. — А что, почему она не может быть арабкой?
— Нет, нет, турок, я — турок, — говорит толстушка с улыбкой. Она наконец поняла, о чем ее спрашивают.
— Do you speak English?[2] — спрашивает Линда, склонив голову набок.
— Sprechen Sie Deutsch?[3] — спрашивает Мария из своего угла, закрывая зеленую брошюрку.
Турчанка только отрицательно качает головой.
— Parlez-vous français?[4]
— Только датский, чуть-чуть датский, — краснея, отвечает турчанка и пальцами показывает, какой чуточный кусочек датского ей знаком.
Дверь распахивается, и появляется поднос с белыми пластмассовыми чашками.
— Чай для Линды, — объявляет нянечка.
— Мне кофе, — говорит Оливия.
— А ты просила шоколад, да? — Это она Марии. — А что бы пожелала наша новенькая? Здравствуйте, — говорит она, протягивая турчанке руку. — Не стесняйтесь, будьте как дома.
— Хм. А ты где живешь, в Копенгагене? — спрашивает Оливия, отхлебывая кофе.
— Нет, Нествед. Муж рабочий, очень хорошая фабрика.
— А сколько твой муж зарабатывает?
— Оливия, хватит, ты что! — сердито обрывает ее нянечка.
— А что, уж и спросить нельзя? Сколько в час получает твой муж? Сколько крон?
Она сложила пальцы в щепоть и потерла их друг о друга.
Этот жест турчанка сразу поняла.
— Шестнадцать, — доверчиво сообщает она.
Тут уж и нянечка не сдержалась.
— Хорошая фабрика! Ничего себе! Да ни один чернорабочий меньше девятнадцати не получает.
Они вяжут, и вяжут, и вяжут. Суетливое мелькание вязальных спиц придает какой-то особый колорит послеполуденной тишине палаты. Только Мария не вяжет. Она повернулась ко всем спиной и старается сосредоточиться на главе о прибавочной стоимости и прибыли.
Соотношение между прибавочной стоимостью и переменным капиталом или, что то же самое, между прибавочной стоимостью и суммарной заработной платой называется нормой прибавочной стоимости. Эта норма выражает также соотношение между временем прибавочного труда и необходимым рабочим временем и может быть представлена с помощью дроби…
Линда подходит к Оливии.
— Посмотри-ка, здесь уже начинается рукав, как по-твоему, мне пора спускать?
Оливия показывает ей, как надо сделать. По части рукоделия Оливия дока. Она уже столько навязала за то время, что лежит в клинике!
Как-то она сказала своим соседкам, что самое ее горячее желание — открыть в Скельскёре маленький магазинчик по продаже всяческого рукоделия.
— Это моя мечта. Только вот откуда взять деньги? — вздыхает она. — Кто бы подсказал.
Оливия вяжет из ярко-зеленой шерсти. Линда — из скучной бежевой. А турчанка — из шерсти цвета цикламена.
Мария уткнулась носом в брошюру.
В нашем примере норма прибавочной стоимости составляет 100 %. Прибавочная стоимость выражает степень эксплуатации…
— Смотрите-ка, — говорит Оливия. — Правда хорошенькое? Это будет платьице для куклы-марионетки, которую моя племянница получит к Рождеству.
— Марионетки?
— Ну да. Такая кукла, которая дрыгает ручками и ножками, как живая. Она стоит семьдесят крон. Мы покупаем ее в складчину — я, Хольгер и его родители.
В палате появляется Сигне. Она в своем черном кимоно. Короткие волосы торчат во все стороны, словно она с утра не успела причесаться.
— Гляди-ка, — обращается она к Линде, с удовлетворением хлопнув ладонью по толстой библиотечной книжке, — «Естественные роды». Это тебе непременно надо прочитать.
— Ну вот еще!
— Но какие-то вещи надо все-таки знать.
— Мне, к счастью, сделают кесарево, — громко заявляет Оливия. — А следующего раза у меня не будет. Так что мне эти знания ни к чему.
Она поднесла к глазам кукольное платьице и улыбается своим мыслям.
Линда умоляюще смотрит на Сигне.
— У меня уже был выкидыш, так неужели ж я не знаю, что мне надо знать? Неужели я должна еще читать это занудство?
— Непременно. Иначе как ты сможешь различать разные стадии родового процесса? Раскрытие шейки матки, движение плода, отделение последа. Ты же просто не будешь знать, что с тобой происходит.
— Сигне правильно говорит. — Это Мария подает голос из своего угла.
— Ой, я так боюсь — лучше бы мне вообще ничего не знать!
— Тебе это совершенно необходимо, — решительно заявляет Сигне. Ее послушать — прямо школьная учительница. — Роды есть роды. Никуда ты от них не денешься. Во многих странах женщины при родах воют, как дикие звери, считая, что так положено. И еще от страха. А здесь у нас больше не кричат. Перестали много лет назад. Потому что беременные женщины проходят специальную предродовую подготовку.
Мария загнула уголок страницы, которая начиналась со слов: Соотношение между прибавочной стоимостью или прибылью и совокупным капиталом, то есть суммой постоянного и переменного капитала, называется нормой прибыли… — и обернулась к Сигне:
— Иди ко мне, присядь на минутку, ладно?
Сигне запахнула свое кимоно и закурила сигарету.
— Врачи говорят, у меня такая штука, называется многоводье, — шепчет Мария, — слишком много, значит, воды в животе. Ты чего-нибудь знаешь про околоплодные воды? Их количество постоянно, одно раз и навсегда, или как?
— Нет, — отвечает Сигне. — Насколько мне известно, оно все время меняется. Плод всасывает воды, и таким образом часть жидкости возвращается в организм матери.
Мария во все глаза смотрит на Сигне, трогая пальцами свою лихорадку.
— А у тебя как? Долго ты еще здесь пробудешь?
— Ребенок, по их расчетам, весит сейчас кило восемьсот. Меня не отпустят домой, пока он не наберет два с половиной.
— Красивые, красивые цветы! Ваза, ваза где?
У маленькой турчанки неожиданные гости.
— Вот, Хабиба, красивая, красивая ваза.
Коротышка в ярко-красном костюме, увешанная блестящими побрякушками, в туфлях на каучуковой подошве деловито расхаживает по палате. Ее крупная голова кажется еще больше из-за похожих на сахарную вату желтых волос, взбитых в сложную прическу.
Она наполняет вазу водой, толстыми коротенькими пальцами расправляет цветы, подвигает лампу на тумбочке Хабибы.
— Живот у Хабибы хорошо?
Значит, ее зовут Хабиба, думает Мария. Интересно, какой национальности дамочка, которая изъясняется на таком странном языке. Скорее всего, натуральная датчанка.
— Доктор, что говорит доктор?
— Хорошо!
Маленькая турчанка энергично кивает, пучок у нее на затылке так и ходит вверх-вниз. Она очень рада, что может выдать такую важную информацию.
Сколько же на ее гостье колец! Прямо хоть магазин открывай…
— Нет бояться, нет бояться!
— Нет-нет, — вежливо соглашается Хабиба. Ей и в голову не приходит, что надо чего-то бояться.
— Представляешь, «Манчестер» все-таки выиграл два — ноль!
У кровати Линды сидит Аллан. Он пытается рассказать ей что-нибудь повеселее, чтобы хоть немножко поднять ей настроение. Она вроде так радовалась, что он придет, но едва муж показался в дверях, на лице ее появилась озабоченность.
— А я-то был уверен, что они продули, — говорит он, хлопнув ладонью по колену.
— За электричество заплачено?
— Отец сходит заплатит.
— Ты выпил?
Линда слегка отодвинулась от мужа и укоризненно смотрит ему в лицо.
У кровати Марии молодой человек с длинными черными волосами и высокими скулами. Он в спортивной куртке и синем моряцком свитере. Он держит Марию за руку и, улыбаясь, оглядывается.
— Я надеюсь, ты понимаешь, какой это роскошный шанс?
Мария кивает.
— Но поскольку мы выступаем как замена, нас не предупредили заранее. Так что послезавтра мы уже вылетаем. Весь оркестр. Со своими инструментами. Но без аппаратуры. Все расходы они берут на себя. Правда, больше мы уже ничего не получим. И все равно здорово, как по-твоему?
— Конечно, — соглашается Мария, слегка расстроенная.
— Первое наше выступление в Готхобе, затем едем дальше на Западное побережье. Каждый вечер будем играть в новом отеле. И возможно, потом поедем на юг до Юлианехоба. Я рад, что смогу навестить родных.
— Когда же вы думаете вернуться?
— Где-нибудь в конце января. Так что время у нас с тобой еще будет, ведь ты должна рожать десятого февраля, да?
— А как же твои занятия?
— Да, с этим хуже всего! Не понимают люди, как важно развивать самобытный гренландский бит, берущий истоки в народной музыке. Им это до лампочки. Но я в любом случае еду. И плевать мне, что они там скажут.
— А если тебя исключат?
Захариас пожимает плечами и встряхивает длинными черными волосами. Он улыбается Марии. Он на несколько лет моложе ее. Двери жизни все еще широко распахнуты перед ним.
— Я побывал в центре и приобрел в «Супер саунд» новую ударную установку. В рассрочку на три года. Это же блеск! Такого даже у Суме нет..
— А теперь спать, баиньки, — сиплым голосом говорит гостья турчанки, коротышка в ярко-красном одеянии, несколько раз оборачиваясь, чтобы помахать на прощанье. — Скоро приходить снова!
Хабиба достает свое цикламенового цвета вязанье и некоторое время сидит со спицами в руках, задумчиво глядя в пространство.
Страшила Ольферт привел повидаться с матерью двух своих наследников — Ольферта Среднего и Ольферта Младшего.
Семейство плотно утрамбовалось на диванчике по обе стороны от худосочной Ивонны.
Телевизор включен на полную громкость, но никто его не слушает.
— Противно смотреть, как вы здесь валяетесь, принцесс из себя корчите, — говорит Страшила Ольферт. — И все за счет налогоплательщиков!
Указательным пальцем он тушит сигарету в пепельнице.
— Мы прогорим, пока ты будешь здесь разлеживаться. И на что, черт возьми, мы будем тогда жить? Об этом ты подумала?
Ивонна только моргает.
— Такое маленькое предприятие, как у нас, мгновенно задушат крупные. Тем более теперь — при неблагоприятной конъюнктуре и безработице. Пошевелила бы мозгами. Давно уж пора уразуметь, что надо срочно выписываться!
Он пихнул жену в бок и крутанул головой.
— А-а!.. — завопил Ольферт Средний.
— Пап, скоро мы домой пойдем? — спрашивает Ольферт Младший.
— Мальчики совсем заброшены, ты же видишь!
Оба мальчика довольно откормленные. Оба в папашу, и оба явно на стороне отца.
Ольферт Средний дергает брата за волосы.
— Отстань, дурак! — хнычет Ольферт Младший.
— Сиди смирно, негодяй! — рявкает отец и шлепает старшего по затылку. Потом, состроив жалостную мину, вновь обращается к жене: — Я и ем-то черт-те что, кто мне приготовит? И канарейке некому воду сменить. И за морской свинкой я не намерен ухаживать. Да-да!
— Бедная крошка, — вздыхает Ивонна с несчастным видом.
— На вот, смотри!
Страшила Ольферт шлепает на столик членский билет Партии Прогресса.
— Я получил его сегодня утром. Дай только срок — через пару лет я пройду в фолькетинг!
— Боже мой! Кто же это здесь сырость развел? Неужели Линдочка?
С кровати Линды слышатся приглушенные всхлипывания.
Веселая коротышка Рёрбю останавливается с подносом, заставленным бутылками из-под содовой.
— Послушай-ка меня!
Она поставила поднос, присела к Линде на кровать и принялась развертывать одеяло, в которое та закуталась. Потом наклонилась к мокрому от слез лицу.
— Ну-ну, чего ты так расстроилась?
— Из-за… из-за Аллана. Я так боюсь, как бы он чего не вытворил, пока я здесь валяюсь…
— Дурашка ты, Линда, — ласково говорит Рёрбю. — Разве ты не знаешь, все жены боятся, как бы их мужья чего не натворили, пока они лежат в больнице. И точно то же самое с мужьями — лежат да только и думают, а чем там, дома, ихняя мадам занимается.
— Но он же… он же, когда ни придет, всегда выпивши.
— Ну и подумаешь, какая беда! Он же скучает по тебе. Ему тоже нелегко сейчас, помни об этом.
— Но он ведь не оплачивает счета, — всхлипывает Линда. — Я так боюсь, что все у нас пойдет прахом…
Не так уж она не права, думает Мария. Кто знает, что у нее дома происходит, пока ее нет.
— А-а, все вы здесь с ума сходите. — Рёрбю встает и выпрямляется, плотная, коренастая. — Давай-ка вытри слезы, а я принесу тебе чашку чаю.
— Он японец? — спрашивает Оливия.
— Кто?
— Ну, тот красивый паренек, что был у тебя.
— Да нет. Нет, он гренландец. Это от него я жду ребенка.
Оливия прищелкнула языком.
Мария лежит, руки на животе, вглядываясь в темноту.
Маленький ты мой, как ты там себя чувствуешь? Неужели я вырожу какое-нибудь неполноценное существо?
Ну и что? Что, если даже у него что-нибудь будет не так?
То есть как это «ну и что»? Ведь человек хочет, чтобы его творение было совершенным. Столяр хочет, чтобы стол, который он делает, стоял прямо и устойчиво на своих четырех ногах. Маляр красит стену так, чтобы краска ложилась ровно и красиво, не жалея для этого сил. Так же и женщина. Она хочет иметь хорошего ребенка: симпатичного на вид и умеющего все, что должен уметь ребенок. И ее можно понять.
21 декабря, суббота
Из форточки тянет холодком. Карен-Маргрете стоит под теплым душем, вода струится по ее животу. Прекрасный, удивительный, круглый живот. Кажется, что малыш в нем тоже наслаждается душем. Она чувствует, как он там ворочается, плещется и вдруг так резко толкнулся в бок, что ей стало больно.
Ничто, даже затянувшаяся интоксикация, не могло испортить настроение Карен-Маргрете. Так она была уверена, что здесь, в клинике, сделают все, что в человеческих возможностях, чтоб ей помочь. Чего же еще можно желать?
Она мурлычет мелодию, недавно услышанную по радио.
Карен-Маргрете считает, что ее беременность — дар небес. Они с мужем много лет назад оставили надежду иметь детей. И даже не пытались выяснить причину своей бездетности. Каждая пятая пара бездетна не по своей воле. Приходится с этим мириться.
Зато они убедили себя, что будут жить друг для друга, вдвоем, и работать в писчебумажном магазине, который они вместе основали.
Когда они узнали, что Карен-Маргрете забеременела, они растерялись. Подумать только — я ведь могла бы уже быть бабушкой! Ну, разве очень молодой бабушкой, любезно возразил домашний доктор.
О том, чтобы прервать беременность, не могло быть и речи, ведь, кроме всего прочего, было уже больше двенадцати недель.
Врач сказал, что нужно проверить хромосомный набор, чтобы убедиться, что ребенок будет полноценным. Потому что, согласно статистике, для женщин, которым перевалило за тридцать восемь, риск увеличивается, и особенно на пороге климакса.
Карен-Маргрете направили в клинику Св. Иосифа. Там у нее с помощью длинной иглы взяли на анализ околоплодную жидкость.
Ответ должен был прийти через месяц.
Это были трудные недели. Они с мужем прикидывали так и эдак, обсуждали все варианты. И в конце концов пришли к тому, что, если даже анализ покажет, что ребенок будет монголоидом, беременность все равно не прерывать. Учитывая их возраст, лучше им иметь хотя бы неполноценного ребенка, чем вообще никакого.
А потом оказалось, что хромосомный набор в норме. А можно узнать, какого пола будет ребенок? Да, конечно. Будет мальчик.
И Карен-Маргрете целиком отдалась своему будущему счастью. И ее мать была так счастлива! Я буду возиться с малышом, пока ты занята на работе, говорила она. На этот счет ты можешь быть спокойна. Матери семьдесят два года, она пенсионерка. Собственная жизнь позади, и теперь ей хочется иметь внучка, которому можно было бы посвятить остаток своих дней.
Муж Карен-Маргрете с головой ушел в обустройство детской комнаты. Он собственными руками переклеил обои и сейчас сколачивает пеленальный столик и шкафчик для пеленок и ползунков.
Каждый вечер он навещает Карен-Маргрете в палате № 5, и трудно сказать, кто из них более счастлив.
Карен-Маргрете завертывает кран, берет с батареи теплое полотенце и укутывается в него. Потом поправляет полиэтиленовую занавеску, она того и гляди упадет. Маленькая ножка — а может, ручка — выпятила живот возле пупка. Карен-Маргрете слегка прижала рукой это место. Вот они и поздоровались с малышом.
— Идите-ка поглядите, — говорит Оливия. — Как интересно! «Новорожденные Года и их первое Рождество».
В руках у нее развернутый «Иллюстрированный журнал». Женщины столпились возле ее кровати.
— Смотрите, смотрите, Соня Оппенхаген! Что за красотка! А малыш-то у нее какой, щечки прямо яблочки! — Линда в восторге сжимает руки. — А Ульф Пильгорд будет встречать Рождество с фру Гитте и двойняшками, Миккелем и Кристианом, им только четыре месяца. До чего же здорово!
— А вот Петер Белли и Юна, — тычет пальцем Оливия, щуря свои больные глаза. — Ха-ха! До чего же они чудные в этих гномовских колпаках. Но малыш просто прелесть, волосики во все стороны торчат.
— Надо же, Пия и Петер с радио! — Мария присвистнула. — Видали?
— Нет, вы только послушайте! — Линда вырывает журнал из рук Оливии и громко читает вслух: Бывшая фрейлина принцессы Бенедикты Люкке Хорнеманн, ныне супруга барона Вернера фон Шверин, празднует в этом году Рождество в своей чудесной усадьбе в Сконе с тремя детьми: Мартином пяти с половиной лет, Карлом Юханом трех лет и Софией, которой только 28 января исполнится год.
— Дай-ка мне, — вмешивается Мария. — Младшей дочери Виви Флиндт дадут имя Ванесса.
— Ванесса. — Оливия смакует имя. — Ванесса. Здорово!
Линда склоняется над газетой:
— Так Виллиам Розенберг — это тот самый, что был женат на матери Пусле Жанне Дарвиль. Он же…
— Порядочная стерва эта Жанна.
— У него теперь другая жена. Она изучает датский в университете в Оденсе, и у них родилась дочка, ее назовут Катриной.
— Обратите внимание, какое на ней платье, — щурится Оливия. — Очень похоже на то, что я вяжу, правда? Точно та же модель!
— Боже мой, представляете — попасть со своим ребенком в «Иллюстрированный журнал»! — восклицает Линда.
Глаза ее сияют. Она уже видит «Иллюстрированный журнал» на следующее Рождество. На развороте цветная фотография: она, Аллан в колпачке гнома и хорошенький пухленький ребенок. А текст такой:
Обычно мы справляем Рождество в Тенерифе, — говорит конторская служащая Линда Ларсен, — но в этом году останемся дома, поскольку у нас маленький ребенок. Но так даже приятнее. К нам в гости придут родные. Нас будет семеро за столом, к праздничному ужину будет гусь и рис с миндалем и настоящая, как в старые времена, рождественская елка, на которую Аллан повесит яблоки и всякие сладости, и…
Посреди палаты, подбоченясь, стоит старшая сестра.
— Говорят, среди больных ходят слухи о том, что ультразвук вреден!
Оливия смотрит на нее поверх «Иллюстрированного журнала».
— Так это правда, вы слышали об этом? — настаивает сестра.
— Ну да, слыхали.
Линда кивает.
— Так вот. Я со всей ответственностью заявляю: эти слухи абсолютно ни на чем не основаны!
— Откуда же нам знать!
— Конечно, вы могли не знать, зато теперь знайте.
Их дом стоит на холме. Когда-то это была школа. Теперь здесь, в бывшем гимнастическом зале, гончарная мастерская.
Сигне тоскует по Лейре. Она лежит на спине, заложив руки под голову и уставившись в потолок. Сначала она была так довольна, что получила отдельную палату. Но теперь ее это уже не радует. Пожалуй, она предпочла бы нулевую палату. Если бы там была свободная кровать.
Мысленно она обходит вокруг своего дома.
Все как всегда: голая земля и черные деревья. Первыми весной зацветут фруктовые деревья. Потом сирень, потом каштаны зажгут свои свечи. Следом за ними распустятся белый и розовый боярышник и бузина. В конце концов сад до осени закроется плотной, непроницаемой стеной.
Из окна темной мастерской по вечерам виден розовато-желтый небесный свет. Даже когда солнце уже село, этот свет еще как бы висит в воздухе. Стволы и ветви деревьев на этом фоне вырисовываются темно-фиолетовыми силуэтами.
Сигне с Якобом частенько тянет прогуляться вечерком. Но они никогда себе этого не позволяют — вдруг кто-то из детей проснется, начнет их звать, разбудит остальных…
Дети во многом ограничивают их мир.
Только бы не заявился завтра кто в гости, говорит Якоб, укладываясь спать. Поработать бы спокойно, не тратя времени на разговоры. Побыть бы с детьми да посидеть подольше за обеденным столом.
21 декабря, суббота
— А вон там лежачие, — рассказывает Марии ночная дежурная. — Им совсем вставать не разрешается. Весь свой срок в постели лежат. Представляешь? Как установят беременность, так и все: лежат голубушки до самых родов. Случается, конечно, что у них нервишки сдают, но вообще-то женщины народ выносливый, можешь мне поверить.
Ночная дежурная почесала спицей в седых волосах.
— Хочешь, расскажу тебе случай? Лежала тут у нас одна женщина — девять раз аборты делала. Девять раз! А на десятый пришла к нам и пролежала восемь с половиной месяцев, представляешь?
— Ну и ребенок получился, наверное, слабенький, хилый?
— А вот и нет. Для ребенка это никакого значения не имеет. Такая девчушка родилась — просто загляденье. Да вот она. Можешь сама убедиться.
Дежурная ткнула спицей в маленькую цветную фотографию на стенде. Пухлый круглолицый ребенок с погремушкой в руке. Под фотографией профессиональным каллиграфическим почерком выведено: Счастливого Рождества.
— У матери это первые роды были. А ей уж сорок стукнуло. Вот до чего сильна у женщин тяга к материнству. — Ночная дежурная улыбнулась. — И, представь себе, месяц назад она родила еще мальчика. Что ты на это скажешь?
— Видно, муж у нее очень способный.
— Это точно. Машинист он. Свое дело знает. Иначе ничего бы и не вышло.
Мария сидит возле дежурной и смотрит прямо перед собой. Совестно ей, что отнимает у человека время, но так хочется поболтать. И, собравшись с духом, она продолжает:
— Но ведь прямо отчаяние берет, когда подумаешь, каково приходилось женщинам в прежние времена. Какие страдания связаны с беременностью и родами, какую цену они платили — да и платят исправно по сей день — за счастье иметь детей.
— Да, и такое приходит в голову, особенно как посмотришь на бедняг, что лежат здесь, у нас. Но не забывай, девушка, у нас ведь специальное, патологическое, отделение. А вообще-то беременность не болезнь. Это совсем разные вещи.
— Я все-таки не могу отделаться от мысли о тех несчастных, которые умирают на столе или остаются калеками на всю жизнь. А каково увидеть своего новорожденного мертвым? Как-нибудь воздается женщинам за то тяжкое бремя, которое выпало им на долю?
Ночная дежурная, по-птичьи склонив голову набок, испытующе смотрит на Марию.
— А внематочная беременность или неправильное положение плода? А если пуповина обовьется вокруг шейки ребенка? — У Марии расширяются глаза, остановившимся взглядом она уставилась в пространство. — А судороги у плода, а отрицательный резус, а кислородная недостаточность, а волчья пасть, а вывих бедра, а… Ну почему столько напастей на беременную женщину? И почему надо скрывать от нас, с каким риском связана беременность — в любом отношении? Кому от этого лучше? Вот чего я не могу понять.
Дежурная включила свой транзистор.
— Спустись на землю. Слишком много ты думаешь о подобных вещах. Возьмем хоть здесь, в нашем отделении, где лежат с наиболее тяжкими осложнениями. Примерно в девяноста семи случаях из ста роды протекают нормально.
Слава Богу, скоро уже утро.
22 декабря, воскресенье
Четвертое воскресенье рождественского поста. Повсюду в клинике стоят бутылочно-зеленые елочки, украшенные мишурой, красно-белыми плетеными сердечками и трубочками, золотыми звездочками и разноцветными стеклянными шариками.
Оливия поднялась чуть свет. Уже до завтрака успела принять душ, вымыла голову и накрутила волосы. Надела все чистое — сверху донизу. Подстригла ногти и натерлась лосьоном.
Потом она навела порядок на тумбочке и расправила одеяло на кровати. Достала из шкафа коричневое пальто, почистила его щеткой и повесила на место.
Потому что сегодня к ней придет Хольгер, проделав весь длинный путь из Скельскёра. Скоро он уже будет здесь, точно как они договорились во время последней встречи две недели назад.
Без двенадцати минут двенадцать Хольгер появляется в дверях. Маленький хорошенький человечек, черноволосый, белокожий, с продолговатым лицом и длинными зубами. На нем коричневый костюм и галстук, через руку перекинут тонкий синий дождевик. Он застенчиво улыбается.
Оливия, вспыхнув, откладывает свое ярко-зеленое вязанье, счастливая и смущенная, словно его приход оказался для нее полной неожиданностью. Кончиками пальцев она поправляет свои красиво завитые волосы и осторожно спускает с кровати длинные ноги.
Потом они сдержанно здороваются, она подходит к шкафу и достает коричневое пальто и коричневые полуботинки.
И вот они оба, нарядные и сияющие, стоят посреди палаты. Точно королева под руку с принцем-консортом, выходит Оливия со своим Хольгером в коридор. Медленно и торжественно проплывают они по отделению, и Оливия милостиво кивает направо и налево в распахнутые двери палат.
Потому что долгожданный миг настал — они будут завтракать в новом кафетерии для пациентов клиники, открытом на Блайдамсвей. В небоскребе — его можно увидеть из окна.
Интересно, как мужья воспринимают своих жен, когда те понемногу расплываются, становятся все необъятнее и вместе с тем в них все больше превалирует животное начало. Да и стыдливость они все больше утрачивают, думает Мария. Эти вечные разговоры о матке и разных прочих подробностях должны быть для мужа серьезным испытанием.
Как вот, например, маленький Хольгер смотрит на Оливию, которая уже месяцы вынашивает свое дитя, она же так плохо себя чувствует, хотя и улыбается. Воспринимает ли он ее беременность как болезнь, в которой есть и его вина — ведь это он сделал ей живот? Гордится он или смущается? Этого никогда не узнаешь.
Во всяком случае, он по мере сил и возможностей опекает ее, пока она «сидит на яйцах». И почти все остальные мужчины также. Это называется инстинкт продолжения рода.
Кроме, конечно, Страшилы Ольферта. Тот готов выкинуть яйцо, лишь бы самому занять место получше.
Аллан и Линда сидят рядышком на кровати. Они натянули на плечи одеяло, чтобы не было видно, что они обнимаются.
— Как насчет долгоиграющих пластинок, которые он у тебя одолжил?
— А, он столько всего уже одолжил, пока тебя нет.
— А когда вернет?
— Когда протрезвеет, ха-ха!
— Сколько же вы вчера выпили?
— Пол-ящика тебя устраивает?
У Аллана манера отвечать вопросом на вопрос. Это раздражает.
— Когда они ушли?
— Ну а если часов около трех?
— Ты не забыл заплатить за квартиру?
— Опять ты про это, черт возьми!
Линда умолкает и смотрит сквозь щели жалюзи на снежно-белый декабрьский день. Белый, как больничная палата, как больничная койка.
Каждый день она надеется, что Аллан придет ее навестить, и жаль ей его — ведь ему так далеко ехать к ней на автобусе. И каждый раз, как только он покажется в дверях, испытывает она и уколы ревности, и страх, и разочарование, и раздражение. Совсем он не такой муж, о каких она читает в журналах. Куда там! Он грубее, не такой чуткий, он пьет и никогда не говорит, что он ее любит.
В глубине души она прекрасно понимает, что ребенок, которого она ждет, для двадцатидвухлетнего папаши не играет ровным счетом никакой роли. У него и мысли не было обзаводиться потомством. Так уж получилось, ну и черт с ним, раз Линде хочется.
Линда-то рассчитывает, что, когда появится ребенок, все переменится в ее жизни. И сама она станет настоящей женщиной с прелестным малышом на руках. И все будут любоваться ими. Тогда и Аллан возмужает и станет более заботливым и работящим. Она мечтает, что им удастся окружить малыша лаской и уютом, чего сама она никогда не знала. Все ее страдания, боли в спине, неуверенность — все исчезнет, как только она возьмет на руки это крошечное существо.
Аллан смотрит вниз на ее худые ноги в шлепанцах. Потом кладет руку ей на колено и весело пожимает.
— А я сделал дверцу к кухонному шкафу, — говорит он.
Линда кивает. Аллан задумывается. Что бы еще такое рассказать, чтоб ей было интересно?
— Да, знаешь, мой дядюшка, ну который в Йёрринге живет, вдруг узнал, что в фирме для него работы больше нет. С пятнадцатого февраля! Они уволили сотню рабочих и служащих. И производство переводят в Роскилле…
Линда его не слушает.
— Смотри-ка, — шепчет она. — Ну и компания собралась. — Она кивает в сторону турчанки.
Там сегодня и впрямь настоящий прием. В изголовье у Хабибы стоит мужчина, коренастый, в синем костюме. У него живые темные глаза. Он смотрит на свою дочку, девочку пяти лет, которая забралась на кровать и сейчас лежит в теплых объятиях матери и легонько шлепает ее по животу.
В ногах у Хабибы сидит ее желтоволосая приятельница в невыносимо красном костюме, с кучей побрякушек. Она издает ободряющие возгласы. В ее присутствии турки считают неудобным говорить на родном языке — нет, они могут общаться только на общепринятом жаргоне рабочих-иммигрантов, которым их приятельница владеет в совершенстве.
Мужчина протягивает своей жене коричневый бумажный пакет. Она вынимает крючок и маленький тугой клубочек шерсти, посылая ему благодарную улыбку.
Девочке Фатиме между тем становится скучно. Она спрыгивает на пол, залезает под кровать и что-то болтает там по-турецки. Потом проползает к изножью и начинает забавляться с педалями. Отец шикает на нее, указывает ей, что она пачкает одежду. Девочка смеется, ее карие глаза сияют. Хоп! Желтоволосая уже на полу, хватает ребенка, вытаскивает из-под кровати и с размаху кидает к матери, которая едва не задохнулась от неожиданности. У нее даже слезы выступили на глазах. Такое оживление вокруг ее кровати ей сейчас, пожалуй, не по силам.
— Я помочь, — говорит датчанка.
Да, возможно, она могла бы помочь мужу и жене наладить разговор. Вероятно, это самое она и имеет в виду.
— Тебе есть шоколад, ам-ам. — Она вытаскивает из сумки большую коробку шоколадных конфет и угощает всех. Маленькая Фатима сразу же запихивает в рот больше, чем может прожевать.
Поскольку разговаривать больше не о чем, а уходить еще рано, муж Хабибы и ее приятельница начинают осматриваться по сторонам, ища, чем бы занять себя или с кем бы поболтать.
— Не хотите конфетку? — обращается датчанка к Марии.
Марию разбирает любопытство.
— Откуда вы друг друга знаете?
— А, они два года жили у меня на квартире на Вендерсгаде. Пока не переехали в Нествед. И должна вам сказать, Хабиба и Ибрагим — милейшие и прекрасно воспитанные люди, таких еще поискать. И нам, датчанам, не грех у них поучиться.
Муж тоже подошел к Марии.
— Я Дания уже пять лет, жена — два года. Я посылал домой деньги. Стамбул. Каждый месяц. Три года еще Дания. Потом домой, Турция.
Он решительно рассекает ладонью воздух.
— А теперь они надеются, у них будет сын. — Датчанка широко улыбается. — Раз уж девочка у них есть, верно?
Она оборачивается к Хабибе:
— Мальчик хорошо, да?
Маленькая турчанка сидит, выпрямившись, в кровати. Пучок ее распустился, черная коса упала на спину. Она складывает ладони, обращает взор к небу и молитвенно шепчет:
— Аллах, Аллах…
— О Боже! А я-то чуть не забыла. Ведь этот вопрос решает Аллах, правильно, ха-ха! Может, на этот раз он будет милостив — в порядке исключения.
— Два дети, — говорит Ибрагим, он, видимо, вполне современный муж. — Два дети очень хорошо. Только два. Мальчик. Девочка. Очень хорошо.
В гостиной развалился на диване сын Ивонны Ольферт Средний. Ноги он положил на столик и углубился в комикс. Время от времени он вытягивает изо рта длинную розовую нить жвачки, снова скручивает ее и запихивает обратно в рот.
Вокруг него стоит крепкий запах мятных лепешек и грязных носков. Шевеля губами, он читает:
«Это мой рыцарский долг — убить чудовище», — сказал сэр Гавэн. Они едут в указанном им направлении, и вдруг перед ними появляется гигантских размеров болотный крокодил. Сэр Гавэн, взмахнув мечом, храбро бросается навстречу чудовищу, принц Валиант, не теряя ни минуты, скачет ему на помощь. Сэр Гавэн падает с лошади на землю. В последний момент принц Валиант швыряет сеть и тем отвлекает внимание чудовища от сэра Гавэна.
Страшила Ольферт и Ивонна сидят рядом и молчат. Он выпускает огромные облака табачного дыма, она теребит кушак своего халата.
Неожиданно он изрекает:
— А морская свинка сожрала свой помет.
Глубокой ночью у турчанки началось что-то вроде схваток. Она со стонами ворочается в постели. Мария не может понять, во сне ли она мечется или, уже проснувшись, пытается справиться с болью и страхом. Словно крупное подстреленное животное борется за жизнь.
Мария вызывает дежурную. Мигает синяя лампа. Дежурная звонит вниз акушеркам. Мария выходит в коридор, ждет прихода акушерки, стараясь хоть чем-то себя занять, чтобы не лежать в бездействии.
В конце коридора появляются два белых ангела. Две высокие стройные акушерки, две молодые женщины в белой накрахмаленной одежде, в белых сабо и белых гольфах.
Неслышно входят они в палату и подходят к кровати иностранки. Шепотом переговариваются между собой, откидывают одеяло и прохладными руками ощупывают огромный, набухший живот.
Щупают у пациентки пульс. Слушают стетоскопом живот и шепчут:
— У вас схватки?
— ?
— У вас схватки?
— Она не знает, что такое схватки.
— Ой!
— Смотри-ка, у нее сильные отеки. Вам больно, когда я здесь нажимаю?
— Ой, ой! — шепчет бедняга.
— А здесь? Здесь тоже больно?
— Видишь, у нее экзема. Надо завтра пригласить кожника.
Как ты думаешь, может, дать ей успокоительное?
Они дают женщине снотворное. Осторожно укрывают ее одеялом. Гасят свет и покидают притихшую палату.
Кажется, что уже одной их заботливости и прикосновения прохладных рук было достаточно, чтобы успокоить Хабибу. Она кладет руки под голову и закрывает глаза. Белые ангелы унесли с собой ее страх и одиночество. Теперь можно и поспать. Ее черная косица лежит на подушке, точно хвостик черного котенка.
Минуту спустя уже слышится спокойное дыхание турчанки, размеренное и мощное, точно прибой в Босфоре.
А Мария все думает: почему все-таки эти акушерки так прекрасны?
И не сразу до нее дошла простая мысль: все дело в том, что они очень молоды. Это же помощницы акушерок. Быть может, молодость и в самом деле прекрасна сама по себе. Или дело в их особом ремесле, которое придает им эту чистоту и воздушность?
23 декабря, понедельник
Профессор со своей свитой проходит из палаты в палату и выписывает пациенток.
— Будьте осторожны за праздничным столом, — напутствует он их. — Помните: никакой тяжелой и острой пищи.
А те пациентки, у которых дома маленькие дети, должны постараться, чтобы их не заездили: пусть лежат на диване и предоставляют другим работать за них. И кстати, пусть явятся снова сюда, в отделение, в первый или второй день Рождества.
Он проходит, высокий и бодрый, мимо маленькой наряженной елочки, заворачивает в нулевую палату и направляется к кровати иностранки.
— Do you speak English?
Хабиба трясет головой.
— Нет. А как насчет франсе? Парле ву франсе? Тоже нет. Так, может быть, эспаньоль? И шпрехен дойч не можете? Так-так.
Хабиба смотрит на него с виноватой улыбкой на дрожащих губах.
— Чуть-чуть датский, — шепчет она еле слышно и показывает на пальцах, какой крошечный кусочек датского ей знаком.
— Пациентка живет в Дании всего два года, — поясняет старшая сестра, — и ее не так легко понять. Но соседи по палате ей очень помогают.
— Что ж, это весьма похвально, — говорит профессор. — У нее есть куда поехать на праздники?
— Она живет в Нестведе.
— Тогда лучше оставим ее здесь.
Профессор улыбается и, заложив руки за спину, подходит к кровати Линды.
— Вы, конечно, хотите побыть дома?
— Еще бы!
— Прекрасно. Только будьте осторожны. — А вы? — Он останавливается возле кровати Оливии. — Как ваши дела, фру Ольсен?
— Скажите, господин профессор, есть ли возможность сделать мне кесарево двадцать девятого? Моему свекру как раз исполнится семьдесят.
На лице у Оливии такое выражение, будто она разговаривает по меньшей мере с принцем Хенриком.
— Хм… Двадцать девятого? Это ведь воскресенье. Довольно сомнительно. Во всяком случае, вам лучше остаться в отделении, раз это уже так близко. Ну а вы, фру Хансен? Что скажете вы?
— Для меня праздники не имеют значения, — поспешила ответить Мария. — Мне все равно, где быть.
— Нет, это все-таки черт знает что!
Две нянечки стоят в коридоре и смотрят вслед Страшиле Ольферту, который приехал, чтобы забрать жену.
Она все-таки уступила его нажиму и выписалась перед праздниками «под собственную ответственность».
Они идут по коридору в сопровождении старшей сестры отделения. У Ивонны в пальто какой-то жалкий, неуклюжий вид. Страшила Ольферт изображает любезность и несет ее сумку. А как он торжествует, свысока поглядывая на пациенток и персонал патологического отделения. Наконец-то Ивонна проявила мужество и доказала, что она преданная жена, — молодец баба! Ему есть чем гордиться.
В дверях он благодушно подтолкнул ее в спину — давай, старуха! И они исчезли.
Теперь Ивонна будет дома ублажать своего прогрессивного мужа и двоих прогрессивных сыночков, обслуживать телефон, канарейку и морскую свинку, вместо того чтобы разлеживаться здесь, точно принцесса, в компании всех этих «красных чулок».
В отделении переполох. В палате № 5 акушерка и нянечка. Дверь распахнута настежь. Возле кровати, что у окна, стоит какой-то аппарат. Шнур его тянется через коридор к розетке рядом с наряженной елочкой.
Карен-Маргрете лежит в постели, вид у нее растерянный.
Ее живот перехвачен поясом с циферблатом.
Схватки нерегулярные. Они обозначаются пляшущими, вибрирующими кривыми на широкой бумажной ленте, которая со слабым тиканьем выползает из аппарата.
Карен-Маргрете протягивает перед собой руку.
— У меня рябит в глазах. Я плохо вижу.
Акушерка измеряет пульс и давление, прослушивает стетоскопом живот и кивает нянечке, которая одной ногой уже в коридоре.
Маленькая Конни подходит к Карен-Маргрете и горячо обнимает ее.
— Береги себя, — говорит ей Карен-Маргрете.
Белая каталка поспешно выезжает из стеклянных дверей в конце коридора. И увозит Карен-Маргрете.
24 декабря, вторник
— Слыхали? У Карен-Маргрете мальчик.
Многотерпеливая Карен-Маргрете обрела своего маленького Брайана.
Это замечательное известие принесла Оливия, поскольку она разговаривала с Баськой, а у той знакомая убирает в родильном.
Карен-Маргрете сделали кесарево. Обнаружили, что с плодом неблагополучно, да и эстриол упал. А теперь она в послеродовом отделении. Мальчик весит 2700. Это неплохо. Родился двадцать третьего декабря? Вот так день рождения! Бедный ребенок!
— Ну, с такими родителями все у него будет в порядке…
Пока народ толпится в коридоре, турчанка, которая так и не поняла, что же, собственно, происходит, бродит от кровати к кровати, разглаживает одеяла, взбивает подушки и собирает мятые бумажки в мусорную корзину.
Таким образом она выражает свою благодарность соседкам по палате.
— Мальчика поместили в специальное отделение для новорожденных.
— У него плохие сердечные тоны, так сказала Баська.
— А это серьезно?
— Может, и нет.
— А его отец и бабушка уже были здесь, им показали его через стеклянную дверь.
— Я схожу в послеродовое отделение, повидаю Карен-Маргрете, — говорит Конни. Она уже в пальто. — Я ведь сегодня уезжаю домой и не вернусь, пока не придет время рожать.
Одна за другой пациентки разъезжаются по домам. За Сигне приехали муж и три ее дочки. На какой-то миг коридор наполнился их смехом и звонкими голосами.
Линда заказала такси и тоже едет домой к своему Аллану.
Одна за другой женщины исчезают за входной дверью. Щеки у всех лихорадочно раскраснелись, волосы свежевымыты.
К вечеру в отделении остаются только Оливия, Мария и Хабиба. Нянечки изо всех сил стараются организовать праздник и для них. Главным образом для Оливии, потому что турки Рождество не справляют, а Мария сказала, что для нее это не имеет значения.
Из дежурки доносится греческая народная музыка. Это дежурная нянечка поставила кассету, присланную ей дочерью к Рождеству.
Звуки весело разносятся среди белых больничных стен. Кажется, так и видишь Грецию, маленькие белые церквушки, козьи и овечьи стада на просторных зеленых равнинах.
Кто знает, что чувствует Хабиба, слушая эту музыку, подумалось вдруг Марии. Но на темном лице турчанки прочесть что-либо невозможно.
Хабиба сидит на стуле возле своей кровати. Наверное, так она сидит у дверей у себя в Турции, поглядывая на прохожих. Телевизор ее не занимает. Лишь изредка она поднимает голову и улыбается соседкам.
Она вяжет из какой-то тонкой и прочной белой пряжи очень красивый подзор в приданое пятилетней Фатиме. Вяжет медленно, упорно, метр за метром.
Марии хочется напиться. Нянечка сказала, что красного вина они могут получить сколько угодно. И раз ни Оливия, ни Хабиба не пьют, все три бутылки стоят на тумбочке у Марии.
Но у нее изжога, и это слегка охлаждает ее желание.
Мысли ее уносятся к Захариасу. Он-то сейчас сидит в каком-нибудь отеле в Готхобе вместе с другими музыкантами — если, конечно, у кого-нибудь из них нет родственников в городе.
Входит нянечка с печеньем, апельсинами и шоколадными конфетами в яркой шелковой бумаге.
Оливия берет несколько конфет.
— Только сегодня, в виде исключения, — у меня с глазами немножко получше.
— А где Хольгер и сынишка?
— У родителей Хольгера. Они живут недалеко от нас.
В тот же вечер в палату привезли бледную девицу. У нее выкидыш, и ей полагалось бы лежать в отделении интенсивной терапии. Но там все заперто, а здесь персонал дежурит.
Когда нянечка не занята в нулевой палате, она закрывается в дежурке и все крутит и крутит дареную кассету. Она сидит, откинувшись в кресле, и слушает греческую танцевальную музыку. Вот бы оказаться ей сейчас в маленькой кофейне, которую держат Стеллио и Михаэлис…
На песке в лунном свете пляшут и поют ловцы морских губок. Первая пара держит между собой носовой платок. Они танцуют, гордо выпрямившись, проворно двигаясь между столиками. Стулья сдвинуты. Вино сверкает в графинах. Поют цикады. Невысокие, в форме зонтиков оливы черными силуэтами вырисовываются в свете полной луны.
Стеллио обхватил ее за талию. Она привалилась к его теплой груди и отхлебывает понемножку вино и затягивается греческой сигаретой. А волны плещутся и плещутся о гальку на берегу.
Два больших судна стоят на якоре в залитой серебристым сиянием бухте.
25 декабря, среда
Дождь тысячами тяжелых капель бьет в окно. С неба льет и льет не переставая. Рождественский дождь и слякоть. Типичная датская погода. Шум и грохот. Это автомобили, которые то и дело подъезжают и отъезжают.
На автобусной остановке на Тагенсвей прямо напротив клиники толпятся люди, придерживая одной рукой шляпу или шапку, другой — распахивающееся пальто. Они держатся лицом к ветру, иначе не устоять на ногах.
Автобусы с хлопотливо жужжащими «дворниками» останавливаются, выплевывая на тротуар пассажиров и всасывая в переднюю дверцу новых.
Ветер гудит, словно дуя в огромную трубу. Он налетает на больничные окна. Стекла в них дрожат и хлопают, как парус в бурю, как большая палатка, которую ветер вот-вот унесет.
Мария стоит у окна.
Далеко внизу на плитах тротуара маленькая фигурка торопливо шагает против ветра. Это мать Карен-Маргрете. Она спешит в отделение для новорожденных навестить своего маленького внука.
26 декабря, четверг
Сигне, белая как мел:
— Мальчик умер!
— Кто?
— Мальчик Карен-Маргрете умер.
— Не может быть!
Сигне кивает. Мария смотрит на нее во все глаза.
— Но как же так?
— Сегодня утром его оперировали. Ничего нельзя было сделать. Какой-то непорядок с сердцем.
— А как Карен-Маргрете?
— Ее поместили в отдельную палату в послеродовом отделении. С ней там муж и мать.
27 декабря, пятница
Ночью полнолуние.
Буря улеглась, и над клиникой стоит полная луна. Лик луны спокоен и уныл, щеки круглые, веки полуприкрыты в глубокой задумчивости.
Как же коротка может быть жизнь. Кто-то не выдерживает даже перехода от утробного существования к человеческому.
Маленький Брайан умер на четвертый день. Огонечек погас в кувезе. И мальчика больше нет.
И все-таки родители и бабушка, которым удалось несколько раз увидеть его сквозь стеклянную дверь, никогда его не забудут. Разве смогут они забыть это маленькое личико, которое показалось им таким знакомым. Оно было похоже на их собственные лица. Они никогда не смогут вырвать из памяти образ этого крошечного существа, весом 2700 граммов, спящего с поджатыми ножками.
Но они никогда не расскажут об этом кому-нибудь постороннему. Горе нельзя разделить с чужими людьми.
А они-то уж мечтали, как будут жить все вместе, как будут заботиться о нем и как он будет расти…
Всю жизнь — с тринадцати лет — у Карен-Маргрете регулярно шли месячные. Из года в год. В первый раз безупречный лунный цикл был нарушен этим ребенком, который развивался — хотя и не вполне так, как следовало бы, — в ее теле в последние тридцать семь недель.
Полная луна стоит над клиникой, слегка склонив голову. Она похожа на булочника.
От столетия осталось всего двадцать пять лет. Эти годы Карен-Маргрете не смогла подарить своему сыну.
Жизнь не такая простая штука. Все, что в ней происходит, не случайно и несет в себе какой-то замысел. Каждая маленькая жизнь — часть большого замысла. Но проникнуть в этот замысел человеку не под силу.
28 декабря, суббота
— Вне всякого сомнения, песок в часах сыплется для женщин быстрее, чем для мужчин.
— Что-то я не пойму, о чем ты?
— Я хочу сказать, — говорит Сигне, — что женщина может родить детей до сорока с небольшим, так? Но это не рекомендуется. Потому что, как известно, с возрастом рожать все тяжелее. Да и дети родятся все более ослабленные. Я всегда считала, что буду рожать только до тридцати пяти. И вот, как ты видишь, мне уже тридцать шесть. Время не ждет.
— Да, — соглашается Мария. — У меня просто все внутри похолодело, когда до меня дошло, что здесь, в патологическом отделении, слишком старой для первых родов считается женщина, которой больше двадцати семи. Мне уже двадцать восемь!
Она закашлялась и вытерла глаза рукавом своего белого халата.
— Так вот, — продолжает Сигне. — Я и хотела сказать, что женщина, прежде чем ей стукнет тридцать, должна точно решить для себя — хочет она иметь детей или нет. И ни в коем разе не полагаться на случай. Слишком это рискованно.
— А почему, собственно?
— Да потому хотя бы, что, если она хочет иметь детей, но ничего для этого не предпринимает, тогда она может запросто упустить время. А потом спохватывается, возникает угроза бесплодия, начинается паника, а уже поздно, поезд ушел. Положение становится катастрофическим.
Сигне протягивает Марии салфетку.
— Я хочу сказать, что в этом смысле женщина устроена иначе, чем мужчина. Само время ее подгоняет. Не говоря уж о том, что мужчина приобретает склонность обзавестись потомством и испытывает расположение стать отцом в более позднем возрасте.
Мария кивает. Сигне сидит на кровати, раскинув черное кимоно по подушкам.
— А у женщины самый благоприятный для рождения детей возраст, когда роды проходят легче всего и дети родятся самые здоровые, — между восемнадцатью и двадцатью пятью годами. Но если у нее высшее образование, а получает она его примерно к двадцати пяти годам, то идеальный для обзаведения потомством возраст у нее уже позади. И ей приходится срочно решать для себя, хочет ли она вообще иметь детей. И если все-таки хочет, ей будет уже сложно использовать свой диплом. Видишь, сколь тяжко давит на женщину время?! Я иногда думаю, не слишком ли тяжко.
Мария наполняет стаканы.
— Вот этим-то наше положение и отличается от положения мужчин. И я не вижу, чтобы эта проблема когда-нибудь затрагивалась в наших дебатах по женскому вопросу.
— Ты права, — говорит Мария с жаром. — Я много думала о том, что науку о рождении детей следует включить, как особый предмет, в школьную программу.
— Конечно!
Мария жует спичку.
— Я знаю довольно много девушек, которые решили вообще не иметь детей, и я их за это очень уважаю.
— Что же, это их право. Меня возмущает лишь то, что многие и женщины и мужчины не дают себе труда основательно продумать этот вопрос.
— А как ты считаешь, у мужчин тоже есть потребность иметь детей?
— Физически они не испытывают такой потребности, это ясно. Было бы смешно, если бы они жаждали забеременеть, ходить девять месяцев с животом, рожать ребенка и кормить своей грудью. Но коль скоро ребенок родился на свет и отец видит его и чувствует ответственность за него, тогда, по-моему, он испытывает точно такую же потребность жить вместе с ним, защищать его и воспитывать, как и мать. Говори, что хочешь, но это инстинкт, я в этом уверена.
29 декабря, воскресенье
Сегодня 363-й день года. Восход солнца в 8 ч. 42 мин., заход в 15 ч. 42 мин. Темнота наступает в 16 ч. 12 мин. Мария лежит на боку, читает газету: Вашингтон (Франс Пресс). Президент Джеральд Форд начал в пятницу…
Хоть бы у меня эстриол остановился на приличном уровне.
Окрестности Сайгона страдают от острой нехватки риса, в частности для снабжения миллионной армии, и делается все, чтобы вывезти рис или уничтожить его в освобожденных районах, надеясь таким образом, с одной стороны, обеспечить рисом себя и, с другой — приостановить массовое бегство людей из Сайгона в освобожденные районы.
Хорошо бы здесь, в патологическом отделении, выставлять флажок, как в киоске, когда приходит «Экстрабладет». Флажок поднят, значит, пришли анализы: «С эстриолом полный порядок, для беспокойства нет причин. Привет из Института вакцины».
По мере того как в Португалии приближается дата намеченных выборов в Законодательное собрание, возрастает политическая активность…
Вот бы оказаться теперь в Португалии: представляю, какое там сейчас волнение.
Идет подготовка к выборам в фолькетинг, намеченный на 9 января. Примерно треть избирателей предположительно будет голосовать иначе, чем в 1973 году.
Если третья часть избирателей проголосует разумно…
Проголосует разумно?
…дееспособность фолькетинга возродится. Таким образом, вся ответственность — на избирателях.
Ну спасибо. Значит, избиратели за все в ответе.
11 объединений, которые поддерживают попытку координировать действия в наступающем году Женщины, — это «Красные Чулки» в Копенгагене, Женский фронт, Тильдерне, Датский женский национальный фронт, Демократический союз женщин Дании, Движение лесбиянок, Датское женское общество, Датский студенческий совместный совет. Женщины из Социалистической народной партии, женщины из Левой социалистической партии и женщины из Датской коммунистической партии.
А я-то мечтала о спокойных, хорошо подготовленных родах! Ничего у тебя, голубушка, не выйдет.
В конце коридора послышались смех и звонкие голоса. Невысокий коренастый мужчина с темными кудрявыми волосами входит в палату № 2 в сопровождении трех маленьких девочек в свитерах и спортивных куртках.
— Здравствуй, мамочка, — щебечут девчушки, забираясь к Сигне на кровать. — Скоро у нас будет маленькая сестричка?
— Ждать осталось не так уж долго, — отвечает Сигне. — А я до этого еще приеду к вам домой денька на два, и мы приготовим все как следует для нашей самой маленькой. Как славно будет, правда?
— Я отдам ей свои игрушки, — говорит средняя.
— А папа сделал нам пещеру, — говорит старшая. — В мастерской, за гончарным кругом.
— Трудно тебе? — спрашивает Сигне, изнемогая от нежности. — Устал небось до смерти.
— Ничуть, — отвечает Якоб. — Они ведь у нас умницы. Если бы еще не ссорились, никаких бы с ними не было проблем. А уж как стараются мне помочь! До того трогательно.
Девчушки возятся в постели, болтают и разворачивают маленькие подарки для мамы, которые они старательно упаковывали дома перед тем, как пуститься в долгий путь. Они сидят рядышком на ее кровати, как они сидели в купе поезда, отправляясь в увеселительную поездку куда-нибудь на природу солнечным летним днем.
— Каждый вечер мы все вчетвером укладываемся в большую кровать и читаем комиксы или смотрим телевизор. Плохо только, что ложатся они слишком поздно. Утром никак ее не поднимешь, — говорит муж, кивая в сторону младшей.
— А бабушка придумала для нас лотерею с картинками, — говорит средняя. — Завтра мы будем в нее играть, она нам обещала.
— Может, девочки хотят попить? — спрашивает Рёрбю. — Как насчет ядовито-зеленого лимонада?
— Ура-а! — хором закричали все три пигалицы. — Ядовитый зеленый лимонад!
Им выдали пластмассовые стаканчики и налили лимонаду, и они тут же наплескали на одеяло и на пол, так что Якобу пришлось их одернуть. А уже через минуту одна из курток соскользнула с кровати на пол прямо в сладкую лужу.
— Не очень-то они опрятны, как ты видишь, — говорит Якоб. — Да и дома тоже по-настоящему не убрано, но уж ты нас прости…
Сигне взяла младшую на колени. Девочка прижалась к матери теплой щечкой, ее рука лежит на маминой груди. Какой-нибудь год назад она еще кормила ее грудью.
— Да лежи ты спокойно! Мне же так не управиться.
Рёрбю бреет Оливии лобок, и та вся извертелась.
— Господи, до чего же щекотно!
— Давай, давай, Рёрбю! Что ты там церемонишься! — кричит Мария со своей кровати возле умывальника.
— Эй, оставь что-нибудь для Хольгера! — подключается Линда.
— Хольгеру придется подождать, — вздыхает Оливия. — Что поделаешь. Хуже всего, что пройдет черт знает сколько времени, пока они отрастут. А до этого они будут так колоться — жуть!
— Ну, все. Теперь тебе надо поставить клизму, — говорит Рёрбю, собирая бритвенные принадлежности. Очистить кишечник. И чтоб после полуночи ничего в рот не брать — ни жидкого, ни твердого! Не забудь!
— Ну маленький-то кусочек жвачки, диабетической? — Оливия умоляюще смотрит на Рёрбю.
— Ни в коем случае. Жвачка провоцирует слюноотделение.
— Так что тебе и подумать нельзя о чем-нибудь таком, от чего слюнки текут, — говорит Мария, подтыкая одеяло под спину.
— Отцу Хольгера сегодня исполнилось семьдесят, — говорит Оливия.
30 декабря, понедельник
Сегодня Оливии должны делать кесарево сечение. Она встала пораньше, вымыла голову и переменила белье. Сегодня не двадцать девятое, как она надеялась. Но она примирилась с этим и все равно довольна и весела. Настроение бодрое. Окончен долгий путь. И зав. отделением обещал, что операцию будет делать он сам.
Со свойственной ей тщательностью собирала Оливия свои вещи. Косметичка упакована. Пальто аккуратно свернуто вместе со шлепанцами. Ярко-зеленое вязанье уложено в полиэтиленовый мешочек, а еженедельники раздарены, но только после того, как из них выдраны модели и инструкции по вязанью. Цветная фотография Калле завернута в бумагу и положена в карман внушительной сумки.
За час до завтрака Оливии поставили капельницу. Вводится глюкоза — по 20 капель в минуту.
В восемь часов ей ввели обычную дозу инсулина.
Хабиба сидит в ногах своей кровати. Выпрямившись и сложив руки на коленях, наблюдает оживление в палате.
Мария знаками и жестами объясняет ей, что Оливии сегодня будут вспарывать живот — большим ножом. И она показывает турчанке, какой большой будет нож.
Темные глаза Хабибы чуть не вылезли на лоб.
— Я ужасно боюсь, как бы они не забыли меня стерилизовать, — говорит Оливия, распростертая на своем ложе.
— Знаешь что, — говорит Сигне, которая стоит, опершись о дверной косяк, в одной руке сигарета, в другой коробок спичек. — Мы можем провести пунктирную линию по животу и написать: «Режьте здесь и помните, что меня надо стерилизовать». Я сейчас принесу красный фломастер.
— Давай-давай, с тебя станется, — улыбается Оливия, щуря глаза.
Щеки у нее розовее, чем обычно.
Шаркая шлепанцами, входит Баська в зеленом нейлоновом халате, отставляет в сторону швабру и ведро и наклоняется над Оливией.
— Ни пуха ни пера.
Без десяти девять появляется санитар с каталкой. Оливия лежит собранная, упакованная, как готовая к отправлению бандероль. Торжественно водворена она на каталку, и все ее пакеты, сумка, коричневое пальто, коричневые полуботинки лежат у нее в ногах.
Она длинная, и ноги ее не умещаются на каталке.
В тот момент, когда она покидает палату, где прожила последние два месяца, из уголка глаза у нее выкатывается светлая слезинка. Она улыбается и прощально машет рукой, а каталка уже везет ее прочь.
Соседки стоят и смотрят ей вслед. Они думают о том, что вот сейчас Оливии дадут наркоз, зав. отделением облачится в голубой операционный халат, наденет шапочку и маску. Точно в 9.30 в нее вонзится скальпель. Сначала он рассечет вдоль брюшную стенку; потом поперек — матку, и, жмурясь от яркого света, новорожденный, как пробка, которую вынимают из бутылки, будет извлечен на свет Божий.
Маленький Ольсен, которому предстоит жить в доме для сельхозрабочих под Скельскёром с субтильным безработным мужчиной в качестве отца. С очень высокой славной матерью, инвалидом на пенсии, которая к тому же все больше и больше теряет зрение. И с кудрявым старшим братцем, которого зовут Калле.
К вечеру приходит радостная весть.
У Оливии родилась крупная девочка, 3400 граммов, волосики черные, и все идет прекрасно. Ребенка поместили в отделение для новорожденных. И в этом нет ничего странного — так поступают всегда с детьми диабетиков. Она просто полежит там сутки или двое под особым наблюдением.
У всех на душе стало легче, все радуются и считают, что оба — и зав. отделением, и Оливия — славно поработали.
У Хабибы рот до ушей, она хлопает в ладоши и приговаривает:
— Хорошо, хорошо!
31 декабря, вторник
Новогодний вечер. Оставшихся в клинике пациенток — собственно, Марию и Хабибу — перевели в интенсивную терапию. Они проведут там две ночи. На этот раз дежурить выпало интенсивке. Патологическое отделение просто заперли, и персонал на эти дни распустили.
Из больничных окон видно, как красные, синие и белые огненные шары взлетают вверх и тысячами звезд рассыпаются в темном ночном небе. Ракеты со свистом взмывают ввысь между домами. То и дело слышится вой сирен «скорой помощи». Народ развлекается как может, и двери травмопунктов гостеприимно распахнуты для медицинской помощи пострадавшим.
Грохочут залпы орудий. Целые серии китайских хлопушек с треском лопаются над Тагенсвей и в тихих переулках.
В гостиной включен телевизор.
Мария и Хабиба рядышком на диване слушают новогоднюю речь королевы.
Хабиба не понимает ни слова ни из этой речи, ни из новогоднего представления, где шестеро актеров благодарственными виршами провожают прошедший год. Ей просто доставляет удовольствие ласково пожимать руку Марии.
Рядом с телевизором сияет электрическими огнями елка. Гостиная в интенсивке ничем особенным не отличается. Висят на стенах какие-то скучные картины, на которые никто никогда не смотрит. Современное искусство. Мария никогда его не понимала. Мебель темного дерева, лакированная и холодная.
Веселый санитар вошел в холл и плюхнулся на диван возле Марии. В волосах у него серпантин, на плечах красное, синее и белое конфетти. Из внутреннего кармана форменной куртки он достает бутылочку «перно» и хлопушку.
— Мы никогда раньше не встречались? — спрашивает Мария.
— А-а, сколько же на свете способов заводить знакомства, — говорит он, недовольно скривившись. — Нет, не встречались.
— Может, учились в одной школе?
— Да нет же, черт возьми. Я с Борнхольма, а ты нет. Разве не ясно?
Он смотрит на Марию, откинувшись назад, словно боится нападения с ее стороны.
Нарастающий шум и грохот доносятся до них с Северной аллеи. Мария прикрывает свой живот, будто стараясь уберечь его от проникновения в него этих звуков.
И вдруг из кармана санитара слышится громкий голос. Санитар вытаскивает маленькую рацию. «Внимание, внимание. Шестьдесят четвертый. Вызывает родильная палата номер два».
— Слушаюсь!
Он поднимается, сдвигает каблуки и подносит пальцы к виску. Пожелав женщинам счастливого Нового года, он, пошатываясь, шагает прочь, и серпантин, зацепившись за ухо, тянется за ним. На столе он второпях оставляет рассыпанное конфетти и наполовину опорожненную бутылку «перно».
Если вдруг и удается когда-то встретить здесь мужчину, он смотрит на тебя так, будто ты непременно хочешь его соблазнить, думает Мария, сердито отбрасывая волосы.
Хабиба глубоко вздыхает и зевает.
Мария поджигает хлопушку. Фукнув, она выбрасывает на столик восемь бумажных флажков и пластмассовую черепашку.
По телевизору Виктор Борге дирижирует Королевской капеллой в концертном зале Тиволи, аккомпанируя певице, которую зовут Мэрилин Малвей.
Молодой человек в полосатом галстуке и замшевой куртке бросился в кресло перед телевизором. Через минуту вскочил, подошел к окну и стал смотреть на взлетающие над крышами огненные шары, потом поспешил в коридор, посмотрел направо, налево, снова вернулся в холл и с маху шлепнулся на стул.
— Я целый день просидел возле жены в родильной палате, — говорит он. — А теперь они выставили меня вон. Уже час у нее продолжаются потуги, а ребенок все не выходит. — Он нервно поправляет галстук. — Теперь ей будут делать кесарево. Какого же черта! Сначала эти ужасные схватки. Она ведь уже прошла через все муки. Если б они заранее установили, что у ребенка неправильное положение, ей бы не пришлось столько страдать.
— Выпейте стаканчик «перно». — Мария берет оставленную санитаром бутылку, наливает в стакан и добавляет воды.
— Жалко ведь ее!
Голос диктора сообщает: Сейчас двадцать три часа сорок пять минут. Начинаем передачу с музыкой, танцами и стихами, которая завершит новогоднюю развлекательную программу, в качестве своего рода рыцарского приветствия юной даме на пороге Международного года женщины.
Парень в замшевой куртке рванул себя за волосы и опрокинул свой «перно». Хабиба потрепала Марию по щеке и жестом показала, что идет спать.
Неожиданно появляется медсестричка. Она катит перед собой детскую кроватку.
— Эй, папаша! Иди-ка посмотри на меня.
Парень в замшевой куртке подпрыгивает чуть не до потолка и кидается к ней.
В кроватке лежит крошечный мальчонка с красным личиком и сжатыми кулачками. На лбу явная вмятина.
— Нет, вы посмотрите, какой чудный паренек, какой красавчик! — восклицает новоиспеченный папаша, приплясывая и взмахивая руками.
Но медсестра уже трогается в дальнейший путь, бросив через плечо:
— Через час твоя жена придет в себя.
— Нет, ей-Богу, замечательный парень! — твердит счастливый отец. — До чего же хорош!
Смешанный хор поет: Приветствуем тебя мы, Новый год, добро пожаловать, приветствуем тебя. И затем слышится двенадцать гулких ударов часов на городской ратуше.
1 января, среда
Идет снег. Крупные пушистые снежинки нескончаемым потоком сыплются с белого небосвода, который накрыл столицу, словно стеклянным колпаком.
Стройплощадка пуста. Огромный кран, похожий на доисторическую птицу, возвышается над бетономешалкой и строительными вагончиками.
Приятно лежать в больничной кровати и просто глядеть на танцующие снежинки. Это приносит мир в душу. Кажется, что и мысли твои танцуют там, за окном, вместе со снежинками.
Мария и Хабиба одни в слишком большой пустой палате. За дверью палаты длиннющий коридор, по которому взад и вперед мечется единственная акушерка.
Хабибе на низ живота наложили так называемую «ледяную руку». Это прозрачная полиэтиленовая перчатка, наполненная ледяной водой. Она приятно холодит пораженную экземой кожу, и зуд утихает. Спасибо акушеркам интенсивки, это они придумали.
Хабиба поворачивает голову и блаженно улыбается:
— Хорошо, хорошо!
Мария сидит на краешке кровати, разложив на тумбочке бумагу, карандаш, ластик. Она пытается сотворить для турчанки словарик, пробуя наглядно изобразить важнейшие понятия: схватки, воды, шов, стежок, кормление грудью, молоко. Не так это просто. Но необходимо.
— Сейчас у тебя будет урок датского языка, Хабиба!
— Что?
В палату входит акушерка.
— Не могли бы вы объяснить своей подруге, что мы задержим ее в интенсивной терапии? Она не вернется в патологию. С завтрашнего дня мы начнем ее стимулировать. Поставим ей капельницу.
Мария взялась рисовать кровать, на которой лежит турчанка с ребенком в животе. Над изголовьем висит капельница.
Мария убеждена, что, попади она сама в больницу в Турции, какая-нибудь Хабиба непременно протянула бы ей руку помощи.
А как же иначе. Солидарность между людьми всегда есть и будет. Это факт.
2 января, четверг
Мария чувствует, что сдает. Большую часть времени она лежит в полной прострации. По ночам не может заснуть, а днем спит на ходу.
Во всем теле ощущение, как в отсиженной ноге. Вода давит изнутри, распирает ребра. Когда она встает с кровати, ей приходится откинуться назад, чтобы не потерять равновесие.
На другой кровати лежит Хабиба. В головах у нее висит капельница с желтоватой жидкостью. Хабиба довольна, что для нее что-то делается. Она лежит и смотрит в составленный Марией словарик.
Медсестра отвела Марию назад, в патологическое отделение. Так приятно возвратиться к себе в палату. И видеть кругом знакомые лица. Линду, Сигне и всех остальных. Все в полном изнеможении после праздников.
— Ну как провели праздники? — спрашивает нянечка.
— Восторг и упоение!
— А в интенсивке с вами хорошо обращались?
— Лучше некуда! Так же баловали меня, как и здесь. А когда я пожаловалась на изжогу, мне дали свечку, огромную, как Круглая башня. Вот она. Я сохраню ее на память.
— А куда ты дела Хабибу? — спрашивает Линда.
— Она осталась в интенсивном, — отвечает Мария. — Ей сегодня начали стимуляцию. Капельницу поставили.
3 января, пятница
— Доброе утро, женщины. Шесть часов!
— Ох, неужели нельзя поспать еще хоть немножко!
Холодный верхний свет освещает Линду, Марию и новенькую, которую привезли ночью. Ну почему нянечка так безжалостно включает свет? Хватило б лампы над умывальником. Жестоко ведь будить человека, когда он только-только по-настоящему разоспался.
Линда вскакивает, волосы всклокочены, и, согнувшись, зажав рукой рот, устремляется в туалет. Не успевает даже закрыть за собой дверь: ее рвет.
Помощница акушерки раздает градусники, и еще не очнувшиеся ото сна пациентки суют их в рот. Затем кончики пальцев помощницы легонько ложатся на запястье пациентки чуть выше большого пальца, она щупает пульс.
И под конец она надевает на руку пациентки резиновую манжетку, накачивает ее воздухом и измеряет давление.
Температура, пульс и давление записываются на листочке, потом вносятся в историю болезни.
— У меня кровотечение, — говорит новенькая.
— Дай мне твою прокладку, я покажу старшей сестре, — говорит нянечка.
— Меня зовут Мария, а тебя как?
— Тенна, — отвечает новенькая, глядя на Марию спокойными серо-голубыми глазами.
В освещенном утренним светом коридоре показывается Линда. Она выходит из туалета, вытирает рукой рот и идет в моечную. Она открывает дверь с глазком, останавливается перед столиком с баночками для мочи и находит свою. На нем написано: Ларсен, палата № 0. Она чувствует, что ее вот-вот снова вырвет, но желудок пуст, и она с баночкой в руке возвращается в туалет.
Мария босиком стоит на холодных весах. Молоденькая сестричка смотрит на шкалу. Это ее красивая кожаная куртка из разноцветных кусочков висит на вешалке.
— Ты уверена?
— Ну конечно. Со вчерашнего дня я прибавила пол кило. Вчера я весила семьдесят два, а сегодня семьдесят два с половиной — ты же видишь.
— А одежда? Вчера ты так же была одета?
— Ну да. На мне же нет ничего, кроме рубашки и трусиков!
— А сколько ты весила до того, как забеременела?
— Пятьдесят пять. — У Марии на глазах слезы.
— Придется сообщить старшей сестре. По-моему, это многовато.
— Ты чем-то расстроена? — спрашивает Сигне.
— Да все эта проклятая вода. Ее становится все больше и больше. Иначе чего бы я так прибавляла в весе?
— А у тебя вообще-то нет отеков?
— Нет. Сама видишь. Лицо совсем не изменилось, и тут, смотри… — Мария отворачивает рукав и показывает Сигне длинную тонкую руку. — Видишь, никаких отеков нет!
Зав. отделением смотрит своими карими глазами на спящую пациентку.
— Я разбужу ее, — говорит медсестра и кладет руку на плечо Марии.
Мария растерянно поднимается с подушки.
— Пациентка сильно прибавляет в весе, — говорит старшая сестра.
— Есть у вас отеки на руках или на ногах?
— Ни малейших, — говорит Мария и откидывает одеяло, показывая свои тонкие ноги.
Старшая сестра обхватывает ее щиколотку и нажимает большим пальцем на кожу.
— Нет. Жидкости здесь нет.
— А как вы вообще себя чувствуете, фру Хансен?
— Я все больше ощущаю какую-то усталость. Плохо сплю, хотя принимаю снотворное. Ближе к утру — хуже всего. Вода так давит мне на нижние ребра, кажется, прямо вот-вот сломаются. Я верчусь и кручусь в постели и не нахожу себе места. Но это бы ничего, знать бы только, что маленькому от этого не будет вреда.
Врач кивает и начинает листать историю болезни.
— Мы направим вас на ультразвук и посмотрим, к какому выводу они придут на этот раз. И если результат будет неблагоприятным, возможно, примем решение прервать беременность.
Зимний свет скупо освещает палату. В этом январском свете предметы не отбрасывают тени, контуры их расплывчаты и неопределенны.
— Ну а как дела у вас?
Врач останавливается перед новенькой, Тенной, женщиной с серо-голубыми глазами.
— У меня сильные боли в боку. Это продолжается со вчерашнего утра.
— Покажите, где.
— Вот здесь. Но вообще-то болит уже давно, — тихо говорит Тенна. — При каждом движении ребенка мне будто нож всаживают в бок.
— Да? Такого ощущения не должно быть. Ну, посмотрим, что тут записано. — Он листает историю болезни. — У вас это вторая беременность. А положили вас ночью со схватками и кровотечением. Но схватки вам временно приостановили, да? Так. Значит, надо срочно сделать ультразвуковое исследование. Как можно скорее.
Медсестра записывает.
— Ну а вы, фру Ларсен? Кажется, вашему терпению скоро придет конец?
— Оно давно уже кончилось, — шепчет Линда, уползая под одеяло.
— Ну, похоже, ваши дела идут на лад. Ребенок у вас растет, как положено. И поскольку все у вас сейчас в норме, я считаю, что мы спокойно можем вас выписать сегодня же.
На лице Линды расплывается широкая улыбка, и одеяло медленно сползает с ее маленького живота и тщедушного, не очень ладно скроенного тела.
— Что, в самом деле?
— Да.
Слава Богу. Долгий нудный больничный период позади. Она возвращается домой к Аллану! Жизнь начинается снова.
После обхода сестра заглянула в палату и сказала Марии:
— Ты бы спустилась вниз, навестила турчанку в интенсивном. Ей так нужно увидеть хоть одно знакомое лицо! Можешь пройти прямиком через родильное отделение.
Мария поднялась, спустила ноги с кровати, откинула назад свои длинные каштановые волосы и надела белый халат.
— Ты слышала, Мария? — говорит Линда. — Я сегодня ухожу домой. Вот Аллан-то будет рад!
В белых гольфах, белом халате, белых босоножках, придерживая свой налитый водой живот, выходит Мария на лестничную клетку, спускается в лифте на один этаж и оказывается перед родильным отделением, тем отделением, куда никто не должен входить, только те, у кого начались роды. «Посторонним вход запрещен. Просьба звонить».
Дверь с матовыми стеклами открывается, и выходит помощница акушерки. К счастью, Марии она знакома.
Стараясь придать себе независимый и целеустремленный вид, Мария осторожно входит в темный коридор. К ее удивлению, кругом полная тишина. Она-то полагала, что из всех палат будут раздаваться вопли и стоны. А тут наоборот — полное молчание. Мимо с судном в руках проскользнула акушерка. Возле одной палаты стоит неубранная каталка, похоже, на ней только что кто-то лежал. Мария проходит мимо кухоньки, откуда доносится запах гренков.
И вот она снова на лестнице. По другую сторону от лифта дверь с надписью «Интенсивная терапия».
Она крадется мимо распахнутых и закрытых дверей. За одной видит пустую ванну. За другой юная девица лежит и читает газету, на тумбочке бутылка с содовой.
В большой палате на четверых, где она провела новогоднюю и последующую ночи, на фоне окна вырисовывается силуэт низенькой тучной фигурки. Она поворачивает голову — Хабиба! В своем нейлоновом халате цвета цикламена. Она встает и обнимает подругу.
Тут же появляется полная акушерка в белых сабо.
— Можете вы объяснить ей, что она должна принимать таблетки? Ей назначили по таблетке каждые полчаса.
С помощью двух рисунков в самодельном словарике Марии удалось втолковать Хабибе, что ей следует делать. Капельница не помогла. Теперь вместо нее придется принимать таблетки.
Хабиба, видимо, устала. Глаза с красноватыми белками смотрят незряче. Коротенькая черная косичка распласталась на плече. Она то и дело почесывает то локти, то шею.
Полная акушерка возвращается в палату.
— Ну как, поняла она?
— Поняла.
Мария смотрит на акушерку и вдруг спрашивает, как в воду бросается:
— Скажи мне, может многоводье повредить ребенку?
— Нет, — улыбается та. — Вообще-то нет. Все обстоит как раз наоборот. Многоводье может указывать на то, что с ребенком не все благополучно.
Мария хватается за горло — вот все и сказано.
Совершенно непреднамеренно, одной-единственной фразой акушерка раскрыла правду. Ту правду, до которой Мария доискивалась уже несколько недель.
Рослая плечистая девушка в желто-оранжевом халате входит в палату. Мария и Хабиба подняли на нее глаза. Девушка приветственно вскинула правую руку, левой она поддерживает живот. Остановившись у окна, новенькая глядит на черепичные крыши и красные кирпичные стены зданий.
— Ну вот, придется теперь сидеть здесь и тянуть время до родов. Тоска, правда?
Явно любительница поболтать. Мария решила поддержать разговор.
— А тебе скоро рожать?
— Да вот-вот уже.
— Но живот у тебя не очень большой.
— Это так кажется — из-за моего роста. А вообще-то в самый раз.
— Почему же тебя сюда положили?
— На обследование. Интоксикация у меня. Какая-то ерунда со зрением.
— Со зрением?
— Ага. Что-то вроде фантомных образов. Так, по-моему, они это называют.
Она улыбается и вытаскивает из кармана пакетик соленых пастилок. Вид у нее вполне беспечный, похоже, она ничуть не обеспокоена своим положением.
— Я так рада, что буду рожать.
Мария сглотнула слюну. Вот бы мне так, думает она. Если б можно было, как в сказке, обратиться в другого человека.
— Меня зовут Вероника, — говорит девушка. — А вас как?
— Меня Мария, а мою подругу Хабиба.
Они пожали друг другу руки.
— Ты проходила подготовку к родам? — спрашивает Мария.
— Ага, — говорит Вероника. — Само собой. И здесь, в клинике, у акушерок, и в женской консультации. Всю дорогу! Так что подготовилась будь здоров. Да еще помотрела пару фильмов.
— Почему же ты все-таки рожаешь в патологии?
— Да потому, что для первых родов я «перестарок». Мне тридцать один. И потом, мне просто так захотелось. Знакомые женщины, которые здесь рожали, все очень довольны.
— А твой муж будет присутствовать?
— А как же! Он присутствовал и при обследовании, и при подготовке. К счастью, работа ему позволяла.
В нулевой палате Линда занята сборами. Она опорожнила свой шкаф и тумбочку, выбросила в мусорный ящик полузавядшие цветы и отнесла вазу в моечную. Сейчас она убирает в сумку последние мелочи и кладет на окно стопку «Роман-газеты».
На Линде желтая обтягивающая блузка и красная миниюбочка, нейлоновые чулки, красные туфли на высоких каблуках. Вид пациентки в «штатской» одежде всегда ошеломляет. Больше, чем если б она предстала в чем мать родила.
— Срок у нас одинаковый, — говорит она Марии. — Так что, наверно, еще встретимся — в послеродовом. Вот будет здорово!
— Привет Аллану. И пусть у тебя все будет хорошо!
Не успела Линда скрыться за дверью, как нянечка уже принялась убирать ее постель. Все белье, даже матрас, увозится прочь и тут же проворными профессиональными движениями стелется все свежее. В заключение постель накрывается голубым пластиком.
На алюминиевом столике вкатывается в палату горячая пища. Печенка с жареным луком и картофельным пюре. Тумбочки придвигаются к кроватям, с металлическим лязгом поднимаются изголовья.
— Можно я позавтракаю вместе с вами? — спрашивает Сигне.
— Заходи, — приглашает Мария.
Едят молча. Потом Сигне спрашивает новенькую:
— У тебя уже есть дети?
— Да, девочка трех лет.
— Как проходили роды?
— Да, в общем-то, нормально, — говорит Тенна. — Правда, было гораздо больнее, чем я надеялась. Я рожала в частной клинике. Роды были долгие, но все шло как положено. И Андерс, к счастью, все время был со мной. Но знаешь, что, по-моему, было плохо?
— Нет, откуда же мне знать?
— Что меня разрезали. Я ничего не знала о таких вещах. Никто не говорил мне, что это обычное дело, когда женщин разрезают и зашивают.
— Но что же в этом такого уж плохого? — спрашивает Мария.
— Мне сделали два разреза, по одному с каждой стороны. Я не то чтобы чувствовала, но просто слышала, как режут. Звук был такой… ну как будто режешь рыбу, например. Ну да, как будто режешь рыбу. Это было отвратительно, словно мне резали лицо, рот… Да, словно мне резали рот, такое было чувство. И к тому же мне сделали здоровенный синяк. Но Андерс отнесся к этому совершенно спокойно. Он стоял и смотрел, как акушерка зашивала меня, и он ей сказал: «Тут требуется тонкая ручная работа. Я и сам занимаюсь ручным трудом. Так уж сделай все как надо». И она ничуть не обиделась, только сказала: «Да-да, я постараюсь».
— Не хочет ли кто-нибудь еще молока?
Мария держит в одной руке пахтанье, в другой — молоко.
— Но говорят, что, когда разрежут, легче заживает, чем если сама разорвешься.
— Тебя усыпляли, когда накладывали швы? — спрашивает Сигне.
— Да. И я, в общем-то, ничего не чувствовала. Я думаю, если б меня подготовили, все это не было бы так ужасно.
— А швы тебе снимали?
— Да, и это тоже было жутко неприятно, — говорит Тенна, вытирая салфеткой рот. — Когда я вернулась домой, оказалось, что у меня внутри остались еще два шва. Андерс позвонил в клинику: «У моей жены, — говорит, — остались неснятые швы, что нам делать?» «Они сами рассосутся», — сказали ему. Тогда Андерс взял и вытащил эти нитки.
Мария содрогнулась.
— Но знаешь, многие из товарищей Андерса, которые присутствовали при рождении своих детей, не хотят больше спать со своими женами.
— Не может быть! — вмешивается Сигне.
— Да-да. Говорят, с них довольно!
Тенна чисто выскребла свою тарелку.
— Как им не стыдно! — возмущается Мария. — Это значит, для них женщина всего лишь предмет сексуальных развлечений.
— У нас с Андерсом в этом смысле нет проблем — стоит нам только посмотреть друг другу в глаза…
— Сколько тебе лет?
— Двадцать два. И Андерсу исполнилось двадцать два.
Тенна смотрит на Марию своими ясными, спокойными серо-голубыми глазами. И вдруг лицо ее болезненно дрогнуло.
— Ох, черт…
Она роняет нож.
— Что-то там у меня неладно, — говорит она со слезами на глазах. — Вот и сейчас — отходят воды, а до срока еще не меньше пяти недель.
Она дергает шнур в изголовье.
Медсестра открывает дверь.
— Можно мне судно? — просит Тенна.
Сигне собирает посуду. Потом берет поднос и локтем открывает дверь.
Мария берет с подоконника дамский журнал.
Она раскрывает его наугад, и текст сразу же захватывает ее.
Она почувствовала, как две сильные руки обвились вокруг нее. В безумном, головокружительном порыве он снова стал мужчиной. Стыд больше не удерживал его. И она сдалась. Он терзал ее рот жадными поцелуями. Изнывая об благодарности, она позволила ему раздевать себя, покоряясь его рукам, которые настойчиво пробивались к ее обнаженной плоти. И прежде чем ее одежда упала на пол, она ощутила на себе всю тяжесть его тела…
— Я готова, — говорит Тенна медсестре.
Та накрывает судно и уносит его.
…всю тяжесть его тела, его страсть, его жар. И вдруг его словно сковала внезапная судорога. Полуоткрыв глаза, она увидела на лице Пьера выражение мучительного блаженства. Вспыхнувшее в ней сладострастие утихло, сменившись потребностью в нежности, покровительстве.
Что-то толкнулось у Марии в животе — он терзал ее рот жадными поцелуями — это ребенок пустился в очередное плавание.
Вернувшись к себе, Сигне задумалась о том, о чем они говорили в нулевой палате. Мысли о таких вещах у женщин, лежащих на сохранении, без конца вертятся в голове.
Мысли о сексе в связи с родами. O vita sexualis, как это называется у врачей.
После первых родов у нее осталось ощущение, что с ней обошлись просто по-варварски: зачем-то выбрили, резали, раздирали, потом зашивали. Она была удручена и растерянна. Вот уж не думала, что жизнь так груба, так жестока!
Шли недели, а она никак не решалась хотя бы нагнуться и рассмотреть свои распухшие и словно склеившиеся губы. Лишь спустя месяц, немного оправившись, рискнула она, положив на пол зеркало, разглядеть наконец свои органы.
Будем ли мы когда-нибудь снова спать вместе? — думала она. Истерзанное родами тело, ребенок у груди, бесконечная усталость — все, казалось, этому препятствовало.
Как правило, ни мужчины, ни сами женщины не знают ничего о женском влагалище. Оно темно и таинственно и потому загадочно, как ночное звездное небо. Работа гинекологов, как и астрологов, — за пределами понимания простого смертного.
Но роды освещают женское лоно своим немилосердным светом. Влагалище раскрывается, сбрасывая покров таинственности, и, если сексуальная жизнь партнеров построена исключительно на этой ее таинственности, она обречена. Это несомненно.
Именно поэтому товарищи Андерса, как рассказывала Тенна, не хотят больше спать со своими женами — после того как им случилось увидеть сырое мясо у них между ногами. Красотки с журнальных картинок и такое естественное, жизненное явление, как роды, плохо вяжутся друг с другом.
Сигне спросила Якоба, не тревожится ли он за их дальнейшую интимную жизнь теперь, когда он видел рождение их первого ребенка.
— Ни в коей мере, — отвечал он, удивившись такому вопросу. — Не вижу никакой связи между этими вещами — родами и сексом. А ты видишь? Сексуальная жизнь не так уж прямо связана с половыми органами. Хочешь верь, хочешь нет, но главное — это отношения между двумя человеческими личностями.
И они снова стали спать вместе. И было им даже лучше, чем прежде, спокойнее, уютнее и откровеннее. Хотя, быть может, не так уж часто выпадало им это счастье. Дети, куда ж от них денешься.
И все-таки многое изменилось. Интимная жизнь не была больше откровением, не была самоцелью. И потому стала не так существенна.
Когда Мария вечером потихоньку пробиралась в отделение интенсивной терапии, сердце у нее билось так, что казалось, его могут услышать другие. Она была уверена, что у турчанки началось и она уже в родилке.
В большой палате горит лишь одна настольная лампа — в углу у окна, где кровать Вероники. Ее оранжевый халат висит на стуле. Она спит и не знает, что у ее изголовья сидит мужчина, на коленях у него пальто. Он поправляет ей волосы. Потом оборачивается, видит Марию и едва заметно кивает ей.
В противоположном, самом темном углу сидит, откинувшись на спинку стула и широко расставив ноги, несчастная одинокая фигурка. Ее слишком большой живот свисает между коленями. Цикламеновый халат распахнулся, и белая больничная рубашка вздымается и опускается на полной темной груди. Губы у нее желтые, запекшиеся от таблеток, которые с различными интервалами кладут ей под верхнюю губу в течение дня. Дурацкие таблетки. Ничуть они не помогают!
Когда она увидела Марию, из глаз у нее хлынули слезы. Все ее маленькое плотное тело содрогалось от отчаянных рыданий.
Мария протянула ей руку. Хабиба тяжело поднялась со стула.
И они вдвоем отправились немножко прогуляться перед сном. Вышли в коридор и стали ходить до входной двери и обратно.
Они не могут поговорить между собой, да и о чем говорить! Хорошо уже, что можно выказать ласку и дружеское участие — элементарные чувства, которые выше слов, выше национальных различий, выше социального положения. Взявшись под руку, медленно несут они по коридору свои тяжелые животы.
Вот они проходят мимо крошечной дежурки, где две акушерки склонились над столом, на котором среди историй болезни и различных карточек стоят две чашки с кофе. Идут мимо шкафов и столиков на колесах, мимо банкетки, мимо палаты, где уже погашен свет.
А вот акушерка везет детскую кроватку на высоких ножках. Следом идет взволнованный молодой человек. На нем белый халат, на шее клетчатый шарф.
— Где я могу позвонить? — спрашивает он, нервно озираясь.
— В самом низу, у главного входа, там есть автомат, — отвечает акушерка.
Он рванулся к двери.
Мария сразу же узнала его. Это Эрик Эриксен, муж Гертруды.
— Посмотрите, какой чудесный малышка, — говорит акушерка. — Его только что извлекли на свет при помощи кесарева сечения, и папаша, видели, побежал оповещать весь мир о его рождении.
Полуприкрытый одеяльцем, лежит самый прекрасный новорожденный на свете. Правильной формы головка, светлые шелковистые волосики, пухлые розовые губки. Он покряхтывает и пытается сосать свой кулачок. Потом начинает плакать, жалобным тоненьким голосочком. Акушерка осторожно поднимает его и прижимает к своей груди. Ребенок тут же затихает. Она баюкает его, мурлыча какую-то песенку. Хабиба и Мария смотрят на них как завороженные.
— А что с матерью? — спрашивает Мария. — Я ее знаю. Мы вместе лежали на сохранении.
— Ее отвезли в реанимацию.
— А отец не вернется?
— Пойдет домой спать.
— А как же будет с маленьким?
Она надеется, что акушерка спросит, не хочет ли она посидеть с ним ночь.
— Его поместят в послеродовое отделение вместе с другими новорожденными.
— А если он ночью будет плакать?
— Тогда его перепеленают и дадут сладкой водички.
Мария не может отвести глаз от маленького Эриксена.
Ведь еще какой-нибудь час назад он находился в укрытии, в уютной темноте материнского чрева. Каково-то ему будет одному, в жесткой кроватке, окруженному воздухом, светом и пеленками — вещами, совершенно ему незнакомыми? Время от времени кто-нибудь поднимет его и поменяет пеленки. Перепеленает человечка, чья связь с окружающим миром до сих пор осуществлялась лишь через соединявшую его с матерью пуповину.
Новорожденный снова закряхтел. Акушерка подняла его и прижала его влажную головку к своей шее. Он успокоился, немножко еще покряхтел и замолк. Даже это чуждое ему существо может дать ему ощущение покоя и уюта, просто прижав к себе.
Акушерка пристроила малыша поудобнее под одеяльцем. Он не проснулся и продолжал спать, как спал девять месяцев в мамином животе.
— Ну, мы покатили дальше, — говорит акушерка, толкая кроватку. — Не стоять же нам тут всю ночь!
Марию от волнения даже пот прошиб. Возьмите меня с собой! Разрешите посидеть с ним ночь! Ну хоть пока Гертруда не очнется от наркоза! — взывала она мысленно им вслед.
И вот они стоят, две пациентки, высокая и коротенькая, в собственных халатах и больничном белье. Непричесанные. Одна в шлепанцах, другая в босоножках. Обе в белых гольфах, которые сползают на щиколотки.
А детская кроватка уезжает от них все дальше и дальше.
4 января, суббота
Когда Мария заходит в дежурку, чтобы взять полученное на ее имя письмо, Баська разговаривает по телефону. По-польски. Мария уже заметила, что Баська не упускает возможности поболтать по телефону, если она не очень занята в отделении и особенно если нет на месте старшей сестры. Вот и сейчас она что-то говорит на своем непонятном языке, рисуя пальцем на оконном стекле.
Вернувшись в палату, Мария забралась в постель и вскрыла конверт. Захариас в Сёндре-Стрёмфьорде. Их ансамбль каждый вечер играет в отеле. Они пытаются писать свои собственные песни, но пока им это не очень удается. Он шлет тысячу приветов от всех своих товарищей.
Читать его письма легко. Почерк у него крупный, правильный и отчетливый.
— Чего ты вбила себе в голову, будто с твоим ребенком непременно что-то неладно, — говорит Сигне, откладывая в сторону справочник по керамическим работам.
— А вдруг так и есть? Это ведь ужасно.
— Да брось ты. Ведь даже здесь, в патологии, где лежат с разными осложнениями, и то, по их словам, почти все рожают нормально.
— Мало ли что они говорят. Я им не верю. — Мария откидывает назад волосы и продолжает: — Может, это и правда, что почти все роды проходят нормально. Но ребенок-то при этом не обязательно нормальный. Этого они тебе никогда не скажут. Потому что люди сами не хотят знать правду. Я уверена: если кто и спросит, ему ответят, что такой статистикой не располагают. — Она смотрит в окно на крупные пушистые танцующие снежинки. — Они не говорят таких вещей, чтобы мы не боялись.
— Само собой. Их задача ведь не в том, чтобы запугать нас до смерти. Наоборот.
Они в молчании смотрят друг на друга. Силуэт Марии четко вырисовывается на фоне белесого зимнего неба за окном. Были бы у нее часы! До чего же неудобно, что она никогда точно не знает, который час.
Она кладет руку на высокую стопку книг на тумбочке у Сигне. Просто удивительно, как мало сама она прочла за то время, что находится в клинике.
Мир за стенами клиники — реальный мир — проникает сюда лишь в виде газет, журналов и книг. Он словно процеживается сквозь эти фильтры, прежде чем дойти до пациентов патологического отделения, до их сознания. Впрочем, и газеты-то здесь не читают. Их покупают, пробегают глазами заголовки, но не читают. И непрочитанные книги стопками складываются в отделении. Пациентки не могут заставить себя сосредоточиться. Они либо болтают, либо дремлют, либо смотрят телевизор.
Действительность остается за порогом. Здесь властвует совсем другая действительность.
— Как ты думаешь, — говорит Мария, глядя Сигне прямо в глаза. — Есть ли хоть какая-то реальная возможность умертвить своего ребенка? Если ты захочешь.
— Ты имеешь в виду — если ребенок неполноценный?
— Да.
— Я частенько об этом думала. И по-моему, вряд ли можно это осуществить, поскольку такого ребенка сразу же отправляют в отделение для новорожденных. А там он под постоянным наблюдением. — Сигне легонько дергает себя за волосы. — Остается только надеяться, что он сам умрет. Ну и можно, конечно, рискнуть поговорить с врачами.
— А еще можно задушить его одеялом. — Мария умоляюще смотрит на Сигне.
Сигне невольно бросает взгляд на закрытую дверь.
— Или простудить его, когда вернешься домой, — продолжает Мария.
— Да, если у тебя хватит духу.
— Или утопить в ванне. Ведь сколько их так погибает каждый год. В прежние времена убогих детей убивали. Или просто выбрасывали. Не вижу, что в этом плохого. Испокон веку женщины умерщвляли своих младенцев. И по-моему, они имеют на это право.
Сигне смотрит на Марию. Я старше ее, думает она, я должна попытаться отвлечь ее от этих мыслей. А то это плохо кончится.
Она минутку медлит, потом говорит:
— Не забывай, Мария, что к ребенку привязываешься все больше и больше с каждым прожитым часом, даже если ребенок совсем плохонький. Так уж установлено природой, наш долг — оберегать свое потомство.
— Значит, убивать надо сразу?
— Да, я в этом убеждена.
— А если такое здесь случится, как ты думаешь, они сообщат в полицию? — Лицо у Марии нервно подергивается.
— Я все-таки сомневаюсь. Не думаю, что они так сделают. Но все зависит от обстоятельств…
Сигне наполнила пластмассовые стаканы. Немножко влаги плеснулось на «Информашон», расстеленную на тумбочке.
— Но если уж кто-то собрался с духом и решил лишить своего ребенка жизни, ему стоит подумать и о возможных последствиях.
— Как можно загадывать так далеко вперед!
— Потому что того, кто убил человека, замучат укоры совести. Не каждый способен это вынести.
А за окном все танцуют снежинки. Кажется, что их поддерживает ток теплого воздуха, а то вдруг почудится, что это пух из подушки кружится в вихревом потоке.
— Ты все-таки послушай меня, — не отступает Мария. — Допустим, у тебя родится совсем уж неполноценный ребенок, так разве нельзя просто взять и сказать, что он тебе не нужен? Само собой, они сделают все, что в их силах, чтобы убедить тебя признать ребенка. Правильно? Конечно. Они и не могут поступить иначе. — Она сжала руку так, что пальцы захрустели. — Но если ты понимаешь, что такой ребенок испортит тебе всю жизнь, тогда, я считаю, именно ты, как мать, имеешь право убить ребенка.
Рука со стаканом красного вина замерла в воздухе.
— Ну да, но… — Сигне старается собраться с мыслями — Но ведь может так получиться, что именно этот ребенок станет для тебя самой большой радостью. Что ты станешь любить его больше всех на свете — даже если он, к примеру, будет слабоумным.
— Но разве это та любовь, на которой разумный человек станет строить свою жизнь?
— Да откуда ты знаешь, на каком основании можно разумно построить свою жизнь? — с удивлением спрашивает Сигне. На верхней губе у нее темная полоска от красного вина.
Мария выпрямилась.
— Я хочу жить как свободный человек. И я, черт возьми, имею на это право. Хотя я прекрасно знаю, что индивидуальная свобода, в которую нам предлагают поверить, всего лишь один из мифов буржуазного общества. Но я хочу работать, хочу видеть, что происходит вокруг, хочу иметь друзей — в общем, хочу жить полноценной жизнью, реализовать себя — так, что ли, это называется? И скажи мне честно, разве большинство мужчин — в том числе и отцов — не оговорили бы себе такое право?
— Это-то конечно. Но фактически и они не так уж свободны, с этим ты должна согласиться. И представь себе, самую большую свободу можно обрести лишь в пределах каких-то границ. Дети тоже ограничивают наше существование. Не будем себя обманывать. Но это только к лучшему. Чем мир уже, тем более насыщена жизнь.
— Может, ты и права, — взволнованно говорит Мария. — Может быть. Но я хочу, чтобы мой ребенок со временем отделился от меня. Как я в свое время отделилась от родителей. А ребенок с большими дефектами — это крест на всю жизнь. От него уж никогда не избавишься.
Сигне зажгла сигарету и придвинула пачку Марии. Но Мария нетерпеливо мотнула головой. Она не курит. Она твердит свое:
— Я убеждена, что во многих случаях мать оказала бы ребенку большую услугу, отправив его на тот свет. Только сентиментальные дураки могут думать иначе.
— Ты же не специалист по новорожденным, так? И не знаешь, что может наука. Как она может помочь твоему ребенку. Сама-то ты не в состоянии оценить его возможности.
— В общем, они могут навязать тебе ребенка против твоей воли? Даже если ты его не хочешь?
— Да, в известном смысле. Я тоже не сразу это поняла. Но между прочим, откуда тебе знать, хочешь ли ты его иметь, пока ты его не увидела и основательно все не продумала?
— Ты меня совсем добила, — шепчет Мария.
Сигне выпускает изо рта кольцо дыма.
— Вот и хватит об этом. Дело сделано. Нельзя одновременно и желать ребенка, и оставлять за собой право брать или отказываться, когда он родится. Нужно принимать его таким, какой он есть, и стараться получить от этого удовольствие. Таковы условия нашей жизни, хотя я согласна с тобой — женщина несет на себе неизмеримо большую часть бремени и ответственности.
Лежу я здесь и проповедую, думает Сигне, вытирая губы уголком одеяла. А сама? Разве меня не мучили подобные мысли? Лучше не вспоминать. Я обманываю ее так же, как и все остальные. Она права!
Мария, сложив руки на своем слишком большом животе, смотрит на танцующие за окном снежинки.
— Скоро нам принесут чего-нибудь поесть, — говорит Сигне и тушит сигарету в пепельнице.
«Трещит по швам?» Это одна из последних фотографий принцессы Элизабет и Ричарда Бартона, снятая как раз в тот момент, когда они должны были бы быть веселы и раскованны, на отдыхе в Касабланке. Но даже тут улыбка несколько натянутая. Отношения между ними стали заметно прохладнее.
Мария проглядывает репортаж в «Иллюстрированном журнале».
Бартон сам говорит: Мы с Элизабет решили, что нам не следует видеться слишком часто. С Элизабет Тейлор мы были вместе круглые сутки, и видите, к чему это привело.
Разговаривают две медсестры:
— Неужели правда?
— Спроси у нянечки в родильном отделении. Ребенок шел ножками.
— И был слышен крик?
Ну да, о чем я и говорю. Воды отошли, ребенок наполовину вышел, в шейке матки оказался воздух, и ребенок закричал прямо у матери в животе.
— Нет, это уж слишком, — говорит старшая сестра, которая как раз в это время проходит мимо.
— Хабиба!
— Мария!
Мария придвинула стул к родильному столу. Она гладит турчанке руку и смотрит в темные испуганные глаза с тонкой паутинкой кровеносных сосудов на желтоватых белках. Темные волосы рассыпались по подушке, на лбу выступили крупные жемчужины пота.
В углу палаты на стуле сложены цикламеновый халат, шлепанцы и сумка.
Турчанка подносит палец ко рту. Губы пересохшие, потрескавшиеся.
— Нельзя ей чем-нибудь смазать губы? — спрашивает Мария дежурную помощницу акушерки, белокурую сероглазую девицу с прической под пажа.
Та протягивает ей баночку вазелина.
Каждый раз, когда приходит схватка, Хабиба закрывает глаза и тихонько стонет.
— Как у нее дела? — спрашивает Мария с бьющимся сердцем. — Все идет как положено?
— Все идет хорошо. Только слишком она полная. Из-за этого роды могут затянуться.
Мария гладит Хабибу по руке.
— У нее водянка, да?
— Да. У нее ужасные отеки, и к тому же еще экзема. Но, я думаю, все это пройдет, как только она разрешится от бремени.
Мария смотрит на Хабибу. Крупные капли пота повисли на густых черных бровях. На столике у изголовья лежит самодельный словарик.
— Как ты думаешь, ребенок у нее крупный?
— Трудно сказать. Она сама такая тучная. Но я не удивлюсь, если в нем будет что-нибудь около девяти фунтов.
— А как вообще-то дело двигается?
— Нормально! А у тебя у самой, похоже, двойня будет?
— Ага. — Мария краснеет. — Мужу ее позвонили?
— Он уже едет. Ему повезло, что сегодня суббота.
Мария кладет ладонь на огромный тугой живот Хабибы. Она чувствует, как схватка, возникнув где-то под самой грудью, волной сбегает по животу вниз к лобку. Будто легкий трепет, дрожь, слабый электрический разряд. Марии кажется, что какие-то сверхъестественные силы посылают ей сигналы, пользуясь турчанкой, как медиумом.
А теперь схватка возвращается к своему исходному пункту.
Приходит акушерка. Она вполголоса разговаривает с помощницей, которая склонилась над письменным столом, держась за спинку стула. Потом они одновременно поворачиваются к роженице.
— Сейчас мы спустим ей воды, — говорит помощница. В руке у нее инструмент, похожий на вязальную спицу.
— Повернись-ка на спину. Так, ноги врозь и как следует расслабься.
Мария помогает Хабибе повернуться. Когда взгляд ее упал на ярко-красное пятно экземы в низу живота турчанки — кожа здесь шершавая, как терка, — комната поплыла у нее перед глазами.
Хабиба дрожит всем телом.
— Лежи спокойно. Больно не будет.
Турчанка не понимает, что ей говорят. Мария сжимает ее руку.
Акушерка и ее помощница наклоняются к отверстию между ног.
При следующей схватке они втыкают длинную иглу в упругую белую оболочку плода. Оболочка с легким треском лопается, и теплая волна выливается на простыню.
Напряженность в животе спадает. Хабиба наконец может дышать свободнее. Неуверенной улыбкой она благодарит помощницу, которая кусочком марли вытирает ей лоб.
— Хорошо. Спасибо.
— Ну, теперь дело пойдет быстрее.
За окном танцуют снежинки. Схватки стали активнее. Одна за другой прокатываются они по телу Хабибы. Она — турецкий пляж, и волны Черного моря набегают на берег. Она — гравийный карьер, и гравий осыпается вниз, на дно карьера. Она — тучная корова, и ветеринар ощупывает ее своими длинными пальцами в резиновой перчатке.
Слышится осторожный стук в дверь. Появляется Ибрагим и поспешно подходит к изголовью Хабибы.
Мария на цыпочках выбирается из палаты.
На кровати у Тенны сидит светловолосый парень с веселыми глазами. Он склонился над ней, обхватив подушку. На тумбочке в стакане букетик красных и белых цветов.
Вот он прижался лбом к ее лбу, потерся кончиком носа об ее нос.
Обнаружив под одеялом его руку, Тенна вздрагивает от неожиданности, рывком садится и разражается смехом.
— Андерс!
Афганская дубленка, большие варежки и меховая шапка лежат на кровати Марии. Эва придвинула стул к изголовью. Мария смотрит на свою сестренку. Как она еще молода. Жаль, что ей пришлось столкнуться с такой штукой, как патологическая беременность. Многоводье. О чем тут разговаривать с девочкой, которая сама никогда не была беременна.
— Как они там справляются, в моем детском саду?
— Взяли на твое место временного. Из тех, что, как говорится, вышел из игры. Ему года тридцать два. Он, собственно, архитектор. Но сейчас предпочел пасти детей — пока, во всяком случае.
— Он женат?
— Разведен. Имеет ребенка. Ты что-нибудь читаешь? — спрашивает Эва, беря «Азбуку политэкономии». Под ней воспоминания Пабло Неруды.
— Только эти две вещи и прочла. Но приниматься за что-нибудь еще я сейчас не могу. Я брала тут разные книги — в библиотеке и у соседок, но мне неинтересно. И вообще я не могу сосредоточиться. Единственное, что я охотно читаю, — это еженедельники. «Иллюстрированный журнал» и воскресная «Берлингске тиденде» — самое для меня сейчас подходящее. После них хорошо засыпаешь. От лежания в больнице такая усталость! Иногда я думаю: Господи, как же я буду справляться, когда вернусь домой?
— Нет, в самом деле?
— Спросите у Расмуссен.
— Четыре пятьсот?
— Да, девочка весит ровно девять фунтов. Говорят, у нее длинные черные волосы и совершенно черные брови. Она в отделении для новорожденных, потому что у Хабибы оказалась сахарная болезнь — вы об этом знали?
— Нет.
— Но все говорят, что девочка просто замечательная.
— Ну что ж, девочка так девочка, значит, так решил Аллах.
Что-то поделывает сейчас Захариас в своей Гренландии? Каким искушениям подвергается? Неужели двум гренландцам вместе лучше, чем гренландцу и датчанке? А может, у них там есть какой-то особый гренландский способ?
Только бы он не привез оттуда венерическую болезнь.
Мария тоскует по мужчине. Ночами ей представляется, что рядом с ней под одеялом кто-то лежит. Его прохладное тело прижимается к ней. Огромный живот не мешает ей представить и все остальное.
Да, не только тревога при мысли о маленькой жизни, которую она носит в себе, не дает ей спать. Ее мучит потребность в общении с мужчиной. И эта потребность все растет. Она растет и усиливается с каждой мерцающей черно-белой ночью. Она толкает ее вперед, вперед к освобождению, когда ребенок наконец выскочит из ее тела.
Жалкое снотворное! Оно совсем не действует. Мария вертит головой на подушке. Подтыкает угол одеяла под бедро, чтобы удобнее было лежать на боку. Ребра будто стянуты обручем. Даже дышать трудно.
Эта ночь никогда не кончится. Жалюзи закрывают вид из окна. Если б можно было хотя бы увидеть звезды и турецкий полумесяц над Тагенсвей.
Тенна похныкивает во сне.
Поздним утром Мария вскакивает, зажимая рот, чтоб не закричать. Ей приснилось, будто она идет в родильное отделение, которое смахивает на крытую галерею в большом старинном доме. Она идет в надежде, что ей разрешат войти в палату, где лежит Хабиба.
Сероглазая помощница акушерки со стрижкой под пажа выходит в коридор и гостеприимным жестом приглашает Марию зайти.
На столе под грудой толстых одеял лежит Хабиба и смотрит большими встревоженными глазами. У нее роды. Но она не шевелится.
Мария карабкается к ней на стол и тут же падает вместе с Хабибой на пол. Так и лежат они обе в куче одеял.
Хабиба смотрит на нее, немая от горя.
5 января, воскресенье
Ночь с субботы на воскресенье. Еще темно. Вероника проснулась в своей постели в отделении интенсивной терапии от ощущения, будто что-то лопнуло. Напряженность в животе вроде бы спала, а под спиной тепло и сыро. Она села в постели. Сна ни в одном глазу. Зажгла лампу над кроватью и откинула одеяло. Простыня мокрая. Воды?
Отошли воды, значит, время твое пришло. После всех этих долгих месяцев — какое счастье! Она дергает шнур в изголовье. В палату неслышно входит ночная дежурная.
— Кажется, у меня отошли воды.
— Можно посмотреть?
— Вот, смотри, немножко красноватое.
— Это воды. Ну что ж, с Богом…
Завернувшись в желто-оранжевый махровый халат, Вероника ходит взад и вперед по палате в родильном отделении. От двери, мимо специального высокого стола, на котором она будет рожать, к окну. От окна мимо стола снова к двери. Медленно туда и обратно, чтобы возобновились схватки.
В окне смутно различаются очертания других больничных зданий. В нескольких окнах уже горит свет. При виде их на душе становится теплее.
В дверях показывается ночная дежурная.
— Ну, как дела? Схватки начались?
— Ага, начались.
— Хорошо. Теперь постарайтесь уточнить промежутки между схватками — сколько времени проходит от одной до другой.
На стене против стола висят часы. На них пять минут девятого. Больница понемногу оживает. Белые халаты парами наискосок пересекают двор.
Слышится какое-то приглушенное урчание. Голуби, что ли? Воркуют на карнизе под окном? А может, это женщины кряхтят и стонут где-то рядом? Небось не одна она здесь роженица. Как бы хотелось услышать из соседних палат еще какие-нибудь звуки!
Когда начинается схватка, Вероника, как ее учили, наклоняется, опираясь на стол, чтобы расслабиться.
В углу детская кроватка на колесах, Вероника не раз уже заглядывала в нее. Одеяльце в красную клетку и желтое пушистое покрывало. К бортику привязана полоска белой ткани с написанным от руки номером.
Значит, они уверены, что ребенок появится, — вроде как иначе и быть не может.
— Вы не устали?
— Устала. Ноги устали.
Ночная дежурная прикрывает дверь.
— Мы решили поставить вам капельницу, чтобы стимулировать схватки. Раз воды отошли, значит, уже недолго ждать, скоро начнутся роды. Давайте пока запишем ваши данные.
Она раскрывает историю болезни.
— Вероника Андерсен, профессия — секретарь, родилась второго января сорок четвертого года в Хиллереде. Так. Ваш муж будет присутствовать, да? Позвонить ему?
Девять часов, начинает светать.
Ну, наконец-то, можно взобраться на стол и лечь. В изголовье укрепляют штатив, к нему подвешен округлый стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью. В вену на правой руке вводят иглу, и по резиновой трубочке в ее тело вливается вещество, которое должно стимулировать схватки.
Веронике не терпится, чтобы уже хоть что-нибудь произошло, ведь столько месяцев все ее мысли были прикованы к этому дню.
Молоденькая худощавая и бесцветная девица молча садится на стул возле нее. В одной руке у нее шариковая ручка, другую она держит на животе Вероники, отмечая сокращения матки. Перед ней лежит секундомер и листок бумаги. Каждый раз, как живот напрягается, она ставит на листке какую-то цифру.
С такой не разговоришься. Не понять, то ли слишком застенчивая, то ли сухарь. В общем, не подходит она для этого дела, решает Вероника.
Минуты ползут еле-еле. Время тянется ужас как медленно. Стрелки часов на стене напротив, кажется, совсем обессилели и не могут двинуться с места. При каждой схватке возникает боль в крестце. Так бывает и во время месячных. Вот бы почитали ей сейчас что-нибудь занимательное.
Девица рассматривает свои ногти.
Между схватками Вероника чувствует себя как обычно. Боль отступает, и ее одолевает дремота.
Но вот девица встает и, ни слова не говоря, покидает палату.
В сердце Вероники закрадывается страх. Ей становится зябко. Бросили ее здесь одну! А если что-нибудь случится…
Она, правда, слыхала, что в некоторых роддомах роженицу запросто оставляют одну на столе. «Когда потянет на низ, звоните» — вот и весь сказ.
Но неужели и ее бросят на произвол судьбы?
Она хватается за шнур в изголовье и дергает.
Дверь тут же распахивается.
— Не могу я лежать здесь одна!
— Вы и не будете одна, — заверяет ее ласковый голос.
Молоденькая стройная акушерка сидит возле Вероники и держит ее за руку. Вероника счастлива — не так часто ведь бывает, что незнакомый человек тепло и по-дружески берет тебя за руку.
— Судя по говору, ты не здешняя?
— Я с Фарерских островов, — объясняет акушерка.
Она все держит руку Вероники в своей руке, и это так приятно! Веронике так нужна сейчас поддержка! Пока акушерка здесь, все прекрасно. Главное, что они с Вероникой заодно.
— А ты долго здесь будешь?
— До двенадцати. Потом придет другая смена, но я попробую, может, смогу задержаться.
А вот и Бредо. Вошел. Огляделся. Улыбнулся. Он торопился и сейчас тяжело дышит. На нем голубой бумажный халат с завязками на спине. Он наклоняется и целует Веронику. Щеки у него холодные, а губы мягкие.
— Как дела?
— Замечательно.
— Больно, да?
— Да, но вроде так и положено.
Утреннее небо наливается ясностью, как бокал розоватым вином, — это восходит солнце. Словно прозрачная роза распускается над горизонтом, знаменуя наступление нового дня. Земной шар тихонько повернулся другим боком, и то, что раньше было в тени, заливается светом.
Родовые схватки — это такое дело, что даже и сравнить не с чем. И сейчас они уже очень сильные и очень частые. Вероника испытывает какое-то совершенно новое для нее чувство радостной уверенности в себе. Схватки словно поднимают и несут ее, как волны в море. Матка равномерно сокращается. Она работает впервые в своей жизни и спокойно и настойчиво заставляет раскрываться шейку матки.
Вероника старается правильно дышать, так, как ее учили в течение последних недель. Это необходимо, чтобы расслабиться. Акушерка помогает ей вспомнить упражнения. При сокращении матки нужно глубоко вдохнуть и медленно-медленно выпустить воздух. Тогда ребенок получает больше кислорода, а роженице легче сохранять контроль за своим телом.
— Здорово. Говорят, это русская система.
— Да, — подтверждает акушерка. — Ее придумали в Советском Союзе еще в тридцатых годах и в начале пятидесятых завезли к нам, в Западную Европу.
Прозрачное сияющее небо в окне обрамлено плотными синими гардинами.
— А вы где работаете?
— Я секретарь в профсоюзе, — говорит Вероника. — В конторе работаю.
— А я топограф в той же организации, — говорит Бредо.
Фарерка подставляет под Веронику специальный лоток и, натянув на руку гладкую резиновую перчатку, начинает осмотр.
— Так. Раскрылась на семь сантиметров. Не хватает еще трех.
О, этот удивительный женский мир, где одна женщина погружает руку во влагалище другой.
— Ну вот, а теперь еще несколько хороших, добротных схваточек, чтобы как следует расширить проход.
Бредо целует Веронику. Она держит его за шею.
— Спокойно, — шепчет он и подмигивает ей, а сам осторожно пытается высвободиться из ее объятий.
Ляжем ли мы когда-нибудь еще вместе в постель? — думает Вероника.
Бредо поддерживает ее под поясницу, и ей больше не кажется, что кости у нее вот-вот разойдутся.
Внутренний механизм в теле Вероники работает и работает. Упорно, методично. Вероника обливается холодным потом. Жертва закона природы, от которого никуда не уйти, она не может даже крикнуть: «Прекрати! Я больше не хочу! И зачем только я ввязалась в этот ужас!» Или: «Дай мне хоть полчаса передышки». Это невозможно. Она целиком во власти своей судьбы.
Но у нее же молодое, сильное тело, а рядом с ней и опытные руки, и человеческое участие. Ей остается только терпеть и надеяться, что ей помогут. Другого выхода у нее нет. Только бы они были с ней ласковы! Только бы шли ей навстречу, тогда она готова на все. Но она не вынесет ни одного грубого слова. Если между ней и ее помощниками возникнет непонимание — бой проигран, и это будет иметь далеко идущие, непредсказуемые последствия.
Фарерка наклонилась над ней и промокнула лоб.
— Мне очень жаль, но уже больше часа. Я должна идти. Я надеялась, что вы родите в мое дежурство. Но вы не расстраивайтесь. Завтра я загляну к вам, посмотрю, кого вы родили.
«Посмотрю, кого вы родили». Она так железно уверена, что Вероника родит кого-нибудь, на кого стоит посмотреть.
Примерно около полудня в патологическом отделении возникла громоздкая фигура в коричневом пальто. Медленно, какой-то пьяной походкой и толкая перед собой колясочку, движется она по коридору. Видно, что каждый шаг ей дается с трудом.
— Господи, да это никак Оливия? — Нянечка едва не выронила судно. — Ну ты молодец!
Пациентки высыпали из палат и толпятся вокруг Оливии.
— Дай посмотреть, дай посмотреть…
— Тише вы, — говорит Оливия и отходит в сторону.
— Дайте-ка мне, — говорит нянечка и высоко вверх поднимает маленький сверток так, чтобы всем было видно.
Девочка — ни дать ни взять индеец. Краснокожая, с непокорными черными волосами. Это уже настоящий человечек. У нее розовые пальчики с крошечными ноготками, правильной формы ушки и бровки, ну и все остальное, чему полагается быть.
— Ой, какая прелесть!
— Дай подержать-то!
— Нет-нет, моя очередь.
Оливия бледна, но старается держаться.
— Можно посмотреть шов? — спрашивает Мария.
— Пожалуйста. — Оливия расстегивает юбку и гордо выставляет напоказ опавший живот.
На животе только вертикально наклеенная полоска светло-розового пластыря. И это все? Классная работа. Все-таки они здесь мастера!
— А что говорит твой муж?
— А что он может сказать…
— А грудь она берет?
— У, еще как! Она у меня такая молодчина, такая молодчина! Аппетит у нее зверский.
Оливия уже начинает давать ей прикорм, как ей советуют здесь в послеродовом, чтобы у малышки не развилась желтуха.
— Прикормом особо не увлекайся, — предупреждает Сигне, подняв кверху палец. — Черт его знает, что в нем намешано.
— Ничего, скоро Хольгер заберет нас отсюда.
— А как тебе понравилось в послеродовом?
— Персонал классный. Грех жаловаться.
Оливия гордо улыбается, показывая порченые передние зубы. Она прямо справочник — все, что нужно, можно узнать.
— Не забыли они тебя стерилизовать? — интересуется Мария.
— Еще чего! — Оливия подмигивает одним глазом. — Сделано в лучшем виде.
— А как ты сюда-то добралась?
— Очень просто. Спустилась на лифте к подземному переходу. Прошла к вашей лестнице. А там попросила санитара помочь. Ну и поднялась наверх.
Во время схваток ощущаешь такое космическое одиночество! Это одиночество совсем особой природы, ничего подобного Веронике прежде не приходилось испытывать.
Может, что-то похожее ощущает человек, когда умирает? Может, смерть похожа на роды? Такая же суровая. Такая же строгая и неумолимая.
Бредо погладил ее по голове.
Услышав невольно вырвавшийся у нее стон, Вероника не узнала собственного голоса.
— Мне так больно спину!
— Постарайся расслабиться. Вот так. Все идет прекрасно.
Возле нее новая акушерка. Она положила на плечо Вероники свою легкую руку и широко улыбнулась. Глаза у нее темные, живые.
— Нет-нет. Ничего у меня не получится!
— Еще как получится. Попробуй-ка сесть, правильно, молодец.
Хорошо хоть она со мной не согласилась, думает Вероника. Представить только, если б она сказала: «Да, у тебя ничего не получится», я бы, наверное, умерла.
— Ой, меня сейчас вырвет!
— Вот и ладно, — говорит акушерка. — Значит, теперь уже скоро.
Господи, что же делать? Схватки идут резкими крутыми волнами одна за другой, не давая ей передышки. Она-то считала, что сумеет сохранять самообладание, но у нее нет больше сил. Хоть бы на миг прекратилась эта пытка, хоть бы чуточку передохнуть. Но где там… Надо работать, работать… А вдруг ребенок застрял? Вдруг он не сможет выйти? Вдруг ему не хватит кислорода? Вдруг у него пуповина обмоталась вокруг шеи? Да мало ли что может случиться…
Акушерка прослушивает беспокойный живот. Ребенок брыкается. Даже во время схваток видно, как на животе то тут, то там проступают выпуклости.
— С малышом у тебя все в порядке.
Она уверенно держит жизнь Вероники в своих руках.
— Пить хочется…
— На, сполосни рот, а воду выплюнь.
Вероника стонет. Так больно, так больно, так тянет внутри, прямо разрывает, прямо будто паровоз по тебе ездит. Интересно, когда насилуют, такое же ощущение? Она вцепилась в руку акушерки. Та погладила ее по волосам. Я люблю тебя, думает Вероника. Дорогая ты моя. Разговор акушерки с двумя помощницами, которые суетятся вокруг стола, доносится до нее приглушенно и будто издалека. Моя прекрасная. Богом мне посланная, благословенная мать. Только не покидай меня. Без тебя мне не справиться.
А ведь во Вьетнаме дети рождаются прямо под падающими бомбами. И в варшавском гетто истощенные женщины рожали здоровых детей сами, без всяких врачей. Моя бабушка родила восьмерых дома, в собственной постели. Раз другие могут, значит, наверное, и я смогу…
Перед ней словно открылся ночной небесный свод. Сверкают звезды, комета со свистом рассекает холодное пространство. Вероника испуганно кричит:
— Мне хочется потужиться!
— Минутку, задержи дыхание, еще раз, вот так, хорошо. Нет-нет, не тужься, слишком рано.
Она видит земной шар, залитый лунным светом.
— Ну-ка, открой глаза.
Она смотрит в карие смеющиеся глаза.
— А теперь — дыши.
Дышать по-собачьи, этому ее научили. Дышать, дышать, дышать часто, глубоко, когда схватки терзают тело, прокатываются сверху вниз и снизу вверх, когда каждая жилка в тебе натянута до предела. Дышать, чтобы не тужиться, пока не будет готова для родов шейка матки, пока не будет готово влагалище, пока не будет готов к этому ребенок. Пыхтеть, как паровоз на подъеме. Язык у нее пересох, губы обметало, глотка ссохлась. А внутри все тянет, тянет…
— Давай-ка ляг на лоток, я посмотрю, как у тебя там.
Акушерка ощупывает влагалище, произносит «есть», и в палате вдруг все приходит в движение. К изножью стола подкатывают маленький столиц, какие-то люди вваливаются в палату и становятся полукругом, вытаращив глаза, точно совы на ветке.
— А ты, муж, иди сюда, если хочешь что-нибудь увидеть.
Бредо поднялся со стула в изголовье и подошел к акушерке. Он бледен, на губах неуверенная улыбка.
— Вероника, возьмись обеими руками за коленки, согни колени, так, правильно. Теперь, когда я скажу, можешь тужиться.
В глазах у Вероники мелькают красные и синие круги. Начинаются потуги, все сильнее и сильнее.
— Нет! — кричит Вероника. — Не могу!
Перед ней гора, отвесная скала, на которую ей не подняться.
— Я уже вижу волосики, — шепчет Бредо.
У Вероники искры брызжут из глаз.
Но вот схватка отпустила. Вероника, закрыв глаза, опрокинулась назад.
— Надо работать, все время работать, — твердо говорит акушерка.
Новая схватка. Нарастает, как волна, все выше, выше.
Что-то стремительно, буйно рвется наружу, обломок скалы, сорвавшись с вершины, катится по круче и вот-вот бухнется в море.
— Головка уже в проходе! — кричит акушерка. — Ну, тужься же, изо всех сил!
Вероника спрятала лицо в ладонях. Кости у нее хрустят, расходятся. Тело ребенка проходит сквозь самый последний, самый кровавый участок своего трудного пути. Как ствол строевого леса, который тащат по каменистому берегу к морю, — так же трудно проталкивается наружу что-то сильное, плотное, и вот вырывается прочь из ее тела, скользит между ног. Темный сверток, окровавленный ком.
— Ну, принимайся за дело, — говорит акушерка. — Бери ребенка.
— Ой нет, я боюсь.
Удивительное, противоречивое чувство.
И такой странный хлюпающий звук.
И полная, всеобъемлющая тишина — море гладкое, как зеркало.
— Угадай, кого ты родила.
Девочка! Нет, это невероятно. Невероятно!
Новорожденная скулит и барахтается, точно рыбка, выброшенная на берег. Маленькие, но сильные ручки и ножки дергаются в воздухе, разбрызгивая жидкость. Все тельце голубовато-фиолетовое и покрыто чем-то скользким.
Пока еще нить жизни соединяет ее с материнским лоном. Толстая желтовато-белая пульсирующая перекрученная пуповина, как трос, которым пришелец из космоса привязан к своему кораблю.
Чик! И вот она уже навек становится самостоятельным человеческим существом.
Вероника, полусидя на столе, смотрит на крошечное существо, и слезы льются у нее по щекам. Это совершенный маленький Тутанхамон, его сейчас приводят в порядок. Все боли позади. 3600 граммов и 52 см! Лучше просто быть не может!
Над столом включили лампу для обогрева и положили голенького ребенка к матери. Моя маленькая гостья. Новый маленький человечек. Я не решаюсь до тебя дотронуться, ты же само совершенство. Вероника целует крошечные прохладные светло-фиолетовые ножки и вдыхает чудесный кисловатый запах незнакомой страны, откуда явился ребенок. Но какая же она прелестная, просто чудо. Неужели это все-таки свершилось? Это в самом деле ты?
В низу живота у Вероники что-то толкнулось, и она почувствовала, что подбирается новая схватка. Акушерка положила руку ей на живот, надавила и медленно, в такт схватке, повела вниз.
— Потужься-ка.
Отошел послед. Огромный и устрашающий зверь из морских глубин. Рубиново-красный, с белыми и голубыми кровеносными сосудами, в белой оболочке. Прозрачной, блестящей.
— Который час?
— Пять минут четвертого.
Итак, прошло одиннадцать часов после того, как рано утром отошли воды.
Вероника обняла акушерку и поцеловала ей руку.
— Спасибо. Огромное спасибо!
— Послушай-ка, — говорит Мария. Она прекрасно знает, что Тенна устала, но это ей все-таки будет интересно.
— Ну что? — Тенна оборачивается.
— Радиотелескопы зарегистрировали отзвуки взрыва, в результате которого образовалась Вселенная. Многие точные приборы улавливают то, что считается отзвуками сотрясения, возникшего десять миллиардов лет назад, когда огненный шар начал свое уму непостижимое расширение.
Мария поднимает взгляд.
— Ну, что ты на это скажешь?
— А что там дальше?
— Десять — пятнадцать миллиардов лет назад вся материя в пространстве была сжата в невероятной плотности сверхзвезду. По необъяснимым причинам она вдруг взорвалась. При этом взрыве осколки материи разлетелись с различной скоростью во все стороны. Из них возникли галактики, млечные пути, которые, как мы сегодня видим, разлетаются с той же головокружительной скоростью, с какой Вселенная непрерывно расширяется.
— Придется тебя зашить. У тебя порядочный внутренний разрыв.
— Ой, не надо. Мне так хорошо сейчас.
Веронике протягивают маску.
— Вдохни поглубже раз-другой, и мы сделаем тебе тончайшую вышивку крестиком. Такой ты больше нигде не увидишь.
О Господи! Опять терзают это многострадальное место. Игла кажется раскаленной докрасна. Боль голубыми молниями вонзается в истерзанную плоть. Отдается то тут, то там. Послать бы к черту всех этих в белых халатах. Втыкают раскаленные иголки в живое мясо! Вероника глубоко вздохнула под маской, и ее понесло куда-то вдаль, в некое пространство между небом и землей. Она то взлетает в высоту в голубой туман, то падает в темную яму, то вверх, то вниз, словно раскачиваясь на гигантских качелях. А потом в поле ее зрения появляются два ангела, видимые будто в конце длинного туннеля, — это акушерка и ее помощница, которые копошатся между ее ног.
— Ну-ну, лежи спокойно. Ради тебя ведь стараемся.
— Но почему вы не обезболили? Черт бы вас побрал!
— Тихо-тихо. Кричать будешь в своем профсоюзе. Пойми ты: от анестезии ткани отекают, мы не видели бы, как мы шьем, и не получилось бы так аккуратно. Возьми-ка маску. Ничего страшного. Это кетгут, он рассосется сам собой.
— Сволочи!
— Как ты выражаешься! Хоть бы малышку постеснялась.
— Катитесь вы все к дьяволу! Ой, как больно! Вам-то что! Не у вас болит.
— Твой муж нам спасибо скажет.
Вероника делает несколько глубоких вдохов, и ее снова уносит невесть куда. Ей чудится, что роды у нее в самом разгаре, схватки идут одна за другой. Но ей страшно. Что-то с ней не так… Наверное, ребенок лежит неправильно… Она испуганно кричит и вдруг чувствует, что кто-то стоит рядом и тормошит ее:
— Просыпайся. Вон твой муж сидит у окна со своей новорожденной дочкой на руках.
— Врете вы все, ну вас всех к черту!
— Врем?
Акушерка смотрит ей в лицо.
— Видно, ты больше, чем надо, надышалась, голубушка.
Вероника приподнялась на локтях и увидела темный силуэт на фоне окна. Это же… Ну да, это он, Бредо, в руках у него маленький сверток.
Это он! Значит, все правда! О Господи, и он все слышал!
Вероника так порывисто хватает акушерку в объятия, что та чуть не падает.
— Ты чудо!
— Да ладно уж.
— Правда!
Бредо поднес ребенка к ее изголовью. Вероника впервые целует свою дочку, ощущая губами нежную бархатистость кожицы, словно впитавшей всю ту влагу, что окружала ее долгие девять месяцев. Целую вечность!
Чудо ты мое! Смотрите, как она жмурится от яркого света. Господи, какие же крошечные у нее ручки. А какая она сильная. И откуда только все это берется?
— Хочешь покушать маминого молочка? — говорит отец и подкладывает ребенка к материнской груди. — Ну-ка хватай, малышка.
И думаете, она не умеет сосать? И чмокать? Очень даже громко… Ну где вот она этому научилась? Такая способная девчушка. Удивительная умница. И красавица. Такое трогательное, серьезное личико.
— Представляешь, — говорит Бредо. — Стою я тут у тебя в ногах и смотрю, как выходит ее головка. А она совсем круглая и почему-то как будто каменная, ну да, просто каменный шар. Нос и уши прижаты. Совсем окаменелая, я даже подумал: «Да живой ли ребенок-то?» Но все вокруг совершенно спокойны, значит, бояться нечего. А потом носик поднялся, ушки расправились, ну прямо как цветок распустился. А тут уж она и вся выскользнула.
— А как вообще твое впечатление? Как все это выглядело?
— Гораздо более естественно, чем я предполагал. Никаких инструментов и почти без крови. Все время только руки акушерки. Просто фантастика!
Две помощницы акушерки убирают палату, откатывают в сторону маленький столик, уносят лотки, гасят верхний свет.
Одна из них снимает с Вероники больничную рубашку и обтирает ее большой желтой губкой. Прохладная вода приятно освежает тело. Как это здорово придумано — обтирать женщину после родов. На руке у Вероники пластырь, там, где входила игла, когда ставили капельницу.
Слава Богу, все это уже позади.
В палату входит врач. Он слушает сердце, легкие Вероники, щупает пульс и уходит.
Наконец-то они одни в палате, одни со своей малышкой. Зимний свет понемногу тает, и сумрак подкрадывается к столу, на котором лежит Вероника. В конусе желтого света настольной лампы они вынимают из кроватки маленький живой комочек.
Глаза Бредо сияют. Нет, до чего же она симпатичная, это крохотное дитя воскресенья!
Он берет на руки свое новорожденное чудо. Целует дочку. Осторожно гладит по лбу, по волосикам. Тихонько разговаривает с ней, как с маленькой приятельницей:
— Подумать только! Все эти месяцы, что ты лежала у мамы в животе, ты была уже девочкой. У тебя было все то же маленькое нежное личико. Ты лучшая из девочек. Ты наша дочка. Раньше нас было двое, теперь — трое. Раньше у нас не было ничего, теперь у нас есть все — человечек, готовый войти в наш мир.
Бредо кладет ребенка на животик к Веронике на грудь. Малышка поднимает головку. Надо же, какая сильная. Глазки темно-голубые, спокойные, с большими черными зрачками. Она почти не моргает. Смотрит прямо перед собой серьезно и сосредоточенно.
Ротик у нее как шелковый бантик. На ножках и ручках темные скорлупочки ноготков. Движения пока еще заторможенные, как при замедленной съемке. Она все еще связана с той неведомой страной, откуда недавно прибыла.
Она все еще — в этот неповторимый час — витает между утробным существованием и человеческой жизнью.
Входит нянечка с подносом.
— Не хотите ли подкрепиться? Пожалуйста. Папа, наверное, тоже проголодался. Присоединяйтесь, здесь хватит на двоих.
Никогда еще не ели они с таким аппетитом. Никогда не был чай таким горячим. Никогда в жизни не была Вероника так счастлива.
Из одного мира в другой.
Низкорослый, коренастый санитар с коротко остриженными седыми волосами остановил каталку возле Вероники.
— Перебирайся, мамочка.
Вероника осторожно перевернулась на бок и сползла на каталку, чувствуя, как хрустят у нее суставы. Девочку одели, и сейчас, закутанная в красное клетчатое одеяльце, она лежит на каталке рядом с матерью, в ее объятиях, и кончик носа Вероники уткнулся в носик ребенка.
В ногах — дорожная сумка Вероники, ее босоножки, транзистор и оранжевый махровый халат.
— Можно мне в отдельную палату?
— Нет, конечно. В отдельную тебя не положат, мамочка. Тут тебе не гостиница. Отдельные палаты только для тех, кто в этом нуждается. Нет, ты отправишься в палату номер один на десять человек. Это самая большая палата, зато и самая лучшая.
6 января, понедельник
Ультразвуковая аппаратура, видимо, в работе с самого утра. В маленьком помещении это сразу чувствуется. Испарения многих человеческих тел прямо висят в воздухе.
Мария лежит на узкой кушетке. Перед ее глазами стенд с вырезками из газет, фоторепродукциями и письмами.
Мария подсунула руки под поясницу, на бумажную подстилку. Лежать на спине ей неудобно, но что поделаешь.
Молодой врач с черными усиками смазывает ей живот арахисовым маслом. Приятно снова видеть молодого мужчину, ощущать его близость.
Потом он кладет ей на живот датчик и начинает круговыми движениями водить им взад и вперед.
Ей уже дважды приходилось подвергаться этой процедуре. Но на этот раз в кабинете совсем другая обстановка.
Никто пока не произносит ни слова, и никто не проявляет беспокойства. И все-таки Мария чувствует какую-то напряженность. Молодой человек и женщина, стоящая за его спиной руки в карманы, настороженно следят за изображением на экране.
Что-то они ищут. Какое-то щекотное чувство возникает с левой стороны возле паха. Наверное, они ищут головку ребенка. Круги, которые описывает датчик, сужаются.
Поляроидной камерой врач снимает изображение на экране. Вынимая из камеры снимок, он ободряюще улыбается Марии.
Но не ускользают ли его глаза от ее взгляда?
Он делает еще целую серию снимков.
Светловолосая женщина смотрит на снимки и на экран, потом садится за письменный стол под доской объявлений, спиной к Марии.
Что-то они там увидели, это ясно.
Молодой врач выключает аппарат.
— Можете встать, — говорит он Марии.
— Вы ищете что-то конкретное? — спрашивает Мария, робко глядя на блондинку.
— Да, конечно.
— И что можно увидеть на вашем экране?
— Например, что у плода есть легкие, печень, почки, сердце. Можно определить их размер и расположение.
— А еще что?
— Можно увидеть, что у плода есть голова.
Есть голова! Да, почему бы ему не иметь голову!
Видимо, что-то в лице Марии заставляет блондинку отступить и снова взять в руки снимки.
Молодой человек с грохотом поднимается со стула. Сердце Марии колотится под больничной рубашкой.
— У вас невероятное количество воды, — говорит он. — И ваш ребенок там так бултыхается, что очень трудно было снимать, — вот смотрите сами.
Они раскладывают перед ней снимки. Коллекция полуабстрактного искусства из штрихов, пунктирных линий и расплывчатых белых пятен. Разобраться во всем этом может лишь специалист.
— А как вы определяете возраст плода?
— По размеру головы.
— У моего большая?
— Большая.
Расспросить бы еще, поподробнее, думает Мария. Да нет, видно же, что они не имеют права давать подробные разъяснения, тем более ставить диагноз.
— Что же все-таки у меня не в порядке?
— Совершенно честно — никаких отклонений мы не находим.
Блондинка в белом халате стоит перед Марией. Они одного роста и смотрят друг другу прямо в глаза.
— А как поступают, если все-таки отмечается какая-то аномалия?
— Если эта аномалия говорит о нежизнеспособности плода, тогда от него избавляются.
Они предполагают, хоть и не уверены в этом, что у ребенка водянка головы, думает Мария.
Блондинка собрала снимки, несколько штук вложила в историю болезни, которую убрала снова в большой желтый конверт. Заклеенный конверт она вручила Марии.
Мария вышла из лифта. Вот она и снова в своем отделении. Какой же у нее сейчас, наверное, безобразный, смехотворный вид в этих белых гольфах, которые спускаются на щиколотки, потому что в них нет резинки. Ужасное ощущение!
Время полуденное, и большинство пациенток спят. В дежурке старшая сестра сидит над какой-то историей болезни. Мария протягивает ей конверт.
— Ну, как дела?
Мария присаживается у столика. Сердце бьется у нее в горле, слезы бегут по щекам. Сдерживаться дальше нет сил.
— Что случилось? — удивленно спрашивает медсестра.
Слезы бегут Марии в рот.
— Случилось самое худшее — не знаешь теперь, на каком ты свете.
— Хочешь немножко выпить?
Старшая сестра берет ключ, который висит у нее на поясе, и отпирает шкафчик с лекарствами. Берет бутылку и наполняет маленький стаканчик. Мария знает, это успокаивающее снадобье, не имеющее никакого отношения к алкоголю. Она видела, как другие женщины иногда заглядывают сюда, прохаживаясь по коридору.
— На, выпей.
Мария кивает, опрокидывает стаканчик и вытирает нос. Минутой позже слезы высыхают, вот так просто перестают течь, и блаженное обманчивое чувство покоя разливается по телу.
Она смотрит на старшую сестру, которая стоит перед ней, опершись спиной о шкафчик, скрестив руки и склонив голову набок.
— Ну как?
— Хуже всего, что не знаешь, чего теперь ждать…
Когда Мария тихонько заходит в свою палату, нянечка проворно убирает постель Тенны.
— А где же Тенна?
— У нее схватки начались.
— Ты уверена?
— Да, ее увезли в родильное. Схватки чуть не каждые пять минут.
— А акушерка ее смотрела?
— Ну да. Пока ты была там, на ультразвуке, ее обследовали. Она уже раскрылась до четырех или пяти сантиметров.
Значит, не сумели они все-таки остановить ей схватки.
— А ты не знаешь, ее мужу позвонили?
— Позвонили, как не позвонить. Она только об этом и твердила. Да вот незадача, он лежит в гриппе с высокой температурой и приехать не может. Бедная девочка! До срока ведь еще пять недель.
Тело молодое и сильное, и схватки идут быстрой чередой. Никакой стимуляции здесь не требуется — ни окситоцина, ни капельницы.
Но вид у пациентки встревоженный и измученный.
Сегодня в родильном трудный день. Чуть ли не в каждой палате что-то из ряда вон. Это сразу заметно по поведению персонала. Им ведь тоже не разорваться. Дверь в палату, где лежит Тенна, то и дело приоткрывается, кто-то просовывает голову и просит:
— Тебя нельзя на минутку?
И помощница акушерки исчезает.
Вдоль стен стоят и висят разнообразные устрашающие аппараты: вакуумные насосы, кислородные подушки, установка для искусственного дыхания. Резиновые трубки свисают за ее изголовьем.
Хуже всего, Тенна это знает, — лежать здесь одной.
— Я хочу писать, — шепчет она.
— Поднимись осторожненько, чтобы я могла подложить тебе судно, — говорит помощница акушерки.
— Ой нет, мне очень больно.
— А теперь?
— Нет, подожди немножко.
— Ну а теперь?
Помощница акушерки подсовывает Тенне холодное высокое судно. Перемена положения тут же стимулирует схватку, от которой живот Тенны напрягается, как натянутая тетива.
Небо за квадратным окном серое. Тенна чувствует себя всеми покинутой. У нее нет сил хотя бы заговорить с акушерками. А те со своей стороны слишком заняты, им и в голову не приходит разрушить барьер, отделяющий их от пациентки.
Так все и идет. По одну сторону Тенна, распростертая, с закрытыми глазами. По другую — акушерка, изучающая ее историю болезни. А потом раздается очередной стук в дверь, и акушерка снова исчезает.
Я сойду с ума, я правда сойду с ума, если они так и будут бегать, думает Тенна. И никогда уже не оправлюсь.
И никто не предлагает Тенне открыть глаза. Никто не присаживается у изголовья, чтобы поговорить с ней. Ни у кого нет времени подержать ее за руку.
За закрытыми веками копятся слезы, губы дрожат.
— Мне надо посмотреть, насколько у вас раскрылась шейка матки, — говорит акушерка, взглянув в окно. — Ложитесь на лоток, чтобы я могла обследовать вас.
— Нет-нет! Оставьте меня в покое.
— Но это моя обязанность. Я должна ее выполнить, верно? Так что помогите мне немножко — вот так.
Она запустила свои холодные в резиновых перчатках пальцы в теплое, чувствительное влагалище Тенны, где все так нежно и в то же время так напряжено. Другой рукой она прощупывает живот, который то вздымается, то опускается от работы внутреннего механизма.
— Так, — говорит акушерка своей помощнице, слезая с низенькой скамеечки. — Теперь твоя очередь.
Ее помощница встает на скамеечку и тоже начинает прощупывать Тенну. Ее руки менее решительны и уверенны, чем у первой.
— По-моему, шейка матки раскрылась уже примерно на восемь сантиметров, я чувствую под пальцами родничок. Головка уже у самого лотка.
— Согласна.
Помощница слезает со скамеечки.
Они тихонько перешептываются в углу палаты, потом акушерка записывает результаты осмотра в историю болезни.
Полиэтиленовая занавеска в ванной комнате в конце концов свалилась с палки, на которую была кое-как натянута, и лежит криво сложенной на подоконнике.
Теплая вода бежит по животу. Запах шампуня щекочет Марии ноздри. Волосы в мыльной пене. Пена собирается на решетке. Рыжеволосая женщина, склонившись над раковиной, чистит зубы.
— Ты почему здесь лежишь?
— Положили на обследование, — отвечает рыжая, сплюнув в раковину пасту. — А дома у меня остался малыш, самое прелестное существо на свете, но в голове у него пустота. Врачи говорят — неполноценный, а в чем дело, объяснить не могут. Выглядит он совершенно нормально, только не развивается. Не может сам ни есть, ни ходить, ни говорить.
— Сколько же ему?
— Пять лет, — отвечает рыжая, убирая зубную щетку. — И на вид такой хорошенький. — Она улыбается. — Такой же рыжий, как я.
И она принимается быстрыми энергичными движениями расчесывать волосы.
— Это врачи нам и посоветовали сделать еще одну попытку. Говорят, опасность, что такое повторится, минимальная.
— Трудно тебе с ним?
— Очень, трудно, но мы его любим. Ты знаешь, что важнее всего, когда у тебя неполноценный ребенок?
— Не знаю.
— Чтобы не распался брак.
Она смотрит на Марию спокойными темно-зелеными глазами.
— Ты не представляешь, как часто браки распадаются из-за неполноценного ребенка. Мужчины иной раз прямо заявляют: «У меня такого ребенка не могло быть». Просто знать ничего не хотят. Как будто ребенок был зачат святым духом.
— А твой муж, как он относится к малышу? — спрашивает Мария, отжимая в полотенце мокрые волосы.
— О, он его обожает! Хотя ему тоже нелегко. Пришлось ведь перевернуть всю нашу жизнь — и в отношениях с нашими знакомыми, да и для того, чтобы обеспечить ему необходимый уход дома.
— Кем работает твой муж?
— Он оптик.
— А ты сама?
— Пока не родился наш малыш, я работала нянечкой. А с тех пор сижу дома. Ухаживать за больными мне не привыкать.
Рыжая натягивает больничную рубашку.
Ты не находишь, что здесь очень здорово?
— Да, конечно, — соглашается Мария. — А что здесь с тобой делают?
— Ничего не делают, только держат под наблюдением. Эстриола у меня маловато. Шесть лет назад у меня родился мертвый ребенок. Они считают, что это не случайно.
Она бросает мокрое полотенце в корзинку для грязного белья.
— Ну, что еще за слезы, — говорит помощница акушерки.
— Мне очень больно, — шепчет Тенна.
Помощница прикладывает к ее животу стетоскоп. Тенна лежит на боку, глаза закрыты, дрожь пробегает по ее замкнутому лицу, как быстрые облака по небу.
— На-ка, возьми маску, надо тебе немножко отключиться.
Черная резина угрожающе надвигается на Тенну откуда-то сверху, грозя закрыть рот и нос.
— Нет-нет, не хочу, — вскрикивает она, отталкивая маску.
— Да попробуй же.
— Нет, я задохнусь, я не могу, убери ее! — кричит Тенна.
Губы и горло у нее пересохли.
Помощница акушерки проводит по ее животу мягкой прохладной рукой. В палату входит акушерка в сопровождении высокого врача.
— Ну, как у нас дела?
— Никак, — шепчет Тенна.
Схватки становятся нерегулярными. Она чувствует, как между лопатками к затылку бегут холодные мурашки, хотя лицо разгоряченное. Холод и жар одновременно. Врач как-то неудобно приставляет к ее животу жесткий стетоскоп.
— Ой, не надо, уберите его! — кричит Тенна.
Он делает еще одну попытку.
— Уберите его!
И тут же Тенну «потянуло на низ». Потребность потужиться заявила о себе со всей настойчивостью.
— Начинается! — кричит она.
— Минутку, — говорит акушерка. — Потерпите, если можете, и постарайтесь сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Вот так!
Обернувшись к врачу, она шепчет:
— Надо бы сделать ей блокаду, но теперь уже поздно.
Тенна слышит каждое слово.
Щелкает выключатель. Яркий свет зажженной лампы освещает отверстие между ног. Тенна лежит на боку и дергается, точно раненое животное. Большая мышца работает независимо от ее воли.
— Постарайтесь, когда придет схватка, сделать глубокий вдох.
Тенна зажмурилась.
— Теперь повернитесь на спину и ложитесь на лоток.
И вот она лежит на лотке. На троне — холодном, жестком, бесконечно далеко от белых халатов, окружающих ее.
Акушерка прощупывает ее.
— Вот теперь можно тужиться. Теперь вам не будет больно. Наберите побольше воздуха и постарайтесь потужиться два или три раза при каждой схватке… — И, обращаясь к помощнице: — Пожалуй, надо дать ей кислород.
Тенна пригнула подбородок к груди, схватилась руками за коленки, раздвинула ноги и почувствовала, как мощная, неумолимая, требовательная схватка прокатилась по ее телу.
Кислород из маски иголочками колет кожу.
Она тужится и кричит. Вырывается тонкая струйка мочи, и схватка замирает.
— Опустите ноги и отдохните.
Ноги у нее дрожат.
В родильной палате толпится народ.
Акушерка приставляет к ее животу стетоскоп и смотрит на врача.
Тенна, откинувшись назад, погружается в полузабытье, будто решив покинуть этот мир.
Но вот снова возникает схватка, и, подчиняясь древней потребности потужиться, чтобы выдавить из себя плод, Тенна напрягает каждую мышцу своего молодого тела. Головка ребенка продвигается, Тенна медленно выпускает воздух из легких и наполняет их снова и снова тужится и ощущает страшное жжение у выхода из влагалища.
— Так, подождите минутку, — мягко говорит акушерка. — Теперь тужьтесь, очень осторожно, — вот, выходит…
В родильной палате мертвая тишина.
Слишком тихо в палате.
Напряженная, вибрирующая тишина.
Между своих ног Тенна скорее угадывает, чем видит маленькое, серое, недвижное тельце.
Потом она слышит какой-то шипящий звук.
— Надо вынести его отсюда, — говорит врач. — И продолжать отсасывать.
Продолжать отсасывать? Человеческие фигуры задвигались. Дверь открывается и закрывается.
Акушерка кладет руку Тенне на живот и вполголоса говорит:
— Постарайтесь потужиться, только спокойно, еще разок.
Огромный студенистый послед выскальзывает во влагалище вместе с «сорочкой», в которой находился ребенок. Акушерка осторожно тянет за пуповину, и послед тяжело плюхается в лоток.
Вокруг шелестит шепоток — непонятные слова: abruptio insufficiens[5].
Они долго стоят, рассматривая послед.
— Меня будут зашивать? — робко спрашивает Тенна.
— Нет, зачем же. У вас ни одного разрыва.
— Неужели правда?
Впервые за долгое время Тенна чувствует облегчение.
В час посещения появляется необыкновенно высокий мужчина в очках. На руках у него довольно большой мальчик в синем костюмчике — рыжеволосый, белокожий, со спокойными зелеными глазами на белом лице.
А, вот он какой, думает Рёрбю, входя в палату с кипящим чайником.
— Ну, как там насчет мировой революции?
Мария откладывает газету. Рербю наливает ей чай.
— Послушай, выброси-ка ты эти цветы, — говорит Рёрбю и тычет коротким пальцем в букет, стоящий на пол возле телевизора. — Не знаешь, что ли, что красное с белым приносит несчастье.
— Это цветы Тенны, — говорит Мария.
В коридоре слышны детские голоса, веселые, громкие. Дети врываются в палату. С грохотом опрокидывается стул.
— Рёрбю, Рёрбю, — кричат они, — дай нам ядовитого зеленого лимонаду!
Это, конечно, детки Сигне. Они еще слишком маленькие, поэтому могут выражать свои пожелания в повелительной форме.
Врач присаживается к ней на кровать.
— Ребенок умер?
— Нет, он жив. Он не дышал, но мы его отходили, подключили аппарат искусственного дыхания.
— Мальчик или девочка?
— Мальчик.
— Он что, очень маленький?
— Его вес кило восемьсот.
Какое-то мгновение врач колеблется, потом говорит:
— Но это не самое страшное…
Гигантские часы начинают бить.
— Хуже всего у него с ножками… — Он собирается с духом. — У него нет стоп.
На какую-то долю секунды реальный мир отдалился от Тенны. Или она отдалилась от него. Вес окружающее как то расплылось. Врача она видит словно через стекло. Видит, как он открывает и закрывает рот, и даже откуда-то издалека слышит его слова, но не воспринимает их. Они до нее не доходят.
Она холодна как лед. Произошло недоразумение. Почему он к ней обращается? Он принимает ее за другую.
Она слышит, как он повторяет то, что уже говорил. Ребенок не дышал, но мы вернули его к жизни. Он весит 1800 граммов, но, будь у него нормальные ножки, он весил бы граммов на двести больше.
Сейчас он в отделении для новорожденных. Группа специалистов уже взялась его обследовать.
— Ну что я могу сделать, — в отчаянии говорит врач. — Я же не виноват…
Ну конечно. Он тут ни при чем.
Он мерит шагами комнату, стараясь втолковать ей, что же именно произошло.
— Значит, он так и будет всю жизнь сидеть в коляске? — спрашивает Тенна.
— Я не очень-то разбираюсь в таких вещах, но, по-моему, крайне важно, что у него есть голени.
Андерс стоит перед Тенной белый как мел. Врач вышел, и они одни.
— Мне по телефону сказали, что хорошо бы мне все-таки приехать. С ребенком, мол, не все в порядке, но что именно — они не могут сказать.
— Это мальчик.
— Ну и что с ним?
— Он очень маленький — кило восемьсот.
— Ну и что?
— Но у него нет стоп.
Мгновение Андерс и Тенна смотрят друг на друга. Потом ее никогда не унывающий Андерс в отчаянии бросается к ней на кровать и зарывается лицом в одеяло.
Время идет. Но для них оно остановилось.
Они держатся за руки. Они обнимаются. Они пытаются осушить слезы на глазах друг у друга. Они не знают, как им быть, во что верить, на что надеяться. Знают только, что их постигло ужасное несчастье.
Но вот Тенна берет себя в руки. У нее получасовое преимущество перед Андерсом. У нее было чуть-чуть больше времени на размышления. Так или иначе теперь она старается вселить в него мужество, поддержать его дух.
— Вся наша прежняя жизнь, — говорит она, глядя прямо в его заплаканное лицо, — все стало так мелко в сравнении с этой бедой. — Она обнимает его за плечи. — Жизнь бросает нам вызов!
Мария стоит возле широкого окна в самом конце коридора. Она тяжело привалилась к косяку и смотрит вниз на опустевшую стройплощадку, где снег своим белым покровом одел строительные вагончики и механизмы. Ей так хочется поговорить с Сигне, но Сигне спит.
Там вдали раскинулся центр города, в котором она живет, в котором работает. Он шлет призрачный лиловатый отсвет своих огней в черное, низко нависшее небо. Центр города, где жизнь течет бурным потоком. Где жизнь кружит и кружит в замкнутом пространстве. Никогда не иссякающая жизнь.
А на озерах, покрытых тонким ледком, стаи замерзших птиц. Утки и чайки с полузакрытыми мертвыми глазами и застывшей кровью.
Их спрашивают, привезти ли им ребенка.
Андерс кивает.
Могли бы и не спрашивать.
Детскую кроватку неслышно вкатывают в палату. Она стоит перед ними в свете ночной лампы. Они снова одни.
В кроватке лежит малюсенький светловолосый мальчик с закрытыми глазками. Не сразу можно заметить, что он дышит.
Они откидывают одеяльце и смотрят. И ощупывают крохотное тельце.
Что же они видят? Перед ними новорожденный с серьезным физическим дефектом. Но ведь это их сын, их плоть и кровь!
И какой же он трогательный, этот малютка!
Андерс берет своего сына на руки и ходит с ним взад и вперед по палате.
— Я уже люблю этого чертенка.
— Тебя поместят в отдельную палату, — говорит помощница акушерки.
И Тенна вдруг видит, что по щекам у помощницы текут слезы. Она не всхлипывает, не утирает лицо рукавом. Просто слезы проложили две светлые блестящие полоски на ее щеках.
Тенна холодеет.
Нечего им оплакивать ее ребенка. Она сама оплачет, если нужно. Больше это никого не касается.
— Ты умеешь вязать?
— Вообще-то нет, — говорит Мария, поднимаясь на локте.
Рыжая стоит возле ее кровати с маленькой кофточкой в руках.
— А я-то думала, что ты поможешь мне с этим делом. Слушай, чем это у тебя здесь пахнет? Лекарством, что ли?
— Старая добрая датская водка, — говорит Мария и вынимает из тумбочки маленькую пузатую бутылку. — Налить?
Рыжая с удовольствием кивает и присаживается в ногах кровати.
— Видела ты моего сынишку? Не видела? — говорит она разочарованно. — Сегодня муж приходил с ним меня навестить.
Уже ночью открываются двери лифта, и в пустынный коридор послеродового отделения въезжает каталка. На каталке под одеялом лежит утомленная молодая женщина. Ребенка при ней нет. И по этой причине ее поместили в отдельную палату.
Так прошло для Тенны Крещение. День Трех Волхвов.
6 января, тринадцатый день после Рождества.
В этот день солнце снова пускается в путь. После двенадцати дней отдыха, на тринадцатый день оно снова начинает свое вращение — так говорит древнее сказание. Солнце отмеряет священное число дней, когда ничто не должно вращаться — ни колесо, ни сверло, ни прялка. В эти дни делаются предсказания на все двенадцать месяцев будущего года.
В стародавние времена школьники совершали в этот день шествие. Вернее, мальчики, так как девочки тогда в школу не ходили.
Впереди шествия несли бумажные звезды на длинных шестах. Трое из мальчиков были одеты волхвами — Каспар. Мельхиор и Валтасар. Один был вымазан черным и был похож на мавра.
Еще один мальчик с огромным кошельком в руке изображал Иуду.
Рядом с ним шел Иосиф, сгорбленный старик с топором и руке.
И наконец дева Мария несла за спиной младенца Иисуса.
Мальчики шли и распевали божественные песнопения, и люди выходили из домов и долго стояли на пороге, глядя вслед шествию, которое удалялось по главной улице селения.
7 января, вторник
Сразу же после обхода, в смотровой, заведующий отделением спрашивает ее:
— Я слышал, вы расстроены результатом обследования?
Значит, старшая сестра ему передала. Тем лучше.
— У вас есть время поговорить со мной — минутку?
— Да, конечно.
Мария старается припомнить фразу, которую заготовила заранее.
— Дело в том… Как я поняла, многоводье может быть признаком наличия какой-то аномалии…
— Помилуйте, откуда вы это взяли?
Ломает комедию, мелькнуло в голове у Марии.
— Догадаться было нетрудно, — отвечает она, а сердце так и колотится.
Они молча смотрят друг на друга.
— Я бы хотела, чтобы вы сказали мне правду. Мне будет гораздо спокойнее, если вы мне скажете, что именно вам известно и каково ваше личное мнение. Я считаю, что правду скрывать не следует. Это не приносит пользы. Никому и ни при каких обстоятельствах. По-моему, гораздо разумнее жить с открытыми глазами.
Они смотрят друг на друга. В помещении тишина. Мария видит, что врач готов пойти ей навстречу, и продолжает.
— Неизвестность хуже всего, — говорит она. — Допустим, с ребенком что-то неладно, так я же легче приму это и перенесу, если заранее настроюсь.
— Тут я с вами должен согласиться, хотя обычно пациентки как раз и не хотят, чтобы им сообщали слишком много. Предпочитают оставаться в неведении.
— Обещаю вам, что никому не скажу о нашем разговоре, чтобы не было лишних толков, — говорит она и чувствует, что он не слушает. Это явно его не волнует. — Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что существует определенного рода ответственность и со стороны пациентов.
— Прекрасно! Если вы действительно так настроены, тогда я могу подтвердить вашу догадку: многоводье и в самом деле дает основание подозревать нарушения в развитии плода. Нередко это бывает взаимосвязано. Поэтому мы и сделали вам в свое время рентгеновское обследование, а теперь вот ультразвуковое.
— По-моему, они там в ультразвуковом считают, что ребенок у меня слишком крупный.
— Я не думаю, что он слишком крупный. Я бы определил его вес не более, чем в три килограмма. Но точно утверждать трудно по причине все того же многоводья.
Он протягивает ей раскрытую историю болезни.
— Я хочу показать вам, что здесь написано, тогда вы, может, мне поверите. Видите, вот здесь: Никаких аномалий не обнаружено. То же повторяется на следующей странице. Так что ничего плохого мы не констатируем. И с эстриолом у вас порядок, взгляните вот на эту таблицу. Он держится в пределах нормы. Единственный случай падения был двадцать четвертого декабря. Но это нормальное явление: в праздничные дни уровень его обычно немного падает. А может быть, вы просто не были достаточно аккуратны при сборе мочи.
Он чуть заметно улыбнулся. Мария сжала руки в карманах.
— Но ведь не все же, наверное, можно увидеть на этом вашем экране?
— Да, не все органы отражают ультразвуковые волны.
— А какие именно не отражают?
Он колеблется, потом отвечает:
— Пищевод и центральная нервная система.
Центральная нервная система и пищевод.
Значит, главное сейчас — эти два момента.
— Как вы думаете, может мой ребенок быть умственно отсталым?
Он внимательно смотрит на нее темно-карими глазами, потом отвечает:
— Нет, я так не думаю.
Он говорит, что он так не думает. Что ж, она ему верит. Он так не думает. Но он же и не исключает такой возможности…
Марии очень хочется спросить, почему он так не думает. Но она чувствует, что это уж слишком. Может вызвать раздражение. Их разделяет невидимая грань, и ей не следует эту грань переступать, если она не хочет разрушить только что возникшее между ними доверие.
И она решается задать последний вопрос:
— Насколько же велик, согласно статистике, риск какого-либо неблагополучия в моем случае?
— Да, пожалуй, не более пятнадцати — двадцати процентов.
Они встают и пожимают друг другу руки.
— Надеюсь, я не сказал вам ничего лишнего.
— Вам не случалось подвергнуться рентгеновскому или радиоактивному облучению в первые месяцы беременности?
— Нет.
— А не помните, вы не болели?
— Нет.
— Гриппом, например, в тяжелой форме.
— Нет, — говорит Андерс и смотрит на Тенну. — Все правильно. Она не болела. Все у нас было совершенно нормально.
— Может, вы принимали какие-то препараты?
— Никаких.
Старичок доктор сидит возле кровати Тенны и держит ее руку. В его руке она чувствует тепло, и это тепло помогает ей крепиться и не плакать. Эта добрая теплая рука с толстыми венами и рифлеными ногтями так отечески нежно обхватывает ее запястье.
— Вы совершенно уверены, что ничего не забыли?
— Да, совершенно уверена.
— Но ведь она родила слишком рано, — говорит Андерс. — Может быть, ножки просто не успели образоваться?
— Вот, оказывается, почему мне было так больно, — тихо говорит Тенна. — Это его культи тыкали меня в бок каждый раз, как он начинал шевелиться.
Врач смотрит на Тенну, потом на Андерса и снова на Тенну.
— Ну что ж, перед нами один из капризов природы. Ни в анамнезе, ни в истории болезни нет и намека на то, что могло бы объяснить эту аномалию. Но что случилось, то случилось, и этого не изменить. Возможно, какая-то инфекция попала, причины могут быть разные, трудно сказать…
Он кладет обе руки на руку Тенны.
— Я хочу дать вам совет — перестаньте гадать, почему так случилось. Постарайтесь больше об этом не думать. Гоните всех, кто будет без конца искать причину столь редкого дефекта у ребенка.
Андерс кивает.
— Только не считайте, что вы все уже хорошо продумали, что вы уже оправились от шока, на самом деле это не так. Реакция будет сказываться еще многие месяцы. И ближайшие недели будут для вас обоих самыми тяжкими. Отношения с окружающим миром страшно осложнятся для вас. Это будет гораздо труднее, чем ухаживать за ребенком, с чем вы, конечно, справитесь.
Он кивает в такт своим словам, как бы подчеркивая их значительность.
— А теперь пошли посмотрим ребенка. Я распоряжусь, чтобы персонал отделения для новорожденных разрешал вам навещать его когда угодно, в любое время суток, и самой за ним ухаживать.
Мария чувствует себя другим человеком. Легче стало дышать. А почему, собственно? Подтвердились ведь ее худшие опасения. Да, но это все-таки гораздо лучше, потому что теперь она хоть знает, чего нужно бояться. И прежде всего потому, что ее уважают как личность, как человека, который способен сам распорядиться своей судьбой. Да, в новом для нее чувстве уверенности это сыграло не последнюю роль.
Оконные стекла все в каплях дождя. Мария выдвигает ящик тумбочки, достает бумагу и шариковую ручку. Впервые за много дней у нее возникло желание написать Захариасу и своим родителям. Теперь она может сказать им, чтобы не беспокоились. Она в надежных руках и вполне доверяет клинике.
8 января, среда
На пороге нулевой палаты неожиданно возникает муж Оливии Хольгер. В руках у него шапка, он неловко переминается с ноги на ногу.
— Я только хотел… — говорит он. — Я только хотел поблагодарить вас всех, поблагодарить за то, что вы были так добры к Оливии.
Мария приподнялась с подушки, опираясь на локоть.
— Мы сейчас вместе с малышкой уезжаем домой.
И, прежде чем она успела раскрыть рот, он исчез. Так же внезапно, как появился.
В окне сияющее утреннее небо. Светло-желтое. Бледно-розовое. Редкие белые облачка лениво проплывают мимо.
Разговаривая доверительно с зав. отделением, Мария чувствует себя виноватой перед товарками. Она смотрит в окно. Все та же навязчивая идея вертится у нее в голове.
Клиника в известной степени представляет собой картину всего общества. Огромное большинство пациентов в глубине души всегда будут чувствовать себя объектом госпитализации. Да так оно и есть. Они не имеют навыка ставить вопросы и не умеют воспринимать свой собственный случай как часть общего социального целого. Не понимают, что им говорят. Чувствуют только, что решения принимаются без них, что они никак не участвуют в решении собственной судьбы.
Большинство пациентов не знают и не понимают методов, которые предназначены для того, чтобы их вылечить или хотя бы задержать развитие болезни.
И если прогноз неутешительный, они и не желают знать правду, потому что не представляют, что им дальше с ней делать. И нет никого, кто бы помог им разрешить эту задачу.
Правда в каком-то отдельном случае нисколько не поможет даже этому отдельному случаю.
Правда в отдельном случае имеет смысл лишь постольку, поскольку она может быть использована как орудие для изменения общего положения.
Сегодня впервые Мария решилась пройти в другое здание по улице.
В гостиной рыжая женщина сидит в глубоком кресле и увлеченно вяжет что-то голубое с белым. Спицы пляшут у нее в руках. Она поднимает голову и улыбается.
— Куда это ты направилась в полном обмундировании?
— В послеродовое отделение, навестить одного новорожденного.
Мария спускается на лифте на первый этаж. На ней серовато-белая потертая цигейковая шубка, которая уже не сходится у нее на животе. Шея дважды обмотана длинным вязаным шарфом. Концы его она закинула на плечи, шапочку низко натянула на лоб. Ноги в больничных белых чулках она засунула в тупоносые ботинки. Медленно выходит она на улицу и бредет вдоль длинного белого здания. Когда она заворачивает за угол, порывы ветра бьют ей в лицо. По плиточной дорожке идет она к большому старинному зданию из красного кирпича, которое ей так хорошо знакомо. В первый раз она приходила сюда в женскую консультацию, а потом много, много раз рассматривала его из окон патологического отделения.
Она останавливается, подтягивает чулки, поправляет шапочку, вдыхает холодный январский воздух и открывает входную дверь в торце красного кирпичного здания.
С трудом преодолевает она два лестничных марша и останавливается наконец перед дверью в послеродовое отделение.
Она толкает дверь. Свет падает с одной стороны.
Торопливо проходит она по коридору.
И в самом конце его у последней палаты слышит знакомый голос. Осторожно заглядывает в дверь, и что же она видит?
Хабиба сидит в постели, глаза ясные, щеки розовые. Коротенькая черная косичка весело пляшет по плечам.
На руках у нее самая крупная и самая цветущая новорожденная на свете. Черные волосики перевязаны красной ленточкой. Щечки у нее даже круглее и румянее, чем у матери. Глазки темные. Пухлые широкие ладошки сильных ручек торчат в разные стороны, как у пугала в огороде.
На одеяле у Хабибы в углублении между ее вытянутых ног огромная коробка с шоколадными конфетами.
Рядом с Хабибой сидит ее старшая дочка, темноглазая Фатима, которой только что удалось наконец ущипнуть за щечку свою новую сестренку.
По другую сторону кровати, склонив набок черную кудрявую голову, стоит ее коротенький, коренастый супруг. Он в синем костюме и ослепительно белой рубашке. Руки он заложил за спину.
И кто же, как не друг семьи, датчанка с комфортом расположилась в ногах у Хабибы! Веселая и довольная, в своем красном костюме, вся обвешанная побрякушками, с сахарной ватой на голове и широкой улыбкой. Она кивает Марии и зовет ее присоединиться к компании.
— Да возьми же конфетку. Еще бери, еще.
— Мария! — восклицает Хабиба, сияя навстречу Марии большими добрыми глазами.
— Хабиба, поздравляю, ребенок хорошо.
— Да, хорошо, — говорит Хабиба и радостно смеется.
— Скоро в школу пойдет, — шутит Мария.
— Не понимать, не понимать, — говорит Ибрагим.
— Не важно. Я просто так сказала, — спешит поправиться Мария.
— Ох, — морщится Хабиба, переваливаясь на другую ягодицу.
— Хабиба ох, плохо швы, — объясняет подруга-датчанка.
Фатима наклоняется над коробкой с конфетами, хватает одну и бросает хитрющий взгляд на отца. И прижимается поближе к матери, да так, что мать того и гляди свалится с кровати вместе с новорожденной.
Все улыбаются. Все счастливы.
А Мария чувствует, что отныне их пути разошлись.
Через несколько дней маленькое семейство отправится к себе в Нествед. И снова они станут готовить на растительном масле и жарить на сале на датской газовой плите. Соседи будут их поздравлять. И вся турецкая колония придет их навестить и отпраздновать радостное событие. Муж, как всегда, отправится вкалывать на свою «хорошую фабрику», работодатель облагодетельствует его полсотней крон — купить что-нибудь для малышки.
И каждый месяц будут они отсылать скромную сумму домой, на свой банковский счет в Стамбуле.
Хабиба и Мария, скорее всего, никогда больше не встретятся. Им и в голову не приходит обменяться адресами. Их отношениям пришел конец — они не забудутся, такое забыть невозможно, просто перестанут существовать.
Вероника выскребла дочиста стакан йогурта, отставила в сторону и воркует со своей малышкой. Девочка крупная, хорошо сложенная. Она лежит на спине и размахивает ручками.
Сейчас, думая о том, как она будет холить и лелеять свое дитя. Вероника понимает, какое это преимущество — быть женщиной. Да, быть женщиной — это привилегия, а произвести на свет ребенка — общественная задача. И не такая задача, которую можно решить в одиночку. Она может быть решена только совместно с другими людьми.
Она не может отвести глаз от крошечного, правильной формы личика, темно-голубых глаз, тонкого изогнутого носика, шелкового бантика губок. Что это, она улыбается? Нет, не может быть. Слишком еще рано. Вероника протягивает девочке указательный палец, и девочка, не колеблясь ни секунды, крепко хватает его и тянет к себе.
Вероника чувствует, как набухают груди, на рубашке проступает влажное пятно. Она расстегивает рубашку и прикладывает ребенка к груди. Крошечный ротик находит сосок и начинает сосать, жадно, уверенно. Глазки закрываются.
Что-то толкнулось в животе. Вероника отмечает это с удовлетворением. Каждый раз, когда ребенок сосет грудь, матка сокращается, чтобы в течение нескольких недель обрести прежнюю форму и размеры.
Этот остроумнейший механизм в ее теле создала сама природа.
— А, вот ты где?
Акушерка с живыми карими глазами стоит возле Вероники.
Вероника садится в кровати. Они протягивают друг другу руки и долго не разнимают их.
— Ну, ты рада, что скоро домой?
— Само собой. Но я бы не прочь задержаться немножко подольше. Здесь так здорово — никакой ответственности! Лежи да играй со своим ребенком. Все за тебя сделают, обо всем позаботятся. Это же просто замечательно.
— Да-а, дома вначале будешь здорово уставать.
— Знаешь, я даже подумать не могу, что это, может, мой последний ребенок. Я готова снова рожать хоть через две недели! — Вероника краснеет. — Стыдно вспомнить, что я боялась дотронуться до своей дочки, взять ее в руки, как ты мне сказала. До того страшно было прикоснуться к этому комочку живой плоти.
— Ничего, — говорит акушерка. — Ничего. Просто надо было мне получше тебя подготовить. С некоторыми женщинами мне это удалось. Они сами выталкивали из себя ребенка. А я стояла сложа руки да смотрела. Но они прошли у меня основательную подготовку.
— Вон та, видишь? — шепчет Вероника, показывая на внушительного вида особу через две кровати. — Она говорит, это неправильно, что вы мне не обезболили. Говорит, всем делают блокаду.
— Ничего подобного. Во-первых, не всегда мы даже успеваем это сделать. И во-вторых, далеко не всегда есть для этого основания. Тебе, например, не сделали, потому что, мне казалось, тебе следует испытать все до конца.
Всякий раз, как Вероника вспоминает о родах, у нее сладко замирает сердце. Даже мурашки бегут по спине, такое ее охватывает безмерное счастье. Все-таки это ни с чем не сравнимое переживание — из твоего тела высвобождается новая жизнь…
И конечно, при этом она вспоминает женщину, которая помогала ей родить, ее глаза, руки, ее голос. И то, что они совершили вместе с ней. Вероника даже не сознает, что она просто влюбилась в свою акушерку.
Ей и в голову не приходит, что акушерка за год принимает до сотни родов и что она работает уже десять лет. Получается примерно тысяча родов. Тысяча родов, и каждые со своими особенностями. Некоторые тут же начисто забываются. Другие оставляют в памяти более глубокий след. Но для акушерки это ее будничная работа. Ее ремесло. Ее образ жизни.
Для Вероники же это нечто совершенно особое. Она, может, и родит-то раз в жизни, да если даже и будет рожать еще не раз, все равно вот эти самые роды — для нее событие чрезвычайное, свет его окрасит все ее дальнейшее бытие.
Из кухни доносится спокойный голос старшей сестры.
— Нет, Баська, так дело не пойдет.
— Так дело не пойдет? — переспрашивает Баська со своим польским акцентом.
— Да, так дело не пойдет. Нельзя вести бесконечные личные разговоры по служебному телефону.
— Нет, нет! — Голос у Баськи виноватый. — Я звонить только мой любимый, любимый брат в Катовице.
— Даже если он такой любимый, все равно нельзя вести личные разговоры с заграницей из служебного помещения. Нужно же понимать!
— Понимать, да-да, конечно, понимать, — говорит Баська, стараясь замять неприятный разговор.
Ближе к вечеру Марии показалось, что у нее появилось какое-то повое ощущение, вроде бы тянет в пояснице.
— Нет, вряд ли это схватки, — говорит Расмуссен. — До срока ведь еще целый месяц. Просто ты сегодня прогулялась, на улицу выходила. Вот и неможется.
И все же… Такое ощущение, будто внутри у нее происходит что-то новое, непонятное. Будто звонит будильник. Мигает сигнал. Какой-то голос шепчет: пора! Она ложится и старается заснуть. На душе у нее почему-то очень легко.
В дежурке сидит седенькая, сгорбленная ночная дежурная и решает кроссворд. Кусает карандаш, смотрит в ночное окно и крупными печатными буквами заполняет клеточки кроссворда.
У этой дежурной есть тайный порок.
Да, тайный порок, которому она предается всякий раз во время ночного дежурства.
Каким-то образом ей удается настроить свой транзистор на частоты, которыми пользуется городская полиция во время ночного патрулирования.
Ночь за ночью следит медсестра за тайной жизнью города. Она слушает об ограблениях массажных клубов на Вестербро, знает, что некий мужчина упал в канал в Нюхавне. И что полиция послала за аквалангистом. Она усиливает звук, когда в черном квадрате охотятся за торговцами наркотиками.
На улице Ларс-Бьёрнстреде разбито окно в доме. Проститутка лежит на тротуаре окровавленная, с выбитыми передними зубами. Какой-то парень удрал с ее сумочкой.
Ночная дежурная в курсе всех событий.
Жизнь в ночном Копенгагене идет своим чередом. И она всегда знает, где что случилось. Она заваривает себе чай, откладывает в сторону кроссворд и слушает, слушает. Да, твердая рука закона не дает отбросам общества подняться выше основания общественной пирамиды.
9 января, четверг
Сегодня день выборов. Мария проснулась очень рано, встала и вышла в коридор.
Седенькая дежурная кивнула ей из-за стеклянной двери. Она привыкла к коротким прогулкам пациенток. Господи! Они так плохо спят, бедные женщины.
Мария заходит в уборную и обнаруживает у себя следы крови. Ее замутило. Она наклоняется над раковиной. Ее рвет.
Потягивание в пояснице, кровотечение, рвота — все это, вместе взятое, явный признак надвигающихся событий. Опираясь о край раковины, Мария смотрит на себя в зеркало. Длинные каштановые волосы обрамляют бледный овал лица. Она видит лицо, которое неуловимо меняется. Оно не похоже больше на ее лицо. Оно похоже на лица всех тех, у кого начинаются роды.
Мария проходит в душевую и моет голову. Потом идет к дежурной. Та звонит в родильное отделение, спрашивает, как им быть.
— Мы посылаем вам акушерку, — отвечают ей.
В смотровой помощница акушерки осматривает Марию. Да, шейка матки начинает открываться. Марии следует немедленно отправиться в родильное отделение. Она ее проводит.
Мария прокрадывается в свою палату, тихонько в темноте, стараясь не разбудить других, собирает свои вещи.
В коридоре ее поджидает Сигне с взъерошенными, как всегда, волосами.
— Это правда? — встревоженно спрашивает она.
— Да, у меня схватки.
Сигне смотрит на нее, берет ее руку и пожимает. Они молчат. В такую минуту, что ни скажи, все будет не то.
Мария вешает на плечо сумку и идет за помощницей акушерки.
У самого выхода она оборачивается и видит Сигне и седенькую ночную дежурную — два силуэта в свете, падающем из стеклянной двери.
В темноватой уютной родильной палате ей надели на живот пояс с циферблатом. Пояс присоединен к аппарату, который улавливает даже самые слабые сокращения матки. Танцующая черная игла выцарапывает зигзаги — условный язык знаков — на белой бумажной полосе, которая с тиканьем, медленно, широкой волной выползает на пол.
Занавески на окнах задернуты. Горит лишь одна настольная лампа. Родильная палата походит сейчас на пещеру.
Мария дремлет. Она не знает, долго ли она уже здесь лежит, но вот дверь открывается и входит зав. отделением.
— Ого, вы уже здесь!
Он поднимает бумажную полосу и всматривается в тоненькую черную линию, образующую слегка холмистый ландшафт. Целая гряда разной высоты холмов сменяется затем плоской равниной.
Это схватки. Сама она ощущает их лишь как слабое потягивание в пояснице, но где-то там, в глубине, они идут. То напрягается, то расслабляется что-то в том внутреннем водоеме, в глубине которого бьется голубая рыбка.
— Мы возьмем пробу ваших вод, — говорит врач. — Сейчас вас перевезут в другое помещение. Там я с помощью тонкой иглы возьму у вас воды для анализа. Это не больно, вы не волнуйтесь.
Каталка проезжает сквозь свободно распахивающиеся двери на лестничную площадку и вкатывается в темный коридор. Ее толкает старый, совершенно седой санитар в белой куртке и черных брюках.
— Скажите мне! — обращается Мария к старику.
— Да?
— Если ребенок родится мертвый, куда тогда поступает мать?
— В гинекологию.
— А не в послеродовое отделение?
— Нет.
Санитар смотрит на нее так, словно хочет сказать: если у тебя есть еще какие-то важные вопросы, я охотно отвечу.
Он завозит каталку в маленькое помещение без окон и ставит под лампу.
Рядом с ее изголовьем застекленный шкафчик и столик на колесах. Зав. отделением обменивается несколькими фразами с медсестрой, потом обращается к Марии.
— Сейчас я возьму аминоцентез, — говорит он. — Это пункция плодного пузыря. Нужно взять на анализ околоплодные воды, анализ покажет, способны ли уже легкие ребенка к дыхательным функциям, и в зависимости от результата мы предоставим вам произвести на свет ребенка сегодня же или попытаемся временно приостановить схватки.
— Это то же самое, что хромосомный анализ? — спрашивает Мария, а сама думает: «Дело-то, наверное, не только в дыхательных функциях…»
— Проба берется таким же способом. Но исследуется другое. И мы не сможем вам сообщить пол ребенка.
Кончиками пальцев он легонько пробежал по ее животу.
— Часа через два будет ответ, тогда и решим, как нам поступать дальше.
Медсестра протягивает ему шприц.
— Сейчас я вас уколю.
Мария устремляет взгляд в потолок. Она совершенно расслабилась, лежит неподвижно, как мертвая, а тонкая игла уже проходит сквозь кожу, брюшную стенку, вонзается в матку, оболочку плода…
Интересно, какого цвета эта жидкость? В случае аномалии и цвет может быть неправильный. Цвет, как и все остальное, должен врачу что-то сказать.
— Как она выглядит?
Он показывает ей шприц с мерцающей жидкостью.
— Совершенно прозрачная.
Старичок санитар везет ее обратно в родильную палату.
И снова тугой пояс счетчика обхватывает ее живот.
Помощница акушерки отдергивает оконную занавеску.
Бледное зимнее небо появляется точно фильм, который нее это время шел за закрытым занавесом на экране кинотеатра.
Слабо доносится городской шум с ближайших улиц.
— Ты не против полежать одна?
— Нет, конечно.
— Если можешь, постарайся поспать.
Счетчик тихонько тикает. Она прикрывает локтем глаза и медленно ускользает куда-то прочь, в окутанную прозрачной серой дымкой долину сна.
Она снова в Южной Ютландии, у родителей. Поздний летний вечер. В теплых сумёрках они убирают урожай. Машины усердно трудятся, ползая вверх и вниз по косогору. Темная фигура отца высится на куче зерна.
Часы идут. Время от времени приходит врач и поднимает с полу белый язык счетчика. Сквозь полуприкрытые веки она видит, что зубцы на ленте сглаживаются. Схватки становятся все слабее.
— Все у вас прекрасно, — говорит он.
Он сказал бы это в любом случае.
Наверное, уже за полдень. Ей приносят чай и булку с маслом.
Ребенок у нее в животе перемещается, как космонавт, плавающий на своем тросе в невесомости в небесном просторе. Вот над бедром выступила выпуклость и тут же опала, ушла внутрь. Она кладет руку на живот, как делала тысячу раз и прежде, и чувствует легкие толчки его конечностей.
Ей кажется, что это мальчик. Она не знает почему, просто так ей кажется.
На какой-то миг ей вдруг живо представилось, что она уже родила крупного здорового ребенка. Что все в порядке. Что была просто ложная тревога.
Но потом она отложила на время эту картину, отодвинула в сторону, как убирают в черный конверт фотографию.
Чья-то легкая рука отвела волосы у нее со лба. Она подняла глаза и увидела над собой лицо своей сестренки.
— Эва, ты?
— Как дела?
— Как видишь, порядок.
— А я совершенно случайно позвонила сюда и узнала, что тебя увезли в родильное отделение. И мне разрешили пройти. Ну так что с тобой?
— Вроде начинаются роды. Так решило мое тело. Но меня взяли на анализ воды. Этот анализ покажет, выживет ли ребенок, если родится сегодня. Если же легкие у него еще к этому не готовы, тогда они постараются приостановить схватки.
— Здорово!
Эва сунула руку в карман дубленки и вытащила маленький плоский пакетик.
— Я позвонила папе с мамой, и они просили меня купить тебе вот это.
Мария раскрыла коробочку. Под кусочком ваты новенькие ручные часики. На белом ремешке, с арабскими цифрами на циферблате.
— Надо же! Как раз то, о чем я мечтала!
Она надела часы на руку и тут же почувствовала сильный рвотный позыв. Зажав рукой рот, она беспомощно оглядывается по сторонам. Эва хватает картонную коробку, стоящую на столе, и едва успевает подставить. Марию рвет.
Эва держит ее за руку.
— А теперь иди, — говорит Мария. — Я очень рада, что ты пришла. Но не надо тебе все это видеть. Иди же!
— Мы получили результаты анализа, — говорит зав. отделением. В руках у него история болезни. — Легкие плода достаточно расправились, так что мы рискнем и позволим вам освободиться от бремени сегодня же.
У нее вырвался глубокий вздох.
— Я понимаю, у вас камень с души свалился. Но сейчас вас перевезут в операционную. Там, на операционном столе, мы проколем вам оболочку и понемногу спустим большую часть вод. Это связано с определенным риском. Может произойти выпадение пуповины или раньше времени начнет отделяться послед. Если что-нибудь такое произойдет, мы за несколько минут произведем вам кесарево сечение.
— То есть кесарево сечение не неизбежно?
— Нет. Нормальные роды всегда предпочтительнее, если есть возможность.
Мария смотрит на свои часики.
— Теперь нам нужно приготовить кровь, и примерно через час мы предпримем вмешательство.
Врач уходит. Появляется акушерка.
— Добрый день, — говорит она, подавая Марии руку. — Это я буду помогать вам рожать.
Она звякает чем-то возле умывальника.
— Вас надо побрить.
Бритвенное лезвие холодное, вода теплая.
— А клизму мне будут делать? — шепотом спрашивает Мария.
— Я думаю, в этом нет необходимости. Но если хотите…
— У вас есть искусственные зубы?
Мария показывает на коренной зуб.
— Ну, этот не имеет значения.
Она смотрит вверх на большую операционную лампу со множеством круглых ячеек. Похоже на оплодотворенную рыбью икру.
В операционной полно людей. Молчаливым полукругом выстроились они вокруг операционного стола. В основном это помощницы акушерок, которые пришли посмотреть.
Плотная широкоплечая фигура в ярко-голубом операционном халате, в голубой шапочке и голубой полумаске появляется в дверях. Врач не произносит ни слова. Но она узнает взгляд его темных глаз.
— Как хорошо, что это вы.
Зав. отделением кивает.
Стены выложены белой квадратной плиткой, швы между плитками серые. На полу плитка серая, а швы черные. Углы комнаты как-то размыты и словно бы закругляются. Мария даже не уверена, прямоугольная ли комната, а может, овальная?
Слева от операционного стола сидит одетый в белое анестезиолог. Он легонько держит ее запястье и рассеянно смотрит по сторонам. Справа от нее стоит акушерка в белом халате с короткими рукавами и узким прозрачным пластмассовым пояском вроде тех, что носили в пятидесятых годах.
Для Марии сегодня в высшей степени необычный день. А для всех остальных — обыкновенные рабочие будни. Это утешительно. Каждый из них находится здесь не по какой-либо личной причине. Просто они на работе.
Нижняя часть ее тела приподнята. Ноги раздвинуты и покоятся на специальных подставках. Крышка операционного стола установлена с наклоном влево. Глаза всех присутствующих устремлены на врата жизни, сквозь которые бедный ребенок должен явиться в этот мир.
Положение не из самых приятных, но Мария старается отвлечься от себя, от своего «я». То, что здесь происходит, не имеет к ней отношения. Она лишь орудие в отправлении некоего древнего, как мир, ритуального действа.
Между своих ног она видит лишь спину верховного жреца и белые завязки у него на затылке.
Вот его спина напряглась, вот он поднял руку и тонкая игла вошла в оболочку плода. Оболочка проткнута. Она чувствует нажим его сильных рук. Вот он снова нажимает, так чтобы лишь тоненькая струйка околоплодной жидкости могла пробиться из отверстия.
Капли ее медленно падают в подставленный лоток.
Заговорить, что ли? — думает Мария. Хоть бы кто-нибудь произнес словечко… Как бы хорошо было…
Лицо и руки будто колет тысячей иголочек. Перед глазами плавают белые пятна.
— Постарайтесь дышать спокойней, — тихо говорит анестезиолог. — Вы нервничаете, из-за этого происходит перенасыщение кислородом.
Она нервничает? Правда нервничает? Вот уж нет. Наоборот, у нее чувство какой-то незнакомой доселе уверенности и просветленности от неизбежной встречи с собственной судьбой. Она уже в пути. И вскоре будет у цели. Ничего изменить уже нельзя.
В лоток все капает. Напряжение в теле слабеет. Живот опадает. Песок в часах все сыплется.
Время от времени кто-нибудь из тех, кто попадает в ее поле зрения, делает движение рукой.
Тошнота подступает к горлу.
— Меня тошнит.
— Это из-за схваток, — шепчет акушерка. — Главное, не волнуйтесь.
— Ну, вот и все, — говорит зав. отделением. Он убирает руку с ее лона, оборачивается и сдвигает шапочку на затылок. На лбу у него капли пота. — Измерьте количество воды.
Мария смотрит на свои часики. Прошло полчаса.
— Все хорошо, — говорит он. — Осложнений, которых можно было опасаться, не произошло. Теперь уже нет никаких препятствий к тому, чтобы роды прошли нормально.
Марию перекладывают на каталку и увозят из операционной.
Когда они въезжают в коридор родильного отделения, из какой-то палаты раздается пронзительный, душераздирающий крик.
Мария затыкает уши.
— Не могу я слышать крики.
— Кто это там? — спрашивает ее акушерка другую, пробегающую мимо, судя по всему, старшую акушерку отделения.
— Пациентка из десятой палаты. Первый из близнецов только что вышел. Видишь, как она исцарапала мне руку? Сверху донизу!
На стуле лежит «Экстрабладет».
На первой полосе заголовок: Почти полмиллиона граждан не собираются участвовать в выборах.
Вот уже третий раз Марию привозят в эту родильную палату. Занавески снова сдвинуты. Уже вечер. Очень уютно. Стены будто обиты коричневым бархатом.
Акушерка и ее помощница суетятся вокруг. Словно зверушки копошатся в палых листьях. Помощница сильно простужена! Марию это тревожит. Но что она может сказать?
Входит старшая акушерка.
— Позвонить вашему мужу?
— Он сейчас в Гренландии.
— Ну а кому-нибудь другому, кого вы хотели бы видеть около себя?
— У меня есть сестренка, но я считаю, что ей тут совсем не место.
— Вы уверены?
— Да, то есть… нет, не надо. Если с ребенком что-то неладно, я… я-то уже к этому готова. А для нее это будет ужасно. Так что не стоит ее вызывать, правильно я рассуждаю?
Старшая акушерка хмыкнула.
— Вы не согласны?
— Это вопрос этики. Что тут можно сказать.
Акушерки переглядываются.
Итак, решено. Никого не приглашать.
— Я вижу, у вас мочевой пузырь полон, давайте-ка освободим его, — говорит акушерка и подставляет Марии судно.
Мария закрывает глаза и напрягается.
— Не могу.
— Ну постарайтесь. А то мне придется спустить мочу катетером. Лучше вы сами.
— Да не могу же я. Не получается.
Акушерка вводит ей катетер. И ничего страшного. Совсем не так неприятно, как можно было ожидать.
Акушерка уверенно кладет руку ей на опавший живот и начинает прощупывать.
— Ребенок небольшой, — говорит она. — Я думаю, не больше двух с половиной килограмм.
— Двух с половиной? — Перед глазами Марии крутится, разбрасывая искры, огненное колесо. Это же гораздо меньше, чем предполагали.
— Как хорошо, что здесь тихо, — шепчет она. — Спасибо вам.
— Я позабочусь, чтобы вас не тревожили, — обещает акушерка.
— И больше никто сюда не придет?
— Нет, будем только мы. Ну и врач, конечно. Я так думаю, что через полчаса вы уже родите. То, что вам спустили воду, помогло шейке матки раскрыться.
Мария закрывает глаза и закидывает руки за голову.
Она чувствует, что акушерка испытывает к ней материнскую жалость. Эта женщина не бросит ее на произвол судьбы.
Комната золотистая, как янтарь. Мария произносит молитву, которой научила ее Расмуссен:
О Мария, дай ключи мне твои. Помоги мне раскрыть чресла мои.Схватки коварно подкрадываются к ее расслабленному телу. Тело напрягается, матка работает. Поясницу тянет и тянет. То слабая, то сильная боль. Боль возрождающая, восстанавливающая силы.
— Возьмите-ка маску. Нечего вам храбриться.
Акушерка показывает Марии, как пользоваться маской. Так, теперь спокойный и глубокий вдох. Придерживайте ее правой рукой. И слушайте: должно звякнуть, как оконный шпингалет.
Помощница улыбается. Она очень милая. Только бы не подходила слишком близко — со своей простудой.
В одурманенной веселящим газом голове Марии чередой проходят картины. И каждая, прежде чем рассеяться, долго стоит у нее перед глазами, четкая до последней мелочи.
Вот молодой вьетнамец замер в зарослях высокого то ли тростника, то ли камыша. Бесконечно медленно начинает он раздвигать стебли камыша. Она вздрагивает. Вьетнамец вглядывается в бурую выжженную местность.
Насколько хватает глаз — опустошенная земля и лишенные листвы деревья.
Дверь открывается. «Тсс» — шипит акушерка.
— Что это за малышка у вас здесь лежит?
— Что? — Мария резко поднимает голову, маска падает на пол. — Разве я уже родила?
Высокий белокурый врач в белой майке, белом распахнутом халате, в белых брюках и дешевых круглых очках стоит возле ее изголовья. Из-под белой майки на груди выбиваются золотистые волосы. Он оборачивается к акушерке.
— Послушай, в чем дело? Может, она у тебя слишком надышалась?
Акушерка не отвечает.
— Но про какую малышку вы сейчас говорили? — вмешивается испуганная Мария.
— Да про тебя я говорил, — улыбается врач. — Из-за многоводья ты была такая огромная, а теперь, когда воды спустили, стала совсем маленькой — только и всего.
Слава Богу, значит, это он про нее сказал.
Это тот самый врач, что принимал ее тогда в декабре в женской консультации. Он говорит ей «ты». До чего же приятно! Наконец-то нашелся врач, который говорит пациенткам «ты».
Сейчас небось думает, как осторожен должен быть врач, разговаривая с женщиной во время родов, думает Мария. Мало ли что я могла подумать.
Янтарное освещение в родильной палате и простуженная помощница акушерки. Между своих согнутых в коленях ног она видит худощавую темноволосую акушерку.
Откуда-то очень издалека приходит схватка, прокатываясь по всему телу. Мария делает очень глубокий вдох, такой глубокий, что веселящий газ из черной маски проникает в легкие до самого дна, и слышит, как щелканье вентиля удаляется, точно шум отъезжающей машины.
Они с Захариасом сидят на дне океана. Они сидят обнявшись и будто на наклонной плоскости. Вода прозрачная, бутылочно-зеленого цвета. Высокие, гибкие водоросли сонно колышутся. Где-то на немыслимой высоте проплывает корабль. Его киль угадывается под поверхностью океана.
Зеленая вода.
Много слоев воды.
Они с Захариасом стоят на качающейся льдине. Льдина многометровой толщины покрыта сверкающим снегом. Небо голубовато-стальное. Вдали виднеется плывущий айсберг, белый с лиловыми тенями.
— Вот-вот уже, — шепчет акушерка.
Льдина хрустит, разламывается.
— Я чувствую, что-то скользит вниз! — восклицает Мария.
— Минутку терпения, — говорит акушерка. — Дайте-ка я погляжу, что там.
Она становится на скамеечку, ощупывает шейку матки и, будто отдавая приказ идти в атаку, командует:
— А теперь, как я скажу, начинайте тужиться!
Они в молчании ждут схватки.
И тут же все кончается. Ребенок рожден. Но это не нормальный ребенок. Он неполноценный. И он должен умереть. Он проживет лишь несколько дней. Приходит пастор в черном облачении и белом жабо. У него с собой купель. Он хочет окрестить ребенка. Это займет всего несколько минут. Чтобы он не умер язычником, но получил отпущение грехов и обрел вечную жизнь. «Нет!» — кричит Мария. Она не хочет крестить ребенка. Пастор поворачивается и уходит. Ребенок умирает. Нужно подписать свидетельство о смерти. Ее спрашивают насчет похорон. Она не хочет, чтобы его хоронили. Не надо! Ничего не надо. Его надо просто… выбросить вон?..
Но зачем же тогда это надругательство над ее телом? Зачем она дала жизнь жалкому, неполноценному существу? Как все бессмысленно и унизительно! Свет мира погас для нее.
— Ну давай, тужься. Спокойно. Так.
Перед глазами Марии окно. Старинное окно, поделенное переплетом на шесть клеточек. Оно распахнуто, голубовато-зеленое небо украшено там и сям белым и розовым. Летний вечер, и внизу сад, где перемешались свет и тени.
Она слышит из-под маски какой-то пронзительный звук. Это визжит она сама.
Схватка достигает максимума. Марии кажется, что ее грубо рвут, раздирают на части.
Врач и акушерка с двух сторон склонились над ней и возятся с чем-то между ее ног.
Мария закрывает глаза. Маска падает.
Свершилось.
Дверь распахивается, и вваливается множество людей, совсем как на стадионе, когда открывают ворота. Ребенка берут, опускают его в какой-то стеклянный ящик и увозят, и дверь закрывается за ними.
Полная тишина. И пустота. В аквариуме вода зеленая и пузырьки медленно поднимаются к поверхности и лопаются.
Мария лежит на спине и дрожит от холода.
— Как ребенок выглядит?
— Абсолютно нормально.
Мария широко раскрывает глаза.
— Что?!
— Ну да. У нее абсолютно нормальное сложение. Только она очень худенькая, очень длинненькая, но очень хорошенькая, — говорит высокий белокурый врач, широко улыбаясь.
— А пищевод?
— Мы сразу вставили ей в горло зонд. Он свободно прошел вниз.
В воздухе пляшут огненные шары. Это прыгает солнце.
Раз ребенок хорошенький, значит, он не умственно отсталый, значит, сколько-нибудь серьезных дефектов нет.
— Это невероятно. Вы правду говорите?
— Только правду.
— Нет, это мне снится, я все время спала, и это все еще сон.
— Давай я тебя ущипну, — улыбается врач. — И ты сразу почувствуешь, что уже не спишь.
Он придвигает стул к ее изголовью, садится, закидывая ногу на ногу, и начинает раскачиваться на стуле. У него длинные ноги в белых носках и белых сабо. Он доволен. А она бы так и расцеловала его, и привлекла бы к себе, и прижалась бы к нему. И он бы обнял ее. О, если бы это было возможно!
Она закрывает лицо руками. Слезы текут между пальцами.
— О Господи, как мне хорошо, как хорошо, как я рада, как хорошо, как я благодарна, что все так хорошо!
— Может, дать ей выпить? — тихонько спрашивает врач.
— С какой стати? — отзывается акушерка из противоположного угла палаты.
Хорошо, что акушерки женщины.
Простуженная помощница сидит по другую сторону от Марии, обе ее руки на животе Марии, она старается сдерживать сокращения опустошенной матки. Глаза у нее в красных ободках, но она широко и приветливо улыбается Марии. Теперь ее простуда уже не имеет значения.
— Меня будут зашивать? — спрашивает Мария.
— У тебя ни одного разрыва, — отвечает акушерка.
И тут в дверях появляется коротышка Рёрбю — руки в боки, голова чуть-чуть склонена набок. Из патологического отделения она спустилась в таинственную обитель родильного.
Склонившись над Марией, она обнимает ее.
— Поздравляю тебя, девочка.
— Спасибо, милая Рёрбю. Я тебя очень люблю.
Она уходит. У Марии дрожат губы.
— В ближайшие дни у тебя не раз глаза будут на мокром месте, — говорит врач. — Не удивляйся, так и должно быть.
Акушерка вынимает из кармашка своей записной книжки маленькую фотографию и показывает Марии. На фотографии четверо улыбающихся ребятишек. Первая в ряду девочка со светлыми косичками, за ней три белобрысых мальчугана.
— Мои, — говорит она. — Младшему всего два годика. Я решила показать их вам, чтобы вы знали, что я вас очень хорошо понимаю.
Она убирает записную книжку.
— Сегодня лучший день в моей жизни, — говорит Мария. — Никогда еще и ничему я так не радовалась…
— Да, это, конечно, большое событие, — соглашается акушерка.
Детский врач в квадратных, без оправы очках заходит в палату.
— Мы сейчас обследуем вашего ребенка, — говорит он. — Мы ввели ей контрастное вещество и сделали рентгеновский снимок, чтобы убедиться в полной проходимости пищеварительного тракта. Она весит два килограмма пятьсот восемьдесят грамм. Ровно столько, чтобы вас вместе с ней поместить в послеродовое отделение. Я думаю, что еще до полуночи вам ее привезут.
В палате все время толпится народ. Двери открываются и закрываются.
Роды завершились, можно расслабиться. Нет уже никакой нужды понижать голос. В палате чисто, навели порядок. Судна и лотки убрали на место.
Наверное, они еще держат ее под наблюдением. Но Марии теперь все равно. Она испытывает такую легкость, будто у нее вообще нет тела, и только твердит:
— Я так рада, так рада, так…
— О, я так рада, так рада!
Кто это ее передразнивает? А, это старшая акушерка, она снова стоит у Марии в ногах. С решительным выражением на лице. Да, пожалуй, уже хватит сюсюкать.
Мария получает чашку чая.
И вот уже совсем другая акушерка стоит у ее изголовья. Высокая стройная молодая женщина с коротко остриженными волосами. Лицо как будто знакомое.
— Твоя девчушка просто прелесть.
— Ты ее видела?
— Да, и даже подержала ее за ручку, там, в отделении для новорожденных.
— Как ты думаешь, почему все считали, что она очень крупная?
— Это все воды, они совершенно исказили картину. Целых семь литров! Я сама измеряла.
У акушерки такой сияющий вид. Неужели это правда? Может ли так быть, что все они от души радуются, когда роды проходят благополучно?
Удивительная профессия!
10 января, пятница
Серые тона. Где я?
Над кроватью Марии склоняется медсестра.
Привезли твою малютку.
Мое дитя! Я чуть не забыла про тебя! Ведь этой ночью нас с тобой везли подземным переходом сюда, в послеродовое отделение.
Мария наклонилась над детской кроваткой, смотрит и чувствует сладостную дрожь при виде темной головки с блестящими волосами, наполовину скрытой под клетчатым одеяльцем. Девочка лежит на боку, подпертая скатанным покрывалом. В ногах у нее керамическая грелка, завернутая в пеленку.
Она спит, ее профиль, совсем как у взрослой, вырисовывается на простынке. У подбородка ручки с тоненькими, словно ниточки, пальчиками.
Вот она лежит здесь, крошечное существо. О, я узнаю тебя… Прошлой ночью ты была со мной.
Двумя длинными рядами сидят женщины в белой больничной одежде со своими новорожденными на руках. Настольные лампы бросают на них конусы света. Груди обнажены. Идет кормление детей.
Слышится чмоканье, хныканье и приглушенная речь.
Такой законченный в своем совершенстве женский мир!
Палата просторная, квадратная, стены светло-серые. Бледный утренний свет падает с трех сторон сквозь непривычно высокие старинные, высоко расположенные окна, обрамленные палевого цвета занавесками. Четвертая стена занята длинным плоским шкафом и дверью в коридор. Сбоку от двери белый умывальник, наполовину отгороженный ширмой.
Это самая большая палата в отделении, палата № 1 с десятью кроватями. Ночью Мария сама попросилась, чтобы ее положили именно сюда, в эту палату, чтобы всегда быть среди людей.
Кровати широкие и удобные. На стене, над каждым изголовьем, висят две черные таблички, где рядом с фамилией пациентки указаны дата и время рождения ребенка, его вес и длина, а также температура матери, ее пульс, наличие швов. Подо всем этим греческое обозначение пола ребенка.
В этом отделении поднимают на ноги в первый же день. Уже часа через два после родов женщина сама идет в туалет и под душ.
И она сама ухаживает за своим ребенком. Ребенок с ней целый день. Его забирают только на ночь. А в маленьких палатах разрешают держать у себя ребенка хоть круглые сутки, было бы желание.
Кормление здесь индивидуальное. Детей с весом 3000 граммов и выше мать может кормить, когда захочет. Дети же меньшего веса — как у Марии — должны получать пищу в строго определенное время шесть раз в сутки.
Женщины в послеродовом отделении беспрестанно ходят взад и вперед, от кровати к длинному пеленальному столу, который стоит посреди комнаты, и обратно. Они пеленают своих малышей, подмывают их, разговаривают с ними, баюкают их и наслаждаются взаимной близостью.
И получают ни с чем не сравнимое удовольствие просто от того, что вот они здесь, в послеродовом отделении, после благополучно завершившихся родов.
Но, хотя считается, что женщины могут вставать в первый же день, Мария чувствует себя совершенно разбитой. Такое ощущение, будто по ней проехался паровой каток и переломал ей все косточки.
Она не в силах подняться с постели. Она просто лежит и только вертит головой направо и налево, разглядывая соседок и надеясь, что кто-то подойдет и заговорит с ней.
Да, в этом отделении не сразу догадаешься, что идет обход. Потому что, хотя персонал и старается поддерживать порядок в рядах пациенток, матери то и дело встают с кроватей, чтобы взять что-то забытое или перепеленать младенца.
Женщина-врач — она выглядит не старше Марии — неслышно переходит от пациентки к пациентке и задает необходимый минимум вопросов.
Мария, опершись на локоть, смотрит, как ее ребенка раздевают и кладут на весы.
— Два килограмма четыреста семьдесят граммов, вчера при рождении было два пятьсот восемьдесят, — возвещает медсестра.
Цифра заносится в таблицу, лежащую на тумбочке вместе с различными фотокопиями, ксерокопиями и рекламами бумажных пеленок и противозачаточных средств. Цифра эта — какая-то абстракция. Марии она ничего не говорит.
Врач засовывает мизинец ребенку в рот и ощупывает нёбо. Кладет обе руки на узкую головку, осторожно нажимает, нащупывая родничок. Ребенок скулит, но опытные руки уже скользят по ключицам и ручкам. Крошечные пальчики пересчитаны, ноготки и линии ладони изучены. Затем врач считает удары пульса в паху и рассматривает губы. Затем она проходится по ножкам, считает пальчики и рассматривает ноготки. Проводит указательным пальцем по шелковистой подошвочке. Двумя руками она охватывает коленочки, крутит их туда и сюда — просто смотреть страшно — и прислушивается, не раздастся ли хруст в тазобедренном суставе.
Наконец она поднимает плачущее дитя одной рукой за щиколотки, переворачивает и проводит пальцем вдоль позвоночника.
Хлопнув ладонями по столу по обе стороны от новорожденной, от чего девочка вздрогнула и замахала ручками и ножками, врач говорит, не отрывая от нее взгляда:
— Что ж, у нее все в порядке.
Еще бы, думает Мария, уж сказала бы честно, что такой замечательный ребенок ей еще не встречался.
Посреди комнаты, на длинном пеленальном столе, барахтаются крошечные, красные существа.
— Это ничего, что я лежу? — спрашивает Мария.
— Ничего, — отвечает медсестра, молодая девушка с длинными волосами, стянутыми на затылке. — Лежи, пожалуйста. Сейчас я тебе покажу, как надо с ней обращаться. Видишь? В начале кал у нее будет темный и липкий, называется меконий. Но дня через два он станет светло-желтым и приятно пахнущим — если будешь кормить ее грудью. Подмывать ее надо вот этой губочкой. Потом осторожно промокнуть полотенцем. Половые органы вытираешь сверху вниз. Ни в коем случае не снизу вверх. Осторожно присыпаешь шейку, подмышечки, за ушками и другие места, где может скапливаться влага. И запомни: никогда не пользуйся одновременно присыпкой и маслом, а то получится клей. Пеленку заматываешь вот так, чтобы не болталась, иначе ребенку будет неудобно. Надеваешь распашонку. И завязываешь на спинке бантиком. Вот так. Правда, она прелесть?
Она кладет белый сверточек Марии на руки, и Мария чувствует себя мадонной на старинной картине, написанной красным и золотым.
— Ты следи, чтобы она не замерзла. Детям с недостаточным весом трудно сохранять тепло. Время от времени надо сменить в грелке воду, завернуть ее в пеленку и положить в кроватку.
Мария кивает, стараясь все запомнить. Она вдыхает запах ребенка, такой замечательный, чистый и пряный.
Попробуй покормить ее, — говорит медсестра. — Но не держи больше десяти минут у каждой груди. А то она устанет. Она должна учиться сосать, это будет стимулировать прилив молока. Пройдет дня два, прежде чем оно появится. До этого она будет получать молозиво. Оно желтоватое и легко усваивается. И очень полезно для ребенка, потому что содержит важные антитела.
— Мне так хочется ее покормить, — говорит Мария, вопрошающе глядя на медсестру. — Ты думаешь, у меня получится?
— Конечно, получится. Для начала мы тебе поможем. Вот смотри: прижимаешь ее к себе так, чтобы ее щечка касалась твоей груди — вот так! Теперь она инстинктивно поворачивает головку к соску и раскрывает ротик.
Медсестра стоит и смотрит на них.
— Если будет больно, смажь немножко сосок ланолиновой мазью. И усядься поудобнее. Очень важно, чтобы поясница имела опору.
Мария дрожит от счастья, впервые ощущая шелковые губки на своей груди. Непонятное томление наконец удовлетворено. Удовлетворена древняя, как мир, потребность, которой она даже названия не знает. О, как же совершенен этот женский мир! За последние сутки Мария прошла все круги один за другим, сквозь свет и тени, пока не оказалась здесь, в чистой белоснежной постели в послеродовом отделении.
Вместе с водами и ребенком, покинувшим ее живот, исчезла напряженность, ушла, как дождевая вода в землю. Только опавшее тело и такая же опавшая душа лежит на простыне, словно старый мешок.
Новорожденная спит у ее обнаженной груди, будто иначе и быть не может.
Девочка — ее плоть и кровь. Она зародилась и выросла в ее чреве. Ее тело вытолкнуло ее. Из одного мира она попала в другой. Ей отрезали пуповину, ее обследовали, обмыли, одели. И вот она — живая, и все у нее в порядке.
Над послеродовым отделением стоит радуга.
Высокая красивая женщина подходит к Марии.
— Поздравляю. Рада видеть тебя в нашем отделении, — произносит она глубоким мягким голосом и протягивает пациентке руку. — Как у тебя дела?
Как приятно, что все здесь обращаются к ней на «ты». Даже старшая медсестра.
Трудно сказать почему, но у Марии слезы навертываются на глаза, и она не может вымолвить ни слова. Ей бы так хотелось что-нибудь сказать, но слова застряли в горле.
Старшая сестра наклоняется и рассматривает спящее дитя.
— Какая миленькая, — говорит она. — Я читала твою историю болезни. Представляю, как тебе досталось.
Она дает пациентке время взять себя в руки. И Марии наконец удается разомкнуть рот.
— Я так устала, так устала, сама не знаю почему, просто чувствую себя так… такой…
Она и сама не знает, что хотела сказать — то ли «так удивительно», то ли «такой выпотрошенной». Нет, она не представляет, как можно охарактеризовать это ее состояние.
— Я прекрасно тебя понимаю, — говорит старшая сестра. — Я тоже после родов чувствовала себя смертельно усталой. Это вполне естественно. Я скажу сестрам, чтобы они помогли тебе с малышкой, пока к тебе не вернутся силы. Если что-то будет непонятно — спрашивай.
И она повернулась к следующей кровати.
На ней как-то неловко лежит маленькое унылое создание. Та самая женщина, которая, когда все остальные завтракают, в рот ничего не берет. С этой кровати лишь изредка доносится то вздох, то всхлип. В изголовье у нее висит капельница на штативе. Прозрачная жидкость бежит по трубочке в тощую руку, спрятанную под одеялом.
— Ну как, Миккельсен, как ты себя сегодня чувствуешь?
Несчастное создание поворачивает жалкое лицо к высокой женщине в белом халате, но в ответ слышен лишь какой-то хриплый звук.
Старшая сестра, засунув руки в карманы, наклоняется над кроватью.
— Скоро мы уберем капельницу. Ой, кто это? Неужели твои?
На тумбочке две фотографии в двойной разрисованной рамке.
— Ага, — отвечает Миккельсен, утирая нос рукавом. — Мои, чьи же еще!
— Ну, тебе есть чем гордиться.
Так вот и переходит старшая сестра от кровати к кровати, вполголоса разговаривая с каждой пациенткой. И каждой дает возможность выговориться. Кто-то сияет от счастья, кто-то пускает слезу. Она привычна к тому и другому. Ее уже ничем не смутишь.
— Почему ты так чудно лежишь? — спрашивает Мария свою соседку.
— Меня стерилизовали, — всхлипывает та, глядя на нее большими темными глазами, едва выглядывающими из-под одеяла.
— Так ты рожала или нет?
— Родила. Он у них в дежурке.
А вот и зав. отделением, слегка запыхавшийся.
— Я подумал, что надо посмотреть, как тут дела, — улыбается он и наклоняется над спящим ребенком.
Мария краснеет. Ей так хочется взять его за руку. Поблагодарить. Но она не знает, какими словами выразить свои чувства.
Ведь столько всего было — многие недели в патологическом отделении, их разговоры, обследования, а вчера еще и операция. Слишком это тонкая материя. Это касается только их двоих, и ничего тут словами не выразишь.
Он кивает. Он не нуждается в благодарности. Минуту он смотрит на нее, потом уходит.
Уходит, чтобы заняться своими многочисленными делами — обходы в патологическом отделении, гинекологические обследования, кесаревы сечения.
После его ухода Мария лежит в полной прострации.
В послеродовом отделении постоянно держится особый, специфический запах. Сладковатый запах детской мочи и испражнений, послеродовых выделений у женщин, молока, которое бежит из груди, увлажняя больничную рубашку. Запах пота, смешанный с ароматом пышных оранжерейных цветов. А также запах хлора и вазелина.
В первое время после родов запах у женщин и их детей один — молочный, кисловатый, кисло-сладкий. Немножко душный. Совершенно особенный запах, который испускает женская плоть в этот совершенно особенный период жизни.
Коридор в послеродовом отделении длинный, темный, с высоким потолком. Слева в простенках между окнами шкафы и холодильники, столики на колесах и составленные штабелем стулья. Справа — двери в палаты, в дежурку и гостиную.
В маленьких палатах лежат по большей части после кесарева или те, у кого роды проходили с осложнениями. Лежат тут также женщины с двойнями, тройнями и даже с четырьмя новорожденными.
И всегда в этом отделении очень оживленно.
Нянечки с подносами мечутся взад-вперед. Врач и высокая акушерка в оконной нише ведут доверительный разговор.
Пациентки, растрепанные, во всевозможных и даже вовсе невозможных халатах, бродят, ссутулясь и неуверенно переставляя ноги, по раз и навсегда установленному маршруту между кроватью, туалетом и гостиной.
У кого-то плачет младенец. Лязгает шпингалет в окне. Из какой-то палаты слышится смех. В дверях появляются медсестра и нянечка. Они просто с ног валятся от смеха, хлопают себя по ляжкам, фыркают и взвизгивают, даже слезы выступили на глазах.
И что интересно: они и не пытаются скрыть свою веселость.
В патологическом отделении никто так не веселится.
— Привет, Мария!
Знакомое лицо! Очень юная девица невысокого росточка. Кто бы это мог быть? А, да это же Конни из патологии. Семнадцатилетняя Конни, которая живет в Хундестеде. Она лежала в палате № 5 вместе с Карен-Маргрете.
— Здравствуй. Ты тоже здесь?
— Моя кровать вон там, возле фру Хольм. Я сегодня утром родила девчонку, — гордо объявляет Конни. — А у тебя кто?
— Тоже девочка. Вон она лежит.
— Ой, какая куколка! — восклицает Конни и, упершись руками в колени, наклоняется над кроваткой. — Поздравляю тебя.
— Как у тебя прошли роды?
— В общем-то, нормально. У меня, правда, получился приличный разрыв, представляешь? Это жутко больно. Я фактически не могу сидеть — только стоять или лежать. Швы тянут. Слишком я напрягалась, говорит акушерка. С молодыми это сплошь и рядом, хотя наш возраст для родов самый подходящий.
Конни гордо улыбается и переносит тяжесть с одной ноги на другую.
— А как с другими из патологии, которых я знаю?
— Ну, например, Оливия, высокая такая, помнишь? У нее замечательная девчушка, три кило четыреста. Кесарево ей делал сам зав. отделением.
— А турчанка, как у нее?
— У нее тоже девочка, огромная — девять фунтов. Роскошный ребенок. Прямо хоть сразу в школу отправляй.
И Марии живо представилась картина: Хабиба со своим роскошным ребенком на руках.
— Я думаю, ее вчера уже забрали домой, в Нествед.
— А эта… как ее… Ивонна? Что с ней было дальше?
— Ивонна рожала вчера, в одно время со мной. У нее две девочки, очень маленькие, и родились они намного раньше срока. Их поместили в кувезы, в отделении для новорожденных. А сама Ивонна… Да не здесь ли она, в одной из маленьких палат? Наверное, так и есть.
Лицо Конни после родов заметно изменилось. Черты его стали как будто мягче. Она прекрасно выглядит. Щеки румяные, волосы вьются. Ни за что не скажешь, что она родила только часа два назад.
— А вот эта… Ну, с которой ты так любила болтать, у нее еще три девчонки.
— А, Сигне. Она все еще там, наверху.
Бог его знает, известно ли Конни, что случилось с Карен-Маргрете? Не буду ей ничего говорить, если сама не спросит, думает Мария.
Но Конни словно прочла мысли Марии, потому что тут же заговорила:
— Знаешь, я получила письмо от Карен-Маргрете. Она спрашивает, не хочу ли я поработать с осени у них в писчебумажном магазине. Как мило с ее стороны, правда? Я жутко обрадовалась.
— А ты знаешь, что с ней произошло?
Конни кивнула. Но обсуждать этот вопрос они не стали. Обе невольно подумали о своих детях, которые сейчас мирно спят в кроватках.
Ой, а она дышит? Мария торопливо нагибается над кроваткой и протягивает к новорожденной руку, стараясь ладонью ощутить ее дыхание. На какой-то миг ей представилось, что девочка лежит мертвая, неподвижная, вытянувшаяся, с закрытыми глазками и полуоткрытым ртом. Мария хватается за сердце.
На второй завтрак подали бульон с фрикадельками и клецками. В бульоне плавают кусочки лука-порея, сельдерея и моркови.
А главное блюдо — телячьи отбивные со сваренными на пару овощами и крупными желтыми картофелинами.
Конни приветливо машет Марии со своей кровати. Она лежит на боку, и ей довольно трудно отправлять еду в рот.
С двенадцати и до половины второго — полуденный отдых. Медсестра убеждает женщин постараться заснуть. Вы, дескать, сами не представляете, как вы нуждаетесь в отдыхе. Вот вернетесь домой, там вам отдыхать не придется.
В палате тишина. Дети сыты и спят. Слышится лишь удовлетворенное посапывание.
Мария подпирает себя одеялом и подушкой. Она подсовывает уголки под поясницу и между ног, под щеку и затылок, пока не удается удобно устроиться в своем гнездышке.
Сон иголочками покалывает кожу, безмятежный, колышущийся. Так, наверное, спишь в колыбели.
Если случится тебе в последние дни апреля или в начале мая попасть за город, в то самое время, когда природа Зеландии просыпается, когда все вокруг словно сбрасывает с себя сковывавшую оболочку, когда земля одевается светло-зеленой шелковистой травкой, когда проклевываются первые белые цветы мирабели, — ты чувствуешь тогда, что не в силах вместить в себя всю неохватность бытия. Нечто похожее испытывает Мария в послеродовом отделении. То, что здесь происходит, слишком значительно, и она чувствует, что ее разум не способен это постичь.
Ей хотелось бы, чтобы время остановилось. Чтобы все оставалось, как есть. Малышка лежит на одеяле у нее между ног. Лобик чистый и выпуклый. Волосики темные, шелковистые. Цвет кожи чуть смугловатый или желтоватый, на щечках две бледные розочки. Тонкие бровки чуть подняты к вискам. Уголки губ слегка опущены.
Вот она зевнула, подобрала под себя ножки, по-прежнему не открывая глаз и не изменяя чуть озабоченного выражения на личике.
С каждым часом она все удаляется от внутриутробного существования. Расстояние между ребенком и материнским чревом все увеличивается. Между новорожденной и человеком становится все короче.
Дверь раскрывается, и первые посетители начинают заполнять палату. Женщины, всполошившись, вскакивают в кроватях и наспех прихорашиваются.
Посещения разрешаются дважды в день. В этом отделении не так уж боятся, что посетители занесут инфекцию. Обстановка очень раскованная. Родные и друзья приходят с цветами и подарками и рассаживаются прямо на священных кроватях, берут детей и передают их по кругу из рук в руки.
Даже старшие братишки и сестренки новорожденных после некоторых переговоров получают разрешение прийти.
Нет здесь застекленных дверей, которые бы отделяли семью от ее нового члена.
Молодой парнишка смущенно сидит возле Конни и пытается каблуками просверлить пол. Руки зажаты между коленями. Голова ушла в плечи. Взгляд устремляется то в потолок, то в детскую кроватку, то в окно. Он совершенно не знает, что надо говорить. Конни лежит в постели и морщится из-за проклятых швов, пытаясь придумать, что бы такое ему рассказать.
В кровати справа лежит внушительная фру Хольм и рассматривает свои ногти.
Уж на что фру Хольм крупная женщина, но муж ее еще больше.
Он входит почти крадучись, на цыпочках, осторожно и виновато обходит пеленальный стол. В одной руке у него шляпа, в другой — сверток в узорчатой бумаге.
Первый вопрос фру Хольм:
— Ну, что ты мне купил?
Приложив свою огромную руку к ее уху, он что-то шепчет ей. Другой рукой он придерживает подарок, который положил ей на живот.
— Что за и-д-и-о-т!
Господин Хольм съеживается.
— Но, Мархен… Ты же сама сказала… я думал…
— Индюк тоже думал!
На своего ребенка он и не взглянул. Видимо, это не имело особого значения. Потому что фру Хольм сразу же принялась объяснять, как он должен приготовить обед.
— Оно лежит в морозилке, не забудь! И когда оттает, то…
— Это был твой муж? — вкрадчиво спрашивает фру Хольм.
— Кто? — удивляется Конни.
— Ну, молодой человек лет пятнадцати, что сидел у твоей кровати?
— А, этот. Нет, это мой братишка.
Конни краснеет. Она растерянно оглядывается по сторонам, словно ища поддержки. Тут взгляд ее падает на дочку, она поспешно хватает ее на руки и заговаривает с ней:
— Дедушка придумает тебе хорошенькое имя. Обязательно придумает!
— Как ты держишь ребенка! Удивительно, что ты его еще не уронила.
Полезные советы у фру Хольм всегда наготове, тем более для такой неопытной мамаши.
Январский день недолог. Он скоро съеживается, уменьшается в объеме и высасывается через окно. Будто кто-то утаскивает его из палаты, а его место заполняет темнота, выползая из углов, из-под кроватей.
Вносят тарелки с бутербродами. Бутерброды с печеночным паштетом, с колбасой, с яйцами и помидорами, с рыбным филе и ростбифом.
Конни наслаждается едой. Видно, хочет наесться впрок до того, как придется вернуться домой, к мамашиным опостылевшим обедам. А фру Хольм страдает:
— Ах, эти бутерброды мне просто в рот не лезут. Хоть бы минеральной воды дали, запить…
У Миккельсен мало-помалу настроение поднимается. Нянечка снимает со штатива капельницу, присаживается к Миккельсен на кровать и смотрит на цветные фотографии у нее на тумбочке.
— Это правда твои?
— А то чьи же! Руди семь, а Ранди четыре. Еще бы не мои! Хороши поросятки?
И Миккельсен с важным видом склоняет голову набок.
Нянечка все вертит в руках фотографии.
— Кто же за ними смотрит, пока ты тут лежишь?
— А отец, кто ж еще.
— И он может сидеть дома?
— Он-то может. Он теперь на пенсии но инвалидности. И лучше, чем он, никто не умеет ходить за детьми. Это я тебе точно говорю.
— А как вы назовете своего младшенького?
— Рольф или Робин. Я думаю, скорее Робин.
— Руди, Ранди и Робин — просто прекрасно.
Мария не смогла удержаться:
— Можно бы назвать его Роланд. Есть такая «Песнь о Роланде».
— Или Рудольф, — подхватывает нянечка.
— Нет, так зовут его отца.
— А как насчет Руне, Роара или Рекса, — не унимается Мария. — А то еще можно назвать его Рафаэль, Рихард и Роджер.
— Нет, лучше Расмус, — подает голос маленькая Конни со своей кровати.
— А может, Рой — Рой Миккельсен? — говорит Мария. — Тоже не годится?
— Откуда ты взяла столько имен? — удивляется фру Хольм.
— Да так, ниоткуда, — говорит Мария, разводя руками. Книжка «Как назвать ребенка» была ее любимым чтением в патологическом отделении. Но ее соседки этого не знают.
Фру Хольм, положив руку под голову, уютно устроилась между пышными подушками. «Иллюстрированный журнал» она держит перед собой на вытянутой руке. Должно быть, у нее развивается дальнозоркость.
— Нет, вы послушайте, до чего интересно! — говорит она и начинает вслух читать: — Вчера состоялись выборы нового премьер-министра. Сегодня вы можете напомнить ему обещания, данные во время предвыборной кампании. Выборы завершились, правда, имя нового премьер-министра Дании еще не названо. Но независимо от того, кто поведет Данию за собой в наступающие трудные времена, у вас есть возможность оказать на него давление. Правда, неплохо сказано? Вы можете написать будущему премьер-министру открытое письмо, честно высказать свое мнение, дать ему хороший совет или задать ему какие-то вопросы. А мы позаботимся о том, чтобы письмо было опубликовано, и, имея за спиной более миллиона читателей, мы уверены, что премьер-министр и прислушается, и ответит. Нет, это просто замечательно, как по-вашему?
— Да кто все-таки победил-то? — спрашивает Мария, оглядываясь кругом. — Кто-нибудь это знает?
— Разве не социал-демократы? — слышится чей-то голос.
— Ну уж нет, хватит с них! — взрывается фру Хольм. — Снова устроят нам детский сад.
— У меня есть сегодняшняя газета, — говорит Конни. И поднимает «Экстрабладет» так, чтобы все могли видеть. — Вот слушайте: Придется тебе уйти, Хартлинг, — результаты выборов убийственны. Буржуазные партии получили семьдесят восемь мандатов, рабочие — семьдесят три. А Глиструп — всего двадцать четыре.
— А как там Эрхард?
— Эрхард на выборах потерял больше всех. Десять мандатов. Теперь у него — всего четыре, — читает малышка Конни.
— Ха-ха-ха, — смеется Миккельсен. — Так ему и надо. Он же форменный идиот!
— Ну, не знаю, не знаю, — говорит фру Хольм.
— Здесь сказано: Победа Хартлинга равна поражению. Он получил двадцать мандатов, но не может их использовать.
— А как коммунисты?
— Семь мандатов. Это уже прогресс.
— Ну ладно, я все-таки напишу своему кандидату в премьер-министры, — говорит фру Хольм, поворачивается на бок и утыкается снова в «Иллюстрированный журнал».
— Выпрями спину! — слышит Мария громкий голос из открытых дверей дежурки.
— Послушай, ну как ты выглядишь! — говорит вечерняя медсестра, догоняя Марию. — Рубашка на тебе по крайней мере на пять номеров больше чем нужно! И где ты ухитрилась ее раскопать? Ты прямо… Ну да, прямо как из психушки сбежала.
Метко сказано, думает Мария и вытягивает перед собой руки в слишком длинных рукавах.
— Постой, постой, дай-ка я сделаю.
Медсестра ласково и аккуратно заворачивает ей рукава.
Потом, отступив на шаг, прищуривается, склонив голову набок.
Мария идет дальше по коридору в гостиную, где уже накрыт стол к вечернему чаю.
Медсестра безнадежно качает головой.
Женщины подходят к столу, берут толстые куски белого хлеба с маслом, кладут на рифленые картонные тарелочки. Кофе и чай разливают в пластмассовые чашки.
Кое-кто сразу же возвращается к себе в палату. Другие рассаживаются на красных диванах, болтают и смотрят телевизор.
Гостиная высокая и узкая. Свет в ней рассеянный. На стене возле двери телефон-автомат под плексигласовым колпаком.
Над низкими диванами висят несколько литографий и цветных репродукций произведений мирового искусства. Массовое издание. Типично для больницы. Никто на них и не смотрит. Но висят, потому что за них заплачена определенная сумма денег.
Женщины курят, болтают, смотрят на экран, где тоже все время что-то болтают, что-то серое движется на сером фоне. Давным-давно никто не пытался отрегулировать контрастность.
Маленькая сухощавая женщина в высокой накрахмаленной шапочке заходит, таща за собой звякающую тележку с пузырьками и мензурками. С грохотом остановилась она посреди палаты и приветливо, хотя и довольно пронзительным голосом спрашивает, не хотят ли женщины выпить чего-нибудь на ночь? Снотворное или слабительное, а? Вазелиновое масло или отвар из семян вяза для пищеварения?
— А как дела у вас, фру Хольм? Был ли у вас стул?
— Ох, у меня такой ужасный геморрой!
— А как другие? Кому-нибудь что-нибудь нужно?
— У меня матка никак не успокоится, — говорит Миккельсен. — Ночью я просто глаз сомкнуть не могла. И еще мне надо слабительное. Но то, что мне дали вчера, ни к черту не годится.
— Совсем не помогло?
— Ничуть.
— Попробуйте вазелиновое масло. И вот вам еще четыре таблетки. Принимайте по две штуки.
— Я боюсь, я не буду спать, — говорит Мария. — Можно мне какое-нибудь сильное снотворное?
— Дориден годится?
— Да, спасибо, и стакан отвара из семян вяза.
Ей кажется, что семена вяза — это так романтично.
Детей на ночь вывозят в коридор. Мария кладет руку на плечо медсестры и просит:
— Присмотри там за моей получше. Она ведь такая малюсенькая и только-только родилась.
— Конечно, конечно, не беспокойся. И постарайся поспать. Тебе это необходимо. Ты даже не представляешь, как это важно. Обещаю тебе, что о малышке мы позаботимся. Ее поставят в дежурке, где мы сидим. Так что она будет все время у нас на глазах.
Моя крошечка. Значит, и свою вторую ночь ты проведешь в дежурке.
Все огни погашены. Все спят. Нет покоя только Марии. Тело какое-то расслабленное. Ребра болят будто сломанные.
Она разжевала таблетку и не преминула запить ее вином. Кстати, не забыть бы написать Захариасу. Надо же сообщить ему, что он стал отцом девочки — на четыре недели раньше срока. Вот он удивится!
Мария надевает свои новые часики на правую руку, чтобы не забыть послать ему утром телеграмму.
Впервые за много-много месяцев она может лечь на живот. Живот плоский, пустой, как старые мехи для вина, как мешок из-под картошки. Ох, проспать бы лет сто!
Почувствовать бы, как сон подкрадывается к ней, могучий, неодолимый. Отдаться ему, погрузиться в него с головой, на всю ночь.
По потолку пробегают пятнышки света.
У тротуара остановилось урчащее такси.
Среди ночи раздается крик из трубы за ее изголовьем. От этого жуткого крика сотрясается воздух. Чей-то голос вопит: «Нет-нет-нет!» Мария зажмуривается, затыкает пальцами уши, вжимается в матрас. Но может, это она сама кричала? Или ей это просто приснилось? И вообще, какая такая труба? Ничего она не понимает.
Чувствует только, что она в крови.
Она дергает шнур. Вспыхивает синяя лампочка. Заходит ночная сестра и меняет подстилку.
11 января, суббота
Тощенькая газетчица входит, везя за собой тяжелую тележку. Она сразу же замечает Марию, которую знает по патологическому отделению.
— Ну подумайте! — говорит она, всплескивая руками. — У вас уже ребеночек! Можно посмотреть? Какая прелесть! Поздравляю вас.
Насмотревшись, она возвращается к своей тележке и начинает торговлю.
Фру Хольм проявляет незаурядные организаторские способности. Она распорядилась, чтобы пациентки не покупали одинаковые газеты или журналы. Все должны покупать разное — разные газеты, еженедельники, разные сласти. Тогда будет чем время занять.
Мария со своим голеньким ребеночком стоит возле пеленального стола. Как же это делается? Она оглядывается. Как делают это другие?
На столе четыре ребенка. И она невольно сравнивает их со своим. Смотрит на одного, на другого, потом снова на своего. Разница заметная. Ее малышка гораздо меньше и более хрупкая. Честно говоря, она здорово смахивает на ощипанного цыпленка. Крошечный узник концлагеря с длинными тоненькими ножками, хрустящими в суставах.
А может, она и впрямь до рождения на свет пребывала в своего рода концлагере?
И все-таки она очаровательна. Гораздо красивее всех остальных в палате.
Не думайте, что мать не может трезво оценить внешность своего ребенка.
— Она что, раньше времени родилась? — спрашивает Конни.
— Да, на месяц.
Неловкими руками пытается Мария надеть на девочку распашонку. Ручки у нее тоненькие, просто до невероятности, и кисти совсем крошечные. Мария боится сломать их, продевая в рукава.
— А теперь что делать?
— А вот что, — говорит Конни, отодвигая Марию в сторону. — Один угол пеленки между ножек, другой под спинку и вот так закрепляется. Видишь?
Прямо-таки профессионально управляется семнадцатилетняя Конни с тоненьким, как спичка, ребенком.
— Где это ты так навострилась?
— Приходилось нянчить племянников.
Марии тоже приходилось менять подгузники в детском саду. Но то совсем другое дело. Во-первых, там подгузники одноразовые и, во-вторых, дети уже большие и обращение с ними совсем иное.
Подумать только, бывают дети трех-четырех лет. И как только родителям удалось их вырастить!
Палата залита утренним светом. Постели снежно-белые. Кругом чистота и порядок.
В шкафу чистое белье — все, что только может понадобиться. Перед женщинами послеродового отделения долгий приятный уик-энд. Уик-энд, когда женщины могут заниматься собой, ублажать своих малышей, встречать гостей, принимать душ, читать журналы, болтать или спать. Никаких особых требований к ним не предъявляется.
Тебя принимают такой, какая ты есть.
Рай, да и только.
На тумбочках букеты цветов. В основном тюльпаны на длинных гибких стеблях в больничных сияющих алюминиевых вазах.
Здесь и ярко-желтые тюльпаны, и глубокого красного цвета, и нежного бледно-розового с полупрозрачными зелеными листьями. Только они не пахнут. Потому что выращены не в земле на вольном воздухе, а в оранжерее, и упакованы в целлофан, точно готовый к употреблению полуфабрикат.
Лучше всего для рожениц красные цветы. Потому что красный цвет — животворящий. В стародавние времена новорожденных крестили только в красном.
И желтый цвет тоже прекрасен. Желтое защищает от зла.
А вот белый цвет означает несчастье, неудачу. Красные и белые цветы ни в коем случае нельзя смешивать. Коли такой букет приносят в отделение, персонал тут же его разделяет.
Бывает и такое, что вдруг торжественно открывается входная дверь и посыльный в униформе входит и, откинувшись назад, тащит перед собой огромное сооружение из цветов, завернутое в шелестящую шелковую бумагу. К бумаге приколота визитная карточка.
Под шелковой бумагой, конечно, прячутся не какие-нибудь обыкновенные датские цветы — розы, тюльпаны, подснежники или гиацинты. Нет, там таинственный, искусно подобранный букет, перевязанный цветной шелковой лентой. Цветы же настолько редкие, что никто в отделении не знает даже, как они называются.
Посыльный скрывается в одной из отдельных палат, где уж наверняка — так, во всяком случае, считает фру Хольм — лежит кто-то из королевской или знатной дворянской семьи. А вот Миккельсен слыхала, будто там известная манекенщица, а может, актриса. Во всяком случае, одна из тех, о ком можно прочитать в еженедельниках.
Больше всего цветов в палате № 1, само собой, у фру Хольм. У нее на тумбочке стоят двенадцать темно-красных, почти черных роз на длинных стеблях, увитых алой шелковой ленточкой, и маленький букет розовых бутонов в отдельной вазочке.
На высоком подоконнике за ее головой роскошные букеты выстроились в ряд. Азалии, фрезии, коралловые веточки.
Марию немножко смущает, что у нее-то цветов нет. Не так уж они ей нужны. Но ведь другие могут подумать, будто ей досадно, что ее родственники не заботятся о подобных вещах.
— Фу, грязнуля, опять ты напачкала!
Фру Хольм разговаривает со своей новорожденной исключительно наставительным, непререкаемым тоном.
Это ее третий ребенок. Два первых тоже девочки.
У нее единственной в палате груди забинтованы. Медсестра помогла ей наложить тугую повязку на всю верхнюю часть тела.
Она не желает портить фигуру.
Когда другие кормят детей грудью, она сидит с бутылочкой. Так, мол, гораздо лучше, потому что ты уж точно знаешь, сколько съел твой ребенок.
По левую руку от фру Хольм лежит Конни и кряхтит из-за своих швов. По правую, у окна, сидит в постели крепко сбитая женщина. Из-под одеяла торчат большие сильные ноги с выпуклыми ногтями и красными подошвами. Муж у нее кузнец, и это их четвертый сын. Фру Хольм предлагала ей поменяться детьми. Но жена кузнеца отказалась.
— Спасибо. Я уж останусь при своем.
Кузнецова жена сидит, подоткнувши под спину подушку, и любуется своим спящим ребенком в падающем из окна ярком свете дня. На личике у него полная умиротворенность. Рот большой, губы пухлые. Носик толстоват и слегка приплюснут. Хороший, полный жизни парнишка.
Она пытается разбудить его. Сунув ему в ручку большой палец, она медленно поднимает его, потом отпускает, и он плюхается на мягкое одеяло.
— Эй ты, просыпайся, кушать пора!
Он приоткрывает один темно-голубой глаз. И тут же снова закрывает. Потом зевает, морщит носик и вот уже смотрит спокойным ясным взглядом. Будто и не спал.
Кузнецова жена расстегивает больничную рубашку. Голубоватые вены, извиваясь, бегут по ее могучей, в коричневых пятнах груди. Малыш уверенно находит ртом темный сосок, а его ручка ласково гладит обнаженную материнскую кожу.
Он удовлетворенно вздыхает. Вначале сосок был холодный и от него неприятно пахло ланолином. Теперь же он теплый и живой. Он сосет, и молоко бежит, заполняя его маленький животик.
После того как он отсосал положенное из каждой груди, он срыгнул и со вздохом отвалился. И ручка тоже упала.
И вот он уже снова спит. Маленький обжора.
На другой кровати, тоже стоящей у окна — напротив кузнецовой жены, — лежит тощая парикмахерша со своим бледненьким ребенком. Одна из множества незамужних матерей. В одной только их палате таких трое — Конни. Мария и она. В других палатах их, возможно, еще больше. Клиника таким никогда не отказывает. Такова уж старая традиция.
Справа от парикмахерши лежит Мария. Медсестра перепеленала ее маленькую эскимосочку и подложила ей к груди.
Малышка слабо и нерешительно берет губками сосок. И вскоре выпускает. Достаточно ли ей этого? Мария не уверена.
— Ну, как дела? — спрашивает медсестра. — Не получается, что ли?
Она бросает взгляд на таблицу, лежащую на Марииной тумбочке. Там значится: Суббота, 3-й день, 2310 граммов. Ребенок слишком много теряет в весе.
— Надо сделать так, чтобы она ела, Хансен. Почки должны работать. В первые дни все дети теряют в весе. Но для такого ребенка, как у тебя… Лучше бы она так сильно не худела.
— Но как же мне быть? — Мария в отчаянии. — Я стараюсь, делаю все так, как ты мне велишь, но она моментально устает и отваливается. И я понятия не имею, сколько она высасывает.
— Попробуй сцеживать молоко в бутылочку. Возможно, так ей больше понравится. Из бутылочки им сосать легче. Молоко льется быстрее. И она не будет так утомляться. А мы будем взвешивать ее для контроля.
И медсестра обращается к следующей пациентке:
— Ну, Миккельсен, принимайся за дело!
Миккельсен поднимает со смятой подушки взъерошенную голову. Сестра помогает ей сесть поудобнее и протереть соски.
— Давай сюда поросенка! — говорит Миккельсен с решительным видом.
«Поросенок» визжит и брыкается, но сестра, крепко ухватив его за затылок, заставляет взять сосок.
— Ой, черт, больно же! — стонет мамаша.
Ее соседка справа — пакистанка. В сверкающем шелковом халате, затканном золотой и серебряной нитью, сидит она со своей крупной — 3500 граммов — дочкой на руках. Девочку извлекали вакуумным способом. Темнокожий красивый ребенок с большим темным пятном на затылке.
Пакистанка в полной растерянности. Девочка не хочет сосать из бутылочки с таким трудом сцеженное, драгоценное материнское молоко. Медсестра озабоченно смотрит на них.
Последняя в ряду, в самом дальнем и темном углу палаты, рядом с бельевым шкафом, — женщина по фамилии Сидениус. Легкие золотистые волосы веером рассыпались по подушке. У нее очень хиленький мальчуган, который беспрерывно пищит тонюсеньким голосочком. Сама она вялая, малокровная. Роды у нее были затяжные, мучительные. И теперь она лежит и смотрит в потолок, далекая от всего, что происходит вокруг.
Но в палате есть и еще один человечек. Крошечный черноволосый мальчик. Светло-коричневый мулат. Лежит он здесь один. Заботится о нем только персонал.
А где же его мать? Неужели умерла? Бывают случаи, когда женщина умирает на столе — даже в специальном отделении вроде этого.
Женщины, проходя мимо, косятся на малыша. Но разве можно спокойно смотреть на это красивое темное личико? Бедняжка. Такой заброшенный, лишенный материнской ласки!
Наконец кто-то собрался с духом и спросил у медсестры, почему он тут лежит.
— Его отдадут на усыновление, — объяснила она. — Матери всего четырнадцать лет.
От хорошего настроения Конни не осталось и следа. Во время утреннего обхода врач услышал у ее дочки вроде бы какой-то неясный хруст в бедренном суставе. И теперь ей предстоит обследование в ортопедическом отделении. Возможно, малышке придется наложить шину.
В одной из соседних палат Конни видела такого ребенка.
Из-за шины ножки у ребенка, согнутые в коленях, разведены в стороны и закреплены в таком положении. Эту шину придется носить три месяца. Тогда сустав выправится и ребенок не будет хромать — вроде как Миккельсен, когда она ковыляет по палате.
Но у ребенка с этой шиной такой жалкий, уродливый вид!
Конни ест томатный суп. Полная ложка застывает в воздухе. Крупные слезы бегут по щекам.
— Да не расстраивайся ты так, — говорит сестра. — Ну обследуют твою девочку специалисты. Трое из четверых, которых мы туда посылаем, возвращаются, уже наверняка зная, что у них все в порядке. Мы это делаем просто для страховки.
Через полчаса явился шофер такси и забрал их. Медсестра уложила ребенка в специальную сумку. Конни надела свою кожаную куртку и пошла за шофером. И они поехали на Блайдамсвей к специалистам.
Врач по лечебной физкультуре в свободной белой блузе и темно-синих брюках стоит посреди палаты и объясняет, как важно для женщины после родов делать гимнастику и понемногу восстанавливать форму.
— Помните, — говорит она, — что мышцы тазового дна во время родов подвергаются сильной нагрузке.
На одной руке у нее не хватает двух пальцев. Интересно, она так и родилась без пальцев?
Мария лежит на спине, одна ладонь на диафрагме, и осторожно сгибает колени.
— Не разводите резко ноги. У тех, кого зашивали, могут лопнуть нитки. А то и вообще швы разойдутся. Так. Теперь вытяните ноги, скрестите их, подожмите пальцы и напрягитесь.
Врач оглядывает пациенток.
— Напрягайтесь медленно и спокойно, так, раз-два-три-четыре-пять, и теперь на выдохе расслабьтесь. Правильно. Представьте себе, что ваша матка — лифт, который поднимается на первый-второй-третий-четвертый-пятый этаж.
Фру Хольм кряхтит. Ей никак не удается справиться с лифтом. Жена кузнеца смеется. Она нажала не на ту кнопку.
— Вы должны делать эти упражнения где угодно и когда угодно. Когда ложитесь днем отдохнуть. Дожидаясь на остановке автобуса, моя посуду…
— Придется подключить и мужа! — восклицает жена кузнеца. Она вот-вот лопнет от смеха.
Во время полуденного отдыха к парикмахерше приходит консультант по социальным вопросам с красной лентой в волосах. Она придвигает стул к изголовью кровати. Женщины долго шепчутся. Фру Хольм навострила уши, пытаясь уловить, о чем там речь. А речь идет о субсидии, пособии и о том, что надо подать заявление.
Парикмахерша получает бумагу, которую и подписывает неверной рукой.
Потом консультант обращается к Марии:
— Вам удалось установить отцовство? Это подтверждено?
Конни, счастливая, возвращается со своей дочкой от специалистов.
— Ложная тревога! У девочки все в порядке, шину накладывать не придется.
Фру Хольм, стоя возле раковины, укладывает волосы. Она крутится перед зеркалом так и эдак, вертит головой, осматривая себя со всех сторон, легонько подправляя кудри кончиками пальцев. Потом надевает на волосы тонкую сеточку и между делом изрекает:
— В том-то и весь ужас, что мы для них — подопытные кролики!
Мария рывком поднимается на локте.
— Сигне! Как я рада тебя видеть!
Черное кимоно склоняется над ней, и Мария чувствует прикосновение тяжелого тугого живота Сигне к своему, пустому, опавшему.
— А где малышка? — Сигне оглядывается.
— Да вон она.
Сигне подходит, наклоняется и рассматривает спящего ребенка.
— Ты не поверишь, как я обрадовалась, когда узнала, что у тебя все прошло хорошо. А какая она миленькая!
Всякий раз, когда хвалят ее малышку. Марию охватывает радость и гордость. Никогда прежде не испытывала она подобного чувства.
— Но она сильно теряет в весе.
— К счастью, вы здесь в хороших руках.
Мария откинулась на подушку и смотрит на Сигне. Волосы у нее отросли, но по-прежнему торчат в разные стороны. Лицо бледное. Она кажется здесь такой одинокой, чужой. Марии вдруг стало жаль ее. Ее подруга все еще там, в том тоскливом мире, где живут ожиданием родов.
Мария дотронулась до ее руки.
— Ну а как там, в нашем старом отделении?
— Завтра меня выписывают. Ребенок наконец набрал нужный вес, — говорит Сигне, шлепнув себя по животу. — Между прочим, Линду снова положили.
— Линду?
— Да. Ты как-нибудь соберись, сходи к ней, пока тебя не выписали.
— Обязательно схожу.
— А куда ты поедешь, когда выпишешься?
— В Ютландию. К родителям — пока буду в отпуске с малышкой.
Мария уже видит себя на палубе парома с плетеной корзиной в руках. В корзине спокойно спит ее ребенок. Дует ветер. По Большому Бельту бегут волны, отороченные белой пеной.
— А как у тебя отношения с матерью?
— Нормально, — отвечает Мария. — Вполне нормально. И с отцом тоже.
Сигне кивает. Пальцы ее нервно бегают вверх и вниз по кимоно. Ей хочется курить. Потом она говорит:
— Знаешь, одна мысль не дает мне покоя. Я часто думаю, почему так плохо складываются отношения между дочерью и матерью. Ты меня понимаешь? Оглянись вокруг. Правда ведь, что большинство женщин, которых мы здесь встречаем, с родителями в таких отношениях, что им друг на друга наплевать. При этом все ведь они рассчитывают, что со своими-то детьми у них все будет хорошо. Надо, конечно, надеяться…
— Вообще-то вряд ли они так уж в этом уверены.
— Есть у меня нехорошее подозрение, что все плохое достается нам по наследству и что, отделяясь от родителей, мы прихватываем его с собой.
Она теребит в руках кушак кимоно.
— А по-моему, — вполголоса говорит Мария, — некоторым просто трудно признаться, что у них с родителями хорошие отношения. Еще подумают, что ты маменькина дочка, а не самостоятельная личность.
— Нет, это наше время виновато в том, что молодые не ладят со стариками. Недооценивают роль старших. Их опыт. Нам это, видите ли, ни к чему. А в результате сплошные несчастья. Ну вот как ты себе представляешь, все эти женщины, что лежат здесь… — Сигне обвела взглядом палату, — …все эти женщины и их мужья, каково им будет, если нет у них поддержки, если не смогут они опереться на кого-то более опытного, кто действительно любит своих косолапых отпрысков? Любить — вот чему надо научиться. Этому мы учимся у своих родителей, и это умение передаем дальше своим детям. Не так это просто. — Она улыбается. — Слушай, а говорят, гренландцы очень чадолюбивы.
— Да, — отвечает Мария, тоже улыбаясь. — Так говорят.
— А что ты думаешь делать дальше? Вернешься в свой детский сад?
— Собственно, я хотела бы продолжать учиться. Мне, правда, уже двадцать восемь… но мне бы хотелось окончить педагогические курсы. А лучше всего, конечно, Педагогический институт, если удастся. И если это возможно при наличии ребенка.
— Твой друг тоже на педагога учится?
— Да. Мы даже подумывали о том, чтобы работать потом вместе в Гренландии.
Мария закинула руки за голову.
— Знаешь, Сигне, теперь я лучше понимаю то, что ты мне однажды сказала еще там, в патологическом отделении. Помнишь? Что когда появляются дети, мир сужается, но при этом становится более насыщенным. Я уже чувствую, что мой мир сузился, что он может вместить в себя только этого ребенка и ничего больше. И знаешь, что меня мучит — что раньше я таких вещей не понимала. И никогда особенно женщинам не сочувствовала. Меня гораздо больше интересовали мужчины. Теперь я впервые начинаю понимать других женщин.
— А помнишь Тенну? Вот бедняга…
День на исходе, и мрак зимней ночи просачивается в отделение, изгоняя свет.
Кузнецова жена прогуливается по палате со своим малышом. Обходит пеленальный стол, подходит к раковине, потом — вдоль ряда кроватей к окну. Вот она берет его ручку и целует.
— А ты как сюда попала? — спрашивает ее Мария.
— Понимаешь, у нас трое ребятишек, и нам ужасно хотелось еще одного, но у меня случилось подряд два выкидыша. Я прямо с ума сходила. Вот и направили меня в больницу. И здесь мне помогли с нашим младшеньким.
Она влюбленно смотрит на своего крепыша.
— Мне прямо кажется, что это они мне его подарили.
— Вас так много, а как у вас с жильем?
— У нас трехкомнатная квартира.
— И вы сможете там поместиться — шесть человек?
— Ну и что! Конечно, поместимся. А вообще-то родители мужа живут поблизости, и двое старших почти все время у них. Там и обедают, и делают уроки, и ночуют. Так что никаких проблем с нашими чертенятами у нас нет. И с этим тоже не будет.
Она идет к пеленальному столу. У нее мощные икры и круглые ягодицы заметно выступают под больничной рубашкой. Каштановые волосы рассыпались по плечам.
Сияющими глазами смотрит она на своего сына, который барахтается на синтетической подстилке.
Входная дверь почти не закрывается. Посетители валом валят.
Часы посещения в послеродовом отделении всякий раз превращаются в народное гулянье. Когда это происходит дома, это очень утомительно. Здесь же наоборот: нет надобности убирать и заботиться о еде и питье для гостей. Здесь существуют правила внутреннего распорядка, они служат женщинам надежной защитой.
Интересно смотреть на посетителей. Будто заглядываешь в чужую жизнь. И до чего же мужья и жены схожи между собой. Просто удивительно. Коротенькие, коренастые женщины, например, явно предпочитают коротеньких и коренастых мужчин. Рыбак рыбака видит издалека. Пожалуй, этот закон действует даже в большей степени, чем представлялось Марии. Но самое поразительное, что, стоит взглянуть на супругов, когда они вместе, сразу видно, к какому кругу принадлежит эта семья. Классовые различия, которые нивелируются в больничной обстановке, немедленно проявляются с приходом мужей.
Социальная принадлежность супружеских пар легко определяется по одежде мужа, по его лицу, зубам и рукам, по цветам и подаркам, по манере говорить.
Рабочий ли класс, среднее сословие или высший класс — мать и дитя могут удостоверить свой статус только с появлением отца.
Господин Хольм получил от персонала разрешение привести на короткое время двух дочек — восьми и шести лет. И вот они, только что подстриженные и гладенько причесанные, в голубых, аккуратно застегнутых пальтишках, стоят у изножья материнской кровати. Их разбирает любопытство, и они все пытаются приблизиться к своей маленькой сестричке, но всякий раз команды матери приковывают их к месту.
— Не лезь! Не трогай ее! Не кашляй в кроватку! Оставь ее в покое и вытри нос!
И они стоят тихо, как мышки, прижавшись друг к другу и едва осмеливаясь дышать.
Соседку Марии, тощую парикмахершу, пришла навестить ее мать. Они оживленно перешептываются.
Мать вдруг неосторожно повышает голос:
— Ну, может, теперь вы все-таки поженитесь?
— Мама! — Парикмахерша испуганно оглядывается по сторонам.
Вокруг кровати пакистанки собралось живописное общество. У мужчин на лоб падают темные волосы. На одном из них канареечно-желтая рубашка, на другом — ярко-красная, на третьем — голубая. Пожилая, одетая в черное женщина осторожно держит на руках новорожденную, баюкает ее.
Спиной к пакистанской семье и вообще ко всем в палате сидит муж Сидениус.
Он взял было ребенка, немножко подержал и положил обратно. Он смотрит на жену. А она смотрит в потолок. Оба молчат.
Эва, привалившись к спинке Марииной кровати, держит на руках свою племянницу, завернутую в клетчатое одеяльце.
Она легонько дует ей в закрытые глазки и видит, как вздрагивают реснички. Она насвистывает какую-то мелодию, и ребенок явно реагирует на звук. Она дает малышке указательный палец и чувствует ее слабенькую хватку на верхней фаланге пальца.
Девочка явно устала, но все органы чувств у нее функционируют нормально.
— Тебе не кажется, что она желтеет? — спрашивает Мария. — Меня это очень беспокоит.
— Да не волнуйся ты. Вот увидишь, через пару дней она придет в норму.
Эва гладит малышку по головке. Но что она понимает в таких делах!
— Представляешь, наша женская группа начала действовать, — оживившись, громко заговорила Эва. — Нас уже шестеро! Безработная с фабрики королевского фарфора, две девушки из Кристиании, медсестра и одна студентка. Это так здорово! Каждый четверг вечером мы встречаемся у кого-нибудь из нас. Может, и ты к нам придешь — когда тебя выпишут?
Но Мария ее не слушает.
— Ты не пошлешь телеграмму Захариасу — сразу же, как выйдешь отсюда, ладно? Вот у меня текст. Он живет в отеле в Хольстейнсборге. Тут и адрес.
Какое облегчение — посетители наконец удалились.
Маленький сиротка-мулат лежит на спине и недовольно кряхтит. Нет для него переполненной молоком груди. Он беспокойно машет ручками. Ротик жалостно кривится, но в глазах слез нет. Просто он хочет, чтобы кто-то взял его и приложил к груди.
Фру Хольм, широко расставив ноги, стоит возле него.
— Потаскушка! Ей надо вообще запретить производить на свет детей!
И она заковыляла к своей кровати.
— Ох, у меня такой ужасный геморрой!
— Я думаю, вам нужно показаться врачу, фру Хольм, — говорит медсестра.
— Да-да, — скорбно кивает фру Хольм. — Вы не перепеленаете мою малютку? — говорит она. — Она снова напачкала, а я уже не в состоянии!
Двумя длинными рядами, освещенные лишь светом настольных лампочек, сидят или лежат женщины в белых больничных рубашках. Одна поднимает голову и кивает вечерней медсестре. Другая возится с молокоотсосом. Третья погасила лампу и улеглась спать. Четвертая кормит младенца. Пятая и шестая любуются своими чадами, барахтающимися на одеяле. Седьмая читает еженедельник. Восьмая сидит у девятой на кровати, между ними идет доверительная беседа.
Палата — как фонарь в ночи. Золотистый, колышущийся.
Фру Мархен Хольм намерена сообщить Миккельсен что-то ужасно важное. Она обращается к ней через голову Конни, будто той вообще не существует. Но Конни это ничуть не смущает. Ей и невдомек, что можно было бы протестовать, что вообще можно кому-то что-то запрещать или разрешать.
Она просто живет. Живет, как трава растет. Лежа здесь со своей новорожденной дочкой, вдыхая ее аромат, она испытывает какое-то неосознанное чувство благоденствия. Она не задумывается, почему ей так хорошо и уютно. Просто так оно есть, вот и все.
Когда ее выпишут, она вернется к своим родителям, к сестре и младшему братишке. Отец с матерью со всем справятся. Как обычно, без сантиментов.
— Так вот, у себя на вилле в Биркерёде, — продолжает фру Хольм, — я занималась хозяйством, вела дом, убирала комнаты у девочек. Но по большому счету этого все-таки недостаточно, так ведь? Вот я и подумала, что, если у нас родится еще малыш, тогда у меня всегда будет чем занять себя. Мы задумали мальчика. И когда родилась девочка, я так прямо и сказала акушерке: я хочу ее обменять! Это не мой ребенок.
С полуночи и до шести утра все детские кроватки стоят в ряд в коридоре, и лишь самых слабеньких и только что родившихся завозят в дежурку. Над изголовьем у них натянуты пеленки, чтобы свет от торшера не резал глазки.
Ночная сестра разговаривает по телефону, на столе перед ней дымится чашка с кофе. Молоденькая долгоногая нянечка меняет пеленку маленькой пакистанке.
Какая тишина в коридоре! Мария медленно идет от кроватки к кроватке, заглядывая в каждую. Вот лежит длиннолицый ребенок с розовыми щечками и светлыми бровями. А этот великан лежит на животе, кулачки по обе стороны покрытой пушком головки. А дальше знакомый ей сиротка-мулат с красивыми пухлыми губками на светло-коричневом лице.
Дыхание их совершенно беззвучно, но все-таки заметно, что они дышат. Они отдыхают в безмятежном сне, уносимые волнами своих таинственных, неведомых нам, младенческих сновидений.
Все эти дети рождены за последние пять-шесть суток. И у всех значительные серьезные личики новорожденных.
Вот они лежат здесь — крошечные, хрупкие, — целиком во власти взрослого мира, где им отныне предстоит жить.
А лет через тридцать именно им придется держать штурвал общественной жизни.
Матери положили на красные и синие клетчатые одеяльца маленькие записочки. На одной: «Попка воспалена», на другой: «Разбудите, пожалуйста, мою маму в 2 часа, она сама будет меня кормить». У маленького великана с пушистыми волосиками английской булавкой приколот листочек бумаги со следующим текстом: «Спасибо, никакого прикорма не нужно, будьте добры взять в холодильнике мое грудное молоко».
Но вот Мария услышала знакомый звук. Это ее малютка, скулит, бедненькая. Она бы различила голос своей дочки среди любых звуков. Как и каждая мать. Антенны всегда настроены на нужную волну.
Надо все это получше запомнить, думает Мария. В Париже-то я, может, и побываю еще раз. А вот это — это не повторится никогда.
Что за черт! Кто-то теребит ее за плечо. Кругом кромешная тьма. Все спят. Кто же это?
Она садится в постели. Голова тяжелая. Между ногами, чувствует, слиплось.
— Ты оставила записочку, чтобы тебя разбудили, — шепчет черная тень. — Хотела сама покормить свою малышку. Ты не раздумала?
Так странно слышать этот шепот.
Мария смотрит на свои часики. Два часа. Все правильно. Она хотела сама покормить дочку.
Она сбросила ноги с кровати, нащупала на холодном полу босоножки, на спинке стула — халат. Потом осторожно прошла следом за нянечкой мимо спящих, укрывшись под одеялами, женщин.
В коридоре большое оживление. Вот уж чего Мария никак не ожидала. Даже если до нее и доносились иногда по ночам неясные звуки, подобные отдаленному зову с противоположного берега, ей никогда не приходило в голову, что в коридоре идет такая бурная жизнь.
Большинство детей не спят и явно голодны. Они ворочаются в своих кроватках, размахивают ручками, чмокают, хнычут. Двое плачут. Миккельсеновский «поросенок» Робин вопит громче всех.
Ночная сестра снует от ребенка к ребенку, меняет пеленки, простынки, сует бутылочки с молоком, с подслащенной водой и следит, чтобы они вовремя отрыгнули воздух.
— Послушай, — говорит Марии молоденькая нянечка. — Пошла бы ты с ребенком в гостиную. Там тебе никто не будет мешать.
Она нашла нужную кроватку и прикатила ее в темную комнату, где слегка пахло табачным дымом. Они не стали зажигать свет, удовольствовавшись тем, что падал из коридора в раскрытую дверь.
Мария опустилась на низенький диван, расстегнула рубашку и прижала к себе маленький сверточек.
— Ну, давай соси, малышка.
Но малышка не желает открывать рот. Она отворачивает головку, словно умоляя не беспокоить ее в такой поздний час.
Нянечка черным призраком маячит на фоне освещенной двери.
Мария нервничает.
— Ты не поможешь мне? — шепчет она.
Призрак присаживается на диван и холодной неопытной рукой берет грудь Марии. Другой рукой она пытается придержать головку ребенка. Но ребенок не хочет просыпаться, хоть ты тресни! Не хочет брать грудь. Вообще ничего не хочет!
Была бы здесь ночная сестра, думает Мария, уж она-то знает, что надо делать. Но у нее и без меня забот полон рот. Неудобно ее отрывать.
— Крошечка моя!
Ребенок делает слабое движение протеста. Мария не знает, как ей быть. А нянечке, видимо, все это уже надоело.
Мария качает головой.
— Бесполезно. Идем, у тебя есть другие дела.
Они поднялись одновременно. Мария положила ребенка в кроватку и повезла на место.
Ночная сестра даст ей чего-нибудь. Сладкой водички или прикорма. Не оставят же ребенка голодным.
И Мария тихонько крадется в темноте к своей кровати.
12 января, воскресенье
Небо темно-серое. Пока убираются постели и моются полы, пациентки лежат с градусниками во рту.
У Марии сегодня день невезенья. Для начала она уронила на пол градусник. Пришлось медсестре сметать в совок пляшущие серебристые шарики ртути. Затем она ухитрилась сунуть новый градусник в чашку с чаем, так что он показал 42°.
Уже с самого утра было видно, что Миккельсен воскресла. Да еще как! Едва проснувшись, она начала носиться по комнате. От раковины к шкафу с бельем, мимо пеленального стола к окну. Походка у нее моряцкая. Из-за давней травмы бедра она переваливается на ходу с боку на бок. Она хватает своего мальчика, резко отстраняет его от себя, так что у него головка дергается, потом страстно целует прямо в губки. Поросенок! Мамин маленький поросеночек!
Персонал доволен. Они восхищаются жизненной активностью Миккельсен.
А Миккельсен одалживает у них большую коробку с бигуди, похожую на огромный ларец для драгоценностей, выстланный красным атласом. Стоя над раковиной, она заботливо накручивает прядь за прядью на сантиметровой толщины металлические цилиндрики.
Она смакует предположительные имена своего сыночка: Рольф Миккельсен. Робин Миккельсен — какое лучше звучит? В конце концов, можно бы назвать его и Рене.
Дети взвешены, умыты, перепеленуты. Дочка Марии сбавила вес до 2260 граммов. Медсестра посмотрела на нее долгим взглядом и сказала, что необходимо заставить ее поесть, хочет она того или нет. Она явно желтеет.
Мария и сама это видит. Развивается желтуха. Девочка похожа на индианочку — золотистая, тоненькая, длинненькая.
Медсестра придвинула стул к кровати Марии, взяла бутылочку со сцеженным молоком и уселась поудобнее с ребенком на руках. Мария лежит на боку, запустив руку в волосы, и наблюдает за ними. Девочка давно уже не открывала глазки. Она все время спит и ничего не хочет, даже есть.
Мария не знает, что и думать.
По прошествии четверти часа ребенок сумел высосать не более 20 граммов молока, и медсестра сказала:
— Я посоветуюсь насчет нее с одной моей коллегой.
20 граммов? Столько же, кажется, весит письмо, отправляемое авиапочтой.
А вдруг она так вот полежит-полежит и умрет? Мария вся похолодела. Ребенок, который с таким трудом благополучно преодолел все препятствия и появился на свет, не может же он ни с того ни с сего отдать Богу душу уже здесь, в послеродовом отделении!
Медсестра подходит к кровати пакистанки. Малышка, как обычно, с плачем откидывает назад головку, отказываясь сосать молоко из бутылочки.
Медсестра протягивает руку.
— Дайте-ка я посмотрю бутылочку.
Пакистанка подает ей бутылочку.
— Нет, такого я еще не видала! В соске же нет дырки.
Миккельсен перед зеркалом снимает бигуди и укладывает их обратно в красивую коробку. Она такая низенькая, что видит в зеркале только свою макушку.
Переваливаясь, она подходит к тумбочке, вынимает лак для волос и обрызгивает свою прическу. Потом садится на кровать и покрывает лаком ногти на ногах. Растопырив пальцы, она говорит своему сокровищу:
— Ну-ка, поросенок, хватит орать.
«Поросенок» вопит громче всех в палате. И Миккельсен этим гордится. У парня есть характер, ничего не скажешь.
Удобно устроившись, положив под спину большую подушку, она достает из ящика губную помаду и проворно, опытной рукой обводит рот яркой блестящей краской.
Потом она сжимает губы, заложив между ними бумажную салфетку, и одновременно подталкивает ногой детскую кроватку, пытаясь заставить своего «поросеночка» помолчать.
После всего этого, довольная, при полном параде, она в счастливом ожидании откидывается снова на подушку и оглядывает палату.
Воскресенье для рожениц — праздничный день. Двери поминутно открываются, и гости вваливаются в палаты с цветами, с подарками, то тут, то там сверкают фотовспышки и слышатся смех, шутки.
Тощий мужчина с лошадиным лицом вступает в палату. На нем коричневый свитер с белыми зигзагами, коричневые брюки и огромные коричневые башмаки.
Он обнимает Миккельсен, и она поднимается с кровати. Своей коротенькой тощей рукой она обхватывает его угловатые бедра, а он кладет мосластую руку ей на плечи. И они направляются к двери, не в ногу, толкаясь друг о друга, как корабль о причал.
Он наклоняет свое лошадиное лицо и смотрит ей в глаза, и вскоре в уголке уютной гостиной ярко накрашенные губы сливаются с его узкогубым ртом.
Разговоры, восклицания и смех не умолкают в палате № 1. Гости плотным кольцом окружают каждую женщину. И болтают, болтают, не закрывая рта.
Но больше всего гостей, конечно, у Мархен Хольм.
Четырнадцатилетняя родственница с материнской стороны, взглянув на ребенка, поворачивается на каблуках и рассеянно смотрит в окно. Подруга с толстой шеей и толстыми руками, в сшитом на заказ коричневом пальто, кидается на бессловесную новорожденную, поминутно взвизгивает, вскрикивает и от избытка чувств чуть не приплясывает на больничном полу.
Мать и свекровь, обе в черном каракуле, склонив голову набок, с умилением смотрят на душку Мархен, тихонько вздыхают и приговаривают:
— Нет, она просто восхитительна!
А господин Хольм стоит в сторонке, смущенно прижавшись к батарее и время от времени поправляя галстук.
Душка Мархен просто завалена подарками. Розовая и голубая шелковая бумага валяется под кроватью. Большой резиновый слон с бантом на шее надут и установлен на подоконнике рядом с бесконечными букетами.
Маленький Робин Миккельсен весь извертелся в своей кроватке. Родители покинули его. Мария наклоняется над ним и дает ему соску. Маленькие сморщенные ручки яростно молотят воздух. Соска — первый суррогат в его жизни, позже их будет еще очень много.
Кузнецова жена просияла и отложила вязанье.
В дверях показался ее муж. Среднего роста, крепко сбитый, в синем дождевике, с зонтиком под мышкой. Лицо у него широкое, волосы коротко острижены. Она встает с кровати и протягивает к нему руки. Он вешает зонтик на батарею, ущипнув по дороге жену за ягодицу. Она бьет его по пальцам. Тогда он хватает ее и влепляет влажный поцелуй в ее жаркий рот.
У маленькой Конни гостей нет. Она поднесла еженедельник к самому лицу и с интересом изучает объявление на последней странице, но при этом краем глаза наблюдает за Мархен Хольм и ее посетителями.
Всего за 7.50 в неделю Вы можете изучить английский язык.
О, это как раз то, что нужно.
Многим и многим предпринимателям требуются работники со знанием английского языка. Если Вы хотите больше знать по своей специальности или о своем хобби, лучшая специальная литература почти всегда на английском. Есть единственный язык, на котором можно объясниться почти в любой стране. Этот язык — английский. Напишите нам, и мы вышлем Вам нашу брошюру «Изучение английского по современной методике». Бесплатно, без почтового сбора и без всяких обязательств с Вашей стороны.
Во всяком случае, стоит попробовать, думает она. Что-то надо делать. Ведь у меня теперь ребенок.
Медсестра стоит у Марииной кровати.
— Я посоветовалась, и мы думаем, что, пожалуй, лучше положить твоего ребенка в отделение для новорожденных.
У Марии комок стал в горле.
— Она становится пассивной. И за желтухой нужен контроль. Мы могли бы и сами справиться, но у нас здесь не хватает персонала.
Все поплыло у Марии перед глазами. Она смотрит на крошечную неподвижную фигурку в кроватке. Как ее положили, так она там и лежит.
Мария чувствует, что все в палате уставились на нее. Все гости фру Хольм замолкли, обернулись и смотрят на нее.
— Что, прямо сейчас, да? — шепчет Мария.
Медсестра, наклонившись, толкает кроватку. Мария шагает рядом, стараясь не отставать, — в своем белом мятом халате, белых гольфах и белых пластмассовых босоножках. Они входят в лифт. Там ледяной холод. Спускаются вниз, выходят в длинный, выкрашенный белой краской подземный переход, который тянется подо всей клиникой. Они поворачивают налево, долго идут, потом поворачивают направо, навстречу им попадается каталка, они доходят снова до лифта, поднимаются на два этажа. Это то самое здание, где Мария лежала в патологии и в родильном отделении. Она знает его вдоль и поперек.
Выйдя на лестничную клетку, они оказываются перед широкой дверью, на которой написано «Отделение для новорожденных. Посторонним вход воспрещен». Они входят и тут же останавливаются в маленьком уютном коридорчике с низким потолком. По одну сторону кухня, где крупная полная женщина моет бутылочки, по другую — две узкие застекленные двери. Видно, что за одной из них комната, где стоят детские кроватки, за другой — комната с кувезами.
Мария и медсестра стоят перед незнакомым человеком.
— У нас здесь малышка трех дней от роду, обезвоженная и с высоким билирубином.
— Понятно. Мы ею займемся.
И ребенка забирают. Дверь за ним закрывается. Через минуту Мария получает листок бумаги, на котором напечатано на восковке:
Фру… дальше шариковой ручкой вписано Нансен. Ваш ребенок помещен в отд. ГН под номером ГН 29 — цифра тоже вписана от руки. Детей можно навещать ежедневно 11.30–12.00. Кроме того, разрешается одноразовое посещение родственников в первой половине часа, отведенного для посещений. Справки по телефону можно получить от 3.00 до 20.00. С уваж…
Там написано «Фру Нансен». Ее-то фамилия Хансен. Но какое это имеет значение? Медсестра дала понять, что им пора возвращаться, здесь им больше делать нечего. Мария подтянула гольфы, и они молча, словно две тени, двинулись по бесконечному белому туннелю обратно в послеродовое отделение.
Мария все твердит себе, что так даже лучше. Слишком велика ответственность.
Но при этом она не может отделаться от мысли, что в кармане у нее свидетельство о смерти.
Опустив голову, Мария бесцельно слоняется по отделению в своем мятом белом халате и белых босоножках. Как ужасно болят ребра! Больше, чем раньше.
То и дело щелкают дверцы холодильников. Монотонно жужжат молокоотсосы. На этом фоне особенно звонко и весело звякает стеклянная посуда.
Держась за стену, в гостиную вползает съежившаяся под синим халатом пациентка — видимо, после кесарева сечения.
Двери во многих палатах распахнуты. Послеродовое отделение вдруг представилось Марии судном, которое сильно накренилось и вот-вот опрокинется. Оно вдруг утратило для нее все свое очарование.
Теперь она видит лишь все тех же, уже порядком ей наскучивших мамаш, все в тех же неизменных позах, все с теми же детьми на руках.
Мария чувствует, что дошла до точки. Клубы табачного дыма поднимаются над кабинами туалета, как условные сигналы. Она идет в душевую — а чем еще ей занять себя?
От теплой воды раскрылись затворы в груди, и слабая белая струйка молока потекла по коже. Мария вытерлась белым полотенцем. Надела чистую рубашку. Хотя кому все это нужно?
Вечерняя медсестра, которая сказала Марии, что она похожа на сбежавшую из психушки, помогает ей справиться с молокоотсосом и показывает, как подписать пластмассовую бутылочку — фамилия, номер и число, — после чего бутылочку надо поставить в холодильник.
Затем медсестра направляется к кровати фру Хольм.
— Повернитесь, пожалуйста, ко мне спиной.
Фру Хольм как раз читает рецепт теста для запекания омаров. Пшеничная мука, растительное масло, вода, дрожжи, взбитые белки с солью и перцем. На одну пачку омаров вполне достаточно теста из ста граммов муки. Она откладывает журнал «Блюда для гостей», поворачивается на бок и заголяет свою нежно-розовую заднюю часть.
— Но у вас же нет никакого геморроя!
— Как это «нет»?
Фру Хольм рывком вскакивает на кровати, бросая разъяренный взгляд вслед медсестре, но та уже закрыла за собой дверь.
Испания переживает волну забастовок на ряде крупных предприятий, несмотря на сильное противодействие властей. Взгляд Марии скользит по страницам газеты. Она прочитывает заголовки и первые две строчки из каждой статьи, пропуская слова мимо сознания, не вникая в то, что там написано.
Член фолькетинга Ларс Эмиль Йохансен стал абсолютным победителем на выборах в Гренландии. Он единственный из четырех кандидатов после подсчета голосов с уверенностью…
Что-то скажет Захариас, узнав, что стал отцом? Одному Богу известно, имеет ли это для него какое-нибудь значение. Может быть, лучше им сразу же поселиться вместе? Найти какую-то коммуну, где можно было бы жить. Теперь она уже не уверена, что сумеет одна справиться с новыми заботами.
Воскресная распродажа. Продаются два абиссинских котенка (пол женск.). Прекрасная родословная. Обращаться по телефону…
Неужели из ее ребенка когда-нибудь получится человек?
Авиация США ведет бомбардировки в Южном Вьетнаме. (Сайгон. Агентство «Рейтер».) В прошлую пятницу южновьетнамские освободительные силы уничтожили более 5 миллионов литров горючего на нефтехранилище близ города Плейку. В пятницу около часу дня подверглась ограблению бутербродная на Нёрреброгаде, 153, двум официанткам пригрозили ножом…
Мария стоит в коридоре перед темным окном. Положив руки на широкий подоконник, она рассеянно смотрит вниз на смутные очертания невысоких зданий. Из гостиной слышится какая-то болтовня по телевизору.
— Послушай, Мария, тебе надо бы сходить в детское отделение и отнести молочка твоему ребеночку.
Мария резко оборачивается. Это вечерняя дежурная.
— Можно, да?
— Ну конечно. Ты сама найдешь дорогу?
Мария кивает. Лезет в холодильник, достает свою малюсенькую бутылочку с фамилией, номером и числом, опускает ее в карман, где лежит «квитанция» на ее ребенка, подтягивает гольфы и входит в холоднющий лифт.
Длинный белый туннель уходит куда-то в бесконечность, становясь все уже и уже, и где-то совсем уже вдалеке кончается маленьким черным пятнышком. Прямо кротовый ход. А как здесь пусто! Мария ощущает чей-то сверлящий взгляд у себя на затылке, круто оборачивается, сжимая в кармане бутылочку. Никого! Это страх холодными глазами впивается ей в спину.
Время от времени то вправо, то влево отходят боковые ходы. На стене указаны номера — код, который надо знать, чтобы не заблудиться.
Впереди нее санитар, насвистывая, везет пустую каталку. С каталки свешивается мятое постельное белье. Санитар идет гораздо быстрее, и свист его затихает — как если бы на проигрывателе постепенно приглушали звук.
Руки и ноги у Марии мерзнут. Она потуже затягивает пояс своего белого халата, стараясь сохранить остатки внутреннего тепла.
И вот она в по-вечернему тихом отделении для новорожденных. Малыши спят в своих кроватках и кувезах. Полумрак. Сквозь стекло она видит неясные контуры проскользнувших мимо двух фигур в белом.
В руке у нее бутылочка с пятьюдесятью граммами желтоватого сцеженного молока, которую она неуверенно держит перед собой.
У вечерней медсестры бледное овальное лицо, белые зубы, светлые волосы и голубые глаза. Она очень тоненькая и ростом поменьше Марии.
— Вы хотите повидать своего ребенка?
— Ну конечно!
— А какой у него номер?
— Двадцать девять.
Медсестра исчезла в низенькой уютной комнате, где детишки спят в кроватках, и вскоре вынесла в коридор под холодный электрический свет маленький белый сверток.
Мария принимает ребенка в объятия. Он ничего не весит. Кажется, в руках у нее трепещущий птенчик.
Полная тишина. Ничто не шелохнется.
Мария смотрит, не отрываясь, на крошечное темноволосое существо. Неужели из тебя когда-нибудь вырастет настоящий человек? Выйдешь ли ты отсюда живой?
Девочка открыла глазки и смотрит на нее.
Мария целует ее ротик. Кончиками пальцев легонько касается ее лица и волосиков, словно читая книгу по методу Брайля.
Потом она возвращается по длинному белому кротовому ходу. И думает о Тенне. О Тенне, которая приносила полноценное темно-желтое молоко своему малышу, лежавшему здесь в кувезе. Маленькому человечку, ножки которого доходили только до щиколоток. Его перевели в больницу на Фуглебаккен, поближе к дому родителей.
Сколько же раз проходила Тенна по этой белой трубе и утром, и вечером, чтобы самой поухаживать за своим несчастным ребенком!
Если она могла, так уж мне-то грех жаловаться, думает Мария, а слезы так и бегут по щекам.
Ночи в больнице — мерцающий черно-белый негатив. И так одиноко чувствуешь себя, несмотря на спящих кругом женщин.
Мария лежит, подложив руки под голову и уставясь в черный потолок.
Потом натягивает на голову одеяло и разражается слезами. Она плачет совсем беззвучно, чтобы не разбудить соседок. Она плачет, и плачет, и плачет, изливая слезы в мягкую белую ткань пододеяльника.
Раньше ее ребенок плавал во всех этих чертовых водах, а теперь пожалуйста — обезвоженность.
Чего только она от меня не натерпелась, бедное создание!
Похоже, сегодня ночью упали строительное леса, рухнули и рассыпались стены. Прорвалась плотина, и вырвались наружу мучительное напряжение и страхи, терзавшие ее последний месяц.
Здесь, в укрытии, под одеялом, в ночь с воскресенья на понедельник пали все оборонительные сооружения.
13 января, понедельник
Утром старшая сестра, как обычно, переходит от кровати к кровати и разговаривает с каждой пациенткой. Сегодня она в красных гольфах.
Что случилось? Кузнецова жена, крепкая цветущая женщина, и вдруг вся в слезах.
— Ну-ка, давай я посмотрю, — говорит старшая сестра. Кузнецова жена встает с постели, расстегивает рубашку, обнажая массивные, в коричневых пятнах груди, набухшие и горячие. Из правой и из левой каплями бежит молоко и стекает вниз по крепкому телу.
Кузнецова жена утирает нос тыльной стороной руки, а сестра тем временем ощупывает у нее подмышки.
— Ну уж с молоком-то у тебя полный порядок. Ты могла бы накормить целое отделение.
— Да, а мне так больно, так больно, и у меня такие схватки каждый раз, как я его кормлю, прямо хоть на стенку лезь!
— Я принесу тебе лекарство, — говорит сестра. — Не расстраивайся, мы тебе поможем.
Чуть позже она подходит к Марии.
— Ну а как дела у тебя?
Какой у нее мягкий и глубокий голос.
А Мария не может вымолвить ни слова и только моргает.
Старшая сестра смотрит на нее спокойно и улыбчиво.
— Может, ты хотела бы в палату поменьше?
— Нет, — шепчет Мария с несчастным видом. — Лучше я останусь здесь.
— Ты не должна так падать духом. Ничего нет страшного в том, что твой ребенок в отделении для новорожденных. Ну, покормят они ее несколько дней через зонд, потом перейдут к кормлению из бутылочки, и тогда ты получишь ее обратно. Мы могли бы справиться с этим и здесь, но такое крошечное существо требует, чтобы кто-то занимался только ею. А там, в отделении для новорожденных, она получает профессиональную помощь, которая ей необходима.
— Но я боюсь ходить туда и смотреть на нее, — чуть не плачет Мария. — Мне страшно подумать, какой у нее вид со всеми этими зондами и трубками…
— Ну так пусть ее навещает твоя сестра. Она же все равно бывает здесь каждый день!
Высокая красивая женщина улыбается. Она, видно, не сомневается, что ребенка надо навещать. Но она не отмела предположения Марии о том, что девочка лежит там вся в зондах и трубках и что это выглядит чудовищно! Наверное, до нее все-таки не доходит, какой это ужас для матери.
— Прежде всего ты должна решить, как лучше для тебя самой. Можешь, например, днем уходить в город и возвращаться только ночевать — если, конечно, захочешь.
Как это было бы здорово! Но законно ли это? Мария вопросительно смотрит на сестру.
— А если ты предпочтешь сейчас выписаться, то, когда твой ребенок наберет пять фунтов, мы примем тебя снова и поможем тебе войти в нормальный ритм.
Ну и ну! Подумать только! Такое огромное заведение — и столько заботы и внимания к каждому отдельному пациенту. Просто в голове не умещается!
— Так что решай, — говорит старшая сестра, а сама уже повернулась к следующей кровати. — Кстати, сегодня у тебя пятый день. А четвертый и пятый дни довольно трудные, в эти дни у женщин часто падает настроение. Это пройдет. И не забудь, на осмотр тебе не сегодня, а завтра.
Можно ли относиться ко всему так спокойно? Так невозмутимо? Переходя от кровати к кровати, разрешать все проблемы. Но, наверное, такой она и должна быть. Только тогда и можно приносить людям пользу.
И едва за старшей сестрой закрылась дверь, как Марию замучило раскаяние. Да как же не стыдно ей было признаться, что она боится увидеть свою собственную дочку?!
Конечно, она пойдет ее навестить.
У нее хватит мужества, что бы там ни было…
За десять минут до половины двенадцатого Мария отправилась в отделение для новорожденных с пластмассовой бутылочкой, в которой было семьдесят пять граммов сцеженного грудного молока.
На «квитанции» указано, что ребенка можно повидать от 11.30 до 12.00, и важно было не потерять ни одной драгоценной минуты.
Она нащупала в кармане заветный листок бумаги и сжала его в кулаке. Как номерок из гардероба, который дает тебе уверенность в том, что твое пальто будет тебе выдано.
В белом туннеле тянет сквознячком. Звуки отдаются, как в пустой бочке. Холодный голубоватый свет падает с потолка на одинокую фигурку, неслышно, точно призрак, скользящую по серому цементному полу.
Этим длинным туннелем идут и идут женщины, которых разлучили с их детьми, потому что крошки по той или иной причине нуждаются в особом наблюдении.
Они идут из послеродового отделения в отделение для новорожденных и обратно. Они идут подземным переходом, потому что здесь все-таки теплее, чем на улице, где дуют пронзительные январские ветры.
Они идут, усталые, съежившиеся в своих домашних халатах. Фигуры их неуклюжи и животы все еще слишком большие. Они несчастны и растерянны. Испытания они не выдержали. Дети у них не такие, как надо. Да и сами они, видно, не лучше. Они потерпели поражение. И чувствуют свое полное ничтожество.
Постоянный страх за ребенка леденит им сердца.
Мария заходит в лифт, поднимается наверх и снова оказывается в маленьком отделении для новорожденных.
В оранжерее, в теплице, где выхаживают новорожденных.
Дверь в кухню распахнута, и видно, как крупная полная женщина вытирает тряпкой руки и устанавливает бутылочки в висячий шкафчик.
Мария робко подходит к двери и заглядывает сквозь узкое окошко в таинственное царство кувезов.
Она видит, как молодые врачи в белых брюках и белых футболках кружат, будто блуждая по незнакомой местности. Им бы еще пробковые шлемы — прямо исследователи земель в далеких тропических широтах. Они двигаются взад и вперед в парной атмосфере этой теплицы, оберегая чуть проклюнувшиеся ростки новой жизни. Она видит семь-восемь плексигласовых колпаков, опутанных сетью проводов, — это и есть кувезы — и разнообразную современную аппаратуру.
Над каждым кувезом маленький металлический ящичек с ручкой и кнопками и темно-зеленым экраном, где мигают и пляшут светлые точки и черточки.
Слышится бульканье воды — словно бьет из-под земли ключ. Мария как бы вернулась в ту теплую болотную первобытную среду, откуда когда-то вышел человек.
Поршни ходят вверх и вниз. Тихо тикают часы. Из кувезов слышится детский писк. Непрерывное жужжание служит как бы фоном для всех остальных звуков.
А кругом джунгли, настоящие джунгли — сплетение зеленых ветвей и листвы.
А под прозрачными колпаками в многоцветном освещении — крохотные фигурки: древнее ацтекское золото, создание искуснейших мастеров.
Но нет. Это всего лишь будни отделения для новорожденных. И нет здесь никакой мистики, никакой алхимии. И джунгли — просто путаница разноцветных проводов, трубок, капельниц, которые отбрасывают сплетение теней на стены и потолок.
А в кувезах в ярком свете лежат дети, которых материнский организм слишком рано вытолкнул из себя. То ли потому, что был не в состоянии их удержать, то ли потому, что климат там стал для них неблагоприятен.
Других же в последний момент освободили от гибельной хватки материнского организма с помощью кесарева сечения.
Кое у кого из них вес ниже 1000 граммов, которые вообще-то принято считать границей между выкидышем и новорожденным.
Так и лежат они — зимние дети — в механической утробе из стекла и стали. Присужденные к выживанию.
Красные и зеленые или прозрачные трубки подают питание через ноздри в желудок или через кожу в кровеносные сосуды.
Так выкармливают недоношенных и детей с теми или иными дефектами. Детей с явными или не явными врожденными недостатками. Детей, с которыми случилось несчастье в процессе ли беременности, во время или после родов.
Вот у этого менингит и слишком нежная светло-розовая кожа. А у того не в порядке сердечный клапан и кожа почти синяя. Лежит тут и ребенок, которому сломали ручку во время сложного кесарева сечения, а вон там — плод любви наркоманов.
Некоторым делают переливание крови, к кому-то подключен аппарат искусственного дыхания. Кого-то держат в кислороде или в ярком свете с повязкой на глазах. У кого-то непрерывная дрожь. Кто-то едва не задохнулся в матке.
А вот везут нового пациента. Ребенок только-только родился. Жизнь его висит на волоске. Первый день — самый критический к жизни человека. Именно в первый день наибольшая опасность умереть.
— Звонит отец маленького Лукаса.
— О Боже, что же я ему скажу?
— Скажи все как есть.
Молодые врачи сидят на высоких табуретках, наблюдая сквозь стекло за пациентами. Они переговариваются, жестикулируют, улыбаются.
Слушают, между прочим, и обзор новостей по радио, слегка приглушив звук.
Медсестра с бесконечной осторожностью носит на руках оперированного пациента. У мальчика водянка головы. Он настоящее чудовище, какие встречаются лишь в сказках с привидениями. Шея забинтована. Толстый язык торчит между кроваво-красными губами. В уголках рта пузыри слюны.
Медсестра носит его между кувезами, целует его бледную ручку и заглядывает ему в глаза. А глазки у него хорошие, ясные и смотрят ответно в ее глаза. Этот ребенок постарше остальных. Он лежит здесь уже не одну неделю, и его уже много раз оперировали.
Медсестра что-то шепчет ему, и он поворачивает свою тяжелую голову. Он даже пытается улыбнуться, правда, улыбка выражается только в легком трепете ресниц, но сестра сразу улавливает ее и улыбается в ответ.
Он уже окрещен. У него есть имя. Да и большинство детей уже имеют имя — солидные взрослые имена, выдающие родительские чаяния и надежды.
Здесь все делается для того, чтобы спасти им жизнь. Чтобы помочь им, насколько это возможно. Ни один метод не считается слишком сложным или дорогостоящим, если это на пользу делу.
Но это особый мир, изолированный от внешней жизни. Посторонним вход сюда запрещен.
И те непосвященные, кто, подобно Марии, может лишь заглянуть в него сквозь узкое окошко в двери, невольно задумываются, какой же дорогой ценой достается жизнь. И как она прекрасна. И как жестока.
Но ее собственный ребенок лежит не в кувезе. Он лежит в соседней комнате. Там, где находятся дети более крупные и относительно более здоровые.
Медсестра выносит пациентку № 29. Мария принимает дочку, прислоняется спиной к стене и смотрит в узкое детское личико. Головка то и дело соскальзывает набок. Дыхание еле заметно.
— Когда она наберет два триста, ты станешь уже сама заниматься ею и давать ей питание, — говорит медсестра. — Тогда и попробуешь снова кормить ее грудью.
Мария кивает. Она держит в руке ручку своего крошечного мотылька.
— Мне страшно подумать, что она так и лежит все время с зондом в носу.
— Да ты что! Зонд мы вставляем всего за секунду до кормления. Тут даже и говорить не о чем. Билирубин у нее понемногу снижается. Ты же сама видишь, она уже совсем не такая желтая, как была.
Значит, двери не закроются окончательно за тобой, думает Мария. Возможно, ты еще вернешься ко мне, моя малютка.
Молодой врач вышел в коридор поговорить с Марией.
Она стоит перед ним — с измученным лицом, в мятом халате и в спущенных гольфах.
А он — высокий, подтянутый, бодрый и очень ученый.
— Не могли бы вы подробнее рассказать мне, как обстоит дело?
— Пожалуйста. Ваша девочка — то, что мы называем недокормленный ребенок, длинненькая и очень худенькая. Прежде мы всех детей меньше пяти фунтов называли недоношенными, но это определение не учитывает срок вынашивания, внутриутробную недокормленность и наследственные факторы. Вот, например, дети от матерей, больных сахарным диабетом. Эти дети или рождаются слишком рано, или голодают в матке. Возможно, ваша девочка в какой-то период весила больше, чем она весит сейчас.
Мария сглотнула слюну и смотрит, ничего не понимая.
— Естественно, ваше многоводье сыграло свою роль. Болели ли вы во время беременности? Был ли грипп? Высокая температура? Нет, не было. Но было бы хорошо, если бы вы письменно описали все течение вашей беременности. Вы согласны? А за ребенка вы не тревожьтесь. Мы не находим у нее ничего опасного. Все анализы, которые мы у нее брали, абсолютно нормальны.
— И я могу положиться на ваши слова?
— Вы можете положиться на мои слова.
— Вы ничего от меня не скрываете?
— Мы ничего не скрываем.
В послеродовом отделении мир и тишина.
— Вот хорошо, что ты пришла, — говорит жена кузнеца. — Не подержишь малыша, а то мне надо выйти, ладно?
Мария охотно согласилась, и вот уже маленький толстяк у нее в постели. Он в два раза больше, чем ее собственный ребенок.
Она прекрасно понимает, почему кузнецова жена поручает ей мальчика. Думает, она будет меньше тосковать по своему ребенку. Но разве может это помочь? Скорее наоборот. Все тело становится каким-то мягким, податливым. К груди приливает молоко и начинает тихонько капать.
Мария не хочет, чтобы соседки ее жалели. Но с другой стороны, ведь не стала бы она отказываться подержать мальчонку, если бы своя дочка была рядом. И в голову бы такое не пришло. Так почему же она должна отказываться теперь? Это было бы просто странно.
К тому же Марии ужасно нравится этот малыш. Такой умилительный толстячок. И она испытывает к нему даже что-то вроде благодарности.
Крепенькое и теплое существо. Вот уж у кого нет проблем с сохранением температуры тела! Лежит себе да пыхтит, надувая мягкие пухлые губки. Он такой же плотный и коренастенький, как его отец. Представляю, как тот доволен. И какое же это прекрасное чувство, когда у тебя на руках крупный, доношенный новорожденный, который заставляет с собой считаться, предъявляет свои требования и даже проявляет что-то похожее на расположение.
Вот он пытается засунуть пальцы в рот. Нет, это слишком трудно. Хотя, возможно, это не раз удавалось ему в состоянии невесомости в материнской утробе. Губки у него кривятся, и на круглой мордашке появляется выражение обиды.
Красивым его, пожалуй, не назовешь. Он все-таки грубоват. Ее собственный ребенок гораздо тоньше. Но все же малыш просто чудесный.
— Если ты захочешь отдать его на усыновление, — говорит Мария, когда кузнецова жена вновь появляется в палате, — включи меня в список претендентов.
— Думаю, муж на это никогда не согласится, — гордо отвечает мать.
Она наклоняется и разглаживает простынку в детской кровати. Ее внушительный зад заметно выступает под халатом.
— Смотрите, что я вам принесла!
Это медсестра. Она прижимает к груди четыре бутылки красного вина.
— Вот это да! По какому случаю?!
— Старшая сестра считает, что вам не вредно немножко поднять настроение. А то кое-кто с утра уже хлюпал носом.
Медсестра откупоривает бутылки.
Женщины поднимают стаканы. Это пойдет им на пользу — поесть, выпить и вздремнуть после обеда.
В послеродовом отделении то и дело жужжит молокоотсос.
Мария сидит на краю кровати в расстегнутой рубашке, одной рукой поддерживает грудь, другой — прозрачную чашечку аппарата. Молоко веером разбрызгивается внутри стеклянного сосуда, потом собирается вместе и широкими неровными струйками течет вниз.
Время от времени Мария выключает машину и сливает молоко в маленькую одноразовую бутылочку, которая стоит на тумбочке.
— Тебе не надоедает? — спрашивает кузнецова жена. Ее толстячок знай сосет мамашину грудь.
— Конечно, нудное занятие, но ничего, тоже развлечение.
— А я знала одну, — говорит Миккельсен. — Она откачивала молоко и продавала. Заработала целое состояние.
Вечерняя сестра стоит посреди палаты и инспектирует свое войско.
— Ну так. Я вижу, здесь все в порядке.
— Чего и вам желаем, — говорит жена кузнеца.
Конни тихонько подходит к Марии, фыркая и прикрывая рот рукой.
— Представляешь, в гостиной загорелась бумага в корзине. Как полыхнет! Это все Страшила Ольферт. Он швырнул окурок прямо в салфетки. Видела бы ты его физиономию.
Очень высокая и худощавая акушерка с коротко стриженными волосами неслышно скользнула в палату на мягких подошвах сабо. Она приветственно махнула Марии и прошла к кузнецовой жене, которая лежит, с головой уйдя в «Домоводство».
Та просияла, схватила акушерку за руку и тянет к детской кроватке.
— Не надо, не надо. Не вынимай его, — говорит акушерка. — Я и так его вижу, отсюда.
— Как же я рада, что ты зашла, — шепчет кузнецова жена. — Я хотела у тебя кое-что спросить…
Ей кажется, что она по гроб жизни обязана этой молодой женщине, которая в ночь на пятницу помогла ей произвести на свет сына. Да что там «обязана». Она просто в нее влюблена.
Акушерке это хорошо известно. Она для того и пришла, чтобы помочь пациентке избыть это чувство, отвлечь ее от этой темы, удовлетворив естественную потребность каждой женщины поговорить о своих родах. Словом, хотела дать ей возможность разрядиться.
— О чем же ты хотела спросить?
— Ну, помнишь, как во время потуг, уже под конец…
Женщине совершенно необходимо поговорить о своих родах. Это ведь жизненно важное переживание. Почему же она должна все это держать про себя?
Столетиями этот коллективный опыт не принимался во внимание, обсуждаясь лишь в замкнутом женском кругу, считался пустой болтовней, полной путаных представлений, табу и предрассудков. Теперь, когда женщины стали лучше осознавать свое предназначение, картина начинает меняться.
Женская потребность поговорить о своих родах столь же естественна и правомерна, как, например, естественно и правомерно желание человека рассказать о зарубежной поездке…
Как человеку, побывавшему в Париже, хочется показать слайды или фотографии и поделиться своими впечатлениями — точно так же женщине хочется рассказать о своих родах, которые представляются ей гораздо более важным событием, чем знакомство с Эйфелевой башней.
Рассказ о своих переживаниях служит различным целям.
Расплывчатое, неуловимое — в словах обретает форму. Впечатления становятся более четкими и зримыми, и потому в дальнейшем с ними легче иметь дело. Будучи изложено, пережитое словно обретает подлинность и придает человеку уверенность в себе. И позволяет как бы отстраниться от событий, которые было так трудно пережить.
Можно сказать, что работа акушерки необычайно объемна. Она должна не только подготовить беременную к родам и помогать в процессе родов, но и в какой-то степени помочь женщине в послеродовой период справиться с пережитым, найти ему какое-то приемлемое место в ее сознании. Все это знает акушерка кузнецовой жены. И поэтому между двумя женщинами установилась некая доверительность, далеко выходящая за пределы временных отношений.
Но далеко не все могут или хотят или вообще способны раскрыться.
И хотя в положении рожениц очень много общего, все же состояние непосредственно после родов у всех разное.
Для одних роды — событие, которое придает им силы и уверенность на многие годы вперед. Для других это поражение или унижение, от которого женщине не так легко оправиться.
Но так или иначе, роды — это всегда откровение. Никакая ложь, никакое лицемерие, никакое притворство не могут устоять перед столь могучим стихийным явлением, как роды, — даже в нашем высокоцивилизованном обществе.
Роды — это зеркало, в котором совершенно отчетливо отражается физическое и психологическое состояние женщины, выявляется сила или же, наоборот, слабость — если не сказать предательство — тех, кто ее окружает.
Для некоторых женщин роды — шок, такого же характера, как и изнасилование. Потрясение, которое выносит на поверхность вещи, о существовании которых и не подозреваешь.
Всплывает на поверхность забытая боль. Охватывает мучительное чувство одиночества.
Возьмите хоть Сидениус.
Она лежит в самом темном углу и смотрит в потолок остановившимся взглядом, уйдя в себя, далекая от всею окружающего. И понемногу отчуждение все больше овладевает ею. Она все больше отдаляется ото всех, и, похоже никто не обращает на это внимания.
Или персонал что-то все же замечает? Ведь это они занимаются ее ребенком, пока она безучастно лежит и постели.
По вечерам ее навешает муж. Он молча, растерянно сидит у ее изголовья. Он не знает, что ему делать, чего от него ждут в этой ситуации. Он просто берет ребенка на руки, смотрит на него. Смотрит на свою жену, которая смотрит в потолок. Потом, когда кончается время посещения, уходит.
Мария все думает, что надо бы подойти к ней и попытаться заговорить. Но что-то ей мешает, как будто мигает предупредительный сигнал. Рискнет ли она подойти?
Нет, не рискнет.
Она ведет себя так же, как и все.
Как будто ничего не происходит.
— Дай-ка мне твою «Экстрабладет», Конни. С ней так хорошо засыпать.
— Но тут есть одна такая история, просто жуть.
— Да их расстрелять мало, этих людей! — вмешивается фру Хольм.
Пациентки уже готовятся ко сну. Детей вывезли в коридор. Только Миккельссн все еще мужественно сражается со своим крикуном.
Мария наклонила ночную лампу к изголовью и развернула газету.
Господи, что же это такое!
Один умер, за ним другой, а теперь вот и третий. Трое приемных детей в семье врача, той самой семье, о которой она столько раз читала в еженедельниках. Трое детей умерли! Четвертый ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. Пятого отправили назад во Вьетнам. От приемного отца — главврача!
Умерли. Сразу трое! Нет, это, конечно, не случайность.
Здесь же в газете фотография всей большой семьи. Сидят веселые, улыбающиеся — когда все еще было хорошо. Родители в середине, окруженные целым выводком цветных детей. И вот с ними-то, неизвестно почему, и произошло такое несчастье.
Мария оглядывается вокруг. В палате темно. Все ночные лампочки, кроме ее, погашены.
Вьетнамские, корейские, таиландские дети. А в коридоре лежат датские. А наверху, в отделении для новорожденных, ее собственный ребенок, эскимосочка.
Она тоже гасит лампу.
Дети остаются детьми так недолго. Для взрослых детство — обозримый период. Для детей это вечность.
Быть ребенком так рискованно.
Лучше бы быть деревом.
Мария лежит на спине, положив обе руки на расслабленный живот, и смотрит на сумрачный потолок, где тени набегают друг на друга и смешиваются, как масса воды в океане.
Она закрывает глаза, и словно на внутренней стороне век появляется какой-то смутный зловещий образ. Какой-то отвратительный бесформенный мохнатый клубок, который медленно ползет, точно живой.
Чтобы заставить эту картину исчезнуть, она крепко-крепко прижимает руки к глазам. Искры брызжут из глаз, но картина возвращается снова и снова, такая же отвратительная, как прежде.
Тогда Мария садится в постели, широко раскрывает глаза и долго сидит так, глядя в темноту.
14 января, вторник
Жемчужные капли воды и запотевшие окна.
Мария стоит в очереди перед одной из двух душевых кабинок в ванной комнате. Она прислушивается к плеску теплой воды, сбегающей на каменный пол. Вот кран прикручивают, и вода в трубах начинает гудеть.
Две женщины, что стоят перед ней, очень симпатичные и тощенькие, как индианки или как кошки, только что вылезшие из своего убежища с новорожденными котятами.
Пустые мешки, готовые наполниться вновь.
Возле стопок чистого белья лежат белые прокладки.
Пахнет мылом, шампунем и лосьоном. Девушка, которая первой вышла из кабины, вся красная, точно вареный рак.
Сегодня седьмой день, и ей надо — на день она уже опоздала — пройти положенное гинекологическое обследование. И вот она, в чистейшем накрахмаленном больничном белье, чисто вымытая сама, ждет, когда подойдет ее очередь.
Из кабинета выходит жена кузнеца.
— Ну и что там делают?
— Он сунул палец и сказал, чтоб я зажалась. А если кто зашитый, снимает швы… Ну и поговорил насчет того, как предохраняться. В общем, ничего особенного. Три минуты — и готово.
В кабинете столь знакомый ей зав. отделением. До чего же приятно снова его увидеть!
— Ну, как дела? — спрашивает он, поворачиваясь к ней на вращающемся кресле.
— Спасибо, хорошо.
Пока она укладывалась в гинекологическое кресло, он повернулся спиной.
— Спуститесь немножко, — шепчет сестра.
Он наклоняется над ней. Она закрывает глаза. Он вводит пальцы во влагалище и прощупывает. Пальцы холодные и жесткие.
— Что, матка у меня по-прежнему слишком большая?
— Нет, она хорошо сократилась, — отвечает врач, а взгляд его устремлен куда-то в нескончаемую даль над ее головой.
Просто поразительно, до чего ловко природа это устроила. Ведь совсем недавно она была так растянута…
Мария делает глубокий вдох и старается расслабиться.
— Зажмитесь, — говорит он.
— Стану ли я опять такой, как прежде, — внутри?
— Несомненно. Спасибо, вы можете встать.
Он садится за письменный стол спиной к ней. Она натягивает трусики.
— Думали вы о том, как будете предохраняться, чтобы не забеременеть сразу же снова?
— Спираль годится?
Он улыбается, записывая что-то в историю болезни. Она не понимает, чему он улыбается.
— Позвоните мне в марте, и я вставлю вам спираль.
Она чувствует, что разговор окончен, но ей не хочется уходить. Поэтому она говорит:
Правда, странно, сначала мой ребенок плавал во всем этом многоводье, а потом, всего три дня спустя после родов, оказался совершенно обезвоженным?
— Такова жизнь, — коротко отвечает он, по-прежнему склонившись над историей болезни.
— А если я захочу еще ребенка, как вы думаете, может повториться такая же история?
— Я бы очень удивился. Нет, вам не следует этого опасаться.
Он встает, и она протягивает ему руку.
— Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
— Это моя работа.
Она чувствует, что ее охватывает отчаяние, и не понимает, откуда оно и что ей с ним делать.
Бочком выбирается она из дверей.
Сегодня переход по подземному коридору кажется Марии чуть-чуть короче. Прежнее леденящее чувство исчезло. Потому ли, что привыкла?
Она выпрямилась и подняла голову. Тело как будто стало немножко более упругим.
В отделении для новорожденных ей предложили обождать. Она сунула руки в карманы халата, прислонилась к стене и огляделась.
Все здесь серое и белое, потолки невысокие и очень приятно и уютно. Из кухни доносится звяканье бутылочек. Где-то щелкнула дверца. Слышится приглушенная музыка по радио и пахнет кофе.
Молодой человек в исландском свитере и белых брюках каменщика входит в отделение. Он останавливается, мнется в нерешительности, оглядывается вокруг и направляется к двери с узким стеклянным окошком.
Достав из кармана смятый листок бумаги, он прикладывает его к стеклу, и через минуту к окошку подвозят кувез.
В кувезе лежит совсем крошечный голенький ребенок.
Слегка присев и положив руки на стекло, мужчина легонько постукивает согнутым пальцем, будто выстукивает морзянку. Он пытается улыбнуться, но улыбка тает на его губах. Пар от его дыхания облачком остается на стекле.
— Господи, как же она похожа… радость ты моя.
Упершись головой в окошко, он исподлобья смотрит в лицо медсестры. Умоляюще.
Она увозит кувез на место и втыкает вилку в штепсель.
Мужчина остается перед дверью. Но вот он бросает короткий взгляд на Марию — глаза в глаза, — поворачивается и уходит, тяжело ступая в своих больших забрызганных известью сабо.
Марию приглашают в детскую комнату. Она получает белый халат, чувствуя, что ей оказали большую честь.
После родов прошло уже столько дней, опасность занести из послеродового отделения инфекцию снизилась до минимума, и вот ей разрешено войти.
Мария оглядывается. Детишки выглядят не так уж страшно. Она вдруг поняла, что они, конечно, выправятся. Большинство из них, во всяком случае.
Она подходит к светло-серой высокой, похожей на ящик кроватке, где лежит ее ребенок. При виде маленькой долгоножки, спящей на боку, она вдруг чувствует наплыв горького счастья. Это ты, моя маленькая подружка, как блестят твои чудесные волосики, моя игрушечка, мое драгоценное сокровище, моя плоть и кровь.
— Если хочешь, можешь взять ее на руки. — Это говорит медсестра. — У нее все идет просто прекрасно. Мы кормим ее раз через зонд, раз из бутылочки. Но она все-таки плохо сосет. Наверное, нам придется исследовать у нее сосательный рефлекс.
Мария захлопала глазами. Сосательный рефлекс?
— А как с желтухой?
— Почти исчезла. Давай взвесим ее.
Мария раздевает девочку. Будто вырезанную из картона куклу.
— Два кило двести восемьдесят? Столько же, сколько вчера? — пугается Мария.
— Завтра она будет весить чуть больше. Как правило, прибавлять они начинают рывками. С завтрашнего дня ты начнешь сама за ней ухаживать и мало-помалу привыкнешь.
— А ребенок получает то самое молоко, которое приносит ему мать?
— Ну конечно! — отвечает медсестра, безмерно удивленная наивностью вопроса. — Само собой, ребенок получает то молоко, которое ты ему приносишь. Это уж я тебе гарантирую. Вообще-то грудное молоко мы покупаем, и по страшно дорогой цене. Видишь вот эти молочные бидончики? Их нам поставляют каждое утро из Фуглебаккена. Они стоят целое состояние. А если твоему ребенку не нужно столько молока, сколько ты приносишь, мы отдаем остатки другому. Эти капли молока бесценны. Когда вернешься домой, ты должна сделать все, что в твоих силах, чтобы начать нормальное кормление грудью. Ты даже не представляешь, как это важно!
Выходя из отделения, Мария наклонилась подтянуть гольфы и чуть не ткнулась головой в синий халат. Она подняла взгляд. Ивонна!
Жена Страшилы Ольферга. Ивонна из патологического.
— Привет. И ты здесь!
— Да, я приходила навестить близнецов.
— Поздравляю тебя с близнецами.
— Спасибо.
— Ну и как они?
— Да прямо не знаю… Очень уж они малюсенькие. Одна лежит в кувезе, другую сегодня утром перевели в кроватку.
— Обратно пойдем вместе, ладно?
— Конечно! Я так не люблю ходить одна по этому подземелью. Мне все кажется, кто-то на меня нападет.
Они спустились в лифте и через минуту уже оказались в длинном белом туннеле.
— А сама-то ты как?
— Хуже некуда.
На глазах у Ивонны слезы. Она еле ползет, раскорякой, на негнущихся ногах. Мария протягивает ей руку, но Ивонна не берет ее.
Глядя в пространство, она говорит:
Первая девочка родилась, в общем, нормально. Но продолжалось это довольно долго. А тем временем вторая так неудачно перекувырнулась, что никак не могла выскочить. Им ничего не оставалось, кроме как сделать мне кесарево. Так что теперь я зашита и сверху, и снизу. Это ужасно, можешь мне поверить. — Лицо у нее жесткое, угловатое. — А у мужа совершенно нет терпения, только и спрашивает, когда наконец я вернусь домой. Не может он понять…
Ивонна вытирает глаза синим рукавом.
Два санитара в белых куртках и черных брюках обгоняют их и удаляются широким торопливым шагом.
— Старший мальчик упал с велосипеда и сломал руку. А маленький так балуется в детском саду, что они не хотят больше его там держать.
В трубах тихо шипит пар. Где-то вдали слышится урчание воды. Обе они дрожат от холода. У Ивонны волосы всклокоченные, спина сгорбленная. Ноги в шлепанцах белые и костлявые.
Уж для нее-то эти роды — никак не счастливое событие. Скорее наоборот. Очередное унижение и разочарование. А возможно — коли уж на то пошло, — именно в этом событии наиболее отчетливо проявился гнет, под которым она жила всю жизнь.
Она не просила, чтобы ее обрюхатили. Она не мечтала о родах. Близнецы — это нечто навязанное им с мужем против их воли…
Мария с Ивонной сворачивают в боковой коридор, где пол слегка поднимается вверх к тяжелой темной двери, похожей на дверь, ведущую в храм.
Мария нажимает кнопку.
Ивонна как будто немножко отошла.
— Знаешь, — говорит она, — один только человек здесь и есть, к кому я привязалась. Я говорю о толстухе — ты должна была ее видеть! — Она смотрит на Марию с некоторым нетерпением. — Ну, та, что моет бутылочки в детском отделении. Она единственная, с кем можно поговорить по-человечески. Остальные просто молчат. Или засыпают меня этой своей латынью.
С легким шуршаньем спускается лифт.
Они открывают тяжелую дверь и входят.
В палате № 1 послеродового отделения большая суета. Почти все ее обитательницы пролежали здесь уже пять, шесть или семь дней. И теперь выписываются.
— Ну, что тебе сказали? — спрашивает кузнецова жена.
— Завтра домой, — отвечает Мария.
Мощные, кеглеобразные ноги кузнецовой жены прочно всажены в туфли на пробковой подошве с высокими каблуками, застегнутые на ремешок. По случаю отъезда на ней обтягивающая блузка, из-за чего ее грудь выглядит особенно могуче и выразительно.
Да еще в каждую огромную чашечку бюстгальтера она положила по пачке бумажных салфеток, чтоб не промокло по дороге домой.
Старшая сестра предлагала ей задержаться еще на день, пока не рассосется затвердение в груди. Но кузнецова жена считает, что и так уж залежалась. Пора вернуться к своим мальчуганам. Так они решили на семейном совете.
Она переодела своего толстячка во все домашнее. Кофточка новенькая. Белая с фиолетовым. Она сама ее связала.
— Разве от старших ничего не осталось? — спрашивает Мария.
— Нет уж, у него все будет свое собственное!
На голове у малыша вязаная шапочка с ушками и кисточкой. На руках вязаные рукавички без большого пальца.
Кузнец распахивает дверь и вваливается в палату с видом хозяина жизни — впрочем, в известном смысле так оно и есть. Он подходит к окну, вешает зонтик на батарею, ставит корзинку на пеленальный стол, не преминув походя шлепнуть жену по выпуклой ягодице.
Потом он высоко поднимает новообретенное чадо, подбрасывает его в воздух и влепляет смачный поцелуй прямо ему в губы. После чего осторожно укладывает его в корзинку и укрывает клетчатым бело-фиолетовым одеяльцем.
Потом, приветственно подняв руку, кивает на все стороны.
— Спасибо за компанию, девушки, — и до следующей встречи!
— Ну, понес! — Его жена, закатив глаза, крутит пальцем у виска.
Потом она переходит от кровати к кровати и пожимает всем руки.
Медсестру она обнимает.
— Спасибо за все. Ты просто сокровище.
— Толстячка можешь оставить мне, — говорит медсестра. — Я бы не отказалась от такого замечательного парня!
Да и нет числа тем, кто был бы не прочь заполучить этого мальчугана.
Кузнец хватает корзинку, но медсестра, качнув отрицательно головой, отбирает ее у него. Это ее дело — нести ребенка до машины. Только за дверями главного входа кончается ответственность клиники.
Господин Хольм на цыпочках крадется вдоль пеленального стола, в левой руке корзинка, в правой — шляпа.
Он выгружает на кровать содержимое корзинки. Тут все вместе — одеяло, ползунки, распашонки, костюмчик, шапочка, варежки, запасная пеленка и подгузник — все голубое: готовились-то ведь к рождению мальчика.
У него с собой «кодак», и он, как положено, делает множество снимков жены и дочери.
— Какой ужас! Ты забыл покрывало! — восклицает вдруг фру Хольм.
— Что такое, дорогая Мархен?
— Ты забыл покрывало. Я говорю: по-кры-ва-ло!
— ?
— Придется тебе вернуться за ним!
— Оно так уж необходимо?
— Абсолютно.
Лицо ее страдальчески искажено. Она принимается снова расстегивать свое темное элегантное пальто.
Господин Хольм нахлобучивает мягкую шляпу на свой высокий аристократический череп и снова на цыпочках крадется вдоль пеленального стола к двери.
Заглядывает медсестра.
— Почему ваш муж уходит?
— Он должен съездить домой за покрывалом.
— А где вы живете?
— В Биркерёде.
— Бог ты мой, да возьмите пока больничное!
Медсестра бросается в коридор и минуту спустя возвращается, ведя за собой сконфуженного, дрожащего всем телом супруга.
Фру Хольм оскорбленно щелкает запором своей сумочки.
Малышка Конни смотрит, как одна за другой исчезают за дверью ее соседки. Последней отбывает тощая парикмахерша. Их, с ребенком увозит бабушка. Они чинно прощаются, протягивая холодные руки.
— А что же моя мама… — говорит Конни. — Она же обещала приехать! — На глазах у нее слезы. — Как ей не стыдно!
— Ты можешь воспользоваться больничным бельем, потом пришлешь его обратно, — говорит медсестра.
— Да как же я доберусь до Хундестеда? — шепчет Конни, глядя на ребенка.
За день самая большая палата послеродового отделения заполняется вновь. Молодые мамаши вместе с новорожденными то и дело прибывают на каталках.
Мария сидит у себя на кровати, как старая мудрая сова. Ей знакомо здесь все вдоль и поперек. Она здоровается, отвечает на вопросы и вообще помогает новеньким освоиться.
— А где твой ребенок? — спрашивает одна из них.
— Да видите ли, — объясняет Мария, отводя глаза, — она в отделении для новорожденных. Ее положили туда, просто чтобы она немного добрала вес. Это ерунда.
Женщины незаметно поеживаются.
Позже к вечеру заявляются мать Конни и ее старшая сестра.
— Можешь взять мою «Экстрабладет», мне уже не понадобится, — говорит Конни Марии.
Мать и сестра Конни обе одинаково приземистые и очень похожи друг на друга.
Они привезли с собой маленькую плетеную корзинку и кучу вязаных детских вещичек в пластиковом пакете.
Теперь они расхаживают по палате и понукают Конни делай то, делай это, открывают ящики в ее тумбочке. Дверцы шкафа, смотрят, не забыла ли она чего. Потом перепеленывают ребенка на пеленальном столе и напоминают Конни, что она должна вежливо попрощаться.
Уже темнеет, и им надо успеть на поезд.
Конни в кожаной куртке обходит кровати и за руку прощается с женщинами.
— Вот мой адрес, — говорит она Марии. — Не забывай, что в Хундестеде у тебя есть знакомая.
Медсестра поднимает корзинку с ребенком и в сопровождении трех низеньких женщин выходит в коридор, затем вся процессия следует к главному входу.
Все женщины в клинике одеты в одинаковые белые больничные рубашки, и лежат они здесь по одной и той же причине. В течение пяти-семи дней они находятся вместе, в одном и том же послеродовом отделении. Они едят одну и ту же пищу и занимаются в основном одним и тем же. За ними наблюдают одни и те же люди, и уход за ними тоже одинаковый. После пяти-семи дней совместной жизни они покидают послеродовое отделение, эту сказочную страну, где все они были равны или по крайней мере казалось, что равны, и возвращаются каждая в свою среду, на свое исконное место. Общность распадается навсегда. Они больше не имеют друг к другу никакого отношения. В лучшем случае они могут прочесть друг о друге в том или ином статистическом справочнике.
Принадлежа к разным общественным классам, они живут как бы разделенные невидимыми перегородками, ничего не зная о делах и заботах друг друга.
Они понятия не имеют, каково живется другим женщинам, о чем они думают, чему верят, что чувствуют. Не знают даже, переживают ли другие рождение своих детей так же, как они сами, или как-то иначе.
Время для Марии словно замедлило ход. Ей больше нечего здесь делать.
Она лежит и проглядывает оставленную ей Конни «Экстрабладет». На первой полосе заголовок крупным шрифтом: Дети ночью в пивоварне со связанными руками.
На другой странице ей попался снимок с воздуха какого-то здания, текст под ним гласил: Известное лечебное заведение в Кларупе — крепость или тюрьма? Огромный особняк обнесен частоколом, сад внутри обнесен каменной оградой.
Мысли Марии разбегаются.
Пора ей расставаться с клиникой. Хоть это не так легко. Клиника защищала ее. И персонал ей помогал.
Она чувствует, что разрывается надвое. С одной стороны, так хочется сбежать отсюда, вернуться к нормальной жизни, к наполненным разными событиями будням.
Но другая ее половина предпочла бы остаться в этом замкнутом, упорядоченном мирке с его четко очерченными контурами. Здесь она по-прежнему будет ходить из отделения в отделение, одеваться, раздеваться, ей будут приносить еду, ее ребенку менять пеленки. И все время она будет предметом заботы и внимания, не имея надобности самой что-то решать.
Она перелистала газету до 28-й страницы. Прочитала длинное рекламное объявление очередного секс-клуба.
Интересно все-таки, как сложится судьба новорожденных, которых она узнала здесь, в клинике? Сын парикмахерши. Маленький мулат. Дочка Конни. Близнецы Ивонны. Дети Гертруды, Оливии, фру Хольм…
Во всяком случае, условия развития у них будут совершенно различные. Кое-кто из тех, что выписываются толстенькими и аппетитными, за каких-нибудь полгода превратятся в жалкие создания с подорванным здоровьем и искалеченной психикой, и жизнь так и будет добивать их до самого конца.
Другие же, покинувшие больницу слабенькими, с недостаточным весом, в благоприятных условиях, окруженные заботой, вырастут сильными и уверенными в себе.
Родители будут, конечно, делать все, что в их силах, как бы их ни звали: Миккельсен, Эриксен, Хольм или Хансен.
Лечение неврозов и разного рода психических заболеваний. Мы поможем вам также избавиться от привычки к курению. Каталог бесплатный.
Будут делать все, что в их силах… Беда только в том, что силы у разных семей разные.
У некоторых родителей уже через две недели после родов начинаются конфликты на сексуальной почве — никто из поколения Марии от этого не гарантирован.
Кто-то из детей может погибнуть от несчастного случая. Другого могут просто убить. Третий, возможно, через какое-то короткое время уже будет иметь собственный счет в банке, выступая в качестве фотомодели в дамских журналах.
Gentelmens! Looking for a nice escort-girl to visit you in your hotel[6]. Желаете ли вы провести время в исключительно уютной домашней обстановке или же в отеле? Открыто ежедневно.
В общем-то, не так уж трудно с большой долей вероятности предсказать судьбу новорожденных. Достаточно взглянуть на их отцов и матерей и определить их социальное положение — и все становится ясно.
Блондинка Чили и брюнетка Амбер — за нас обеих 150.
А что будет с детьми, которые лежат сейчас в отделении для новорожденных? Многие из них уже в материнской утробе находились под тщательным наблюдением. Для сохранения беременности матерей госпитализировали — иногда на месяцы. Наконец, под присмотром всевозможных профессоров, врачей и акушерок, ребенок появляется на свет. После этого несколько недель он пребывает в кувезе в отделении для новорожденных, где под зорким оком ведущих специалистов ценой огромных усилий набирает вес — по 15 граммов в день.
После чего мать вместе с ребенком покидает клинику.
Ребенка отдают родителям, которые, возможно, и понятия не имеют, как надо ухаживать за новорожденным. Которых никогда этому не учили. У которых забот и без того хватает, дай Бог себя-то обеспечить самым необходимым.
Через две недели у матери пропадает молоко. Она переходит на искусственное вскармливание. И с этого дня и впредь ребенок обречен — суррогаты сопровождают его до конца жизни.
Для получения ссуды достаточно личной подписи. Облигации принимаются в заклад и покупаются. Свои деньги вы можете положить под 12 %. Оформление 20 секунд.
Ребенок — счастье от рождения которого давно забыто, — прожив какие-то месяцы, схватывает грипп, воспаление среднего уха, бронхит. Становится возбудимым, плаксивым, раздражительным, и еще через какие-то полгода уже не до шуток.
А тем временем мать и отец разрываются между работой и домом. В зависимости от того, сколько на данный момент дешевой рабочей силы требуется обществу.
Самый примитивный домашний уход. Бесконечные больницы. Несовершенные детские сады. Переполненные народные школы. Классы для отстающих. Продленка. Тесные квартиры. Досуг, который нечем заполнить. Бессмысленное существование.
Беззащитные жертвы рекламы, развлечений и политической демагогии.
Ощущение родителей, что их держат на обочине, что они лишены возможности хотя бы осмыслить собственное бытие, это ощущение собственного бессилия, от которого опускаются руки, это настроение «а, пропади все пропадом!» они передают своим детям. Такое вот они оставляют им наследство.
Эти дорогостоящие дети в кувезах… Что же их ждет?
На тумбочках и на высоких подоконниках стоят оставленные пациентками цветы.
Там, где лежала фру Хольм, целый сад поникших цветов. Двенадцать черно-красных роз на длинных стеблях, увитых алой шелковой ленточкой, и маленький букетик засохших розовых бутонов в отдельной вазочке. Фрезии и коралловые веточки склонили свои головки.
Так они и стоят — не везти же домой цветы из больницы. Это плохая примета.
Потому они и стоят, принадлежа всем и никому в отдельности, пока персонал не выбросит их в мусорную корзину.
Мария перенесла подснежники кузнецовой жены к себе на тумбочку. Уж они-то вряд ли принесут ей несчастье.
Завтра Мария уезжает домой. Здесь остается новая партия рожениц. Потом и они выпишутся. И их сменит следующая группа. И все время эта большая палата будет сохранять преемственность, потому что кто-то из женщин обычно задерживается. Они-то и осуществляют связь между сменяющими друг друга группами.
Палата заполняется и пустеет с той же регулярностью, с какой в море прилив сменяется отливом.
Маленькая сухонькая медсестра в накрахмаленной шапочке входит, таща за собой тележку, где звякают пузырьки и мензурки, и спрашивает, не нужно ли кому-нибудь на ночь выпить снотворного или слабительного.
— Мне, пожалуйста, дориден.
— А мне слабительное.
— Как у вас дела, фру Вестерхавн? Был у вас стул?
15 января, среда
Рано поутру Мария лежит в постели, закинув руки за голову, и мысленно прощается с клиникой.
В конце следующей недели, судя по всему, ей отдадут ее ребенка. Девочку надо будет кормить через каждые два часа круглые сутки, пока она не наберет 3000 граммов. И так будет продолжаться не одну неделю. Нелегкое будет время.
Мария думает о том, как было бы здорово, если б она могла принять предложение старшей сестры и снова лечь в клинику, когда девочку выпишут из отделения для новорожденных.
Какая это была бы огромная поддержка ей!
Но можно ли вернуться в послеродовое отделение, не будучи настоящей роженицей, из которой течет кровь, которая ходит сгорбившись и опустив голову. Так вот просто лежать здесь и занимать место?
Нет, конечно, она не может воспользоваться великодушным предложением старшей сестры, тем более что она сама не знает, чего она хочет и как будет лучше для нее и для ее ребенка.
Ведь у нее никогда раньше не было детей и она никогда не лежала в больнице. Она не знает, какие разумные требования может предъявить пациент и какие предложения ему удобно или неудобно принять.
Но почему же, черт возьми, неудобно принять это предложение? Старшая сестра знает, что говорит. Она же отвечает за свои слова.
Да… но… может, лучше все-таки попытаться справиться самой? Миллионы женщин справляются же…
— Я уезжаю до обеда, — говорит Мария.
— Ну-ну, делай как знаешь, — говорит старшая сестра — Звони, если что, спрашивай. Мы всегда будем рады ответить.
— Как ты думаешь, патронажная сестра наверняка будет?
— Ты позвони сегодня же, да можно и прямо сейчас, из дежурки.
— И еще мне нужен молокоотсос.
— Это ты можешь взять напрокат в «Скорой помощи».
Марии приносят ее одежду. Тридцать один день провисела она в больничном гардеробе.
До чего же она серая и скучная! К тому же у нее какой-то неприятный, затхлый дух.
Но хуже всего со старой шубкой, которая когда-то была белой. Сложив в несколько раз, Мария кладет ее на сиденье стула и задвигает стул под кровать.
Брюки слишком велики. В них же помещался ее огромный живот. Мария надевает их и расправляет, потянув за бока. Из-под брюк торчат разношенные башмаки. Теперь она смахивает то ли на утенка Андерса, то ли на одного из трех поросят.
Теперь понятно, почему женщины в послеродовом отделении так заботятся об одежде, которую им должны принести к выписке. Ее-то собственная совсем не то, что нужно!
На этот раз она не пойдет в отделение для новорожденных подземным туннелем. Она выходит на улицу и шагает по земле, по дорожке больничного двора, по плиткам, по асфальту, по бордюру, пытается даже пройтись по железной трубе, которая лежит вдоль дорожки.
Воздух острый и влажный.
— Вот, смотри: ватным тампончиком, смоченным раствором против молочницы, ты протираешь ей губки. Ей нравится. Она их облизывает. Затем ты вливаешь в ванночку несколько капель арахисового масла и локтем пробуешь температуру.
Все, что говорит медсестра, Мария, чтобы не забыть, записывает в записную книжку.
— И ты пока не должна мыть ее по-настоящему, с мылом только попку. Просто окачивай ее теплой водой… Следи, чтобы вода не попала в ушки. Потом кладешь ее на полотенце — ни в коем случае не растирать, просто осторожно промокнуть.
Сегодня малышка весит 2320 граммов, и Марии разрешено с ней заниматься. Она открывает спокойные темно-голубые глаза и смотрит прямо перед собой.
— И ты можешь расчесать ей волосики, очень осторожно, вот так. Не попробуешь покормить? Только сначала мы взвесим ее для контроля — прямо так, одетую.
Мария убирает в карман записную книжку. Расстегивает свою старую, не подходящую к случаю одежду и прикладывает ребенка к груди. О Господи, и ребенку придется вдыхать этот затхлый дух.
Медсестра выходит из комнаты.
Мария гладит малышку по головке и уносится мыслями вдаль. Она смотрит в окно на серые крыши, на их неровный контур на фоне голубовато-серого зимнего неба.
И вдруг она обнаруживает, что ребенок у нее на руках лежит неподвижно, с закрытыми глазками. Она щупает лобик — совершенно холодный. Кровь застывает у нее в жилах. Вдруг она умирает? Вдруг уже умерла?
Но тут малышка зевает, и у Марии слабеют руки.
В комнату снова заходит медсестра.
— Ну, давай взвесим ее.
Ребенок весит всего на пять граммов больше, чем при первом взвешивании.
— Просто не знаю, как мне быть.
— Ну-ну, — говорит медсестра. — Зря ты так за нее боишься. Она гораздо сильнее, чем ты думаешь.
Мария приводит себя в порядок.
— Ты просидела с ней целых четверть часа. Она устала. В следующее кормление я позабочусь, чтобы она что-то получила. Если не удастся из бутылочки, то через зонд.
Как я буду управляться с ней дома, одному Богу известно, думает Мария.
Выйдя из отделения для новорожденных, она останавливается и, минуту подумав, поднимается на следующий этаж в свое старое отделение.
Серое и тихое лежит оно перед ней. Она проходит мимо гостиной. Там сидит какая-то незнакомая ей женщина. Она тихонько идет дальше, мимо моечной, дежурки и кухни до самого конца коридора, и заходит в свою родную нулевую палату.
На трех кроватях лежат незнакомые женщины. На четвертой Линда, на своем старом месте возле окна.
— Привет, Линда! Сигне сказала мне, что ты снова здесь. Как у тебя дела?
Надо же, спрашиваю прямо как медсестра.
— Хорошо. А я тебя поздравляю. Как твоя малышка, в порядке?
— Да, прекрасно. Через недельку выпишут. А у тебя что, опять схватки?
— Воды подтекают, а до срока еще месяц, так что, они говорят, надо мне еще полежать…
Все та же Линда, бледная, тощие ноги торчат из-под одеяла. А на глазах у нее слезы.
— Мы с Алланом расходимся, — шепчет она.
— В самом деле?
— Да. Мы жутко ругались, пока я была дома. Я приехала, а в доме такой кабак! Счета не оплачены. Зато он купил стереофоническую установку за шесть тысяч. Беспорядок ужасный, настроение отвратное… Ну и потом Аллан пьет, потому что, видите ли, не может он ходить безработным! Ну и еще там были другие женщины. В общем, я совсем распсиховалась.
Губы у Линды дрожат.
— Как ты считаешь, наверное, нам лучше разъехаться до того, как родится ребенок?
Мария смотрит на нее и не знает, что ей ответить.
— Но как мы все это устроим? Просто не представляю. И он не знает, куда ему податься. К родителям, говорит, он не пойдет: там отец тоже без работы. А куда ж мне-то деваться, когда я выпишусь с ребенком на руках? Представляешь?
— Может, тебе поговорить с консультантом по социальным вопросам?
Линда вдруг улыбается.
— Ты только послушай, что мне предсказывает гороскоп на эту неделю: Очевидно, что за деревьями вы не видите леса. Перестаньте витать в облаках. Вы не пустите корней, если у вас нет земных связей. Среда с утра до полудня благоприятное время для разрешения некоторых практических проблем, особенно если они связаны с письменными или учебными делами.
Она отложила «Роман-газету» на тумбочку и сложила руки на костлявых коленях.
Посидели немного молча.
— Ну а как вообще тут, в отделении?
— Как тебе сказать… Не так весело, как бывало, когда мы сидели по вечерам все вместе и смотрели телевизор, с этим покончено. Да и не выпиваем мы больше. В общем, стало гораздо тише, если можно так сказать.
Мария смотрит на худое бледное лицо Линды, на ее жиденькие волосы. Ей ведь всего двадцать один. И вот через месяц или даже раньше она родит ребенка, который, как она надеялась, изменит ее жизнь к лучшему.
— Я очень хочу, чтобы это была девочка, — говорит Линда. — Я бы назвала ее Юдифь. Правда, красивое имя? Слушай, что про него написано в книжке «Как назвать ребенка». — Линда листает маленькую книжицу: — Юдифь по-древнееврейски — еврейка. В книге «Юдифь» в Ветхом завете говорится о вдове Юдифи, которая убила Олоферна, угрожавшего ее родному городу. Производные: английское Джуди; датское Ютта, Ютте. А ты думала, как назовешь свою?
— Нет, пока не думала.
Немного погодя Мария заходит в дежурку.
— Кого я вижу, вот молодец, что зашла, — говорит старшая сестра, поднимаясь со стула. — Садись. Как там твоя малышка?
— По-моему, неплохо. Я сегодня сама пеленала ее и пыталась кормить грудью.
— Хорошенькая девочка?
— Очень. Таких хорошеньких я даже никогда и не видела. Я не преувеличиваю.
— А что они вообще о ней говорят?
— У нее все в порядке. Меня сегодня выписывают. Я беру такси и еду в «Скорую помощь» взять напрокат молокоотсос. Ну а потом буду сидеть дома, сцеживать молоко и приезжать сюда раз или два в день с молоком.
Медсестра закрыла историю болезни, над которой сидела.
— Я хотела поблагодарить вас за все, — говорит Мария. — Считаю, что здесь в отделении просто образцовое обслуживание.
— Ну вот и хорошо.
— Да, скажи-ка мне, — спохватывается Мария. — Тут была одна рыжая, она, помнишь, все время вязала и всегда такая веселая была. У нее еще сынишка пяти лет… неполноценный. Она мне очень нравилась. Как у нее дела? Она все еще здесь?
Медсестра отводит взгляд в сторону.
— Выписалась, что ли?
— Нет.
— А какие у нее дела?
— Тебе очень хочется знать?
— Ну конечно.
— Она сегодня родила мертвого ребенка.
— Не может быть!
— Что поделаешь. Не хотелось мне говорить, но так уж случилось.
Мария с возмущением уставилась на медсестру.
— Но как же, черт возьми, могло это произойти? Здесь, в клинике, где она находилась под постоянным наблюдением?
Старшая сестра пожимает плечами и смотрит на свою старую пациентку спокойным долгим взглядом.
— И такое бывает — изредка. Необъяснимая внутриутробная смерть плода.
Вот тебе и рыжая. Она же с открытыми глазами ринулась прямо в львиную пасть.
Надо уходить, думает Мария.
Чем скорее, тем лучше.
Минутой позже она уже снова в послеродовом отделении, взвинченная и запыхавшаяся.
Она выдвигает из-под кровати стул и встряхивает слежавшуюся шубку. Потом собирает свои вещички и засовывает их в большие накладные карманы: зеленую брошюрку «Азбука политэкономии», «Воспоминания Пабло Неруды» и сегодняшнюю газету в один карман, босоножки — в другой.
Всевозможные брошюрки и рекламы с добрыми советами на разные случаи жизни она складывает в плоскую стопочку вместе с письмами, полученными от Захариаса и родителей. Свой белый халат она свертывает отдельно и кладет в сумку.
Потом надевает многострадальную шубку, дважды обертывает шею вязаным шарфом, низко на лоб натягивает шапочку, надевает на плечо сумку, задержавшись на секунду посреди палаты, бросает всем: «Ну, пока!» — и быстро выходит вон.
В дежурке старшая сестра в форменном халатике с короткими рукавами и в красных гольфах разговаривает с двумя медсестрами. Мария, прислонившись к косяку, ждет.
— А, это ты!
— Спасибо тебе, — говорит Мария.
Она протягивает руки и неловко обнимает высокую красивую женщину. От волнения она не может вымолвить ни слова. Старшая сестра краснеет, опирается о край стола и похлопывает Марию по плечу.
— Счастливого тебе пути!
Мария поворачивается и бросается по коридору к выходу. По дороге она едва не сталкивается с сияющей алюминиевой тележкой, везущей обед — жаркое из свинины, красную капусту, отварной картофель с маринованными огурцами и земляничное варенье. Аромат сногсшибательный!
Черт, задержаться бы еще на полчаса!
Но пути назад уже нет.
Она выходит на Тагенсвей и идет вдоль старого военного госпиталя до треугольного скверика на перекрестке с Северной Аллеей.
На газоне — статуя Стено и карликовые магнолии. Месяца через два на их голых пока ветвях распустятся замечательные розовые цветы.
Она стоит на краю тротуара и ждет, когда загорится зеленый свет.
Небо низко нависло над землей. Транспорт, трогаясь с места, широким потоком с грохотом устремляется через озеро к центру города.
Мари Осмундсен, Благие дела
Мари Осмундсен, Благие Дела
Роман
Перевод Т. Доброницкой
Mari Osmundsen, Gode gjerninger
Oslo, 1984
©Oktober 1984
Часть первая Карианна
Мир спасают благие дела.
Бьёрнстьерне Бьёрнсон1
Невероятно. Карианна не представляла себе, что у Мимми в квартире скопилось такое количество вещей! Видимо, пока Мимми была жива, она держала их в узде, умела вовремя пройтись по ним с ножом и ножницами, как каждую весну проходилась по герани на подоконнике. Теперь же, после ее смерти, вещи словно почуяли свободу и, нарушая границы дозволенного, распространились по трем небольшим комнаткам, заполонив собою весь дом.
Неужели шкаф в спальне всегда был набит коробками из-под ботинок? Обуви в них, правда, не было. В одной коробке лежала пряжа: оранжевые мотки, желтые, оливково-зеленые, мотки бежевые и темно-коричневые. Нитки были тонкие, для вышивания. В другой коробке сложены кружева, в третьей — цветастые лоскутки.
Пол в гостиной был завален одеждой. Отдельно — белье: трусики, комбинации, нижние юбки, все цвета сомо. В другой кучке — платья и халаты: тут и бирюзовый креп, и красный акрил, узоры, кружева, белое в синий горошек, серое.
Чулки. Толстые и тонкие, многие с аккуратно заштопанными носками и пятками. Колготок ни одной пары.
В прихожей на комоде ворох верхней одежды, зеркало завешено пледом в красную клетку.
Старые письма и старые фотографии, счета за много лет (оплаченные — у Мимми всегда был порядок в делах), шпильки, заколки, украшения (в основном из тех, что продаются крон за двадцать в любой парфюмерии), горшки с цветами, диванные подушки. Саго.
Саго. Пакетик с саго, завалявшийся между проводами за радио.
Серебро. Красивый обеденный сервиз с золотым ободком. Два деревянных блюда, расписанных в национальном стиле (сервиз и блюда стояли в секретере), фарфоровая статуэтка, изображающая собаку, еще одна фигурка, очевидно, тоже изображающая собаку, но мало похожая на нее (опять-таки в секретере), лебедь синего стекла.
Карианна покрепче зажмурилась и сложила статуэтки в картонную коробку, до половины наполненную прочими безделушками и картинками.
А вот и еще картинки: у Мимми над кроватью висит натюрморт — фрукты и ваза с пионами и ромашками. А на противоположной стене — три плачущих ребенка, один с черными локонами, другой светленький и третий с кошкой.
В коробку их всех.
И при этом Карианна не кричит и не убивается. Даже в глубине души не стонет из-за того, что приходится опустошать квартиру, в которой человек прожил тридцать пять лет кряду, — как не стонет и по другим поводам. Нет, Карианна не такая, она сняла свое тоненькое золотое колечко и положила на стеклянную полку в ванной, рядом с Мимминой сеткой для волос, ее зеленой расческой и стаканчиком, на котором затейливой вязью выведено «Мама», рядом с ее голубой щеткой и тюбиком зубной пасты «Солидекс». Карианна не стонет. Она методично делает свое дело.
Но уж очень сегодня жарко и уж очень много приходится разгребать. Слишком много тут вещей.
Около половины первого Карианна переоделась в бикини, натянула сверху свою юбку и велюровую кофточку с коротким рукавом и вышла на улицу, а там купила себе стакан кока-колы, яблоко и иллюстрированный журнал и отправилась в Стенспаркен, где улеглась на травке позагорать — и расслабилась, задремала.
Ей виделись разные вещи. Перед глазами проплывали массивные кресла, кухонный стол с пластиковым покрытием, бусы из сине-зеленых камней, почему-то напоминавшие снизку мясных мух, жирных и блестящих (какое бессмысленное, чисто детское преувеличение!). Чашки для кофе, глубокие тарелки, половники и мерные кружки. Ну ладно, пускай, но зачем нужна ароматическая соль для ванны в квартире, где есть только душ? Белый штопальный грибок. Книги, рецепты и инструкции, пыль. Канцелярские скрепки соль, консервы с куриным супом фирмы «Кэмпбелл», мускатные орехи и крохотная терка, настолько крохотная, что тереть на ней можно разве только те же мускатные орехи… Пустые коробки из-под конфет, паста для чистки меди. Чистящее средство «Ата».
Бокалы для вина, стопочки для водки, рюмки для коньяка.
Рюмки для коньяка.
Черный телефон в бархатистом зеленом чехле.
Чехол зеленого бархата. Для телефона.
Резиновые прокладки для стеклянных банок: большие — красные — для банок с вареньем, поменьше — коричневые — для… для чего? Да для чего угодно. Самоклеющиеся этикетки, конверты, карандаши (4М, 2М, ТМ, 2Т), бумажные мячики на резинке. Рядом на полке мука: ситная пшеничная в двухкилограммовой расфасовке, ситная пшеничная в однокилограммовой расфасовке, крупчатка в однокилограммовых пакетах, крупчатка второго размола, ржаная мука, картофельная мука, пластины желатина, лак для волос, какао, замороженные рыбные крокеты; несметные запасы молока, сыра и масла в самой разной упаковке, бечевка, дезодорант и присыпка для младенцев, консервированные кальмары (португальские) и крахмал «Крэкфри», на пачке которого было почему-то помещено сине-белое изображение Карианниной матери, многократно повторенное, с застывшей улыбкой. От этого Карианна и пробудилась, поскольку не могла взять в толк, как бедняжку маму угораздило кончить свои дни в виде рекламы для крахмала.
Да нет, умерла все-таки не мама, а Мимми…
Вероятно, на ее же счет надо было отнести и последовавший за Карианниным пробуждением досадный эпизод — Мимми ведь действительно умерла, а покойные, недавно кремированные бабушки обычно не сидят на скамейках в Стенспаркене, греясь на солнышке. Одурманенная солнцем, дремотой и своими видениями, Карианна приняла за бабушку сидевшую на скамейке пожилую даму.
У Мимми были точно такие же волосы: густые седые волосы с золотистым отливом. Ни одной парикмахерше Мимми не позволила подкрасить свои кудри голубым.
Но Мимми была особой весьма полной и преклонных лет. Дама же на скамейке оказалась довольно стройной хорошо ухоженной и лет шестидесяти, во всяком случае, ненамного старше. Она старательно меняла пеленку пухлому малышу нежно-шоколадного цвета, с курчавыми черными волосами и светлыми ладошками.
Карианна поднялась с травы, завязала на себе индийскую юбку из хлопка и надела через голову кофточку; мимоходом она бросила взгляд на женщину с ребенком, причем сделала это просто и буднично, совершенно естественно, как нечто само собой разумеющееся.
Во всем было виновато солнце… и еще Мимми. Карианна отнюдь не имела такой привычки — затевать разговоры с пожилыми дамами, которые сидят на лавочке и меняют пеленки своему шоколадно-коричневому внуку.
Внуку… Вот еще! Он ей никакой не внук! Дама просто приглядывает за ним… После чего следует длинная история, торопливый, сбивчивый рассказ, сопровождаемый неизменной улыбкой. Правда, он красавчик? Все так говорят… Они с Карстеном прекрасно поладили, ну да, его зовут Карстен, конечно, он приемный, да-да, она знакома с его родителями, вернее, с приемными родителями, очень симпатичная пара, мать еще училась в одном классе с ее дочкой, а дочка вышла замуж за архитектора из Тронхейма, так что внуков она видит очень редко, а теперь няня, к которой водили Карстена, заболела, и бедная мать, сами понимаете, сбилась с ног, то есть не настоящая мать, а приемная. И ясное дело, надо было помочь, а ей от этого одно удовольствие, малыш всегда в хорошем настроении, они с ним большие друзья, он такой баловник и такой музыкальный…
Если тебе все время улыбаются, трудно остаться в стороне, от тебя как бы требуют дополнительного усилия, отдачи. Карианна улыбалась в ответ. Да-да, говорила она. И: Подумать только, и: Пожалуй.
Невероятно. Жаркий летний день в Осло, припекающее солнце покрывает серый асфальт тонким слоем позолоты, словно пленкой, словно корочкой, за которой скрывается суть: тоннели, прорытые в горе у тебя под ногами, толстые кабели, проводящие ток в тридцать тысяч вольт, канализационные трубы. Они бок о бок шли по тропинке, круто пускавшейся к Фагерборгской церкви, и улыбались друг другу — седовласая дама в голубом свитере с узором и белой плиссированной юбке, темнокожий младенец в коляске и Карианна в босоножках и с простодушным загорелым личиком выглядывавшим из-под светлой, выгоревшей челки. И с узкой полоской на безымянном пальце правой руки, от кольца, оставшегося лежать на стеклянной полке в ванной, в квартире у Мимми.
Карианна всегда располагала к себе пожилых дам. У нее был свежий, опрятный вид, крепкие белые зубы, и она улыбалась.
Седовласая дама тоже улыбалась. И продолжала болтать. Карианна перестала слушать, что та рассказывает: она отключилась и впоследствии не могла точно разобраться, что дама говорила, а чего не говорила, что было сказано раньше, что позже, а что вообще было плодом ее собственного воображения.
Нет, так не бывает, думала она, такого не случается в реальной жизни, с реальными людьми, такое невозможно с человеческими чувствами, с моими чувствами.
Однако было бы еще более абсурдно, если бы Карианна задрала голову к солнцу, разинула рот, выставив напоказ все пломбы в своих крепких белых зубах, сжала руки в кулаки, закрыла глаза — и завыла бы, как ошалевший от света волк. Нет, так никто не поступает жарким летним днем посреди Тересесгате. Во всяком случае, Карианна так не умеет. Как не в состоянии она плюнуть человеку в лицо, как не могла бы размазать свежее собачье дерьмо по белоснежной плиссированной юбке, тем более когда юбка эта принадлежит незнакомой пожилой даме с волосами такого же цвета, как у Мимми.
Ничего подобного и не произошло, да и вообще не случилось ничего особенного, если не считать того, что двое посторонних друг другу людей раскланялись и с улыбкой разошлись, одна в один конец Тересесгате, другая — в другой, одна с лежащим в коляске курчавым малышом, другая с сумкой через плечо, в босоножках и с обнаженными сильными руками.
— Зачем ты завесила зеркало одеялом? — спросил Бьёрн.
Она промолчала, для нее было сюрпризом, что нужно иметь объяснение для каждого своего поступка.
— Все фокусничаешь! — пробормотал он.
Карианна наконец вспомнила, где видела красный фломастер — на подоконнике, за Мимминым цветком под названием Мать-и-тысяча-детей. Она достала фломастер и на последнем ящике, куда были сложены туфли, сумки, плащи и шляпы, сделала надпись: «Армия Спасения».
— Тебе помочь? — спросил он из соседней комнаты.
— Спасибо, не надо, — отвечала она. — Я уже справилась.
Она вышла и поцеловала его в лоб, она любила целовать его в лоб, ей нравился его лоб. Бьёрн опустился в одно из двух громоздких зеленых кресел и сидел там боком, перекинув длинные ноги через подлокотник: красивый, в белой рубашке с шейным платком, в сандалиях и облегающих джинсах.
Он критически оглядел Карианну.
— Тебе не мешает принять душ, — заметил он.
Она и сама это знала.
Карианна пошла и приняла душ.
— Мне не хочется домой, — прокричала она ему, вытирая голову, — я бы лучше куда-нибудь сходила.
— Прекрасно, — отозвался он из гостиной. — Роберт с Нуттой празднуют сегодня новоселье, я могу позвонить и сказать, что мы придем.
На самом деле она имела в виду вовсе не это. Она имела в виду: мне хочется пройтись… одной… побыть одной… побродить одинокой волчицей… потанцевать, выпить, опять-таки одной…
Она была голодная и злая.
Но объяснять ничего не стала. Она вышла в гостиную, вынула из сумки щетку для волос.
— Тогда скорее одевайся и пойдем! — сказал он.
В квартире стоял приторный, едва ли не тошнотворный запах старой женщины.
— Я уже оделась, — сказала Карианна и, вытянув правую руку, продемонстрировала надетое на палец кольцо.
Бьёрн сдвинул брови, усмехнулся, покачал головой.
— У тебя что, эти дела начинаются?
Ничего не ответив, она опять удалилась в прихожую, нашла свои вещи, оделась. Бьёрн уже снял с зеркала клетчатый плед. Она осклабилась своему отражению. Бьёрн тоже вышел из комнаты и, встав рядом, обнял Карианну за плечи, в зеркале появилась симпатичная, обыденная картинка: молодая, довольно интересная пара, он выше ее, в белой рубашке, подпоясанный кожаным ремнем, с «благородной» сединой в волосах и открытым мужественным лицом; она с детской полуулыбкой, в юбке и чистой белой блузке, с волосами цвета меди, с крупным ртом, большими глазами и вздернутым носом. Все как у людей.
Смотреть противно.
Она не стала снова завешивать зеркало. Чмокнув Бьёрна в щеку, она повернулась, первой вышла на площадку, подождала его и заперла дверь.
— Вы уже решили, как быть с квартирой? — спросил Бьёрн на лестнице.
— Да, — отвечала она, хотя они вовсе ничего не решили.
Они доехали на велосипедах до Грюнерлёкки, он позвонил Роберту и Нутте, и они отправились на вечеринку.
Впрочем, как выяснила Карианна, придя туда, это оказалась не вечеринка, а светский прием: шестнадцать взрослых и двое детей при полном параде, в костюмах и элегантных туалетах. Дом Роберта располагался в Кампене и был недавно отремонтирован, так что еще попахивал краской и свежеструганым деревом; две светлые, просторные комнаты, цветы, яркие краски. Гостей рассадили вокруг огромного старинного стола и потчевали жареной телятиной с красным вином, дети благовоспитанно ели на кухне курицу и запивали лимонадом. После обеда подали сыр. И другое вино. Нутта выступала в роли хозяйки, она была в длинном платье, русые волосы красивой косой уложены вокруг головы. Роберт сел за пианино, один из гостей — муж Нуттиной подруги — достал флейту, и они сыграли вдвоем какую-то классическую пьесу, которую Карианна не узнала. И еще она чувствовала неловкость из-за того, что неподходяще одета. Индийская юбка с белой блузкой годились для работы. Здесь подобный наряд был слишком непритязателен, слишком дешев.
Карианна сидела на диване рядом с Бьёрном. Он улыбался и что-то рассказывал. Он не глядел на нее, не обращался к ней, и тем не менее она знала, что ему будет не по-себе, если она вдруг встанет и пройдет в другую комнату, во всяком случае, если она там задержится: он хотел, чтобы она была здесь, присутствовала рядом.
Поэтому она продолжала сидеть (так было спокойнее), пила вино, переговаривалась с Дидди, младшей сестрой Нутты, была в меру учтива. По крайней мере старалась много не смеяться.
Она понимала, что никогда не сумеет изобразить ему происходящее здесь в виде модели, в виде схемы, а схема тут, несомненно, была, вполне наглядная и очевидная, при том что ее невозможно было описать, выразить словами. Карианна видела присутствующих как ряд фотографий, как персонажей комикса. Бьёрн Магнус. Двадцатидевятилетний архитектор, красивый, любезный, обаятельный и, конечно, очень способный. Помолвлен с Карианной Хьюс, состоит в приятельских отношениях с Робертом Мовинкелом и его семьей, то есть с женой Нуттой и двумя детьми, Мартой и Полом, а также с прочими гостями, среди которых: Бибби, художница по керамике, Бабба, гобеленщица. Боббо, футболист… Фу, Карианна! При чем тут футболист? Троны Лёве, специалист по социальной психологии, его жена Бебба Стеен, преподаватель университета, Пиппа Как-ее-там, студентка… Ну и компания!
И между всеми этими Леве и Мовинкелами затесалась Карианна. Карианна Хьюс, двадцатидвухлетняя чертежница из Ословского управления по энергетике, выросшая в Спиккестаде, среди кусков зеленого мыла, пакетов овсянки и снизок лакричного корня в более не существующей лавчонке под названием «Колониальные товары Хьюса». Чемпионка округа среди девушек по лыжным гонкам на дальние дистанции (когда это было?), впоследствии подававшая надежды в спортивном ориентировании (это было очень давно) и не имеющая собственного мнения о таких вещах, как рекреационная зона в жилом массиве или район, свободный от автотранспорта.
Рядом с ней сидел на диване не кто иной, как Бьёрн Магнус. Тот самый Бьёрн Магнус, с которым она жила, с которым они были обручены (в угоду родителям обоих) и которому она к тому же обещала выйти за него замуж, как только убедит свое строптивое тело забеременеть.
Карианна не могла описать эту модель, хотя отчетливо видела ее перед собой. Но ведь надо суметь объяснить!
Роберт играл на пианино «Bridge over Troubled Water»[7]. Нутта с сестрой пели. Кто-то завел пластинку, и Роберт перестал играть. Через широкие двери Карианне открылся вид в столовую, где Пиппа танцевала с кем-то из мужчин ага, с мужем Бибби… Они пытались изобразить нечто вроде вальса, но оба нетвердо держались на ногах, Пиппа хихикала.
Они даже в подпитии умудряются танцевать так, что это не выглядит вульгарно, позавидовала Карианна. У нее разболелась голова — пожалуй, она выпила лишнего.
За стенами, обшитыми белыми панелями, нависла летняя ночь, оставшийся снаружи страждущий город таил в себе угрозу этому сытому дому, однако здесь, внутри, никто не ощущал никакой угрозы. Все разговаривали. Смеялись. Пили вино. Карианна не представляла себе, о чем они думают, она не разбирала слов, когда люди шевелили губами, обращаясь к ней, не слышала ни звука, когда на их лицах появлялась гримаса смеха. Ей было непонятно и куда девалось все вино, которое постепенно испарялось из бокалов и бутылок. Время от времени гости как будто выходили в уборную, но Карианна не очень верила в то, что им это требуется. Интересно, у таких людей идет кровь, если они поранятся?
Она поднялась с дивана.
— Я… мне нехорошо, — сказала она, — пойду-ка я лучше домой.
— Давай останемся еще, — попросил Бьёрн, выходя за ней в прихожую.
— Может, ты сам останешься? — предложила Карианна. Она обняла Бьёрна, прильнула к нему. — Мне правда нехорошо, — продолжала она, — я немножко перепила. Надо выйти на воздух, и все как рукой снимет.
— А я радовался, что мы в кои-то веки выбрались вместе в гости, — сказал он.
Она запрокинула голову, посмотрела на него. На красивом лице — разочарование и мольба; ей стало неловко.
— Это твои друзья, — проговорила она. — Так что оставайся.
— Не только мои, но и твои, — возразил он.
— Со мной они мирятся ради тебя, — уточнила она.
— Зачем ты так, Карианна? — сказал он. — Они любят тебя.
— Пожалуйста, отпусти меня, — попросила она. — Я же не обязана быть тут!
Он покорился и отпустил.
Карианна постояла в саду, давая себе отдышаться: теплый ночной воздух, темно, безлюдно. Она прошла по дорожке к ограде, в воротах обернулась и посмотрела назад.
Деревянный особняк в Кампене: только что после ремонта, красный, с белыми рамами, он казался снаружи небольшим и старомодным, внутри же был вместителен и оборудован по последнему слову техники, хотя старинный стиль сохранился, во всяком случае, так было задумано — сохранить дух старины. Отдельные колоритные детали. Сочетание антикварной и современной мебели. Изысканно. Даже более изысканно, чем в Бьёрновом ателье в Грюнерлёкке.
Дом был, конечно, красивый. Кто откажется жить в таком?
Но кто может себе такое позволить?
Светлые прямоугольники окон, голоса и движение за занавесками.
Сейчас заведу их в бурлящий поток. Потом завлеку их в зыбучий песок. Внутрь корня сосны, что под землю зарыт, Заполню я ими следы от копыт; Затем заманю их в безжизненный бор. В морской бесприютный закину простор. Пусть гору грызут все да камни кусают. А мне в моей жизни пускай не мешают[8].Прикрыв за собой калитку, Карианна в тишине синей ночи отправилась восвояси.
2
— Надо же, не боится одна возвращаться ночью домой, — сказал кто-то рядом, на тротуаре.
Карианна вздрогнула, потом разглядела, кто это, и, насупившись, стиснув зубы, продолжала идти вперед.
— Ах, как торопится, — продолжал голос, вздохнув. — Но от меня, сама знаешь, отделаться нелегко.
— Хотя и возможно, — подхватила Карианна. — Я уже много лет не видела твоей мерзкой рожи.
— Ты просто держалась в рамках, — закивали ей с тротуара. — Только за все нужно платить. И тебе это прекрасно известно.
— Подумаешь, стишок! — отозвалась Карианна. — Стоит ли поднимать шум из-за такой ерунды?
— Уговор дороже денег, — заметил он. — Можешь по крайней мере уделить мне несколько минут для беседы.
Они уже вошли в парк, и Карианна остановилась под фонарем и посмотрела вниз, на того, с кем разговаривала.
— Тогда давай побудем здесь, на свету.
— Неужели боишься темноты? — спросил он. — А ведь, кажется, ты из тех, что умеют отбиваться руками и ногами.
— Я приберегаю такие меры на крайний случай, — сказала она и села на траву.
— Ну и ладно, — покладисто проговорил он. — Здесь так здесь. Ясно, что ты предпочитаешь не тащить меня домой к своему хахалю.
Он стоял перед Карианной, косматый и сгорбленный, росточком ей до колен, и сверкал своими желтыми глазами, похожими на две золотые монетки. От него исходил специфический запах, она не могла разобрать какой.
— Ты даже не понимаешь, что натворила в этот раз, — сказал он и, задрав ногу, почесал подошву.
Карианна никогда не видела его обутым.
— Ничего я такого не натворила, — отвечала она. — Подумаешь, ушла пораньше из гостей. Что тут такого?
— Ты заколдовала четырех Мовинкелов, одного Лёве, одну Стеен и одного Магнуса, заманила их души в гору Пиннерудберга, — объяснил он.
— Магнуса? — удивилась она. — Я про Бьёрна ничего не говорила.
— Одно дело — говорила, а другое — думала, — сказал он. — Чем же они тебе не угодили, эти Мовинкелы? И разве это честно-благородно — оставить их до конца жизни мыкаться без души?
— Невелика беда, — заметила Карианна. — Она им была только в тягость.
— Очень возможно, — согласился он. — Но как бы у тебя ни болели зубы, это не значит, что они тебе никогда больше не пригодятся. А в Пиннерудберге от этих семи душ никакого проку.
— Зато и вреда тоже никакого, — отвечала она.
— Ну что ты такое говоришь, — вздохнул он, усаживаясь напротив Карианны по-турецки. — Если у тебя потерялась душа, ты будешь всю жизнь не находить себе места и, сам того не ведая, искать ее.
— Что-что, а это я испытала на собственной шкуре, — сказала Карианна. — Только Лёве и Мовинкелы сделаны из другого теста, они не такие чувствительные.
— Ну конечно, одна ты у нас особенная, а у других, ты считаешь, и кровь не пойдет, если они порежутся.
— Все себя считают особенными, — отозвалась Карианна. — А вообще что с тобой сегодня? Раньше ты не отличался такой щепетильностью.
— Семь душ есть семь душ, — сказал он. — Слишком за многое придется платить.
— Да не семь их было, — возразила она. — Про Бьёрна я ничего не говорила.
— Не говорила так не говорила, — раздраженно пробурчал он. — Значит, скоро скажешь.
— Типун тебе на язык! Я и не думала колдовать про него!
— Ах, я забыл, ты же собираешься за него замуж, — съязвил гном. — Плодить крошек магнусов, не так ли?
— Так это или не так, только с Бьёрном никакой ворожбы не требуется, — сказала она. — Мы оба взрослые, самостоятельные люди.
— Это тебе так кажется, — отозвался чертенок. — А если ты от него съедешь, что будет тогда?
— А что будет? — повторила она. — Ничего не будет. Неужели он вдруг переменится? Мое отношение к себе он и теперь знает. А друзьями мы в любом случае останемся.
— Нет, ты явно не в себе. Ни одна здравомыслящая девушка не стала бы упускать Бьёрна Магнуса.
— Я не стремлюсь в архитекторши, — сказала Карианна.
— Добро бы речь шла только о деньгах, — продолжал бесенок. — В архитекторши, не в архитекторши! Не ты ли собиралась стать дизайнером по интерьеру? Кажется, вы договаривались о чем-то в этом роде? И крышу над головой не мешает иметь… Ну ладно, я сейчас не об этом. Я о любви. Тебе нужно хорошенько все взвесить, Карианна.
— О любви… А кому придется расплачиваться за эту любовь?
— Расплачиваться так или иначе приходится всем. А тут тебе идет в руки первоклассный товар… Бьёрн же и красавец, и обходительный, и умница, если верить тому, что о нем рассказывают. Где ты, спрашивается, найдешь себе лучшую пару?
— А я думала, ты про любовь…
— И про любовь тоже, — радостно подхватил гном.
— Это получается не любовь, а сделка.
— Но ты все-таки веришь в любовь.
— Во что я верю, а во что нет — это мое личное дело, — отвечала Карианна. — Но я достаточно пожила на свете, чтобы понять: люди боятся называть вещи своими именами. Сделка — это одно, а любовь — это нечто совсем другое.
— А ведь ты была влюблена в Бьёрна Магнуса, — лукаво заметил гном.
— Много ты знаешь!
— И влюблена не за его квартиру, и не за его жалованье, — продолжал он. — И не за его смазливую физиономию, от которой прочие девицы ложатся штабелями. И не потому, что он добрый и хороший, а тебе хотелось уюта и стабильности. Это я тоже знаю.
— Тогда ты знаешь больше Бьёрна, — вставила она.
— И не за любовные игры, хотя в постели с ним тебе было неплохо, — не унимался чертенок. — Бьёрн ведь, прямо скажем, завидный любовник.
— Прикуси язык и оставь меня в покое.
— За все нужно платить, — сказал гном. — Ты от меня не отделаешься, пока не выслушаешь до конца.
— Ну хорошо, я не буду переезжать к Мимми. Я буду по-прежнему жить у Бьёрна и выйду за него замуж. Доволен?
— Что значит доволен? Это ж не я пойду за него замуж.
— Скажи спасибо, что не ты!
— Спасибо. — Он улыбнулся ей и безо всякого стеснения почесал у себя в паху.
— Впрочем, о замужестве говорить пока рано, — прибавила Карианна. — Сначала мне надо забеременеть, а с этим, похоже, дело затягивается.
— Ага! — засмеялся он. — Ты надеешься выведать у меня тайну, скрывающуюся в твоей плоти и крови?
— Коль скоро ты видишь людей насквозь, то наверняка знаешь и это.
— Конечно. И могу поделиться с тобой, потому что никакого секрета тут нет, да ты и сама догадываешься. Тебе больше не носить ребенка во чреве, ни в этом году, ни в будущем, ни когда-либо еще. У тебя непроходимость маточных труб из-за рубцов, а рубцы эти остались после болезни, которую ты приобрела в давние времена, когда гуляла в городе с каждым встречным-поперечным.
— Непроходимость от спирали, а не от гульбы, — возразила она.
— Что в лоб, что по лбу. Так или иначе, за все нужно платить.
— Однако ты дорого берешь, — горько призналась она. — Хоть бы предупредил, во что это мне обойдется!
— Если бы я предупредил, у нас с тобой не было бы никакой коммерции.
— Ну пожалуйста, одного ребеночка! — попыталась уговорить Карианна. — Только одного…
— Одного ты уже получила, — сказал гном. — А если вы с Бьёрном поженитесь, глядишь, можете со временем кого-нибудь усыновить.
— Заткнись, нежить проклятая!
— Благое ведь дело, сама знаешь, — заметил бесенок, — взять в дом сиротку, без отца, без матери.
— У моего ребенка была мать. Почему ты позволил отнять у меня девочку?
— Но ты просила только сохранить ей жизнь. И я, как ты помнишь, предупреждал, что это тебе дорого обойдется. Не так-то просто подыскать место для души, которой не суждено жить на свете.
— Значит, ты выполнил наш уговор? — встрепенулась Карианна. — Моя дочка жива? И ей хорошо?
— Да, она жива, и ей хорошо, — подтвердил он.
— Дай мне повидаться с ней, — попросила она. — Один единственный раз!
— Придется платить, — заявил гном. — И недешево! Сама знаешь.
— Мне все равно, сколько это будет стоить.
— Я подумаю, — сказал гном, поднимаясь на ноги.
И Карианна осталась в парке одна. В воздухе посвежело, отметила она, колени, прикрытые юбкой, совсем закоченели. Она, пошатываясь, встала и взглянула на замок Кампенслоттет, силуэт которого прорисовывался на фоне темнеющего над городом кристально-чистого небосвода. Рядом возвышалась на пригорке скорбная громада старинного доходного дома, только в нескольких окнах которого горел свет.
По примолкшим ночным улицам Карианна двинулась домой, в Грюнерлёкку.
3
Бьёрн вернулся домой поздно и, конечно, разбудил ее, когда всей тяжестью упал на двухспальную кровать, от него пахло вином и табачным дымом.
На следующее утро, в воскресенье, Карианна встала в половине девятого и устроилась на кухне с чашкой чая, крутым яйцом и бутербродами. Она любила воскресные утра, любила лето, любила долгие неторопливые завтраки, голубей, скребущихся в слуховое окно.
Через некоторое время проснулся и Бьёрн, она слышала, как он копошится в комнате. И вот он появился в кухонных дверях, бросил взгляд на нее. Но ничего не сказал, она тоже промолчала. Бьёрн прошел в ванную, судя по звуку, пустил душ, потом снова появился в кухне, гладко выбритый, с мокрыми волосами и покрасневшими от шампуня глазами. По-прежнему молчком.
— Сварить тебе яйцо? — предложила Карианна.
— Можешь не беспокоиться, — буркнул он, — сам сварю.
— Я просто не знала, захочешь ли ты. И тем более не знала, когда ты встанешь.
— Я же сказал, сам могу сварить!
Она не проронила ни слова, пока он наливал в кастрюльку воду, доставал чашку, тарелку, подставку для яйца. В конце концов молчание стало непереносимым, и она спросила:
— Что с тобой?
— Ничего.
— Ничего так ничего, — сказала Карианна, хотя понимала, что отвечает неверно. Просто она была сейчас не в состоянии взвалить на себя следование правилам, играть в игру так, как положено, так, как в нее играли всегда.
Однако Карианна слишком хорошо знала, что он способен хранить молчание часами, до тех пор пока она не подчинится естественному ходу вещей и сама не приступит к долгому и трудоемкому делу вытягивания из него той или иной «правды».
— Я съезжу к Мимми, — сказала она, поспешно поднимаясь из-за стола, — хочу там все отдраить к завтрашнему дню, когда папа приедет с фургоном.
— Разве мы не пойдем к моим родителям?
— Гм-м-м, — промычала Карианна. — Думаю, не будет ничего страшного, если ты сходишь один. Мне надо закончить с квартирой.
И сама почувствовала: слишком много оправданий.
— Ну ладно, — сказал он.
И даже не поинтересовался, когда она собирается вернуться. А она не стала говорить.
Зеркало так и осталось незавешенным. У Карианны был выбор, она могла повесить плед, если бы захотела. Но накануне в зеркале отражалась одна картинка, и Карианна продолжала видеть ее, как видела она и другие картинки, независимо от того, были они закрыты пледом или нет. Самое простое, конечно, было бы повесить плед на место, поскольку ей еще требовалось время на раздумья, однако это казалось излишним, несущественным, и она оставила все, как есть.
Карианна налила в ведро горячей воды, насыпала порошка и принялась отмывать кухонный буфет.
Из гостиной не доносилось грузных бабушкиных шагов, и Мимми не включала радио, чтобы послушать воскресную службу из Кафедрального собора.
Мимми была не более чем горсткой пепла в урне.
Мысль об этом не укладывалась в голове.
Если бы Карианна сумела выжать из себя слезы, глядишь, ей было бы легче поверить в реальность происшедшего, но слез не было, а были только тряпка, и беспорядок на кухонном столе, и грязь, незаметно и настырно въевшаяся в дерево и краску.
Карианна всегда считала, что у Мимми в квартире чисто. Теперь же она поняла, что старушка справлялась лишь с поверхностной уборкой. Да и как она могла осилить что-либо большее? Как можно было ожидать от нее большего?
Было бы нелепо, почти неприлично горевать о смерти этой женщины с набухшими венами, повышенным давлением и десятками килограммов лишнего веса, колыхавшимися у нее на животе, руках, бедрах.
Но такой она выглядела со стороны. Внутри же Мимми, видимо, оставалась неизменной до конца, думала Карианна, ее личность не была затронута годами, переменами, морщинами, тучностью и одиночеством.
Отдраив полки в шкафах, Карианна убрала на место сервиз и сухие продукты. При всей своей страсти к порядку, системе, организованности, она стыдилась того, что роется в Мимминых вещах.
В прихожей на полочке для головных уборов она обнаружила дамскую сумку, которую проглядела раньше. В сумке лежала пара тонких коричневых перчаток и сиреневый шарф искусственного шелка с крупным рисунком. Карианна отлично помнила этот шарф — довольно безвкусный, он пропах одеколоном и камфарными пастилками, пропах Мимми. В зеркале что-то мелькнуло, от стен отдавались звуки, которые они впитали в себя: голос Мимми, ее шаги, ее мучительно-затрудненное дыхание. Одеколон и камфарные пастилки. Бабушка.
Карианна рухнула на пол в передней и, свернувшись в комочек, зарыдала над коричневыми перчатками и неприглядным шарфиком с крупным рисунком.
Но плач не принес облегчения. Не помог. От чего он должен был помочь? Умерла страдавшая разными недугами женщина преклонных лет. И если то, что Карианна испытывает сейчас, называется скорбью, значит, скорбь вовсе не чиста и не благородна, как утверждает молва. Скорее она неподобающа и омерзительна. Карианне некогда скорбеть. У нее куча других забот.
Она поднялась с полу и запихнула сумку, перчатки и шарф в ближайшую картонную коробку. Потом спустила грязную воду в уборную, налила из горячего крана новой воды и занялась шкафами в передней.
Сегодня Карианна не позволила себе передохнуть в парке, не вышла на улицу, чтобы купить яблоко или бутылку апельсинового сока. Она вымыла шкафы, полки, окна, холодильник и плиту. Стены и потолок остались на потом. Если продавать квартиру, очевидно, придется делать в ней ремонт, красить и что там еще. Уборку Карианна закончила потная, грязная и изнемогшая; приняв душ и переодевшись в джинсы и свежую кофточку, она села в гостиной разбирать письменный стол.
В старой конфетной коробке лежали письма и рисунки: «Мимми от Карианны». Она торопливо перелистала их: поздравления с Рождеством, всякие детские каракули и завитушки, ангелочки с принцессами. Нашлось и письмо, которое она искала. Карианна хорошо помнила, как писала его. Ее не выпускали из комнаты, посадили под замок, и она, тоскуя по Тарику, сочинила письмо Мимми.
«Дорогая Мимми! Пожалуйста, попроси папу, чтобы он разрешил мне пожить у тебя. Они держат меня взаперти. Обращаются со мной, как с малым ребенком. Почему все говорят, что мне еще рано заводить детей? Это неправильно. Я все равно буду рожать!»
Видимо, дело было зимой, потому что Карианне уже исполнилось шестнадцать лет.
Она вышла в кухню, достала из буфета спички и спалила письмо в раковине, обратив его в пепел. Коробку из-под конфет вместе с рождественскими открытками и рисунками она положила к себе в сумку. Остальное пускай лежит в столе: старые письма, счета, лотерейные билеты Фонда помощи детям, фотографии, справки, сберегательная книжка, квитанции на небольшие суммы, переведенные Красному Кресту или Церковному обществу помощи нуждающимся. Каждую принесенную почтой просьбу о пожертвованиях Мимми воспринимала как приказ, как счет наравне с другими счетами. Вроде очередного взноса в счет погашения своего долга Господу Богу. Она творила благие дела.
Горсточка пепла.
Карианна прошла к телефону.
Поколебавшись, набрала свой домашний номер. Никто не ответил: конечно, Бьёрн ведь у родителей в Экеберге. Позвонить туда у нее не хватило духу. Вместо этого она набрала телефон собственных родителей, поговорила с отцом: пусть приезжает в понедельник, все вещи собраны, можно увозить. А вот связываться с маклером по продаже недвижимости пока не надо. Мимми всегда предполагала, что квартира достанется ей, Карианне, поэтому она чувствует себя связанной какими-то обязательствами, она еще не созрела для продажи. Затем Карианна перекинулась несколькими словами с матерью; она отчетливо представила себе материнское лицо, как только закрыла глаза и услышала в трубке ее ровный голос: эти недоговоренные фразы, их бессвязность и печаль, когда речь зашла о Мимми, не создавали впечатления глубокого страдания, однако Карианна знала, что мать тяжело перенесла смерть Мимми. Ну почему мама не может взяться за ум и сделать что-нибудь путное с собой и своей жизнью? Карианну охватило безнадежное, досадливое раздражение. Боль за мать. Она поскорее закруглила разговор и, прежде чем позвонить в коммуну, где жила Рут, некоторое время сидела с телефонной трубкой в руке.
Карианна задумалась о Бьёрне, о его длинных тонких пальцах, мягких, рано поседевших волосах. Она вспомнила, что дома давно стоит в шкафу бутылка белого вина, вот они и потолкуют за бутылкой, а потом лягут на только что купленном синем диване, наплевав на пятна, которые появятся на обивке, и на друзей, которые могут позвонить в дверь… Впрочем, кто же это придет в такую поздноту? Они будут пить вино и мириться со всей пылкостью, на какую только способны их тела, и может быть, кто знает…
Она набрала номер Рут. К телефону подошла Анетта. Рут не было дома.
Карианна встала и посмотрелась в зеркало. Джинсы с белой блузкой, голову она мыла вчера. Вполне можно выходить в свет.
Медовые волосы, подумала она. Она знала, что такого цвета не бывает, на самом деле волосы ее были светло-каштановые, в крайнем случае золотисто-каштановые, а что блестящие и густые, это правда. Бьёрн называл их медовыми. Ну что ж, коль скоро в руках такая артиллерия, надо вести ее в атаку.
Симпатичная модная девушка с волосами медового цвета..
Карианна ушла, с силой захлопнув за собой дверь.
Велосипед она поставила в подвале: неохота было тащиться с ним в центр. В сумочке у нее лежал проездной на месяц, и, поскольку задерживаться допоздна она не собиралась, доехать потом до Грюнерлёкки можно было и на трамвае.
Карианна шла, в стремительном темпе переставляя ноги, чуть заметно прилипая подошвами к асфальту. На Пилестредет, там, где начиналась высоченная мрачная стена вокруг Фрюденлуннского пивоваренного завода, приторно пахло… чем? Солодом? Или табаком? Или цветущими кленами? Нет, в разгар лета клены уже отцвели. Но запах был очень знакомый, от него засвербило в носу, похолодело в животе: так пахло однажды, когда она вместе с родителями направлялась в гости к Мимми, — солод, цветущие клены и Карианна в белых колготках, от которых чешутся ноги, в красном пальто и сапожках. Нет, она с чем-то перепутала. Не могло пахнуть цветущими кленами, если она шлепала сапожками по талому снегу.
Она, маленькая, между двух взрослых, с обеих сторон их руки, которые держат ее.
Где же были эти руки потом, когда они были так нужны Карианне?.. Потом они уже не держали ее. Сжатые кулаки отца, нервные пальцы матери. Родители убрали свои руки? Если бы они убрали их совсем… Рядом с Карианной оставалась только Мимми, добрая, обиженная за нее, пытавшаяся чем-то помочь, но почти бессильная.
— Все к лучшему, моя милая. Когда-нибудь ты поймешь, что они были правы.
Может быть, и так. Родители предали ее, она предала саму себя, и тем не менее, возможно, это было к лучшему. Теперь уже трудно сказать.
Карианна шла и шла, не в силах побороть владевшую ею тревожную неугомонность и обосноваться где-нибудь. Сначала она устроилась с пивом в кафе «Над сортиром»[9], но вскоре перебралась в «Хенрикку», где заказала еще кружку.
Все какое-то времяпрепровождение — сидеть и таращить глаза на людей вокруг.
Ей было трудно. Лица. Одежда. Тела. Сложно было найти во всем этом смысл, понять, почему они кишат здесь. Она присматривалась к молодым парням: множество красивых юношеских задов в тесных джинсах, множество тел — вероятно, каждое со своей душой, со своей индивидуальностью, но кому какое дело до твоей души? И как суметь выманить эти души на свет Божий, под золотисто-багряные лучи вечернего летнего солнца? И, если уж на то пошло, в чем суть различия между «людьми» и «вещами»?
Третью кружку Карианна пила смакуя. Ажиотаж вокруг поутих, приближался понедельник, бурление выходных начинало спадать. К ней за столик подсели две девушки, чему Карианна обрадовалась: у нее не было никакого прикрытия и оставаться одной за столом на четверых было довольно-таки неуютно. За столиком напротив сидел широкоплечий небритый мужчина, напоминавший борца. Он поднял кружку с пивом в сторону Карианны и улыбнулся ей. Та улыбнулась в ответ, приподняв свою кружку. Зачем мы это, собственно, делаем? — задумалась она. Смешно… Мы словно хвастаемся своим пивом. Хотим продемонстрировать, что неплохо запаслись… Одна из девушек рядом с Карианной заплакала. Ее подружка наклонилась к ней и, незаметно взяв за руку, принялась уговаривать, в ее приглушенном монологе сквозило раздражение. Никто, казалось, не обращал на них внимания. Через некоторое время они встали из-за стола и ушли. С неба постепенно опускалась тьма, которая обволакивала ветви деревьев на Студентерлунден, заигрывала с руками и лицами, накладывала интригующие тени под скулами, придавала губам припухлость, аглазам блеск, заставляя их мерцать, словно из подводных глубин. Карианна чувствовала себя усталой и все же не уходила, она погрузилась в море людских голосов и рокот городского транспорта, уши ее были измучены этими звуками, но она продолжала сидеть. Иногда кто-нибудь подходил и просил разрешения сесть за ее столик. Свободных столов хватало, поэтому она отказывала: к ней, дескать, должны прийти. Ох, уж эти мужчины! У нее не было сил на разговоры с ними. Может она, в конце концов, посидеть просто так и посмотреть на них? Не обязательно тут же приставать к ней… У Карианны, кстати говоря, было что предъявить им. Она сидела, выставив напоказ правую руку: имеющий глаза да увидит, что эта женщина занята, она помечена, она принадлежит другому.
У девушек — у хорошеньких девушек — были мягкие, уверенные движения, девушки смеялись губами и всем телом, кокетничали плечами, кончиками пальцев, каждой своей черточкой; красивые ребята были в чем-то схожи с ними, а в чем-то несхожи: в них была некая невозмутимость, было некое самоуверенное тщеславие, которое делало их менее подверженными беспокойству. Может, они были глупее? Глупо считать, что все в твоих руках, размышляла Карианна, глупо считать, что ты можешь вертеть миром, как хочешь, глупо не остановиться на минуту и не задуматься, все ли открытые улыбки действительно искренни…
И тем не менее им как будто удавалось так жить, все устраивалось по их желанию.
Бедра, у кого-то узкие, а у кого-то широкие, плечи, у кого-то широкие, а у кого-то узкие; животы, большие или плоские; ноги, длинные или короткие; белые рубашки, красные майки, красные майки в полоску, белые майки с эмблемой спереди, джинсы, хлопчатобумажные блузки, индийские платья; носы — рубильником и приплюснутые, карие глаза, светлые волосы, еще светлые волосы — вьющиеся, еще светлые волосы — короткие, длинные черные косы, поросль волос на верхней губе и на подбородке, груди — с большими сосками, с маленькими сосками и почти без сосков; туфли на высоком каблуке или на платформе, босоножки, черные пояса с блестящими заклепками красные ногти, зеленые веки, кружева, пикантно выглядывающие из-под юбки, пиджаки, обнаженные спины, басы и баритоны, визгливые голоса, норвежский-англнйский-немецкий-датский-шведский; набитый бумажник, тощий кошелек, чековая книжка; острые коленки; кожа — коричневая, черная, белая.
В общем-то, все эти детали сложены воедино более или менее одинаковым способом, думала Карианна — она была навеселе и потому склонна к философствованию. Когда доходит до дела, подробности несущественны. Зачем придираться к тому, кто с кем уйдет домой? У большинства ведь есть два глаза, нос, рот, у большинства по две руки и ноги, приделанных к туловищу с разных сторон… Правда, кое-какие органы у мужчины и женщины устроены по-разному, так что для обзаведения детьми желательны два разнополых существа. В остальном же, на ее взгляд, все люди похожи.
Карианна потеряла счет кружкам, которые влила в себя. Завтра на работу. Неуютно возвращаться вечером одной, но надо — именно потому, что это не очень приятно. Раз-два-три. К счастью, шла она ровно, не качаясь. Хорошо немного размяться. Идти по улице. Семимильными шагами. Воздух освежает легкие и голову. Чудесно.
Карианна неуклонно продвигалась к цели: через Дворцовый парк, от него по Парквейен, потом вверх по Пилестредет и во двор светло-желтого дома на Тересесгате.
4
На работе она занималась перерисовкой чертежа: просто и малоинтересно. Мысли ее перескакивали с одного на другое. Она не находила в старом чертеже ни единой ошибки, которую можно было бы исправить, никакого повода для детективной работы, ничего, к чему можно было бы придраться. Рутина. А впрочем, по-своему даже неплохо.
На обратном пути Карианна зашла за велосипедом и уже на нем доехала до Грюнерлёкки, поэтому домой она добралась позже обычного.
Бьёрн читал, устроившись на синем диване. Когда она вошла, он поднял глаза.
— Привет, — сказала Карианна.
— Привет, — отозвался он.
Она застыла посреди гостиной, глядя на Бьёрна. Он по-прежнему не отрывался от книги.
И если бы Карианна Хьюс подчинялась законам природы, она бы теперь поступила следующим образом:
Подошла бы к Бьёрну и села рядом с ним на диван. Возможно, взяла бы его за руку или прижалась щекой к его плечу. Спросила бы, не сердится ли он. Скорее всего, он ответил бы «нет», и тем не менее для нее было бы естественно попросить прощения за то, что она, не договорившись с ним, осталась ночевать в квартире Мимми. Резонно предположить, что тут он мог бы скрепя сердце признать: конечно, он был разочарован, когда она не вернулась домой. (Не рассердился, нет, а был разочарован!) Она все понимает, сказала бы Карианна, просто вчера она была не в состоянии обсуждать это, не в состоянии даже пойти домой; ей ведь сейчас нелегко… из-за того, что случилось с Мимми. Главное было — нащупать верный тон: говорить негромко, по-деловому и в то же время просительно. Скорее всего, он бы в этом месте обернулся и окинул ее снисходительно-скептическим взглядом (Карианна не пролила ни слезинки, когда получила известие о смерти бабушки, и вела себя внешне совершенно нормально, была спокойна, практична, улыбалась). С ее стороны, ни в коем случае нельзя было показать, что она заметила его недоверие. (Легкое поднятие бровей, округлых темных бровей, выглядывавших из-под седеющей челки: это еще что за выдумки? Само собой разумеется, он понимает, как она грустит по Мимми!) Лучше всего, конечно, если бы Карианне удалось заплакать: скептицизм в голубых глазах уступил бы место заботливости, участию; наконец, сменился бы облегчением. Плач был бы тут как нельзя более уместен… и не представлял бы угрозы (никакого повода для беспокойства, мир ведь не рухнет оттого, что Карианна немного всплакнет).
Но коль скоро наше повествование не реалистическое, а сказочное, Карианна повела себя иначе.
Она скинула босоножки, прошла в ванную (скошенный потолок, балки, слуховое окно, светильник, зеркало, комнатные растения) и приняла душ: горячая вода, светло-синее мыло «Феньял», махровая простыня. Вымывшись, Карианна накинула на себя летнее платье в виде бесформенного коричневого мешка и босиком прошлепала в кухню, ища чего-нибудь съестного.
По обе стороны раковины громоздилась посуда — частично вымытая, частично грязная. Карианна убрала чистую, заглянула в холодильник: сыр, колбаса, молоко, яйца, масло.
— Тебе сделать яичницу? — крикнула она через плечо.
— Спасибо, не надо, — ответил он из гостиной.
Она достала сковородку, отрезала себе пару кусков хлеба, поставила греться чайник.
— Ты уверен, что ничего не хочешь? — спросила она.
— Я поел на работе, — сказал Бьёрн.
Тогда она поджарила себе яичницу и поела за кухонным столом, перелистывая «Дагбладет» (он всегда покупал именно эту газету и, едва просмотрев, оставлял на подоконнике). Карианна была даже рада, что может посидеть спокойно и почитать за едой. (Дурная привычка, утверждал он. И, конечно, был прав.)
Она навела порядок на столе, но браться за грязную посуду не стала. (Чья сегодня очередь мыть? Ее? Карианна не помнила и решила заняться посудой позже.) Прихватив чайник, две чашки — для себя и для Бьёрна, — она прошла в комнату.
— Хочешь чаю? — предложила она.
— Да, пожалуйста, — отозвался он.
Карианна разлила чай, села, снова поднялась и подошла к магнитофону. (Полгода назад они купили новую стереосистему, Бьёрнову старую пришлось продать за бесценок. У самой же Карианны за всю жизнь не было никакой аппаратуры, кроме крохотного транзистора.) Поставив кассету с рок-группой «Баллада», она взяла с полки какую-то книгу, прошла обратно к креслу, села, подобрав под себя ноги, и раскрыла ее.
— А ты что читаешь? — спросила Карианна. Бьёрн показал обложку: «В огне и дыму» Хяртана Флёгстада.
— Интересно?
— Да, — отвечал Бьёрн. — Вполне.
Себе Карианна достала книжку под названием «Черная вдова».
Это было в половине шестого.
Без десяти восемь Бьёрн отложил книгу, потянулся вышел в уборную.
«Черная вдова» оказалась не женщиной и не видом паука. Это было судно, которое однажды вынырнуло из тумана под покровом ночи. К берегу, где была пришвартована «Черная вдова», вел тайный подземный ход из подвала дома на взморье, который героиня получила в наследство от своего двоюродного деда. На руку героини претендовали двое соперников, один Негодяй, другой Положительный, но кто из них был кто? Она рассчитывала, что Положительный — тот, что кажется более опасным. Это был смуглый брюнет, высокомерный, заносчивый и дерзкий. Посреди выяснения, пустит ли его Саманта (так звали героиню) в дедушкин эллинг, он так безжалостно-требовательно поцеловал ее, что в сердце девушки вспыхнула страсть…
— Ну и как, ты хорошо вчера провела время? — спросил Бьёрн.
Карианна отложила в сторону книгу, задумалась.
— В общем, неплохо. Я ходила в «Сару»[10], все было о’кей.
Стоя спиной к Карианне, он перевернул кассету.
— Могла бы позвонить.
— Я пыталась, но не застала тебя дома.
— Почему было не набрать номер в Экеберг? — спросил Бьёрн.
— Не хватило духу.
— Но ты должна понимать, что я беспокоюсь за тебя, если ты исчезаешь, не предупредив.
— Ну ладно. Ты же сообразил, что я осталась ночевать на Тересесгате? Чего сердиться?
— Я не сержусь, — отвечал он.
— Вот и прекрасно, — сказала она и, взяв книгу, снова погрузилась в чтение.
В начале десятого он уточнил:
— Я не сержусь, Карианна, просто я был разочарован, когда ты не пришла домой.
Саманта в это время открывала старый сундук, который обнаружила на чердаке дома, унаследованного от богатого дедушки. Смертельно испуганная, она тем не менее была настроена выяснить, с чем связаны происходящие вокруг события: с контрабандой наркотиков или со шпионажем? Она уже пережила покушение на свою жизнь и получила анонимное письмо, в котором содержались чудовищные угрозы ей, если она не уберется обратно в Нью-Йорк и не продаст дом. Со скрипом приподняв крышку сундука, Саманта почувствовала у себя на шее чью-то руку, она обернулась и…
— Карианна! — позвал Бьёрн. — Что с тобой?
— А? — переспросила она, отрываясь от книги.
— Ты ходишь угрюмая, неприступная, — смущенно проговорил он. — Что случилось?
— Да ну тебя, Бьёрн! — сказала она. — Это ты дуешься на меня! Сначала ты дулся, потому что в субботу я рано ушла из гостей, а теперь дуешься, что я не ночевала дома.
— Я вовсе не дулся, потому что ты рано ушла. Господь с тобой! Ты имеешь право уходить, когда тебе вздумается.
— Я тоже так считаю, — отвечала Карианна. — И не понимаю, из-за чего ты сердишься.
— Да не сержусь я! — возопил Бьёрн.
— Отлично, — бросила Карианна. — Значит, все в порядке?
Он не ответил. Она смотрела на него. Он по-прежнему молчал. Карианна опять принялась за книгу.
В двадцать минут десятого она встала, потянулась, зевнула, затем прошла в ванную, почистила зубы и сходила в уборную.
— Я пойду ложиться, — сказала она в дверях. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — буркнул он, не поднимая глаз от книги.
Когда он пришел, Карианна еще не спала. Она почувствовала, как заколыхалась кровать под тяжестью севшего на край Бьёрна. Он грузно улегся и перевернулся на другой бок, спиной к Карианне.
Она вздохнула в темноте.
Каждая сказка должна все же соотноситься с действительностью.
Карианна протянула руку и погладила Бьёрна по затылку.
Он не шевелился, но тело его чуточку расслабилось. Она почесала Бьёрна за ухом. Он сделал пол-оборота к ней однако продолжал лежать молча, выжидая.
— Конечно, мне надо было предупредить тебя, — шепотом сказала она. — Только я не собиралась там ночевать так вышло случайно. Давай забудем эту ерунду.
— Это не ерунда, Карианна, — озабоченно проговорил он. — Тебе нужно научиться считаться с другими людьми, я беспокоился за тебя, неужели непонятно?
— Понятно, — отвечала она. — Я не нарочно, Бьёрн.
Он развернулся к ней совсем, одной рукой обнял, погладил по спине.
Ее тело, отметила про себя Карианна, не желало откликаться Бьёрну, оно словно не присутствовало вместе с ней и Бьёрном в темноте под летними одеялами.
Карианне не хотелось сейчас ничего такого. Но заикнуться об этом было нельзя.
Каждая сказка должна соотноситься с действительностью, и Карианна, закрыв глаза, отдалась естественному ходу вещей.
Однажды, перед самым обеденным перерывом, Карианне позвонила из детского сада Рут, она была возбуждена и говорила загадками.
— Если придешь сегодня вечером ко мне, угощу лепешками и бараньим окороком, — принялась соблазнять она.
— Ты с ума сошла! — сказала Карианна. — Что это вы празднуете? Все-таки купили дом?
— И еще пивом, — добавила Рут. — Кстати, можешь захватить и своего смиренника, если не удастся вырваться иначе.
Рут с симпатией относилась к Бьёрну — как, впрочем, и большинство людей, — однако пару раз Карианна ловила в глазах подруги озабоченное выражение, а на ее лбу — небольшую морщинку, словно Рут добродушно удивлялась, обнаружив на его лице некую черту, не совсем к нему подходящую.
— Признавайся! — допытывалась Карианна. — У тебя есть повод? Вы покупаете дом, Рут? Значит, получилось?
— Нет, — донесся из трубки голос Рут. — Во всяком случае, про это еще ничего не известно. Меня пока что выселяют из квартиры: моя комната понадобилась двоюродной сестре Анетты и ее сыну.
— Что ты говоришь, Рут! — вскричала Карианна.
— Всего на месяц, — уточнила Рут. — Так что теперь я вложила все свои капиталы в путешествие по Португалии!
— Вот это да! А как же твоя работа?
— Я ушла, — ответила Рут. — Не могу больше иметь дело с младенцами. Они сведут меня в могилу.
— Да ты что?! — воскликнула Карианна. — А потом как?
— Потом у меня будет новая работа, — пояснила Рут. — С середины августа. — И, выдержав паузу, торжествующе выпалила: — С шестилетками!
— Вот негодяйка! — сказала Карианна. — Я ведь и правда решила, что ты уволилась.
— Я бы так и сделала, если бы меня не перевели в старшую группу, вернее, в смешанную.
— Замечательно, — сказала Карианна. — Конечно, я приду пить пиво.
— Со смиренником или без? — спросила Рут.
— Перестань! — отмахнулась Карианна. — Если кто у нас в доме смиренник, так это я. Наверное, все-таки без.
— До вечера, — сказала Рут.
Карианна положила трубку и вернулась на свое рабочее место за пакетом с едой. Вытершиеся, наклеенные на холст карты, девственная синтетическая пленка, оригиналы. Но сначала, слава Богу, перерыв на обед…
Конечно, она с удовольствием возьмет с собой Бьёрна… если он захочет…
Но Бьёрн идти не захотел, и она, пожалуй, обрадовалась этому. Одной будет проще поговорить с Рут.
Большой старый дом, в котором обосновалась коммуна, находился в Гудлиа; Карианна редко ездила на метро, чаще всего как раз в тех случаях, когда направлялась к Рут. Она сидела и разглядывала людей вокруг: в этот чудесный летний день большинство ходили в легких платьях и рубашках, в матерчатых туфлях, босоножках или сандалиях, лишь кое-кто накинул жакет или курточку. Через проход от нее парился в костюме пожилой мужчина, с «дипломатом» и при галстуке. Он был такой сердитый и недовольный, как будто жизнь была для него даже не хроническим страданием, а острой фазой болезни. Что его мучает? Мозоли? Язва желудка? Зубы? Проследив за его взглядом, Карианна обнаружила двух молодых людей в джинсах и майках — один из них сидел, упираясь ногой в противоположное сиденье. Вот, значит, в чем дело. Со своего места в углу Карианна в открытую уставилась на ногу: узкая красивая ступня в видавшей виды кроссовке. Было бы из-за чего волноваться… Испачкает сиденье? Досадно, конечно, если сесть в светлом платье, не посмотрев. Однако на улице сейчас сухо, кроссовки вроде чистые. Может, человек в костюме завидует? Карианна улыбнулась, украдкой взглянула на старика и, встретившись с его глазами, тут же придала своему взгляду бессмысленное, отсутствующее выражение. Нет-нет, я не слежу за тобой. Мой взгляд совершенно случайно скользнул по твоей физиономии. Вот он уже движется дальше.
В детстве Карианна дружила вовсе не с Рут, а с ее младшей сестрой, Рейдун. Рейдун и Карианна были сверстницами. Рут же, будучи на четыре года старше их, считалась «большой». Так они и росли — с ощущением, что Рут «большая», чуть ли не «взрослая». Рейдун с Карианной были такими закадычными подругами, что все за пределами их общности отходило на задний план, казалось чуждым им. Сегодня это кажется почти невероятным. Когда Карианна в последний раз виделась с Рейдун, та только что сделала себе стрижку и перманент; молодая хозяйка, с мужем и двумя малолетними сыновьями, не работающая, она внезапно оказалась старше и Карианны, и Рут, в глубине души обе они надеялись, что никогда не станут такими солидными, как она.
Теплые золотистые лучи солнца за окном напоминали об осени, Карианна закрыла глаза и представила себе осень времен своего детства.
Подобно лету, осень казалась нескончаемо долгой — это был не сезон, а состояние, которое тянулось, тянулось и тянулось. Дождь, слякоть, внезапные заморозки и желтый отсвет, золотисто-красный отсвет над жнивьем, когда комбайн уже прошелся по полю, хлеба были убраны и обширные поля перестали быть запретной зоной. Две ошалевшие девчонки, сломя голову несущиеся по стерне, две девчонки, которые собирали солому в копны, строили из нее шалаши и прятались в эти секретные убежища с законными бутербродами или недозволенными сладостями, шипучкой, изюмом и извечной лакрицей, от которой оставались предательские следы на лице и руках.
— Карианна! Ты опять брала лакричный корень?
— Нет, не брала…
Тоненький, пронзительно-тоненький голосок, к тому же совсем не умеющий врать.
— Поднимайся к себе в комнату и жди, когда придет отец.
И приходилось повиноваться.
— Что нам делать с девочкой? Она совершенно отбилась от рук. Сколько ее ни стыдишь, как об стенку горох…
— Я к ней зайду. Накрывай на стол, Мерете.
Порка: унизительная, безжалостная, постыдная. Первые разы Карианна кричала. Потом стала терпеть молча, и, как бы сильно отец ни драл ее, больше она не проронила ни звука.
— ….Не ожесточай своего сердца перед Господом.
— …Не укради. И не солги.
— …Почитай отца твоего и матерь твою.
Домашний арест: ее комната — на втором этаже, над лавкой; ключ, поворачивающийся в замке; темнота. Карианна сидела без света, в темноте по крайней мере не видно, что она плачет.
Стук в окно. Негромкий, легкий удар по стеклу: бросать камешки было рискованно, а сосновые шишки были ненамного хуже, зато их приглушенный стук не привлекал излишнего внимания.
Осторожно отодвинуть шпингалеты — никто не должен услышать, как открывается окно. Она высовывается наружу: тьма, разверзшаяся внизу пропасть, ни зги не видно.
— Рейдун?
— Тебя заперли, Карианна?
— Да-а-а-а…
— За что?
— Ни за что.
Внизу молчание.
— Завтра выйдешь?
— Наверное…
— Хочешь, я спрошу разрешения поиграть с тобой?
— Все равно не позволят.
Молчание. И вдруг как снег на голову:
— Мама говорит, что красть нехорошо.
— Я и не крала! Это же наша лавка!
— Ваша, только тебе нельзя брать без спросу…
— Но ты тоже ела.
— Я не знала, что ем краденое.
— Прекрасно знала!
— Тсс! Не знала.
— Больше не буду тебя ничем угощать.
— Тогда я не буду играть с тобой! Пойду лучше к Лисбет и ее подружкам.
— Попробуй только.
— Я не вожусь с воровками!
— Ну и катись отсюда, дрянь!
— Сама дрянь!
— Карианна!
Взрослый голос, торопливые шаги, замирающие в сухой осенней ночи, поскорее захлопнуть окно.
— С кем это ты разговариваешь? — Поворот ключа в замке, режущий глаза свет из коридора. Мать.
— Ни с кем. Сама с собой.
— Ах, девочка моя, девочка… — Вздох. — Почему ты сидишь впотьмах? Давай я зажгу…
— Не надо!
Щелкает выключатель, комната заливается светом. Вид у матери утомленный, озабоченный.
— Ну почему ты такая неисправимая, Карианна? Ты же понимаешь, как нам с отцом бывает больно принимать к тебе суровые меры…
И набегающие под веками жгучие слезы: Мама, мамочка, мне тоже больно… я виновата… я сама во всем виновата! Но это про себя, произнести такое вслух было немыслимо, да и все равно дело кончилось бы лишь вознесенной к Богу молитвой о том, чтобы он отмыл пятна с Карианниной души и возвратил ей утраченную чистоту, что, увы, было невозможно, потому что, как знала Карианна, душа ее была не просто запятнана, а заляпана грязью, как будто она невесть сколько провалялась в слякоти под осенним дождем и ее уже не отмыть добела.
К тому же, когда отец в комнате бил Карианну, мама стояла внизу, около лестницы, и прислушивалась, молитвенно сложив руки и обратив лицо кверху.
Так что Карианна сидела, потупившись, на краешке кровати и молчала.
Через некоторое время дверь тихонько закрывалась. Ключ в замке поворачивался. Слышались удаляющиеся мамины шаги.
Карианна была трудным ребенком, говорили все в один голос; бывали периоды, когда Рейдун не позволяли играть с ней, бывали также периоды, когда сама Рейдун предпочитала дружить с другими, с Лисбет или с Гретой, девочкой, у которой были роскошные темно-каштановые волосы. Но рано или поздно их дружба возобновлялась, и Карианна с Рейдун гуляли по школьному двору — за руку, пока были детьми, и под руку, когда подросли. Они ходили на лыжах и играли в гандбол, они шушукались и хихикали, они по секрету рассказывали друг другу о загадках человеческого тела и о забытых в спортзале тапочках, они делились сердечными тайнами… Вместе они вошли в подростковый возраст.
И вдруг они раздружились.
Карианна очнулась: поезд уже дошел до Гудлиа, пора было выходить, она совершенно забыла, где находится. Она едва успела выскочить на перрон.
Рут и ее товарищи давно собирались купить большую виллу в швейцарском стиле, которую они снимали. Особняк был замечательный: старый, довольно ветхий и со множеством сквозняков, он тем не менее был уютным и достаточно поместительным для населявших его семи человек. Рут занимала огромную светлую мансарду, Тина с Гейром жили в двух комнатушках на первом этаже, рядом с гостиной, Грённеру, который работал в трамвайном депо и редко бывал дома, досталась маленькая комната на втором этаже, там же, только с противоположной стороны от лестницы, располагались в двух больших комнатах Анетта, Магнар и двухлетний Лейв. В доме были кухня, ванная и подвал, а к гостиной примыкала просторная веранда, от которой спускались опасно-крутые каменные ступени в яблоневый сад. Ради безопасности Лейва Анетта сделала крепкую калитку; большей частью именно она заботилась о таких вещах, на ней лежала ответственность не только за ребенка, но и за весь дом, в свое время она заключила контракт по его найму, она же ругалась, если кто-нибудь отлынивал от мытья полов или работы в саду.
Карианна любила бывать в гостях у Рут и ее друзей. Хотя они были старше по возрасту, у Карианны не создавалось рядом с ними никаких комплексов.
Сегодня атмосфера в доме была странная. Чувствовалась какая-то натянутость, настороженность. Карианна никак не могла взять в толк, что происходит. Вроде бы все привычно: Грённер был на работе. Тина перебранивалась с Гейром, малыш кочевал с рук на руки, возбужденный солнцем и всеобщей любовью, Магнар был по обыкновению сдержан, спокоен, доброжелателен, Анетта — разговорчива, весела, пылка и ласкова. Может, дело в Рут? Какая-то она сегодня экзальтированная… Волнуется перед поездкой и в предвкушении новой работы или тут что-то другое? Что-то стряслось?
Карианна не могла уловить витавшего в воздухе настроения.
Они ели лепешки и баранью ногу, пили пиво. Через некоторое время Рут с Карианной поднялись в мансарду: Рут купила новую кофту и полотняные брюки, ей не терпелось похвастаться ими. Карианна сидела в белом плетеном кресле и восхищалась покупками.
Рут прихватила наверх пиво, и они с Карианной сидели каждая со своим стаканом и вполуха слушали новую кассету с записью Джоан Арматрейдинг: «If you got no love to give, baby, don't give it here»[11]. Изумительно. Им давно не удавалось побыть вдвоем, вечно вокруг толпился народ. Рут устроилась на подоконнике: обхватила руками колени и свернулась клубочком, словно кошка гигантских размеров. Темноволосая, худая, бледная; быть может, слегка растрепанная.
Кто она такая, Рут? Карианна вдруг поймала себя на мысли, что никогда по-настоящему не приглядывалась к подруге, и в ней взыграло любопытство, оно воздушным пузырьком поднялось на поверхность и мгновенно лопнуло.
— Почему ты всегда ходишь в таких свободных свитерах? — спросила она.
Рут взметнула на нее удивленный взгляд.
— Неужели?
— И в рубашках, — продолжала Карианна. — У тебя вся одежда широкая и просторная. Как будто ты прячешь свое тело.
— Я и правда его прячу, — улыбнулась Рут. — У меня попа слишком толстая.
— Скажешь тоже! — возразила Карианна. — Да ты гораздо тоньше меня!
— У тебя другое сложение, — отвечала Рут, — ты крепкая и спортивная, а я просто тощая. И с толстой задницей.
Карианна покачала головой. Она не знала, что можно на такое возразить.
— Странно, что ты задала этот вопрос, два дня тому назад почти то же самое спросила Анетта. — Рут потянулась за сигаретами, взяла новую, нераспечатанную пачку «Принца». Карианна завороженно смотрела, как подруга снимает целлофан, открывает пачку, достает первую сигарету и прикуривает от миниатюрной красной зажигалки.
— Дай мне тоже, — неожиданно попросила она.
Рут вытаращила глаза.
— Ты что! Начинаешь курить?
— Да нет, — отвечала Карианна, — просто захотелось попробовать.
— Тебе не понравится, — сказала Рут, бросая пачку. Карианна поймала ее. — Мне и самой пора кончать. Дорого и вредно.
Карианна прикурила и, подержав горячий дым во рту, тут же выдохнула его.
— Затягиваться мне не обязательно, — пояснила она.
— Какой тогда смысл? — не поняла Рут. — Ну что, твой смиренник пытается отобрать у тебя власть?
— То бишь бунтует? Да, и он выбрал очень неудачный способ бунтовать. Только озлобляет меня. — Карианна погасила сигарету в пепельнице, стоявшей на книжной полке рядом с ее креслом.
— Значит, ему не по вкусу ваши отношения? — спросила Рут.
— Нет. — Карианна откинула голову назад и закрыла глаза.
«I'm living in a fool's paradise — I'm living on falsehood and lies»[12].
— Я не уверена, стоит ли мне дальше жить с Бьёрном, — продолжала Карианна.
Рут хмыкнула.
— Ты хочешь сказать: жить у Бьёрна.
Карианна встрепенулась и открыла глаза. Белое кресло под ней заскрипело.
— Что ты имеешь в виду?
— Вы ведь живете в его квартире, — уточнила Рут.
— Но мы так не рассуждаем! — испуганно вскричала Карианна. — Теперь это наша общая квартира. И наши раздоры не из-за этого.
— И все-таки ваш чердак купил Бьёрн, — напомнила Рут. — Еще до знакомства с тобой. И во сколько ему обошелся ремонт и переделка квартиры? Тысяч в сто? Это, милая моя, деньги. Собственность, его собственность, о чем тебе лучше не забывать.
— Бьёрн заплатил сто двадцать тысяч, — поправила Карианна. — Ему помог отец. Так что квартира, конечно, его, только это не суть важно. Рут. Как вообще жить вместе, если думать о таких вещах?
— А как можно не думать? — возразила Рут.
— Послушать тебя, получается, будто он подобрал меня на помойке и осчастливил, — сказала Карианна. Теперь она говорила напористо и громко.
«I'm gonna be rejected — let down — expect it — I'm living in a fool's paradise»[13].
— Прости, — отозвалась Рут. — Я не хотела тебя обидеть. Карианна. Мы с тобой обе знаем, кто ты такая.
Ой ли? Карианна снова закрыла глаза, подставила веки красному закатному солнцу и застыла в этом положении. Знаем ли? В саду уже завязывались первые яблоки. Под кустом черной смородины, рядок с забором, неподвижно возлежал полосатый кот, настороже и в то же время сохраняя спокойствие, уравновешенность, он сливался с узором, который образовывали на земле свет и тени, трава, листья. Кто же все-таки охотник, а кто жертва? Что представляет собой кот? Земля? Тень?
— Ты пробовала обсуждать это с Бьёрном? — откуда-то издалека донесся до Карианны голос Рут.
— Нет, — помедлив, призналась Карианна. — Я, можно сказать, сдалась. По-моему, это бесполезно, я и так пробовала подъезжать к нему, и эдак, никакого толку. Он валит все на меня. Если его что-то не устраивает, о чем он, кстати, никогда не говорит, то виновата я. Но стоит появиться чисто практической проблеме, как он решает все сам.
— Очень типично, — сказала Рут.
— Типично?! — возмутилась Карианна. — А мне это, черт возьми, кажется странным!
— Было бы куда удивительнее, если бы дело обстояло иначе, — ответила Рут.
— Наверное, я все же перееду от него, — продолжала Карианна. — Миммина квартира, сама знаешь, пустует… Мы думали продать ее, но сначала надо оформить право наследования, а это долгая волынка, так что сперва квартиру надо сдавать, в общем, какая-то несуразица. Меня останавливает одно… Бросать Бьёрна вроде как малодушно. У него, конечно, есть друзья, родственники, работа. А получается, что у него никого нет, кроме меня.
Рут только вздохнула в ответ. Карианна видела ее силуэт на окне: солнце зашло, комната погрузилась в сумерки, оконный переплет казался черным крестом на фоне летнего неба, и посреди этого креста сидела Рут. Она обложила широкий, как скамья, старинный подоконник подушками и теперь пристроилась на нем боком, опираясь подбородком о колени и обнимая ноги. Глаз ее Карианна не видела.
— Рут! — позвала Карианна. — Что-нибудь случилось?
Рут покачала головой, спустила ноги на пол, встала.
— Какая у нас темень! — сказала она, зажигая одно из своих бра. — У меня просто закружилась голова. Наверное, я выпила слишком много пива.
Она подобрала с кровати новую кофту, которой хвасталась, — это была просторная белая блуза из шелка-сырца, очень дорогая. Блуза осталась валяться на кровати после того, как Карианна посмотрела ее. («Ты с ума сошла! Откуда у тебя деньги на такую роскошь?» — «Кто бы говорил! А твой зеленый комбинезон? Скажешь, ты могла его себе позволить?») Рут повесила кофту в шкаф и с улыбкой повернулась к Карианне.
— Когда Рейдун в прошлый раз… — начали они хором. И тут же умолкли. И обе рассмеялись.
— Когда Рейдун в прошлый раз была здесь… ты ведь это хотела сказать? — спросила Карианна.
Рут кивнула, снова посерьезнев.
— Рейдун теперь совсем отошла от меня, Карианна. И отняли ее заботы. Не столько о детях, это было бы в порядке вещей. Скорее о Гленне. Заботы о нем и зависимость от него.
— Может, так всегда бывает, когда появляется мужчина? — наугад предположила Карианна.
— Как сказать… — задумчиво произнесла Рут. — Может, Рейдун просто повзрослела. Она выросла, стала кому-то нужна. Зато я не узнаю ее. И не могу понять, куда делась моя младшая сестренка.
— Она так чудесно пела, — припомнила Карианна.
— Да, — резко обернулась Рут. — Я уже три года не слышала, как она поет. С самого рождения Мартина.
— Сегодня я ехала в метро и думала про Рейдун, — отозвалась Карианна. — Мы с ней были закадычными подругами, а теперь мне тоже кажется, что я не узнаю ее. Но тут я сама виновата: сначала эта история с Тариком, потом я переехала к Мимми, а Рейдун тем временем перестала заниматься спортом и начала ходить на свидания к Гленну.
— Этим все и кончилось, — сухо заметила Рут. — Она посвятила ему жизнь… Впрочем, у Гленна много хороших качеств. И вообще, нет ничего легче, чем давать другим советы, как жить. Собственной жизнью распорядиться куда труднее.
— Грубиянка, — сказала Карианна.
— А ты вульгарная феминистка, — рассмеялась Рут.
Погода стояла прекрасная, вечер был теплый, безветренный, пахло травой и пылью. В центр Карианна ехала на последнем поезде метро, от железнодорожного вокзала добиралась уже пешком. Ее подмывало пуститься бегом, но на ногах были босоножки, так что она просто прибавила шагу. Скорей. Нужно кончать с ним.
Надо было поговорить с Рут о Португалии.
Надо было обсудить ее новую работу: наконец-то, после полутора лет ожидания, Рут получила под свое начало детсадовскую группу. Наверное, она волнуется? Радуется?
Надо было поговорить о Португалии.
У них часто получалось так, как сегодня. Рут была дающей стороной, она проявляла внимание, интерес, а Карианна только брала. Это не было новостью, чем-то необычным. Необычным было то, что Карианна задумалась об этом — мысли ее еще не обрели четкости и связности, в голове мелькали разрозненные картинки-воспоминания, и еще было неясное ощущение, что ее обманули.
«If you got no love to give, baby, don't give it here».
5
Гармония мира, которую ты наблюдаешь вокруг, может внезапно нарушиться, и на поверхность выползут змеи, появится опасность. Но что бы тебе ни угрожало, никому не будет до этого никакого дела. Всем важно только, чтобы ты не подавала виду.
Это, милая моя, называется опытом. Рано или поздно тебе придется его приобрести. Не берусь сказать как. Увы, я не смогу подготовить тебя к этой борьбе: я отдала тебя и даже не знакома с людьми, к которым ты попала.
В один прекрасный день Бьёрн сказал:
— Я нашел жильца на вашу квартиру, Карианна.
— Что?
— Один парень с моей работы хочет снять квартиру на Тересесгате, — пояснил Бьёрн. — Уве, я тебе о нем рассказывал.
Карианна безмолвно смотрела на Бьёрна. Дело происходило вечером, сразу после обеда, на который они ели солонину и пюре из брюквы; готовил еду Бьёрн, он получил в подарок от матери старинную поваренную книгу и начал кухарничать. Бьёрн выглядел спокойным, довольным собой. Он улыбался Карианне.
Очевидно, она должна была обрадоваться, почувствовать благодарность к нему.
— Уве не прочь потом и купить ее, — продолжал Бьёрн.
Карианна встала и принялась убирать со стола.
— А ты не думаешь, что надо было сначала поговорить со мной? — стоя спиной к Бьёрну, спросила она.
— Естественно, я ничего ему не обещал, — сказал он. Карианна обернулась. На лоб Бьёрна набежала морщинка в лице его сквозило удивление.
— Но это же моя квартира, Бьёрн! — вспылила Карианна. — Конечно, и мамина тоже… но мы еще не решили продавать ее.
— А что вы будете с ней делать? — смущенно поинтересовался он. — Я думал… Я просто хотел помочь.
Тяжело дыша, Карианна села и обратила на него сосредоточенный взгляд.
— Я все понимаю, — сказала она. — Но будь добр, Бьёрн, не пытайся улаживать мои проблемы. Я ведь никогда не лезла в твои дела. Не указывала, где тебе взять деньги для ремонта квартиры… как ее перестраивать… или что еще…
Фраза беспомощно повисла в воздухе.
— Ты о чем? — изумился Бьёрн.
Карианна облокотилась о столешницу, подперла руками голову, потупилась.
— Все это было решено… мы с отцом договорились… задолго до нашего знакомства, — объяснил он. — Иначе я бы посоветовался с тобой, Карианна!..
— Ну ладно. Это был неудачный пример, но…
— И это наши дела, а не мои! — прибавил он.
Полированная золотистая столешница блестела, как шелк. Бьёрн когда-то откопал этот полуразвалившийся раздвижной стол в магазине подержанных вещей и много дней корпел над ним, пока не привел в порядок и не сделал такую красоту.
— Разве я не прав, Карианна?
Голос был спокойный: Бьёрн говорил негромко, терпеливо, снисходительно. Ей показалось, что он вот-вот назовет ее «милой девочкой». И она подумала, что, если он скажет что-нибудь в этом роде, она закричит — откинет голову назад, зажмурится, раскроет рот, и в этой со вкусом обустроенной, залитой солнцем квартире раздастся вопль, истошный звериный вопль.
— Квартира на Тересесгате все равно пропадает, — сказал Бьёрн. — А мой коллега ищет себе жилье. Почему мне было не предложить выход из положения?
— Пропадает? — переспросила Карианна. — Да Мимми умерла всего два месяца назад, Бьёрн!
— Скоро будет три, — уточнил он. — Нет, милая девочка, у тебя совершенно нерациональный подход к делу.
Она закрыла глаза и прошептала:
— Это моя квартира. И там буду жить я.
Гробовое молчание. Только отдаленный шум уличного движения в ушах.
Карианна подняла голову и встретилась взглядом с Бьёрном: серые глаза его смотрели хладнокровно, испытующе.
— То есть ты больше не хочешь жить со мной? — спросил он наконец. — Ты это имеешь в виду?
Она молча кивнула.
Он сдвинул брови, задумался.
— Почему же ты раньше ничего не говорила?
— Не была уверена, — отвечала она.
— Ты, значит, не считала нужным обсуждать это со мной, пока не решишь все сама? — Невозмутимый тон окрасился иронией: Бьёрн был обижен, чуть ли не оскорблен. Карианна вздохнула и поднялась с места. Чары рассеялись.
— Нам надо разобраться в этом, — сказал он.
Ну-ну.
Разговоры между ними никогда не приводили ни к чему хорошему, не помогли они и в этот раз: все оставалось по-прежнему. Даже бьёрнова невозмутимость оставалась прежней. Мало-помалу до Карианны дошло, что он не верит ни одному ее слову, как, вероятно, не верил ей и раньше. Для Бьёрна ее решение было верхом абсурда. Карианна собирается уезжать от него, Бьёрна? Почему? Чего она этим добьется? Она отступилась, перестала ему что-либо объяснять. Уложив одежду и книги, Карианна в несколько приемов перевезла их на велосипеде на Тересесгате. Бьёрн качал головой, дивясь ее непреклонности, но все же помог рассортировать кухонную утварь (ее вещей там было немного, к тому же Миммина кухня была оборудована всем необходимым, так что Карианна захватила только двеформы для выпечки хлеба, скатерть с салфетками и керамический набор для чая — заварочный чайник и четыре кружки, — который привезла с собой, переселяясь к Бьёрну). Помимо этого, у нее было несколько афиш и небольшая настольная лампа.
Бьёрн попросил у Роберта его «эскорт» и оставшиеся вещи переправил в Бишлет на машине.
Карианна исполнилась благодарности. По ее мнению, она не заслужила помощи Бьёрна. Когда-то она любила его, он вроде полагался на нее, и вдруг она поворачивается и уходит. Зато теперь они, может быть, станут лучше ладить, научатся понимать друг друга, будут чаще ходить вместе развлекаться. Провожая Бьёрна в Мимминой передней, Карианна обняла его, прижала к себе.
— Спасибо тебе, Бьёрн, — серьезно произнесла она. — Ты был великодушен. Я боялась, что ты будешь сердиться на меня, а мне хочется, чтобы мы были друзьями. Может быть, теперь мы наконец подружимся?
Он положил руки Карианне на плечи и некоторое время пристально смотрел на нее.
Ей почудились мелькнувшие в его лице страх и озлобленность. Но нет, Карианна все придумала, он улыбнулся, поцеловал ее в щеку, дружески похлопал по спине и ушел.
И вот она осталась одна.
Она закутала себя в одиночество, как в плед — добротный теплый плед. Это произошло в начале августа. Карианна уже считалась в отпуске, они хотели вдвоем ехать отдыхать, но теперь она вместо отдыха истратила деньги на приведение в порядок квартиры: погода стояла дождливая. Раньше Карианна не сознавала того, как тяжко ей приходится с Бьёрном, не понимала, насколько она бесправна. Она выпрямилась во весь рост, почуяла силу в руках и ногах, снова начала регулярно тренироваться, не ограничиваясь эпизодическими пробежками, записалась на курсы каратэ. Карианна воспарила. Серые Миммины обои были заменены ярко-желтыми, плинтусы выкрашены черным, половина мебели из гостиной передвинута в комнату Мимми; сама Карианна спала там, где всегда ночевала и прежде, — в каморке по соседству с кухней, на узкой кушетке.
Карианна не прибегала к колдовству, чтобы отвадить привидения. Мимми прожила в этой квартире целый век, почему бы ей время от времени не наведываться сюда, если ей так хочется? Несколько раз появлялся и Тарик. Карианна ждала его визитов и принимала его. Но смуглого ребенка — девочку с копной черных волос — она старалась избегать, отворачивалась от нее. Что касается горбатого гнома, этой нежити, в существование которой она почти верила, когда была маленькой и глупой, с ним, считала Карианна, ей тоже не о чем было говорить.
Итак, ее навещала Мимми, но Мимми уже умерла. К ней приходил Тарик, являлись отец и Рейдун: тени живых, тени из прошлого.
Карианна пускала их. Впрочем, она вряд ли могла помешать им, наверное, им положено было являться ей.
Когда Карианна была маленькой, она понемножку колдовала. Никто не учил ее ворожбе, она впитала ее из воздуха, волшебная сила проснулась в ней сама по себе.
Забравшись в лавке в коробку с конфетами и взяв несколько штук, она осеняла коробку крестом. Крест она клала кверху ногами, потому что не хотела, чтобы его увидел Господь. Это помогало: после второго класса ее редко подозревали в воровстве и, уж во всяком случае, ни разу не ловили на нем.
Она врала, и ее уличали во лжи; по дороге из школы она дралась с мальчишками и приходила домой в рваной одежде и с разбитыми коленками, тогда ее, бывало, пороли.
Но «воровать» она как будто перестала. Ее оберегали кресты.
У Рейдун и Рут была бабушка. Бабушка Бернтсен была полной противоположностью Мимми: Мимми была бабушка городская, а та была просто старая бабка, которая занимала две комнаты на втором этаже бело-серого дома в усадьбе Бернтсенов. Она жила замкнуто и терпеть не могла детей. Если они поднимались к ней, она угощала их жженым сахаром, только бы поскорее выпроводить.
И еще бабушка Бернтсен все время что-то бормотала. Она бормотала над вязаньем. Бормотала, ковыляя через луг в замызганных резиновых сапогах. Бормотала, затапливая печку.
Ни у кого не получалось растопить печку мокрыми осенними дровами быстрее, чем у бабушки Бернтсен.
«Аске-пладаске, аске-пладом, печка всегда будет греть мой дом!» — завопили однажды девчонки, передразнивая старуху, когда та стояла перед огромной печью в гостиной (вечером у матери Рейдун должно было состояться молитвенное собрание, и бабушке поручили протопить комнату которую обычно держали на запоре). Бабушка Бернтсен поворотилась к ним в такой ярости, что у Карианны с Рейдун затряслись поджилки, и с тех пор девочки никогда больше не пытались подсматривать за ней. (Потом бабушка Бернтсен подняла их на смех: они, дескать, недослышали и прочитали заговор неверно. Рейдун скоро забыла эту историю: такая уж у них бабушка, не стоит обращать на нее внимание. Зато Карианна помнила и стишок, и бабушку Бернтсен, которая умерла в ту весну, когда им с Рейдун исполнилось по одиннадцати лет.)
Рейдун была веселая и жизнерадостная. Она всему удивлялась, она пела песни, она хохотала и прыгала через веревочку, она собирала открытки: «Битлз», Венке Мюре и, конечно же, звезда Спиккестада — Гру Анита Шённ. Время от времени Рейдун непринужденно меняла подружек. Карианна страдала… и ждала, и Рейдун вскоре возвращалась.
Тяжелее всего дался Карианне последний, продолжавшийся почти две недели, период дружбы Рейдун с Лисбет. На десятый день (она вела точный счет дням) Карианна подстерегла Лисбет по дороге из школы. С места сражения она убежала победительницей, зажав в кулаке пучок светлых волос и оставив Лисбет с Рейдун ревущими на дороге, у Лисбет шла из носа кровь.
Карианна примчалась домой и в нарушение всех правил сама поставила вариться яйцо. Очистив скорлупу, она на одном боку яйца написала красным фломастером «Лисбет», а на другом — «Рейдун». Одну сторону она обвязала ниткой из варежки, которую Рейдун чуть не год тому назад забыла в Карианниной комнате. В другой половине яйца она проковыряла дырку и запихнула туда светлый клок. После этого она разрезала яйцо на две части и первую отдала пятнистой черной кошке, а вторую — с надписью «Рейдун» — скормила свирепейшему псу фру Муэ, которого осенью брали охотиться на лосей, а в остальное время держали на цепи. Вечером, когда Карианна вернулась домой, в квартиру над лавкой, мать рыдала в кухне, а отец устроил Карианне чудовищный разнос. Ее излупили, как никогда прежде, и отправили в постель без ужина, пригрозив три дня не выпускать из комнаты.
Оказалось, что родители Лисбет приводили свое покалеченное дитятко, а еще в раковине обнаружилась яичная скорлупа, а еще Карианна пропустила обед и ушла без разрешения гулять в зимнюю тьму.
Назавтра Карианна услышала вечером мягкий стук снежка в окно. Она чуть заметно улыбнулась.
Рейдун не выносила ябед.
Однажды — Карианне тогда шел двенадцатый год — она увидела во сне, что на комоде рядом с ее кроватью сидит, болтая ногами, одетый в серое гном. Он предложил научить ее заклинанию, с помощью которого она добьется расположения отца, и научить задаром, в виде рекламы. Карианна повторила стишок следом за бесенком, но утром, вспоминая свой сон, не могла припомнить заговора.
Карианна всегда считалась хорошей лыжницей, она неплохо бегала и была одной из лучших в школе гандболисток. Теперь она всерьез занялась спортом. Работать приходилось до кровавого пота, да и соревнования нельзя было назвать развлечением: в ту зиму, когда она училась в седьмом классе, ее после завершения дистанции несколько раз рвало. Однако ей льстило ощущение силы, приятно было выигрывать, испытывать тайную радость оттого, что в чем-то она лучше других — лучше Рейдун, лучше Лисбет, лучше, чем когда-то был ее отец.
Отец возил ее в стареньком фургоне на тренировки, давал советы, подбадривал, а в ту зиму, когда она стала чемпионкой округа по лыжным гонкам среди девушек своего возраста (ей было тогда четырнадцать, пятнадцать исполнялось весной), отец обещал ей в летние каникулы поездку за границу. Поездка для изучения языка! Торговля шла из рук вон плохо, дома поговаривали о продаже лавки или в крайнем случае о передаче ее Объединению кооперативов. Мать Карианны давно безнадежно мечтала поехать на Тенерифе или в Лас-Пальмас, машину десятилетней давности пора было менять на более современную модель, а Карианне сулили поездку за границу! Но мать только улыбалась, гордая своим птенцом, стояла в сторонке и улыбалась, не подсчитывая, во сколько это обойдется. Казнить или миловать, хвалить или пороть — решал отец. Карианна была счастлива.
Той весной она начала хорошеть.
И тут появился Тарик.
Красивее его не было мальчика на всем школьном дворе.
В весенний семестр Тарик начал ходить в параллельный Карианниному восьмой класс; он был года на два старше других, этот смуглый ангелоподобный подросток, стройный, худощавый, изящный, элегантный.
Когда Тарик улыбался, для Карианны всходило солнце.
Она никому не признавалась в этом, но наедине с собой шептала его имя, бормотала по вечерам в подушку: Тарик, Тарик, Тарик.
Но сколько она ни звала, он не откликался. А когда он на большой перемене проходил мимо нее в столовую, Карианна едва осмеливалась поднять взгляд.
У нее сердце обливалось кровью, такой он был одинокий, такой красивый, такой недосягаемый.
Тарик.
Карианне исполнилось пятнадцать. Она отгородилась от всех, даже от Рейдун, ее больше не радовало предстоящее лето. Она могла часами предаваться своим грезам, она забросила тренировки, она не отвечала, когда к ней обращались.
Тарик.
Он по-прежнему не отзывался. Тем временем наступили летние каникулы, невыносимо мучительные для Карианны, два месяца без единого взгляда на него, из них две недели в Англии, с Рейдун и ее старшей сестрой, Рут. Тарик был на другом краю света. Карианна восстанавливала в памяти его лицо, пока оно не начало терять очертания, не стало смутным и окончательно не расплылось, оставив окружающий ее мир сплошь серым.
Девочки поселились в Брайтоне, в семье англичан. Спали все трое в одной комнате. И, вероятно, чтобы снова припомнить, как он выглядит, вдохнуть жизнь в его портрет, Карианна и открылась однажды вечером Рут и Рейдун; она больше не могла терпеть того, что он ускользнул из ее памяти; мир, ранее бурливший для нее жизнью, теперь опустел. В Англии оказалось совсем не весело. Англичане, у которых они жили, относились к девочкам подчеркнуто любезно — и формально. Карианна никогда еще не чувствовала себя такой одинокой.
Рейдун пришла в восторг от ее рассказа, сопереживала ей. Рут же, застенчивая девятнадцатилетняя девушка с повышенным чувством ответственности, снимавшая комнату в Осло и работавшая практиканткой в детском саду, не на шутку встревожилась. Впрочем, она успокоила себя тем, что в пятнадцать лет влюбленность на расстоянии обычно недолговечна и чаще всего кончается ничем.
Карианна сидела в кровати и улыбалась, милой отрешенной улыбкой. Рейдун фантазировала о том, как Карианна поедет в Индию, встретится с тиграми и азиатскими буйволами. На другой день Рут повела обеих подружек на рок-концерт.
Они вернулись на родину, и потекло привычное норвежское лето: солнце вперемежку с дождем, походы за ягодами и купаться на озеро. Наступил август. Начались занятия в школе.
И перед ней опять предстал Тарик, живой и невредимый, только еще более отдалившийся, словно он побывал на луне. При виде него тело Карианны вспыхнуло алым пламенем. Губы ее таяли от одной его улыбки. Он излучал свет.
И продолжал не замечать ее.
Тарик! Тарик!
Никакого ответа.
Однажды в ночь под пятницу Карианна побежала в соседний поселок, Рёйкен. Там она пошла на кладбище, дождалась двенадцати и подобрала с одной из самых древних могил ком земли. Она сунула его в карман спортивного костюма, выпрямилась. Было тепло и мглисто, в воздухе висела легкая дымка. Карианна стояла между могил — и не боялась. Она сама не понимала, откуда у нее такая смелость.
Она бегом возвратилась домой и по дороге думала о старинной каменной церкви, в которой тоже не было ничего страшного. Вспомнились воскресные службы, на которые Карианна ходила маленькой: вот она сидит рядом с папой и мамой на жесткой деревянной скамье и старается вести себя тихо, не скучать, не зевать, не смеяться.
Ночью церковь выглядела иначе, но все равно не внушала страха. А приходского кладбища ей следовало опасаться, думала Карианна, и тем не менее она не испугалась.
Карианна прокралась в свою комнату, так что никто не заметил ее, подождала, когда забрезжит рассвет. Тогда она смочила комок земли слюной, написала им на ладони два имени и обвела их изображением сердца. После этого она легла спать.
Наутро она была совершенно разбитая и в то же время пребывала в удивительно хорошем настроении. Она не задрожала от страха, когда столкнулась с Тариком в коридоре (пришлось бегом догонять его), и не испугалась, когда, словно невзначай, задела левой рукой его руку.
Она плевать хотела на то, что кто-нибудь увидит ее жест, она плевала на то, что подумает Тарик.
На последней перемене он улыбнулся ей.
Через неделю они стали «дружить», стали «парой».
Когда тебе пятнадцать лет и ты ходишь в девятый класс средней школы, «дружба» с мальчиком редко бывает сопряжена с какими-либо иными ощущениями, кроме чувства гордости и некоторого превосходства над другими; на переменах влюбленная парочка выставляет себя напоказ: смотрите, какие мы храбрые, что мы делаем, чего мы стоим! Остальные ученики играют при этом роль зрителей: чуть сконфуженные, они наполовину завидуют, наполовину недоумевают.
С Карианной все было по-другому.
Она чувствовала себя на седьмом небе.
Они с Тариком разговаривали, подпирая стену, сидели вдвоем на траве и ели взятый из дома завтрак. При посторонних Тарик редко дотрагивался до Карианны, иногда только он позволял себе легко коснуться ее руки или подарить улыбку, проникавшую ей в самое сердце. Для начала Карианне и не требовалось большего.
Тарик жил с отцом и дядей, которого звали Мансур, в двухкомнатной квартире с кухней на втором этаже запущенного дома, некогда составлявшего часть усадьбы; отец его работал в Осло в ресторане, дядя был трамвайным кондуктором. Тарик приехал в Норвегию, когда ему было десять лет; теперь он хорошо говорил по-норвежски, но первое время приходилось туго, из-за языка он на два класса отстал от своих сверстников. У него были способности к физике и математике. В Пакистане остались мать Тарика и пятеро младших братьев и сестер. Жениться он всегда собирался на пакистанской девушке, которую ему подберут родители. Он мечтал выучиться на врача. Мечтал о том, чтобы жить отдельно и прилично зарабатывать: он хотел помочь своим снять более пристойную квартиру, куда можно было бы выписать всю семью.
На летние каникулы Тарик ездил в Пакистан. Там солнце, пыль, деревья, рассказывал он. Там болезни. Там доброжелательность.
Он рассказывал о трех парнях, которые налетели на него в темном переулке, около двух лет назад, еще до того, как они с отцом и дядей Мансуром получили эту квартиру в Спиккестаде. Один из парней ударил Тарика велосипедной цепью, у него до сих пор шрам на лбу. Он немного рассказывал о дискотеке для пакистанских подростков, но никогда не упоминал о расистских призывах на стенах метро, не говорил о культурных различиях или об эксплуатации.
Карианне было пятнадцать лет, и ее нимало не заботил внешний мир. Она жила лишь своей влюбленностью.
Рейдун перестала существовать для нее. Школа еще играла какую-то роль, но только потому, что там был Тарик. Тренировки Карианна пропускала при каждом удобном случае, успеваемость ее покатилась вниз. Зато Карианна много улыбалась.
Тело ее горело.
Тарик.
Карианна плевала на все и вся; на одноклассников, на учителей, на подружек и родителей; она замечала в лицах окружающих скептицизм, беспокойство, презрение, но все это оставляло ее безучастной.
Они с Тариком улучали минуту, чтобы подержать друг друга за руку. Они целовались украдкой, когда никто не видел.
И все же поползли слухи. Карианну слухи не волновали, она надеялась, что вряд ли кто-нибудь решится рассказать о них с Тариком ее родителям. Надежда оправдалась. Всю долгую осень они «дружили», и их более или менее оставили в покое.
Карианна стремилась к близости. Никому не должно быть до этого дела, это ее проблемы, ее собственная жизнь это касается только ее и Тарика. Ей хотелось быть ближе еще ближе. Он брал ее за руку, бережно целовал в губы. Он был по-рыцарски благороден и сдержан. А у нее было ощущение, что она кружится на карусели.
Он хотел жениться на ней.
Хотел познакомить со своим отцом. Она отнекивалась: пока не надо, еще рано. Они двое. Никому другому не должно быть до них никакого дела.
Они тайком выбирались на дальние прогулки, Карианна ведь занималась ориентированием и знала все окрестные поля и перелески как свои пять пальцев, они с Тариком карабкались по каменистым склонам и отвесным кручам, находили укромные уголки, куда не забредал народ.
Ей было пятнадцать лет, она была сильная и мускулистая, с высокой грудью, и у нее уже два года как начались менструации. Тело ее зудело. Она не представляла себе, как жила до встречи с Тариком. Она была ребенком, пребывала в спячке, ровным счетом ничего не понимала. Теперь она мечтала о том, как станет медсестрой и поедет с Тариком к нему на родину, как они будут жить там, в бедности, но в почете и уважении за свои благие дела, как у них будет восемь детей и дом с садом и как Тарик будет работать врачом в местной больнице. Он. Один только он.
Ему было семнадцать, он был нервный и раздвоенный и тем не менее обладал некоей уверенной в себе гармоничностью; сейчас для него не существовало ни прошлого, ни будущего, все вокруг изменилось, он брал Карианну за руку, он целовал ее в губы — и изумлялся…
Она стремилась к близости. Он же не предпринимал ничего, что могло бы шокировать ее; он был сдержан, пожалуй, даже скован, она грезила наяву, а он старался не испугать ее.
Однажды они гуляли по поляне, где летом паслись коровы. Моросило, Карианна была в желтом плаще, Тарик — в кожаной куртке и резиновых сапогах. На лужайке большими ведьмиными кольцами росли грибы-чесночники; она мгновенно вспомнила, что уже была тут во время какой-то вылазки с Рейдун: они еще подивились на ведьмины кольца, сорвали несколько коричневатых грибов, понюхали их, а потом дома выяснили название. Карианна вошла в ведьмин круг, провела рукой по дождевым каплям на траве, буйной зеленью топорщившейся посреди кольца, поднесла руку к его губам. Он улыбнулся. Она встала на цыпочки и унеслась на седьмое небо.
Они пили дождевые капли с травы посреди ведьминого кольца, и если он не знал, что делает, она-то, во всяком случае, отдавала себе в этом отчет. И если он не подозревал, к чему у них клонится дело, когда они, приникнув друг к другу, сидели под елкой на краю земли, она прекрасно это знала; она знала все, знала, что тело ее еще не сформировалось и слишком узко, что ей, скорее всего, будет больно, но это не беспокоило ее: она расстелила на хвое желтый плащ и притянула Тарика к себе, она улыбалась, пахло еловыми иголками и влажным грунтом, на кончиках пальцев сохранился едва ощутимый, терпкий запах чесночников.
Когда все кончилось, Тарик оторвал застывшее лицо от ее груди и пробормотал несколько слов на непонятном языке. Карианна улыбнулась, спокойная и ликующая, она запустила руку в его густую черную шевелюру. Теперь она обрела власть над собственным телом. Теперь и он стал хозяином своего тела, навсегда. Между ногами у нее горело и саднило, но это не имело значения. Тарик лежал беспомощный и близкий. Таким она и хотела его видеть.
Он сверкнул глазами.
— Я не должен был этого делать, — прошептал он. — Я ужасно виноват. Прости меня. Карианна. Я не должен был…
— Но мне же хотелось, — отвечала она. — Не надо угрызаться, Тарик. Мне хотелось этого.
— Нельзя было так поступать с тобой, — повторил он и, поднявшись на ноги, отвернулся от нее и привел в порядок одежду.
По дороге домой он в основном молчал, однако крепко стиснул ее ладонь, когда она взяла его за руку.
— Не нужно ни о чем жалеть, — сказала Карианна. И, отгоняя подкрадывавшуюся тоску, упрямо продолжала: — Мне хотелось этого! Я люблю тебя, Тарик!
Он посмотрел на нее и улыбнулся, хотя вид у него по-прежнему был обескураженный и беззащитный.
Тем не менее между ними еще раза два-три было то же самое, и каждый раз по настоянию Карианны.
Она наконец-то почувствовала свободу, почувствовала, что никто на свете не волен распоряжаться ее телом.
Но Карианна плохо представляла себе, чем это чревато.
Если кто и мог забеременеть, то другие, только не Карианна.
Солидные матроны, бывало, раздавались до невероятных размеров, делались такими толстыми, что с трудом таскали ноги по лестнице, и тогда они садились в кресло у окна и вязали розовые и голубые пинетки, пока в один прекрасный день не лопались от скуки и не получали себе в объятия окровавленного, визжащего, только что народившегося человечка.
Естественно, она не допускала и мысли о том, что нечто подобное может однажды произойти с ее собственным телом.
Когда в какой-то месяц эти дела не пришли вовремя, она не встревожилась: менструации никогда не отличались у нее регулярностью.
Когда у нее опухла и стала болезненной грудь, Карианна опять-таки не заподозрила неладного.
Когда ее начало тошнить по утрам и возникло отвращение к традиционным яйцам всмятку, которые варила по воскресеньям мать, она не придала этому значения.
Подступало Рождество. Карианне невыносимо было даже подумать о грудинке и солянке с сосисками, она постоянно чувствовала себя разбитой, она стала засыпать на уроках.
Однажды у нее была рвота по дороге в школу.
Она вовсе не рассчитывала на такое, не рассчитывала увидеть подобное выражение в глазах Тарика, когда стояла, прижавшись к нему, и ревела в его свитер.
Но он сказал, что женится на ней, и Карианна снова заулыбалась.
Прежде всего они отправились к его отцу. На такое она тоже не рассчитывала: она не предполагала, что будет с поникшей головой сидеть на стуле и ежиться под взглядом невысокого, темноволосого человека средних лет с добрым усталым лицом. В комнате стоял холод — дело шло к Рождеству, а в квартире не были предусмотрены двойные рамы. Дяди Мансура не было дома. Отец Тарика кашлял.
Он был пришиблен, у него дрожали губы. Тарик не решался встречаться с отцом глазами. Не смотрел он и на Карианну. Он сидел потупившись.
Что знала пятнадцатилетняя Карианна Хьюс об обществе, в котором под любовью понимается привязанность, возникающая за время пожизненного супружества? Что она знала о Тарике? Что она знала о его матери, которая жадно хваталась за каждое письмо из-за границы, которая печалилась, когда уезжал муж, и еще больше горевала, когда у нее отняли старшего сына, чтобы дать ему хорошее образование в стране под названием Норвегия, где женщины ходят полуголыми, хотя там бывают такие морозы, что вода в реках и колодцах делается твердой, как стекло?
— Ты не имеешь права так легкомысленно обращаться с чужой жизнью, — сказал сыну отец Тарика. И как было Карианне понять, что она совершила в отношении этого семейства?
Тарик спустился с ней в подъезд, проводить ее до дому ему не разрешили.
Карианне нужно поговорить со своими родителями, посоветовал его отец. Они стояли на лестнице, Тарик даже не поцеловал ее, он только крепко сжимал ее руку.
— Видимо, мне придется уехать в Пакистан, — опустив взгляд, тихо произнес он.
Она заплакала. Это не возымело никакого действия.
Она не рассчитывала ни на что подобное. Не рассчитывала, что нужно будет признаваться родителям — ни когда-либо в будущем, ни тем более теперь. «Я влюбилась в мальчика. Его зовут Тарик. Когда мне исполнится шестнадцать, мы поженимся. У нас будет ребенок». Она не ожидала побоев, слез, увещеваний. Не ожидала, что Тарик уедет от нее. Не ожидала, что ребенка попытаются отнять. Захотят умертвить. Это же убийство! — возмущалась она. Ее ребенка! Ее и Тарика! Убийство!
Тогда на ее сторону — в первый и последний раз — встала мать. Это действительно будет убийство. Невинной души, пусть и зачатой в грехе, но все же чистой… Мать с рыданиями в голосе говорила о младенцах и о небесах. Отец уступил: по правде сказать, он и сам не склонен был настаивать. Да и время избавляться от ребенка было упущено.
Карианну отвели к врачу. Она никогда в жизни не испытывала подобного унижения. Головой, жалкими остатками разума она понимала: докатилась…
Она жила в оцепенении. Не могла смотреть людям в глаза.
Она не выходила из дома. Перестала посещать школу. Она не хотела туда, а заставлять ее никто не пробовал. Она засела в своей комнате наверху. Спала и плакала, находилась в прострации.
Тарик уехал обратно в Пакистан. Карианнин отец вел переговоры с его отцом, после чего она и услышала про Тариков отъезд.
Тарик был вне пределов досягаемости, Рейдун больше не швыряла снежками ей в окно, отец не глядел в ее сторону и был крайне немногословен, мать ходила притихшая и сумрачная.
Карианна лишилась всего. У нее остался только живот, который день ото дня рос под ее сложенными руками. Она заводила беседы с животом, ведь в ее теле жил Тарик. Ей стало грезиться всякое на эту тему.
Мало-помалу она начала осознавать, что в ней зреет ребенок.
Младенца надо будет отдать для усыновления, заявил отец.
Она отвернулась к стене.
Ты сама еще ребенок, внушала мать, тебе не справиться, ты поломала свою жизнь.
Рожать полукровку, говорил отец, позор на всю семью… Если бы он не понимал, что это бесполезно, он бы попробовал выбить из нее дурь раз и навсегда.
Перед каждой едой родители возносили к небу молитву за Карианну. Дошло до того, что она отказалась спускаться к столу.
Послали за Мимми, она тут же приехала; это было в конце февраля, Карианна уже два месяца как не выходила за порог.
Уезжая в Осло, Мимми взяла с собой и Карианну.
В первую ночь у Мимми Карианне приснился сон. Она видела во сне своего ребеночка. Она была уверена, что это не мальчик, не вернувшийся Тарик, а совершенно новый человек, новый младенец. Он лежал на Карианниной постели, в квартире над лавкой, и спал.
Но вот с лестницы донеслись чьи-то грузные шаги, младенец открыл глаза и улыбнулся. Карианна беспомощно застыла посреди комнаты, она закричала…
И проснулась от собственного крика.
Она знала, кто поднимался по лестнице. Знала, кто задумал погубить ее ребенка.
Она в оцепенении лежала, тараща глаза в незнакомую тьму, прислушиваясь к ночным звукам большого города, ощущая резкие и непривычные запахи; она была вся в поту.
И тут ей второй раз явился гном: он обещал Карианне сохранить жизнь младенца в обмен на ее собственную запятнанную душу. Карианна согласилась. Она понимала, что заключает выгодную сделку. В середине мая у нее родилась смугленькая здоровая девочка. Придя в себя, Карианна попросила разрешения увидеть ребенка и долго лежала, прижимая его к себе; кормить девочку грудью она не захотела.
Она велела немедленно отдать ребенка на усыновление: ей была нестерпима мысль о том, что девочка проведет два месяца, предназначенных для обдумывания, в приюте для младенцев.
Карианна была безучастна и покладиста. С готовностью отвечала на вопросы. Подписывала все бумаги. Когда истекли два месяца, она поставила свою подпись под последним документом.
Переезжать к родителям она отказалась, продолжала жить у Мимми, пока не кончила девятый класс; затем она поступила в техникум, выучилась на чертежницу. В девятнадцать лет Карианна было пустилась в загул, но быстро одумалась: Мимми принимала ее поведение слишком близко к сердцу, а пускать по ветру собственную жизнь, если хорошие люди рядом терзаются по этому поводу, не доставляло ей ни малейшего удовольствия.
Она справилась. И ни о чем не жалела. Не хотела даже размышлять о случившемся.
Ведь ей удалось выторговать жизнь для своего ребенка…
Новую жизнь, в обмен на собственную запятнанную душу. Нет, ей не о чем было жалеть.
6
В конце отпуска к Карианне забежал в гости Бьёрн. Он загорел, выглядел посвежевшим и казался в хорошем настроении после поездки на Крит — они должны были ехать вместе, но он и один неплохо провел время, он рассказывал о пыльных дорогах, о белых селениях, о солнце, о завязавшихся знакомствах. Все-таки жалко, что Карианна тоже не поехала, заключил Бьёрн. Конечно, он отдохнул прекрасно, но ему не хватало ее…
Бьёрн принес бутылку купленного в аэропорту беспошлинного вина, Карианна угощала сырами, они сидели вдвоем в перекрашенной гостиной, выпивали, беседовали.
Обстановка была свободная и непринужденная. Карианна чувствовала себя легко с Бьёрном, наверное, она зря отказалась от намеченного путешествия — можно было, независимо ни от чего, поехать вдвоем, погреться на солнышке, быть друзьями.
Почему Карианна больше не хочет иметь с ним дело? — допытывался Бьёрн. Он все-таки не понимает. Пусть она растолкует ему.
— Ты никогда по-настоящему не любил меня, — объяснила она. — Для тебя было неважно, кто я такая, ты никогда не слушал меня, не верил мне. Тебя не интересовала именно я!
Она высказала это в твердой уверенности, что теперь-то он наконец прислушается к ней. Она ведь больше не представляет для него опасности, не посягает на него, они освободились друг от друга, разве не так?
— Бред, — отозвался он.
Она его тоже по-настоящему не любила, поспешно продолжала Карианна. Она, правда, считала, что любит, но вряд ли это было так; ее не покидало ощущение, что он не пускает ее к себе внутрь, замыкается от нее. Если бы речь шла о любви, все наверняка было бы иначе.
Бьёрн покачал головой, попросил Карианну говорить конкретнее.
Такой разговор происходил у них уже в тысячный раз. Карианну охватило чувство тоски и безысходности, нет, это безнадежно, ей никогда не пробиться к нему. Она разревелась. Она плакала навзрыд от тщетности своих усилий…
Он присел рядом, обнял ее за плечи, хотел утешить.
Ну-ну, выплачься, милая девочка, тебе станет лучше, и мне тоже. А впрочем, кто знает, вдруг я заражусь твоим настроением и сам заплачу, я чувствую, как твои слезы откликаются у меня в душе, вызывая панический страх, я бы ни за что не простил тебе, если бы расплакался. Но, конечно же, этого не случится. Ни в коем случае, даже подумать смешно. Нет, когда ты плачешь, это, скорее, придает мне уверенность в себе — ты у нас маленькая, а я большой, все на свете устроено как надо, и ты тоже на своем месте. Поплачь, милая моя, а я тебя утешу, ну-ну… Не надо больше плакать, любимая.
— Ну ладно, Карианна, — сказал он, — не надо больше плакать.
Но она не могла остановиться. Она устала бороться с Бьёрном. Да и поздно уже.
Она сейчас очень плохо думала о нем. Ей казалось, что он чуть ли не радуется ее слезам. Нет-нет, он не такой! Карианну охватил стыд и раскаяние. Он же старается быть добрым.
— Давай не будем доискиваться причин, — взмолилась она наконец. — Давай просто признаем, что у нас ничего не получилось. Признаем, что каждый человек вправе сам решать, как ему жить, и, если одному из двоих отношения кажутся слишком поверхностными, значит, у них ничего не вышло. Давай кончим на этом.
Бьёрн проявил редкостную покладистость.
Что ж, дело терпит, сказал он. Пусть Карианна как следует разберется, чего хочет, а тогда уже возвращается к нему.
Она посмотрела на него непонимающими глазами, но он быстро перевел разговор на родственников, на ее и своих родителей — им ведь сказали, что Карианна переехала от Бьёрна временно, чтобы немножко пожить самостоятельно, теперь хорошо бы договориться, как быть дальше, что говорить им. Карианна была настроена объяснить все раз и навсегда. Бьёрн считал, что нужно подождать, повременить с неприятными известиями, преподнести их осторожно. Не понимая, зачем тут требуется осторожность, Карианна тем не менее уступила. Вскоре они уже болтали об общих знакомых, общих воспоминаниях, о пережитом вместе.
Беседа довольно легковесная, но все же приятная.
Они засиделись допоздна, и Карианна предложила Бьёрну переночевать в Мимминой кровати. Слезы и вино обессилили ее. Она вышла принести Бьёрну постельное белье. Когда она вернулась, он стоял посреди комнаты с тем неловким смущением, с тем выражением надежды и ожидания, которые она так хорошо помнила, которые тронули и привлекли ее почти два года тому назад, когда они с Бьёрном только познакомились. Он обнял Карианну, привлек ее к себе. Она тоже обняла его, немного грустно, в знак дружбы, как бы прощаясь.
— Давай сегодня ляжем вместе, Карианна, — раздался его робкий голос у нее над головой.
Она высвободилась из объятий и подняла на него взгляд. Беспокойство и ожидание. Просительная улыбка. Карианне пришлось запрокинуть голову, чтобы заглянуть ему в глаза, и все равно перед ней стоял смущенный мальчишка, который ничего не требовал, напротив, вежливо просил: пожалуйста, Карианна!
— Только один раз, — продолжал он. — Я очень скучал по тебе… Ну, вроде как на прощание, а?
Конечно, надо было согласиться, если он так умоляет. Само собой разумеется! Поступить иначе будет немыслимо, отвратительно, это значит нанести удар по его доверчивости и чувствительности, это будет жестоко и враждебно по отношению к нему, ведь он безумно обидится. Разве не так? Конечно, так.
— Не надо, Бьёрн, — сказала Карианна, отстраняясь, — мне не хотелось бы… Боюсь, что между нами ничего больше не осталось…
— Осталось, — возразил он, протягивая руки к ней.
Она уклонилась.
— Нет! Я не могу…
Карианна сбежала в ванную.
Она чувствовала себя смертельно усталой, смертельно разочарованной, смертельно подавленной.
Он не имел в виду ничего плохого, внушала она себе. Он хотел просто попрощаться! Он вовсе не собирался причинять ей боль. Это было недопонимание…
Вот именно, недопонимание!..
Карианна почистила зубы, умылась, вышла сказать «спокойной ночи».
Бьёрна не было.
Его не было в гостиной, не было в комнате Мимми, не было во всей квартире.
Он ушел.
Карианна поджала губы, выключила свет, заперла двери и, насупившись, некоторое время вглядывалась в темноту из окна гостиной.
Затем она передернула плечами и отправилась спать.
Отпуск подошел к концу. Карианна снова начала работать, миновало несколько недель. Как-то в пятницу они с Рут решили пойти развлечься, и Карианна встретила в кафе кое-кого из знакомых Бьёрна (и своих тоже); весь вечер она проговорила с парнем по имени Виллиам, он был студент, чуть моложе Бьёрна, светловолосый и симпатичный. Дело кончилось тем, что он увязался за ней домой. Карианне было с ним приятно, но не более того — в последующий месяц они виделись еще раза два-три, после чего их свидания прекратились.
По правде сказать, ей сейчас было не до молодых людей, от них только морока и разочарование. Карианне нужно было побыть одной, чтобы ее никто не трогал.
Она работала, читала, занималась спортом.
Подступил сентябрь, по утрам в воздухе веяло прохладой, того гляди настанет осень, а там и зима. Карианна обнаружила, что ее теплая одежда осталась на квартире у Бьёрна. Однажды она позвонила ему с работы и спросила, будет ли он вечером дома, чтобы ей зайти за вещами. А может, он возьмет у кого-нибудь машину и сам завезет их?
Бьёрн объяснил, что только что обзавелся собственной машиной и вполне может подъехать к ней, например, завтра.
Она испытала облегчение и, вероятно, выдала это облегчение голосом, когда благодарила Бьёрна.
У нее не было ни малейшего желания ехать в Грюнерлёкку. Ей вовсе не улыбалось, открыв дверь, окунуться в обстановку, которая еще так недавно давила на нее; Карианне казалось, что она задохнется от тоски и воспоминаний, стоит ей только переступить порог этой красивой просторной квартиры; вероятно, она перестанет быть самой собой уже на лестнице, а то и раньше — на улице, перед подъездом.
Нет, у нее не так много за душой, чтобы попусту растрачивать себя.
На другой день она купила курицу и овощи для салата, но не успела доделать его, когда Бьёрн позвонил в дверь. Это не страшно, успокоил ее Бьёрн, он все равно не останется обедать, он спешит на свидание. Свалив ее одежду и пакет с зимними сапогами посреди кухонного стола, он замер напротив Карианны.
Может, он все-таки присядет ненадолго? Выпьет чаю?
Нет.
Бьёрн был лаконичен и агрессивен.
— Ты на что-нибудь сердишься? — удивилась она.
Упаси Бог, на что ему сердиться? Он только надеется, что все ее вещи уже перекочевали к ней, потому что не хотел бы и дальше быть у нее на побегушках.
Карианна недоуменно воззрилась на него.
— Очень любезно с твоей стороны, что ты все привез, — сказала она, чувствуя, что он ждет от нее каких-то слов… Этих ли?! — Большое спасибо, Бьёрн!
Пожалуйста, коротко бросил он. А вообще это в последний раз, ему надоело заниматься ее делами, он рассчитывает, что она больше не будет требовать никакого барахла.
Что?!
Остальные вещи его. Из квартиры она больше ничего не получит.
Что-что?!!
— Ты ничего не получишь, — повторил он. Твердо и определенно.
Да, конечно, так оно и будет, она была уверена. А она-то раздумывала, не попросить ли у него стереосистему… Квартира и большая часть мебели действительно принадлежали ему, тут сомнений не было, но диван с креслами и стереосистема, которые они покупали вместе?.. Чего же тогда стоят его разговоры о нашей квартире, нашей жизни, наших делах? Карианна не стала ни о чем просить, хотя собиралась, — возможно, в глубине души она надеялась, что он сам предложит ей что-нибудь.
Теперь он утверждал, что все вещи его.
Она почувствовала, как у нее раздуваются ноздри, и, выпрямив спину, ледяным тоном сказала:
— Я ничего у тебя не прошу.
Она сверлила его глазами, пока он сам не отвел взгляда и не ушел, коротко кивнув на прощание.
Оставалось смаковать свое превосходство. Вот тебе! Она ни о чем не попросила! Это была в некотором роде победа.
Но Карианна недолго наслаждалась ею. Опустив взгляд вниз, она заметила, что Бьёрн здорово наследил сапогами в передней.
Негодяй! Даже ноги лень было вытереть!
Карианна взбесилась. Она прошла в кухню, достала самый большой нож, сохранившийся от Мимми, — узкий, блестящий, острый, как бритва, разделочный нож, — вернулась в переднюю, присела над следом Бьёрна, занесла нож повыше… и вонзила его в пол.
Воткнутый нож дрожал перед ней в деревянном настиле.
Сейчас заколдую следы его ног, Чтоб корнем корявым он двинуть не мог. Кровь станет песком пусть, корой будет плоть. Чтоб ствол изнутри свой не мог расколоть; Обличье мужское и разум людской Сейчас обращу я чертежной доской, Пускай сердцевину грызет и кусает, А мне в моей жизни пускай не мешает![14]Карианна сидела, скорчившись над ножом и дыша сквозь стиснутые зубы, — она была похожа на хищного зверя, на волчицу, на злую колдунью.
Как он смеет унижать ее, выставляя самого себя таким ничтожеством?!
Через некоторое время она очнулась, резким движением выдернула нож из пола и, встав, прошла в кухню, где открыла горячую воду. Она смочила щетку средством для мытья посуды. Потом сунула нож под кран и нескончаемо долго отмывала его.
— Все трешь не натрешься? — послышалось сзади.
Карианна вздрогнула, но не обернулась. Она узнала голос.
— Нож-то чистый, не испорченный. А вот про саму девицу этого сказать нельзя, — деловым тоном произнесли сзади.
Карианна закрыла кран, отложила нож в сторону и повернулась к гному, который восседал на подоконнике, скрестив ноги. Он зыркнул на нее своими желтыми глазками, злыми и ехидными.
— Катился бы ты, откуда пришел, — не слишком приветливо сказала она. — Приходи лучше завтра.
— Сегодня, значит, тебя не устраивает? — поддел гном. — А меня, ты думаешь, устраивает тащиться сюда из-за какого-то паршивого заговора, в котором ни складу ни ладу и от которого не может быть никакого толку?!
Она покачала головой.
— Мне хотелось только, чтобы он оставил меня в покое.
— Что-что, а покой тебе обеспечен, — фыркнул гном, — но заклятье твое все равно не подействует, потому что ты прекрасно знаешь: ворожить в злобе нельзя.
— Если заговор не сработает, то и вреда никакого, — возразила она.
— Именно, — сухо заметил он. — Каждая вторая из разведенных норвежских женщин тарабанит такие же стишки, как только что выдала ты, а мужики, насколько я знаю, остаются после этого целы и невредимы, да еще приобретают потом деньги, власть и всеобщее уважение.
— Всяко бывает, — отозвалась Карианна. — А я, кстати, не разведена, мы и женаты не были.
— Тем хуже, — мрачно отвечал гном.
Карианна вздохнула, провела рукой по челке.
— Коль скоро ты здесь и не желаешь уходить, может, выпьешь чашку кофе?
— Чего не было, того не было: кофе меня еще никто не угощал! — оживился чертенок и, спрыгнув на пол, заморгал, глядя на нее снизу вверх. — Покорно благодарю! Но тогда уж кофе должен быть черный, как смертный грех, и горячий, как огонь в преисподней. А еще сыпани-ка в кофейник ложку корицы и щепотку гвоздики.
Карианна невольно засмеялась, хотя смех был сейчас вряд ли уместен. Она включила конфорку и налила воды в Миммин красный кофейник.
— Если бы твоя добродетель равнялась твоей смелости, — сказал гном, — тебе не пришлось бы иметь никаких дел со мной.
— Ну-ка объясни, — попросила она.
— Ты, говорю, не робкого десятка. Я на своем веку повидал народу и знатного, и простого, только мне еще не попадался человек, у которого не затряслись бы поджилки, когда я в первый раз явился перед ним средь бела дня.
— Чего у меня будут трястись поджилки, если ты на самом деле не существуешь? — возразила Карианна. — Настырный ты очень, это да, но тут уж ничего не поделаешь.
— Что правда, то правда, — сказал гном.
— А почему ты считаешь меня испорченной? — вернулась к началу разговора Карианна.
— У тебя вся душа искореженная да исковерканная, — проговорил гном. — Если в твоем черном сердце найдется хоть одно невинное желание, я хотел бы на него посмотреть. Тебе еще надо спасибо сказать Бьёрну, что он натоптал у тебя в прихожей.
У нее перехватило дыхание.
— Спасибо сказать?!
— А чего ты, интересно, ждала от него? — лукаво спросил гном. — Лучше бы подумала, что он мог сделать!
— Он мог вести себя как человек! — закричала она.
— Он мог упасть на колени, — объяснил бесенок, — и молить тебя вернуться. Как бы тебе это понравилось?
— Да замолчи ты! — огрызнулась Карианна и, повернувшись к нему спиной, сняла с плиты кипящую воду, отмерила кофе и специи, достала из буфета чашки и порывистыми, сердитыми движениями накрыла на стол.
— А он не стал осложнять тебе жизнь, — не унимался гном. — Бьёрн все-таки парень неплохой. Он взял и купил себе машину, вот так. Пора бы уразуметь, что он от тебя устал не меньше, чем ты от него.
— Какого рожна он тогда скандалит?! — фыркнула Карианна, стукнув обоими кулаками по столу. Она наклонилась вперед и с ненавистью уставилась на косматого бесенка, что стоял посреди кухни и посмеивался над ней. — Ладно уж, садись, — бросила она, — если не хочешь пить кофе остывшим!
Гном вскарабкался на стол и уселся с краю, свесив ноги вниз.
— Он мог бы и поколотить тебя. А от детских приемчиков или от царапанья и кусанья вряд ли было бы много толку против мужика, в котором на двадцать пять кило больше весу, чем в твоем поджаром девичьем теле.
— Он мог бы то, он мог бы се, — отозвалась Карианна. — Он мог бы для разнообразия попробовать высказать, что у него за душой, и прислушаться к моим словам! Он мог бы извлечь кое-какой урок из нашей совместной жизни…
Карианна говорила это, а сама чувствовала, как ее охватывает сильнейший, непреодолимый страх. Чертенок перегнулся через стол и проникновенно посмотрел на нее.
— Тут бы ты и попалась, голубушка, — сказал он. — Покажи он тебе, что в нем что-то есть, он бы как пить дать заполучил тебя обратно, и ты это знаешь не хуже моего. А коли так, как бы ты потом вырвалась от него?
— Заткнись! — вскричала она. — И вообще выкатывайся из моей кухни, сатанинское отродье! Зачем ты меня мучаешь своими дурацкими разговорами?
— Нам так положено по должности, — не теряя присутствия духа, отвечал гном.
— Пей же свой кофе, — коротко бросила Карианна.
Бесенок склонился над чашкой и начал по-кошачьи лакать из нее, выставляя напоказ острый красный язычок и желтые звериные зубы. Карианна обеими руками подняла свою чашку, ощутила ладонями жар, шедший от обжигающего напитка, и принялась пить; по спине у нее бегали мурашки.
— Хороший был кофе, — выдохнул гном, разгибаясь. Он склонил голову набок и прищурился на Карианну. — Вообще-то, ты девка ничего, — с некоторой сентиментальностью произнес он, — по крайней мере бываешь, местами и временами да пока тебе никто не перечит. Кстати, у нас с тобой осталась незавершенной сделка.
— Ничего такого у нас с тобой не осталось.
— Разве ты не просила меня кое о чем в последнюю встречу? — полюбопытствовал гном. — Не могла же ты так быстро раздумать…
Она встрепенулась и настороженно взглянула на него.
— А девочка? — плутовато напомнил он.
Карианна замерла. Оцепенела. С улицы доносился приглушенный гул города, она слышала тиканье часов на полке, но внутри ее все остановилось, кровь в жилах заледенела.
Карианна раскрыла было рот — и не сумела произнести ни слова.
— Ты ведь, кажется, хотела видеть ее? Ты ведь, кажется, готова была отдать что угодно, лишь бы только посмотреть на нее краешком глаза? Ты, кажется, говорила, что цена не имеет значения, а?
Она закрыла рот. И без слов таращилась на бесенка.
— Может, я что-нибудь перепутал? — издевался он.
Карианна вновь обрела дар речи.
— Неужели я увижу ее? — прошептала она. — Увижу свою девочку?
— Даром ничего не дается, — предостерег гном.
— Скажи, что мне сделать, — попросила Карианна. Она потянулась к нему через стол, но он отвел ее руку. Его собственные руки, отметила Карианна, были короткопалые и мохнатые, с когтями вместо ногтей.
— Со временем узнаешь, — сказал гном. — Придется отдать мне душу дорогого для тебя человека.
— Только не дочкину! — закричала она.
— Нет-нет, — улыбнулся гном, раскачиваясь из стороны в сторону. — Детским душам грош цена в базарный день! Я имею виды на душу вполне взрослую и зрелую. Такая мне бы очень пригодилась.
— Хорошо, — шепотом отвечала она. — Я на все согласна.
По-прежнему щурясь, он пристально посмотрел на Карианну.
— Конечно, если она сумеет ускользнуть от меня, ты тут будешь ни при чем, это я понимаю, — заключил он. — Значит, мы договорились, и теперь я могу сказать спасибо за кофе и откланяться. Но запомни: в следующий раз, когда тебе понадобится моя помощь, сосчитай сначала до двадцати и попробуй остыть. Учиться моим трюкам и фокусам можно только на ясную голову!
Гном встал, прошелся по голубой клеенке и шагнул со стола на подоконник. Тут он обернулся и через плечо подмигнул Карианне, потом поднял свои поросшие серой шерстью лапы, приложил их ладонями к стеклу, подпрыгнул — и был таков.
Карианна заморгала. Стекло осталось целым. Но подоконник опустел.
Покачав головой, она поднялась из-за стола и убрала чашки с кофейником.
Стоявшие на полке часы продолжали как ни в чем не бывало тикать и отмерять время.
Часть вторая Рут
1
— Нет, я не понимаю, — сказала Анетта. — Зачем вам это понадобилось? Почему нельзя было просто поговорить об этом?
Я тоже не понимаю, думала Рут. Она сидела и слушала Анетту, чувствуя себя совершенно беспомощной. Впрочем, со стороны она отнюдь не казалась беспомощной и знала это. На посторонний взгляд она была сильной, полной энергии — дурная привычка…
И не надо плохо думать об Анетте: она, конечно, не права, но это самозащита… Или все-таки атака? Несправедливые нападки? Анетта травмирована поступком Рут…
Однако…
— Прихожу домой, — продолжает Анетта, — а он заявляет: «Дорогая Анетта! Я тебя безумно люблю, но вчера я переспал с Рут». Господи Боже мой! Как вас угораздило?!
— Я прекрасно понимаю, что ты сердишься, — отозвалась Рут. — Конечно, мы поступили глупо, но так случилось… И он должен был рассказать тебе, правда?
— Еще не хватало, чтоб вы не признались, — сказала Анетта, — ходили бы вокруг и делали из меня дурочку, а я бы считала, что все в порядке. Теперь я не могу… никогда больше не смогу… доверять ему. Неужели ты не понимаешь? И сколько раз вы были вместе? Сколько времени это продолжается за моей спиной?
— Ничего не продолжается, — сказала Рут. — Это было один-единственный раз… Я не могу объяснить, почему это произошло. Мы не…
— Он не имеет права делиться с кем-то постелью, — перебила Анетта. — Она наша! Мы… создавали ее вдвоем… Мое тело больше не мое. Оно принадлежит ему. А его тело принадлежит мне, ясно?
Нет, думала Рут, ничего не ясно… Ну что ты говоришь, Анетта? Мы вовсе не хотели причинить тебе боль. Я люблю тебя… Я по-прежнему люблю тебя, Анетта! И не собираюсь ничего у тебя отнимать. Выжди, не надо так с бухты-барахты, попробуй…
Анетта все говорила и говорила, разметав в стороны свои золотисто-рыжие кудри, которые обрамляли ее распухшую физиономию со злыми, заплаканными глазами.
— Всему, что он умеет в постели, он выучился у меня, — продолжала она. — Он потрясающий любовник, но это не его! Он не имеет права…
Да не было у нас ничего подобного, испуганно думала Рут. Какое там потрясающий любовник! Он был неловок, неуклюж… и я, конечно, тоже! Но сказать этого нельзя, раз ты сама не понимаешь… Разве можно поделиться тем, что у вас есть между собой, с кем-то третьим?
— Я пыталась выудить из него, что именно вы делали, — сказала Анетта, — но он молчит, он замкнулся в себе…
Анетта!
— Между нами не было ничего особенного, — попробовала опять вставить Рут, — ничего необычного, все совершенно заурядно. Мы не думали, что…
— Тогда зачем вам это понадобилось?
Не зная ответа, Рут только беспомощно покачала головой.
— Мне очень жаль, Анетта…
Только бы не заплакать. Плакать сейчас положено было Анетте, а не Рут.
Анетта заплакала.
— Значит, вы надеялись, что я спущу, когда мне дают по морде? Сидит, видите ли, такой спокойный и как ни в чем не бывало заявляет… И что я, по-вашему, должна была сказать? «Ах, милый, как я за тебя рада!» Зачем вы это сделали?
Рут хотелось обнять Анетту, прижать покрепче к груди, побаюкать ее, как она баюкала младенцев в яслях или маленького Лейва, приласкать, как ласкала Магнара, погладить ее, утешить.
Она не могла пошевелить и пальцем.
Анетта подняла зареванное, размякшее лицо.
— Меня не удивляет, что ты увлеклась Магнаром, — сказала она. — Он такой чудесный, такой спокойный, такой лапочка… С тобой все ясно, но он-то почему клюнул? Он хочет, чтобы у нас было как раньше, как в самом начале.
Но он требует невозможного, это было бы противоестественно. А он не понимает, не желает ничего понимать. Все меняется, люди тоже меняются, мы стали другими… Я ему толкую, толкую, а он не понимает… И тогда он идет к тебе! А ты… ты пользуешься подвернувшимся случаем. Тебе нужно к кому-нибудь прислониться… Конечно! Но не к нему же! И не так! Вы не имеете права…
Но…
Что она такое несет?..
— Я никогда не предъявляла ни на кого прав, — сказала Рут, — просто… он постучал в дверь, ему было грустно, мы сидели и разговаривали. Он безумно любит тебя, и ты это знаешь…
— Я тоже так считала! — перебила ее Анетта. — Но что мне думать и во что мне верить теперь? Неужели, если человек кого-то любит, он способен на такие поступки?
Да, думала Рут, иногда способен, всякое бывает. А впрочем, сама не знаю…
— Я все допытывалась у него — почему? — страдальческим голосом проговорила Анетта, она поднялась и стояла, теребя в руках платок. — Я и так, и эдак, а он как воды в рот набрал… И все-таки что вы с ним делали?..
Анетта! Нельзя же так!
— Нет, я больше не в состоянии это обсуждать, — сказала Анетта, направляясь к двери. — Во всяком случае, сегодня. Отложим разговор до другого раза.
Рут встала и, помимо собственной воли, потянулась к подруге, словно хотела заключить ее в объятия.
— Мне очень жаль. Анетта, — выдавила из себя она. — Я ни на что не покушаюсь. Пожалуйста, не думай…
— Я ничего такого не думаю, — отвечала Анетта. — Того, что есть у нас с Магнаром, не может разрушить первый встречный. И все же… пропало доверие, я боюсь полагаться на него! Раз дело доходит до такого… Но что ты понимаешь в любви? Ты всегда жила одна, не была замужем, не имела ребенка от любимого человека. Постыдилась бы. Рут.
Рут вздохнула.
— Может, мне на некоторое время уехать? — спросила она.
— Сбежать от проблем? Ну уж нет! Сама заварила кашу, теперь ты должна по крайней мере помочь нам расхлебать ее.
Да, но…
Дверь закрылась, мягко, почти беззвучно. Рут слышала спускающиеся по лестнице шаги. Анетта шла словно крадучись, как легкий на ногу зверек, она, видимо, решила пойти к себе, забраться под одеяло и лежать там, свернувшись калачиком… И плакать?..
Какую-нибудь неделю тому назад Рут могла войти к ней, присесть на постель, попробовать разговорить Анетту…
Теперь это было невозможно.
Что я наделала? — думала она. Что я такое натворила?
Да… но…
Это было в июне, на улице хлестал внезапно налетевший летний ливень. Рут долго не двигалась с места, потом подошла к окну, залезла на подоконник и, усевшись там, стала глядеть на вечернюю улицу.
2
А случилось все на прошлой неделе, в субботу. Анетта тогда взяла сына и поехала в гости к родителям; Магнар тоже собирался с ними, но в последнюю минуту они поссорились. Грённера не было дома, Тина с Гейром ушли в кино. Рут сидела в гостиной и вязала.
Магнар вымыл в кухне посуду, затем поднялся к себе на второй этаж, снова спустился и бродил по гостиной, точно кот к перемене погоды.
— Каешься? — спросила Рут, оторвавшись от вязанья и бросив быстрый взгляд на Магнара.
— Вот еще! — вызывающе буркнул он.
Он встал с кресла, опять сходил наверх, вернулся с небольшой бутылкой «Досона».
— Виски хочешь? — предложил он Рут.
Та замялась: она устала и чувствовала приближение головной боли, а пить в таком состоянии, как она знала, не стоит.
— Только разбавь посильнее, — решилась она наконец.
Магнар вышел на кухню за водой и стаканами, принес их, сел, разлил виски.
— Из-за чего вы поругались? — спросила Рут.
— Поругались? Мы никогда не ругаемся. Просто она вправляет мне мозги, читает лекции, понятно?
— Однако ты здорово на нее в обиде, — заметила Рут. — Если тебе кажется, что Анетта слишком много говорит, надо сказать ей об этом. И, наверное, самому попробовать говорить больше, а?
— Мне особенно и говорить не о чем, — отозвался Магнар. — И чего она от меня хочет? А я действительно разозлился. Ничего, это пройдет.
— Ты зря не поехал с ними, — сказала Рут.
Магнар налил себе еще, выпил. Он был высокого роста, светловолосый, с тонкими чертами лица и карими глазами. Взгляд его казался глубоким, многозначительным, хотя такое впечатление создается лишь оттого, думала Рут, что тонкая радужная оболочка у него в глазу окрашена коричневым, а не голубым или серым, как можно было бы ожидать у блондина, — и вот крошечная деталь в лице представляет человека в ином свете… быть может, даже преображает его, выдает за другого…
— Я уже и сам не рад, — сказал он.
Рут не стала выспрашивать, что он имеет в виду, она и так знала, что ему бывает неуютно с родственниками жены, которых он считал «культурнее» себя. Магнар родился в городе Хортене, в простой рабочей семье, отец его имел пристрастие к спиртному, сам он одно время служил матросом, теперь учился в педагогическом училище, осенью должен был пойти на последний курс, а пока, чтобы подправить материальное положение семьи, нанялся на лето работать мусорщиком. Анетта, хотя и была шестью годами младше, уже закончила свое образование и года три как работала физиотерапевтом.
Рут отложила в сторону вязанье и, достав из пачки сигарету, закурила. Они потягивали виски и курили в дружелюбном молчании.
Вернулись Гейр и Тина: фильм оказался плохим. Кто-то включил телевизор. Все смотрели передачу, посмеиваясь и комментируя происходящее на экране, голова у Рут все-таки разболелась, и она рано ушла к себе. Около одиннадцати в комнату постучали. Вот как было дело. Очень просто.
— Можно я зайду ненадолго? — спросил он. — Поболтать.
— Пожалуйста, — отвечала Рут, — подожди секунду, я надену халат.
Она уже лежала в постели, хотя и не спала.
Магнар был нетрезв, но и не то чтобы пьян. Рут открыла дверь, он вошел и остановился посреди комнаты, взглянул на Рут, хотел что-то сказать — и не сумел.
— Помоги мне, Рут, — вдруг взмолился он. — Я не знаю, что делать. Помоги мне.
Это было так не похоже на него.
Хотя для Рут тут не было ничего нового, она давно чувствовала, что он в отчаянии.
Он протянул к ней руки, обхватил плечи. Она обняла его, погладила по голове, по спине. Молча. Она не знала, слов, которые могли бы помочь ему.
Она могла дать ему только немножко тепла, немножко утешения…
Вот как было дело. Очень просто… Ей не оставалось ничего другого. Не могла же она прогнать его, выставить за дверь, из дома, в безжалостно светлую июньскую ночь?.. Она не стала отговаривать его, какие уж тут речи? Она и так слишком много говорила, все говорили слишком много, теперь она не находила слов. Согреть его. Подержать в объятиях. Он ведь был очень одинок, в глубине его души таилось холодное одиночество, таилась боль, неизменно скрытая за приятной, добродушной улыбкой, за безмятежным взглядом, таилось то, чего никто не должен был видеть и чего нельзя было — за неимением слов — объяснить другим. Однако Рут давно догадывалась об его одиночестве, а теперь Магнар и сам признался в нем, перестал прятаться, обнажил себя.
Так что у нее не было выбора…
И все же…
— Пожалуй, это было не очень умно с нашей стороны, — заметила Рут, когда все осталось позади.
Они лежали под одеялом, обнимая друг друга, близкие, теплые, родные. Точно брат с сестрой, подумала она. Но брат с сестрой такого не делают. Она вдруг прыснула, уткнувшись ему в плечо.
Он недоуменно посмотрел на нее. Глаза его опять выражали спокойствие. Как глупо, подумала она, что мы считаем, будто в глазах отражаются чувства. На самом деле это неверно. Чувства скорее надо искать в лице… или даже в голове… Рут снова фыркнула. Магнар не спросил почему, а она сама не объяснила.
— Переживаешь, да? — сказал он. — Наверное, это действительно было безрассудно. Зато теперь мне лучше, Рут. Даже хорошо. Мне стало хорошо.
Рут сделала глубокий вдох и блаженно потянулась.
Она поняла, что обманула саму себя. Если утешать другого еще в некотором роде простительно, хотя способ утешения был довольно своеобразный, то просить утешения, принимать его было совсем другое дело, так не годилось… Она хотела дать, поделиться с ближним — и нежданно-негаданно сама обрела успокоение.
И голова у нее больше не болела.
Магнар вздохнул и, сев в постели, потянулся к ночному столику за сигаретами.
— Ты, конечно, права, — подтвердил он. — Нам не стоило этого делать.
Он закурил и свесил ноги с кровати. Рут смотрела ему в спину. У нее слипались глаза. Она чувствовала, что прибавила Магнару проблем. И все же она по крайней мере облегчила ему боль.
— Я не люблю иметь тайны от Анетты, — продолжал Магнар.
— Расскажи ей, — посоветовала Рут. — Если попробуешь держать такое при себе, будет только хуже… А так ведь между нами ничего особенного не было.
— Если не считать того, что мы нравимся друг другу, — уточнил Магнар.
— Ну и что? Это мы знали и раньше, — сказала Рут. — С Анеттой у меня тоже прекрасные отношения. Но женаты все-таки вы, и у вас есть Лейв.
— Я люблю ее, — чуть слышно произнес он. — Ужасно люблю… ее и сына. Лейв — самое лучшее, что у меня есть в жизни… это просто…
— Поговори с ней, — настаивала Рут. — Тебе пора научиться поднимать голос.
Он безнадежно вздохнул, погасил сигарету и снова забрался под одеяло.
— Да я понятия не имею, о чем говорить! Мне хочется только тишины и покоя. Не могу я разглагольствовать обо всем на свете, у меня вообще мало тем для разговоров.
— Так и скажи, — с усмешкой предложила Рут.
Он приподнялся на локте и взглянул на нее.
— Ах, ты еще и потешаешься надо мной? Ну берегись, сейчас я до тебя доберусь!
— Подожди, Магнар, — сказала она, — может быть… не стоит…
Но руки у него были такие добрые и заботливые, соприкосновение с ним доставляло радость, и Рут просто-напросто не хотела отталкивать его: мысль об этом казалась сейчас противоестественной, жестокой, бесчеловечной.
— Если уж мы все равно согрешили, давай нагрешимся всласть, — шепнул он ей через некоторое время.
А любовник он был, прямо скажем, не ахти какой. Он не знал ее тела, она не знала его, и они продвигались вперед наугад, иногда ошибаясь и замирая, но это было неважно. Главным было тепло, близость. Радость оттого, что можно наконец-то откликнуться на немой призыв, который она слышала всегда, можно подтвердить для себя его отчуждение, его одиночество: да, ты такой, я это вижу и знаю, да, мы такие.
Он ушел к себе около трех часов ночи.
В воскресенье вечером вернулась Анетта.
В последующие дни Анетта не покидала своей комнаты, она в основном лежала в постели, отвернувшись к стене, много плакала, иногда подолгу говорила, потом часами молчала.
Магнар тенью бродил по дому, притихший, с провалившимися глазами. Он присматривал за ребенком, посещал занятия в училище, готовил еду, которую относил наверх, Анетте, чтобы часом позже принести обратно. Гейр с Тиной пребывали в недоумении, но остерегались задавать вопросы; как ни в чем не бывало вел себя один только Грённер: он приходил и уходил, на этой неделе он работал в ночную смену и поздно спал днем. Мало бывая дома, он и не заметил, что все вокруг вытянулись в струнку и затаили дыхание.
Рут тоже вытянулась в струнку и затаила дыхание. Навозившись за день с младенцами, она возвращалась с работы измотанная и избегала общения с Магнаром. Они старались даже не глядеть друг на друга, если сталкивались на лестнице. Однажды Рут поймала себя на том, что сторонится и Лейва, с которым раньше очень любила заниматься. Гейр и Тина морщили лбы, удивляясь на нее. Тина только качала головой и помалкивала, Гейр же попробовал осторожно разведать обстановку. Не случилось ли чего? И как там Анетта, сколько еще она будет валяться в постели со своим гриппом? Может, позвонить врачу, если ей так худо?..
Рут, однако, ничего не могла посоветовать им. Пусть решает сама Анетта…
Но!..
Только в пятницу вечером Анетта поднялась с постели, постучала к Рут и сказала, что хочет поговорить с ней.
Неделя проходила за неделей, Рут совсем выбилась из сил, в отпуск она шла позже, чем рассчитывала, и до сих пор было неизвестно, дадут ли ей оставшуюся после фру Стенберг группу смешанного возраста. Фру Стенберг уже некоторое время отсутствовала, и около месяца назад им сообщили, что она уволилась, у нее серьезные нелады с сердцем. Услышав про это, Рут тотчас отложила свой отпуск и подала заявление на ее место. Рут нравились и малыши, но ей необходимо было разговаривать с детьми, все-таки она была по образованию воспитателем старших дошкольников. Специалисты по дошкольному воспитанию праздновали победу, когда им удалось доказать, что младенцы тоже нуждаются в персонале с педагогической подготовкой. Для Рут же это была чистая теория, она явно отдавала предпочтение работе с более старшими детьми. Наконец-то она сможет проводить настоящие утренние собрания, планировать с ребятами день!
Домашняя обстановка постепенно разрядилась, и тем не менее Рут никак не могла перевести дух, хотя Анетта казалась почти прежней. Почти. Она была мила и разговорчива, она ходила на работу, ухаживала за Лейвом, подтрунивала над Грённером. Она поделилась случившимся с Тиной, а та пересказала все Гейру. Магнар, Анетта и Рут даже как-то вечером сошлись вместе и попытались «выяснить отношения». Разговор получился натянутый, сложный.
Рут чувствовала, что от нее добиваются смирения, покаяния, — и разозлилась. Прямо как в викторианском романе! Любовь, целомудрие, жертвенность! Убиться можно… Нравственные устои…
— Ты зря так переживаешь, — сказала ей однажды Тина.
Была очередь Рут готовить обед, и она резала на кухне лук, чтобы поджарить сайду, отчего из глаз катились слезы Тина только что пришла с работы и сидела за чашкой кофе.
Рут утерла луковые слезы и рассмеялась.
— Да нет, сейчас все как будто уже не страшно, — несколько уклончиво проговорила она: обсуждать эту тему было трудно, Рут боялась сболтнуть лишнее…
— Мы же видим, как тебе достается, — отозвалась Тина, — честно говоря, мне кажется, Анетта перегибает палку! Не могла же она всерьез ожидать верности до гроба и прочего. Нельзя считать кого-то своей собственностью, даже если вы женаты.
— Легко сказать, — протянула Рут. — Хотя… Я тоже так думала. Но я не представляю, как бы реагировала сама… А ты?
— Я-то знаю, — обронила Тина и тут же умолкла. Рут не стала выспрашивать, откуда она знает. — Все оказалось отнюдь не так просто и замечательно, как я предполагала раньше, — после некоторой заминки призналась Тина. — И все-таки это еще не конец света. Вопрос в том, что за этим кроется, то есть самое страшное — вовсе не сам поступок. Почему у нас грань проходит именно тут? Благопристойная беседа за чашкой кофе может заключать в себе куда больше страсти, хотя при этом пара, бывает, даже не держится за руки… Нам надо изживать еще много старых представлений и обычаев.
— А может, они все же нужны, — возразила Рут. — Ведь Анетта на самом деле права. Я этого не понимаю и никогда не думала, что она… Но если я чего-то не понимаю — а мне это действительно недоступно. Тина, я уже выяснила, — так, может, это мой недостаток, мой изъян, от которого Анетта как раз и свободна? Почему бы не предположить такое?
— Вся эта история очень на руку Анетте, — сухо заметила Тина. — Теперь у нее есть на что сваливать, есть повод изображать обиженную.
— Нет, так думать некрасиво! — возмутилась Рут. — Соблазнительно, но некрасиво же, черт возьми! Если нам самим это недоступно, если мы не в силах почувствовать, насколько это может быть серьезно, если нам неприятно видеть чужие страдания, тогда мы готовы на что угодно, лишь бы уберечь себя от угрызений совести… и тогда мы впадаем в ярость или в высокомерие, потому что не желаем брать на себя вину, верно? И тогда все делается еще хуже…
— Давай ты будешь говорить за себя, Рут, — сказала Тина. — Я только хотела помочь тебе. — Она встала и отнесла свою чашку в раковину.
Вся злость Рут улетучилась.
— Конечно, я говорила о себе, — вздохнула она. — Извини.
Тина уже выходила из кухни, но напоследок обернулась и бросила через плечо:
— Может, тебе нравится, когда тебя бьют? И ты получаешь удовольствие от унижений?
Нет, только не это! Рут не собиралась разбрасываться друзьями, тем более сейчас, когда они ей так нужны! Но…
Рут снова склонилась над луком. Она совсем запуталась, она не понимала никого и ничего!
Но если она плакала, то вовсе не из-за этого, ее слезы объяснялись одним только луком.
3
В июле, когда наступил период всеобщих отпусков, Тина с Гейром уехали в западную Норвегию, а Магнар, Анетта и Лейв отправились на дачу к родителям Анетты, так что в доме оставались лишь Рут и Грённер. У Рут отпуск был не раньше августа, она работала в летней группе, составленной по принципу сборной солянки: младшему ребенку исполнилось восемь месяцев, старшему — пять лет, из всех детей Рут имела раньше дело с двумя. Но трудности увлекали ее, ответственность подзадоривала. Головные боли исчезли — очевидно, Рут сама не подозревала, насколько ее измучила обстановка дома. Теперь там царил покой.
И вот все приехали обратно, а Грённер махнул со своей девушкой в Югославию; тут Рут набралась нахальства и заказала билет в Португалию — перспектива ехать в одиночестве не смущала ее, пожалуй, такой вариант был даже предпочтительнее.
Рут сообщили, что после отпуска она получит место фру Стенберг.
Намечался некоторый просвет. Магнар с Анеттой загорели и были в хорошем расположении духа, малыш рассказывал длинные истории про яхты, рыбу и крабов. Однажды Рут позвонила Карианне, и они провели приятный вечер у Рут дома, за бараньим окороком и пивом. Тогда же произошло нечто странное. Рут с Карианной поднялись к ней наверх, Карианна вела беседу, сидя в плетеном кресле. Рут по своему обыкновению забралась на подоконник. Разговаривали о том о сем, в основном обсуждали извечные Карианнины проблемы. Рут всегда настороженно относилась к ее роману с Бьёрном: уж очень демонстративно они выказывали свою любовь друг к другу, это напоминало спектакль, а если люди изображают что-то, значит, им есть что скрывать. Может быть, привычную пустоту? Странное происшествие не было никак связано с рассказом Карианны, просто Рут вдруг показалось, что ее голос отдалился, стал еле слышен. Рут прикрыла глаза и снова открыла их: ее окружала темнота, не сумерки, в которых они только что сидели, а полный мрак, и в этом мраке двигались какие-то фигуры, мелькали смутные тени… она почувствовала головокружение, как будто ее несло, вращая по отношению к внешнему миру, потом она балансировала на краю пропасти… или в углу, откуда должна была вот-вот упасть в никуда…
Она опять поморгала — и очутилась в своей комнате, увидела Карианну в кресле, услышала ее голос, доканчивающий предложение…
Водворилась тишина. Рут закусила губу, чтобы не испустить готовый вырваться стон или всхлип.
— Рут! — окликнула ее Карианна. — Что-нибудь случилось?
Рут выдавила из себя улыбку и, слезая с подоконника, заметила: дескать, очень быстро стемнело. Она зажгла лампу и постаралась увести разговор в сторону.
Когда Карианна ушла, Рут почувствовала облегчение и одновременно испугалась.
Неужели это возможно — так остро, словно наяву, переживать то, что происходит в твоем воображении?!
Отпуск пришелся очень кстати. Рут уехала на три недели и насладилась ими сполна.
Вернулась она посвежевшая, отдохнувшая и коричневая от загара. И тут же окунулась в работу: ее группу составляли восемнадцать детей в возрасте от трех до шести лет, из которых двое были в саду новичками. Четверо старших мальчишек сколотили задиристую компанию — фру Стенберг еще кое-как справлялась с ними, однако после ее ухода группу три раза передавали из рук в руки, и Венке, которая работала у них вторым воспитателем, должна была держать ухо востро, чтобы они не забили более слабых ребят.
Надо подождать, уговаривала себя Рут, проявить терпение, приглядеться, действовать не спеша. Через две недели она решила, что приглядываться бесполезно: разобраться в кутерьме, которую учиняют ребята, нет никакой возможности, так же как выучить имена всех восемнадцати. И запомнить, кто чьи родители!
Так что первые три недели после возвращения домой сны Рут не посещали.
А в Португалии ей являлся во сне любовник. Рут это действовало на нервы: слишком глупо, слишком неинтересно, слишком тривиально. Подумаешь; Жажда Любви… Добро бы еще давало о себе знать истосковавшееся по эротике тело, нет, тут была замешана и голова, поскольку в снах было нагромождение символов, идеалов, устремлений. Рут представлялся высокий, крепкого сложения мужчина с длинными темными волосами, он напоминал индейца, был немногословен, рассудителен, она читала все его мысли. Рут была приятно удивлена тем, что ее фантазия сумела создать столь привлекательный образ, пусть даже во сне, потом она сообразила, что явно где-то видела его, скорее всего в кино. Уж очень он был правдоподобен, очень органичен. Как его занесло в ее сны? Вероятно, он олицетворял для Рут Возможность Откровенного Разговора. Ну и, конечно, в нем выразился еще один штамп, чуть более примитивный: Сильный, Молчаливый, Заботливый Мужчина.
Хотя у нее как будто было с кем поговорить…
Грезила Рут и о Магнаре. Сам он, впрочем, редко появлялся во сне, обычно она искала его, он был где-то в другом месте и нуждался в помощи, ему грозила опасность, Рут шла по нескончаемым улицам, пробиралась сквозь лесные заросли, проходила через запущенные чердачные помещения с их невообразимым хаосом, через трущобы, а Магнар звал ее, без слов, одним только криком, и она не знала, что именно он пытается сказать.
В Португалии она видела сны едва ли не каждую ночь…
Вот что значит дать себе полентяйничать, побить баклуши, вот что значит раскрепостить свое сознание. Сны приносили наслаждение.
Рут снимала комнату с пансионом в прибрежной деревушке провинции Алгарви, неподалеку от Лагуша; она пила вино, при случае общалась с местными жителями на смеси английского и французского — по-португальски она знала всего несколько слов, хотя ей казалось, что она понимает довольно много из разговоров вокруг. Она загорала, купалась, долго спала по утрам. Рыба, мухи, куры, машины… Здесь, в южной стране, ее сны никому не могли причинить вреда, она была слишком далеко от всех, тут не было никого, кроме Рут, которая вела беспрерывные беседы сама с собой…
Так что если она, проснувшись поздним утром после сладостного парения между небом и землей, открывала глаза и позволяла себе еще с полчаса поваляться в постели, грезя уже наяву, кому от этого хуже? Она была в Португалии, Магнар с Лейвом и Анеттой — за тридевять земель, да и фантазии ее относились не к Магнару: он был лишь символом в ее сознании, она позаимствовала его лицо, голос и тело, чтобы было к чему привязать свои грезы. Не могла же она ночь за ночью мечтать о безымянном индейце, которого никогда в жизни не встречала и наверняка не встретит?
Только недели через три-четыре после возвращения домой Рут поняла, насколько ошибочны были ее рассуждения.
Дни перестали мчаться так стремительно, как прежде, и Рут обнаружила, что, когда она после работы вешает свою куртку в прихожей, взгляд ее невольно задерживается на куртке Магнара. Она не спускала глаз с него и Анетты, она беспокоилась: как у них дела? Все ли хорошо? Но это был обман, на самом деле ее интересовал он.
Неправда! Ее фантазия разыгралась на пустом месте, от нечего делать!
И все же кое-что оказалось правдой.
Ей подсказывало это собственное тело. Если они большой компанией сидели вечером в гостиной, смотрели телевизор или читали, Рут чудилось, что Магнар все время следит за ней, и стоило ей поднять взгляд, как она натыкалась на его лицо. Она старалась избегать таких ситуаций, рано уходила к себе, ложилась спать — и видела его во сне.
Анетта, которая как будто обрела былую силу и независимость, по-прежнему сторонилась Рут.
И вот однажды между ними опять произошло то же самое.
Рут не ожидала, что в тот вечер они останутся единственными взрослыми в доме. Лейв спал наверху. Угомонив ребенка, Магнар сошел вниз, Рут хотела было улизнуть, но у них завязалась беседа.
Они поговорили о детях, затем разговор перешел на Магнара и Анетту, потом на Магнара и Рут.
Вот и хорошо, они отвели душу, сняли тягостное напряжение, ведь это замечательно, когда есть с кем поговорить, объяснял Магнар. Да-да, это были его слова, а не ее, оправдывалась перед собой Рут.
Почему бы людям не поговорить?
И вдруг получилось так, что они сидят на диване и держатся за руки и не ищут больше никаких оправданий. И было немыслимо где-то остановиться, немыслимо определить границы дозволенного. Это было невозможно и даже несущественно: какая разница, ласкают ли они друг друга руками или соприкоснутся всей кожей? Они никому не приносят вреда… все так чудесно и просто…
Однако вспоминать об этом наутро было далеко не просто.
Спустя два дня Рут позвонила Карианне. Если Карианна и теперь живет в спальне при кухне, значит, Миммина комната до сих пор пустует? Не согласится ли она взять Рут в квартирантки?
— По-о-о-жалуйста, — несколько удивленно отвечала Карианна, — с удовольствием, и мне же будет легче с расходами на квартиру, но…
Не надо сейчас, торопливо прервала ее Рут, подробности они обсудят после, она только хотела убедиться, что Карианна не против. Отлично!..
В коммуне на нее обиделись. Грённер досадовал, что Рут не предупредила их заранее: неизвестно, удастся ли быстро найти жильца на ее место! Аннета уговаривала Рут остаться. Ей будет далеко от работы, от центра. Рут не понимала, к чему клонит Аннета. Она вообще ничего больше не понимала, она только знала, что ей непременно нужно съезжать.
Тина расценила отъезд Рут как бегство.
Магнар промолчал.
И она съехала.
4
— Ты умудряешься представлять самые банальные вещи невероятно запутанными! — сказала Карианна.
Дело было поздно вечером, они сидели в гостиной на Тересесгате, пили чай и приходили в себя после того, как отволокли на чердак последнюю мебель из Мимминой комнаты.
— Все было совсем не банально, — возразила Рут.
— Увести мужа у своей подруги, куда уж банальнее! — отозвалась Карианна. — Дальше ехать некуда.
— Но я же… — начала Рут и запнулась. — Конечно, это неоригинально, но неужели ты думаешь, что я собиралась?.. Ты не права, у меня и в голове не было кого-то «уводить». Да и можно ли увести человека? Взрослого человека? Все было совершенно безобидно, очень естественно и… приятно, — закончила она, чуть замявшись, словно неуверенная в том, правильное ли подыскала слово.
— Ах вот как! — отвечала Карианна. — Только имей в виду, — назидательно продолжала она, — что все приятное при ближайшем рассмотрении кусается. Наклонишься к нему, а оно возьмет и цапнет тебя за нос!
— Вот почему у меня такой нос, — сказала Рут.
— Час от часу не легче! Что у тебя такое с носом?
— Ему самое место в огороде, так он похож на картошку.
— Рут! — воскликнула Карианна. — Ты не иначе как каждый вечер проводила перед телевизором и насмотрелась американских сериалов. Тебе повезло, что у меня нет телевизора.
— А может, нам стоит его завести? — спросила Рут.
— Ни в коем случае. Чтобы сидеть по вечерам приклеенными к ящику? Ну уж нет! Лучше куда-нибудь ходить. Хочешь подвергаться промывке мозгов, приступай к делу основательно. Другими словами, иди в кино. К тому же будет какой-никакой моцион, отсюда до «Колизея» прекрасная прогулка.
— Да, погулять было бы невредно, — признала Рут.
— Кстати, если мы не ухнули большое кресло вниз по чердачной лестнице, — сказала Карианна, — твоей заслуги в том нет. Хоть бы немножко потренировала руки! Они у тебя как две щепочки!
— Что же это такое? — вздохнула Рут. — Я еще и въехать не успела, а ты уже разбираешь меня по косточкам, точно мы с тобой десять лет женаты. Может, тебе еще кажется, что у меня плохо пахнет изо рта?
— Как тебе сказать… Если честно, то бросай-ка ты курить…
На другой день Рут должна была переселяться в Бишлет. Гейру позволили взять на работе фургон, и он обещал подбросить вещи. Карианна тоже вызвалась помочь и после работы подъехала к Рут в детский сад.
Рут заканчивала сегодня позже обычного. Она любила этот последний час: после четырех редко оставалось больше пяти-шести детей и появлялось свободное время, чтобы почитать сказку, спеть песенку или просто поболтать.
Когда в дверях выросла Карианна, Рут сидела, обнимая одной рукой Марту, а другой — Йоакима.
— Здравствуйте, — сказала Карианна.
— Здравствуй, — отвечала Рут. — Проходи и садись, лослушаешь, что случилось с Великим Пинкертоном, когда мама девочки легла спать.
— Только сначала надо разуться, — подсказал Иоаким, увидев, что Карианна намеревается пройти в комнату в сапогах.
— Ой, — смутилась Карианна и, присев на низкую скамеечку возле дверей, принялась стаскивать сапоги.
— Правильно я говорю, Рут? — спросил Йоаким, оборачиваясь к воспитательнице.
— Совершенно правильно, — серьезно подтвердила Рут. — Хорошо, что ты следишь за порядком. Понимаешь, эта тетя немножко с приветом. И если мы не будем начеку, она тут такого натворит, что закачаешься.
— Ну, она не с таким приветом, как Петтер Лопарь и компания, — заметила Марта с другой стороны Рут.
Карианна прошлепала внутрь. В ту же минуту растворилась входная дверь, и вошли родители Янники — в кои-то веки вдвоем, нарядные, видимо, собравшиеся в гости. Рут пришлось встать и улещивать Яннику, чтобы оторвать ее от игры в куклы с Аной. Наконец Янника благополучно оделась, а Ану удалось препроводить к Марте и Йоакиму.
— Это были ее родители? — спросила Карианна.
— Янники? — уточнила Рут. — Да. Что с тобой, Карианна? Эй! Иди сюда, садись.
Карианна побледнела как полотно, на носу ее вдруг отчетливо выступили веснушки, кожа на лице казалась маской. Садиться Карианна не стала, напротив, она прошла к окну и застыла около него, выглядывая на улицу и обратив к присутствующим свою худощавую спину с проступающими из-под свитера лопатками.
Рут не стала приставать к ней. Она дочитала книжку про Великого Пинкертона, после чего появились папа Аны и мама Йоакима, а следом — и Мартина мама.
Только когда последний ребенок исчез за дверью и Рут направилась в кухню, чтобы привести ее в порядок, Карианна отвернулась от окна. Она больше не была бледной, теперь лицо ее горело, как в лихорадке.
— Это мой ребенок, — тихо проговорила она. — Я уверена, Рут! Эта черненькая девочка — моя дочка…
5
Впору было сойти с ума…
— Да не могу я, Карианна, — в двадцатый раз пыталась втолковать ей Рут, — мы не имеем права, и на то есть веские причины. Я понимаю, как тебе должно быть ужасно, но… ты наверняка ошибаешься! Так не бывает!
— День рождения, — просила Карианна. — Ничего другого, только родилась ли она в Осло. И когда. Я ничего не стану делать, мне просто нужно знать!
— Так не бывает! — повторила Рут. — Хотя ты, конечно, права, девочка явно приемная. Раньше я не задумывалась над этим, но она такая смуглая, а родители оба светлые… Наверняка так и есть, только что с того, они ведь ее родители! А вдруг она родом из Индонезии или… или…
— Она — вылитый Тарик, — сказала Карианна.
Тон у нее был сухой и сдержанный. Она стояла у окна и перебирала руками штору, она мяла и теребила ее, ничем больше не выдавая своего волнения. Было полвторого ночи, вся мебель Рут, ее ящики с книгами и одеждой громоздились неразобранные вдоль стен.
— Ей шесть лет, верно? — спросила Карианна. — Так или нет?
Рут закусила губу.
— Так, — подтвердила она, поскольку отрицать это было бессмысленно.
— Я прекрасно понимаю, она больше не моя дочка. Не думай, что я совсем спятила! — с жаром продолжала Карианна. — Неужели ты считаешь, я способна повредить ей? Неужели ты так считаешь? Повредить моей девочке?! — Она подняла голову. — Как ей, по-твоему, живется?
— Янника очень милая и бойкая, — отвечала Рут. — Любознательная, смышленая. Ловкая в игре. Может быть, чуточку избалованная, своенравная. Ничего не попишешь, единственный ребенок… А живется ей хорошо, родители у нее славные. Я их, правда, пока плохо знаю, но девочку они любят, это видно невооруженным глазом…
— Я ее тоже любила, — вяло сказала Карианна. — Потому и отдала.
— Ты никогда не говорила об этом, — обронила Рут. И отметила свой голос: негромкий, умиротворяющий, вызывающий на откровенность. Так, вероятно, обращаются к скорбящему, к человеку, который пребывает в шоке после несчастного случая. Не хочешь выговориться? Довериться мне? Тебе станет легче… Дешевое милосердие, да еще заведомая ложь, но что предложить взамен?
Карианна же отнюдь не была в шоке, не утратила душевного равновесия. Она пожала плечами.
— Не говорила? А какой прок от разговоров? Так случилось, и с этим ничего не поделаешь. А поступила я правильно. Он бы из нас душу вытряс, если бы я оставила девочку себе.
— Кто?
— Мой отец, — как о чем-то само собой разумеющемся сказала Карианна. — Ты его знаешь… Да нет, откуда тебе знать? Он очень давил на меня, и сама бы я это выдержала. Но оказаться без помощи, без денег, без жилья… Все усугубляется, когда на тебя ложатся заботы о ребенке. Отец бы мне этого не простил. Хотя теперь, наверное, простил — или делает вид. А вот я никогда не прощу. Если бы я оставила девочку, он вымещал бы зло на ней. Жить здесь, у Мимми, мы не могли бы, она уже тогда была слишком старая и немощная, ей не хватало только грудного младенца.
Рут молчала.
— Мне было всего шестнадцать лет, — добавила Карианна, и в голосе ее зазвучали просительные нотки.
— Неужели тебе неоткуда было получить помощь? — удивилась Рут.
— Откуда? Громких слов я, конечно, наслушалась вдоволь. «Тебе решать», — говорили кругом. И ты думаешь, кто-нибудь предложил нам жилье и работу, чтобы мы могли сводить концы с концами?
Рут нечего было сказать на это.
— День рождения, Рут, — повторила Карианна. — Больше ничего. Только когда она родилась.
На другой день Карианна вернулась с тренировки около девяти вечера. Рут стояла на коленях в гостиной и разбирала ящики с книгами.
— Ты ела? — крикнула Карианна из передней своим обычным, жизнерадостным тоном.
— Ага, — ответила Рут, — я сделала глазунью с беконом. Если хочешь, яйца еще есть.
— Пожалуй, я ограничусь бутербродом. А сок у нас остался? После этих проклятых занятий нападает безумная жажда.
Повозившись на кухне, Карианна со стаканом в руке вошла в комнату и огляделась по сторонам.
— Ой, как стало замечательно! — воскликнула она. — Хорошо, что ты придумала устроить полки в гостиной. Эта стена просилась, чтобы ее чем-нибудь заполнили.
— Книг все равно слишком много, — заметила Рут. — Придется ставить в два ряда.
— Четырнадцатое мая, — сказала Карианна. — Верно?
Рут вздрогнула и уронила на пол стопку книг в бумажном переплете.
— Тьфу ты, черт! — буркнула она и принялась собирать их. Она не оборачивалась.
— Можешь ничего не говорить, — послышался сзади мягкий голос Карианны. — Я так и знала. Спасибо большое.
Рут растерялась: наверное, надо было возразить, сказать, что она еще не проверяла или что число другое, в общем, отрицать… Может, действительно стоило так сделать? Но Карианна… Она ведь спрашивала о таком пустяке, о такой малости.
К тому же Рут совершенно не умела врать.
6
День проходил за днем. Неделя за неделей.
Карианна вела привычный образ жизни: работала, занималась спортом, время от времени позволяла себе выйти в свет, иногда вместе с Рут. Один раз они были в кино, в другой ели бифштексы в ресторане «Ла гитарра». Карианна больше не справлялась про Яннику, Рут тоже избегала этой темы.
Все как будто было по-прежнему, хотя Рут и сомневалась в этом.
Она знала, чувствовала, что где-то рядом зияет пропасть, таится опасность…
Но нет, такого просто не бывает! Как не бывает любовных треугольников и связанных с ними драм, не бывает рака, похищения людей, автомобильных катастроф и шпионов: все это принадлежит иному миру, сказке, мифу. Поддерживая распространение мифов, размышляла Рут, мы в то же время убеждены, что ничего подобного не может произойти ни с нами самими, ни с кем-либо из наших знакомых, такие вещи не касаются реальных людей, не имеют никакого отношения к нашей жизни… А как же те, другие, которые оказываются все же вовлеченными в острые, зачастую кровавые события, те, кто становятся жертвами мифов? А если они и правда существуют на свете, тогда совершенно очевидно, что они сделаны из другого теста и сами во всем виноваты…
Примерно в таком роде мы рассуждаем и о бедных…
Однажды Рут проснулась ночью от какого-то сна… или, может, ее разбудил шум? Ей как будто не снилось ничего дурного… конечно, это был не ее сон…
Все еще в полудреме, Рут села на постели, в ушах продолжала звучать колыбельная, которую напевала ей теплая ночь, ш-ш, ш-ш, ш-ш, хотелось снова забраться под одеяло и свернуться там клубочком.
И тут до Рут донесся стон… или всхлип?
Что это?
Она отдернула в сторону одеяло и встала.
Карианна лежала на кушетке, отбиваясь от кого-то руками и ногами и что-то бормоча, глаза у нее были закрыты.
Рут склонилась над ней, поймала тонкую кисть, отчаянно молотящую воздух.
— Эй, Карианна! — позвала она. — Что с тобой? У тебя плохой сон? Проснись, Карианна!
Пошарив другой рукой по тумбочке, Рут нащупала лампу и зажгла ее.
Карианна раскрыла глаза, заморгала от яркого света. Она затихла и некоторое время лежала притаившись, не двигаясь и не произнося ни слова.
Рут присела на край постели.
— Что случилось? — с тревогой спросила она. — Ты кричала во сне, так что слушать страшно было.
— Да… Мне что-то приснилось, — наконец выговорила Карианна не своим, осипшим голосом. Она села, притянула колени к груди. Руки лежали скрещенными поверх одеяла.
— Хочешь, я согрею молока? — предложила Рут, точно Карианна была пятилетним ребенком, которого можно утешить, налепив на болячку пластырь и рассказав сказку.
— Мне снилось… мне снилось, что я… — шепотом начала Карианна, потом задрожала и, вскрикнув: — Господи Боже мой! — расплакалась.
Рут никогда не видела Карианну плачущей, поэтому она сидела в замешательстве и только гладила подругу по плечу.
— Они… их было много, — так же тихо продолжала Карианна, — они… это было чудовищно.
Она принялась раскачиваться всем туловищем, взад-вперед, взад-вперед, словно мучаясь невыносимой болью, которую это однообразное движение могло каким-то образом притупить.
— Они насиловали меня. Фу, гадость! Слизь облепила мне лицо, лезла в рот, в нос, в глаза… не давала дышать…
Рут привлекла подругу к себе, обняла ее и твердой рукой неторопливо поглаживала по спине, пока рыдания не стихли.
Затем они еще долго сидели на кровати, прижимаясь друг к другу.
Рут не мерзла, на ней была плотная ночная рубашка из цветастой фланели, она надела ее, потому что ночи стали по-осеннему холодными, а она любила спать с открытым окном. Карианна же круглый год спала раздетой, и через некоторое время Рут заметила, что Карианна похолодела и трясется.
— Ты замерзла, — сказала Рут, — ложись-ка обратно. Забирайся под одеяло.
Карианна послушно легла.
— Давай ты сегодня будешь спать у меня, — тоненьким, детским голоском попросила она.
— У тебя кушетка слишком узкая для двоих, Карианна, — улыбнулась Рут. — Но я не уйду, пока ты не заснешь. Обещаю тебе.
И она осталась сидеть, сжимая тонкую ладошку Карианны в своей руке, и сидела так, пока не убедилась, что частое дыхание подруги перешло в глубокое и ровное: она спала. Тогда Рут осторожно разжала руку, погасила лампу и на цыпочках выскользнула из комнаты.
7
Был ясный, солнечный день на исходе октября. Рано закончив работу, Рут спускалась с пригорка по направлению к метро.
По тротуару навстречу ей шел Магнар.
Рут была удивлена — что он делает в этих краях? — но не смутилась, скорее, как ни странно, обрадовалась: стоит закинуть сеть в темноту ночи, и в мыслях уже запуталась чья-то душа…
Так Рут расценила их встречу, хотя ровным счетом ничего для нее не предпринимала. Она держала обещание, данное себе два месяца тому назад, и не пыталась связаться ни с кем из членов коммуны, ни разу после отъезда не заходила туда.
Но, вероятно, она думала о Магнаре, и этого оказалось достаточно…
— Здравствуй, — сказал он и улыбнулся ей, — не балуешь ты нас своим вниманием.
— Понимаешь, — растерянно отвечала она, — я была очень занята, некогда было даже… А у вас как дела? Все хорошо?
— Все идет своим чередом, — изрек Магнар. — Анеттина кузина прекрасно прижилась в твоей мансарде. Да и Лейву теперь есть с кем играть. В остальном же у нас, пожалуй, ничего нового.
— Передавай от меня привет, всем-всем.
— Дома до сих пор ломают головы, почему ты так внезапно съехала, — продолжал он. — Не собираешься в ближайшее время заглянуть в гости?
Рут задумчиво хмыкнула.
— Боюсь, что нет, Магнар. Я еще не созрела.
— Мне нужно тебе кое-что сказать. — Он вскинул на Рут неожиданно серьезный взгляд. — Я был рад, когда ты переехала. Ты правильно сделала. Тогда я не мог признаться в этом, а сегодня могу. Но, конечно, только тебе.
Рут кивнула. Она без всякой досады выслушала признание Магнара, поскольку оно не было для нее новостью.
— И все-таки я немножко скучаю по тебе, — прибавил он. — На свете мало людей, с которыми мне приятно общаться.
— Аналогичная история, — проговорила она и улыбнулась, широко, открыто, с облегчением. И вдруг, вовсе не собираясь этого делать, по наитию выпалила: — Может, встретимся как-нибудь в городе? Поболтаем? Сходим в кафе?
Она мгновенно сообразила, что должна раскаяться, взять свои слова обратно — и не сумела.
— С удовольствием! — подхватил он. — Непременно! Следующий вторник устраивает? Скажем, в полшестого?
— Чудесно, — отозвалась Рут.
— Тогда где-нибудь в центре, например в кафе-кондитерской на Эгерторгет, над булочной Самсона! Выпьем по чашечке кофе, съедим по бутерброду.
— Отлично, — опять поддакнула Рут. — Значит, договорились. А теперь, Магнар, мне надо бежать на метро, у меня спешные дела в городе.
Он похлопал ее по плечу, и они разошлись в разные стороны.
Закинула она невод в ночь, и попалась в него душа…
А свою слишком чуткую совесть надо призвать к порядку. Почему бы им с Магнаром не выпить вместе кофе и не поболтать?
Глядишь, ситуация несколько прояснится…
8
Она снова и снова проигрывала в голове будущий разговор, мысленно перебирала, что скажет. Речи были самые что ни на есть здравые и благоразумные. Ответы он давал разные, но конец был неизменно один и тот же.
Всего доброго, Магнар. Всего доброго, Рут. Береги себя и семью… Может, еще встретимся…
Он пришел раньше ее и ждал, заняв для них столик у окна, на его белокурых волосах лежала полоска солнечного света.
И Рут забыла все, что хотела сказать.
Вскоре они уже шли вдвоем по осеннему холоду, бок о бок, размашистым ходким шагом, вверх по Карл Юхан, через Дворцовый парк, по Пилестредет, а там в светло-желтый каменный особняк на Тересесгате.
Карианна оказалась дома. Впрочем, минут через пятнадцать она исчезла. Рут было все равно, ее не волновал взгляд, брошенный Карианной в дверях, не беспокоило, что было до и что будет после.
Им с Магнаром требовалось поведать друг другу нечто, чего нельзя было выразить словами — для этого годились лишь прикосновения, жар тела, отстоящего на миллиметр от твоей собственной кожи, жесты, дыхание. Хорошо, что ты здесь, рядом. Покойно. Вот ты. А вот я. Мы разглядели, поняли. Наконец-то.
Рут вытянула свою руку вдоль его, так что они соприкасались тонкой, нежной кожей предплечий. Если так долго лежать, подумала Рут, кровь из моей руки перетечет в твою, из твоих сосудов в мои, и нам никогда больше не понадобятся прикосновения.
Мы будем и так знать…
Магнар безмятежно, быть может, с оттенком любопытства посмотрел на нее, потом встал и начал одеваться.
— Мне пора, — извиняющимся тоном произнес он, — я и так задержался.
Лежа на спине, Рут лениво потянулась, проследила за ним взглядом и блаженно улыбнулась ему.
Вот так было дело.
Он застегнул рубашку, набрал полную грудь воздуху и довольно рассмеялся:
— До чего ж я люблю трахаться!
И вот так.
Она, по-прежнему лежа, смотрела на Магнара, может быть, даже с улыбкой, до нее не сразу дошло, она не сразу уразумела. Ах, вот как…
А то, что было между ними мгновение назад?.. Какие же комплексы, какое чувство стыда и неполноценности тяжелой завесой беспамятства заслонили только что пережитое от его добродушного невинного взгляда? Магнар подмигнул ей, словно они были два подростка, сговорившиеся сыграть шутку втайне от взрослых, подмигнул с плутоватой застенчивостью, гордый своей смелостью и в то же время безучастный, в глубине души совершенно безучастный, поскольку для него в случившемся не было ничего особенного: это было просто траханье, овладение женщиной, доказательство мужественности… и, возможно, чисто физическое удовлетворение, местное, ограниченное его собственным телом и его собственным миром, на уровне любого другого плотского ощущения — хорошего обеда, облегчения после того, как сходишь в уборную и освободишься от шлаков, и прочая и прочая. Она ничего не имеет против таких ощущений…
Но ей показалось, что между ними шел разговор, что происходило нечто важное… Как же так?
Они договорились встретиться через три дня.
Она много передумала за это время.
Когда он пришел, Рут рассказала, что повстречала одного молодого человека, в которого по уши влюбилась, они познакомились раньше, но ничего такого у них не было, во вторник она еще не была уверена в своих чувствах, а теперь разобралась. Так что им с Магнаром не стоит больше назначать свидания.
Она немного удивилась, как гладко все сошло, она даже улыбалась, и, кажется, ей удалось выглядеть беззаботной, она ни капли не переживала.
Магнар раздумчиво отвечал, что, наверное, так будет лучше. Он все равно никогда бы не бросил Аннету.
В голове Рут мгновенно вспыхнуло: Так он собирался? Он тоже думал? Значит… значит, они были правы, все были правы, и Анетта, Анетта тоже оказалась права. Но даже это открытие не поколебало Рут. Все хорошо, все прекрасно.
Она ничему не радовалась и ни о чем не жалела.
Все было замечательно…
9
Миновала неделя. Рут по-прежнему не испытывала никаких эмоций. Не то чтобы на нее напал столбняк, просто все происшедшее вместе с ее чувствами как бы стерлось, более не существовало для нее.
И тем не менее она знала, что где-то оно сохранилось, голова подсказывала ей, что пережитое вернется, постепенно, спустя некоторое время, когда она будет в состоянии его осмыслить.
Однажды она опоздала на работу, впервые с ранней весны.
Ее разбудил будильник, и она остановила его, потянулась, зевнула, хотела уже встать с постели…
И тут она, очевидно, опять заснула, хотя и не уловила перехода к забытью. Но она должна была заснуть, потому что ей привиделось, будто она попала в темноту, в полную темноту, в которой не было ни малейшего просвета, там не было ничего, и она была огорошена этим, она пережила шок, лежа навзничь в Карианниной квартире по Тересесгате, готовая подняться с постели…
Там не было ничего! Только кромешная тьма!
Постепенно Рут сообразила, что все-гаки есть воздух, которым она дышит. Она попробовала пошевелить рукой. Ага, двигаться можно, в любом направлении. По крайней мере это был не такой сон, в котором…
Она могла свободно дышать, воздуху хватало. Она могла шевелиться. Она ощущала на теле ночную рубашку… и что-то еще: под ногами чувствуется песок, сказала она сама себе. Во всяком случае, ей так кажется. Она вытянула руки в обе стороны, пощупала: да, песок. Песок, песок, песок…
— Песок, — произнесла она вслух.
И услышала собственный голос: она может говорить, значит, существуют еще и звуки. Однако эхо — отражение этих звуков — было какое-то странное. А издали доносился приглушенный шум… чего? Как будто капели…
Тут было жарко, и песок тоже был горячий. Рут начала потеть…
Ей никогда в жизни не снился такой чудной сон. Органы чувств передавали свои ощущения, четкие и определенные, и при этом вокруг стояла темень — и почти полная тишина, если не считать отдаленного звука — эха? — капели…
Ее нервная система сообщала Рут, что на нее вот-вот обрушится беспредельный ужас.
Нет, скорее всего, это не кошмар, ничего плохого с ней не случится. Но сколько можно лежать в темноте без движения? Она села, только потом догадавшись, что надо было сначала проверить пространство над головой. Теперь она исправила ошибку, вытянув руки вперед и вверх. Ничего. Пустота. Один воздух.
От этой беспросветной тьмы у нее поднялась дурнота. Уж не ослепла ли она? Вытаращив глаза, Рут поводила головой из стороны в сторону, но не уловила никаких сигналов — нигде ни проблеска, ни малейшего изменения в плотности тьмы. Все-таки ослепла? Однако это не объясняло ни жары, ни безмолвия — или почти безмолвия, — ни пота, ни влажноватого песка, который она чувствовала под ладонями.
Все она перебрала? А запахи? Кажется, пахло землей, едва ощутимый, скорее даже приятный аромат почвы, разве что немного затхлый… Да, она еще забыла воздух. Раз она дышит, значит, воздуха достаточно…
Кажется, с одного краю воздух вел себя несколько иначе, слева намечалось что-то вроде сквозняка, очень-очень слабое дуновение, и все же оно явно было. Она повернула лицо влево. Совершенно точно. Она ощутила его особо чувствительной кожей губ.
Рут бережно, хотя и довольно нескладно, задрала рубашку выше колен и на карачках поползла туда, откуда тянуло сквозняком.
На ее пути не встречалось никаких препятствий, все было по-прежнему, мрак не рассеивался, капель вроде тоже не приближалась, но и не отдалялась. Рут становилось все страшнее и страшнее, она прибавила темп, она ползла, закусив губу и слыша теперь только собственное дыхание, частыми толчками вырывавшееся из груди.
Внезапно опора под ее руками исчезла, остался один воздух… без песка, она повалилась ничком, заорала… и проснулась.
И очутилась на своей кровати, в Карианниной квартире по Тересесгате. Было четверть восьмого, несколько секунд тому назад прозвонил будильник, она выключила его и как раз собиралась встать, позавтракать, одеться и бежать на работу.
Рут, всхлипывая, уткнулась носом в постель — сна не было ни в одном глазу, только смертельный страх и ночная рубашка, мокрая от пота.
Спустя какое-то время Рут поднялась, отметила, что Карианны уже нет дома, прошла в ванную, сорвала с себя липкую рубаху, долго и тщательно мылась под душем.
Рут пришлось еще с полчаса просидеть в кухне за чашкой кофе и сигаретой, прежде чем она достаточно успокоилась, чтобы подумать о выходе на улицу.
Неужели она стала, вроде Карианны, отпихиваться от всего неприятного и будет теперь получать взамен кошмары?
Это было единственное объяснение, пришедшее Рут в голову, и оно напугало ее: такого она от себя не ожидала…
10
Рут мечтала о снеге.
Это было самое тяжкое для нее время года: прозрачная, напоенная ароматом сжигаемой листвы осень миновала, настало мрачное, сырое, промозглое предзимье. Всякая растительность втянула питательные вещества и собственные соки в самую свою сердцевину: жизнь притаилась в корнях и клубнях, запрятанных поглубже в почву, где она и готовилась пережить зиму.
Снаружи, на поверхности земли, остались только остовы.
Через какой-нибудь месяц подойдет Рождество.
Рут, конечно же, собиралась к родителям, так что пора было позаботиться о подарках.
За осень она несколько раз ездила в родительский дом. Рейдун, свою сестру, она видела лишь однажды. Рут хотелось бы вернуть те времена, когда они с Рейдун общались по-настоящему, она не могла уяснить себе, как разладились их отношения, теперь они вообще не разговаривали наедине. С родителями было куда проще. Отец был человек застенчивый, немногословный, зато он много улыбался; он всегда был таким — рассеянным, поглощенным собственными мыслями. Мать это раньше приводило в исступление, Рут же сочувствовала отцу. Она и сама похожа на него, считала Рут. Она любила их обоих. Любила мать, восхищаясь этой тягловой лошадкой, этой доброй, энергичной, хотя и несколько бесцеремонной женщиной. Однако нежность она испытывала именно к отцу, со всей его безнадежной непрактичностью и замкнутостью; он был мечтателем, а таким людям по натуре противопоказано становиться фермерами.
Но он стал им, потому что этого потребовали обстоятельства.
Рут тоже не сама выбирала профессию.
На работе дела постепенно наладились, в группе все более или менее встало на свои места. Она не могла нахвалиться Венке. Рут чувствовала некоторую неловкость оттого, что в свои двадцать семь лет, будучи молодым специалистом, была поставлена начальствовать над этой воспитательницей, которая не только была на пятнадцать лет старше, но уже четыре года проработала с этой группой. Все привилегии Рут, выражавшиеся в статусе, в жалованье — какой бы незначительной ни была разница, — в ответственности, в укороченном рабочем дне, казались Рут абсурдными.
А Венке между тем проявляла удивительную щедрость. Она безо всякого шума делилась своим опытом, давала Рут добрые советы и в открытую высказывала замечания — никаких камешков в ее огород, никакой язвительности, никаких поползновений за спиной у Рут пожаловаться на нее администрации. Они сработались и вместе намечали планы на неделю; через некоторое время им удалось справиться и с дисциплинарными проблемами, накопившимися в группе в отсутствие Анни Стенберг. Осенью они два раза организовывали вылазки в лес. Это было трудоемко и хлопотно, поскольку нужно было каждую минуту проверять, все ли тут, не отстал ли кто от других, однако Рут считала, что их усилия окупились: ребята еще много дней вспоминали эти походы, старшие стали уделять гораздо больше внимания малышам, Янника теперь постоянно играла с воображаемым беличьим семейством.
Рут то и дело поглядывала на Яннику. Она ловила себя на этом — не стоит так часто, кто-кто, а Янника прекрасно прижилась в детском саду и не нуждается в особом наблюдении.
И все-таки неужели это правда? Но так не бывает!
А совпадающая дата рождения?
К тому же несколько раз, когда девочка склоняла голову набок, точно прислушиваясь, Рут чудились в ее профиле черты, напоминавшие Карианну.
Однако скорее всего это объяснялось самовнушением — Рут ведь искала доказательств…
Вообще-то с ее стороны было странно тотчас не заметить, что Янника — приемный ребенок. Это не составляло тайны и для самой девочки: однажды она вскользь, как о чем-то совершенно естественном, сказала, что раньше у нее была «другая мама». По всей видимости, это ее мало беспокоило. Янника не была белокурой, как большинство норвежцев: кожа у нее была золотистая, глаза карие, с пушистыми черными бровями и ресницами, волосы густые, блестящие и тоже почти черные, не как вороново крыло, а с каштановым отливом. Иногда она ходила с длинной косой, надо лбом была выстрижена челка. Одевали девочку в светлые, пастельные тона, пожалуй, чересчур маркие для детского сада, чувствовалось, что матери небезразличен внешний вид дочки. Янника следила за своими вещами и боялась испачкаться, если на ней было надето что-нибудь «нарядное». Оба родителя были светлокожие блондины и выглядели типичными норвежцами, обоим пошел пятый десяток, отец казался чуть старше матери. Высокий, слегка лысеющий, он работал главным инженером — Рут не устояла перед искушением и посмотрела в канцелярии. Он был доброжелателен и обладал спокойным обаянием, обычно сопровождающим устойчивое общественное положение, налаженный быт и материальную обеспеченность. Мать держалась более натянуто: эта миловидная, несколько скованная в движениях — вероятно, застенчивая — женщина преподавала в школе. Со своей баловной дочерью она обращалась твердо и в то же время любовно, говорила тихо, неизменно ровным, мягким голосом, тут не было и намека на резкий, недовольный тон, появляющийся у отдельных матерей по мере того, как их дети взрослеют и обнаруживают все большую строптивость.
У Рут было полно забот, ей было недосуг проявлять бдительность. И все же она была настороже, хотя сама не знала, чего страшится. Ей мерещилась какая-то опасность.
Вероятно, следовало обсудить создавшуюся ситуацию с кем-нибудь из коллег. Попросить совета. Но о чем советоваться, если ничего не происходит? В Карианне не было заметно никаких перемен, разве что она чуть больше отгородилась от Рут, рано уходила на работу и много тренировалась, по пятницам она нередко заглядывала в ресторан, чтобы выпить — не напиться, нет, а пропустить стаканчик для расслабления, как она однажды объяснила Рут, когда та высказалась по этому поводу.
Рут пыталась вызвать ее на откровенность, но Карианна отмалчивалась, ей не хотелось говорить, ей нечего было обсуждать, впрочем, она ничего и не выспрашивала, ни про Яннику, ни про что-либо другое в детском саду.
Кошмаров Карианне как будто больше не снилось. Но она несколько раз вставала посреди ночи и читала в гостиной, пила мятный чай. Утром Рут натыкалась там на ее грязную чашку.
Саму Рут кошмары оставили в покое. Сны она видела, но в них не было ничего похожего на то ужасное испытание тьмой, которое Рут называла про себя «Во мраке». Она побаивалась, как бы этот «мрак» не вернулся. Но он не возвращался.
Раза два ей снился Магнар. Опять он без слов призывал ее, опять ему требовалась помощь. От этой навязчивой идеи Рут, видимо, пока не избавилась.
Она не то чтобы гордилась собой, но и не мучилась угрызениями совести. Вспоминать о Магнаре было больно, тоскливо и печально.
Мы — всего лишь люди, думала Рут, мало что доступно нашему пониманию.
Она находила в таких мыслях некоторое утешение. Это был извлеченный ею урок, то, с чем ей надлежало смириться.
Просьба Янникиной мамы о разговоре с глазу на глаз застала Рут врасплох.
Была среда. Обычно Яннику забирали в полчетвертого, но по средам и пятницам за ней приходили не раньше половины пятого.
— Я замечаю что-то странное, — начала беседу мать, прикрывая свою тревогу безмятежным тоном. Рут вскинула взгляд на нее, и все страхи, которые она неделями гнала от себя, мгновенно вернулись и предстали перед ней воплощенными в этой холеной белокурой женщине.
— А что такое? — спросила Рут, поскольку дама умолкла.
— Янника несколько раз приносила после детского сада яблоки, — наконец вымолвила мать. — Сначала мы не придавали этому значения. Но яблоки почему-то появлялись именно в те дни, когда мы забираем ее позже, и всегда одного сорта, небольшие красные, какие она больше всего любит. Мы подумали, что ее угощает кто-нибудь из детей…
Рут нахмурилась.
— Едва ли, — помедлив, сказала она, но мать Янники тут же прервала ее:
— Нет-нет, мы в конце концов спросили, и Янника объяснила нам, что яблоки ей дает с улицы незнакомая женщина. Сегодня она, кстати, опять угощала ее.
У Рут подкосились колени. Этого еще не хватало! Проглядела… Да как она может? Почему не предупредила?
— Со стороны, наверное, кажется, что я зря поднимаю панику, — проговорила мама Янники с виноватым смешком, отнюдь ей не свойственным. — Но… мне это не нравится. По-моему, тут кроется какая-то тайна. А может, Янника просто фантазирует?
Рут взяла себя в руки.
— Честно сказать, не знаю. Если бы ее угощал кто-нибудь у нас, в саду, мы бы непременно заметили. А что, женщина была пожилая?
Она очень надеялась на утвердительный ответ: милая пожилая дама… из тех, что любят одаривать обаятельных ребятишек, особенно если сами они одиноки… старушка с размеренным образом жизни, которая каждый день, между четырьмя и половиной пятого, идет в магазин и на обратном пути проходит мимо детского сада…
Но Янникина мама покачала головой.
— Нет, она была явно не пожилая.
— Я послежу, — запинаясь, ответила Рут, — и постараюсь все выяснить. В хорошую погоду мы выпускаем старших детей на территорию, и тогда с ними гуляю не я, а кто-нибудь из сотрудников. Но я присмотрю за Янникой.
— Все это наверняка не стоит выеденного яйца, — сказала мама, — объяснение будет самое безобидное. И все-таки, пожалуйста, понаблюдайте.
— Непременно, — обещала Рут, надеясь только, что ее лицо не выдает, насколько виноватой она себя чувствует. Конечно, ей следовало высказать свои подозрения, но вдруг она ошибается? А если нет, то как будет с Карианной?
Бедная она, несчастная…
Убирая помещение после ухода детей, Рут видела перед собой скромную табличку на проволочном ограждении, отделявшем детский сад от улицы, — вроде тех, что вешают в зоопарке: «Будьте любезны не кормить зверей». Она нервно усмехнулась.
И все это время в животе у нее было муторное ощущение падения в бездну.
11
— Да, — тут же призналась Карианна.
Рут молча смотрела на нее.
— Конечно, это была я, — продолжала Карианна. — У тебя вид, как будто ты свалилась с луны! Ты ждала другого ответа?
Рут покачала головой.
— Не знаю, — удрученно произнесла она. — Но… Почему ты ничего не рассказывала?
— А что бы ты сделала? — спросила Карианна. Голос у нее был совершенно спокойный, взгляд открытый и испытующий.
— Неужели непонятно, что это опасно, что ты играешь с огнем?!
— Нет, — отозвалась Карианна. — Я прекрасно понимаю, что ставлю тебя в затруднительное положение. И мне очень жаль. Рут. Но «игра с огнем», опасность? В чем ты тут усматриваешь опасность? — Она наклонилась над кухонным столом и внезапно перешла на страстный шепот: — Уж не считаешь ли ты меня опасной для собственного ребенка? Что я, по-твоему, собиралась с ней делать? Похитить?
— Да ну тебя, — сказала Рут, — у меня в голове не было таких глупостей. Но ты подумай о них… о ее родителях, о том, как ты напугала мать. Поставь себя на их место! Почему ты удивляешься, что они встревожились? Они ведь ничего про тебя не знают, а за ребенка отвечать им.
Карианна снова откинулась на спинку стула. Лежавшая на тарелке рыбная запеканка с картошкой оставалась нетронутой и постепенно остывала. Карианна словно оцепенела, она сидела с отсутствующим взором и сложенными на груди руками.
— Значит, тебе кажется, — проговорила она наконец, — что мне надо… отстать, больше не ходить туда, не видеться с ней?..
— Да, — тихо отвечала Рут. — Так будет лучше и для тебя. Карианна, ты же просто себя губишь.
Продолжая сидеть со скрещенными руками, Карианна не сводила с Рут неподвижного, изумленного взгляда.
— Мне нужно поговорить с… с ее матерью, — сказала она.
— Нет! — воспротивилась Рут. — Я считаю, что этого делать не следует, Карианна! Если тебя интересует мое мнение.
Карианна молчала.
— Давай тогда я поговорю с ней, — настаивала Рут. — Попытаюсь все объяснить. Тут ведь есть и моя вина!
— Что ты можешь сказать такого, чего не могу я? — спросила Карианна. — Я никого не буду пугать. Это смехотворно, Рут, я вовсе не собираюсь… Я только попрошу разрешения совать ей через ограду яблоко, по средам и пятницам, когда успеваю приехать, не прогуливая работы. Только яблоко. Только видеть ее…
Карианна говорила сдержанно, и голос был как будто ровный, спокойный, однако по щекам ее начали катиться слезы, а блестящие глаза расширились и смотрели на Рут откуда-то издалека. Может быть, Карианна даже не замечала своих слез.
— Если… если ее мать откажет, — сказала Карианна, — я больше не стану ездить туда. Даю слово.
Рут была в растерянности, она не знала, кто тут прав, а кто виноват. Она только знала, что перед ней сидит Карианна, с которой они столько лет дружили и которую Рут любит. И что сейчас Карианне очень плохо…
— В пятницу, — заклинала Карианна, — если я не рискну заговорить в этот день, можешь поступать, как хочешь.
— Ладно, — согласилась Рут. — Пусть будет по-твоему. Решать тебе. Я понимаю, что не имею права тебя неволить.
Она встала из-за стола и положила руку на плечо Карианны, словно пробуя, хочет ли она этого. Карианна сидела не шевелясь, бесстрастно глядя перед собой, слезы по-прежнему текли ручьями, но она не замечала их, как не замечала бы моросящий дождь. Она не шелохнулась, не произнесла ни слова, но Рут почувствовала в напряжении ее тела отказ, она убрала руку, еще немножко постояла рядом, потом бесшумно повернулась и вышла из кухни.
Она видела, что это один из тех случаев, когда помочь человеку можно, лишь оставив его в покое.
В пятницу Рут весь день была на взводе, и состояние ее делалось все тревожнее по мере того, как время-подходило к половине пятого. Гулять она Яннику не выпустила: на улице было пасмурно, а девочка хлюпала носом. Янника не очень противилась, когда ей выставили такой довод. Рут поминутно подбегала к окну и выглядывала наружу. В двадцать пять пятого она увидела Карианну: теперь, когда она знала, чего ждать, ей показалось удивительным, что она раньше не примечала подругу. Карианна, вероятно, сторожила так девочку уже несколько недель — на той стороне дороги, притаившись за деревом, лицом к забору, к детскому саду, к окну с веселыми занавесками в желтую полоску.
Подъехала машина с матерью Янники. Фигура под деревом нерешительно рванулась вперед, но белокурая женщина вылезла из машины и вошла в калитку, прежде чем Карианна успела пересечь улицу.
Рут нервничала. Она улыбалась Яннике и ее маме, когда отрицательно качала головой в ответ на заданный вполголоса вопрос, есть ли какие-нибудь новости, а в глубине души мучилась угрызениями совести, хотя старалась не показывать этого.
— Я не выпускала Яннику гулять, — сказала Рут. — У нее небольшой насморк.
Мать кивнула. Ее проворные пальцы завязали аккуратные бантики на шнурках девочки, натянули ей на уши вязаную шапку, и мама с дочкой ушли.
Внимание Рут отвлекла трехлетняя Марион, расплакавшаяся из-за мишки, которого отнял у нее Йоаким, и когда Рут снова подошла к окну, она увидела, как они разговаривают за оградой: невысокая худенькая Карианна в брюках и голубой пуховке и вторая женщина, в бежевом пальто и коричневых сапожках на высоком каблуке. Яннику Рут разглядела не сразу: в красном «форде» маячило прижавшееся к стеклу детское личико.
На глазах у Рут дама в светлом пальто напряглась и расправила спину, отстраняясь, отказывая… Карианна стояла перед ней, приподняв голову и обеими руками ухватившись за ремешок висевшей через плечо сумки. Янникина мать повернулась и поспешно зашагала прочь, затем рванула на себя дверцу машины, села внутрь, завела мотор, вырулила от бровки и покатила.
Карианна еще на некоторое время застыла на месте, потом тоже двинулась — в противоположном направлении.
Все это заняло не больше двух минут.
Выглядывая в окно, Рут держала на руках Марион. Теперь она опустила малышку на пол и неторопливо пошла разбираться, из-за чего вспыхнула ссора между Йоакимом и Аной.
Итак, ничего хорошего не вышло. Все сложилось как нельзя более неудачно.
И тем не менее Рут не представляла себе масштабов случившего до тех пор, пока минут через сорок не позвонила мать Янники и не сказала, что вынуждена забрать дочку из детского сада.
Рут почти закончила уборку помещения, когда в канцелярии раздался этот звонок; она заранее почуяла, кто это, и взяла трубку с тяжелым сердцем. Ей даже не дали возможности что-либо объяснить, возразить, попытаться уладить…
— Мы обсуждали на днях одну проблему, — услышала она лихорадочный голос из трубки. — Только что все выяснилось… При выходе из детского сада к нам обратилась… молодая особа, которая заявила, что она мать Янники. Естественно, имелась в виду биологическая мать, Янника ведь нам, как известно, не родная. Женщина была то ли навеселе, то ли что еще… Во всяком случае, у нее было что-то странное с глазами. И вся она какая-то замухрышка… совсем молоденькая, лет восемнадцати-девятнадцати. Нет-нет, милая, у меня к детскому саду никаких претензий, — поспешила заверить мать Янники, когда Рут хотела что-то ответить. — Я понимаю, у вас не хватает сотрудников и все такое. И Яннике было в саду замечательно, пожалуйста, не думайте, мы никого ни в чем не виним. Но я просто боюсь водить туда девочку. Я, конечно, должна посоветоваться с мужем, он еще на работе, но, мне кажется, мы не можем рисковать… Я только хотела поставить вас в известность, на случай если эта девица будет и дальше… если она станет приставать к другим детям или…
От страха мягкий, любезный голос приобрел пронзительность и визгливость.
Да-да, она понимает, какое это было потрясение, примирительно проговорила Рут, когда ей наконец дали высказаться. Само собой разумеется, они могут поступать так, как считают нужным, пусть все обсудят и перезвонят. Нет, она ничего не видела. Вряд ли женщина представляет теперь какую-либо опасность, но все равно спасибо…
Положив трубку, Рут в изнеможении продолжала сидеть в кресле, ее била дрожь.
Объяснять что-либо было бы бесполезно, может, только еще больше испортило бы дело. Бедная мать. Несчастные родители.
И бедная, несчастная Карианна.
А что делать Рут? Она не знала. Наверное, надо было все же кому-нибудь рассказать… Но кому? И зачем? С какой целью?
Пожалуй, всем будет лучше, если Янника сменит сад и на этом будет поставлена точка.
Рут вспомнила обещание, данное Карианной: «Если она откажет, я больше не стану ездить туда. Даю слово».
Сомнительно, чтобы она сумела его сдержать.
Рут не была уверена, что это было бы под силу и ей самой.
Карианна казалась спокойной. Даже слишком: она разговаривала деловым, отрешенным тоном, быть может, чуточку усталым.
Рут так и подмывало схватить ее за плечи и встряхнуть, вытрясти из нее эмоции, пускай расплачется, закричит, будет ругаться, впадет в истерику — все, что угодно, лучше этого бесстрастного спокойствия.
Рут начала осознавать, насколько более здоровой была в свое время реакция Анетты, хотя воспринимать ее тогда было нелегко.
Вскоре Рут уже едва ли не злилась на Карианну. И, вероятно, эта злость и подвигла ее на то, чтобы не без колкости объявить подруге, что ее принимают за наркоманку и к тому же дают всего восемнадцать лет. Рут мгновенно пожалела о сказанном — звонившая женщина была напугана, она пыталась защититься, и дразнить этим Карианну было жестоко.
Рут испуганно взглянула на подругу: теперь-то Карианна должна прореагировать?
Но Карианна только улыбнулась и, все так же спокойно и глядя в пространство, сказала:
— Да, я видела, как у нее вытянулась физиономия. Понимаешь, — словно в забытьи, продолжала она, — летом со мной произошел странный случай. Неподалеку отсюда, в парке… Не помню, почему я там очутилась. — Она наморщила лоб. — Как бы то ни было, я познакомилась со старушкой, которая гуляла с одним мальчиком, усыновленным. Ты бы послушала ее разговоры… Мать, то есть приемная родительница, такая замечательная, потому что взяла ребеночка, а другая, настоящая…
Она умолкла.
— Да? — негромко ободрила Рут.
— А настоящая — просто дрянь, — выдохнула Карианна, и в ее голосе не слышно было ничего, кроме безнадежности. — И она была права, — добавила Карианна.
— Как ты можешь?! — вскипела Рут. — «И она была права»! Нельзя сидеть спокойно и примиряться с тем, что люди могут быть такого мнения о тебе! Я не узнаю тебя. Карианна!
Рут вскочила и принялась расхаживать взад-вперед по зеленому ковру, лежавшему в гостиной еще с Мимминых времен.
— Мне все равно, — отвечала Карианна, пожимая плечами.
Рут подошла к дивану и присела рядом с ней. Взяла холодную, как ледышка, руку Карианны и совершенно машинально начала тереть ее, согревая в своих ладонях.
— Но почему ты не выплачешься? — проговорила Рут. — Тебе бы сразу стало лучше.
И у Карианны, точно по заказу, потекли слезы. Но хотя она тихо плакала, лицо Карианны и ее голос оставались бесстрастными.
— Мне хотелось бы только одного, — произнесла она. — Ты, конечно, скажешь, что это глупо и сентиментально, и будешь права… Но… скоро Рождество, и я подумала… может, мне позволят сделать девочке рождественский подарок? Один-единственный раз…
— Час от часу не легче, — сказала Рут и разревелась. Она наклонила голову, уткнулась лицом в колени и зарыдала, как дитя.
Она почувствовала Карианнины руки, которые ласково, хотя и несколько рассеянно, гладили ее по волосам. Спустя некоторое время Рут громко всхлипнула и распрямилась.
— Я, пожалуй, выйду пробежаться, — сказала Карианна. — А то я что-то совсем запустила тренировки, надо, пока не поздно, входить в форму.
Рут удивленно посмотрела вслед подруге, когда та скрылась в своей комнате, чтобы переодеться в кроссовки и в желтый спортивный костюм.
— Ты совершенно непредсказуема, — заметила Рут.
— Ну что ты? Просто бег очень помогает! — крикнула Карианна из-за двери.
12
За две недели до Рождества Рут поняла, что сходит с ума. Это было в четверг вечером, около девяти, она была в квартире одна, Карианна пошла заниматься каратэ. Рут расположилась в самом уютном кресле и поставила «Аппассионату» — она всегда старалась слушать классическую музыку, пока Карианны нет дома. Итак, она сидела в кресле и читала под пластинку Мэрилин Френч[15].
И вдруг…
Когда Рут пришла в себя, она лежала возле кресла, скорчившись на полу в позе утробного младенца, лицо ее было притянуто к коленкам, руки прикрывали голову.
Судя по музыке, она отсутствовала минуты две-три.
Но происшедшее с ней не укладывалось и в полчаса!
Рут перевела дух, встала, огляделась вокруг: ничего необычного. Только домашние тапочки на ногах… промокли!
Тихонько всхлипнув, она отбросила их от себя и еще постояла, пытаясь отдышаться.
Затем медленно, пошатываясь, вышла в кухню. У Карианны была в холодильнике почти нетронутая бутылка «Кампари», которая стояла уже больше недели. Рут достала стакан, налила себе, выпила. Она заглотнула неразбавленной и вторую порцию, хотя не любила горьковато-сладкий вкус аперитива; только налив себе в третий раз, она плеснула в стакан воды из-под крана.
К приходу Карианны Рут сидела на диване с закрытыми глазами. Но не спала. Она находилась в блаженном дурмане.
— Вот еще напасть! — сказала Карианна. — Что с тобой?
Она увидела Рут с середины комнаты, на ее гладком юном лбу образовалась складка.
— Я напилась, — проговорила Рут, четко, но не открывая глаз. — Я взяла твою бутылку «Кампари». Потом куплю новую.
— Плевать на бутылку! — нетерпеливо бросила Карианна. — Что случилось?
— Я с-с-спятила, — продолжала Рут, по-прежнему с закрытыми глазами. — Или того гляди спячу. У меня галлю… галлюнации.
— Галлюцинации, — поправила Карианна. Отшвырнув в сторону сумку со спортивными принадлежностями, она села на диван рядом с Рут. — Посмотри на меня, — встревоженно попросила она. — Господи, да ты вся мокрая от пота, чем ты занималась?
— Гуляла… в лесу, — сказала Рут и начала икать.
— Это еще не признак ненормальности, — отозвалась Карианна и обняла Рут за плечи.
— Нет, я спятила, — опять завела свое Рут. — Я… никуда не выходила… а мне казалось… и-и-ик!.. что я гуляю в лесу.
— Приснилось, наверное, — предположила Карианна.
— Там было… что-то вроде боло-о-о-та, — пояснила Рут. Она уже открыла глаза и пыталась рассмотреть Карианнино лицо, но оно было слишком расплывчатым. — И у меня промокли та-а-апочки. Я их поставила на… и-и-ик!.. на окно.
Это был вполне разумный поступок, потому что под окном находилась батарея, однако Карианна плохо соображала, о чем речь. Она недоуменно взглянула на подоконник, встала, подошла к окну, потрогала шлепанцы и примирительно сказала:
— Ты права, Рут. Они немножко сырые…
Икота тем временем прекратилась.
— Я боюсь! — вдруг выпалила Рут. — Мне ужасно, ЧУДОВИЩНО страшно!
— Послушай, Рут, — твердо произнесла Карианна. — Я не понимаю половины из того, что ты несешь, но я вижу, что ты напилась и тебе нужно в постель. Ты наверняка задремала в кресле и видела сон.
— Нет, — сказала Рут, сокрушенно качая головой. — Я просто-напросто схожу с ума, вот и все. Я совершенно неприспособленная. Безвольная. Никогда ни в чем не уверена. Вот я и схожу с ума. Так и запиши: твоя милая подруга неполно… ценная. Так что я сама во всем виновата…
Карианна безнадежно вздохнула, прикрыла на миг глаза, снова открыла их и подошла к дивану.
— Пойдем, — сказала она, — протягивая руки. — Вставай. Сейчас мы с тобой снимем мокрый свитер, и ты будешь спать. А разговоры отложим на завтра. Тебе же с утра на работу. Ты про это подумала? Надо же, вылакала одна чуть не целую бутылку!
— Меня тошнит, — прохрипела Рут.
— Еще бы тебя не тошнило, — отвечала Карианна. — Если будет рвать, пойдем-ка в уборную.
Не успела она доставить подругу туда и склонить ее голову над унитазом, как все накопившееся у Рут внутри хлынуло наружу.
— И пить-то придумала «Кампари»! — сетовала Карианна. — Какой надо быть кретинкой!
Но вот Рут стошнило в последний раз, она выпрямилась и даже сумела самостоятельно спустить.
— Свихнуться совсем не весело, — обиженно пробурчала она. — А очень страшно, скажу я тебе!
— Свихнуться! — фыркнула Карианна. — Да тебе в жизни не свихнуться, даже если ты будешь год подряд вливать в себя по бутылке «Кампари» в день! Тебя слишком заботит мнение окружающих, чтобы ты сумела спятить. Нет, Рут, ты не сумасшедшая, ты просто пьяная. Пошли.
Собрав остатки своего достоинства. Рут поплелась к дверям.
— Я справлюсь сама, — упрямо твердила она. — Спасибо, что помогла. Теперь я справлюсь сама.
— Давай-давай, — сказала Карианна, уступая ей дорогу. Рут добрела до своей комнаты, стащила с себя брюки и повалилась на кровать.
Она уже спала, когда Карианна завела будильник, прикрыла ее одеялом, выключила верхний свет и на цыпочках вышла из комнаты.
13
Рут неделю за неделей мучилась страхом. У нее явно был приступ безумия, и, хотя она не могла вспомнить подробностей — ее воспоминания были притушены алкоголем, — тем не менее она знала: тогда с ней происходило что-то не то и случай вполне мог повториться.
Однако пока что он не повторялся. В детском саду Рут была занята изготовлением рождественских гномов, открыток и елочных украшений, в ход шли коробки из-под яиц, гофрированная бумага, тряпичные лоскутки; дети были в восторге и вели себя прекрасно. Карианна была убеждена, что Рут приснился дурной сон. Сама Карианна казалась спокойной, чаще всего была в благодушном настроении — быть может, только выглядела чуть сдержаннее обычного.
— Янника перестала ходить к нам, — сообщила однажды за ужином Рут.
Карианна сверкнула на подругу прищуренным холодным взглядом.
— Не смей больше говорить о ней, — предупредила Карианна, — не хочу слышать ее имени. Никогда. Понятно?
Рут ошеломленно смотрела на нее — и не узнавала. Откуда эта холодная бешеная злоба, этот сипящий голос, источающий ненависть?
— Карианна, милая…
— Никогда в жизни, — сказала Карианна, глаза которой приобрели прежнее спокойствие и отрешенность.
Рут кивнула. По здравом размышлении она понимала подругу. Однако еда почему-то перестала лезть ей в горло, и Рут сумела запихнуть в себя только несколько тефтелей.
У Карианны между тем наметился серьезный роман. С осени она, что называется, пустилась во все тяжкие, развлекалась и по пятницам, и по субботам, нередко возвращаясь домой только наутро; раза два она появлялась к завтраку с гостем. Теперь эта гульба была закончена: Карианна познакомилась с молодым человеком по имени Даниэл.
Накануне Рождества она привела его домой, и Рут почувствовала себя ужасно старомодной и просто лишней, когда пыталась вести в гостиной непринужденную беседу с этой парочкой: они забрались с ногами на диван и улыбались друг другу, прикасались друг к другу, завлекали друг друга жестами, словами и взглядами.
Рут вскоре удалилась к себе и, покачав головой, беззвучно рассмеялась: Что это с тобой. Рут, неужели ревнуешь? При всей несуразности такого предположения она вынуждена была признать, что восприняла это едва ли не как измену, настолько очевидной была ее собственная ненужность… Не так ли реагируют матери, когда их дети по-настоящему поворачиваются лицом к окружающему миру? Но ведь Карианна не ребенок. И во всяком случае, ей, Рут, она не дочь.
А Даниэл, кстати, был весьма привлекателен: невысокий крепыш, темноволосый и смуглый, с умными карими глазами. Ему было года двадцать три — двадцать четыре, он учился в университете, собирался стать этнографом и изучать особенности исконно норвежского быта.
День проходил за днем. Рут уже купила рождественские подарки и теперь опасливо думала о празднике в кругу семьи. Что, если с ней произойдет такой… припадок, пока она будет гостить в родительском доме?
Нет, этого не может быть. Такого не случится. Да и что с ней, собственно говоря, было? Ничего особенного, то ли сон, то ли грезы наяву, обыкновенное бегство от действительности, психическая реакция на стресс, в котором она жила всю осень. Она была уверена, что ничего другого за этим не стоит.
Правда, у нее пропала книга…
Когда начался приступ, она вроде держала в руках книжку, норвежский перевод Мэрилин Френч, которую она теперь не могла найти. Это тревожило Рут, поскольку ей не нравилось, что она не в состоянии уследить за своими вещами. Она даже спросила Карианну, не видела ли та книжку, — невзначай, как бы мимоходом. Книга исчезла.
Рождество прошло хорошо.
Рут очень о многом хотелось поговорить с матерью. На второй день праздника они с утра пораньше сидели за кофе. Рейдун и Гленн вместе с детьми уехали накануне вечером, отец еще не вставал — у него был небольшой грипп. Как многие мужчины, обладающие отменным здоровьем и крепкой конституцией, он всегда с повышенной серьезностью относился к своим болезням. Рут вспомнила время, когда мать больше месяца проходила с воспалением почечных лоханок, прежде чем обратилась к врачу и начала лечение. Тогда на втором этаже умирала бабушка Рут со стороны отца, и родители придавали мало значения тому, что мать лихорадит и у нее бывают боли: отец спозаранку отправлялся в лес, где был в разгаре лесозаготовительный сезон, а дома надо было вести хозяйство, обихаживать и ублажать бабушку и двоих детей… Кажется, у них тогда были еще куры? Зато отцовские насморки и гаймориты требовали внимания, его здоровье следовало беречь: семья жила его работой в поле и рубкой леса.
— Пожалуй, я немножко боялась тебя, мама, — вдруг призналась Рут. — Когда была маленькой…
Мать раскрыла глаза на выросшую дочь. Рут видела, как обида на ее загорелом, обветренном лице сменяется удивлением.
— Ты была такая сильная, — продолжала Рут. — Ты находила управу на всех — на меня, на Рейдун, на отца, чуть ли даже не на бабушку.
— Как же, на эту мегеру разве можно было найти управу? — с нежностью в голосе произнесла мать, и лицо ее приобрело от воспоминаний безмятежное выражение. — Грустно, что я не нашла управы на собственную жизнь. Ничего из меня путного не вышло. А запросы были большие, — сказала она скорее задумчивым, нежели удрученным тоном.
Рут не смела лишний раз вздохнуть, ее мать так редко откровенничала, и все же не воспользоваться такой минутой было нельзя, и она тихонько спросила:
— А теперь тебе хорошо, мама?
— Хорошо? — рассеянно повторила мать. — О да, теперь мне хорошо. Хотя, конечно, с тех пор как Рейдун вышла замуж, у нас стало скучнее. Зато я хожу по домам помогать инвалидам, все какая-то польза.
— Тебе надо выучиться на патронажную сестру, — посоветовала Рут.
Мать с улыбкой покачала головой.
— Стара я уже садиться за парту. А вот о себе подумай, доченька. Тебе пора браться за учебу. Пока еще не поздно.
Тем дело и кончилось. Они чуть было не затронули что-то очень важное, значительное для них обеих, но в последнюю секунду не рискнули — так всегда и бывало, хотя на этот раз они, как показалось Рут, подошли ближе, чем когда-либо прежде. Ближе к чему? К открытости, к чистосердечию…
Впрочем, со времен материной молодости мир сильно переменился, и в конечном счете Рут, скорее всего, ждало бы разочарование и непонятность. Так что, вероятно, лучше было заранее уклониться от удара, признать разделяющую поколения границу и необходимость держаться на расстоянии, удовлетвориться традиционными выражениями привязанности и отказаться от попыток добиться Понимания.
Рут подозревала, что когда-нибудь сама окажется на месте своей матери. И не исключено, что тогда она оглянется на свои сегодняшние терзания, на мысли о Переменах, о Разобщенности и Понимании так же свысока и с той же усмешкой, с какой она сегодня вспоминает период веры в Бога, который пережила в девять-десять лет, или романтическое увлечение Джоном Ленноном, которое было у нее в четырнадцать…
14
— Для них самое главное, чтобы я не скандалила, — сказала Карианна.
А мы с мамой иногда скандалим так, что клочки летят по закоулочкам, — созналась Рут, — особенно когда она начинает выпытывать, с кем я сейчас встречаюсь да как я живу. Она это отрицает, но, по-моему, ей просто не терпится заиметь новых внуков.
— Мои тоже капают мне на мозги, — отозвалась Карианна, — для них был конец света, когда я ушла от Бьёрна. Да, я тебе еще не рассказывала! — Она засмеялась, отложила в сторону щетку, которой мыла посуду, вынула из раковины пробку и, когда зажурчала вытекающая в трубу вода, обернулась к Рут. — Есть две сплетни про Бьёрна, — радостно сообщила она. — Во-первых, я его встретила в городе, в книжном магазине, перед самым Рождеством. Он был со своей новой подружкой. Такой был приветливый, любезный, специально подошел поздороваться, интересовался моими родителями и все такое прочее. Мы с ним хорошо поговорили. И девица очень обходительная, так что я и с ней поболтала. И знаешь, кем она оказалась?
— Нет, — отвечала Рут, дотирая полотенцем последний стакан.
— Знаешь, чем она занимается? Кто она по профессии?
— Нет же, — повторила Рут, отставляя стакан. — Откуда мне знать? Выкладывай!
— Она держит салон красоты! — расхохоталась Карианна. — Честное слово.
Рут вытаращила глаза.
— Врешь!
— А вот и не вру! — давясь от смеха, проговорила Карианна. — Она сама сказала! Только косметика у нее не совсем обычная, а как бы более естественная, ну, экологически безвредная, с натуральными средствами…
Рут покачала головой: она помнила, что устроил в свое время Бьёрн, когда Карианна завела себе синий лак для ногтей.
— Ох, нехорошо с моей стороны смеяться, — сказала Карианна и перестала. — А девочка очень милая, этого у нее не отнимешь. Довольно красивая… и уверенная в себе… явно образованная, она держала в руках целую охапку английских и французских романов. Бьёрну такая как раз подходит. Только мне было дико на нее смотреть, точно он показал мне, какой желал видеть меня. Меня! Ты понимаешь, как я могла столько времени терпеть его?
— Нет, — отозвалась Рут, которой это и в самом деле было непонятно, — но, честно говоря, я не знаю и как он столько времени терпел тебя.
— Он чего-то хотел от меня, — продолжала Карианна, перейдя на серьезный тон, — но никак не решался сказать вслух, а сама я не догадывалась. Теперь вторая история… — Она задумчиво посмотрела в окно, где в полутьме зимнего вечера бились о стекло мокрые лохмотья снега. — Эта новость, пожалуй, будет хуже, хотя не берусь сказать, почему мне так кажется… Может, она не имеет значения. Во всяком случае, я не разобралась.
— Н-да?.. — пробормотала Рут.
— У меня есть один знакомый, которого зовут Виллиам, — сказала Карианна. — Даниэл его знает, и Бьёрн тоже. Осенью мы с ним пару раз встречались, так, ничего особенного. Я уже к тому времени давно перебралась жить сюда.
— Н-да.
— Недели две назад мы с Даниэлом увидели Виллиама в «Малла»[16], — продолжала Карианна. — И он рассказал, что Бьёрн ужасно разозлился на эти наши свидания, ругал его, обзывал предателем, говорил, что считал его другом, и так далее. Вот я и не понимаю, что это значит. Почему он так себя вел?
— Он приревновал тебя к Виллиаму, — пожала плечами Рут.
— Да что ты, — возразила Карианна. — У мужиков такие же представления о чести, как и у нас. Если все кончено, они стараются держать ревность при себе. Разве не так?
— Про мужскую логику меня лучше не спрашивай! Я имею о ней очень слабое представление.
— А мне кажется, я права, — рассудила Карианна. — Когда роман еще продолжается, это другое дело. Но зато, если я права, совсем получается кошмар. Потому что тогда оказывается, что, с точки зрения Бьёрна, у нас еще не было все кончено. Понимаешь? Хотя я уехала от него, хотя я ему талдычила об этом задолго до переезда, он просто-напросто не поверил мне! Он не слышал ни единого слова из того, что я говорила!
— Тут нет ничего невероятного…
Карианна села за стол и, опустив взгляд на скатерть, вздохнула.
— Со временем остается все меньше из того, что было в начале, — чуть слышно произнесла она.
Рут потянулась за лежавшей на полке пачкой сигарет, закурила и тоже присела. Бьёрн с Карианной знали друг друга больше двух лет, но даже заключительная, прощальная весть от одного к другому не была должным образом воспринята и понята. Так-то вот.
— Когда я была маленькой, — завела речь Рут, — я очень любила отца. Ты не думай, я его и теперь люблю. Он у меня замечательный. Немножко не от мира сего. Чудак… Но…
Она поднялась, достала из шкафа пепельницу, опять села.
— Мне казалось, он понимает все, — продолжала она. — Помню, я стояла у окна и смотрела на звезды и размышляла о бесконечности. Это, конечно, сложная материя, но, по-моему, все дети рано или поздно задумываются над тем, как может Вселенная быть бесконечной. Она ведь должна где-то кончаться, правда? А если она кончается, если там нечто вроде стены, невозможно вообразить себе, чтобы за этой стеной ничего не было! Бесконечность, с одной стороны, непостижима, а с другой — неизбежна. Вот о таких вещах рассуждали мы с папой. Помню, он иногда брал меня с собой возить бревна из леса, и тогда я расспрашивала его обо всем на свете. Он не давал каких-то особенных ответов, но он чувствовал, что меня волнует, он не подымал меня на смех и не пытался перевести разговор на другую тему. Потом я задумалась о Жизни. Я не могла постичь ее смысла, и это было похоже на мои размышления о Вселенной. Зачем мы живем? Чтобы работать и получать деньги, которые позволят нам жить дальше и зарабатывать больше? Чтобы рожать детей, которые вырастут и нарожают собственное потомство? Заколдованный круг. Но должно быть что-то еще, какое-то ясное предназначение… Если я спрашивала маму, она отвечала: мы живем, чтобы по мере своих сил улучшать мир, чтобы помогать друг другу. Она не понимала, о чем я говорю, а если я задавала новые вопросы, это вызывало у нее беспокойство, она уговаривала меня записаться в школьный оркестр или разводить кроликов. — Рут засмеялась. — А в моих размышлениях не было ничего… ничего плохого, я просто была любознательной и нетерпеливой, я хотела выяснить. Когда я вырасту, непременно найду все ответы, обещала я папе.
— Ну конечно, — сказала Карианна.
— Ну конечно, — повторила Рут. — Он похлопал меня по плечу и не стал внушать, что девочке девяти-десяти лет вряд ли стоит размышлять над такими вопросами. Мне казалось… да и теперь кажется… что он понимал меня, узнавал во мне черты, присущие ему самому.
— Что ты говоришь? — удивилась Карианна.
— И все-таки не он, а мама проела нам с Рейдун плешь: надо, мол, учиться дальше, — негромко сказала Рут. — Мама очень расстроилась, когда Рейдун выскочила замуж. Она молчала, но я и так знаю. Папа не имел ничего против: почему бы Рейдун не выйти замуж? Мама же считала, что еще рано. Что Рейдун испортила себе жизнь. И это, как я теперь понимаю, не снобизм, — вздохнула Рут. — Она желала своими дочерям звезд с неба. Она сознает, что не может заставить нас, что решать нам самим. И все же она склоняет меня поступать в университет, хотя при этом хочет видеть меня замужем, в тихой гавани, хочет, чтобы я родила ей внучат. Она желает нам всего сразу, хотя отлично понимает, что это невозможно. Так что, какая бы она ни была уставшая и требовательная, как-бы ни пугалась моих разговоров о смерти, я все равно знаю, что она у меня есть. Всегда.
Воцарилось молчание. Наконец Карианна подняла взгляд и сказала:
— Вот счастливая!
Рут покачала головой, собираясь вступить в спор…
15
…и повалилась назад, где не было ни спинки, ни вообще какой-либо опоры. Она подставила руку и всей тяжестью неловко приземлилась на нее, почувствовала острую боль в запястье — и закричала, издала истошный жалобный вопль… нет-нет-нет…
Только не это…
И все же это было то самое, что и в прошлый раз, и тут ничего нельзя было поделать, не помогали ни возражения, ни девчоночьи всхлипыванья, ни неверие, ни призывы к здравому смыслу.
Она осторожно встала на колени, высвободила руку: в запястье поднялась такая боль, что она на миг отвлекла Рут от другого, более страшного потрясения…
Этого не может быть.
Воздух был прохладный и влажный, непохожий на зимний: запах сырой земли, каких-то растений, тишина — ни голосов, ни гула улицы, ни одного привычного звука. Деревья. Трава. Скалы, огромные, поросшие мхом валуны.
Она осторожно переменила позу, села, опираясь спиной о валун и придерживая другой рукой запястье, принялась неторопливо раскачиваться взад-вперед. Прикрыла глаза, не в силах смотреть вокруг.
Кто желает мне зла? Как можно допускать такое? За что меня? Видимо, со мной все же неладно… Какое-то чудовищное умопомрачение… Но почему? Я считала себя самым обычным человеком. Что я такого натворила, чтобы заслужить эту кару?..
Постепенно она успокоилась, из груди перестали вырываться детские сетования, и Рут, по-прежнему держа себя за руку, сосредоточилась на своей боли.
Раз она испытывает боль, ощущает страдание в строго определенном участке тела, следовательно, она не спит — во сне или в грезах бывает иначе. Восприятие ее было столь же обострено, как и в прошлый раз: она чувствовала запах влажной земли, травы, хвойного леса, до нее доносились негромкий шелест листвы, звук капели, какие-то шорохи — всякие лесные шумы, среди которых не слышно было ни птиц, ни людских голосов, ни чего-либо подобного…
Она открыла глаза: дымка, полутьма; вечер или утро? По каким-то признакам она решила, что утро, может быть, по происшедшей за это время чуть заметной перемене в освещении.
Надо было что-нибудь предпринять с рукой. Теперь она болела по-другому, острая боль перешла в тупую, пульсирующую. Рут пригляделась: рука явно начала пухнуть. Растяжение, а то и перелом… Из чего бы сделать холодный компресс?
Что ты городишь, Рут? — сказала она про себя. Брось фантазировать, это ж надо такое придумать… Лечить запястье, растянутое во сне! Когда ты проснешься, рука у тебя будет целехонька, и что бы ты сейчас ни делала — неважно, самое разумное — оставаться на месте и ждать конца кошмара…
Она сомкнула веки, набрала в легкие побольше воздуху и попробовала сосредоточить свои мысли на том, что ей хочется вернуться обратно.
— Хочу домой, — вслух произнесла она. Звуки ее голоса зависли в утреннем тумане, словно кто-то тихо отозвался ей. Домой? Какой дом она имеет в виду? Она вновь открыла глаза: лес, деревья, туман.
Рут стала замерзать.
Беспомощно вздохнув, она встала: возможно, предпринимать что-либо и бесполезно, но совсем ничего не делать тем более глупо. При растяжении связок нужен холодный компресс. (А если перелом? В таком случае она не может ничем себе помочь. Но ведь не настолько больно, правда?) Компресс… Она оглядела скалы вокруг: изъеденные временем крупнозернистые валуны, мшистые плиты, лишайники.
Рут оторвала несколько больших кусков лишайника и вместе с сырым мхом приложила к руке.
Пошел дождь — реденький, моросящий. Рут была в вельветовых брюках с колготками, в майке и толстом свитере, в грубых шерстяных носках. Было холодно, а у нее уже подмокли ноги и зад.
А, не страшно, подумала она. Я ведь мерзну понарошку.
Однако ей не удалось убедить себя в этом: в скалистом склоне, на котором она очутилась, было не больше «понарошку», чем в кухне дома. Дома? Дождь тут был мокрый, мох ничем не отличался от обычного, камни были как камни, верх и низ располагались где положено, а боль была такой же нестерпимой, как могла быть в любом другом месте. Рут мерзла.
Подумав, Рут стянула с себя один носок и надела его на правую руку, чтобы изнаночные нити прихватили компресс из мха.
В прошлый раз она в ужасе кинулась бежать, надеясь найти дорогу «обратно», сейчас она смутно помнила тот случай, там было болото и какая-то огромная птица, которую Рут спугнула.
На этот раз она будет ждать, решила Рут. Она опять села, привалившись спиной к гигантскому камню, и, закрыв глаза, подставила лицо дождю.
Дождь.
Кажется, она начинала свыкаться… принимать все как должное…
Она сидела, и этому сидению не видно было конца.
В лесу ниже по склону закричала птица. Рут не знала такого голоса, но все-таки приняла его за птичий; заметно посветлело, так что она не ошиблась, подумав, что тут утро. Дождь прекратился, дымка слегка рассеялась, и Рут разглядела, что сидит у самой вершины горы, на почти голом откосе с валунами, вереском, проплешинами травы и спускавшимися по склону чахлыми деревцами; кроны деревьев внизу выступали из тумана, тогда как стволы и нижние ветви были укутаны им, словно периной; видимость была очень небольшая.
Облака, сообразила Рут. Это же облака. Только они не сверху, а снизу от меня.
В руке стучала тупая, размеренная, ритмичная боль. У Рут промокли штаны, и она дрожала от холода.
Спустя длительное время холод стал основой ее ощущений, частью мира, частью Вселенной, такой же неотъемлемой, как больная рука или шероховатая каменная глыба, врезавшаяся Рут в позвоночник; не слишком приятной, но имевшей не большее и не меньшее значение, чем облака, земля, растения, ее тело. Рут сидела на земле, а внизу, под слоем почвы, скрывалась скала. Справа, возле самого обрыва, росло что-то вроде вереска, он представлял собой миниатюрный лес: стволы, ветки, обитавшие там насекомые… Влажный воздух воспринимался как благодать, он питал Рут, давал ей энергию. Сидя на земле, она принадлежала окружающему миру, как и шершавая глыба, на которую она опиралась; этот камень, точно так же, как и сама Рут, жил собственной неторопливой, непостижимой жизнью, в нем тоже что-то происходило… и, возможно, мы не правы, считая, что изменения в камне и скалах происходят слишком медленно, а потому недоступны человеку, может быть, это люди живут слишком быстро?
Рассвело, мгла окончательно рассеялась, кругом простирался один сплошной лес.
Где-то поблизости запела птица. Дрозд? Похоже, но Рут не была уверена, да и разве существенно, как назвать птицу, дроздом или кукушкой? Главное, что она пела, не обращая внимания на сигналы радости или тревоги, которые посылали другие представители животного мира. Это был феерический, неиссякаемый поток звуков: певец торжествующе выкликнул тему и пошел варьировать ее, подчеркивая отдельные строфы повтором, нередко троекратным. В третий раз он, однако, не стал повторять вступительные такты, очевидно, посчитав, что суть дела ясна, оставалось только вдолбить соответствующий вывод в головы своенравных соперников, которые уже начали отвечать на его вызов с деревьев ниже по склону.
Как редко я слышала птиц, сделала для себя открытие Рут. Я их не слышала с детства, птичьи голоса были вроде гула транспорта, эдаким побочным шумом, едва ли не раздражающим, как бывает раздражающим незнакомый и потому непонятный музыкальный жанр, они были бессмыслицей…
На этом ее размышления закончились: сквозь облачную завесу прорвалось блеклое солнце, и лес зазеленел и оживился, он стоял перед Рут со своими неспешно развивающимися растениями, со своими шорохами, с блестящими листочками, подрагивавшими от ленивого ветерка, с муравьем, ползущим по ее руке…
И тут все переменилось, столь же внезапно и абсурдно, как прежде: ни леса, ни сырости, ни пения птиц. Вместо солнечного света лампа под потолком. Рут, лежащая на линолеумном полу, звук проходящего мимо трамвая из-за толстых кирпичных стен…
Она тихонько застонала, ловя ртом воздух.
— Рут, — донесся чей-то голос, тонкий, перепуганный, явно из другой комнаты. Карианна.
Отозваться не было сил.
— Рут. — Голос приблизился. В нем сквозила истеричность, которой Рут никогда прежде не замечала у Карианны. — Господи, Рут! Что такое… что ты делала?
Ее взяли за плечи, кто-то опустился рядом на колени. Рут подняла голову и раскрыла глаза.
Лицо Карианны было бледное, глаза вытаращены. Она стояла на коленях посреди кухни и обнимала подругу, впиваясь пальцами ей в плечи. Карианна несколько раз порывалась заговорить, но так и не сумела, только покачала головой. Наконец она встала и протянула руки, чтобы поднять Рут:
— Пойдем, тебе надо надеть что-нибудь теплое, сухое, ты… Что это? Почему у тебя на руке носок?
Итак, Рут вернулась.
Теперь можно было дать себе волю, и у Рут мгновенно хлынули слезы — не столько от испуга, сколько от облегчения.
— Ой, мне было так страшно! — всхлипывала Рут. — И больно… Я, наверное, сломала руку… я…
Она стащила носок, рассыпала по полу мох с лишайником; вся рука вспухла, пальцы застыли и сделались толстыми, как сардельки, она не могла пошевелить ими.
Карианна помогла ей встать и открутила холодную воду.
— Давай руку, — как-то машинально, даже неодобрительно произнесла она, — надо смыть эту грязь. В каком ты виде! Что случилось, Рут? Что произошло?
Холодная вода сняла пульсацию, утишила муки.
Рут вздохнула, стала понемногу приходить в себя.
— Это был не сон, а что-то вроде видения, как в прошлый раз, — объяснила она. — Я оказалась не дома, а на какой-то горе… Там было лето… или весна, стояло раннее утро. Я очень долго пробыла там. И все было такое взаправдашнее…
— У тебя рука ни к черту не годится, — сказала Карианна. — Надо показать ее врачу. А еще ты вся мокрая. Давай я подогрею молока, или сделаю чай, или…
Рут со вздохом отметила странное выражение в Карианниных глазах, она понимала его, в прошлый раз она сама смотрела так же.
— Карианна, я схожу с ума, — медленно и четко проговорила она. — У меня бывают приступы, мне мерещится всякая всячина, я действительно схожу с ума!
Карианна отложила в сторону влажный платок, которым собиралась обмотать руку подруги. Она оперлась о стол, медленно покачала головой.
— Если ты сходишь с ума, — чуть слышно произнесла она, — то вместе со мной. Ты исчезла, Рут. Мы сидели и разговаривали, верно? Я смотрела тебе в лицо — и вдруг тебя не стало. Ты не упала в обморок или что-то еще. Ты исчезла.
Рут закрыла глаза. Она не удивилась, поскольку и сама подозревала именно это.
— Ужас какой-то, — продолжала Карианна. — Только что сидела, разговаривала, и вдруг тебя след простыл! Я просто оцепенела, потом начала звать тебя, побежала в гостиную, в уборную, в спальню, все кругом обыскала… — Она сглотнула, лицо ее приобрело почти нормальный цвет, взгляд оживился. — И тут я услышала шум из кухни. Прибегаю, ты на полу.
— Я сидела в лесу несколько часов, — недоверчиво сказала Рут.
Карианна помотала головой.
— Тебя не было считанные минуты, — возразила она, — самое большее минут пять. А появилась ты мокрая до костей, продрогшая и с надетым на руку сырым носком. — Она засмеялась, не совсем уверенно, но уже без истерики в голосе.
Какая Карианна сильная! — подумала Рут. Я бы на ее месте совсем растерялась. Прошлый раз у меня просто голова пошла кругом…
— Пойдем, — деловито сказала Карианна. — Я поставлю воду для чая, а ты снимешь с себя мокрое и примешь горячий душ. Потом я позвоню врачу и выясню, не надо ли сделать рентген. Вид у руки страшный, может, дать тебе сразу паралгин? А есть ты хочешь?
И Рут уступила ее напору, с благодарностью и без рассуждений: она вдруг почувствовала, что валится с ног от усталости и если не засыпает, то только из-за боли в руке. Она была дома, вне опасности, и можно было на время переложить ответственность за себя на чужие плечи.
Она сорвала мокрую одежду, смущенно и с некоторой брезгливостью обнаружила, что штаны намокли не только от дождя, но вслух не призналась, не смогла.
— Я все уберу, — сказала Карианна, предупреждая желание Рут поднять с пола носки и брюки; Рут разогнулась, опять-таки с благодарностью: ей сейчас не хотелось прикасаться к клокам сырого мха и лишайника, к лесному перегною, рассыпанному по светло-зеленому кухонному полу. Она будет думать над происшедшим потом, позже…
Теперь ей хотелось только, чтобы отпустила боль в руке и можно было наконец забыться сном.
Карианна отвезла Рут на такси к врачу, там ей сделали снимок запястья, наложили гипс (у нее оказалась дисторсия связок, хотя Рут не поняла, что врач имеет в виду под таким диагнозом) и велели первые дни беречь руку и носить ее на перевязи, а затем начинать понемногу шевелить пальцами.
Рут выписали сильное болеутоляющее, и, вернувшись домой, она заснула как убитая.
Подруги много раз говорили о случившемся, и Карианна уже не проявляла скептицизма, казалась заинтересованной, даже заинтригованной. Она рассуждала о четвертом измерении и альтернативных уровнях сознания. Рут же не выдвигала никаких гипотез. У нее было одно желание: чтобы больше не пришлось испытать ничего подобного…
Куда она попадала: в прошлое или будущее, в параллельный мир или в мир ирреальный? Рут не знала и не хотела знать, она не желала думать о нем.
Только бы не повторилось…
Но избежать повторения не удалось.
На этот раз ее прихватило на работе, рано утром, когда в сад привели только двоих: Ким и крошку Лисбет. Мама Ким, присев на корточки, любовалась фигурками, которые дети накануне слепили из специального «игрального» теста и подсушили в духовке. Лисбет понадобилось в уборную. Рут пошла вместе с ней, помогла раздеться и снова одеться: свитер, комбинезон, колготки, трусики — целая проблема, если делать все одной левой рукой, хотя теперь стало удобнее, можно понемногу пользоваться и правой. Девочка уже вышла из уборной, и Рут собиралась спустить за ней… когда опять все сместилось и она попала в другой мир. Пожалуйста, не сейчас! Как же дети? Как же работа?!
Высоко вверху виднелись тонкие… что это было? Наверное, балки. Черные линии на фоне неба переплетались между собой наподобие паутины, наподобие кружева; вероятно, когда-то это сооружение несло на себе кровлю, однако теперь сохранились лишь перекрытия. По одну сторону от Рут вздымалась высокая мрачная стена, по другую открывалось свободное пространство. Под ногами у нее росла трава, были тут и деревья, хотя довольно низенькие.
Рут сразу же пошла, она не могла оставаться на месте и ждать каких-то происшествий… Обстановка здесь была гнетущая, безнадежная. Если есть развалины, значит, кто-то должен был построить здание… Где они, эти люди? Очевидно, страх перед безысходностью и погнал Рут к прогалу, который она заметила справа от себя. Стена слева, хрупкие стропила, протянувшиеся высоко вверху, не вселяли никакой надежды. Рут показалось, будто ее поместили в вакуум: она поняла существенность воздуха, потому что его внезапно не стало… Она погибнет! Рут всегда жила надеждой, и эта надежда была для нее не менее важной, чем воздух, которым она дышала. Теперь ее лишали надежды…
Запыхавшись, она добежала до просвета и увидела обрыв.
Откос, резко уходивший вниз; на склоне трава, цветы, деревья.
Под откосом кто-то двигался. Рут точно не разглядела этого коричневого зверя. Косуля? Лось?
Рут замерла на круче, обнимая ствол дерева, она перевела дух, и ей стало легче. Раз есть жизнь, есть и надежда…
Конечно, ее напугало одиночество. Кто-то должен был построить все это… Где люди? Мир после человека, пронеслось в сознании. Ну и пусть… Здесь были трава, деревья, солнечный свет, были птицы, теперь Рут знала, что водятся и звери. Ей больше не было страшно.
Она села на краю обрыва, обхватив руками колени.
И мгновенно перенеслась обратно.
Уборная в детском саду… белые плиты пола, запах мыла и хлорки, свет из крохотного окна наверху. Рут сидела на полу…
— Рут!
Дверь распахнулась, и перед Рут предстал Йоаким — в намокшем от снега комбинезоне, с шапкой в руке и рыжими локонами, обрамляющими бледное личико.
— Чего ты не отвечаешь? — сердито спросил он. — Надо отзываться!
Она радостно поднялась и здоровой рукой привлекла мальчика к себе.
— Я немного ушиблась, — пояснила она, — ударила больную руку, и мне стало так больно, что…
— Тебе было ужасно больно, да? — озабоченно переспросил Иоаким, с почтением разглядывая ее загипсованную руку. — Тогда иди полежи, а я ничего, сам разденусь.
— Мне уже лучше, — заверила Рут. — Если я расстегну кнопки, молнию и помогу с завязками, ты доделаешь остальное?
— Конечно. Мама просила передать, что она не успела зайти со мной, — сказал Иоаким, — у нее машина не завелась, и она торопилась на метро.
Рут лепетала что-то утешительное, а сама перебирала в голове собственные проблемы.
Последний приступ был меньше недели назад, похоже, они учащаются. А если бы Рут была в игровой комнате? А если бы она держала на руках ребенка? Нет, рисковать нельзя, она просто не имеет права…
— Угораздило же повредить руку, — посочувствовала мама Ким, которая стояла в передней и заматывала шаль, собираясь уходить. — И, конечно, правую! Почему всегда достается правой?!
— Если ты не левша, — улыбнулась Рут, — тогда, естественно, левой…
Что же делать? Уйти домой, как только появится Венке? Сесть на больничный? Но ведь это снова замены! Бедная Венке… Едва они наладили дела в группе…
Но… но…
До конца дня Рут все-таки доработала. Администрации она сообщила, что чувствует себя плохо, у нее кружится голова, видимо, накатывается грипп.
— Хорошо, что у нас многие дети тоже болеют, — вздохнула Венке, — глядишь, как-нибудь справлюсь. А вид у тебя действительно скверный, Рут. Попробуй дома выпить горячего молока с чесноком!
— Ты уж посоветуешь! — состроила гримасу Рут.
— Да нет, правда, очень помогает. А ко вкусу ты притерпишься. Потом надо залечь в постель, пропотеть и выспаться, и все как рукой снимет.
— Не знаю, как быть, — печально проговорила Рут.
— Ну перестань, — сказала Венке, — каждый человек имеет право поболеть, а там и до меня очередь дойдет.
Как же поступить? Нет, рисковать нельзя…
На другой день она сходила к врачу с жалобами на бессонницу, усталость, страхи и получила освобождение от работы на две недели, хотя и с трудом: Рут показалось, что врачиха — молодая, очень милая и явно неглупая — отнеслась к ней с некоторым недоверием. Рут и сама знала, что ее ничего не стоит вывести на чистую воду: когда она врала, то всегда краснела, покрывалась испариной, путалась в словах и слишком тараторила.
Две недели. Пройдет ли ее «болезнь» за две недели? И как узнать, прошла она или нет? Как можно теперь быть в чем-либо уверенной?..
16
Рут понимала, что без Карианны ей пришлось бы в этот период совсем туго.
Хуже всего бывало, по утрам: Карианна рано уходила на работу и возвращалась в лучшем случае к четырем, а Рут забиралась в кресло и, сжавшись в комочек, сидела там в испуганном ожидании. Она пробовала читать, пыталась слушать музыку, но в голове у нее был такой сумбур, что справиться с ним или спастись от него не было никакой возможности.
Выйти из дома Рут боялась: вдруг она исчезнет посреди улицы, в толпе? Или в магазине, когда будет разговаривать с продавцом? Или в трамвае? Ей виделись сенсационные развороты газет, люди в белых халатах с медикаментами и электронным оборудованием, исследования, анализы, эксперименты… Не дай Господь…
Хоть бы уж она и вправду сошла с ума! Тогда можно было бы проситься в больницу, умолять о помощи. В своем теперешнем положении Рут страшилась мысли о врачах, о больнице, о том, что все обнаружится…
Рассчитывать на помощь не приходилось, поскольку ее перемещения были невероятны, противоречили законам природы, были за гранью познания, за гранью реальности.
И тем не менее они продолжались.
Когда Карианна возвращалась, становилось легче, рядом появлялся человек, с которым можно было разделить ожидание, перекинуться словом… Человек, который мог выйти, купить продукты, который будет дома, когда Рут в очередной раз ввалится в этот мир после долгих часов беспорядочных скитаний в Немыслимом…
— Нужно доискаться причины. Рут, — настаивала Карианна. — Найти закономерность, способ управлять этим процессом. Ты либо путешествуешь во времени, как в научно-фантастических романах, либо перемещаешься в пространстве, верно?
Рут только безнадежно качала головой, она не усматривала в своих перескоках никакой системы: она не переносилась в какое-то определенное место, да и время тоже было как будто разное, она понятия не имела, чем вызывались эти скачки и как она попадала обратно…
Через три дня после того, как она получила освобождение от работы, Рут внезапно очутилась в огромном зале, переполненном народом. Дело было утром, она мыла в кухне посуду — и вдруг все снова сместилось…
Люди… Это было первое, что Рут заметила и чему, как ни странно, обрадовалась: очевидно, она настолько уверовала в Карианнину идею Путешествия во Времени, что представляла себе Мир после Бомбы и тяготилась этим. Теперь же Рут окружал народ, множество людей, которые стояли в просторном зале, не теснясь друг к другу, но все же образуя толпу, и смотрели в одном направлении. От них веяло спокойным ожиданием.
Никто не встрепенулся при появлении Рут, ни один человек не ойкнул, не показал на нее пальцем… Тут вообще не было никаких резких звуков, не было грозного шума толпы, только ровный гул множества приглушенных голосов, народ обменивался репликами, время от времени раздавался чей-то смех — не громкий, не пронзительный, а… доброжелательный. Приглядевшись к окружающим. Рут подметила, что всем лицам присуще одно и то же выражение доброжелательности. Словно все собрались в предвкушении чего-то приятного.
Народ тут был самый разный: от стариков до грудных младенцев. Рут видела и негров, и приземистых людей с раскосыми глазами, и светлокожих блондинов — как на уличном перекрестке крупного города, здесь был представлен любой возраст, пол, любая раса.
Бок о бок с Рут стояла чернокожая девушка с охапкой курчавых волос и африканскими чертами лица. Рут осторожно прикоснулась к ней:
— Простите, вы не могли бы мне помочь? Я не понимаю, что тут…
Девушка внимательно посмотрела на нее, улыбнулась и что-то ответила, медленно и членораздельно, так что Рут явно обязана была понять это. Но постичь смысл оказалось невозможно: как ни отчетливы были звуки, как ни знакома интонация, слов Рут не улавливала…
— Я не понимаю, — в растерянности произнесла Рут.
Она сообразила перейти на английский, на французский, даже сказала несколько слов по-немецки. Молодая женщина сокрушенно покачала головой и, положив руку на плечо Рут, указала ей вперед, как бы успокаивая, подбадривая. Рут вытянула шею, стараясь что-то разглядеть… Однако смотреть пока было не на что: вдали, на другом конце зала, виднелись только огромные двери. Двери были закрыты, а на стене над ними не было никаких украшений, никаких картин, эмблем или надписей.
Рут попыталась обратиться к русоволосому пожилому мужчине впереди, но и тут повторилась прежняя история: он мотал головой на все языки, которые она пробовала, потом виновато улыбнулся и, подняв кверху руку с растопыренными пальцами, сделал мягкий жест, означавший: погоди, не суетись, ни о чем не беспокойся.
Рут со вздохом сдалась.
Она не представляла, сколько времени простояла так. Она была без обуви, в одних носках, с засученными рукавами и мокрой щеткой для посуды в руке… Никто не появлялся. Народ потихоньку переходил с места на место, и это было не беспокойное движение, а неторопливый круговорот многолюдной толпы. Из приглушенного рокота мирной беседы не выделялось ни единого пронзительного голоса, ни один ребенок не плакал, никто не проявлял признаков страха или нетерпения. Во всей ситуации присутствовала некая мистика, Рут расценивала этот свой перескок как самый ирреальный из всех и в то же время была убеждена в реальности происходящего: она различала запахи, цвета, звуки, под ногами чувствовался асфальт или бетон, было ощущение пространства, воздуха… Рут задрала голову и посмотрела наверх: там было переплетение, решетка из тонких черных стропил, несущих на себе прозрачные пластины, похожие на стекло…
Как перекрытие крыши на развалинах, куда она попала в прошлый раз…
Рут не знала, что делать: бежать, поднять крик, попробовать выбраться отсюда? Она раскрыла рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, пусть даже оно останется непонятым: тут вот-вот должно что-то случиться… А может, она ошибается? Она ведь ни в чем не уверена, не представляет даже, зачем они собрались здесь…
И снова перемещение в другой мир.
Рут переводила дух, склонившись над мойкой в кухне по Тересесгате.
Перескоки случались все чаще и чаще. Рут походила на маятник, раскачивавшийся между реальной и ирреальной действительностью. Перемещения всегда заставали ее врасплох, хотя она, казалось бы, только и делала, что сидела дома и, стуча зубами, ждала их. Ее выхватывали в любое время: однажды во сне, посреди ночи, другой раз под душем, еще раз — когда они с Карианной обедали. Тогда Рут очутилась на узком, глухом проселке в поросшей елями долине, в низу которой протекала река; ей попалось нечто вроде заброшенной лесопилки или мельницы, замшелой, сырой и тихой. Рут отломила ветку с напоминавшего орешник придорожного куста — и так, с веткой в руке, очнулась дома, за кухонным столом, перед бледной, испуганной Карианной.
Рут больше ни разу не переносилась в огромный зал, чаще это был просто лес, привычный, скорее всего норвежский, ландшафт. Погода бывала теплая и прохладная, но неизменно летняя, время — как ночное, так и дневное; из живых существ встречались птицы, иногда звери, несколько раз Рут видела поблизости людей, однако она сторонилась их — не потому, что они выказывали недобрые намерения, а лишь из-за того, что она чувствовала себя здесь беспомощной, чужой, гонимой…
Иногда Рут отсутствовала по нескольку часов, в другие разы гораздо меньше. Тело ее подстраивалось под ритмы материальной среды, в которой она оказывалась: Рут могла проголодаться, захотеть пить, она испытывала потребность в естественных отправлениях, получала повреждения и раны. Она стала носить на себе нейлоновый рюкзачок, куда положила запас еды, термос с чаем, пакет сока, нож, пластырь и бинт. Так предложила Карианна, которая теперь принимала в Рут большое участие.
У Рут голова шла кругом от бесконечных мотаний туда-сюда, между этим миром и… каким-то другим…
У нее больше не было сил. Неужели предполагается, что она может долго терпеть такое?
Однако никто не спрашивал, что она может терпеть, а чего не может, никто не знал о происходившем с ней и не управлял ситуацией. Все случалось само по себе, накатываясь на Рут слепо и бессистемно, немилосердно и разрушительно.
Как шквал. Как ливень в солнечную погоду. Как война.
Как ветрянка, которой заболевает ребенок, как колготки, которые ты покупаешь на распродаже, как валовой национальный продукт, как дружба или вражда.
Как одуванчик.
Как безумие.
17
И вот, спустя несколько месяцев, наступила весна. За окнами горела в солнечных лучах береза с только что распустившимися листиками. Окно было без штор, подоконник из золотистой сосны, большое стекло красиво и ненавязчиво обрамлено комнатными растениями.
Она сидела в кресле и смотрела на него — худощавая темноволосая девушка, большеглазая, с неправильными, привлекательными чертами лица. Она была в брюках и просторной хлопчатобумажной блузе с длинным рукавом и сидела со спокойно сложенными на коленях руками. Кажется, она наконец-то расслабилась. Нет, она не улыбалась, но хотя бы исчезла резкая, напряженная складка около рта.
Глядя на него, она видела перед собой дружелюбного седого мужчину, одетого в довольно непринужденной манере; лицо его выражало нечто среднее между теплым участием и нейтральностью. Пожалуй, она начала понемногу узнавать, что он за человек: вежливый, несколько отстраненный, отнюдь не глупый, он умел хорошо слушать — впрочем, это была чисто профессиональная привычка: откинуться на спинку кресла, слиться с обивкой и дать пациенту возможность высказаться…
Иногда он вставлял реплики, задавал вопросы, все очень взвешенно, ни в коем случае не менторским тоном. Уловив некоторую рассеянность, она жалела его: надо же, сама сидит и, не закрывая рта, разглагольствует о себе, ему, бедняжке, небось тоже хочется кому-нибудь открыться?.. Ее смущало, что данный расклад противоречит той роли, которую она была обучена принимать на себя: ему приходится слушать, а ей — говорить!
Она утешала себя тем, что его работа по крайней мере должна прилично оплачиваться.
— Мне кажется. Рут, — наконец заговорил он, — что нам пора подробнее обсудить положение, в котором ты находишься сегодня. Мы проследили историю твоей жизни — хотя бы в общих чертах — и поговорили об отношениях, которые на протяжении долгих лет складывались у тебя с близкими, мы также провели с тобой некоторые тесты. Сразу после поступления к нам ты подверглась обычному медицинскому обследованию. Должен признаться, — он с улыбкой потер лоб, — что я до сих пор пребываю в недоумении. Можно констатировать, что мы так и не обнаружили в твоем случае ничего особенно примечательного…
— Странно, — сказала Рут, — я считала, что психиатрам все кажутся ненормальными.
— Нормальность — понятие расплывчатое, — отозвался он, — рамки тут очень широкие. Проблема на самом деле сводится к тому, способен ли человек функционировать в обществе так, чтобы это было приемлемо для него и для окружающих. Ты попала к нам в крайне удрученном состоянии, ты настолько отчаялась, что пыталась лишить себя жизни.
Рут обреченно помотала головой и промолчала. Он продолжал, не сводя с нее взгляда:
— …Ты неверно оценивала свою болезнь, утверждая, что ты не имеешь склонности к самоубийству и тебе не требуется лечение. Через несколько дней после того, как тебя положили к нам, ты опять пыталась повредить себе, и такие попытки повторялись и дальше, сочетаясь с внезапными исчезновениями, которые ты не желала как-либо объяснять. Ты вообще отказывалась обсуждать свое положение, ты настаивала на выписке, правильно? Тогда как ты, по крайней мере в первые недели, явно не отвечала за свои поступки…
— Это как сказать, — невольно вздохнула Рут.
— Однако разговаривать со мной ты все же согласилась, и мы уже неоднократно беседовали о том, что представляет собой некая Рут, обсуждали ее личность, ее прошлое. О признаках болезни ты предпочитала не распространяться, и боюсь, что я до сих пор не могу предложить сколько-нибудь правдоподобной версии ее возникновения. Прошлой осенью у тебя были сложности в личной жизни, однако, честно признаться, я не понимаю, из-за чего ты потеряла контроль над ситуацией. Пожалуйста, попробуй объяснить мне.
У Рут вспыхнула внезапная надежда.
— И тогда вы меня выпустите? — спросила она.
— Там будет видно. Давай посмотрим на дело с такой стороны: есть ли тебе резон оставаться у нас? Согласна ли ты подвергнуться лечению, которое может предложить наша больница?
— Нет, — сконфуженно отвечала Рут. — Не согласна.
Он поднял обе руки кверху, жестом досады и безысходности, который удивил Рут и одновременно тронул; это было отступление от нейтральности, проявление человеческих эмоций. Может быть, этот человек за письменным столом все же достоин ее доверия, подумала Рут.
— Насколько я могу судить, — сказал он, — с профессиональной точки зрения ты больше не подпадаешь под статью о принудительном лечении. Ты вела себя тут неплохо, если оставить в стороне твое нежелание пойти на полную откровенность. На свою жизнь ты уже несколько месяцев как не покушалась, фокусы с исчезновением тоже прекратились: ты успокоилась и стала значительно более выдержанной, начала прибавлять в весе. Понимаешь, Рут, есть люди, которые умоляют, чтобы их положили сюда, которые настроены на лечение и испытывают значительные трудности за пределами больницы. Если ты отвергаешь нашу помощь, мы очень мало что можем сделать для тебя. Мы ограничены в средствах и вынуждены вкладывать их туда, где они могут принести наибольшую пользу.
Он говорил сухо, деловым тоном, лицо его было спокойно.
Рут продолжала молча приглядываться к нему. Впечатление было самое благоприятное: суровая честность его слов заставляла увидеть в нем человека — человека, нуждающегося в понимании, заслуживающего уважения к своим попыткам постичь мир, докопаться до истины, то есть такого же человека, как сама Рут.
— Для объяснения мне нужно тебе кое-что показать, — помедлив, сказала она. — А потом вам так или иначе придется меня выписать.
Он поднял брови — вопросительно, а может, чуть раздраженно?
— Ну ладно, — решилась Рут. — Только наберись храбрости. Испытание довольно серьезное. Особенно в первый раз.
Он раскрыл рот, набрал воздуху, чтобы ответить, — и вдруг стоявшее напротив кресло опустело.
Он так и застыл на некоторое время, с открытым ртом уставившись на пустое кресло: это было простое рабочее кресло светлого полированного дерева, с оранжевой обивкой, по-видимому, шерстяной. Он обвел взглядом комнату: ничего.
И никого.
Он резко поднялся, торопливо обошел кабинет в поисках Рут; спрятаться здесь было негде: ни одного шкафа, никакой громоздкой мебели.
— Сусанна! — позвал он и, подойдя к двери, распахнул ее. — Пожалуйста, зайди на минуточку ко мне.
По его тону секретарша догадалась, что дело не терпит отлагательства, она вскочила с места и вошла в кабинет.
— Да? — приветливо сказала она, обводя вопросительным взором пустую, залитую солнцем комнату.
И вдруг в кресле, откуда ни возьмись, появилась больная.
Сусанна закричала. Она была девушка высокая, представительная, уравновешенная, и если ее посадили работать во врачебной приемной, то объяснялось это, в частности, ее умением сохранять хладнокровие в критических ситуациях. Теперь же она стояла посреди кабинета с отсутствующим взором, с бессильно опущенными руками — и кричала.
Из коридора донесся топот бегущих ног.
— Вот это было лишнее, — укоризненно сказала Рут, поднимаясь с кресла. — Я понадеялась, что такое зрелище окажется по силам врачу, а она, бедненькая, даже не знала, чего ждать…
В дверь вошли, он услышал у себя за спиной возбужденные голоса.
Секретарша продолжала надрываться от крика.
Часть третья Карианна
1
Невероятно. Раньше Карианна и не представляла себе, что в городе живет такое множество мужчин.
Она сознавала: все ее метания оттого, что ее гонит неведомая сила, их нельзя было объяснить просто чувственностью, любопытством, стремлением к наслаждению. Она напрягала брюшные мышцы в порядке самозащиты от чего-то, не связанного с Жизнью, а связанного с Пустотой, с Разрушением. Она напрягалась, и низ живота откликался ей, все тело вспыхивало, и она, разгоряченная, ходила и засматривалась на мужиков.
Какая разница, что на самом деле двигало ею: злость или радость жизни?! Она глазела, и это приносило ей больше забвения, чем сон, придавало больше веселости, чем вино, больше здоровья и бодрости, чем самая напряженная спортивная тренировка. Внутри ее завелся змей, который сидел, притаившись под черепом, прячась за излучающим наивность взглядом маленькой девочки. Она научилась кидать этому зверю кость: смотри, говорила она ему, вон тот, в темной пуховке, с кожаными заплатками на плечах. Как он идет! Какие у него бедра! Какие руки! Посмотри, какой нежный оттенок приобретает его лицо под фонарем! А уж пахнет он, наверное…
И чудовище с ревом набрасывалось на жертву, так что Карианна потеряла счет ничего не подозревающим душам, которые оно поглотило.
Она, например, сидела на работе в столовой и скользила взглядом вокруг. Сплошные мужчины! Абрис челюсти на фоне жилистой шеи, намечающаяся на подбородке щетина, от которой лицо в течение дня все больше темнеет. Интересно, как чувствуют себя люди, когда они такие?! Это была загадка. Бороды. Косматые, черные или светлые, в которых удобно свить гнездо. Уши, которые так и притягивают к себе, которые можно целовать, пробовать на вкус, облизывать или кусать. Ох, и красивые эти мужики! Бедняжки, они даже не подозревали, что она с ними делает…
Некоторые, чаще всего мужчины в возрасте, одевались исключительно в серое; их она считала заколдованными принцами, которых упрятали в неприглядную оболочку, откуда они не могут закричать, чтобы их кто-нибудь услышал.
«Kiss a live toad before breakfast, and nothing worse will happen to you for the rest of the day»[17], — гласила надпись на дощечке с магнитом, которую Карианна выискала в книжном магазине и подарила Рут. Теперь она висела на дверце холодильника в их доме на Тересесгате.
Идя после рабочего дня по Карл Юхан, Карианна могла плениться чьим-нибудь силуэтом и, преодолев несколько слоев теплой одежды, мысленно добраться до тела, до кожи и мускулов. Ей казалось, что она в состоянии растопить ледяной панцирь, извлечь на свет Божий душу и согреть ее, приласкать, вдохнуть в нее жизнь.
Подступила зима, и большинство окружавших Карианну мужчин уже впали в спячку.
В конце недели она непременно уходила вечерами развлекаться, и по пятницам, и по субботам. Она окуналась в парадоксальный мир, где была охотником и в то же время предметом охоты, причем никто из ее несчастных жертв не представлял себе, что она от них получает. На ее взгляд, она не наносила им ни малейшего вреда: затаившийся в ней зверь пожирал (на время умиротворяясь этим) то, чему они не находили никакого применения, в существовании чего не отдавали себе отчета, — их мужескость.
В некоторых из мужиков, которых она подцепляла или которым позволяла подцепить себя, была грубовато-трогательная откровенность. Их снедала такая же острая и такая же огромная, как у нее, телесная жажда, замечала Карианна. В подслушанных ею разговорах мелькали слова «жопа», «сиськи» и «п…», более приличных выражений у них не находилось, и, хотя язык их был некультурен и дик, в их картинных выражениях по крайней мере присутствовала искренность, они раскрывались друг перед другом во всей своей беззащитности: «Безумно хочется… позарез надо!», чего особы женского пола почти никогда не позволяют себе. Мужики метались по городу, как переросшие щенята. К ночи на субботу тоска и жажда у некоторых из них становились настолько непреодолимыми, что, если они не обретали тепла и уверенности в себе другим способом, оставался последний шанс доказать друг другу, что они еще живы: набить кому-нибудь морду, причинить боль, и чем больше при этом прольется крови, тем легче на душе.
Карианна играла в опасную игру и нутром чуяла, что не сможет до бесконечности порхать между огнями, не подпалив крылья. Эти люди были неуправляемы, а на их стороне была сила, и Карианна напрасно считала, что понимает их лучше, чем они понимали сами себя.
Но и остановиться она не могла. Они привлекали ее своей красотой. Своей прямотой и откровенностью, до которых Карианне было далеко. Они были честны в своем соперничестве, в стремлении достичь уверенности в себе, которое вынуждало их стремиться к власти над миром. Они были просты и откровенны в своей тяге к противоположному полу, к сексу. Они были трусоваты, невосприимчивы, жалки, агрессивны. И все же спрятаться под их крылышко было приятно. Они были загадкой. Одни представляли опасность из-за своей слабости, другие были опасны сами по себе. Были среди них мерзкие типы, а были и умники. У одних уже намечалась лысина, у других был только пушок на щеках и верхней губе. У всех были стройные сильные ноги. У всех голоса напоминали контрабас или гобой.
Во всех было то, что искала Карианна и о существовании чего никто из них не подозревал.
Даниэла Карианна раньше не знала, хотя слышала о нем, поскольку у его друзей были общие знакомые с Бьёрном Магнусом. Как-то в пятницу она сидела за одним столиком с этими людьми в джаз-клубе под названием «Клуб 7». Там была очередная Бибби со своим мужем и сестрой и еще две девицы, неизвестные Карианне. Вечер только начинался, и она потягивала вино. У нее вошло в привычку выпить немного спиртного, а через час-другой перейти на минералку или кофе: от выпивки она утрачивала контроль над собой, над своей кожей и своей тягой к мужественности. И тут появился Даниэл. Бибби приветствовала его как блудного сына, а ее муж вступил с ним в бурный спор об акциях солидарности с Афганистаном. Внезапно одна из незнакомых Карианне девиц перегнулась через стол и спросила Даниэла, откуда он родом. Это была красивая — и не слишком трезвая — брюнетка, в лице и фигуре ее была мягкая, свежая пухлость, придававшая ей очарование, голос тоже был привлекательный, немного в нос, немного осипший от возлияний.
Улыбнувшись девице из-за своего стакана с пивом, Даниэл сообщил ей, что он из Бэрума[18].
Да нет, она не о том, не унималась девица. Из какой страны?
— Страны? Я норвежец, — отвечал Даниэл.
Но он такой смуглый. Откуда он изначально происходит?
— Я родился в Осло, — сказал Даниэл. — А ты откуда родом?
Девица заулыбалась, смущенно и кокетливо, в ее речи чувствовался несколько окультуренный выговор Солера[19]. Она не отступала, допытываясь, откуда все же ведет свое происхождение Даниэл. Карианна наблюдала за этим спектаклем и видела, как его первое раздражение постепенно переходит в интерес, как он маскирует злость все более и более откровенным флиртом. Даниэл пересел, чтобы оказаться непосредственно рядом с девицей (она назвалась Туттой), и, доверительно склонившись к ней, улыбался, бросал на нее долгие страстные взгляды, потом обнял за плечи. Она смеялась и болтала с ним, растягивая слова и гнусавя. Он положил руку ей на грудь, и она не отстранилась, а со смехом разговаривала дальше.
Карианна смотрела как зачарованная: она понимала, что он мстит, что идет борьба, что он самоутверждается, выказывая презрение к девице. Но Карианна и рассердилась: она не видела достаточного повода для мести, девица задала ему прямой вопрос, она не заслуживает презрения. Если она пьяна и к тому же красива, это еще не дает оснований держать ее за дурочку. Карианна откинулась на спинку стула и с нескрываемым любопытством продолжала наблюдать.
Через некоторое время Тутта вышла в уборную. Карианна настолько увлеклась наблюдением за ними, что потеряла бдительность и пила сегодня больше обычного. Вероятно, это упущение и заставило ее сказать, поймав его взгляд:
— А не лучше ли иметь дело с такими людьми, как я? Мне, может, тоже интересно, кто ты такой, но дурацкая воспитанность не позволяет мне приставать с расспросами.
Даниэл только что вешал Тутте лапшу на уши, уверяя, что он сын индийского раджи, который попал в Норвегию после войны, с бродячим цирком, сколотил себе состояние, собирая утильсырье, и стал одним из ведущих специалистов по русемалингу (декоративной народной росписи), а также крестьянской мебели эпохи 1650–1750 годов. Теперь он, прищурившись, оценивающим взглядом посмотрел на Карианну и с усмешкой сказал, перегибаясь через стол:
— Так и быть, признаюсь. Я вовсе не потешаюсь на ее счет. Просто у девушки есть кое-что, чего ищу я, а я могу предложить то, чего хочется ей. Она достаточно умна, чтобы ничем не делиться задаром.
— Кто же ты на самом деле? — прервала его Карианна. — Оборотень?
— Если ты такая догадливая, — съязвил Даниэл, — значит, тебе должна быть известна и цена. Или ты надеешься не платить по счету?
Она вытаращилась на него и встретила ответный взгляд, холодный, жесткий и грозный. Даниэл был коренастый красавец с высокими скулами, иссиня-черными кудрями и красноватой искоркой в карих глазах, отблеском пламени или крови. Нет, это невозможно, это невероятно, подумала она. Он мой двойник. Но шанс был упущен, перерыв в музыке кончился, и у них над головами загрохотал оркестр. Появилась Тутта, заново подмазанная и несколько протрезвевшая, Даниэл протянул руки ей навстречу, чтобы усадить к себе на колени. Карианна была забыта, сердитый взгляд сменился добрым и ласковым.
Карианна вздохнула и поднялась из-за стола. Она повесила сумку через плечо, наклонилась и, приобняв Даниэла, шепнула ему на ухо:
— Постарайся быть любезнее. За это ведь не надо платить.
Она разогнулась и отошла в сторонку. Как посоветовал один охотник другому, подумала она, одновременно складывая губы в веселую улыбку. Добрый совет тоже ничего не стоит. Но настроение у нее было отнюдь не веселое: она была потрясена тем, что ее разоблачили, разглядели. В тот вечер она рано отправилась домой, и притом одна.
Платить по счету не требовалось.
Две недели спустя она опять столкнулась с Даниэлом. И снова в «Клубе 7», на концерте Урбаньяка — этот фейерверк звуков стал поистине наслаждением для нее. Карианна пришла задолго до начала, и ей досталось сидячее место, никого из знакомых видно не было, и Карианна не жалела об этом: она сидела сосредоточенная, вся отдаваясь путешествию, в которое пригласил своих слушателей этот изумительный скрипач.
Почувствовав на плече чью-то руку, она подняла глаза и обнаружила Даниэла.
— Можно я сяду рядом? — спросил он. Она кивнула, он сходил за стулом и бесшумно поставил его возле нее. Карианна сидела с полуоткрытым ртом, сложив руки на коленях, и пыталась понять, почему сдержанная, интеллигентная игра маэстро производит впечатление такой мощи, такой необузданной страсти.
— Я хочу поговорить с тобой, — сказал Даниэл, когда этот номер программы кончился.
Она кивнула. Ясное дело, что хочет. Ему надо выяснить, кто она такая, как она догадалась про него… Он ее тоже интересовал. У них была потребность в разговоре хотя бы для того, чтобы совместными усилиями очертить границы своей территории и в будущем не залезать на чужую.
Он принес обоим по небольшой кружке пива. Карианна настояла, что сама расплатится за свою.
— В этой музыке, — тихо произнесла она, — идет речь о чем-то совершенно для меня непостижимом. — Карианна испытывала неловкость, досаду оттого, что не находит слов для выражения своей мысли. — И от этого делается жутко.
— Наверное, речь идет о блондинке по имени Карианна, — закинул удочку Даниэл.
— Нет, — раздраженно отвечала она, — о самом скрипаче, о том, что ему известно. Не надо подлизываться, Даниэл. Обо мне ты из этой музыки ничего не узнаешь.
— Я уроженец Осло, — сказал Даниэл, — детство и юность провел в Бэруме, на окраине Саннвики, я такой же норвежец, как и ты, если не считать того, что мои биологические родители были цыганами. Я студент. Снимаю комнату на Хегдехаугсвейен. Я самый что ни на есть обыкновенный человек.
Она кивнула.
— А я родилась в Драммене и выросла в Спиккестаде, — сухо сообщила она, — на втором этаже, над бакалейной лавкой. Теперь ее больше не существует, и мой отец служит управляющим в Объединении кооперативов.
— Твое здоровье, — поднял кружку Даниэл.
На сцене опять появился музыкант, и Карианна затихла. Сидя в оцепенении, она снова и снова силилась понять, чего хочет от нее этот человек со скрипкой. Его музыка была чиста и красива — как математика, как полет птиц, как мужчины… Но при всей ее виртуозности и продуманности в ней чувствовалась некая грусть и безжалостная прямота.
Карианна не могла постичь всего этого и просто следовала за музыкой, стараясь не отстать, она прилепилась к ней и парила над землей.
Но вот музыка смолкла.
Даниэл с Карианной посмотрели друг на друга и, не говоря ни слова, не допив пива, которое осталось едва пригубленным, почти одновременно встали. Его куртка висела на спинке стула, ее была сдана в гардероб. Они рука об руку поднялись по лестнице, прошли в дверь и окунулись в промозглость первой снежной ночи.
— Это похоже на занятия спортом, — пыталась объяснить Карианна. — Ты собираешь свои возможности и выкладываешься, заставляя работать все тело, ты ни о чем не думаешь, все происходит само собой. Абсолютно закономерно… и безупречно, потому что ты вкалываешь и вкалываешь, чтобы достичь совершенства. И в то же время потом появляется ощущение опасности, риска. Потому что тут задействовано все: кровь и плоть, кости и мускулы, твои внутренности, твое пищеварение, сознание твоей силы. Иногда я просто пугаюсь. Если я в хорошей форме, я чувствую в себе чудовищную силу, и мне становится страшно. Еще немножко, и я поверю в собственное всемогущество. Это как притягивающая бездна, понимаешь? И в этой музыке мне почудилось нечто сходное.
— Угу, — пробормотал Даниэл.
Они держались за руки, и, разговаривая с ним, Карианна радовалась его присутствию рядом, она представляла себе его лицо, нежную тонкую кожу у висков и на губах, нос, который, наверное, немножко мерзнет, мокрый снег на щеках, приземистое, крепко сбитое тело Даниэла.
Кожей ладони она ощущала, как подрагивает его рука. Варежка у нее была надета только на левую руку, а правую он держал в своей. Было холодно. Рассуждения давались Карианне с неимоверным трудом, она предпочла бы бросить их и помолчать. Но она понимала, что тогда в их отношения вкрадется нечто иное. К тому же для нее важно было объясниться и она продолжала свои попытки: нескладные, неумелые, беспомощные. Ей непременно нужно было достучаться до него, растолковать ему, разъяснить именно это!
— Какого черта! — вскричала она наконец, на грани слез.
Они почти миновали Дворцовый парк и вышли на Парквейен. Даниэл обнял ее за плечи и прижал к себе, Карианна сунула правую руку ему под куртку — это была светлая дубленка, мехом внутрь, под ней было жарко, как в печке. Карианне хотелось прильнуть поближе, она улыбалась своим мыслям, своим сладостным ощущениям. Ей было так сладостно, что на лице появилось медовое выражение, губы стали сладкими, как мед, все тело превратилось в тягучий мед: груди и ягодицы, ступни и шея, которую щекотали завитки медовых волос. Даже между ногами у нее образовался горшочек меда, в котором с бульканьем лопались, поднимаясь на поверхность, медовые пузырьки.
— Ты такая прелесть, — проговорил он, и Карианна расплылась в улыбке, запрокинув голову ему на плечо. Деловой тон, которым были произнесены эти слова, подсказал ей, что Даниэл осознает сомнительность комплимента и исходит из того, что она достаточно умна и не обидится на него. Просто это была правда, которую надо было выразить. Карианна спрятала лицо у него на шее и, давясь от нараставшего в ней радостного смеха, уткнулась носом в жаркую ямку над самой ключицей… Как там хорошо пахло! Теплой кожей, к которой примешивался резкий металлический запах пота, вроде пряностей в только что испеченных булочках. А еще тут был какой-то дух, напоминавший лето: свежескошенное сено, сырая земля?
— Самый чудесный аромат на свете, — мечтательно изрекла она из-под дубленки. — Теплый запах мужчины.
— Я перед выходом принимал душ, — сказал он, и она снова порадовалась его тону: Даниэл чувствовал себя неуверенно и не скрывал этого, он доверялся ей, он шел на риск.
— Мылом от тебя, к счастью, не воняет, — отозвалась Карианна. — Запах естественный.
Даниэл был ненамного выше ее. Карианна привыкла высоко задирать голову, сейчас этого делать не требовалось, она и так легко встречалась с ним взглядом. Ей нравилось лицо, которое она видела перед собой. При ближайшем рассмотрении оно оказалось вовсе не красивым, для этого оно было слишком топорное, слишком широкое, слишком угловатое, привлекали прежде всего насыщенность цвета и выражение глаз, смотревших из-под темных, четко очерченных бровей, таившееся в них вожделение. Карианна улыбнулась. Большинство людей, знавших Даниэла, наверняка считают его красавцем, размышляла она. Она и сама так сначала подумала. Но это было неверно, и ее забавляла мысль о том, что она одна из немногих, кому это известно. А может быть, и единственная? Что, если никто другой не приглядывался столь внимательно?
Его руки прокрались под ее куртку, они были холодные, но это не имело значения.
— Пойдешь со мной? — спросил он.
Она покачала головой.
— Не сегодня. Лучше позвони мне.
Он долго испытующе смотрел на Карианну. Руки его гладили ее под курткой, поверх свитера, залезали под мышки, ласкали грудь, Карианна чувствовала, что вот-вот растает, растечется медовой лужицей по заиндевевшей траве парка.
— Сегодня я пойду домой, — прошептала Карианна, — одна. Я работаю в картографическом отделе Управления по энергетике. Давай ты туда позвонишь, хорошо?
Поколебавшись, он кивнул — ей не пришлось ничего объяснять. Они пошли дальше, в обнимку, плечо к плечу, бедро к бедру. На пересечении Хегдехаугсвейен с Парквейен они расстались — так захотела Карианна, а еще она захотела на прощанье недолгий поцелуй, который действительно оказался очень недолгим, потому что она вырвалась от Даниэла: это уже опасно, посчитала она, это уже рискованно.
И чуть ли не бегом помчалась по направлению к Пилестредет.
Спасибо, не надо.
Она произносила эти слова тысячу раз, и они могли означать тысячу разных вещей.
Например, они могли значить: Премного благодарна, но у меня сегодня эти дела.
Или: Огромное спасибо, но я занята, я принадлежу другому мужчине.
Или: Спасибо, но ты мне не нравишься. (Это был как раз редкий случай, Карианна становилась все более сговорчивой по мере того, как делались короче осенние дни, и она все больше впадала в отчаяние из-за нехватки свежего воздуха и солнечного света, так что было очень мало мужчин, у которых бы она не подметила чего-то нужного для себя, позарез необходимого ей.)
Или: Спасибо, не надо, я не сплю с мужьями своих подруг. (Очевидно, Карианна все-таки, пусть даже не афишируя этого, намотала на ус историю с Рут, и, поскольку ее убеждения еще не подвергались серьезной проверке, она могла тешить себя иллюзией, что остается в некотором роде порядочным человеком.)
Или: Я считаю тебя опасным и боюсь рисковать. (Это не была боязнь физической расправы. Тут Карианна была уверена в своих силах, она знала, что сумеет не допустить ничего подобного. Она усматривала опасность в их глазах, в которых светился страх, а этот страх мог проявиться в самых разных формах: в нытье и распускании рук, в отказе, в пренебрежении или в прямом насилии. Как бы то ни было, любой из этих вариантов вызывал у нее отвращение.)
Или: Спасибо, не надо, я слишком ценю тебя как друга, чтобы желать каких-то перемен в наших отношениях.
Или: Как ни странно, я сегодня в таком настроении, что с удовольствием ограничусь крепким объятием и, может быть, еще поцелуем на закуску.
И хотя каждое из этих «нет» имело свои особенности — так же, впрочем, как и каждое «да», — Карианна отдавала себе отчет в том, что сегодня она совершила нечто из ряда вон выходящее, на что никогда не решалась прежде.
Это ее радовало и одновременно пугало, она шла по снежной слякоти, как по облакам; при мысли, что он должен позвонить ей, Карианну забила дрожь. Напротив Бишлетского бассейна она вдруг поняла, что чуть ли не готова умереть. У нее была необычайная легкость в голове и в руках. Она была уверена, что стоит ей захотеть, и она полетит.
Она взбежала по лестнице, тихонько засмеялась в передней и, сорвав с себя верхнюю одежду, на цыпочках пробралась в туалет. Еще не перевалило за полночь, так что можно было не бояться разбудить Рут, но Карианне не хотелось сейчас ни с кем общаться; она сходила в уборную, умылась, почистила зубы, посмотрела на свое отражение в зеркале. Небольшое треугольное личико: крупный рот, крупные зубы, глаза не самой яркой голубизны, волосы средней каштановости. Неужели кто-нибудь в состоянии пробиться взглядом через все это — и разглядеть ее?!
Она прокралась в свою комнатку, залезла под одеяло и долго лежала неподвижно, устремив горящий взор в темноту. Она вся пылала. Ей хотелось смеяться. Она сунула руку между ногами, но не стала ничего делать, не желая нарушать очарование грез привычным и скучным ублажением самой себя.
Он вовсе не красавец! Довольная своим открытием, Карианна лежала и думала о том, какой Даниэл чудесный и замечательный. Она ласково улыбалась во тьме. Будь ее воля, она бы запела. Будь ее воля, она бы станцевала для него. Будь ее воля, она бы одарила его цветами.
Он позвонил уже в понедельник. И хотя она была натянута как струна и вздрагивала от каждого телефонного звонка, его голос застал Карианну врасплох: она напрочь забыла, как он звучит, и, к своему стыду, не могла вспомнить лицо Даниэла.
— В «Колизее» сейчас идет один фильм, который мне хотелось бы посмотреть, — послышалось в трубке. Называется «Стена», ты еще не видела?
— Нет, — радостно откликнулась Карианна. — Только сегодня у меня вечером тренировка, ты свободен завтра?
Он был свободен. Карианна положила трубку, словно это было что-то бьющееся, вроде яйца, и, пританцовывая, подскочила к Рагнвалду. Она чмокнула этого увальня с козлиной бородкой в макушку, посмотрела, как он подпрыгнул, точно от змеиного укуса, потом такой же танцующей походкой вернулась к себе в закуток, чтобы снова засесть за кропотливейшее дело, от которого ее оторвал телефон, — за карту Уллерншоссе. Но чем бы теперь ни были заняты Карианнины руки и голова, это не играло роли.
Она все равно не могла целиком отдаться работе.
Фильм был жуткий: когда по экрану начинали ползти змеи и какие-то свастики, Карианна зарывалась лицом в плечо Даниэла. Время от времени она вскидывала на него взгляд и обнаружила, что Даниэл тоже иногда закрывает глаза.
Из кинотеатра они вышли тихие, пришибленные.
— Ну и ну, — сказала она наконец, поеживаясь, — кошмар!
Даниэл кивнул, он не пытался выставить ее маленькой и изобразить из себя взрослого, которого такие вещи не колышут.
— Шедевр, — заметил он и взял ее за руку. Они двинулись по тротуару. — Ты не сердишься на меня? — спросил он, метнув на нее быстрый взгляд.
— Нет, — отвечала Карианна, немного подумав. — Я рада, что ты показал мне такое.
Они проходили улицу за улицей, а их пальцы ощупью искали друг дружку и, найдя, тесно сплелись между собой.
Когда они дошли почти до конца Бугстадсвейен, Даниэл проговорил:
— Мне надо бы пригласить тебя в кафе или куда-нибудь еще, но я сегодня не при деньгах. У меня есть дома две бутылки красного вина, сыр и батон хлеба. Может, соблазнишься зайти в гости?
Она кивнула.
Они продолжали свой путь.
Вот они свернули в ворота, прошли через обшарпанную дверь, начали подниматься по разбитым ступенькам. На лестнице было холодно, штукатурка во многих местах облупилась, в доме пахло запущенностью. Выходившие на площадки двери были рассохшиеся и перекошенные, в нескольких местах армированное стекло было заменено фанерой; в одной из квартир надрывался от плача младенец, за другой дверью гремел тяжелый рок. Выше, еще выше. И вот вход на чердак, лампочка без абажура под потолком, пол из неструганых досок, одним словом, неблагоустроенно. В дальнем конце помещения, среди кладовок, виднелась дверь с небольшой табличкой — на желтой картонке синей шариковой ручкой было выведено: «Даниэл Иорстад».
Щелкнул выключатель. Просторная, скудно обставленная комната. Слуховое окно. Линолеум, два рыже-коричневых половика; широкая тахта, застланная лоскутным одеялом, журнальный столик; в углу треснутая раковина, над ней и под ней трубы, все на виду. Удобный письменный стол, перед ним рабочее кресло. Старенький комод, покрашенный в желтый цвет, на полке скульптурная композиция темного металла (видимо, из чугуна), изображающая нечто абстрактное, наклонные плоскости и шестеренки. Двухконфорочная электрическая плита. Книжные полки: поставленные один на другой ящики, тоже выкрашенные желтым. Афиши: сугубо модернистские, в красно-желто-сине-черных тонах, похожие на виды из космоса.
Пожалуй, комната ей нравилась.
— Уборная внизу, — объяснил Даниэл. — Если понадобится туда, захвати ключ, иначе не попадешь обратно на чердак.
— Пока не требуется, — внезапно смутившись, ответила Карианна.
Большое удобное кресло с наброшенной овчиной, в углу полки и шкафчики: кухня.
— Садись, — пригласил он, — а я сооружу нам что-нибудь поесть.
Карианна сняла сапоги и куртку (в этой убогой комнате оказалось на редкость тепло и уютно) и села в кресло, стала отдыхать, покойно и непринужденно, вбирая в себя воздух, запахи, краски, саму комнату…
Вот он какой, Даниэл Иорстад…
Он принес вино и бакалы, потом хлеб и три разных сыра на деревянной доске. Широкая золотисто-коричневая рука Даниэла выдавала его волнение, Карианна повернула к нему удивленное лицо… и улыбнулась.
Расслабься, мысленно посоветовала она. Ты беспокоишься, что может не получиться так, как ты хочешь? Но я тоже не уверена, что все выйдет так, как хочу я…
— У тебя есть эта пластинка, «Пинк флойд»? — неожиданно спросила Карианна, еще раньше заметившая проигрыватель на книжной полке под окном.
Он кивнул и, найдя пластинку с мелодиями из сегодняшнего фильма, поставил ее.
У Карианны побежали по спине мурашки. Но она слушала. Что было делать? Сама ведь предложила.
Она потягивала вино, из вежливости съела сыра. Даниэл пил много. Он явно нервничал, однако не нарушал молчания, и Карианна радовалась этому, воспринимая как свидетельство доверия к ней. Через некоторое время она встала и расхаживала взад-вперед по комнате, пока музыка не смолкла. Звукосниматель со скрипом отъехал назад, в динамиках зашуршало. Карианна подошла к проигрывателю, присела перед ним на корточки, нащупала кнопку выключателя, снова выпрямилась.
— Я точно впервые слушаю эти песни, — признался Даниэл.
— Это ужасно, — отозвалась Карианна. — Грустно, что никто не помешал этому.
— А тебе не кажется, что мы стараемся помешать? — спросил он.
— Нет.
— Какие-то попытки все же делаются, — сказал Даниэл.
— Комитет против войны в Афганистане, — скептически проговорила она.
— Хотя бы, — сказал он. — Нужно пробовать все средства.
Карианна не нашлась что ответить, она вдруг застыла посреди комнаты, испытывая одно желание — уйти отсюда.
Он встал, подошел к ней, положил руки на плечи.
— Карианна…
Она закрыла глаза, лицо ее стало замкнутым.
— Пожалуйста, не уходи, — попросил он.
— Давай ты не будешь переделывать меня, — процедила она сквозь стиснутые губы. — Добиваться, чтобы я стала похожей на тебя. Хорошо?
Даниэл заключил ее лицо между ладонями, и ей пришлось поднять веки и посмотреть на него.
— Но и тебе предстоит научиться не переделывать меня, — сурово проговорил он. — Впрочем, у тебя ничего не выйдет. Мы все равно повлияем друг на друга. Ясно?
— Нет, — отвечала она. Страх, который она читала в его глазах, был невыносим, он напоминал ей о том, что она старалась забыть. — Я хочу домой.
И тут же сама обняла Даниэла, приникла к нему, выбросила все из головы. Даниэл был в плотном бумажном джемпере, под которым скрывалось жаркое голое тело, благоухающее чистотой. Карианна зарылась носом в джемпер и унюхала другой запах — запах мужчины, запах пота. Его широкие ладони, не менее сильные, чем ее собственные, гладили Карианну по спине и ниже, и она чувствовала, как размягчается, как тает внутри ее каждая косточка. Ей необходимо было прикоснуться ладонью к его коже, и она осторожно высвободила джемпер из-под ремня и ощутила под рукой живую спину, она подняла лицо к Даниэлу и улыбнулась. Губы его горели, они были одновременно упругие и мягкие, язык вкрадчиво делал свое дело, Карианна хватала ртом воздух и не могла подумать о том, чтобы оторваться и снять с себя одежду, но без одежды было бы куда лучше, хорошо бы она испарилась, сгинула. А еще хорошо было бы попасть на тахту, до которой неимоверно много шагов, неужели он, черт возьми, надеется, что она ляжет прямо на полу, чтобы занозить себе хребет?.. Нет уж, Даниэл, пожалуйста, помоги мне, поддержи меня, а я поддержу тебя… Помогая друг другу, они преодолели огромное расстояние до застеленной лоскутным одеялом тахты, и Карианна свернулась калачиком на этом одеяле, почему-то опять застеснявшись. И это Карианна, которая разоблачалась на глазах у кого угодно с такой же деловитой естественностью, как если бы стояла в кухне и намазывала себе бутерброд, Карианна с ее крепким и стройным телом, которое еще ни разу в жизни не подводило ее, которое работало как часы и за все время не отложило ни единой жировой складочки. Теперь эта самая Карианна лежала беззащитная и сконфуженная, не в силах вообразить, как она предстанет обнаженной перед Даниэлом.
Он, не раздеваясь, лег рядом, наполовину прикрыв Карианну своим телом. Он согревал ее, заслоняя от света и воздуха, он смотрел на нее, улыбался, и она думала: конечно, ты прав, Даниэл, у нас масса времени, у нас впереди целая вечность, можно не спешить, можно дождаться самого подходящего момента и самого… самого… тут она опять размякла. Она чувствовала, как ее тело давит на тахту, а его тело давит на нее; она гладила его по спине, коренастого, ширококостного… Он совсем не толстый, отметила она, просто квадратный, напоминающий по своему строению бочку.
— Хочу съесть тебя, — шепнула она, — хочу попробовать тебя на вкус, можно?
Она принялась стягивать со спины его джемпер, Даниэл помогал ей. Кожа оказалось соленой на вкус, приправленной загадочными пряностями. Карианна сунула нос ему под мышку.
— Почти свежевыстиранный, — поддразнила она и куснула его за плечо.
Он откинул ей со лба волосы, развернул к себе, поцеловал…
Одежда: бег с препятствиями, с раздражающими барьерами. Надо было не просто раздеться, но выяснить, как именно… Есть ли тут какие-нибудь ограничения? Позволительна ли спешка? Можно ли сходить с дистанции?.. Все сошло благополучно, они помогли друг другу, никто не остался в обиде. Карианна вытянулась на покрывале, горя страстью, всем телом взывая к нему. Он стоял перед ней на коленях, с обнаженным торсом и расстегнутым брючным ремнем, обеими руками пытаясь сладить с молнией, он хмурился, в глазах его сквозила озабоченность, теперь было не до шуток, слишком много поставлено на карту. Она — в бесстыдном ожидании — смотрела на него, и его руки двигались неловко и торопливо, им не терпелось сорвать сковывающую одежду… Она лежала, растянувшись на одеяле, беззащитная, расслабленная, не в силах пошевелиться. Даниэл еще стоял со спущенными до колен штанами, намереваясь на пару секунд покинуть ее, чтобы снять их совсем, но нет, это уже слишком, перебьется, пусть лучше у него будет немного смешной вид! Карианна раскрылась перед Даниэлом, ощущая его взгляд как ласку, она улыбалась — на лице, помимо ее воли, проступила радость. Даниэл глотнул воздуху… и повалился вперед. Карианна вытянула руки ему навстречу и заключила в свои объятия… И… о, чудо: самые сокровенные, самые ранимые части человеческих тел сомкнулись, и… о, чудо: оказалось, что он такой же пылкий, такой же восприимчивый и такой же чувственный, как она, и… о, диво дивное: случилось нечто совершенно новое, невиданное и неслыханное… он не отправлял заведенный обычай, он не просто овладевал женщиной, он вкладывал душу: тело, пульс, дыхание, быстро-ритмично-глубоко-прекрасно. Она чувствовала под руками его широкую разгоряченную спину, она гладила его крепкие, резво двигающиеся мускулы, и ей хотелось то смеяться, то плакать… Она настолько пристально следила за ним, что на время забыла собственное тело… Теперь Даниэла было не догнать… впрочем, она ни о чем не жалела, она еще никогда не сталкивалась с таким напором, с таким экстазом… Все существо Даниэла было сейчас отдано проникновению в нее, снова, снова и снова… Карианна видела над собой его лицо: затуманенный, отсутствующий взор, изогнутые дугой губы — все-таки он очень красив… Она так сопереживала ему, что сама издала беззвучный ликующий вопль, когда, закрыв глаза, почувствовала, что весь Даниэл воплотился в одной раскаленной золотой точке в самой потаенной глубине ее нутра.
Он вскрикнул и упал в Карианнины объятия, а она прижимала его к груди и гладила, прижимала и гладила. И улыбалась безмятежной, счастливой улыбкой.
Потом она открыла глаза и обнаружила, что наверху, над кроватью, зажатые между двумя рамами большого слухового окна, мечутся крошечные, величиной с мизинец, ангелочки. Их была целая стая, и они в страшном волнении бились в стекло, порхали из стороны в сторону, пытаясь вырваться оттуда. Они были прозрачные, в коротеньких туниках, с крылышками, как у поденок, и с хрустальными, ничего не выражающими личиками.
Карианна тихонько засмеялась, смех накатился на нее горячей, темной волной, поднявшейся откуда-то снизу, от груди и живота.
— Даниэл, — позвала она, не снимая руки с его шеи, тонкокожей и трепещущей под ее ладонью. Он приподнял смущенное лицо с Карианниного плеча, посмотрел на нее. — Как они живут? — спросила она. — Чем питаются?
— Что-что? — не сразу понял Даниэл, но в глазах его уже наметилась улыбка.
— Я про твоих ангелов, — сказала она. — Вон тех, наверху.
— Это не ангелы, а демоны. Они жрут все подряд, они всеядные.
— А вот и не верю, — прошептала Карианна. — Ты их кормишь нектаром и амброзией. Наверное, дорогое удовольствие…
— Прости, что я поторопился, — сказал Даниэл, — даже не подождал тебя.
— Ничего, не страшно…
Но теперь он должен был что-то сделать, и она тоже, иначе она растает и медовой лужицей просочится через одеяло, через простыню, через матрас и кап-кап-кап… протечет на линолеум под тахтой и исчезнет, а ему придется брать ведро и тряпку и подтирать Карианну с пола, соскребать ее чайной ложкой, собирать по капельке пипеткой, а потом отправлять в стиральную машину и тряпку, и матрас, и постельное белье… Пожалуй, это будет слишком хлопотно, проще поступить по-другому…
— Помоги мне, — попросила Карианна. Он выскользнул из нее…
Брюки все еще путались у Даниэла в ногах, и он сел на постели и стащил их, затем лег рядом с Карианной и, опершись на локоть, принялся гладить ее, смотреть на нее. В его взгляде не было сейчас ни сосредоточенности, ни особой нежности, он глядел прямо и открыто, не испуганно, ничем не прикрываясь… А ее кожа тем временем откликалась на прикосновения его ладони.
— Я больше не буду болтать глупостей, — затаив дыхание, прошептала Карианна. Она прильнула к нему, подставила себя его пальцам, его нервным окончаниям… — Не так сильно, — шепотом попросила Карианна и отдалась своим ощущениям.
Она чувствовала его взгляд. Чувствовала его руку. Она ощупью нашла вторую руку и ухватилась за нее… Теперь Карианна стала водорослью, с которой играл прибой страсти, она моталась по воле волн, и единственной ее опорой была рука Даниэла, которой она не выпускала, раскачиваясь взад-вперед, взад-вперед… Наконец ее закружило водоворотом, и она растворилась в блаженном хаосе соленого моря, разбившись на тысячи щекотных пузырьков.
Карианна услышала собственный всхлип. Даниэл обнял ее, и она, приникнув к нему, осталась лежать так, молчаливая, уставшая и счастливая.
Через некоторое время, довольно не скоро, она почувствовала легкое давление на одно бедро: Даниэл готов был продолжать… Она оторвала голову от его плеча и с любопытством взглянула на него.
— Ты потрясающий, — едва слышно проговорила она, отметив в своем голосе улыбку.
— Это ты потрясающая, — отозвался он.
Она повернулась к нему спиной и ощутила, как вожделение перетекает из его пальцев в нежную кожу вокруг ее сосков, которые в свою очередь искали его руки, говорившие с ней, с ее телом… Она была возбуждена и распахнута эмоциям, он проник внутрь, и она приняла его… Карианна лежала, зарывшись головой в подушку, и, обнажив передние зубы, скулила, рычала, стонала… Но вот они с Даниэлом слились в один раскаленный шар, и она больше не могла разобрать, где кончается ее кожа и где начинается его, она только почувствовала, как по ним обоим прокатились волны судорог, и растянулась на постели с ощущением опустошенности, чистоты, усталости и блаженства.
Они заснули под его одеялом, свернувшись в клубок, сплетясь руками и ногами, с улыбкой на лицах, утомленные и счастливые, как дети. Наверху, между оконными рамами, ангелы постепенно сбились в сонные кучки, и слабый шелест их крылышек и голосов затих.
Позже Карианна подкралась к окну и угостила их нектарной воздушной кукурузой, она и потом не раз делала это, когда Даниэл отлучался из комнаты: стоя на цыпочках на журнальном столике, она протягивала наверх липкую, сладкую кукурузу и ощущала, как жадно тычутся в ее ладонь их клювики-рты.
Ангелы пытались протиснуться в узкую щелку приоткрытого окна, но так ни разу и не сумели: Карианна не выпускала их наружу.
2
Карианна и Даниэл встречались часто, не меньше двух-трех раз на неделе, а потом еще и в выходные. Он был с ней все время, в виде имени, лица, голоса, иногда на уровне подсознания, но во всех случаях как некое материальное начало, даже если Карианна не думала о нем.
Все-таки она ночной зверь, решила про себя Карианна, которая с благодарностью, с распахнутой душой принимала зимнюю тьму. Окружающий мир был четок и исполнен смысла. Прежде всего работа — вместе с другими чертежниками Карианна сидела в разбитом на клетушки необъятном зале с его хаосом схем, архивных карт, рейсшин, перьев, лекал, телефонов и людей, призванных в своей погоне за Обобщенным Изображением дотошно прослеживать нервные магистрали города… Кто помимо сотрудников этого зала задумывался о необходимости контроля за силами, снабжающими город теплом и светом, за этими грозными, прирученными человеком силами, которые прятались в кабелях глубоко под асфальтом, гудели в мачтах высоковольток и проникали по проводам в глубь жилых домов, заводов и учреждений?
Даниэл, говорила она про себя, Даниэл? Эгей, Даниэл!
Все было ясно и определенно, ее ноги бодро и жизнерадостно шагали и по полу, и по улицам, она по-прежнему дважды в неделю ходила на тренировки, а вечером еще иногда бегала трусцой, она чувствовала, как с каждым днем делается все сильнее и сильнее. Пределов совершенствованию не было никаких, рано или поздно она получит на каратэ черный пояс, это вполне достижимо. У нее были хорошо отработаны удары ногами, и справа, и слева, она умела подать, запросто делала семь отжиманий после полутора часов напряженной тренировки, но, как утверждал тренер, ей хуже давались приемы руками. Она упражнялась дома, перед зеркалом. И с озорной улыбкой смотрела на свое отражение, любуясь им. Она чувствовала себя зимним зверем, волчицей, поджарое тело которой должно было служить ей в этом мире до скончания веков.
Даниэл… Привет, Даниэл!
Свое неотъемлемое место занимала в этом мире и Рут, которая была столь же естественна для него, как четверги, как рыбная запеканка, как ежемесячные конвертики с отчетом из банка; эта добродушная и здравомыслящая Рут, угловатая и в то же время изящная в своих балахонах, беззащитная и пугливая, чуточку грустная и — иногда — чуточку рассеянная. Ну-ну, милая! Что пригорюнилась? По-моему, ты просто исполнила свой долг перед ближним. Ты оказалась рядом. Ты болеешь за других, а это сейчас большая редкость. Хватит сидеть, девица, брось свою скучную книжку, пойдем побегаем! Пойдем потанцуем! Мир беспределен и полон возможностей, все утрясется, если только ты немножко поможешь себе. Какой смысл терзаться из-за вещей, которых ты не в силах изменить? Выкинь все из головы, найдутся новые люди, всегда можно начать новую жизнь. И конечно, найдется кого полюбить.
А как же Даниэл? Он ведь единственный и неповторимый. Даниэл! Ты здесь, Даниэл?
Карианна любила Рут, хотя кое-что в ней и раздражало: долгие периоды молчания, ее неприметность в доме, шорох шерстяных носков по темному полированному паркету Мимминой гостиной.
Рут же такая чудесная! Хоть бы она кончила беспокоиться обо всех на свете, стала бы воспринимать жизнь легче, собралась бы с силами и побольше радовалась…
Но, коль скоро Рут не была ни в кого влюблена, вряд ли стоило удивляться тому, что она продолжала быть милой в обиходе, практичной и исполненной чувства ответственности. Изменилась не она, а Карианна, которая понимала, что бесполезно требовать от окружающих соответствия ее собственным настроениям.
Однажды, вернувшись с тренировки, Карианна застала Рут пьяной и смертельно напуганной. Карианна была изумлена: такое поведение никак не вязалось с ее представлением о Рут. Подруга бессвязно бормотала о том, что у нее галлюцинации и что она сходит с ума. Карианна не поверила ей, она была убеждена, что Рут задремала на диване и видела кошмар. Карианна по себе знала, насколько правдоподобными и страшными могут быть такие сны. Она уложила Рут в постель, наутро та как будто пришла в себя, и Карианна забыла про этот случай.
Однако вскоре после Рождества они болтали вдвоем в кухне. Рут как ни в чем не бывало, в расслабленной позе сидела на стуле, по другую сторону небольшого стола, и, улыбаясь, собиралась ответить на что-то Карианне…
…как вдруг она исчезла.
Карианна на несколько долгих, растянутых мгновений застыла в неподвижности на своей табуретке.
Потом поморгала. На стуле по-прежнему было пусто.
Карианна ухватилась за край стола и, наклонившись вперед, позвала Рут. Никто не откликнулся.
Карианна встала, так резко оттолкнув табуретку, что она стукнулась о стену, нагнулась и заглянула под стол, потом в замешательстве обвела взглядом кухню: она была совершенно пуста.
Спрятаться тут было негде. Чулан? Сомнительно, он слишком мал, чтобы вместить человека. На всякий случай Карианна открыла дверцу: пылесос, гладильная доска, щетка для пола, таз.
— Рут?! — снова бессмысленно позвала Карианна. И побежала в гостиную, искать и кликать там. В уборной? В комнате Рут? У себя в комнате? Что же это такое?
— Хватит изображать-то, — послышался голос у нее за спиной. Карианна вздрогнула и обернулась.
— Ах вот как! — закричала она. — Значит, это твоих рук дело! Что ты натворил с моей подругой?
— Ты бы лучше покопалась в своих поступках, — отвечал гном, который с независимым видом стоял на зеленом ковре и довольно щурился, глядя на нее снизу вверх. — Должна была уже сообразить, что я мало что могу совершить в этом мире без посторонней помощи.
— Я?.. Я ничего такого не сделала. — У Карианны подкосились ноги, и она осела на пол рядом с гномом, так что его сморщенная рысья мордочка оказалась на расстоянии вытянутой руки от нее.
— Поступки человека очень тесно связаны с тем, кто он такой, — сказал он. — Кое-что мы про это знаем, а многого еще не знаем, но мне ясно одно: нет такой силы, которая могла бы повернуть вспять твою дорожку.
— Проваливай, откуда пришел! — бросила ему Карианна. — Оставь нас в покое, от тебя одни только огорчения!
— Я?.. Я ничего такого не делал, — передразнил ее гном. — Все, что я обещал тебе, я выполнил, и выполнил честь по чести. Ты бы лучше сама держала обещания и перестала клясть жизнь. У тебя жизнь как жизнь, и идет она своим чередом.
Карианна зажмурилась и прикрыла лицо ладонями. Избавив себя по крайней мере от вида гнома, она, однако, не спаслась от его запаха, который так и бил в нос на фоне привычного сухого воздуха гостиной.
— Уходи, — шепотом попросила она.
Когда она открыла глаза, от гнома остался один только запах: на зеленом ковре больше никого не было.
— Рут, — чуть слышно проговорила Карианна, поднимаясь на ноги.
И тут из кухни донеслось что-то вроде вздоха или сдавленного рыдания, и Карианна помчалась туда. На полу, опираясь о стул, на котором раньше сидела, полулежала Рут… Но в каком состоянии! Она была мокрая и дрожала, лицо было землистого цвета, темная челка прилипла ко лбу, на одной руке надет грязный шерстяной носок.
— Рут, — прошептала Карианна, опускаясь на корточки рядом с ней. — Что… что ты такое делала?
Затем в ней возобладало чувство долга. От страха, от холода, от боли в запястье Рут совершенно растерялась, и Карианне пришлось подтянуться — задавать вопросы и требовать объяснений было некогда, с этим нужно было потерпеть, а пока что она помогла Рут снять мокрую одежду, согрела молока, заказала такси и отвезла ее к врачу. Подруга споткнулась дома о половик, сказала Карианна в пункте «Скорой помощи», и, падая, подставила правую руку: такие случаи, как она знала, были не редкостью.
Карианна взяла на себя все заботы.
Можно сказать, что первый испуг остался позади. Теперь ей, пожалуй, было даже любопытно, случившееся как бы подтверждало то, в чем Карианна всегда была уверена, но чего не допускал никто из окружающих. Жаль только, что это произошло не с самой Карианной, а с Рут.
Рут была совершенно не приспособлена к подобным перипетиям, и Карианна пробовала подбодрить подругу, обсудить с ней случившееся, вызвать ее на откровенность; тут должен быть некий смысл, некая закономерность, наверняка можно выработать какую-то манеру поведения… Но Рут сопротивлялась, она не желала говорить о происшедшем, она была смущена и подавлена. Интересно, в прошлое или в будущее переносится Рут, рассуждала Карианна. Может быть, ее затягивает мир, параллельный нашему, столь же реальный, но более труднодоступный? Перестань, умоляла ее Рут. Она не хотела ничего знать, она не хотела думать о случившемся; поскольку ни выяснить что-либо, ни научиться управлять этими перемещениями было, на ее взгляд, невозможно, Рут хотела только одного: избежать повторения.
Однако неделю спустя, когда Рут начала понемногу приходить в себя от шока, она снова «исчезла». Это случилось на работе, и на сей раз Рут, конечно же, больше всего переживала за детей: что, если бы она пропала у них на глазах? Что, если бы она в эту минуту держала кого-нибудь из них? Как ей быть? Она не может, не имеет права рисковать…
И Рут взяла больничный, засела дома и стала ждать, бледная и перепуганная. Случай повторился, и не однажды, исчезновения стали происходить регулярно, сначала с большими промежутками, затем все чаще и чаще.
Рут не привыкла к такому, у нее не было опыта общения с миром, в котором перед тобой возникали во тьме серые духи, в котором между рамами мутного чердачного окна на Хегдехаугсвейен вился рой ангелов.
Карианна волновалась за подругу. К тому же она была уверена, просто убеждена, что положение не безвыходное, что можно так или иначе подладиться к этому бреду, найти способ управлять им.
— Все наверняка связано с твоим состоянием, Рут, — попыталась втолковать Карианна, когда в очередной раз после тренировки застала Рут на диване в гостиной, исцарапанную, голодную и совсем поникшую. — Дело тут либо в твоих поступках, либо в мыслях, которых ты даже не замечаешь…
— Хватит, — усталым голосом попросила Рут. — Я не хочу ничего знать, я хочу избавиться от этого, понятно? Я не верю в это!
Карианна отступилась, она пошла в кухню и сделала своей измученной подруге три больших бутерброда с паштетом и сардинами, затем сварила ей кофе, крепкий черный кофе с сахаром, корицей и гвоздикой, а уже потом достала вату, перекись и пластырь и обработала все ссадины, которыми были покрыты ноги Рут.
На следующий день Карианна зашла по дороге с работы в спортивный магазин и купила легкий нейлоновый рюкзак, термос и аптечку первой помощи. Запасла сухой паек, нож, пакет сока, моток веревки. Если подруга не в состоянии сама позаботиться о себе, пусть даст похлопотать другим!
Это обязательно пройдет, считала Карианна, ситуация как-нибудь разрешится, да и, честно говоря, не так уж все страшно. Ничего хуже разорванных связок на руке пока что не случилось. Рут просто нужно смириться с тем, что мир устроен несколько иначе, чем она представляла себе, и тогда она наверняка отыщет способ положить этому конец… либо рано или поздно приспособится, научится жить с этим.
Даниэлу Карианна уклончиво сказала, что у подруги возникли кое-какие проблемы и она сидит на больничном. Рут страдает упадком сил, у нее бывают приступы страха, в общем, она переживает кризис.
Карианна не хотела раскрывать чужую тайну, она понимала Рут, которую повергала в отчаяние мысль о возможном ее обнародовании: родственники, друзья, коллеги… врачи, газеты… Что скажут люди? Как она будет чувствовать себя потом, под устремленными со всех сторон взглядами?
Все остальное Карианна совершенно свободно обсуждала с Даниэлом.
Между ними не стояло преград, если они иногда молчали, то по обоюдному согласию.
Они много гуляли вдвоем — с тех пор как на землю лег снег, они по субботам и воскресеньям брали лыжи и отправлялись бродить далеко в глубь Нурмарки. Они вместе коротали время у Даниэла: Карианна забиралась с вязаньем в огромное кресло, а он читал, готовясь к экзамену по социальной этнографии. Они ходили вместе в кино и до изнеможения любили друг друга на скрипучей тахте, чтобы потом, лежа в обнимку под одеялом, изучать один другого — с помощью пальцев, губ, поведанных на ухо секретов. Карианна могла говорить с Даниэлом обо всем… или почти обо всем. Кое-каких тем она, по собственному наблюдению, все же страшилась, даже теперь: родители, ребенок, Мимми… Но она хотя бы затрагивала их, чего не позволяла себе ни с кем другим, так что неудивительно, если она не сразу решалась вдаваться в подробности, они с Даниэлом еще успеют обсудить их. Ей казалось, что он слушает, схватывая не только основную мысль, но и некоторые нюансы, он улавливал больше, чем она рассказывала.
Близнецы, думала она, мы просто-напросто близнецы: мы знакомы друг с другом всю жизнь, мы все понимаем, все знаем, мы только забыли некоторые детали, но и они вспоминаются, стоит лишь заговорить о них.
Она расспрашивала, слушала, изучала его…
Даниэл утверждал, что у него было хорошее детство, и она верила ему. Она видела перед собой сильного, бойкого мальчугана, жившего в просторном доме, видела добрых родителей, сестру, которая была на десять лет старше его, всех его родственников, соседей, приятелей, представляла, как он играет в футбол и ходит в школу. Он в основном отзывался о своих близких приязненно, прорывавшееся иногда раздражение искупалось его сочувствием к ним. Сознание того, что он приемный, было важно для Даниэла, он ценил условия, в которые попал, однако, с другой стороны, не похоже было, чтобы это наложило сколько-нибудь серьезный отпечаток на его развитие. Он рассказывал об этом легко, едва ли не шутливо. С тех пор как он подрос и начал отдавать себе отчет в том, насколько разительно отличается по внешности от других членов семьи. Даниэл стал фантазировать о «настоящих» родителях. Стоило ему повздорить с приемной семьей, как разыгрывались фантазии: вот возьмет и сбежит «обратно», он ведь на самом деле не обыкновенный саннвикский мальчишка, а принц: они не понимают его, а «настоящая» семья обязательно поймет. Карианна узнавала многие из этих идей по собственному детству, и на ее долю, судя по всему, выпало куда больше сложностей, чем на его. Маленькому человеку уже в нежном возрасте приходится свыкаться с одиночеством, мириться с вырастанием из мира, в котором о тебе заботились и в котором ты чувствовал себя в полной безопасности, и приобщением к другому, в котором ты все в большей степени должен решать и делать выбор сам, переживать разочарование оттого, что твоя семья не есть единое целое, вращающееся вокруг тебя, а представляет собой собрание личностей с очень разными, зачастую противоречащими друг другу интересами. Как же, как же… Карианна тоже когда-то грезила о том, что ее «настоящая» семья держит овцеводческую ферму в Новой Зеландии.
Однажды Даниэл поведал ей, как несколько раз, оставаясь дома один, пытался звонить по телефону. Он набирал случайные номера в надежде, что ему ответят его «настоящие» родители. Рассказывая об этом, он от души смеялся, но Карианне было не до смеха. Она видела перед собой одинокого мальчика в продранных на коленках штанах, с печальным, исполненным надежды взглядом. Ей было больно.
Скорее всего, он мало страдал от одиночества, во всяком случае, не больше других. Он был энергичен и сообразителен, пользовался всеобщей любовью, хорошо играл в футбол. Отец его работал врачом в больнице, мать преподавала в старших классах школы, оба были люди отзывчивые и искренние, они, не таясь, отвечали на все его вопросы. После рождения дочери они хотели завести себе еще одного ребенка, но у них не получилось. Тогда они поехали в детский дом и взяли Даниэла. Ему было полтора года, и они были счастливы. Раньше у него были другая мама и другой папа, цыгане, поэтому он смуглее остальных членов семьи и у него такие густые и черные волосы.
Он удовлетворился этими сведениями. И все же стал втихомолку впитывать в себя всю информацию, имеющую отношение к цыганам. Через некоторое время у него сложилась весьма неоднозначная картина.
Цыгане были дикарской народностью и знали толк в лошадях: стоило цыгану шепнуть несколько слов на ухо строптивому коню, как конь успокаивался, делался ручным и покладистым.
Лошади? Само собой разумеется, Даниэл встречался с лошадьми, и с гнедыми эстланнскими битюгами, и с крепкими лошадками южного и западного побережья, в детстве он даже катался на такой смирной коняге для отпускников. Однако никакого особого пристрастия, расположения или интереса к лошадям он не испытывал. Однажды он было завел «разговор» с конем, но животное только безразлично тряхнуло гривой и продолжало как ни в чем не бывало щипать травку.
Музыка. Цыгане — народ музыкальный, это было общеизвестно. Они — прекрасные скрипачи.
У родителей Даниэла стояло в доме пианино, и мама нередко садилась к нему и играла романсы и этюды. Даниэла это раздражало. Он записался в школьный духовой оркестр, выучил ноты, и ему выдали трубу, но он тут же охладел к занятиям. Он любил музыку, такую же, какую любили его друзья, но играть самому ему вовсе не хотелось.
Цыгане воровали. И дрались, да еще с ножами…
Даниэл чужого не брал. А драться дрался, если его к этому вынуждали, но сам обычно в драки не лез и удовольствия от них не получал.
Цыгане славились непоседливостью. Будучи детьми природы, они любили волю и не желали селиться в домах, они чахли и умирали, если приходилось надолго задерживаться в одном месте.
Даниэл, сколько себя помнил, всегда жил в старинном особняке на окраине Саннвики, но чувствовал себя при этом превосходно и умирать не собирался. Правда, он любил взять палатку и отправиться с товарищами в лес, а еще он любил летние каникулы, на которые они всегда куда-нибудь уезжали. Так что, кто знает, может он действительно все-таки цыган?..
Но такая мысль смущала, и он гнал ее от себя.
Лет в шестнадцать-семнадцать Даниэл пережил период бунтарства, когда снова всплыли на поверхность некоторые идеи, мучившие его в детстве. Ему было грустно и неприютно в этом мире, он много времени проводил в раздумьях. Тело его исходило неудовлетворенной страстью, в голове кипели мысли и чувства, он не знал, как правильно сложить мозаику окружающего мира, чем заняться, не мог уразуметь, кто он такой. Раньше у него было полно друзей, теперь он стал одиноким и нескладным. Он влюбился — и очень страдал. У матери обнаружили рак груди, ей сделали операцию, так что родители были поглощены собственными проблемами. Его сестра Сесилия недавно вышла замуж и на радостях почти не навещала отчий дом, лучший друг Даниэла завел себе пассию.
Учеба всегда давалась Даниэлу легко, однако во втором классе гимназии ему вдруг все опостылело: он пристал к одной компании, начал покуривать, баловаться гашишем, целыми днями слонялся по городу. Раза два он попадал в нехорошие истории, его принимали за пакистанца, однажды чуть не пришибли за это. Даниэл обнаружил, что обладает привлекательностью для женщин. Тогда же он впервые в жизни напился пьяным.
Он стал исподволь наводить справки и в конечном счете выяснил, где в городе живет цыганская семья. Ему еще не исполнилось восемнадцати, так что он не имел права официально узнать свою прежнюю фамилию, имена биологических родителей. Он был уверен, что его усыновителям все известно; как оказалось впоследствии, он ошибался, но тогда он рассердился, разобиделся на них за то, что они не хотят ему помочь. Он считал, что они сговорились отнять у него родню, на знакомство с которой он претендовал. Они лишили его даже собственной фамилии, и что теперь? Теперь у них, видите ли, нет на него времени! Правда, болеет мать. Но у нее же ничего серьезного… Ему не приходило в голову, что от него могут что-то скрывать — из лучших побуждений, но, по-видимому, зря…
В один прекрасный день он набрался храбрости и поехал по адресу, который раздобыл. Невысокая новостройка выглядела необитаемой: никто не открыл, когда он позвонил в дверь, на автомобильной стоянке перед домом было пусто. На мостовой гоняли мяч двое русоголовых мальчишек, один из них при приближении Даниэла сплюнул на землю, и оба по-девчоночьи фыркнули.
— Цыганов нету дома! — заорал ему вслед звонкий голосок, когда Даниэл уже уходил по дороге прочь.
В следующий раз он застал хозяев.
Вероятно, цыган тут было больше, чем одна семья, на стоянке теперь собралось множество машин и четыре прицепа. Трое парней лет по двадцать мыли автомобили, в окне мелькнула пожилая женщина, вышедшая из дома девушка прокричала что-то ребятне, носившейся между машинами.
Даниэл хотел было повернуться и уйти, но, подбодренный спокойным, вопросительно-дружелюбным взглядом одного из молодых людей, решился все же изложить свое дело.
Парни плохо понимали по-норвежски, Даниэл только потом сообразил, что некоторые из них — французы, ему надо было сразу вычислить это по номерам машин, а он в своем смятении обращал внимание только на людей.
Они выслушали его запинающиеся объяснения, и, кажется, один таки разобрал, что говорит Даниэл, хотя ничего не ответил, а лишь положил руку ему на плечо и показал на раскрытую дверь прицепа. Даниэл прошел к фургону, в котором сидели и разговаривали трое взрослых мужчин. Они мгновенно смолкли и хладнокровно, с недоумением посмотрели на Даниэла.
— Я… я ищу своих родственников, — начал Даниэл. — Я даже не знаю, как их зовут, но мне кажется… В общем, я цыган.
Они замерли, продолжая мерить его взглядами.
Даниэл не мог назвать фамилии, у него не было никаких документов, никаких доказательств. Он мог предъявить им только свой возраст и свою физиономию.
Один цыган резко встал и, выйдя из фургона, принялся рассматривать Даниэла в ярком солнечном свете. Цыган был невысокого роста, коренастый, по виду человек сильный и решительный, с пробивающейся у висков сединой. Он крикнул что-то двоим мужчинам внутри прицепа, ему ответили — весело, хотя и довольно равнодушно.
— Мы не уверены, что ты попал по адресу, — сказал цыган Даниэлу. — Ты вроде бы похож на нашего, а может, и ошибаешься. Пойдем лучше спросим бабушку. — И он двинулся к низкому дому, не поджидая Даниэла и не оборачиваясь, чтобы проверить, идет ли он следом.
Большая гостиная производила впечатление светлой и несколько пустоватой по сравнению с норвежскими домами, в которых Даниэл привык видеть больше мебели, но все тут было очень чисто и аккуратно, очень прибрано. Цыган открыл дверь в соседнюю комнату и сказал что-то находившимся там людям. Потом он обернулся и с улыбкой пригласил Даниэла сесть: вдоль стен выстроилось множество стульев. Даниэл последовал его приглашению, волнуясь и чувствуя себя не в своей тарелке: он уже жалел, что затеял это. Вскоре в комнату вошли две женщины, одна постарше, а вторая, как показалось сначала Даниэлу, совсем молоденькая. Это была смуглая, пышнотелая красавица с иссиня-черными волосами, которые волнами спускались по спине. Впрочем, Даниэл быстро смекнул, что она не девочка; нечто неуловимое в ее фигуре, в доброжелательном уверенном взгляде напоминало ему мать, в ней присутствовала теплота. Вероятно, женщине было за сорок, вокруг глаз уже образовалась сеть морщинок.
Цыганки поздоровались с Даниэлом и сели, мужчина, проводивший его сюда, следил с дивана за разговором, время от времени улыбался, но молчал.
Беседу с Даниэлом вела та, что была помоложе, старая цыганка, видимо, не владела норвежским.
Знает ли он фамилию родителей?
Нет.
Почему ему кажется, что он — «ром»?
Он не уверен, но ему всегда говорили, что…
А как его зовут?
Даниэл. Даниэл Йорстад, настоящей фамилии он не знает. Когда ему исполнится восемнадцать, он сможет пойти и выяснить, но до этого ждать больше полугода…
Теперь возбужденно затараторила пожилая цыганка, молодая послушала, кивнула и, обернувшись к Даниэлу, впервые по-настоящему улыбнулась ему.
— Может быть, ты и прав, — мягко проговорила она, и от этой ее мягкости и выдержанности у Даниэла полегчало на сердце. Он хотя бы перестал нервничать. — В то время мы как раз потеряли двоих детей, годовалого мальчика и девочку, которой был всего месяц от роду. Явились полицейские… и забрали у нас детей.
— Забрали детей! — изумился Даниэл, чувствуя, как его бросает то в жар, то в холод.
Женщина кивнула.
— Это случилось зимой, — продолжала она, — моя семья была очень бедная, и мы жили в шатрах. Норвежская комиссия по опеке отдала обоих в детский дом. Если ты тот самый мальчик, значит, ты сын моей тетки. А тетка с мужем почти сразу после этого погибли в автомобильной катастрофе. Бабушка считает, что ты, наверное, прав. Ты похож на наших ребят. Но хорошо бы все-таки уточнить, как звали твоих родителей.
Даниэл обещал сделать это, он еще некоторое время посидел у цыган, рассказывая про себя и про свое детство… А живется ему хорошо. Да, он обязательно придет, да-да, он попробует разузнать…
Пожалуй, Даниэл никогда еще не был так обескуражен: он совершенно иначе представлял себе эту встречу. А чего он, собственно говоря, ждал? Что они кинутся ему на шею? Что стоит ему только задать вопрос — и он нападет на своих родителей, братьев и сестер? Что он почувствует себя среди них как рыба в воде, что он по мановению волшебной палочки овладеет языком, что за него выдадут черноокую цыганскую принцессу, а потом посадят на вороного коня с серебряной уздечкой, в отделанное серебром седло и он поскачет со своей принцессой в ночную тьму?
Конечно, именно об этом он и мечтал, и еще о многом другом.
Во всяком случае, он не предполагал, что будет испытывать такую отчужденность.
Интересно, что в этих его родственниках не оказалось ничего экзотического, они были куда будничнее, чем он рассчитывал. Они встречали его любезно и приветливо и, по всей видимости, радовались, когда он приходил в гости.
Но он совсем не знал их…
Он не понимал языка, не разбирался в их обычаях, слишком многое не совпадало с его прежними понятиями о них: он обнаружил, что в их жизни нет ни размаха и удали, ни хитрости, нет никакой мистики, романтики или риска. Они самые что ни на есть обыкновенные люди. Просто они живут несколько иначе, чем с детства привык жить он.
Даниэл уходил от цыган подавленный и разочарованный.
Он ведь лелеял неясную мечту о том, как воссоединится со своей родней, как будет вместе с ней скитаться по свету, как обретет свое подлинное «я». Мечта не выдержала первого же столкновения с действительностью. Даниэл понял, что он никакой не цыган. Он — норвежец.
Кстати, они не называли себя «цыганами», у них было слово «ром», что значит «человек», а Даниэл и этого раньше не знал. Он не умел говорить на их языке, его познания о собственном народе не превышали уровня среднего норвежца, то есть сводились к нулю.
Он начал читать подряд все, что нашлось о цыганах в библиотеке. Со временем он выяснил, что его матерью действительно была тетка той женщины, с которой он разговаривал в первый раз. Женщину звали Розой, и он еще неоднократно ездил туда в гости, и семейство с удовольствием принимало его, и все же он оставался — и обречен был навсегда остаться — не более чем гостем.
Он наконец-то осознал, что его «настоящей» семьей была та, в которой он провел детство. Его связывали с ней тысячи нитей, все ее члены любили его, а он любил их. У него был «папа», его отец, была «мама», его мать, была Сесси, его сестра Сесилия, как бы она ни отдалилась от него из-за своего замужества… И осознав это, он мало-помалу оказался в состоянии вести с Сесси разговоры; раньше он считал, что она невероятно задирает перед ним нос, но, скорее всего, это вообще характерно для старших сестер. Даниэлу понравился его зять: Эйвинн держался непринужденно, по-свойски. Сесси и Эйвинн были сторонниками леворадикальных взглядов, со временем они вступили в партию марксистов-ленинцев и способствовали тому, что у Даниэла тоже возник интерес к политике. Мать выздоровела, операция, очевидно, приостановила процесс, и Даниэл только теперь узнал, насколько грозной была ее болезнь. Он хорошо сдал выпускные экзамены, поступил в университет, отслужил положенный год в армии, а вернувшись, с головой ушел в бурный и обманувший его надежды роман. Его возлюбленная была на пять лет старше Даниэла, разведена, имела трехлетнего ребенка. Живя в ее квартире на Синсене, Даниэл пытался заниматься историей и философией, но занятия шли туго. Он понял, что предпочитает этнографию. Он с увлечением отдался работе в Афганском комитете и читал все, что попадалось ему под руку об Ирландии и Палестине. Он даже начал интересоваться политэкономией.
Затем он разругался со своей любовью, она выгнала его из дома, и Даниэл вынужден был переехать обратно к родителям, в Саннвику.
Он был донельзя огорчен и рассержен. Выкинуть его из дома! Как квартиранта, как негодную мебель, как шваль! Значит, все ее слова были враньем. А его представления о жизни не стоили ломаного гроша, оказались мыльными пузырями.
В этот семестр он забросил учебу и проматывал ссуду на образование, мстя за себя каждой встречной женщине.
В конечном счете его привела в чувство мать. Она заявила ему, что достаточно навозилась с малыми детьми: ему следует либо вести себя прилично, либо покинуть родительский дом; он уже взрослый и должен смириться с тем, что не каждый раз в жизни будет выходить так, как хочет его левая нога; мать всем сердцем любит Даниэла, но содержать его она больше не намерена; если он еще раз явится домой пьяным и разбудит их в три часа ночи, его выставят за дверь и пусть ночует где угодно, хоть в вытрезвителе.
Через пару дней он опять пришел домой пьяным. Было половина второго. Спустя три недели после этого случая он снял себе комнату на Хегдехаугсвейен, устроился работать в закусочной на Майорстуа и начал снова посещать лекции в университете.
— Неужели ты больше не бываешь у своих родственников? — спросила Карианна, прижимаясь щекой к теплой, нежной коже его плеча. Время было позднее, в ночь на пятницу, и им давно пора было спать, но так хорошо лежать вместе под одеялом и разговаривать.
— У моей цыганской родни? — переспросил Даниэл. — Иногда бываю, но, признаться, давно уже не навещал их. Понимаешь, довольно тяжко находиться с кем-то в родстве… и в то же время ощущать себя чужаком.
— А тебе разве не любопытно? — не унималась Карианна. — Мне было бы интересно.
Он пожал плечами.
— Я знаю о своих так называемых корнях не меньше, чем ты о своих. Мои корни в Саннвике, с ответвлениями в Саннефьорд и в Лиллехаммер. Те несколько слов, что я знаю по-цыгански, я выучил уже взрослым. А околачиваться там и совать свой нос в чужие дела мне кажется не слишком вежливым. Хотя, естественно, мне было любопытно, интересно… и я продолжаю интересоваться ими. Ты, например, знаешь, что цыганский язык относится к той же группе, что и санскрит?
Карианна покачала головой.
— Или что практически все норвежские цыгане были истреблены во время второй мировой войны? — Он вздохнул. — Я только постепенно разобрался, почему они так сдержанны, можно сказать, настороженны к незнакомым.
Целая куча моих родственников погибла в гитлеровских концлагерях. В начале войны они пытались прорваться обратно в Норвегию, но их не пустили через датскую границу и арестовали. После войны в Норвегию вернулась лишь горсточка цыган. Теперь их в общей сложности человек сто, все из одного рода. Собственно говоря, цыгане были первыми норвежскими иммигрантами, и, мне кажется, им удастся и впредь сохранять свою самобытность. Если они сберегли ее до сегодняшнего дня, почему бы им не суметь и дальше? На это работает и их настороженность, бдительность. Им плевать, что их образ жизни расходится с общепринятым в Норвегии, они стоят на своем. Они норвежцы… и в то же время «рома», такими они и останутся. По-моему, нам следует примириться с этим. Нам следует признать и своеобразие пакистанцев, вьетнамцев, чилийцев, не пытаясь во что бы то ни стало переделать их всех в добропорядочных норвежцев. А вот я норвежец. «Ром» — это особое мировоззрение, и оно никак не связано с твоей физиономией. Я никогда не смогу стать никем, кроме норвежца.
Карианна понимающе кивнула. Ей казалось, она понимает и то, что осталось невысказанным, что она узнавала по своему опыту и что трогало ее до глубины души. Она раскинула руки, обняла Даниэла и, зажмурившись, прильнула к нему. Она любила его — это было единственное слово, которое правильно описывало ее чувство к нему.
Сразу после Рождества Даниэл в первый раз затащил Карианну к своим родителям.
Она боялась этого визита, не хотела идти к ним. Слишком свежа была у нее память о родителях Бьёрна, о вилле в Нурстранне, о напускном радушии, о моложавой матери с художественными наклонностями, которая ткала гобелены и делала лоскутные коврики с аппликацией. Карианна не была готова к роли невестки…
Но у Даниэла все оказалось иначе.
Поначалу Карианна держалась натянуто и замкнуто, однако через час-другой она оттаяла, расслабилась и отбросила свою осторожность, сообразив, что защищаться не от кого.
Йорстады жили в белом деревянном доме, стоявшем посреди запущенного сада. Все тут было просто и без претензий. В прихожей пахло специями и сдобным тестом, кофе пили в кухне. Чашки были с розочками и золотой каймой. Занавески в кухне клетчатые, гостиная просторная и светлая, с удобной, хотя и сильно обшарпанной мебелью, старинные вещи соседствовали здесь с современными, вокруг стола шаркал на негнущихся лапах золотистый ретривер с седеющей мордой, который переходил от одного к другому, кладя эту морду на колени, пока его не прогнали на место, в его корзину в передней. Отец Даниэла был высокий, сильно полысевший человек со сдержанным юмором, которым были окрашены все его высказывания. Мать…
Мать Даниэла звали Май. Менее властную натуру трудно было себе представить. Май взяла Карианнину руку обеими своими ладонями и, глядя в глаза, сказала, что ей очень приятно познакомиться с Карианной, Даниэл им рассказывал о ней. Май говорила рассудительно, с неторопливым спокойствием и сердечностью. Теплотой и сердечностью была проникнута и вся ее внешность: лицо было круглое, рот большой, с пухлыми губами, каштановые с проседью волосы крупными локонами обрамляли голову. На Май было кирпично-красное шерстяное платье с широкой юбкой, под которым, очевидно, было мягкое и пышное тело. И хотя Карианна знала, что одну грудь заменяет протез, предположить что-либо искусственное у такой женщины было невозможно.
Все в этом доме подчинялось простому и естественному распорядку. К кофе поспели из духовки булочки. Попозже был ужин: хлеб домашней выпечки и копченая скумбрия с яичным соусом, холодная свинина, варенье и чай с тонкими ломтиками лимона, синяя скатерть, белые чашки с надбитыми краями… Цветущий рождественский кактус и бегония на подоконнике.
Когда отец Даниэла зажег камин, в гостиной распространился запах ароматических веществ.
Здесь неоткуда было ждать опасности, тут не требовалось притворства, и Карианна ходила по дому как во сне.
Вот где провел свое детство Даниэл. Она представляла себе маленького мальчика, тенью застывшего возле окна, нос приплюснут к стеклу с нарисованными морозом узорами, взгляд устремлен на голубой снег в саду, звездная ночь, иней на яблоневых ветках. А внутри, в комнате, елка с зажженными свечами, на ней ангелочки и цепи из глянцевой бумаги, кое-как склеенные торопливыми детскими руками, корзиночки, аккуратно сплетенные мамой и старшей сестрой, мишура… Полученный в подарок поезд. Рождественские грезы, мечты о снеге, и в каждом сердце долгая норвежская зима.
Снегопады. Мокрые рантовые сапоги, кусачая вязаная шапка, варежки, забытые в садовом сугробе, теплые руки взрослого, растирающие посиневшие, прихваченные морозом пальцы. Снежные бабы, снежные фонари[20], лыжные трамплины, которые, казалось, сооружаются специально для того, чтобы пускать по ним пластмассовые бутылки из-под кока-колы: они так здорово переваливаются через край и катятся по склону, а потом зарываются горлышком в снег. Мама, иди посмотри! Мама, можно мы возьмем свечку? Ах, какой вы красивый фонарь построили, малыши! Сейчас мы зажжем свечу, и вы залезете внутрь, и я принесу горячее какао с булочками, и вы снова согреетесь, а вечером мы будем любоваться вашим фонарем из окна. Ой, какой ты сопливый, Даниэл! И куда ты задевал свой шарф?
Запахи… Одеколон в маминой сумочке, приятный табачный дух от папиных рук, теплое тело взрослого, у которого можно посидеть на коленях, мыло и зубная паста в ванной, горящие свечи на именинном торте, запах чистой, только что выглаженной одежды. Парфюмерный аромат фруктовой воды, которой угощают в праздник. Запах мокрой собачьей шерсти. Запах влажной земли весной и свежескошенной травы с розами летом, врачебный запах, который издавала папина одежда, когда он приходил домой после больницы, а несколько позже — запах школы от мамы: мел, губка для стирания с доски, пот, в общем, все, чем пахнет класс.
Стирка белья, мальчик помогает тянуть простыни и пододеяльники, но не умеет как следует складывать их, смех, мелкие нагоняи, приключения и пластырь с йодом, грозы, паркие осенние дни, свежее клубничное варенье и осы…
Все это продолжало жить в укромных уголках дома, и Карианна полной грудью вбирала в себя этот домашний дух.
В тот первый вечер она в основном молчала, но перед самым уходом, в дверях, она поблагодарила Май и, взяв ее за руки, широко, радостно улыбнулась ей.
Май тоже пожала ее руки.
— Мы ждем тебя снова. Карианна, — покойно и ласково молвила она. — А если наш сыночек будет противиться, приходи одна!
К автобусной остановке Карианна и Даниэл шли под снегом, тесно прижавшись друг к другу. Снежинки лепились к темному чубу Даниэла и таяли от соприкосновения с его лицом. Кругом было белым-бело. В заснеженной тиши всплывали воспоминания о церковном перезвоне, о бубенцах и синеватых тенях в заиндевелой березовой роще.
Карианна рассыпалась в похвалах Май. Даниэл был настроен скептически.
Она пробовала объяснить ему, что испытала там, в их белом доме. Они с Даниэлом сегодня позволили себе поход в «Noble Dancer»[21].
Карианна только что получила жалованье, и платила за обоих она.
— Ты не можешь всерьез считать, что мне жилось так, как ты себе придумала, — сказал Даниэл, позволив ей выговориться. Карианна молчала и растерянно смотрела на него. Она отказывалась понимать Даниэла. Он был расстроен, чуть ли не злился.
— Но ты говорил… — начала она, однако Даниэл тут же перебил ее:
— Да, черт возьми, у меня было хорошее детство, мне не на что жаловаться, я ничего не имею против своих родителей! Только все это… Ты рассуждаешь, как будто… В общем, это неправда.
— Нет, правда, — возразила Карианна. — Я сама видела!
— Тьфу ты, Господи! Угораздило же связаться с ненормальной…
Даниэл рассвирепел. Лоб его нахмурился, рот превратился в узкую полоску.
Они так и не нашли общего языка, и дело кончилось тем, что Даниэл пересел за соседний столик и принялся кадрить очаровательную блондинку с конским хвостом и звонким, переливчатым смехом. Карианна ушла. Она готова была драться, кричать и кусаться. Готова была обзывать его последними словами. Готова была пнуть ногой в живот и смотреть, как он будет корячиться на снегу, а потом бить еще, еще и еще… Она уже не помнила причину ссоры, она только знала, что не потерпит такого обращения с собой; ей даже не хотелось отплатить ему той же монетой и, подцепив какого-нибудь мужика, притащить его в пику Даниэлу на Тересесгате. Даниэл не смеет так вести себя, не смеет, и все тут!
Дома было пусто, в гостиной горел свет, на столе лежала раскрытая книга, в магнитофоне горел зеленый огонек. Карианна заглянула в комнату подруги: никого.
— Рут! — позвала она.
Ответа не последовало.
Она не стала гасить свет, а налила большую кружку молока, поставила ее на стол перед пустым креслом и пошла спать.
Это уже слишком, это делается невыносимо, она больше не в состоянии волноваться за других.
Даниэл не позвонил ни завтра, ни послезавтра. Договора у них никакого не было, а идти искать его на Хегдехаугсвейен Карианна на хотела.
Зато в пятницу она поехала в Саннвику, одна.
Там оказалось так же чудесно и романтично, как в прошлый раз: запахи, старый пес, который ковылял по дому, царапая когтями дощатый пол, черное полированное пианино в углу гостиной. И Май, удивленная и обрадованная приездом Карианны, может быть немного уставшая после рабочей недели. Отца Даниэла, Руала, не было дома. Они с Май сидели на кухне, пили чай с булочками и болтали, как будто были давними подругами.
Май была сама невозмутимость. Пышное тело, спрятанное под клетчатой юбкой, джемпером и толстой кофтой. Волосы, мягкими волнами расходящиеся от высокого лба. Некоторый намек на двойной подбородок… и взгляд темно-серых глаз, чуточку утомленный, чуточку озабоченный, но в основном спокойный.
Зашел разговор о Даниэле, и Карианна вдруг захлюпала носом над чашкой. Май почти ничего не говорила, но одно ее присутствие рядом, ее внимание служили своеобразным утешением. Потом Карианна рассказала про Рут. Эта история как будто встревожила Май куда больше, чем Карианнина размолвка с Даниэлом.
— Похоже, у твоей подруги дела совсем плохи, — сказала она. — Тебе не кажется, что ей нужна более серьезная помощь, чем та, которую можем предложить мы с тобой?
— То есть помощь врача? — переспросила Карианна. — Но врачей-то она как раз и боится. От них Рут ждет только осложнений. А помочь ей они все равно не сумеют.
— Почему ты так считаешь? — улыбнулась Май. — Конечно, нам мало что известно о психических болезнях. Но кое-что уже известно, и лучше всего в этом разбираются специалисты. Ты бы объяснила ей, а?
— Тут все гораздо запутаннее, — тихо произнесла Карианна. Она с трудом выдавливала из себя слова, сознавая: говорить то, что она собирается сказать, не стоит. И все же… — Она исчезает по-настоящему! Я видела своими глазами. Она пропадает. Внезапно. Раз — и ее нет в комнате. А потом она опять появляется.
Май сидела не шелохнувшись, между бровями у нее залегла сосредоточенная морщинка.
— Ты, Карианна, умеешь сопереживать и быть верной подругой, — сказала она наконец. — Иногда, чтобы лучше понять ближнего, нас так и тянет поддаться внушению. Но, на мой взгляд, от этого бывает мало пользы, скорее даже вред. Мне кажется, Рут такое тоже может повредить, если ты недостаточно сильная, чтобы противостоять ее страхам. Она ведь очень мучается, правда?
Карианна молча кивнула. Она чувствовала себя маленькой девочкой: она наделала кучу ошибок, а ей вместо наказания разъясняют их и помогают исправить.
— Тут-то и могут пригодиться врачи, — продолжала Май. — Они уже сталкивались с подобными случаями и научились держаться посредине между сопереживанием больному и отстраненностью. Они подталкивают его к более правильному восприятию своей болезни, к пониманию того, какой она видится нам со стороны.
— Наверное, — сказала Карианна.
Хлопнула входная дверь, это пришел отец Даниэла. Кажется, для него было приятным сюрпризом, что на кухне сидит Карианна; он достал себе чашку, и ему тоже налили чая. Они еще некоторое время побеседовали, уже втроем.
На прощанье Май сказала, пожимая Карианне руку:
— Даниэл пусть тебя не беспокоит, он может легко вспылить, но он отходчив. А вот насчет подруги я бы на твоем месте что-нибудь предприняла. Подумай о нашем разговоре, Карианна.
Карианна улыбнулась, чувствуя подступающие слезы. Она поспешно кивнула.
— Я обязательно подумаю. Может быть, ты права. В любом случае, спасибо. Приятно поговорить с кем-то… начистоту.
— Не стоит благодарности, — отвечала Май. — Я рада была познакомиться с тобой, Карианна, и не только из-за Даниэла.
В автобусе по дороге в город на Карианну снизошел несказанный покой, словно ей дали утолить жажду или излечили от болезни.
В понедельник позвонил Даниэл. Он настаивал на встрече, голос его звучал грустно. Они увиделись вечером, и Карианна поняла, почему он грустит: с ним не возобновили контракт о найме квартиры, через две недели нужно было освободить чердак в старом доме на Хегдехаугсвейен.
Обратно в Саннвику, к отцу с матерью. Его пугала даже мысль об этом.
Карианна не усматривала тут никакой трагедии, однако предпочла промолчать. Сейчас она и сама вряд ли смогла бы ужиться с родителями, но ей казалось, что у Даниэла случай другой. Хотя, конечно, станет труднее: они будут реже встречаться, будет меньше возможностей побыть наедине.
Даниэл был возбужден, нежен и полон раскаяния. Он ужасно скучал без нее, пусть она даже тысячу раз ненормальная, у него еще ни с кем не было ничего подобного, она нужна ему… Карианна верила каждому слову. Она раскрыла объятия для его обнаженного тела и распахнутой души, она обвила его руками и приникла к нему, она была счастлива.
В ту ночь Карианна осталась у Даниэла. Проснулась она спозаранку. Было еще темно, только над кроватью выделялся прямоугольник слухового окна, откуда лился желтый — городской — свет уличного фонаря. Лежа на постели, она смотрела в окно, где между стекол валялись мертвые мошки с тонкими, как папиросная бумага, крылышками, разодранными в клочья от отчаянных попыток вырваться из-за стекла.
Даниэл спал. От него исходил запах теплого сонного мужчины. Карианна не шевелилась, прислушиваясь к тому ощущению радости, которое щекотало ей лицо и проникало в мозг, в каждую косточку и клеточку ее тела.
Что может быть лучше, чем проснуться первой ранним февральским утром и нежиться в постели, нагретой во сне вдвоем с ним? Большего счастья она не могла и вообразить себе.
3
Во вторник, вернувшись с работы. Карианна заметила на полу в прихожей пятна крови.
Кровь?
Она отшвырнула от себя сумку, гостиная была пуста, в кухне тоже никого.
— Рут! — позвала она. — Рут? Где ты. Рут?!
Откуда-то рядом донеслось приглушенное бормотанье, Карианна рванула дверь в туалет, Рут лежала на полу, мокрая до нитки и в крови, одежда ее висела лохмотьями, унитаз и раковина забрызганы кровью, по полу растеклись розовые лужи крови пополам с водой. Карианна на миг застыла на пороге, непроизвольно поднеся руку ко рту, словно пытаясь заткнуть его, не дать себе тут же испустить Дух, потом она присела на корточки рядом с промокшей, но живой — слава Богу, живой — подругой и принялась расстегивать пуговицы, раздвигать лохмотья, ощупывать и осматривать.
Руки у Рут были до локтей в ранах и порезах, лицо исцарапано, свитер с брюками насквозь мокрые, окровавленные, рваные, от нее пахло кровью, водорослями и морем.
Лицо Рут было мертвенно-бледным, глаза полузакрыты, она водила головой из стороны в сторону и бормотала что-то нечленораздельное о ракушках, об острых ракушках, о том, как она не могла всплыть, как у нее нет больше сил терпеть…
Глубокая рана на одном из запястий обильно кровоточила в такт пульсу, Карианна и не предполагала, что в человеке может быть столько крови.
Она поднялась и, спотыкаясь, добрела до полки над умывальником — бинта она не нашла, но взгляд упал на висевший за дверью халат Рут. Карианна выдернула из халата пояс и, снова опустившись на корточки, как можно туже обвязала им предплечье, потом взяла зубную щетку, запихнула ее ручкой под пояс и начала вращать, чтобы затянуть жгут еще сильнее. Рут застонала, но кровь из зияющей раны приостановилась.
Руки у Рут были ледяные, под волосами расплылась по белому кафелю пола темная лужа. Ценой невероятных усилий Карианне удалось стащить с подруги липкую, промокшую одежду, она обернула Рут ее халатом, сбегала к себе в комнату, захватила оттуда одеяло и тоже прикрыла им Рут. Рут теперь лежала совершенно неподвижно, с закрытыми глазами, похоже было, что она в обмороке.
Карианна выпрямилась и некоторое время стояла рядом, не сводя глаз с Рут, затем вышла в переднюю и недрогнувшей рукой набрала номер «Скорой помощи».
— Пожалуйста, приезжайте немедленно, — попросила она. — Моя подруга… пыталась покончить с собой.
Медики были доброжелательны, действовали бойко и расторопно. Карианна успела до их приезда подтереть пол в туалете и выбросить в помойное ведро мокрые лохмотья. Она высушила голову Рут полотенцем и постаралась промыть ваткой с дезинфицирующим раствором самые большие царапины.
Карианна поехала с Рут в больницу. Все произошло за считанные минуты, она даже еще не сняла сапоги после возвращения с работы, так и ходила по дому — в куртке и шарфе, с варежками в кармане. Рут погрузили на носилки.
Карианна была раздосадована: любопытствующие соседи подсматривали в щелочки дверей, когда она вслед за носилками спускалась по лестнице; садясь в санитарную машину, она чувствовала на себе взгляды из окон. Ехали быстро, с включенной сиреной.
— Все обойдется, — успокоил Карианну один из белых халатов. — Девушка, конечно, потеряла много крови, но ее жизнь вне опасности. Такие повреждения артерий выглядят куда страшнее, чем они есть на самом деле.
Карианна молча кивнула, она сидела рядом с носилками, на которых лежало под простыней бесчувственное тело, старалась сохранять равновесие на поворотах, подпихивала к Рут ее коричневую кожаную сумку.
И вот долгое ожидание, светло-желтые коридоры, больничный запах, облаченные в белое врачи, один из которых наконец выбрал время поговорить с Карианной — в тесном кабинете, вдоль стен которого громоздились полки с историями болезни. Итак, Рут дали снотворное, а до этого она пришла в себя и металась, очевидно, дома у нее были галлюцинации. Не знает ли Карианна: ее подруга употребляла наркотики? Точно нет? Странно. Но она была в подавленном состоянии и испытывала приступы страха? Ясно. Делала ли она и прежде попытки нанести себе увечья? Ага, разрыв связок, несколько ссадин. Имя, фамилия, личный номер, место работы, близкие родственники. Замечательно. Не знает ли Карианна, чем ее подруга порезала себе лицо, чем она пыталась?.. Ничего не нашла? Ну, в таких случаях чаще всего берут бритву. Карианна наверняка обнаружит ее, если как следует поищет…
Карианна разревелась, она плакала от злости, от усталости, от запоздалого испуга.
— Мне плевать на то, чем она это сделала! — воскликнула Карианна между рыданиями. — Я только знаю, что мне надо было лучше следить за ней! Вы обязаны помочь ей. Обязаны положить ее в больницу, чтобы она получила помощь! Я не в силах больше отвечать за нее, вы не можете от меня такого требовать!
Ее вспышка, видимо, пробудила к жизни сидевшего за письменным столом утомленного, бесстрастного врача. Он встал, подошел к Карианне и, опустив руку ей на плечо, заговорил, тихо и проникновенно. Он думал, она поняла его: конечно же, ее подруга будет госпитализирована. У них не принято выбрасывать на улицу тех, кто покушался на самоубийство, не дав им сначала возможности справиться со своими проблемами. Судя по Карианниному рассказу, Рут, несомненно, нуждается в лечении. Ах, она не хочет? Но больные не всегда способны реально оценить, что им требуется. Пусть Карианна не переживает: она поступила совершенно правильно, обратившись за помощью для своей подруги. Надо будет связаться с родными. У Рут есть родители? Может быть, Карианна сама позвонит им, раз она их знает? Карианна проявила редкостное присутствие духа, вот у нее и наступила реакция. Ей, конечно, досталось. Такая ответственность. Но теперь можно и расслабиться, она передала дело в надежные руки и поступила абсолютно верно. Если бы не ее спокойствие и выдержка, Рут могла бы поплатиться жизнью. Сейчас Карианна пускай едет домой и отдыхает. Если она хочет, он даст ей снотворное. Рут проснется не раньше завтрашнего утра.
Карианна взяла себя в руки и отважилась на телефонный разговор с матерью Рут. Она должна была позвонить им, считала это своим долгом, и все же звонок был мучителен для нее, как будто это она, Карианна, трезво и расчетливо наносила им сокрушительный удар.
Домой она вернулась поздно, уставшая, заплаканная, с ноющей головой. Поднимаясь по лестнице желтого каменного дома на Тересесгате, Карианна вспомнила, что ей сегодня надо было на тренировку.
Войдя в темную квартиру, она зажгла верхний свет, стянула с себя куртку и сбросила на пол сапоги. Затем она повернулась к двери в гостиную и заморгала при виде гнома, сидевшего в стареньком кресле Мимми.
— Я хотел бы пожелать тебе всяческого благополучия, — деловито произнес он. — Надеюсь, мой скромный подарок доставит тебе несколько приятных минут.
Гном соскочил с кресла и направился по ковру к ней. В протянутой руке он сжимал пунцовую розу.
Карианна отвернулась и вышла в кухню за ведром и половой щеткой. Она бухнула в ведро стирального порошка, поместила его в мойку и открыла кран.
— Возьми же несчастный цветок и поставь его в вазу, — донеслось до нее сквозь шум текущей воды. — Ты заслужила его. — Голос был терпеливый, увещевающий.
Захватив ведро с водой, щетку и тряпку, Карианна прошла в уборную. Впечатление было тягостное: пятна засохшей крови на зеркале, на умывальнике, на унитазе, разводы на белом кафельном полу. Окунув тряпку в воду, она принялась мыть.
— Может, и не ототрешь, — поддразнил ее гном. — Кровавые пятна, говорят, остаются навсегда. Кровь людская — не водица, и не каждому дано в конечном счете стать белоснежным ангелом, даже если его омыть кровью агнца.
Она не слушала и не смотрела на него.
— Но на меня ты всегда можешь рассчитывать, — как ни в чем не бывало продолжал гном. — И хорошая работа требует вознаграждения. Я пока что поставлю твою розу в ведро, а ты уж найди времечко ею заняться.
Карианна закончила уборку, отжала тряпку и, выплеснув грязную воду в уборную, прошла на кухню.
— Как ты могла?! — притворно ужаснулся он. — Неужели не жалко прекрасного цветка? Что с тобой творится? Можно подумать, меня не хотят привечать в этом доме. А ведь говорят: коли мил сердцу, мил и дому. В сердце твоем как будто было для меня место, а?
Карианна завязала пластиковый пакет с мокрой одеждой, предназначенной на выброс, и собралась пойти на площадку и спустить его в мусоропровод, однако дальше кухонной двери ее не пустили.
— Отойди, — бросила она в пространство.
— Как же мне отойти, если я не существую? — лукаво спросил гном. — Проходи, пожалуйста. Путь свободен.
Она поневоле опустила взгляд вниз. Бесенок стоял на пороге, вытянув в сторону руки и что было силы упираясь в притолоки. Он улыбался, обнажая острые клыки на фоне узких красных губ.
— Если ты отойдешь, — пообещала Карианна. — Я, так и быть, выскажу тебе потом, что у меня на сердце.
— Ого-го! Дорого же ты готова заплатить за то, чтобы избавиться от этого мешка. Что ты там выбрасываешь?
Тем не менее он пропустил ее и низко поклонился, когда она с пакетом проследовала мимо в прихожую, а затем на лестничную площадку.
Когда Карианна вернулась, гном стоял в передней на комоде и, подбоченясь, с довольным выражением на косматой морде, смотрелся в зеркало.
Закрыв за собой входную дверь, Карианна прислонилась к косяку: у нее внезапно ослабли колени. Она тупо разглядывала темное пятнышко на желтой стене, под самым потолком, куда она незаметно для себя брызнула краской, проводя черную каемку вверху.
— Тебя не существует, — четко и раздельно вымолвила Карианна. — Как не бывает ангелов и дьяволов, как не имеют никакой силы стишки и заговоры, как нет другого мира, кроме того, в котором мы живем. Так что мои желания ни на что не влияют. А ты… Ты не существуешь. И будь добр, сгинь отсюда, дай мне жить, как я умею.
Он повернул голову к ней и осклабился, желтые глазки заблестели весельем.
— Иди сюда, милая, — ласково произнес он, — встань на полу сзади меня и посмотри-ка в зеркало. А потом скажи, кого ты там видишь и кого не видишь.
— Вали отсюда! — заорала она.
— Кое-кого можно завлечь в поток или в песок, — продолжал гном, мечтательно глядя в дымчато-серую поверхность зеркала. — Другие не позволяют так просто от себя отделаться. Смотри не смотри, а в твоем зеркале много разных картинок. — Он поднял руку и прикоснулся к стеклу кончиками пальцев. Жест был нежный, едва ли не любовный. И вдруг бесенок резко повернулся и, спрыгнув на пол, насмешливо уставился снизу вверх на Карианну. — Но я знаю одну особу, которой никогда не увидеть там того, что ей хочется, если она будет смотреть обычным способом. Бедная ты, бедная! А еще бедные те, на ком ты задерживаешь свой взгляд!
— Я больше не собираюсь слушать твои угрозы, — сказала Карианна. Она сорвала с вешалки куртку, сунула ноги в сапоги и перекинула сумку через плечо. — Ты просто обманщик и врун, от тебя ничего не зависит. Ты умеешь только болтать языком.
— Однако ты растешь над собой, — отвечал гном. — Неплохо придумала. Но все-таки пораскинь мозгами, может, еще до чего додумаешься…
— Не усердствуй, — с серьезным видом сказала Карианна, берясь за замок. — На этот раз тебе меня не соблазнить. Я гораздо лучше обхожусь в этой жизни без твоей помощи. Сейчас я иду к Даниэлу, а с тобой я не желаю иметь ничего общего, нравится тебе это или нет. Так что катись-ка туда, откуда пришел, а цветы можешь преподносить кому угодно, только не мне.
— Да ты понимаешь, что плетешь? Ну ладно, перечить не стану, пусть будет по-твоему. Больше вы меня, фрекен, не увидите, пока сами того не захотите.
Прикрывая дверь снаружи, Карианна увидела гнома в щелку: он низко кланялся ей, второй раз за этот вечер. Она щелкнула замком и пошла вниз по лестнице с неприятным ощущением, что дала обратить себя в бегство.
Она не могла сказать, кто из них двоих настоял на своем.
4
Все обернулось как нельзя более грустно.
Карианна много раз пыталась пробиться к Рут в больницу. Ее не пускали. Сначала уклончиво объяснили, что Рут еще слишком слаба для посещений, потом сказали, что больная отказывается видеть ее. Карианна расстроилась и оскорбилась. Медсестра, с которой она разговаривала, отнеслась к ней сочувственно, но была непоколебима. Бывают случаи, заметила она, когда люди, чем-то удрученные, направляют свою агрессию против близких, да-да, как раз против тех, к кому они на самом деле больше всего привязаны. Это пройдет, но пока что Карианне следует держаться в стороне и дать Рут возможность самой разобраться в своих проблемах.
Через неделю Рут перевели в психиатрическое отделение. Однажды Карианну посетили на Тересесгате родители Рут. Они хотели поблагодарить ее за поддержку, которую она оказывала их дочери. Они даже не подозревали о том, что с ней происходит, а Рут, видимо, уже давно была в тяжелом состоянии. И если бы Карианна тогда не пришла… Если бы она не отправила Рут в больницу…
Фру Бернтсен заплакала. Ну почему Рут решилась на такое? Чего она не могла больше выносить? И ведь не подумаешь… Когда Рут приезжала на Рождество, все было…
Конечно, Карианна боялась им рассказывать, но… Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. И пусть Карианна простит Рут её навязчивую идею, её неприязнь… Доктор сказал, что это тоже симптом болезни. Да, они имели беседу с одним из врачей. И долгую. Он был очень любезен, говорил не спеша, подробно… Рут обязательно поправится, обстановка там приятная, совсем не мрачная и не гнетущая, как они представляли себе. Там и группы общения есть, и… А Рут все рвется оттуда, хотя любому видно, что она серьезно больна, она так похудела! И цвет лица ужасный. Они только хотели поблагодарить Карианну. А с Рут все образуется. Все будет хорошо.
Но почему? Что подтолкнуло ее? Может, тут их вина? Как Карианна считает? Может, они еще в детстве допустили какую-нибудь ошибку?..
Тяжко. Сразу после их ухода Карианна побежала к Даниэлу: она не могла сидеть одна в пустой квартире и кукситься.
Примерно неделю спустя Даниэл перевез свои вещи на Тересесгате, и у Карианны на душе стало светлей. Однако Рут упорствовала в своем нерасположении к Карианне, и через несколько недель приехали ее отец с зятем и забрали мебель, одежду, книги и прочее. Карианна всплакнула, помогая им укладывать коробки. Очень все было грустно…
Раза два Карианна звонила в больницу, чтобы справиться о самочувствии Рут. Отвечали уклончиво, как ей показалось, натянуто. Впрочем, Рут, по их словам, понемногу выздоравливала. Пришлось поверить.
Но посещать Рут ей все равно не разрешили.
Если бы не Даниэл, Карианна и сама могла бы в это время впасть в серьезную депрессию. Но он нес с собой радость, он приносил удовольствие ее телу, он был ее повседневной отрадой. Если Карианну одолевала тоска, она тут же вспоминала про него: у нее был Даниэл, он ждал дома, сидел вечерами за столом, спал каждую ночь рядом, по утрам раскладывал в гостиной свои учебники. Он утешал и поддерживал ее.
Май тоже подбадривала Карианну. Иногда приходится брать на себя ответственность за наших близких и решать за них, говорила она, хотя такое решение не всегда сразу понимают и оценивают по заслугам, иногда даже сердятся за него. Но как иначе могла поступить Карианна? Оставить Рут истекать кровью?
— Ты вела себя как взрослый и ответственный человек, — твердила Май. — Не больше и не меньше. Понимает Рут это или нет, а ты очень помогла ей, Карианна.
— Она как раз не понимает! — вздохнула Карианна. — Это совершенно ясно. А я беспокоюсь за нее.
Май погладила Карианну по голове, уверенной и ласковой рукой. Конечно, Карианна беспокоится. Когда человек попадает в такую историю, как Рут, это очень грустно, очень досадно. Но Рут помогли, и все обошлось. Рут надо только примириться с больницей, тогда она наверняка примирится и с тем, что поместила ее туда Карианна.
Надо дать Рут время. Все образуется.
5
Постепенно Карианнина жизнь обрела некий радостный ритм. Даниэл, тренировка, Даниэл, работа, Даниэл, Май и снова Даниэл.
В промежутках они ругались: их бурные и непонятные ссоры вспыхивали на ровном месте и столь же быстро затухали. Часто они сцеплялись из-за политики. Даниэл так кичится своей политической деятельностью, а чего ею можно добиться? В мире все равно происходит черт знает что, злилась Карианна. Афганский народ на грани истребления; Палестина существует только как политическое понятие и мечта, которую лелеет кучка голодных, опустившихся беженцев; половина населения земного шара прозябает в жутких условиях; в Южной Америке исчезают тропические леса, а вместе с ними и коренные жители, индейцы; миру угрожает экологическая катастрофа, хотя, судя по всему, ее опередит ядерная война. И что? Что, по мнению Даниэла, он может сделать против всего этого? Своей бешеной активностью он лишь пытается заглушить собственную тревогу, чтобы ощутить себя порядочным, ратующим за других человеком.
Даниэл приходил в ярость, когда слышал такое. От бессильной злости они с Карианной принимались топать друг на друга ногами, как дети. Примирение было столь же неистовым: зажигательные поцелуи, зажигательная постель. После этого они жили душа в душу до следующего раза, когда что-нибудь вызывало новую грозу.
В марте они поехали в гости к его сестре и зятю, которые жили в стандартном домике на юго-востоке от Осло, в Энебакке. Карианна еще не встречалась с ними. Они произвели на нее хорошее впечатление. Сесилия была высокого роста, несколько угловатая, на вид лет тридцати пяти: Эйвинну было ближе к сорока, чернобородый и плотный, он был почти такой же смуглый, как Даниэл, только с голубыми глазами и ярко выраженными европейскими чертами лица.
За ужином, как раз когда Карианна начала чувствовать себя свободнее, Сесилия сказала между двумя вилками домашней пиццы с креветками:
— Кстати, Даниэл, можешь нас поздравить. Мы получили разрешение усыновить ребенка.
Даниэл хмыкнул.
— Вы, значит, не раздумали?
— Даниэл! — укоризненным и в то же время уступчивым тоном проговорила Сесилия. — Конечно, нет! Ты же знаешь, мы очень довольны.
— Но помучили нас здорово, — прибавил Эйвинн. — Сесси особенно досталось. Ты ведь сильно переживала, когда они уперлись из-за того, что мы атеисты, правда?
— Теперь все позади, — сказала Сесилия. — По крайней мере эта сторона дела улажена. Хотя нам еще ждать и ждать. Сейчас вопрос в том, понравимся ли мы как приемные родители в Колумбии. Потом — найдется ли ребенок, по их мнению, подходящий для нас. Затем надо пропустить через бюрократическую машину массу бумаг, на это уйдут месяцы. В общем, волокита.
— Это может тянуться год, — заметил Эйвинн, — а может, нам позвонят завтра и скажут собирать чемоданы и ехать.
Карианна окаменело сидела на диване.
— Эйвинн и Сесси хотят взять ребенка из Колумбии, — пояснил ей Даниэл.
Она молча кивнула.
— Даниэл еще не вырос из юношеского максимализма по отношению к родителям, — с нежностью в голосе произнесла Сесилия, — поэтому он не слишком одобрительно относится к нашей затее.
— Ну, знаешь! — вскипел Даниэл. — Мои нелады с ними не играют тут никакой роли, и тебе это прекрасно известно! Кому-кому, а мне не на что жаловаться. Разве я когда-нибудь утверждал, что мне было плохо?
— Не будем уточнять, — проговорила Сесилия тоном старшей сестры, — но кое-какие претензии я все же помню. Ты забыл, как носился со своими идеализированными представлениями о биологической семье?
— Да это когда было? Шесть лет назад! У меня тоже, между прочим, найдется что рассказать о тебе в шестнадцать лет.
— Э, нет! — вмешался Эйвинн. — Я предпочел бы обойтись без подробностей.
— Мне жилось прекрасно, — продолжал Даниэл, — со мной никакой несправедливости не было. А с теми, кто зачал меня? Тебе не приходило в голову, что с ними поступили нечестно?
Сесилия наклонилась вперед, сердитая, усталая и беспомощная.
— Приходило! Но никто из нас в этом не виноват! Ни папа, ни мама, ни я… Несправедливость свершилась до того, как мы тебя взяли. По-твоему, лучше бы ты остался в этом треклятом приюте?
— Я этого, черт подери, никогда не говорил! — отвечал Даниэл. — Перестань обращаться со мной, как с сопливым мальчишкой, Сесси, прислушайся к моим словам! А я утверждаю, что европейцы — добрые, прогрессивные и сознательные, такие, как вы! — имеют свою корысть, импортируя детей из «третьего мира». Мало того, что наши страны и довели его до голода и нищеты, но даже несчастных малышей, которыми там некому заняться, даже их мы заставляем служить своим интересам, да еще умудряемся прослыть милосердными и порядочными!
— Ну-ну. Даниэл, — миролюбиво произнес Эйвинн, — мы все это уже обсуждали. Не думай, нами движет вовсе не великая идея помощи «третьему миру». Это чистой воды эгоизм: мы хотим ребенка, но не можем сами его завести. А в других странах есть тысячи детишек, которым хочется родителей. В некоторых местах они, сам знаешь, мрут как мухи. У них нет своих родителей. Они живут в переполненных приютах, недоедают. Что будет плохого, если мы привезем такого ребятенка сюда? Он будет желанным. И мы будем нужны ему. Даже если он не похож на среднестатистического Улу-норвежца и у него будут из-за этого некоторые сложности, все равно ему лучше вырасти здесь, чем помереть в какой-нибудь городской трущобе Индии или Южной Америки, так ведь?
— Я вовсе не имел в виду, что это будет плохо, — угрюмо пробурчал Даниэл. — Я только хочу сказать, что страдания и гибель тысяч детей не прекращаются оттого, что мы выбираем из них горсточку самых крепких, самых умных и самых симпатичных и используем вместо инъекции витаминов для нашей склонной к меланхолии норвежской души.
— Это ты переборщил, Даниэл! — сказала Сесилия. — Как у тебя язык поворачивается говорить такие вещи?! Неужели ты считаешь, мы все не взвесили? Да я уже четыре года ни о чем другом не думаю. Мы оба думали, рассуждали вслух, копили деньги, добивались этого права — и тут появляешься ты со своей навязчивой идеей и утверждаешь, что… — Она всхлипнула и, передернув плечами, без сил откинулась сухощавым телом на спинку стула. Затем она встала и, пробормотав извинение, торопливо удалилась.
— Я бы на твоем месте пошел и попросил прощения, Даниэл, — сказал Эйвинн. Он наклонился вперед и пристально смотрел на шурина, его густые темные брови сдвинулись вместе, образуя прямую линию. — Да ты понимаешь, что такое для женщины в двадцать семь лет, только что выйдя замуж, узнать о своем бесплодии? Для Сёсси это был жестокий удар, и ты уже не мальчик, должен учитывать такие тонкости. Она, конечно, в свое время помогала родителям баловать тебя, но это еще не повод, чтобы теперь обращаться с ней как с последней сволочью!
— Я думал, с ней можно обращаться как со взрослой! — вспыхнул Даниэл. — Хотел трезво обсудить проблему, а тут… А, дьявол! — Он вскочил и с виноватым видом поспешил следом за сестрой.
Эйвинн откинулся на спинку стула, вздохнул и, криво усмехнувшись, посмотрел на Карианну.
— У меня у самого есть сестра, — сказал он. — Мы иногда тоже ссоримся так, что перья летят. А у тебя есть братья-сестры?
Карианна покачала головой.
— Тебе-то уж, во всяком случае, не за что извиняться, — чуть слышно проговорила она.
Через некоторое время Даниэл с Сесилией вернулись, примиренные, обнимая друг друга за плечи. У Сесилии немного опухли глаза, но она улыбалась.
— Даниэл иногда бывает совершенно невыносимым, и все же у меня чудный братик. Ох, вечно я обращаюсь с тобой как с маленьким, — обернулась она к Даниэлу. — Я знаю… и постараюсь исправиться.
Даниэл на миг прижал ее к груди и объявил: пускай заводят себе детей всех цветов и оттенков, он не против, ни ему, ни детям от этого не будет никакого вреда. Он подошел к Карианне и сел рядом на диван, долго без слов, испытующе смотрел на нее, стискивая ей руку, потом перевел взгляд на Эйвинна и предложил сбегать с ним в подвал, нацедить еще их яблочного вина домашнего приготовления.
Дело кончилось возлияниями и трепом, и еще долгой дискуссией о том, какие политические взгляды за последние полгода отражала газета «Классекампен» в своих статьях на международные темы. Карианна молча отсиживалась в своем уголке, а когда Даниэл спросил, что с ней, сослалась на усталость.
Ее притягивало к себе лицо Сесилии, крупный рот с небольшими острыми зубами. Кажется, Карианна еще в жизни не встречала такого алчного рта.
Они остались ночевать, поскольку вечером в пятницу с автобусами на Осло было напряженно; домой они поехали наутро. Карианна сидела, прильнув щекой к плечу Даниэла и через него ощущая движение автобуса по шоссе; она почти не поддерживала беседу и на вопрос Даниэла ответила, что плохо себя чувствует.
— Да, вино у Эйвинна все-таки оказалось паршивое. Мне оно тоже не пришлось, — сказал Даниэл, весело тряхнув своей черной шевелюрой. Карианна молча кивнула и еще крепче прижалась к нему.
Проходя по Эгерторгет, они увидели старика: он сидел у дощатого забора рядом с закрытым спуском в метро и кутался в широкое неряшливое пальто. Его седовато-русые волосы были растрепаны; сидя без шапки под мартовским снегом, он тщетно пытался извлечь какие-то звуки из замерзшей губной гармошки. Даниэл задержался, вытащил несколько монет и положил ему в шляпу. Карианна ждала поодаль и, когда Даниэл нагнал ее, прибавила шагу, не поднимая на него глаз.
— Что с тобой? — спросил Даниэл. — Куда ты так торопишься?
— Магазины скоро закрываются, — коротко бросила она. — А нам надо купить на завтра молока и что-нибудь к обеду.
— Но мы всегда можем забежать в «Лоренцен»! — возразил Даниэл.
— Я не хожу в это мерзопакостное заведение! — отрезала Карианна. — Меня тошнит от его шика.
— Господи, спаси и помилуй! Что случилось?!
— Ты со своей сестрицей — два сапога пара! — в бешенстве заорала она, поворачиваясь к Даниэлу. — Двое избалованных, спесивых мелких буржуа! Пытаются, видите ли, всех облагодетельствовать, изображают заинтересованность, проявляют сочувствие, милосердие! Все это вам ничего не стоит! Вы живете в достатке, не рискуете собственной шкурой, не отдаете последнее! Вы делитесь крохами! По-моему, это гадко…
— Ты злишься из-за моей работы в Афганском комитете, — спросил он подозрительно спокойным голосом, — или из-за мелочи, которую я только что подал нищему?
— Не вижу большой разницы, — прошипела Карианна. — Ты небось упивался своим благородством, когда бросал ему несколько эре от щедрот своих, да? А тебе не кажется, Даниэл, что он с лихвой отплатил за подачку? Своим достоинством, своим самоуважением…
— Убиться можно! — вскричал Даниэл, хватаясь за голову, их перебранка привлекла внимание двух проходивших мимо девчонок в хихикающем возрасте. — Да не я же выгнал его на улицу и посадил туда! Если хочешь знать, я совсем не в восторге от того, что он там сидит, но, по мне, пусть он лучше просит помощи там, чем валяется где-нибудь в темном углу, подальше от людских глаз! Неужели ты думаешь, ему важно, почему ему дают деньги? Неужели ты думаешь, что афганских партизан волнует, чистая или нечистая совесть у норвежцев, собирающих им на оружие и на медикаменты? А? Неужели ты считаешь, что полумертвый от голода эфиопский ребенок хоть на минуту задумается о том, кто пожертвовал пять крон, чтобы он выжил, получив еду и питье? А? Опять скажешь, подавший пятерку спасал свою душу? Пропади все пропадом, Карианна, такой эгоистки…
— Я по крайней мере не лицемерю! — кинула она ему в лицо, но Даниэл не дал перебить себя:
— …такой эгоистки и такой дуры я еще не видел. Этот старик, сидящий на улице, теперь недосчитался десятки, ясно? И знаешь почему? Вот-вот, чтобы ты могла хранить в чистоте и невинности свой нелицемерный пессимизм. Как ты думаешь, кого из нас он считает гадким?
Карианна тупо посмотрела на него, потом развернулась на месте, сделала несколько шагов вверх по улице, не обращая внимания на его крик вдогонку, остановилась возле бездомного нищего, рывком открыла сумку, вынула кошелек, бросила ему в шляпу бумажку в сто крон, повернулась и зашагала обратно, с плотно сомкнутыми губами и испепеляющим взором.
— Доволен? — сдавленным шепотом спросила она и, не останавливаясь, чтобы подождать Даниэла, убедиться, что он идет за ней, устремилась дальше вдоль Карл Юхан. В своей ярости она не видела его ладной фигуры, тенью следовавшей по правую руку от нее, не слышала его голоса, не замечала его смеха.
— Карианна! — задыхался он. — Нет, Карианна, ты… ты ненормальная! Да-да, ты совершенно замечательная психопатка. Ты… ты просто замечательная!
Они почти дошли до Национального театра, и Карианна больше не могла отгораживаться от Даниэла, она чувствовала, что у нее начали подрагивать уголки губ.
Черт возьми! Вечно ему удается ее рассмешить.
— Послушай, — сказала Карианна, когда они уже были дома, на Тересесгате, и она стояла в кухне и резала к обеду мясо из супа. — Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, наша с тобой ссора очень похожа на твою вчерашнюю перепалку с сестрой, только сегодня ты занял противоположную позицию.
— Как тебе сказать, — задумчиво произнес он. — Н-н-нет, я не согласен, тут ты ошибаешься. А знаешь, что я подумал?
Он мыл пол в коридоре и теперь встал, опираясь на щетку, и улыбнулся Карианне через проем кухонных дверей.
— Я подумал, — продолжал он, — что никак не возьму в толк, почему тебе нравится моя мама, если ты так нетерпима к буржуазной благотворительности.
— Май? — переспросила Карианна, оборачиваясь к нему. — Май вовсе не такая!
— А вот и такая! — отвечал он. — Именно такая. На самом-то деле. И я лично не вижу в этом ничего плохого. Меня вполне устраивает, что она жертвует деньги Красному Кресту и Церковному обществу помощи нуждающимся, если она заодно будет оказывать поддержку и Афганскому фонду. А она так и делает.
— Я не на это ополчилась, — возразила Карианна. — Понимаешь, я про…
— Про самодовольство от такой деятельности? — высказал догадку Даниэл. Она молча кивнула.
Он хмыкнул и снова принялся за пол, вид у него оставался задумчивым.
— Во всяком случае, лучше делать что-то, чем ничего, — заключил он по прошествии некоторого времени.
Лучше делать что-то, чем ничего.
Эта фраза еще долго продолжала звучать у нее в ушах. В ближайшую среду она купила коробку конфет и большой пакет винограда и после окончания работы отправилась прямо в больницу.
— Я хотела бы навестить Рут Бернтсен, — сказала она в приемной. — Из психиатрического отделения. Как туда пройти?
— Я позвоню и сообщу им, — сказала служительница и, взяв телефонную трубку, набрала номер. — Посетители к Рут Бернтсен, — проговорила она в телефон, затем подняла взгляд, одарила Карианну улыбкой и попросила ее сесть и подождать.
Вестибюль был громадный и довольно мрачный. На противоположной стороне находился киоск, у окна стояли в вазах высокие цветы, тут же был автомат с минеральной водой, а в углу — обтянутый кожей диван и два кресла. Карианна села. В киоске, как выяснилось, продавались фрукты, так что она чувствовала себя довольно глупо со своим виноградом. По коридору, держась за специальное кресло для ходьбы, прогуливалась седовласая худая дама, ее сопровождала женщина средних лет — вероятно, дочь или невестка. Ждать пришлось долго, так, во всяком случае, показалось Карианне. И вдруг перед ней выросла Рут.
— Здравствуй, — улыбнулась Карианна, вставая. — Я все время вспоминала тебя. Как твои дела? — Она протянула коробку с конфетами.
Рут не пошевелила пальцем, чтобы взять их. Она стояла с каменным лицом, сосредоточенно глядя на Карианну. Вид у нее был не больной — она больше не казалась осунувшейся, на щеках появился слабый румянец.
— Зачем ты пришла? — спросила она наконец.
— Зачем? — смущенно повторила Карианна. — Чтобы поговорить с тобой, узнать, как дела…
— Все в порядке, — сказала Рут и, повернувшись, собралась уходить, но Карианна за локоть остановила ее.
— Рут! Мне очень жаль, что ты… Почему ты сердишься на меня? У меня не было другого выхода.
Рут обернулась, лицо ее по-прежнему было бесстрастным, может быть, чуть грустным.
— Я не могу, Карианна, — сказала она. — По-моему, нам не о чем говорить.
— А по-моему, есть! — выпалила Карианна. — Не уходи, Рут. Давай поболтаем. Хоть немножко.
— О чем? — Рут насупила брови, в лице проступило некоторое оживление. — О том, как ты нарочно загнала меня в положение, страшнее которого у меня не было за всю мою жизнь? Ты хочешь, чтоб я рассказала про тот случай, когда я исчезла в гостиной на глазах у семи больных? И, вернувшись, застала невероятную суматоху и должна была оправдываться, врать, успокаивать бьющихся в истерике соседок и переволновавшихся сестер, после чего обо мне пошла слава зловреднейшего создания, меня признали тяжелым случаем и все стали шарахаться от меня? Ты это хочешь услышать?
— Рут! — взмолилась Карианна, однако Рут не дала прервать себя.
— Может, тебе рассказать про мое исчезновение из уборной? — продолжала она. — Или про то, как я вечером до смерти перепугала в коридоре санитарку, или про то, как меня честят, потому что я постоянно «прячусь», не желаю приспособиться к обстоятельствам, пойти на сотрудничество, обсудить свою проблему в группе? Может, ты хочешь услышать, чего мне стоила кошмарная первая неделя?
— Как ты не понимаешь, Рут? — в отчаянии проговорила Карианна. — Я должна была… Я хотела только помочь тебе… Мне сказали, что ты поправляешься!
— Вот это да! — Злость уступила место неприкрытому изумлению. И тут же Рут усмехнулась. — Ах, вот как они повернули дело? Рут была больна, но теперь она поправляется? И все-таки тебя замучили угрызения совести, верно?
— Рут, — сказала Карианна, — ты пыталась покончить с собой. Ты перерезала себе вены. Неужели не помнишь? Если бы я не отправила тебя в больницу, ты бы истекла кровью. У меня не было выхода. По-моему, я не давала тебе повода так обращаться со мной.
Рут вздохнула. Ее лицо и голос вновь обрели бесстрастие, усталый, серьезный взгляд стал непроницаемым.
— Значит, так, — неторопливо и четко проговорила она. — Я действительно могла истечь кровью, и тебе пришлось отвезти меня в больницу, чем ты, вероятно, спасла мне жизнь. Ты поступила правильно, и за это тебе большое спасибо. Но тебе вовсе не обязательно было объявлять меня сумасшедшей и тем более укладывать в психушку. Если ты хотела отделаться от меня, могла бы просто отказать мне от квартиры. Я не пыталась покончить с собой, Карианна, и ты это прекрасно знаешь… Я перенеслась в море, там было темно и холодно, я с трудом выплыла на поверхность… скалы там были покрыты чем-то острым, наверное ракушками. Они царапали меня…
Теперь взгляд у нее был отсутствующий, верхняя губа скривилась, как от боли.
У Карианны веки набухли слезами.
— Мне сказали, что тебе стало лучше, — беспомощно повторила она.
Рут снова посмотрела на Карианну.
— Все верно, — сухо заметила она. — Конечно, мне лучше. Я научилась управлять процессом. Я не могу совсем воздержаться от этих… путешествий. Но могу на время упереться, а потом — скажем, ночью, когда никто не видит, — как бы отпустить себя. В тот вечер я почти поняла это. Ты была в некотором роде права: у меня в голове возникает особое ощущение, которое поддается тренировке. Я научилась контролировать себя через несколько дней после того, как попала в больницу. Так что, конечно, мне лучше. Теперь самое главное — выбраться отсюда, а это, благодаря твоим стараниям, очень непросто.
Видеть Рут такой было тягостно. Черты вроде знакомые, а в глазах ни капли тепла, лицо застывшее, суровое, полное неприязни.
— Если ты считаешь, что я причинила тебе горе, — тихо сказала Карианна. — Если ты действительно так считаешь, не могла бы ты простить меня?
Рут поразилась, потом со вздохом произнесла:
— Ты это несерьезно, а? — Голос ее звучал скорбно, почти смиренно. — Очень трудно прощать людей, которые не понимают, за что им следует просить прощения.
Пожав плечами. Рут повернулась и медленно пошла через вестибюль к лифту. Карианна глядела ей вслед, застыв на месте с конфетами и виноградом в руках.
Рут не запретила ей приходить, но Карианна почувствовала, что дальнейшие посещения исключаются.
Она поехала домой, к Даниэлу, и расплакалась там, опечаленная абсурдом, который портит жизнь ее подруги.
В больницу она больше не звонила, о самочувствии не справлялась, но в начале мая Карианна через мать Рут прослышала, что она выписалась и живет в реабилитационном пансионате неподалеку от больницы. Ей дали и адрес, но она не воспользовалась им. У Карианны не было больше сил думать о Рут.
Был погожий, душноватый день на исходе мая. Они только что поели. Карианна сидела в кресле и клевала носом над иллюстрированным журналом. Ее клонило в сон и побаливали ноги, потому что накануне вечером у нее была трудная тренировка: Карианна уже имела желтый пояс, и теперь тренер гнал ее, чтобы успеть до лета получить красный.
Она слышала; как Даниэл выключил душ. Потом он, свежевыбритый, босиком пришлепал в гостиную — Карианна уже задремала и вздрогнула, когда он провел ей пальцем по шее. Она вздохнула, улыбнулась и, не открывая глаз, шеей и плечами дала ему знак: Да, можно подойти ближе. И тут же почувствовала щекой его лицо, кожа была нежная, гладкая после бритья, волосы на голове мокрые.
Карианна лениво потянулась. Благодать… Она была в майке и легкой полотняной юбке, босая — жарко, двадцать три градуса в тени. Она наслаждалась теплом, собственным телом и запахом Даниэла, ароматом чистого, еще не обсохшего мужчины. Он лизнул ее в ухо. Она открыла глаза и от неожиданности рассмеялась.
— Какой мокрый звук! — сказала Карианна.
— Кстати, о мокром, — подхватил Даниэл. — Не сходить ли нам выпить пива? Мы давно нигде не были.
— Не далее как в прошлый вторник! — возразила она. — А деньги у нас есть?
Он уселся на ковер перед креслом и приложил щеку к ее коленям.
— Если ты угощаешь. У меня получка завтра. — Даниэл подрядился на временную работу в книжный магазин.
— О'кей. На пару кружек у меня хватит.
— Тогда попробуем сходить в «Крестьянский двор», раз погода хорошая, — предложил он, своей широкой смуглой рукой гладя Карианнину ногу.
— Ммм, — сказала она.
— Гм-м-м? — спросил он и полез по ноге выше.
— Ммм, — сказала она, напоминая самой себе невод с попавшим в него косяком сельди, который она когда-то видела в кино: в ней словно тоже кишело множество трепыхающихся серебристых рыбешек. — Ммм, — повторила она, когда его пальцы пробрались под оторочку ее мини-трусиков. — О-о-о! — сказала она, приподнимаясь, чтобы ему было легче снять их. После чего оба надолго умолкли.
Его руки, его дыхание, его губы, его вкрадчивый язык… Карианна хотела сползти к нему на пол, но Даниэл не позволил, он придержал ее губами и руками, взял с собой в головокружительное путешествие, окончившееся вихрем, водоворотом и гладкой круглой жемчужиной в распахнутых створках раковины…
Карианна застонала и, обхватив его голову, запустила пятерню во влажные черные волосы, она не могла отдышаться, все продолжала трепетать.
— Сумасшедший, откуда ты знал?..
— Что знал? — переспросил он. — Что в такую погоду надо сходить в «Крестьянский двор»?
— Да ну тебя, — сказала она и, привстав, обессилевшими пальцами стянула с себя оставшуюся одежду и соскользнула на пол; в какой-то момент их путешествия Даниэл умудрился снять свои штаны, и они лежали горкой под столом. — Ты потрясающий, — прошептала Карианна. — Я люблю тебя, Даниэл.
Он был крепко сбитый и золотистый, волосы на его теле были черные как смоль, красивее его не было никого на свете. Карианна легла рядом, обняла его и стала гладить, сначала неторопливо, спокойно, затем все более пылко и безрассудно и наконец полностью отдавшись страсти, хотя и отметив про себя удивительную отрешенность в его глазах, появившуюся в минуту наивысшего блаженства: взгляд выдавал его беззащитность, чуть ли не боль. Даниэл был в ее сердце, в ее теле, в ее глазах…
— Мед и свежие булочки, — тихо прошептал он ей на ухо, — пудинг с карамельным соусом и холодное пиво в жаркий летний день.
— «Крестьянский двор» слишком далеко, — заныла она, поудобнее пристраивая голову у него на плече. — Тебе не тяжело?
— Ерунда, — сказал он, стискивая ее в объятиях. — Мы испачкали бабушкин ковер. Что бы она, по-твоему, сказала, если бы увидела, для чего мы его приспособили?
— Спорим, что она смотрит с небес, — радостно отвечала Карианна, — и от всей души благословляет нас. «Молодцы, ребята!» — говорит Мимми. По-моему, так.
Лежать на полу все же не самое удобное, и они встали и собрали одежду, разбросанную под столом и на креслах, потом Карианна приняла душ. Когда они были готовы выходить, начался дождь: планы насчет ресторана под открытым небом пошли прахом. Вместо «Крестьянского двора» Карианна с Даниэлом отправились куда глаза глядят и в конечном счете попали в «Казино», где заказали луковый суп — самое дешевое блюдо меню — и бутылку красного вина на двоих; они просидели вечер за этой бутылкой и вышли из ресторана перед самым закрытием. Дождь прекратился, но было пасмурно и ветрено. Карианна дрожала от холода в своем тоненьком плащике.
— Замерзла? — спросил Даниэл, останавливаясь у освещенной витрины магазина на Пилестредет. Он привлек Карианну к груди и поцеловал. — Ну вот, — пробормотал он, — нос совсем холодный.
— У тебя тоже, — отозвалась Карианна, прильнув щекой к его крупному, широкоскулому, любимому лицу.
Они не заметили подходивших людей, пока не услышали голос, хотя ног топало изрядно, а улица была пустынна, за исключением случайных машин, проносившихся по ней и разбрызгивавших в стороны воду из луж. Время было позднее, Даниэл с Карианной сильно замешкались в парке.
— Ни фига себе! — сказал кто-то за спиной у Карианны. — Совсем обнаглели, уже берутся лапать наших девочек посреди улицы.
Карианна вздрогнула и хотела обернуться, но руки Даниэла напряглись и не пустили ее, она замерла в оцепенении. Потом он высвободил ее из объятий, хотя продолжал одной рукой придерживать за плечи, и они обратились лицом по ходу движения и пошли дальше по тротуару… свет… тень… свет… тень… свет… Голоса и смех двинулись следом.
— Посмотрите-ка на Али! — выкрикнул срывающийся, преувеличенно нахальный мальчишеский голосок. — Небось уже наложил в штаны, а?
— Эй ты! — позвал первый голос. — Погоди минутку, у нас к тебе разговор!
— У тебя что, язык отсох, пакистанское дерьмо?! — вступил новый голос. — Или по-норвежски ни бум-бум?
— Отвяжитесь! — не оборачиваясь, бросил Даниэл.
— Он еще огрызается! — заметил первый голос, тот, что был побасовитее. — Покажем ему, ребята? Научим уму-разуму?
— Нам здесь только грубиянов пакистанцев не хватало для полного счастья, — заметил звонкий мальчишеский голосок.
— Он никакой не пакистанец, — сказала Карианна в пустоту. — Оставьте нас в покое и идите своей дорогой.
— Придержи девчонку, — велел басовитый голос, и Карианну схватили за плечи, сдавили ей горло — все случилось так внезапно, что она на мгновение остолбенела, не веря в реальность происходящего.
Даниэл резко повернулся и незнакомым, глухим голосом проговорил:
— Пустите ее.
Теней было три… или четыре?., может, даже пять?.. Карианна оправилась от неожиданности и стряхнула с себя цепкие руки.
— Говоришь, не пакистанец? — глумливо продолжал бас. — Кто же ты в таком случае? Уж не из Марокко ли? Ездят тут всякие — портить наших девчонок и сбывать наркотики нашим ребятам…
— Я цыган, — сказал Даниэл и прибавил несколько слов, которых Карианна не разобрала: похоже было на ругательство, хотя, насколько она знала, он умел по-цыгански только благодарить за обед.
Они ударили его… или это он нанес первый удар? Карианна не разглядела, ее снова схватили, заломили руки за спину, она наклонилась, согнула ноги в коленях и, как ее учили, круто развернулась — все это совершенно машинально, бессознательно, ее тело действовало само по себе. Развернувшись, она ударила ногой, точно попав в живот, затем наметилась в висок, но этот удар не получился, она плохо сжала кулак; Карианна отступила на шаг от задыхающегося, скрюченного противника и увидела, что Даниэла приперли к стене темного кирпича и что рядом с ним суетятся трое, они беспорядочно налетают на него и бьют, бьют, бьют… Она услышала его крик: «Беги, Карианна! Звони в полицию!» Крик перешел в неузнаваемый стон, и она приросла к месту, пытаясь справиться с собственным телом, которое хотело только бить, расшвыривать, отгонять нападавших, но силы были слишком неравные… Тем временем ее противник очухался и снова подступал к ней, короткая вспышка света выхватила из темноты его лицо, это мимо проехала машина… Почему она не остановилась? Неужели не видно?! Лицо было простоватое и юное, он совсем мальчик, но крупный, рослый и, кажется, даже знакомый… Карианна пустилась бегом. Сзади послышалась топотня по мокрому асфальту, Карианна не обратила на нее внимания, она продолжала бежать, зная, что ее никто не догонит… Вверх по Пилестредет… Телефон, где здесь ближайшая телефонная будка? Она не помнила… может, надо было попробовать в противоположном направлении? Но тогда пришлось бы пробегать мимо них… Она бежала и бежала, сначала посреди мостовой, потом по тротуару на другой стороне, вдоль стены, окружавшей пивоваренный завод… Ни одного прохожего, лишь редкие автомобили, вот показалось такси, Карианна замахала руками, закричала, но шофер пронесся мимо. Запыхавшись, она ввалилась в телефонную будку возле Бишлетского бассейна и возблагодарила небо, что у нее нашлись в кармане две монеты по кроне, теперь телефонная книга, номер на первой странице. Карианна набрала и выдавила в трубку:
— На нас напали… Пилестредет, на той стороне от Фрюденлунна… Его бьют… Пожалуйста, скорей! — и тут же на миг впала в прострацию… Когда она пришла в себя, то подпирала стеклянную стену будки.
Карианна распахнула дверь и снова побежала по улице, уже обратно, она бежала и бежала, шлепая по лужам в этой нескончаемой дождливой ночи, она бежала и никак не могла добежать. Откуда-то из мрака донеслись отдаленные, постепенно приближавшиеся звуки сирены. Карианна бежала.
Добежав, она в первое мгновение ничего не увидела. Может, ошиблась местом?.. Где?.. И тут она разглядела на мокром тротуаре темный сверток под самой стеной. Карианна опустилась на колени в лужу и зашептала:
— Даниэл, Даниэл! Ты слышишь меня? Это я, Карианна… милый мой, любимый…
Душераздирающая сирена внезапно смолкла в двух шагах от нее, кто-то подошел, она обвила руками теплое тело, заслонила его собой от людей, которые возвышались над ними в ночи, от голосов, которые обращались к ней… Ее подняли на ноги, мягко, но настойчиво.
— Он умер, — сказали рядом.
Карианна невольно рассмеялась, сердито затрясла головой… Какие глупости! Кто это придумал такую ерунду про Даниэла? Или они имеют в виду кого-то другого? Наверное, в городе ведь тысячи жителей, каждую ночь кто-нибудь умирает.
— «Скорую помощь», — бросила она в пространство. — Вызовите «скорую помощь»!
— Пролом черепа, — сказал другой голос. — Надо перекрыть улицу. И пусть пришлют женщину, чтобы занялась бедной девочкой.
Она хотела к нему, но ее удерживали, она кричала и вырывалась, но ее не пускали. Голоса. Выхваченные обрывки фраз. Отдел по расследованию убийств… судебные эксперты… шок, врачебная помощь… дознание… В голове сумбур, никакой связи, разрозненные впечатления, голоса и лица, ни одного знакомого… Новые машины, полицейские в форме, кто-то в штатском, подошла женщина, обняла Карианну за плечи, завела негромкую, спокойную беседу, объяснила, что умер все-таки Даниэл. Карианна услышала свой вопль, пронзительный, визгливый, и наступила холодная тишина.
Карианна стояла на мрачной, мокрой от дождя улице, ее окружали люди, в штатском и в форме, наискось от тротуара было припарковано несколько полицейских машин с синими мигалками, рядом еще автомобили, мужчины в белых халатах… возле самой стены лежала темная фигура. Рядом присел на корточки человек с фотоаппаратом, вспыхнул блиц, много раз… Карианне это казалось бессмысленным. Кому понадобились снимки… его?.. С ней кто-то разговаривал, ее кто-то обнимал. Потом принесли носилки. Карианна отвернулась. Она заметила, что мерзнет.
— Ты была с ним близко знакома? — раздалось у нее над ухом. — Он был твоим возлюбленным?
Впервые за все время Карианна подняла взгляд на собеседницу: это была светловолосая, коротко подстриженная девушка, вероятно, ненамного старше Карианны, она говорила ровно, терпеливо, сочувственно.
— Да, мы живем вместе, — отвечала Карианна. — Недалеко отсюда.
— Как тебя зовут?
Карианна без запинки отбарабанила свои имя, фамилию, возраст и адрес. Потом то же про Даниэла. Года рождения она вспомнить не могла, ей стало неловко, но ее успокоили, что это не имеет значения. Его родственники? Она назвала Май.
— Нужно ей позвонить, — сказала Карианна. — Я хочу… Я хочу поговорить с Май. Он ведь не умер, правда?
Светловолосая девушка замешкалась с ответом, затем, вздохнув, произнесла:
— Увы, он таки умер.
Карианна замотала головой, она была уверена, что они ошибаются. Растерянно оглядевшись по сторонам, она спросила:
— А что, «скорая помощь» уже уехала? Где он? Я хочу к нему! Мне нужно быть рядом!
Но его уже увезли, объяснила блондинка, они вернутся к этому позже. Пускай лучше Карианна расскажет, что здесь произошло, как было дело.
На мгновение ей показалось, будто она слышит голоса, видит какие-то тени, чье-то лицо, кулак, занесенный для удара… И тут же все исчезло, Карианна беспомощно развела руками:
— Не знаю… Я… мы… Пожалуйста, позвоните Май сами.
Да-да, конечно, они позвонят сами. А Карианна пусть садится в машину, они отвезут ее к врачу, сегодня ее больше не станут донимать.
А потом были врачи, и новые расспросы, и укол, и кровать в незнакомой комнате, а проснувшись, Карианна увидела рядом Май, но совершенно не похожую на себя, с чужим, опухшим лицом. Карианна была сбита с толку: она явно ночевала в больничной палате, но она ведь не больна, у нее только небольшое головокружение, и она не помнит… Май и Руал забрали ее с собой в Саннвику, там они отвели ее наверх, в бывшую комнату Сесси, и уговорили прилечь, она послушала их, но сказала, что спать не будет. И тут же уснула.
Она проснулась посреди ночи и долго лежала, глядя в темноту. Через некоторое время она поднялась, зажгла стоявшую на тумбочке лампу под розовым абажуром и снова вытянулась на кровати, поверх одеяла, не отводя глаз от скошенного потолка мансарды, на котором остались отметины от скотча и кнопок. Карианна понимала, что произошло, и сохраняла полное спокойствие.
Спокойствие не покидало ее всю следующую — весьма напряженную — неделю. Она не плакала. Карианна и рада была бы выплакаться, да не получалось. Она рассказала все Май, Май рыдала, Руал тоже, и она не могла ничем утешить их, так же как не могла плакать вместе с ними. Карианна прожила в саннвикской белой вилле несколько дней. Она не видела в этом большого смысла, но хотя бы взяла на себя практические заботы: мыла посуду, готовила, ходила в магазин, в общем, пыталась помочь, чем только возможно. Она говорила и со своими родителями, постаралась успокоить их, удерживая при этом на расстоянии. Они не встречались с Даниэлом, Карианна не торопилась представлять его, да и он не рвался к ним в гости, так что родители знали о нем только понаслышке. Теперь это было неважно. Через три дня она снова вышла на работу. В газетах ни ее фотография, ни имя не фигурировали, так что лишь Мириам и Крошка Гуннар могли связать героя ее романа с человеком, зверски убитым в глупейшей уличной драке, а их она просила помалкивать. У нее не было сил обсуждать с кем-либо случившееся. Ее вызывали на допрос в полицию, в отдел по расследованию убийств. Она подробно все изложила, но, к сожалению, не сумела дать словесных портретов. Четверо ребят, молодых, с привычным выговором восточного побережья, она их плохо разглядела в темноте. Одного, правда, она могла бы узнать, попадись он ей еще раз. Следователь советовал ей быть настороже и избегать репортеров: как-никак она была единственным свидетелем, а неизвестно, что на уме у этих психов, совершивших преступление. Она молча кивнула. Это ее устраивало. Карианне вовсе не хотелось быть на виду, не хотелось ни с кем разговаривать, самое лучшее забиться в уголок и не высовываться — авось тогда все станет как прежде…
Похороны: она не верила, была как во сне. Гроб не открывали, Даниэл был изуродован до неузнаваемости. Май и Сесси плакали, плакал и Руал, даже у Эйвинна в глазах стояли слезы, а уголки губ подергивались. Карианна в оцепенении следила за исчезающим гробом. Ей сказали, что в нем Даниэл. Но ведь, значит, его сейчас сожгут! На какое-то безумное мгновение она утратила свое благодатное спокойствие… и тут же вновь обрела его.
Этого не может быть… так не бывает… Пусть все вокруг утверждают, что… Это абсурд. Он должен где-то быть! Думать иначе было недопустимо, сумасбродно.
На другой день у Карианны наступил срыв. Она стояла в кухне над раковиной, собираясь мыть посуду. Май должна была вытирать, и вдруг в нос ударил специфический запах моющего средства с ароматом лимона — и перед глазами всплыло лицо Даниэла, это он мыл посуду в последний вечер, перед выходом из дома, точно так же пахли тогда его руки.
— Боже мой! — простонала Карианна. — Он умер! Это все-таки правда! Он умер…
Май обняла ее за плечи и усадила к столу. Карианна заплакала, а потом, не в силах более сдерживаться, заговорила, ее прорвало; слова, слова, слова, воспоминания, неосуществившиеся планы. Она качалась взад-вперед на стуле и рассказывала, не глядя на Май и в то же время держа обеими ладонями ее руку, иногда лихорадочно стискивая ее.
И вдруг она почувствовала, что рука, которую она сжимала, отдергивается: Май встала, повернулась спиной к столу и на негнущихся ногах вышла из кухни. Карианна заморгала, словно внезапно пробудилась от летаргического сна. Она увидела, насколько Май изнурена и постарела, как она сгорбилась.
На втором этаже заговорил Руал. Карианна продолжала сидеть в кухне, зажмурившись и обхватив голову руками.
Около часа спустя в кухню кто-то вошел. Это был Руал, Карианна подняла на него глаза; отец Даниэла тоже состарился, он был небритый, поседевший, вокруг глаз образовались глубокие морщины.
Не присаживаясь, он долго смотрел на Карианну.
— Да, это тяжело, Карианна, — наконец произнес он. — Нам всем сейчас очень тяжело. Поверь мне, мы понимаем, какое ты пережила потрясение. Но и Май… она очень сдала. На нее нельзя валить новые заботы. Она и так вымоталась.
Карианна сидела, понурив взгляд, и молча теребила клетчатую скатерть.
— Может, тебе лучше на ближайшие недели переехать к родителям в Спиккестад? — спросил Руал, занимая стул, на котором еще недавно сидела Май.
Карианна покладисто кивнула, все так же потупившись.
— Мы с Май… нам нужно время, чтобы прийти в себя, — сказал он. — Тебе сейчас не мил свет. У тебя тоже отняли Даниэла. И он всегда будет связывать нас с тобой. Но, видишь ли, мы с Май… потеряли сына. Нашего единственного сына. И нам… в общем, у Май нет сил на кого-то еще…
Карианна в конечном счете решилась заглянуть в его глаза, которые всегда считала доброжелательными, и торопливо закивала, приговаривая:
— Да-да, я понимаю, я все понимаю. И сию минуту поеду домой. Передавай от меня привет Май, скажи, что я… Мне очень жаль, что я раньше не сообразила. Я была слишком занята собой, мне… А Май пусть отдыхает. Скажешь?
Ее никто не гонит сразу, заметил Руал, но Карианна собрала свои немногочисленные пожитки — одежду и туалетные принадлежности — и через полчаса уже ехала на автобусе в центр. Прощаясь в дверях с Руалом, она улыбнулась, пожала ему руку, сказала спасибо за то, что они были добры к ней, что разрешили ей пожить эти дни у себя. Карианна сама очень помогла им, тронутый ее словами, заверил Руал. Просто у них… в общем, Май совершенно выдохлась. А Карианну они по-прежнему будут любить. Так что пускай она звонит, хорошо?
Карианна кивнула. И улыбнулась. Он вытер нос большим клетчатым платком. Она передала привет Сесси и Эйвинну. А потом вышла за ворота, спустилась с пригорка, постояла на остановке в ожидании автобуса и приехала в город, и все это время она сохраняла спокойствие, полное спокойствие; теперь она больше никого близко не подпустит, никому не даст задеть себя за живое.
В ту ночь она видела сон. Не про Даниэла. Сон был связан с одной дурацкой историей, приключившейся за обедом в первый день святок, когда Карианна гостила на Рождество У родителей. Мама сделала превосходное жаркое, свиной окорок, сочный и ароматный, розовый внутри, как любил отец, с хрустящей во рту корочкой, к нему был великолепный соус, отлично сваренная картошка и кислая капуста — пальчики оближешь. Отец Карианны требовал, чтобы к жаркому подавали еще горошек с морковью, и такой гарнир стал у них традицией, хотя сам отец обычно клал себе немного этих овощей, а остальные и вовсе к ним не притрагивались. В тот день у него был отменный аппетит, и он, положив вторую порцию свинины и откинувшись на стуле, сказал жене:
— Это было замечательно, Мерете. У нас есть еще горошек с морковью?
Мать скрылась на кухне, а когда Карианна через некоторое время вышла поискать ее, она сидела на табуретке, закрыв лицо фартуком, и плакала.
Горошка с морковью в доме больше не было.
Сон, что приснился Карианне в ту первую ночь, которую она провела после гибели Даниэла в своей квартире, пожалуй, нельзя было назвать сном — она проснулась от голоса Май, спокойно объясняющего: «Нет, милая. Горошка с морковью у нас больше нет».
Карианна лежала и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. Спать не хотелось, да она и не решилась бы опять заснуть. Где-то за стеной плакал ребенок, она отчетливо слышала его голос. Раз все равно не спится, Карианна поднялась, прошла в гостиную, включила там свет и поставила пластинку «Пинк флойд», на небольшую громкость. Взяла книгу. Потом Карианна села у окна, и ее внимание привлекла неоновая реклама на той стороне улицы: красный-синий-зеленый, красный-синий-зеленый.
Хоть бы Даниэл поскорее подал знак о себе.
6
Внешне она жила как ни в чем не бывало. Рано вставала, шла на работу, рисовала схемы новых кабельных линий с муфтами, трансформаторными подстанциями и мачтами электропередач, аккуратно перечерчивала их набело специальными перьями («ротринг» и «марсматик»), не скандалила из-за отсутствия каких-либо данных или из-за того, что требовалось уложить в одну траншею двести миллионов кабелей, болтала с коллегами на нейтральные темы, была паинькой, ходила за покупками, мыла лестницу, когда наступала ее очередь, раза два с завидным самообладанием и вежливостью отвечала на телефонные звонки от родителей и от Май. Как-то она зашла в цветочный магазин и послала Май флорограмму — цветы почтой; Карианна и сама не знала, почему так сделала, просто что-то подтолкнуло ее. Приезжали Руал с Сесси забрать кое-что из вещей Даниэла: книги, одежду, всякие мелочи. Стереопроигрыватель и пластинки они оставили Карианне. Однажды позвонила Рут: она прочитала о случившемся в газете, узнала фамилию Даниэла. Тон был смущенный, сочувственный. Если Карианна хочет, пусть заходит в любое время… Карианна и тут была изысканно вежлива. У нее все прекрасно, она справляется, отвечала она. А положив трубку, затряслась от безмолвного гнева. Что эта Рут воображает о себе? Как она смеет?..
Карианна справлялась. Самое главное было сохранять маску. Пожалуй, это давалось ей без труда, она настолько срослась с маской, что теперь вряд ли смогла бы сбросить ее, если бы кто-нибудь вдруг потребовал от Карианны искренности. Но от нее требовали не искренности, а присутствия духа, чего требовала и она сама, так что Карианна была паинькой, держала себя в рамках и не доставляла хлопот, а кому было по-настоящему дело до кошмара, в котором она жила? Никому. Карианна и сама старалась не думать о нем, это было неважно. Сейчас все не имело значения, так что можно было продолжать притворство.
Поначалу Карианна убедила себя, что она беременна… Ну конечно, ее тошнит по утрам и, кажется, уже выросла грудь… Естественно, это не подтвердилось: через несколько недель ее тело опровергло эту догадку.
Итак, у нее не осталось ничего. Ничего и никого. Пустота.
Постепенно ощущение безразличия и отчужденности усилилось, что отнюдь не радовало Карианну. Она прикидывала, насколько со стороны видно, что она существует отдельно от своего тела, от его жестов и действий. Она сидела на работе с перьями, циркулями, транспортирами, скальпелями, рейсшинами, лекалами, и ее руки самостоятельно орудовали всеми этими предметами — впору было испугаться, если бы ей не было плевать. Кто направлял ее руки, кто контролировал ее губы, мимику, движения? Во всяком случае, не Карианна. И тем не менее все шло, все получалось само собой. Может, она сходит с ума? Что ж, чему быть, того не миновать, но кто-то по крайней мере должен это заметить, а пока никто не высказывается, будем считать, что она живет в мире на общих основаниях. Так же, как прежде.
Дни Карианны текли скучно и помимо нее. Почему она продолжала упорствовать, ходить на работу? Никто бы особенно не огорчился, если бы она бросила работать. Так почему? А почему бы и нет? Дома было ничуть не лучше.
Она сидела в кресле и смотрела в пространство. В комнате никого не было, ни Даниэла, ни детей. Иногда ей чудился детский плач, она вскакивала с места и принималась искать, сама не зная, кого ищет: смуглую школьницу с дырками на месте молочных зубов и бантиками в косах, или того несостоявшегося ребенка, или Даниэла? Во всяком случае, в квартире нигде никого не было. Не было в кухне: ни на желтом металлическом кресле у окна, ни в шкафах, ни на подоконнике. Не было в уборной. Не было в прихожей, даже в закоулке за комодом, под зеркалом. Не было в гостиной. Не было в маленькой спальне, которой она старалась избегать, не было и в большой, бывшей Мимминой, где в свое время жила Рут, — ни под кроватью, ни в гардеробе среди платьев, кофточек и зимней одежды. Не было никого и на лестничной площадке. Нигде никого. Никто не приходил и, как Карианна прекрасно знала, никогда больше не придет. Она возвращалась в свое кресло. Ближе к ночи можно было пойти и лечь спать.
Карианну замучили сны. Она редко когда спала ночь напролет. Ее будили кошмары: она видела во сне, что идет по нескончаемой дороге или по дому с анфиладами комнат, она искала Даниэла… или ребенка, иногда они сливались вместе, и эти поиски были сопряжены с диким страхом, Карианна знала, что Даниэл (или ребенок) где-то тут, рядом, за стеной, за закрытой дверью, за поворотом дороги… Но она никогда не добиралась туда, и мешали ей во сне люди, доброжелательные, вежливые, довольные собой люди, которые вскидывали на Карианну равнодушно-удивленные взгляды: чего она хочет? — и, передернув плечами, возвращались к своим делам, а из-за их повседневных дел и планов Даниэл становился все недоступнее для нее, она просила, умоляла, плакала, пыталась объяснить, но ее никто не слышал, в некоторых снах ее к тому же и не видели. Они придумывали поездки за город, брали с собой Даниэла, а Карианне никогда не находилось места в машине. Они носились со смуглым ребенком, как со своим собственным. Карианна просыпалась в слезах, крича от ужаса. Никто не слышал ее.
У этих людей были разные лица, временами они напоминали родителей, временами — Май, или Сесси, или Рут, иногда это была пожилая женщина, сотрудничавшая с Центром усыновления, которая когда-то разговаривала с Карианной в парке, иногда это были товарищи по работе. Карианна ночь за ночью просыпалась в страхе. Со временем она научилась преодолевать этот страх, переводить его в ненависть, она изучила ненависть, как никогда прежде. Теперь она ненавидела снившихся ей людей. Ощущение было не из приятных: ненависть отзывалась острой болью в животе, в горле, она была густая, темно-красная, как венозная кровь, она душила Карианну. И все же это был единственный выход, единственный способ, которым можно было избежать бездны, поскольку за печалью и страхом открывалась пустота, тогда как ненависть придавала Карианне силы, подталкивала к борьбе, видимо, даже приносила облегчение. Сидя в три часа ночи в гостиной. Карианна с дрожью представляла себе, как полосует ножом лица, отдавливает каблуками пальцы, вспарывает вилами животы тем, кто…
Она начала видеть во сне нападение на Даниэла, она снова и снова переживала тот случай, слышала голоса, видела перед собой подробности, которые непонятно когда успела заметить. Она видела чудовищную жестокость, с которой самый высокий из нападавших, мрачной тенью возвышаясь над Даниэлом, бил его… видела руку, отведенную назад и взрывающуюся сокрушительным ударом по лицу… По его лицу…
У Карианны сохранилось несколько снимков Даниэла, и все же она постепенно стала забывать, как он выглядел.
Он уходил. Он все больше и больше отдалялся от нее. Скоро его не будет нигде, даже в ее памяти.
Но ей не хотелось думать об этом, она была не в состоянии, она предпочитала думать о них.
Душегубы. Сволочи. Убийцы. Она воображала себя шелудивой волчицей, которая вцепляется им в глотку и крепкими желтыми зубами рвет кожу, мышцы, артерии, она бы разодрала их в клочья, одного за другим, пустила бы их души скитаться в рокочущем мраке, который каждую ночь стерег у нее под окном, угрожая поглотить ее, во мраке, который уже поглотил Даниэла, и ее ребенка, и все, ради чего стоило жить на свете, оставив ей лишь боль, помойку, пустоту и шелудивую оболочку.
Если ее не будили кошмары, она просыпалась от малейшего шума с улицы либо ей чудилось, что у нее горят руки, или сводит стопу, или натирает складка простыни… С пробуждением эти впечатления проходили, а Карианна продолжала лежать, вперившись в темноту, как ей казалось, часами. Спала она беспокойно, каждое утро простыня под ней сбивалась, иногда ей мерещилось, будто ее оцепеневшее тело парит в воздухе, в нескольких сантиметрах над матрасом. Она вставала разбитой и смертельно усталой. Карианна уже несколько недель пропускала тренировки, и вот однажды она собралась с силами и поволокла себя в спортзал, после большого перерыва все мышцы противились нагрузке, и Карианна еще долго чувствовала себя измученной и разбитой. И все же у нее была смутная мысль, что нужно поддерживать свое тело в форме, закалять его — оно было в некотором роде ее оружием.
Вскоре после того, как Карианна возобновила тренировки, она проснулась однажды ночью, увидев, как перед ней рельефно и отчетливо выступило из тьмы лицо. Молодой парень, простоватый, с несколько тяжеловесными, инфантильными чертами. Лицо это было выхвачено фарами промчавшейся мимо машины, в нем было что-то знакомое, и теперь Карианна поняла, где она его встречала раньше, теперь она была уверена, убеждена, что сумеет узнать его.
Тело совсем не отдохнуло, но голова работала предельно ясно. Карианна несколько часов пролежала так, погруженная в раздумья, не двигаясь, на спине, с заложенными за голову руками, под доносившиеся с улицы звуки, которые служили равнодушным фоном ее размышлениям в темноте жаркой летней ночи.
Через два дня у нее снова была тренировка. После окончания занятий, приняв душ и переодевшись, они нередко сидели в холле и приходили в себя за бутылкой минеральной воды или безалкогольного пива. Уставшие, но в хорошем настроении, они утоляли жажду и болтали, кто-то курил, кто-то читал газету. Приятная пауза перед тем, как разойтись по домам.
— Послушай, Герхард, — обратилась Карианна к тренеру их группы, — мне тут попался один парень, по-моему, твой знакомый… Он приходил сюда прошлой весной, помнишь? Такой светлый, довольно плотный, кажется, помладше меня. Вы сидели и трепались про собак.
— Нет, — отвечал Герхард, — я что-то…
— У него еще был доберман, которого пристрелили! — напомнила Карианна.
— А-а-а, Пер Эрик! Упаси Бог от такой собаки, она же была бешеная.
У Герхарда у самого было две легавых, очень ласковых и благовоспитанных, которые часто поджидали его в углу холла, пока с него в зале сходило сто потов.
— Понимаешь, я была в ресторане, — объяснила Карианна, — и он сидел рядом, а потом ушел и забыл на столике часы.
— Да я почти не знаком с ним, — неуверенно проговорил Герхард, — он действительно начинал тренироваться года полтора назад, только его отстранили от занятий. Он чуть было не прибил одного парня из своей школы. Он… как бы тебе сказать… немного не в себе.
— Что ты говоришь? — откликнулась Карианна. — А мне он показался вполне симпатичным. Ума не приложу, что теперь делать с часами.
— Наверное, оставить в ресторане, — предложил Герхард, подмигнув Карианне.
Тьфу ты, черт! Такого она не предусмотрела.
— Чего глупости говоришь? — надула губы Карианна. — Тогда же я с ним не встречусь.
— Где он живет, я не знаю, — явно без сожаления отвечал Герхард. — Он учился в гимназии с коммерческим уклоном, но должен был уже кончить. Попробуй поискать в «Санктхансхаугене». Помнится, его команда прошлым летом тусовалась иногда там.
Последнее сообщение он выдал нехотя, словно сомневаясь, стоит ли это говорить. И во взгляде, которым он окинул Карианну, сквозили беспокойство и недоумение.
Карианна мило улыбнулась, поблагодарила за подсказку, а вскоре поднялась и ушла домой.
На тренировки она больше не ходила, красный пояс ей так и не достался.
На другой день по дороге с работы Карианна забежала в парикмахерскую. Она носила свои блестящие, медового цвета волосы довольно длинными, теперь она попросила постричь их и сделать перманент, получилась прическа на манер пуделя, Карианна еще покрасила волосы в темно-каштановый. Заглянула в парфюмерию и купила грим.
Вечером она нашла новое занятие: она села перед зеркалом и стала преображать себя. Когда она кончила, из тусклого зеркала на нее смотрела девица, не имевшая ничего общего с Карианной. Это была кукла, темноволосая кукла с губками сердечком и бессмысленным взглядом из-под густо накрашенных ресниц.
В некотором смысле она поступила честно, поскольку, строго говоря, Карианны больше не существовало: тело, которое она, как того требовали условности, одевала, кормила и каждый день отправляла на работу, было своего рода механизмом, управлявшимся ею (она и сама не знала зачем) лишь краешком сознания. Тело это имело внешнее сходство с человеком, которым она некогда была. Теперь она изменила внешность, и это было правильно.
Получив деньги за отпуск, Карианна львиную долю их истратила на одежду, которая бы больше подходила темноволосой кукле, чем висевшая в шкафу одежда Карианны. Она купила молодежные вещи, модного свободного покроя, в розовых и абрикосовых тонах, каких раньше всегда избегала. Она купила и кричащие украшения: массивные треугольные клипсы из ядовито-желтой пластмассы, белые бусы, пояса. После чего Карианна окончательно исчезла, и уже не она, а кто-то другой все свободное время торчал в «Санктхансхаугене» или в других ресторанах под открытым небом — с белым маникюром на руках и с кружкой пива на столике, как радаром, рыская глазами по людской толпе.
Тем временем подошла пора отпусков, и Карианна днями напролет пропадала во Фрогнерпарке, в «Санктхансхаугене» и «Крестьянском дворе», она фланировала между «Морошковум болотом», «Хенриккой» и «Над сортиром», который переименовали в более благозвучное «Над погребом», а затем снова возвращалась в «Санктхансхауген». Иногда она забредала на пляж, чтобы поддерживать загорелыми лицо и ноги, вечерами она нередко делала пробежку, ни на что другое она себе времени не отпускала. Она довольно много пила, хотя гораздо меньше, чем можно было предположить с ее шатаниями по кабакам; она научилась быстро переключаться на минералку, а еще, если не было слишком жарко, пила кофе. Она следила за своей одеждой, за прической и косметикой, то и дело придумывала новые детали, но на дорогие вещи у нее не было денег. Ей без труда удавалось не подпускать близко мужчин. Достаточно было сохранять на лице бессмысленное выражение, не задерживать ни на ком взгляда (во всяком случае, приметно), никогда не улыбаться и сидеть не расслабленно, а замкнув тело, ссутулившись, загородившись руками и ногами. Вокруг был большой выбор хорошеньких девушек, так что у Карианны не было проблем.
Он попался ей на глаза очень не скоро, почти к концу отпуска, когда Карианну уже начала посещать мысль о поражении. Был теплый погожий вечер, она сидела с иллюстрированным журналом в теперешнем «Над погребом» и пила сок, как вдруг увидела его, через каких-нибудь два столика, в профиль — очевидно, поэтому-то она и не заметила его раньше. Он сидел с кружкой пива в компании еще двоих ребят, был громогласен и весел, возможно, чуть на взводе. Он на миг повернул голову в ее сторону, и Карианна вгляделась, сравнивая: светлые волосы, несколько светлее, чем ей припоминалось; впрочем, в тот вечер шел дождь, голова у него намокла, к тому же было темно… а еще он, видимо, только что из отпуска, сообразила она, щурясь на его выгоревший чуб. Лицо похоже. Тяжелая челюсть, небольшие простодушные глазки. Привлекательным его не назовешь. Карианна сидела и хладнокровно оценивала его, словно узел машины, словно предмет, словно возможность. Он встал — и оказался крупнее, чем ей запомнилось: грузный и нахальный, но свежевыбритый, хорошо одетый и с уверенностью в движениях, возможно, напускной. Неужели он собрался уходить? Нет, на столе недопитое пиво, куртка перекинута через спинку стула. И все же до его возвращения Карианна сидела как на иголках. Она тоже заказала пива и с кружкой в руке двинулась к его столику, за самым его стулом нарочито споткнулась и выплеснула полкружки пива ему за шиворот, залив белую майку.
— Ой, извиняюсь! — вскрикнула Карианна.
Он чертыхнулся и вскочил как ужаленный, видимо, разозлившись. Ах ты, какой нервный, подумала Карианна. Теперь она окончательно убедилась, что искала именно его.
Он обернулся: перед ним стояла, освещенная солнцем, девочка с летними веснушками и стройными загорелыми ногами, в лимонном платьице, чуть прикрывающем зад, в желтых носках и босоножках.
— Тьфу ты, Господи, — пробормотала она, закусив губу и моргая своими огорченными синими глазищами. — Я нечаянно… я споткнулась об ножку…
Ясно, что нечаянно. Ясно, что никто не станет нарочно выливать пол кружки пива за шиворот незнакомому человеку. Во всяком случае, не такая девочка и не в такую погоду… Так что злость мгновенно слетела с него, и он, покраснев, как мальчишка, промямлил что-то вроде: это, мол, не имеет значения, майка у него все равно старая, ничего страшного.
— Повезло тебе, Пер Эрик, — разинул рот один из приятелей, сидевших за тем же столом, — не каждого ведь кропят пивом, а?
Карианна вытащила носовой платок и начала вытирать Пера Эрика, изображая, будто она и сама навеселе, только чуть-чуть, не более чем пикантно. Он поборол свою неловкость и с наигранно-развязным видом попытался усадить Карианну себе на колени, она противилась, кокетливо смеясь, однако после настойчивых уговоров согласилась сесть за их столик. Он заказал еще пива. Она заглядывала ему в глаза, улыбалась и пила.
Карианна вслушивалась в голоса, но не слышала среди них знакомых. Она признала только Пера Эрика. Оказалось, что ей ничего не стоит притворяться, подготовка и терпеливое ожидание многих дней возымели действие: она хохотала. Время от времени Пер Эрик вспыхивал, глядя на нее, и бросал на приятелей горделивые взгляды, точно не веря собственной удаче и требуя от них подтверждения.
Пожалуй, Карианна несколько увлеклась пивом — ее не покидало ощущение нереальности происходящего, она чувствовала себя сторонним наблюдателем, она смотрела фильм, это было не с ней! Кто-то другой пошел с Пером Эриком в кино и тискался с ним в последнем ряду полупустого зала весь нуднейший вестерн, во время которого они даже не смотрели на экран; кто-то другой позволял этому типу целовать себя, неуклюже засовывать слюнявый язык ей в рот, щупать грудь и ляжки. Неужели Карианна действительно впустила его домой, взяла с собой в постель в бывшей Мимминой комнате, в желтом каменном доме по Тересесгате? Нет, это невероятно. Она не могла творить такое, это был кто-то другой, автомат, марионетка, фантом, постороннее бездушное тело.
И это не Карианну выворачивало наизнанку в уборной на следующее утро. И не она продолжала как ни в чем не бывало встречаться с Пером Эриком, снова и снова лежать с закрытыми глазами под тяжестью его пыхтящего тела, нет, она не имела к этому никакого отношения. Невозможно и представить себе, чтобы она пошла в гости к нему домой, познакомилась с младшим братом, с отцом! Увидела его комнату типичного подростка, с моделями самолетов и плакатами на военные темы на стенах… И что он запер дверь и, красуясь, с заговорщицким видом извлек из глубины шкафа, с самой верхней полки, из-под свитеров и стопки ненужных учебников, игрушечный пистолет и патроны к нему. Ты не думай, это не пугач, объяснил он Карианне, это настоящий пистолет, он стреляет. Смит и Вессон, тридцать восьмого калибра, с деревянной рукоятью. Карианна высказала недоверие. Как он заполучил его? Разве не надо иметь разрешение на хранение оружия? Пер Эрик высокомерно рассмеялся. Он не может раскрыть секрет, поскольку пистолет достался ему в результате некоей махинации, через одного знакомого со связями, но он с удовольствием когда-нибудь продемонстрирует его в действии. Он отличный стрелок, похвастался Пер Эрик. Он показал ей, как пистолет заряжается, как его следует держать: теплый после его руки, довольно увесистый, он был для Карианны живым и зловещим. Она с трудом поборола отвращение, но все же поборола. И даже улыбнулась. Кстати, она и говорить стала иначе, с каким-то пришепетыванием, тут она, вероятно, переигрывала, но ей почему-то казалось, что это соответствует ее роли.
Перу Эрику было девятнадцать лет, и он, рассердившись, мог прийти в дикое ожесточение. Однажды он даже стукнул Карианну, когда та не согласилась пустить его к себе домой (у нее нет сил, говорила Карианна, к тому же она нездорова). Она заплакала. Пер Эрик настоял на своем, обиженный несправедливостью, как ребенок. Он и был большим ребенком, незрелым юнцом; в глубине души она презирала его и была уверена, что может вертеть им, как захочет. У нее были сильные подозрения, что в огромную железную дорогу, которая стояла в детской, в сумрачной квартире на Гейтмюрсвейен, играл не только младший брат. Неужели все это было правдой? Неужели все это происходило в действительности? Неужели Карианна и впрямь обнаружила у него под кроватью кипу расистских листовок? Она пожаловалась ему на противных иммигрантов: вечно они пристают к ней, если она ходит вечерами одна. Он помрачнел. Мало того, что они пристают к невинным норвежским девушкам и отнимают работу у честного народа, они еще сбывают наркотики, у него есть сведения про нескольких алжирцев, их уже арестовали; он знает и кое-кого еще, кто пока не арестован, сказал Пер Эрик, они за ними следят… Тут он спохватился и умолк. Кто это они? — поинтересовалась Карианна. Нет-нет, он ничего не имел в виду. Однако в конце концов она выведала у него эту тайну и не могла поверить своим ушам! Они создали молодежную группу: он, его живший в Линнеберге двоюродный брат и еще двое ребят из того же района. Время от времени они собирались за лимонадом с булочками и строили планы освобождения страны от наркотиков, иностранных рабочих, проституции и коммунистов всех мастей, начиная с молодых либералов из «Унге венстре» и кончая маоистом Полом Стейганом и его сторонниками. Может, они сделали себе шалаш в лесу и летом играют там в индейцев и белых? Карианна не знала, но это было бы очень в их стиле. Несколько раз они устраивали в лесу стрельбы, проговорился Пер Эрик. А можно ей тоже вступить в группу? Это ведь так интересно. Он не уверен… он вообще не должен был ничего выбалтывать Карианне. Но ей очень хочется… И он ведь дружит с этими ребятами, не так ли? Так-то так, только надо бы спросить Эриксена, он у них начальник. Начальник? — удивилась она. Ну да, он старше их всех, служил в войсках Объединенных Надий в Ливане, чуть не погиб там. Он организовал что-то вроде караульного отряда, куда входит и двоюродный брат Пера Эрика, у них есть собаки и пистолеты со слезоточивым газом. У Пера Эрика и у самого была собака, но она покусала в парке старуху, и брат настоял, что ее надо пристрелить. Проклятье! Такая была четкая собака. Верная. Она и бабку-то укусила потому, что кинулась защищать его. Собаки все такие, ну если не считать разных там пуделей и прочего дерьма. А у него был доберман, и всего-то пяти лет от роду, пришлось отвести его в лес и пристрелить. Пер Эрик расправил плечи: это было по-мужски, только слабаки мучают собаку всякими уколами и другой ерундой, сказал он; самое лучшее — пуля в лоб. Карианна смотрела на него широко раскрытыми глазами, он принял это за выражение восхищения и, довольный, потрепал ее по бедру.
— А ваш Эриксен, — умело ввела она разговор в прежнее русло, — он разве не набирает новых членов? Или он против женщин? — Она села в постели, надутая и оскорбленная, свесила ноги вниз, выпятила губу.
Пер Эрик погладил Карианну по спине.
— Что ты! — заверил он, поспешно и чуточку нервозно. — Эриксен не такой, у нас ничего такого не бывает. Просто мы иногда занимаемся… как бы это сказать… вещами, не совсем подходящими для женщин.
— Да ну! — сказала Карианна.
— Мы идем на риск, — пояснил он.
— Какой у вас может быть риск? Заливаешь!
Нет, он не заливает, но и говорить больше ему не положено. Испуганный взгляд Пера Эрика, голубые глазки, заморгавшие при его намеке на риск, подтверждали, что Карианна напала на след. Неужели это правда? Она представила себе сеть нацистских организаций, созданную по классическому образцу, иерархическую подпольную структуру, направлявшуюся то ли из Германии, то ли какими-то воротилами норвежского бизнеса. С паролями, тайными собраниями, секретными складами оружия, с агитацией, истеричными речами, стремлением к власти… Бред какой-то! Во что она ввязалась? Почему лежит в постели с этим мерзким верзилой, который лапает ее и исходит по ней слюной, с этим недалеким дикарем, которому, очевидно, не суждено вырасти и поумнеть? Зачем она все это затеяла?
Карианна поднялась и вышла в уборную, делая вид, будто не слышит его окрика, потом-приняла душ, оделась и на ходу сочинила историю про назначенную на вечер встречу, о которой напрочь забыла. Пер Эрик обиделся, приревновал, однако через пару дней сказал, что договорился по телефону с Эриксеном: Карианне можно, если она хочет, прийти на следующий сбор группы, только сейчас все разъехались, каникулы и прочее, так что это будет не раньше конца августа. Неужели все-таки правда? Что она затеяла и зачем? Карианна и сама не знала. Она просто гнула свою линию, хладнокровно и методично; он был дитя, и обвести его вокруг пальца было проще простого. У него еще в жизни не было «своей» девушки, признался он Карианне. Она охотно верила…
Однажды Карианне приснилось, будто она идет мимо стортинга и по какой-то неясной причине заходит в здание. Она кого-то искала там, чтобы поговорить. Она шла через залы и коридоры, мимо одетых в униформу охранников, молодых ребят с портупеями и ружьями, с белыми арийскими лицами; вскоре она поняла, что попала в ловушку, что она может двигаться только туда, куда ее пускает охрана, а она направляла Карианну все дальше и дальше по лабиринту галерей и комнат. В здании были и другие люди, в гражданском платье, мужчины и женщины, каждый из них был занят собой и, видимо, не сознавал, что тут происходит, Карианна пыталась завести с ними беседу, но ее никто не слушал. Ей нужно было выбраться наружу, потому что рядом, в переулке, ее ждал на машине Даниэл, ей надо было попасть к нему, предупредить его об опасности, но она кругом натыкалась на заграждения, на баррикады, начавшие уже обрастать колючей проволокой. У Карианны была с собой большая спортивная сумка, а в сумке — не тренировочный костюм, а живая кошка. Важно было скрыть эту кошку, потому что один из охранников собирал кошек (на мгновение перед глазами Карианны мелькнула светлая вилла, полная антикварной мебели, развешанных по стенам картин и сиамских кошек). Стоит кошке пикнуть, и ее немедленно отберут, этого нельзя было допустить, и вдруг в сумке оказалась не кошка, а ребенок, грудной младенец. Карианна не могла нести его в открытую, на руках, тогда бы всем стало ясно, что это такое. И она шла, не подавая вида, небрежно держа сумку за ручку. Только бы ребенок не заплакал… Где же Даниэл? Она забрела в коридор, кончавшийся тупиком, там не было ни одной двери, Карианна повернула назад и встретила заграждения из колючей проволоки, которые охраняли гладкокожие юноши в форме, бесцветные и апатичные, они как ни в чем не бывало переговаривались друг с другом и не замечали ее. Она должна выбраться, вместе с ребенком, она должна попасть к Даниэлу…
Карианна проснулась, потная и разгоряченная, в комнате было темно, по-летнему парко и душно, в углу громко тикали часы.
Отпуск кончился, Карианна снова вышла на работу. Как-то после работы она забежала в скобяную лавку и купила медный гвоздь, большой декоративный гвоздь размером с указательный палец. Потом она зашла в спортивный магазин и отыскала там длинный, острый, как бритва, нож.
Под воскресенье она не стала ложиться спать. Она просидела ночь у окна. Около четырех начало светать, но она подождала еще почти полчаса, прежде чем поднялась с места, схватила красный фломастер, молоток и купленный накануне гвоздь и подошла к облюбованной точке в коридоре между гостиной и передней: стена там была не капитальная, не из бетона, поэтому, как знала Карианна, гвозди в нее вбивались хорошо. Солнце еще не всходило. Карианна нарисовала на стене большой глаз и наметилась гвоздем в самый центр круга, изображавшего зрачок. Салук-остабуре-хелкен-талис-вельзевул, шепотом пробормотала она. Затем три раза тихонько стукнула по шляпке, отступила на шаг назад и произнесла:
Гвоздем в стене Ослеплю глаза. Чтоб маялся вовек. Пускай тебя мучат, Пускай истязают. На адском огне поджаривают.Карианна сделала еще три удара по гвоздю и отвернулась. Она чувствовала страшную усталость. Она не вздрогнула, когда увидела на полу перед собой гнома: на этот раз он явился по ее зову.
— Так и быть, виновника я тебе укажу, — сказал гном, — но это единственное, что в моей власти. Остальное — дело рук человеческих, а не бесовских, и ни я, никто другой из моей братии тебе не помощник.
Карианна опустилась на колени и заглянула в его тусклые желтые глаза.
— Ты должен ослепить их, — прошептала она. — Вот твое дело. Ты же слышал, к какой силе я взывала.
Он неторопливо кивнул. На косматой, морщинистой физиономии не было и тени улыбки, голос звучал без привычной задиристости.
— Слышал, слышал, — отвечал гном. — Только ты палишь из пушки по воробьям, а мне от этого ни тепло, ни холодно.
— По воробьям! — возмутилась она. — Ты знаешь, кому они служат?! Ты знаешь, кто стоит у них за спиной?!
— Ничего особенного они из себя не представляют, — сказал он, — и никто за ними не стоит. Они нахватались слов и идей, носящихся в воздухе, в том самом воздухе, которым дышишь и ты, а кто в этом мире свободен от предрассудков? Я вижу и слышу только искалеченные души, застывшие в своем развитии, да материнские сердца, стенающие во мраке.
Карианна смотрела на него разинув рот. Потом очнулась и замотала головой.
— Да, тот, кого я нашла, действительно ребенок, мне это и самой ясно. Но ведь если парни двухметрового роста, весом в девяносто кило, до сих пор не научились различать игру и реальность, чем они лучше извергов?
— Ну, это как сказать…
— Ты же знаешь, что они натворили! — заорала Карианна.
— Я знаю, что один из них отнял у тебя свет в жизни, — отвечал гном. — Били все, но убийцей стал только один, а кто именно, они и сами не ведают. Я обещал тебе указать вора. И сделаю это.
— Тогда мне придется самой взяться за нож, чтобы обрести покой, — горько проговорила она.
— Ты и без меня поняла это, а то бы не купила его. Но покой достанется тебе дорогой ценой, и кончится все иначе, чем ты рассчитываешь. Ты у нас заплутала, сбилась с пути, но я тут ни при чем. Ты никогда не видишь преграждающей дорогу горы, пока не разобьешь об нее лоб, так уж ты устроена, правда? Будь это в моих силах, я бы остановил тебя.
— Сгинь! — зашипела Карианна. — Я тебя раскусила: ты всегда подыгрывал своему начальству и, если оно чего требовало, мои интересы тебя не волновали.
— Я никогда этого не отрицал, — признался гном. — Не думай, что это весело — быть на побегушках у власть имущих. Я тебе вроде симпатизировал, но не обессудь: коли дождь застает пастора, на звонаря тоже каплет. А теперь вижу, наше с тобой времечко истекло. Счастья желать не стану, потому как никакого счастья из твоей затеи выйти не может. А скажу спасибо за совместную работу, и давай попрощаемся за руку, поскольку мы с тобой сегодня видимся в последний раз.
Он торжественно протянул свою поросшую серой шерстью лапу, и Карианна смущенно и не слишком охотно пожала ее. Лапа была сухая и теплая, ладошка показалась ей на ощупь шершавой, словно дубленой. На этом гном исчез, а Карианна осталась стоять на коленях посреди гостиной, с протянутой рукой, было без двадцати пять, она знала, что как раз на это время приходился в то воскресное утро восход солнца.
7
И вот однажды, в конце августа, Карианна зашла после обеда к Перу Эрику: они собирались вместе ехать в Линнеберг. Молодая парочка, которая хочет прокатиться из одного конца Осло в другой и заглянуть в однокомнатную квартирку в этом микрорайоне, чтобы встретиться там с двоюродным братом юноши и его приятелями. Погода стояла жаркая, солнечная, над парками и площадями носились голуби и чайки, день радушно приглашал насладиться им.
Это был один из последних летних деньков, когда на клумбах пламенеют розы, а лица одетых в серое мужчин покрываются капельками пота и жара вынуждает их ослабить узел галстука; это был день для мороженого, день для прыгалок, день, когда блестящее зеркало фьорда отражает синее небо и над соленой водой летают белые чайки, когда в море виднеются белые треугольники парусов и люди в белой одежде, а на глубине отливают серебром мелкие рыбешки.
Пер Эрик ругался в кухне с братом, и Карианна на несколько минут осталась в его комнате одна. Она не замедлила полезть на верхнюю полку шкафа и отыскать то, что было припрятано в самой дали, в картонной коробке, под спортивным костюмом и исписанными блокнотами.
В тот день она, очевидно, не всегда присутствовала в собственном теле. Да и было ли это тело ее? Была ли ею изящная девочка в коротком желтом платьице с белым жакетом и белыми босоножками, с перекинутой через плечо белой сумкой, с темными вьющимися волосами, густо накрашенными ресницами и ярко-розовым ртом? Когда они вышли из метро в Линнеберге, Карианна на миг проникла ясновидящим оком сквозь асфальт и увидела прямо под ногами траншею с маслонаполненным кабелем, по которому проходил ток в триста киловольт. Она была уверена, что никто из прочих пешеходов, торопливо или устало передвигавших ноги по асфальту, не подозревает об этом.
Они с Пером Эриком зашли в подъезд, поднялись в лифте на седьмой этаж: просторные коридоры казались пустынными и голыми. Квартирка была маленькая, однокомнатная, в прихожей было темно, на дверях в гостиную висело подобие занавеса из кусочков бамбука. В комнате сидело четверо, Карианна поздоровалась — с конфузливой девичьей улыбкой — и, сев в кресло, раскрыла глаза и уши, голова ее работала, как компьютер, собирая звуковые и зрительные впечатления, сопоставляя их и либо отбрасывая, либо закладывая в память. Тут был бас, который она сразу признала. Был и тот самый мальчишеский фальцет. В остальных она не была уверена, но ей казалось… впрочем, один человек лишний. Их ведь было тогда не больше четырех, верно? Но так ли это важно? Окажись пятый с ними, он бы тоже бил. Кто же из них убийца? Карианна не могла решить.
— Вот мой двоюродный брат, — сказал Пер Эрик.
Он уже явно не в первый раз обращался к Карианне, но она была поглощена сравнением голосов. Встрепенувшись, она вскинула взгляд: ага, значит, это хозяин квартиры. Брат выглядел года на два старше Пера Эрика, он был высокий и тучный, один глаз у него опух, и вокруг расплылся желто-коричневый синяк.
— Привет, — улыбнулась Карианна. — Господи… Ты что, с кем-то подрался?
— Не-е-а! — отвечал кузен, смущенно ухмыляясь. — Я просто поскользнулся тут на пороге и приложился мордой к двери в уборную.
— Ха-ха! — взвизгнул фистулой мальчишеский голос. — Нашел кого кормить такими байками, Янно.
Однако Янно настаивал на своем. Карианна молча приглядывалась к нему. Какой из себя этот парень внутри? Какие они на самом деле, эти пятеро, что собрались в холостяцкой квартире на седьмом этаже дома в столичном районе Линнеберг, вокруг пыльного стола, на котором было блюдо с чипсами, бутылки минеральной воды и стаканы? Но любопытство ее было праздно-мимолетным, и оно ушло, а мозг опять стал раскладывать по полочкам впечатления, машина беззвучно отщелкивала многозначительные точки, клик-клик. На стенах оружие, обратила внимание Карианна. Что-то вроде дробовика и еще одно ружье, тоже похожее на охотничье, на полке старая каска, у окна неухоженные цветы с катышками пыли в горшках, переброшенный через спинку кресла зеленый свитер. Еще одно кресло занимал Пер Эрик, его дородный кузен расположился на диване, рядом тот, с пронзительным голосом, — прыщавый юнец с лохматыми волосами до плеч и слабовольным ртом. Вот еще один юноша, худощавый, долговязый, смуглый, в очках. Ближе всех к входной двери, вполоборота к ней, сидел в кресле мужчина, который казался постарше остальных, ему было около тридцати. Очевидно, это и был Эриксен, обладатель низкого голоса. В своих мучительных, полных ненависти кошмарах Карианна представляла его как огромного, нахального детину или же как хилого человечка с лицом Гитлера; само собой разумеется, он не совпадал ни с тем, ни с другим из созданных ею образов, а был ничем не примечательным молодым мужчиной среднего роста, с русыми, начинающими редеть волосами. Он выглядел спокойным, уравновешенным. Почти что красавец, отметила про себя Карианна. Он улыбнулся, и она как будто уловила в его глазах юмор и теплоту. На миг Карианна застыла в недоумении, пытаясь понять, что привело сюда этого человека, какие силы усадили его в это кресло и заставляют упиваться самозабвенным восхищением, которое испытывает к нему кучка закомплексованных юнцов.
Карианна встала и застенчиво улыбнулась компании.
— Ты говорил, у тебя тут где-то уборная? — обратилась она к кузену Янно, тот просиял и указал рукой в сторону темной прихожей.
Послав нежную улыбку Перу Эрику, Карианна вскинула на плечо сумку и проскользнула между гремящим бамбуком. Первая дверь, в которую она ткнулась, вела в переполненный чуланчик с одеждой, вторая оказалась в крохотный санузел с драной занавеской вокруг душа и розовым плюшевым чехлом на унитазе. Она повернула в двери ключ; вынула из сумки пистолет с патронами и зарядила его, как показывал Пер Эрик; она действовала неторопливо и аккуратно, из-за двери доносились их голоса, кто-то пронзительно засмеялся — видимо, лохматый, с прыщами. Карианна была предельно спокойна, предельно собранна, у нее не было никаких особых эмоций. Вот так. Заложить патроны в обойму… первый входил с трудом, остальные семь не потребовали усилий. Теперь предохранитель, затвор… держать оружие надо крепко, в вытянутых руках, Пер Эрик говорил, что пистолет берет немного выше. Карианна встала, поправила сумку на плече, стукнула крышкой сиденья и спустила воду, затем отперла дверь, вышла в прихожую и не стала ни секунды медлить в темноте за бамбуковыми подвесками: она отчетливо видела их всех в свете, падавшем из большого окна с оранжевыми шторами. Она прицелилась сквозь бамбук, метя в Эриксена: он сидел ближе других, к тому же она считала его наиболее опасным. Карианна нажала курок. Пистолет у нее в руках дернулся, выстрел прогрохотал куда громче, чем она рассчитывала. Ей не сразу удалось совладать с собой и опустить ствол. Человек в кресле продолжал сидеть неподвижно, затем вдруг повалился вперед, Карианна увидела, как дернулась его рука, свесившаяся через подлокотник, стол оказался чем-то забрызган. Кузен Янно. Бум! Пистолет у нее в руках нагрелся и ожил. Следующий: лохматый юнец. Она стреляла в головы, с близкого расстояния, и видела, что не промахивается, на светло-желтой стене расцветали темные разводы. Никто не успевал отреагировать, они только успевали вытаращить глаза и в ошеломлении замереть, как их уже настигала пуля. Из прихожей в поле ее зрения не попадал смуглый юноша. Она вошла в комнату. Он бросился к стене, прикрывая голову руками, с лицом, искаженным страхом. Карианна выстрелила. Пер Эрик поднялся навстречу, глядя на нее безумным, недоумевающим взором, с отвисшей челюстью. Карианна прицелилась в него, руки ее были абсолютно тверды, пистолет был теплым живым существом, которое укрепляло и поддерживало их. Она была непоколебима, как скала. Она стояла скалой в этой пропыленной комнате и целилась в инфантильного верзилу, которого ненавидела и презирала, которого больше месяца терпела и ублажала и который в конечном счете выдал ей то, за чем она охотилась, да и как он, бедняга, мог не выдать?
— Это мой пистолет? — задал дурацкий вопрос Пер Эрик. Она кивнула. — Не стреляй! — внезапно завопил он, кидаясь к ней, Карианна выстрелила, но в последнюю секунду перевела дуло ниже, стала метить в пах. Пер Эрик скрючился, хватаясь обеими руками за живот, на лице его появилось недоверчивое выражение. Он споткнулся и упал. Светлые летние брюки постепенно приобретали темный цвет. И вдруг он застонал, завыл, протяжно и глухо.
— Ты не заслужил смерти, — сказала Карианна, чувствуя подступающую к горлу тошноту, — это было бы слишком милосердно. Ты заслужил до конца своих дней не двигаться с места и думать о содеянном. Ты вместе со своими дружками убил моего возлюбленного! Теперь ты знаешь, за что я делаю из тебя калеку на всю оставшуюся жизнь, — сказала Карианна и снова выстрелила, по разу в одно и в другое колено.
Только что он сидел, скорчившись у ее ног, теперь он дернулся и осел назад, глаза закатились. Вой пресекся, но Карианна видела, что Пер Эрик дышит.
Она выпустила из рук пистолет, который мягко звякнул, стукнувшись об пол. В комнате стоял какой-то густой, отвратительный запах: то ли крови, то ли испражнений… Карианна покинула квартиру, хлопнув за собой дверью. Жакет висел у нее на руке, сумка болталась через плечо. Она прошла по невзрачному коридору к лифту, около самой лестницы открылась чья-то дверь, и из нее высунулась испуганная пожилая дама в бигуди, которая при виде Карианны спросила:
— Что это так гремело? Вы слышали?
— Да, — улыбнулась Карианна, — я даже вздрогнула. По-моему, это снизу, с улицы.
— Вздрогнула! — сказала пожилая дама. — У меня очки с носа слетели. И что же это такое творится?
— Мне кажется, что-нибудь с машиной, выхлопная труба или что там бывает…
— Неужели может быть так слышно наверху?! — удивилась дама. Она явно оживилась и больше не казалась такой испуганной.
— Вот уж не знаю. — Карианна пожала плечами, мило улыбнулась, и тут как раз подоспел лифт, она кивнула даме, вошла в кабину, нажала кнопку первого этажа, двери закрылись, и лифт поехал вниз.
Карианна вышла на вечернюю улицу, чувствуя себя свободной и опустошенной. Она совершила дело, которое взяла на себя. Однако мир от этого как будто ничуть не изменился.
8
Карианна поехала на метро в центр. Стоял по-летнему теплый вечер, она несла жакет, перекинув его через плечо. У нее было с собой немножко денег, и она заглянула в «Хенрикку», заказала полбутылки белого вина. Надо было бы поесть, Карианна сегодня пропустила обед, но есть ей почему-то не хотелось. Она пила вино. У нее ведь было что праздновать, верно? Кончилась какая-то полоса, какое-то ожидание.
Впрочем, она не осознавала этого, она сидела, отрешившись от непривычного для себя тела и тупо уставившись в пространство. Она ощущала лишь пустоту, безмерную пустоту в сердце, в животе, в голове. Она держала прохладный бокал и не узнавала собственных рук: ногти были намазаны розовым лаком, вцепившиеся в бокал пальцы напоминали когтистые лапы, они были для Карианны чужими.
Она подумала, не подложить ли бомбу в стортинг. Но бомбы у нее не было, и она понятия не имела, где и как ее раздобыть. Тоска зеленая…
В ее белой сумке лежал нож, блестящий нож, который она купила, но который не пригодился ей. Против кого бы его использовать? Против себя? Если честно, то ей вовсе не хотелось умирать. Это слишком необратимо, слишком страшно. И ей тем более не хотелось погибать таким неаппетитным способом, чтобы хлестала кровь… Нет, эта мысль ей не улыбалась. Как-то… неопрятно.
Карианна просидела в кафе довольно долго, прежде чем встала из-за стола и заметила на подоле своего коротенького платья несколько ржаво-коричневых пятен. Вывести, наверное, будет нелегко. Попробовать «Биотексом»? Пожалуй.
Наступила ночь, Карианна бесцельно бродила по улицам; она начала дрожать в легком летнем жакете и пожалела, что не захватила с собой другой одежды.
Она не знала, куда деваться. Пер Эрик остался жив. Есть ли в комнате телефон? Она порылась в памяти, но ничего не нашла в ней, впрочем, если она и не заметила телефона, это еще не значит, что его там нет. А пожилая дама с того же этажа? Угомонилась ли она после Карианниного объяснения? А прочие соседи? А вдруг кто-нибудь случайно позвонил в дверь и заподозрил неладное, когда никто не открыл?
Карианна начала впадать в панику. Раньше она не задумывалась над последствиями, теперь она внезапно представила себе малюсенькую комнатушку, тюремную камеру, и увидела, как нескончаемо долго сидит взаперти в такой комнатушке, и по ходу ее размышлений камера делалась все меньше и меньше. Нельзя будет ни выйти оттуда, ни с кем-нибудь поговорить, нельзя будет больше бегать, Карианна будет сидеть почти без движения, чуть ли не без воздуха. И так год за годом… Нет, домой ей сейчас пути нет. А куда есть?
Улицы стояли темные, притихшие, Карианна услышала, как часы на ратуше бьют три. Она по-прежнему была в центре и, оказывается, ходила кругами. Наверное, их уже обнаружили? И теперь ищут ее? Разослали ее приметы всем патрулям, колесящим на машинах по ночному городу? А такси? Кажется, полиция часто сотрудничает с таксистами? Карианна была испугана, хотя и не понимала, почему так боится, откуда, у нее силы для такого жуткого страха, и все же откуда-то они взялись. Ей нужно оторваться, исчезнуть. Нельзя кружить в центре, здесь слишком пустынно, она привлекает к себе внимание. Карианна двинулась вверх по Драмменсвейен, мимо высокого здания, где недавно, не далре как вчера, сидела на четвертом этаже, в хаосе зала, поделенного перегородками на закутки, и занималась обычной работой, была самым обыкновенным человеком, за которым никто не гонится, который может запросто подойти к полицейскому на улице и в случае необходимости потребовать защиты… А кто она теперь? Неужели это правда, что она… неужели правда?
Она поднялась по Бюгдэйаллё, повернула на Скуввейен, потом на улицу Нильса Юэла, потом на Мелцерсгате, на Риддерволлсгате, она брела наугад, словно запутывая следы, она безумно устала, но ей негде было присесть, она мерзла, но у нее не было места, где бы спрятаться, не было места, где бы она чувствовала себя в безопасности.
Услышав в ночи сирену, она замерла в оцепенении, затем пошла дальше.
Около пяти утра Карианна вспомнила о Рут. Адрес ее был с собой, в записной книжке, а Рут когда-то звонила и приглашала в гости, если только… Если что? Зачем Рут звонила ей? Этого Карианна не помнила. Однако адрес она нашла и, прочитав его при свете уличного фонаря, постояла в раздумье и двинулась в направлении, перпендикулярном к тому, в котором шла раньше. Почти в половине шестого она очутилась перед трехэтажным домом красного кирпича, здание было недавней постройки, с огромными окнами и множеством выступов. Адрес сходился, и Карианна позвонила в выходившую на улицу массивную запертую дверь с табличкой. Томительно не скоро дверь открыли.
Карианна увидела темную, коротко стриженную девушку в вельветовых брюках и сиреневом джемпере, она вышла босиком, похоже было, только что встала с постели. Девушка носила большие круглые очки.
— Чем могу быть полезна? — спросила она.
— Я… мне хотелось бы поговорить с Рут Бернтсен, — отвечала Карианна. — Я понимаю, сейчас очень рано, но… У меня произошло несчастье, а мы с ней… старые подруги, — вяло закончила она.
Девушка в очках провела ее в широкий светлый коридор. Непосредственно рядом с входной дверью оказался кабинет, отделенный от коридора стеклом, нечто вроде регистратуры, с большими окнами на улицу. Около письменного стола Карианна углядела дверь в следующую комнату, поменьше, а в ней — незастеленную кровать. Девушка вошла в кабинет и нажала несколько клавишей на коммутаторе, что-то тихо проговорила в него и с веселой улыбкой обратилась к стоявшей в дверях Карианне:
— Ой, я еще не совсем проснулась. Как, ты сказала, тебя зовут?
— Карианна Хьюс, — сообщила Карианна, которая на самом деле еще не упоминала своего имени.
Девушка снова склонилась к аппарату, передала это, выслушала ответ, разогнула спину.
— Все в порядке, можно подниматься. Ты уже бывала здесь?
Карианна покачала головой.
— Второй этаж, — объяснила дежурная, — комната двести четыре, это четвертая дверь направо.
Кивнув, Карианна пошла вверх по лестнице.
Рут ждала ее, открыв настежь двери. Она была в халате, волосы растрепаны, лицо казалось припухшим, Карианна вспомнила, что подруга всегда выглядела так по утрам, когда только что проснется.
— Карианна! Что ты с собой сделала? Почему в таком виде?.. — Но Рут тут же спохватилась, отошла в сторонку, пропустила Карианну в комнату, закрыла за ней дверь. — Садись, — озабоченным голосом произнесла Рут. — Ты какая-то измученная. И волосы перекрашены. Я тебя еле узнала. Что… что стряслось?
— Можно я поживу несколько дней у тебя? — попросила Карианна. — Только до тех пор… Я сейчас не могу рассказывать…
Она упала в кресло, бросила сумку на пол и заплакала. Карианна и сама удивилась этому, поскольку считала, что больше не способна плакать. Слезы не приносили ей ни облегчения, ни боли. Они просто текли.
— Конечно, можно, — приглушенно, словно издалека, ответила Рут. — И рассказывать ничего не надо, если не хочешь. Это связано с Даниэлом, да? Ужасная история… Отдохни. Я только оденусь, а потом принесу нам кофе, и мы позавтракаем.
Рут удалилась в крохотную ванную при ее номере, и до Карианны донеслись звуки душа. Затем Рут вышла в коридор, некоторое время отсутствовала и вернулась с подносом, на котором стояли две большие кружки с горячим кофе, два стакана молока и две тарелки, на каждой из которых лежало по бутерброду с сыром.
Карианна сумела проглотить полбутерброда, немного молока и почти целую кружку кофе. Она взбодрилась. Вскоре она тоже пошла в душ и, посмотревшись в висевшее над раковиной зеркало, решила, что вид у нее лучше, чем самочувствие. Она с удовольствием вымылась и переоделась в одолженные ей Рут брюки со свитером: брюки оказались широки в поясе и слишком длинны, но это было несущественно.
— Мне скоро на работу, — сказала Рут, когда Карианна вышла из душа. Кровать к этому времени была застелена, в довольно большой комнате — светло и уютно, обстановка в основном казенная, но тут же были и предметы, которые Карианна узнала, — книжные полки, проигрыватель, две репродукции Дали на стене… Карианна прошла к окну и выглянула на улицу: город просыпался, внизу катил автобус, бежал мужчина в шортах и кроссовках, какая-то женщина выгуливала собаку.
— Ты справишься сегодня одна? — спросила Рут. — Тогда мы могли бы поговорить вечером, когда я вернусь. Или тебе лучше, чтобы кто-нибудь был рядом?
Карианна кивнула, затем покачала головой, снова кивнула и рассмеялась.
— А тебе здесь как? — в свою очередь спросила она. — Как ты живешь?
— Хорошо, — сказала Рут, устраиваясь в уголке дивана с сигаретой. — У меня все в порядке. Я в больнице рискнула показать своему психологу, в чем со мной дело. Он малость обалдел, но потом пришел в себя, и нам удалось замять скандал, а то поначалу был большой шум. И затем меня выпустили. На самом деле мне и тут-то делать нечего, есть множество людей, которым это место в пансионате при больнице пригодилось бы куда больше, и моя совесть не совсем перед ними чиста. Но найти другое жилье не просто, тем более что я хотела бы переехать ближе к работе.
— А тебя как-нибудь… лечат? — задала осторожный вопрос Карианна. Она смотрела на Рут и думала о том, что у нее спокойный вид — наверное, все более или менее утряслось.
Рут хмыкнула и, затянувшись сигаретой, сосредоточенно поглядела на Карианну.
— Лечат? Я хожу на беседы с психологом, сюда пускают жить только на таком условии. И мы с ним прекрасно проводим время, болтаем о разных разностях. Меня, сама понимаешь, не убудет от разговоров. Но «путешествовать» я не перестала. Тебя ведь это интересует?
Карианна безмолвно кивнула и отвела взгляд от Рут. Ей было грустно… Как Рут может сидеть и совершенно спокойно, нейтральным тоном рассуждать о своей болезни?
— Я научилась управлять своим состоянием, — рассудительно продолжала Рут. — Я не умею совсем прекратить эти перемещения, но могу диктовать, когда и где. Может, со временем и перестану скакать туда-сюда. Мой психолог все пытается найти объяснение, подвести теоретическую базу. По-моему, больше всего ему хочется затащить меня в лабораторию и мерить, взвешивать, обследовать, делать анализы. Впрочем, он понимает, почему я не даюсь, он человек довольно разумный. Помнишь, ты тоже пробовала строить разные теории? Он в этом отношении вроде тебя.
— Я мало чем помогла тебе, — тихо призналась Карианна. — Я пошла у тебя на поводу. А надо было сопротивляться.
Рут вздохнула.
— Да-да, конечно, — сказала она после некоторой паузы. — Давай не будем больше об этом. Я вижу, ты нашла объяснение, которого искала. Самое простое, верно?
Карианна не отвечала. Она застыла возле окна, взгляд ее был прикован к чему-то внизу, на улице.
— Что там? — поинтересовалась Рут, вставая.
Карианна повернулась к ней, смертельно испуганная, затравленная.
— Пришли, — пролепетала она. — Что мне делать, Рут?!
Рут нахмурилась.
— О чем ты? — спросила она, подходя к окну.
На улице не было заметно ничего особенного: привычное утреннее движение, голуби, машины, старушки, прогуливающиеся с пуделями. У тротуара был припаркован синий «форд», на крыльце пансионата стояли двое мужчин, которые, видимо, позвонили в дверь и теперь ждали, когда их впустят.
— Это полиция, — бесцветным, невыразительным голосом произнесла Карианна. — Я совершенно уверена, Рут. Они пришли за мной, я прикончила пятерых… нет, четверых… я точно не помню. Вчера вечером… Тех, кто убил Даниэла. — Она говорила, а сама слышала, насколько абсурдно, нелепо звучат ее слова.
— Карианна, милая, — совсем растерялась Рут. — Почему ты решила, что?.. Да нет, ты никого не убивала! Господи! Эта история с Даниэлом тебя… А я-то сижу и разглагольствую про свои дела. Надо же быть такой дурой! Все, Карианна, я не пойду на работу, мы с тобой посидим, все обсудим.
— Мне нечего обсуждать! — сказала Карианна, в голосе которой уже чувствовались истеричные нотки. — Я действительно убила их. Рут! У меня даже платье в крови. Посмотри внимательно, на желтом подоле кровь. Я взяла пистолет у Пера Эрика… ну, у одного из них, у него был пистолет… я взяла его и…
В комнате послышался зуммер телефона, Рут подошла к висевшему на стене небольшому аппарату, голос дежурной звучал здесь иначе, чем внизу, он казался солиднее.
— Еще гости с утра пораньше, — сообщил голос. — Подумать только, какой ты сегодня пользуешься популярностью, Рут! Тут двое ребят хотели бы поговорить с тобой.
— Ну ладно, — несколько удивленно проговорила Рут, и связь тут же оборвалась.
— Рут! — закричала Карианна уже с нескрываемым ужасом. — Помоги мне, Рут, спрячь меня! У тебя есть пожарная лестница или?..
Рут не спеша кивнула, ее мучили сомнения и тревога… Потом она как будто решилась, в глазах ее зажегся отчаянный, шальной огонек, она подошла к Карианне, подняла руки, обняла ее за плечи.
Побледневшая Карианна широко раскрытыми глазами смотрела на подругу.
— Нет, — прошептала она. — Только не это, Рут! Не надо!!!
— Надо, — ответила Рут, внезапно привлекая Карианну к себе.
Комната мгновенно опустела.
В дверь постучали. Комната была пуста и опрятна: если не считать валявшегося на стуле мятого желтого платья и стоявшей под столом белой сумки, все было в порядке и на своем месте. Чуть подрагивали на сквозняке красные шторы. На подоконник опустился голубь, но тут же встрепенулся и улетел, когда в комнате возникла фигура высокой худощавой девушки с длинными каштановыми волосами, в джинсах и нежно-голубой майке.
В дверь снова постучали. Рут пошла открывать, в коридоре перед ней предстали двое мужчин, один был в темном костюме, другой в ветровке, тонких летних брюках и кроссовках.
Рут выслушала мужчин и смущенно произнесла:
— Да, она была здесь, позавтракала, переоделась и ушла. А что такое? Что-нибудь случилось? Как вы сказали?..
После ухода полиции она еще некоторое время постояла, словно собираясь с мыслями. Затем прошла в кухню, которая служила не только ей, но еще пятерым обитателям этажа, достала из холодильника пакет сока, а из буфета два стакана и плитку шоколада. После этого она вернулась в комнату и уложила вещи в рюкзачок синего нейлона — Карианнину белую сумку полицейские забрали с собой, так же как ее платье и туфли. Рут подумала-подумала и запихнула туда же толстый свитер и резиновые сапоги, потом она встала посреди комнаты и закрыла глаза, губы ее сложились в гримасу крайней сосредоточенности.
Но ничего не произошло.
Рут открыла глаза, в них читалось удивление. Она сдвинула брови, сомкнула губы до черточки, сжала кулаки и опять зажмурилась.
Снова ничего.
Она сделала глубокий вдох и оглядела залитую солнцем комнату. Никого.
— Карианна, — тоненьким, неуверенным голоском позвала она.
Никто не откликнулся.
— Карианна! — еще раз крикнула Рут.
В комнате по-прежнему было светло и пусто, из коридора и с улицы доносились привычные утренние шумы; на окне жужжала муха, разбуженная солнечными лучами. Рут слышала чей-то громкий смех из соседней комнаты. Но здесь не было никого, кроме самой Рут.
Она посмотрела в окно, увидела крыши домов, верхушки деревьев и безоблачное августовское небо.
День обещал быть погожим.
Герда Антти, Земные заботы
Герда Антти, Земные заботы
Роман
Перевод О. Вронской
Gerda Antti
Det är mycket med det jordiska
©Alba 1988
1
У нас гости, мы сидим на веранде и пьем кофе. Гости — это моя сестра Гун (правда, она живет у нас постоянно, мы сдаем ей верхний этаж), Ёран, брат Стуре, который со своей Ингрид свалился на нас неожиданно, но завтра, слава Богу, они уезжают, и, наконец, Дорис и Хеннинг, мы покричали им с берега — они ставили на озере сеть. Дорис и Хеннинг — наши соседи и близкие друзья, вот уже много лет они арендуют усадьбу, доставшуюся нам в наследство от родителей Стуре и Ёрана, до них на усадьбе хозяйничал Оссиан, отец Хеннинга, потому что отец Стуре умер молодым, я его уже не застала. Когда я раздумываю о себе и о своей жизни, а делаю я это часто, почти постоянно, поскольку думать о чужой жизни мне незачем, в моих мыслях всегда присутствуют Дорис и Хеннинг, ну и Стуре, само собой. Жизнь все равно что ландшафт, который тебя окружает, и, не будь Дорис и Хеннинга, боюсь, что в нашем ландшафте зияла бы широкая просека.
Я угощаю жареной салакой, мы едим салаку почти каждую пятницу. С понедельника по четверг я работаю, а в пятницу — выходная и езжу закупать продукты на целую неделю. Салака замечательная, в рыбной лавке она сверкала во льду, как свеженачищенное серебро. В лавке у нашего доброго торговца рыбой, у которого затылок покрыт длинным мягким пухом.
Для нас салака лакомство, а вот для Ёрана и Ингрид — сомневаюсь. Они предпочитают говяжью вырезку и прочие деликатесы, если, конечно, верить всему, что Ингрид болтает про обеды, на которых им приходится бывать. Ингрид расписывает угощение, а Ёран — гостей. Не знаю, может, Ёран хочет показать, что он выше таких пустяков, как еда, однако, когда Ингрид заводит свои рассказы про то или другое блюдо, он так и сияет от удовольствия.
У нас Ёран прикидывается до того простым, что проще некуда. Не дай Бог, кто-нибудь заподозрит, будто он мнит себя выдающейся личностью, хотя на самом деле именно этот грех за ним и водится. Хочешь не хочешь, а то и дело приходится присутствовать на официальных обедах, сетует Ёран, но в общем терпеть можно, хотя иногда застольная беседа ведется на разных иностранных языках, чтобы все гости могли принять в ней участие.
— Ой, до чего же все они простые и милые люди, — говорит Ингрид, — с ними так приятно обменяться впечатлениями.
— Конечно, — вторит ей Гун. — Вы-то лучше других понимаете, что значит оказаться заживо похороненной в этой дыре. Я бы считала за счастье хоть изредка поговорить на иностранном языке! Порой я чувствую себя как рыба, выброшенная на берег.
— В сентябре мы едем в Лондон, — говорит Ингрид. — Ёрана посылают туда для обмена опытом. Я обожаю Лондон!
— Еще бы! От Лондона все без ума, кто хоть раз там побывал. Я его знаю как свои пять пальцев. Так, значит, в сентябре? Мы с вами там встретимся. Я еду в Грецию, но побываю и в Лондоне. Оставьте свой адрес. Я покажу вам город. Для нас с Харальдом Лондон — вторая родина.
Это предложение Ёран и Ингрид оставляют без ответа.
Есть еще один человек, который со смаком рассказывает, чем его угощали на деловых встречах и в командировках, это Бу, мой зять. К сожалению, он хвастун, и с этим ничего не поделаешь. Я не спорю, еда — вещь важная, и говяжью вырезку я тоже люблю, но только если во мне и есть что-то хорошее, то это никак не зависит от того, что я ем. Уж если на то пошло, так мы каждый год едим мясо, которое им не купить ни за какие деньги. Осенью Дорис и Хеннинг продают нам теленка, его мясо тает во рту. И какие бы там у Ингрид ни были достоинства, а готовить она не умеет, для этого она слишком рассеянная и брезгливая.
Взять хотя бы салаку. Надо было видеть, как Ингрид ее готовила, это тоже происходило у нас. Она вывалила всю рыбу в большую миску и залила водой. Я думала, она ее просто ополоснет, а она так терла и скребла несчастную салаку, что несколько штук изорвала в клочья. И мыла ее в нескольких водах. Я как могла старалась помешать ей: что ты делаешь, говорю, ведь рыба потеряет весь свой вкус! Но Ингрид ответила, что она умеет готовить и что кровь вызывает у нее отвращение. Без всякого удовольствия жарила я потом серые ошметки, хорошо еще предупредила Стуре, чтобы он не спрашивал, откуда у нас такая салака, а знал, что это Ингрид приложила к ней руку. Ингрид до смерти боится всякой заразы, просто мания какая-то, даже не знаю, как ее назвать; она, например, обязательно вымоет помидоры, хотя я только что принесла их с грядки, всегда приезжает со своей наволочкой, пахнущей лавандой — без этого запаха она, видите ли, не может уснуть. Раньше я считала, что она могла бы прихватить с собой и простыни, все равно едут на машине, но я ни разу ничего ей не сказала — мне, конечно, легче сушить простыни, чем ей; по-моему, и она тоже так думает.
Ингрид и Ёран до того чувствительны, что просто беда. Нужно быть очень осторожной, они как больные гемофилией, у которых чуть что — сразу кровоизлияние. Они живут словно бы в теплице и так оберегают друг друга, что ущипнешь одного, а вскрикнет другой. При такой их чувствительности очень непросто найти безобидную тему для разговора, особенно с Ингрид; сколько раз я невольно обижала ее, а узнавала об этом уже спустя некоторое время. Но не от нее и не от Ёрана, а от Стуре: Ёран жаловался ему, что Улла в разговоре с Ингрид допустила бестактность и очень обидела Ингрид; но к тому времени мы со Стуре уже никак не могли вспомнить, о чем шла речь; мы со Стуре тоже не такие уж толстокожие, но иногда я чувствую себя просто свиньей, хотя это и несправедливое сравнение, свиньи очень даже чувствительные животные. Что же такого я могла брякнуть, чтобы из-за моих слов Ингрид ворочалась всю ночь напролет? Самое забавное, что виновата всегда только я, к Стуре они не придираются, и, по-моему, это главным образом оттого, что мужчин уважают больше, чем женщин.
Но однажды я высказалась сознательно, вернее, не высказалась, а объяснилась в письменном виде. Ёран и Ингрид гостят у нас не один раз в год, два-то уж точно, живут по нескольку дней, а привозят с собой — вернее, раньше привозили — в лучшем случае хлеб, очень хороший хлеб, но тем не менее. Они, видно, думают, что если живешь в деревне, да еще на берегу озера, а ближайшие соседи — крестьяне, то еда достается даром. И что интересно: ведь Ёран с Ингрид далеко не бедные, мы знаем, сколько Ёран зарабатывает. Свое неудовольствие я выплескиваю на Стуре, вернее, выплескивала; тот случай произошел еще до того, как у нас поселилась Гун, но Стуре всегда старался уйти от этих разговоров, ему было неприятно. А кто говорит, что приятно; меня это тоже раздражало. Они со своей хваленой чувствительностью и мысли не допускали, что кто-то другой тоже может быть чувствительным. По ночам они залезали в холодильник и делали себе бутерброды с чем угодно, что там находили, часто они съедали то, что у меня было оставлено на обед. Утром сунусь в холодильник и вижу: ага, того нет, этого нет; тогда я еще не обнаглела до такой степени, как теперь, и не могла сделать им замечание в глаза, поэтому я оставила в холодильнике записку: «Умный живот не набьет на завтра оставленной пищей („Речи Высокого“)[22]».
Они ни слова не сказали, только все поглядывали на меня, но уже с тех пор, когда приезжали, привозили с собой продукты, во всяком случае, все, что необходимо для бутербродов. Теперь-то они ночуют у нас в отдельном домике, и проблема с холодильником отпала. В домике у них есть небольшой холодильник, но что они там едят — не знаю, знаю только, что по ночам они по-прежнему бодрствуют.
Наверное, с моей стороны мелко так придираться к пустякам, но ведь что-то серьезное случается редко, наша жизнь в основном и состоит из пустяков, и, кстати, все серьезное тоже начинается с пустяка. Может показаться, что если обращать внимание только на важные проблемы, то высвободится масса времени, но, боюсь, это не так. Ну что, положа руку на сердце, могу я изменить в тех серьезных делах, над которыми ломают голову Маргарет Тэтчер и другие шишки мирового масштаба? Конечно, никто не мешает мне об этом думать, и я, между прочим, думаю, но что толку? У меня же нет никакой связи с политиками, а если бы и была, они и внимания не обратили бы на мои соображения. А вот я должна обращать внимание на все, что они говорят и делают, ведь они каждый вечер навещают меня по телевизору.
Потому мне и остается только цепляться к мелочам, тут я могу что-то изменить, но из-за этого я не считаю себя мелочной. Я скорее злопамятная, и мне бы следовало этого стыдиться, только я не стыжусь. Злопамятность помогает мне избегать многих неприятностей, и если из двух зол выбирать меньшее, то я предпочту злопамятность близорукости. И моя злопамятность, которая на самом деле не так страшна, хотя слово это звучит отталкивающе, часто возникала в результате моей же близорукости. Между прочим, часто именно на мелочи и следует обращать внимание, например когда ставишь диагноз. Врачу не так-то просто вытянуть из больного необходимые подробности, ему приходится докапываться до истины, перебирая одну мелочь за другой, я делаю то же самое, хотя я и не врач. Пусть и другие так же поступают со мной, помешать им я все равно не могу.
Как, например, Ёрану и Ингрид. Они приезжают, живут у нас, едят, и, естественно, им ни в чем нет отказа. Приезжают они каждую весну, когда Стуре подводит итоги по лесному хозяйству, землю они с Ёраном сдали в аренду, а лес оставили себе, распоряжается им Стуре, он профессионал, и дело у него ладится. И хотя Стуре может отчитаться во всех своих действиях и расходах и показать бумаги, Ёран и Ингрид подозревают, что он тратит на эту работу гораздо меньше времени и труда, чем утверждает, они думают, что он их обманывает, а потому не считают за грех пользоваться нашим гостеприимством и хлебосольством, ну и само собой — раками, они прибывают к сезону так же точно, как сами раки.
Но если мы со Стуре не ошибаемся и правильно понимаем недоверчивую интонацию в голосе Ёрана, то еще неизвестно, кто кого обманывает. Конечно, Стуре обиделся, что его работа ставится под сомнение, и стал брать себе немножко больше, чем положено. В результате все остались довольны: Ёран и Ингрид — потому как уверены, что получили бесплатный отдых, а мы довольны тем, что за свой пансион они платят сами. Вот пример того, что я называю злопамятностью или своей необъявленной войной, потому что, если без конца проглатывать обиды, в конце концов сдадут нервы и все это будет только во вред.
Я сижу у двери в стеклянную комнату, мы так ее называем из-за множества окон, это наша гостиная, здесь у нас стоит телевизор. Дом построил в конце прошлого или в начале этого века местный ветеринар. Дом красивый, участок ветеринар купил у деда Стуре. Этот скотий лекарь здорово пил, и не только медицинский спирт, на дне озера мы обнаружили уйму бутылок. В конце лета, когда вода становится прозрачнее, они хорошо видны на дне, покрытые илом. У меня целая коллекция самых диковинных бутылок — старинные из-под пива и другие, даже не знаю из-под чего. Иногда мы с моим внуком Енсом достаем их со дна, у нас это называется плавать за сокровищами. Фасад дома смотрит на дорогу, она посыпана гравием, после дождя гравий становится красновато-коричневым и красиво блестит, дом отделен от дороги живой изгородью из боярышника, которую посадили еще при ветеринаре, теперь она буйно разрослась. Наш участок лежит на южном склоне холма и спускается к самому озеру, растет все у нас замечательно и воды для полива сколько душе угодно. Цветы и огород — а он у меня не маленький — это моя страсть. Стуре помогает мне, а Гун — нет. Хоть она такая же деревенская девчонка, как и я, она и пальцем ни к чему не притронется. Прошу, например, ее весной сгрести прошлогодние листья, что может быть приятнее, чем светлым весенним вечером поработать граблями? Она помашет ими десять минут, соберет крохотную кучку и бросает работу. Теперь я уже больше не прошу ее об этом: не хочет — не надо, ей же хуже, сама себя лишает такого удовольствия. Скоро шесть лет, как она у нас живет, и хочу я того или нет, но должна признаться, что научилась многое понимать благодаря ей. Вообще, многое на свете начинаешь понимать не от хорошей жизни.
Ёран у нас исследователь. Так он сам себя называет, да так оно, по-видимому, и есть: мы получаем его научные публикации. Он социолог, обществовед, а Ингрид — его ассистент. Она моет салаку, стирает рубашки, перепечатывает его труды набело, поддерживает в нем бодрость духа, сопровождает в поездках и помогает понять «важные аспекты женского вопроса». Разумеется, он добился для нее ставки ассистента, деньги выдаивать он мастер — сам об этом рассказывал; по-моему, у него на это уходит столько же времени, сколько на науку, и если это дается нелегко, то это только справедливо, так мне кажется; его работу я ставлю не очень-то высоко, а деньги он получает, потому что без конца пристает ко всем. Слишком много денег, отпущенных на науку, уходит на ветер, к сожалению, это так, я убеждаюсь в этом даже у себя на работе. Ёран изучает статистику, он подсчитывает число выкидышей, избитых жен и безработных или привлеченных к уголовной ответственности, а также все, ими выпитое, потом делит результат на число жителей в том или другом районе — и пожалуйста, процент получен, исследование готово. У Ёрана и Ингрид есть загородный дом, автомобиль «вольво», катер, так что, судя по всему, другие любители процентов его работу ценят. Они хотели держать свой катер на нашем озере, но мы воспротивились: тогда бы они от нас не вылезали. Отчеты Ёрана я в лучшем случае пролистываю, это толстые тома с приложениями I, II, III, он преподносит их так торжественно, будто это золотые слитки. Стуре более добросовестный, чем я, поэтому дольше ломает себе голову над этими трудами, но и он в конце концов сдается, сославшись на то, что у него ума маловато, или говорит, опять, дескать, та же чепуха, после этого научный труд отправляется в архив под названием «Ёран».
Сегодня разговор зашел о старых письмах, бумагах и фотографиях, которые Стуре получил от троюродного брата из Америки. Ёран увидел их впервые. Внешне он сохранил равнодушие, наверное, решил, что если Стуре заметит его интерес, то ни за что не расстанется с этим добром, поэтому сказал только: да-да, такого материала полно, но пренебрегать им не стоит, он может представлять кое-какую ценность для изучения эмиграции. Ему, мол, такими исследованиями приходится заниматься, так что, по желанию Стуре, он мог бы найти применение этим бумагам. Беда в том, что люди в большинстве своем понятия не имеют, какую ценность могут представлять собой старые документы, да и новые исследования тоже, если на то пошло. Сегодня они никакой ценности не имеют, но могут приобрести ее, если смотреть на них с точки зрения науки, лет через пятьдесят или сто. Благодаря этим никому, казалось бы, не нужным документам можно будет восстановить картину прошлого: как люди жили, что делали, о чем думали, — это же чертовски важно. Пока Стуре и Ёран толковали о бумагах, Ингрид явилась ко мне на кухню — как замечательно, что зашла речь об этих документах и они попали Ёрану на глаза, потому что Ёран, выйдя на пенсию, мечтает написать семейную хронику, и если он возьмет эти бумаги к себе, то они будут у него в целости и сохранности.
— Вот как? — сказала я. — Не подумай, что я вмешиваюсь, это дело Стуре, но вообще-то и у нас есть надежный сейф, так что бумагам и у нас ничего не грозит.
— Да-да, конечно, я не сомневаюсь. Но Ёран говорит, что объяснять исторические процессы можно только через несколько десятилетий.
На записке, которую я тогда положила в холодильник, я написала «речи Высокого», но текст придумала сама. Нарочно — они тоже вечно что-нибудь цитируют или употребляют мудреные слова. Я понимаю, наша речь отличается от их речи, но они еще и намеренно подчеркивают свою образованность. Однажды я употребила слово «диссидент», и Ёран пристал ко мне, откуда я его знаю. А я как раз читала тогда книгу о Советском Союзе, но говорить ему этого не стала, пусть думает, что я всю жизнь знала это слово. Честно говоря, мне показалось, что он вел себя как ребенок.
Короче, мы разгадали замысел Ёрана — прибрать бумаги к рукам — и решили этого не допустить. У Стуре есть собственный семейный архив, он хранит в нем и старые и новые документы. Мы со Стуре активисты местного краеведческого общества. Ёрану мы тоже предлагали в него вступить, пусть бы он даже ничего не делал, только взносы платил, потому что деньги нам позарез нужны, но он либо забыл об этом, либо считает, что от краеведческого общества толку мало. Между прочим, за могилами родных ухаживаем мы, а это тот же семейный архив. Ничего не поделаешь, Ёран такой и его не изменишь, думаю я иногда, наверное, иначе и не бывает, если человек выбился в профессора. Только, по-моему, попадись ему другая жена, он вел бы себя умнее и не воображал бы, что он гений, — ведь Ингрид к месту и не к месту твердит о его исключительности. И это понятно: чем гениальнее будет Ёран, тем лучше будет и сама Ингрид. Но нравится она мне или нет, Ёран ее сам выбрал, значит, именно такая жена ему и нужна, такая же чувствительная, как он, и чтобы утирала ему слезы, если кто обидит его. Как ни странно, но они тоже ссорятся, я сама слышала через стену, и часто после ссоры оба плачут, и не всегда в объятиях друг друга, бывает, и поодиночке.
Обычно, выясняя отношения, они спорят, кто из них более чувствительный. Мне кажется, что иногда чувствительнее бывает Ёран, иногда — Ингрид.
Так вот, стало быть, Ёран сказал, что многое обретает ценность только через пятьдесят или сто лет. Что, мол, только тогда обнаруживается суть вещей, только тогда можно понять, как люди жили и что они собой представляли. Конечно, это не лишено смысла, я сама многое в своей жизни поняла далеко не сразу, хотя, слава Богу, и не через пятьдесят лет. Можно, наверное, рассказать биографию какого-нибудь человека, перечислив, когда он родился, женился, когда у него родились дети и когда он умер, можно подтвердить ее документами, найденными где-нибудь в тайнике, но что расскажет это о самом человеке? Да ничего. Это все равно что, описывая какой-то ландшафт, рассказывать о деревьях и ни словом не обмолвиться о траве, цветах, дожде и солнечном свете. Когда мы со Стуре умрем, то в краеведческом ежегоднике, как водится, поместят наши фотографии, под которыми напечатают даты рождения и смерти и напишут, что именно мы сделали на благо родного краеведения, и тем не менее только наши близкие будут знать, что мы были за люди. Когда не видно крови, пота и слез, все кажется каким-то плоским. Боюсь, даже Ингрид и Ёран мало что знают о нас, хотя так часто к нам приезжают. Они смотрят на нашу жизнь сквозь свои очки, и кажется, будто она для них все равно что огород, засаженный картофелем. Клубни хорошие, крепкие, только вот кожура толстовата.
Однажды я спросила у Стуре, как он думает, почему они приезжают к нам так часто, гораздо чаще, чем этого требуют дела. Стуре буркнул в ответ, что он об этом не задумывался, но вообще-то Ёран тут родился, любит это место, к тому же из всей родни остались только они двое. Может, Стуре и прав, похоже, им здесь нравится, к тому же мы хорошо ладим друг с другом. Правда, они совсем никуда не ходят, природа их не интересует, разве что Ёран съездит со Стуре поставить сеть, а на другое утро, еще до работы Стуре, они ее вытащат. А больше они ничего не делают, только болтают. Трещат без умолку, и от их болтовни я чувствую себя совершенно разбитой, к тому же я еле успеваю приготовить еду или что-нибудь сделать по дому, иногда, если позволяет погода, я спасаюсь на огороде. Например, они говорят о книгах, которые им понравились, но, когда они пересказывают какую-нибудь книгу, мне кажется, что между нами пролегла пропасть — мне трудно понять, что же в этой книге такого хорошего, а еще хуже, если я эту книгу читала — в их пересказе книгу узнать невозможно, так они ее выпотрошат, вымоют и расчленят на части; я же глотаю книгу целиком, это гораздо вкуснее. Бывает, они спорят о какой-нибудь книге, но чаще согласны друг с другом. Словом, вся эта болтовня меня утомляет, а вот разговоры с Дорис и Хеннингом — никогда, как бы долго мы ни беседовали. Вообще, когда у нас гостят Ёран и Ингрид, я себя чувствую чужой в собственном доме, к тому же они никогда не ложатся спать вовремя, у них, видите ли, нервы; можно подумать, что у нас со Стуре нервов вообще нет. Теперь они, слава Богу, ночуют в отдельном домике, там у них свой телевизор — мы ведь ложимся спать слишком рано. И хотя я уже не боюсь их, как раньше, и уже ничего против них не имею, задушевными друзьями мы так и не стали. К одним людям у меня сразу возникает доверие, к другим — не сразу, а к некоторым — и вообще никогда. Такое доверие к человеку, когда, даже находясь с ним в одной комнате, чувствуешь себя легко и спокойно. Но приходит такое доверие само, не по заказу.
Маленький домик у нас появился после приезда Гун. Вернее, он был и раньше, но тогда он был еще меньше и не был утеплен. Он стоит слева от большого дома, рядом с гаражом и дровяным сараем. Через калитку к нам можно попасть только пешим, а ворота для машины находятся за поворотом, чуть подальше. С фасада у нас есть маленькая веранда, но мы никогда ею не пользуемся, мы любим большую веранду, которая выходит на озеро. Эта веранда еще новая, Стуре пристроил ее незаконно, на свой страх и риск, а я покрасила ее в белый цвет. Здесь редко дует, и отсюда видна проселочная дорога, внизу она бежит мимо пашни, наверху скрывается в лесу. Пашня не ровная, она вздымается волной, иногда мы видим там Хеннинга на его тракторе, гребень волны увенчан лиственным лесом, который спускается к озеру. Дом наш стоит в самом начале вытянутого озера, и вид у нас изумительный. Все, кто у нас бывает, особенно приезжие, только вскрикивают — ах, ах, какая красота, какой вид! И мы говорим, да, пожалуй, красиво, или, да, отсюда хороший вид. Нам он тоже очень нравится, только надоело повторять одно и то же.
2
Кстати, насчет того, что Ёран сказал по поводу старых бумаг, будто бы новые приобретают ценность только много лет спустя. Интересно, останутся ли какие-нибудь бумаги, из которых можно будет что-то узнать обо мне или о нас со Стуре? Если такие бумаги и есть, то их совсем немного. Ну, например, фотографии, только если к фотографии нет текста, то ведь можно сочинить что угодно. Я уже говорила, что часто думаю о своей жизни; мне пятьдесят три года, в этом возрасте не начинаешь, а продолжаешь размышлять, как же ты прожил свою жизнь. Однажды поздно вечером по радио женский голос пел с тоской: Спеши, Господь, спасти меня, — иногда и на меня находит такое настроение. Положим, я умру лет этак через тридцать, это; конечно, в лучшем случае, и останутся один или два человека, которые еще будут меня помнить, если только не впадут в старческое слабоумие; но даже если они сохранят память, то все равно каждый из них знает только частицу меня, так же как и я — их. Все равно что лоскутки разрезанной скатерти. Восстановить из разрозненных лоскутков целое невозможно, только сам человек знает, каким он был. Стуре мог бы многое рассказать обо мне. Дорис и Хеннинг тоже, но они не станут этого делать, им и в голову не придет, что это может представлять интерес; брать интервью у Карин тоже бессмысленно, я вообще считаю, что дети редко хорошо знают своих матерей, я, например, про свою ничего толком сказать не смогла бы. Странно, конечно, живешь всю жизнь среди людей и каждый для тебя загадка, даже если ни у кого из них особых тайн нету. Впрочем, и тайн стало бы меньше, если бы люди разом раскрыли свои тайны. Они бы выяснили, что у большинства эти тайны одинаковые, а скрывали они то, что по той или иной причине считали позорным, и после этого им уже нечего было бы скрывать. Однако каждый молчит о себе, а потому молчат и все остальные.
Наверное, кое-что об этом ученые уже знают, необъяснимого на свете не так много, если на то пошло. Вот они и прочесывают нас своей гребенкой, у которой расстояние между зубьями — пятьдесят лет, и выводят свое среднестатистическое. Все только и говорят про это среднестатистическое, к месту и не к месту. Для ученых среднестатистическое — это истина в последней инстанции. Из всех величин они предпочитают среднюю.
Только из этого среднестатистического я ничего о себе не узнаю, и Дорис о себе — тоже. Насчет Стуре трудно сказать, достанет ли у него вообще любопытства этим интересоваться.
Каждый человек оказывается в центре нескольких кругов людей, один круг к нему ближе, другой дальше. У всех свои круги, иногда они частично или полностью совпадают друг с другом. Интересно было бы взглянуть на все это сверху. Ближайший ко мне круг состоял бы из тех людей, что сидят сейчас на веранде, не хватает только моей дочери Карин, ее мужа Бу и их детей, Енса и Эвы, а также моей матери и брата Густена. Правда, мама и Густен бывают у нас редко. Мама уже несколько лет лежит в отделении для хроников, она совсем плоха, а вот Густен — чем реже я его вижу, тем лучше; он тоже, по-видимому, так считает, особенно с тех пор, как взял у меня взаймы. Если хочешь избавиться от кого-нибудь, дай ему взаймы. Я, правда, не ожидала, что сделаю такую глупость, однако сделала, дала Густену деньги и ничего не сказала об этом Стуре. Не знаю, что хуже. Если Густен не вернет мне долг до подачи налоговой декларации, то я пропала, я просто со стыда сгорю. Самое скверное, что стыдиться приходится собственной «доброты», я-то думала, что с нею давно покончено, но с таким же успехом можно считать, что покончено и с глупостью; если б я поверила в это, то была бы последней дурой. Неприятно, если по твоей вине кто-нибудь станет корить себя за глупость, которую допустил, считая, что совершает добрый поступок, но Густен не из тех, кто будет казниться из-за таких пустяков: я для него просто дура, которая вообразила, что выцарапает у него обратно свои деньги. Такой уж он человек. Я рассказала об этом только Дорис, и она предложила дать мне взаймы, чтобы я положила нужную сумму в банк, если Густен не вернет долг до Рождества, но для этого ей придется открыть все Хеннингу, а если Стуре узнает, что им я обо всем рассказала, а ему нет, будет скандал. Всякий раз при мысли о Густене у меня ноет под ложечкой. Увы, совершив глупость, можно утешаться только тем, что именно эту глупость в другой раз не совершишь. Но ведь еще не совершенных глупостей тьма-тьмущая, как сорняков на огромном капустном поле — их можно выпалывать всю жизнь.
Вот почему Густен к нам глаз не кажет.
Враги человеку домашние его. Первородный грех снят с людей только на бумаге. Почти все, кого я знаю, терпят неприятности от своих близких. На чужого можно плюнуть, а вот с близким так не поступишь. Близкие даны нам свыше для полноты жизни. Жизнь со всеми ее тяготами должна проникнуть в человека, овладеть им, а то ему будет слишком легко и приятно, того и гляди перестанет развиваться. Это мое мнение. Густену скоро пятьдесят, а он все как ребенок, я уже потеряла надежду, что он когда-нибудь повзрослеет. Я думала, ладно, жизнь ему еще покажет, и она действительно показывала, но ему все нипочем, он как резиновый мячик. Когда ему трудно, он лжет и изворачивается, норовит свалить свою вину на всех и вся, у него всегда в запасе тысяча оправданий, и он выдает их одно за другим; вполне допускаю, что он и сам верит тому, что говорит, но от этого не легче. Он щедро раздает обещания и не выполняет их, однако ему и горя мало. По-моему, тот, кто так живет, неспособен на глубокие переживания, ведь он ничего не принимает близко к сердцу.
Чуть ли не каждый разговор он начинает так: честно тебе скажу или скажу тебе все, как есть. Глядит на тебя своими телячьими глазами и лжет. Но кто же станет утверждать, что в телячьих глазах отражается прежде всего честность? Теперь, когда мне говорят: честно тебе скажу, — я сразу готовлюсь к худшему и жду, что же за этим последует. Вдруг на этот раз мои предчувствия не оправдаются, хотя бы для разнообразия? Вдруг моему собеседнику или собеседнице придет в голову блажь сказать правду? Но если человек привык лгать, не надо думать, что он вдруг скажет правду, не так это просто для того, кто всегда лжет. Так же, как не надо думать, что стоит закинуть удочку, и у тебя сразу клюнет. Такова суть Густена, набросок портрета. У него в Гудхеме малярная фирма. Зарабатывает он достаточно, даже больше, чем нужно, любит только пустить деньги на ветер, а после ухода жены и совсем загулял. Она-то от развода только выиграла, ей бы давно следовало его бросить. Словом, жизнь Густена учит-учит, однако наука ему не в прок.
Я читаю много детективов, только из них и можно узнать, что люди постоянно лгут, в обычных романах этого нет. В детективах правды не говорит никто, каждый громоздит ложь на ложь, потому что каждому есть что скрывать. Как будто, если правда, не дай Бог, вырвется на свет, она окажется хуже чумы, а между тем с нею можно чудесно жить, пока она никому не известна. Она так ужасна, так отвратительна, что ее скрывают, как могут, но если, набравшись духу, ее выпускают на свободу, всем становится ясно, что нет ничего прекраснее правды. Мне тоже случается лгать, но теперь гораздо реже, чем раньше, и только ради удобства. Раньше я лгала примерно с той же целью, что и Густен или Бу, который вечно все преувеличивает, лгала, чтобы казаться лучше, чем я есть. Но теперь я считаю, что говорить правду куда интересней, в тех случаях, когда она не разрушительна и не слишком запутанна, — ты как бы лучше узнаешь себя. А когда лжешь и плетешь небылицы — это невозможно: тогда уже думаешь только о том, чтобы сочинить что-то новое и оправдать старую ложь. В конце концов обрастаешь ложью, как кочан листьями. Ладно бы только Густен был таким кочаном, хуже, что и Бу у нас точно такой же, а ведь он муж нашей Карин и отец наших внуков. Интересно, может ли лжец написать правдивую книгу под названием «Я лжец»? Трудно сказать. Неизвестно, сколько в ней будет правды и сколько лжи.
Я чувствую себя неловко, когда взрослые люди начинают лгать и изворачиваться: это все равно что надеть модный костюм и свежую рубашку на грязное белье и грязное тело. Чтобы разгадать этих вралей, надо близко знать их, иначе не разглядишь их грязной шеи, но даже если и знаешь их, если они входят в самый близкий тебе круг, ты все равно отказываешься верить своим глазам. Тут уж сама начинаешь лукавить, искать оправдания, грешить на собственную память, думать, что ошиблась, что это случайность.
Словом, сама себе шоры надеваешь.
В отношении Гун, которая сейчас сидит в дальнем углу веранды, шоры мне уже не помогут, но на это потребовалось время. Это я посадила ее в самый дальний угол. Раньше она садилась у двери и все время норовила отлучиться. То она забыла сигареты, то ей понадобилось в уборную, то у нее ноги затекли, а сама бежала на кухню проверить, не найдется ли чего-нибудь выпить, и, хотя я стараюсь убирать под замок все бутылки, обязательно что-нибудь забуду. А этот проклятый ключ, где я его только не прячу: и за цветочным горшком, и под поваренными книгами, и в сапоге, мне самой бывает сразу его не найти. Но Гун не проведешь, она сама прятать ловка.
Когда она приехала к нам, мы ничего про нее не знали, однако Стуре с первого взгляда все понял, а вот я — нет, с тех пор она живет у нас, потому что больше ей деться некуда. Настроение Гун, добродушное или раздраженное, веселое или грустное, зависит только от одного: пьяная она или трезвая. И не знаю как для кого, а для нас только лучше, что по выходным винные магазины не работают, — забот меньше. Если к пятнице выпивка у нее кончается, мы знаем, что выходные у нас пройдут спокойно, потому что, когда мы дома, ни один сердобольный друг не ступит на наше крыльцо, опасаясь, что он или она, поскольку сердобольные друзья бывают и женского пола, подвергнется обыску. Вообще-то, мы притерпелись к тому, что в доме у нас заложена мина, хотя это довольно утомительно. Когда мы, сделав поворот, выезжаем на дорогу, ведущую к дому, то первым делом смотрим, цел ли он, — весь пол у нас прожжен ее окурками. Убедившись, что дом не сгорел, я поднимаюсь наверх узнать, жива ли она; до сих пор я всегда заставала Гун живой, хотя в первые годы убеждалась в этом, только потрогав ее. Гун — это долгая история. Только веселые истории бывают короткими, все забавное и приятное кончается слишком быстро, а невеселому конца не видать.
Про деньги, которые я дала Густену, я ничего не сказала Стуре еще и потому, что он уже порядком натерпелся от моей родни. Пусть он никогда не жаловался, но я-то знаю. Ёран и Ингрид — это цветочки по сравнению с моими родственничками. Поэтому, если теперь грядут какие-то неприятности с Карин, можно утешаться тем, что нас это коснется одинаково.
Если родные даны нам, чтобы лучше познать жизнь, а то, не дай Бог, она покажется нам слишком легкой, то друзья даны нам в утешение. Нам бывает так хорошо с Дорис и Хеннингом, так спокойно, они у нас как неприкосновенный запас, который мы получаем, когда наши собственные запасы исчерпаны. Мы с Дорис делимся своими заботами, перекладываем их друг на друга, мне легче нести ее заботы, а ей — мои. У нас со Стуре есть и другие приятели, но только с Дорис и Хеннингом мы можем говорить обо всем на свете — и о высоких материях, и о земных заботах, а в наши дни это большая редкость; у меня такое впечатление, что люди теперь не беседуют ни о чем, кроме телепередач. Столько всяких суждений носится в воздухе, не успеешь задуматься над одним, глядишь, появилось новое, забываешь первое, начнешь думать над вторым, а тут еще что-нибудь, и так без конца. Когда мчишься на большой скорости, за окном машины все сливается, не успеваешь разглядеть, так же и тут. А мы любим беседовать, иногда перемываем кое-кому кости, не без того. Нельзя сказать, что мы очень этим увлекаемся, но иной раз так злишься на кого-нибудь, что просто необходимо выговориться, так сказать, выпустить пар. Мы видимся не очень часто, иногда не встречаемся по неделям, потому что у Дорис с Хеннингом хозяйство, профсоюзные дела, а у нас — работа и Гун, но так даже лучше, дружбе это не в ущерб. Хорошее приедается, это каждый знает.
Уметь не приедаться ни другим, ни себе — это своего рода искусство. А может, именно это и есть настоящее искусство.
3
Устала ли я? Да, иногда я чувствую, что я устала, выдохлась. И тогда мне хочется поехать в дом отдыха недели на две, питаться только овощами, делать массаж, принимать грязевые ванны, но, с другой стороны, ведь я совершенно здорова, скорее всего, я там с тоски помру, и отдыха не получится. Да и как оставить Стуре одного с Гун, он на это никогда не согласится, так что отдыхаю я только в мечтах о доме отдыха. Нет, я ничем не больна, но иной раз лежу в постели и ощупываю себя, нет ли где опухоли, ведь главным образом боишься рака — все боятся рака, мне-то это известно лучше, чем кому бы то ни было. Четыре дня в неделю я работаю секретарем в оздоровительном центре в Гудхеме, печатаю истории болезней — я зову себя Машинисткой судьбы.
Мое чувство усталости не связано с физическим состоянием, я просто устала от жизни. По-моему, этим страдают многие, на то же жалуется и Дорис. У меня ко всему отвращение: к людям, к миру, и все меня выводит из равновесия. Мне трудно объяснить это чувство, но оно почти не покидает меня. Только когда мы со Стуре остаемся одни, я могу расслабиться и отдохнуть, а вот на людях это чувство исподтишка снова охватывает меня, наливаются тяжестью щеки, скулы, подбородок, и лицо как будто стекает за воротник. Все вдруг становится таким плоским, скучным, пресным. Кто-то что-то говорит, а я про себя думаю, что уже тысячу раз это слышала и не лень им раскрывать рот и нести такую чушь? И не лень Ёрану так долго и нудно рассказывать про то, как они к нам ехали, и на какой скорости, и какая скорость была у других идиотов, и как на мокром от дождя асфальте машину заносило на поворотах. А Ингрид подпевает: Ёран такой прекрасный водитель, он за рулем такой собранный. И все это они говорят с таким пылом, будто в первый раз, вот бы, думаю, Ёрану этот пыл, когда вчера надо было помочь Стуре посадить дверь на петли, но тогда Ёран с ходу прищемил себе палец и потом долго сосал его, как ребенок, в конце концов он взялся рукой за лоб и сказал, что у него слабость. В результате дверь держала я. А Гун со своим светским щебетанием о круизах, пляжах, отелях и памятниках старины, сама-то небось каждый день валялась в номере либо пьяная, либо с похмелья. Мне бы радоваться, что у них хватает бодрости поддерживать беседу, потому что мы со Стуре больше помалкиваем. Может, они столько говорят, потому что мы кажемся им слишком скучными, только ведь и мне с ними скучно; Дорис с Хеннингом тоже надолго не хватило, посидели и ушли, впрочем, они, наверное, просто устали. Работают от зари до зари.
Еще я заметила, что мне не нравится, когда кто-нибудь высказывает ту же мысль, которую незадолго до этого высказывала я сама. Казалось бы, ну какие у меня могут быть возражения, почему бы мне не согласиться, сказать, что и я тоже так думаю? Вот ведь свинство, но когда я слышу собственное мнение, высказанное кем-то другим, то делаюсь более придирчивой, мне становится видна изнанка моих слов, их истинный смысл, проявляются все изъяны и преувеличения. А кроме того, с тех пор как я так думала или мне казалось, что я так думаю, прошло какое-то время, я поднялась на новую ступеньку и предыдущая меня уже не интересует. Конечно, я не права, мне бы следовало помнить, что нижняя ступенька на лестнице не менее необходима, чем верхняя, и для того, кто сейчас на нижней ступеньке, она так же важна, как когда-то была и для меня. Но мне попросту лень вспоминать об этом. Пускай себе карабкаются по лестнице, думаю я, все равно каждый сам должен преодолеть свои ступеньки. Вот такие дела. Иной раз я все-таки вступаю в разговор, просто чтобы не молчать, потому что молчание слышно лучше, чем слова, однако предпочитаю, чтобы говорили другие, и надеюсь, что мое молчание не слишком заметно. Я уже не могу любить то, что любила двадцать лет назад или хотя бы десять, да и совсем недавно — тоже, все это мне смертельно надоело. То, что наполняло мою жизнь несколько лет назад, теперь нагоняет на меня тоску. Мне кажется, что самое важное в жизни я постигла вчера. Я стала немного угрюмой и смеюсь теперь реже.
У нас на работе все любят поговорить — во время обеда, в перерывах за кофе. Большая часть женщин моложе меня, я-то принадлежу к старшему поколению, а у них маленькие дети, поэтому разговаривают они в основном о детях, вернее, обо всем, что с детьми связано. Больше всего об одежде для детей, она очень дорогая, а дети из нее мгновенно вырастают. Часто говорят и об отпуске, особенно когда они, загорелые и похорошевшие, возвращаются на работу, но все больше о том, какая была погода. Вообще болтают много, но не серьезно. О том, кто и что приобрел в «Икеа», о своем весе, о том, что в стиральной машине можно стирать тюфяки и обувь, что мужчины ничего ни в чем не понимают. О мужчинах женщины самого невысокого мнения. Все мужчины существа вроде Кинг Конга или похожи на неразумных детей. Часто заходит разговор о телепередачах, особенно о многосерийках, таких, как «Династия» или «Даллас». Это, конечно, страшная чушь, и вся эта чушь показана как бы сквозь замочную скважину: ты как будто подглядываешь, что происходит в кабинете или в спальне, — одна надежда, что все это преувеличено, хотя кто знает? Тем не менее страсти кипят и бурлят, как положено по второй развлекательной программе. Ничто так не утешает, как чужое несчастье, а если ты видишь его по телевизору, тебе к тому же не надо бросаться на помощь. Скорей всего, популярность этих сериалов объясняется присущей человеку тоской по красивой жизни. Герои фильмов не болтают о занавесках или о том, где дешевле купить муку. В этих фильмах занавески поднимаются без усилий, люди ссорятся, драматизм достигает высшей точки, все спят друг с другом, кругом ложь, подозрения, ненависть, слезы, словом, все как у нас, только погуще замешано. Правда, об этом как-то не говорят. Я иногда думаю, что лучше, наверное, посмотреть «Даллас», чем послушать проповедь, ведь в «Далласе» человек видит себя во всей красе, и это зрелище способно отрезвить многих. Однако большинство все-таки предпочитают не трезветь.
То, что лежит на поверхности, доступно всем, но ведь есть еще сокровенное, оно лежит ближе к сердцу. И оно далеко не всегда самое приятное или легкое, вот люди и норовят уцепиться за то, что полегче, как за маленький спасательный круг.
Иногда мы бываем в гостях. Кому-нибудь стукнет сорок или пятьдесят, и нас приглашают на юбилей, но все эти юбилеи очень похожи один на другой. Если несколько таких вечеров идут подряд и на первом было удачное угощение, то на следующих, скорее всего, подадут то же самое и платья на женщинах будут те же. Возле каждой тарелки положат тетрадки с текстами песен, так что поесть толком не удастся: тут тебе и «Сладкая юность», и «Спеши, любимая, спеши любить», мелодию которой никто правильно спеть не может. Но каждый мечтает о любви, по крайней мере мужчины, к женам их мечты не относятся — жену люби себе на здоровье, если она не против, а мечтают они о другой любви и рады иногда поиграть в эту мечту, рады, что есть такая песня, и они пытаются спеть ее хором. В конце концов, что в этом дурного? И все болтают, перебивая друг друга, но это неважно, никто не ждет ответов на свои вопросы, да и вопросы-то пустяковые: на тебе в прошлый раз была такая красивая кофта, где ты покупала шерсть? Потом гостей благодарят за то, что они пришли (а также за то, что уходят), и все разъезжаются по домам, внешнее веселье и вино еще греют какое-то время, а потом подступает одиночество, пустота и «мне не с кем по душе поговорить» — как поется в модной песне. А кто-то, вернувшись домой, ложится в постель и думает: хорошо, черт возьми, наконец лечь в свою постель.
Я уже слышать не могу про эту потребность «поговорить по душе». У нас в центре 99,9 % женщины, и дня не проходит, чтобы кто-нибудь из них не сказал: как здорово, что теперь поняли, насколько важно для человека поговорить с кем-нибудь по душе. Однажды я не выдержала и спросила, а кто вам раньше мешал это делать? Ну, тогда было совсем не то, никто не понимал, как это важно, для больных, например.
И это истинная правда. У нас есть психосоматическое отделение, так у них в приемной полно душ, которые сошли с рельсов. Но вообще-то… Как можно говорить о душе, не говоря в то же время о своей жизни, намерениях, о совершенных или несовершенных поступках, ведь отсюда все переживания. По-моему, говорить о душе все равно что говорить о хвосте, не упомянув про собаку, или о морской пене, не упомянув про то, что был шторм. Самое удивительное, что вся эта болтовня про душу и переживания сводится к тому, будто все вокруг вообще не способны переживать или чувствовать, будто человеку с тонкими чувствами трудно жить среди всех этих толстокожих. Эти специалисты по переживаниям ходят от врача к врачу, потому что их, чувствительных и сверхчувствительных, никто не понимает, на работе им невмоготу, поехать за границу — страшно, там столько всяких ужасов, голодных детей и бездомных. Единственное, что они могут, — это поговорить по душе. Будь я врачом, которому вот-вот выходить на пенсию, у меня такой пациент получил бы хорошего пинка, но большинству врачей до пенсии еще работать и работать, а потому вместо пинков они выписывают больным таблетки.
Вся эта болтовня о чувствах и переживаниях — все равно что волна, поднятая моторной лодкой. Хотят, чтобы она не била о берег. Волну-то обнаружить легко, труднее разглядеть лодку. Только без лодки волны не бывает.
Что касается Ингрид, то ее лодка — Ёран. И все волны в ее жизни вызваны им. Она этого не говорила, да и не скажет, но я вижу, как вижу и то, что она при нем играет роль адвоката, в этом она тоже никогда не признается, потому что тогда надо признать, что адвокат ему необходим. Женщины часто бывают адвокатами своих мужей. Только защищают они самих себя. Они бы не прочь выступить в роли прокурора, но это все равно что объявить дома войну и разрушить домашний очаг. Тут поневоле станешь ласковой. Тем более и пресса это настоятельно советует.
Вот Ингрид и вяжет — глушит волну, поднятую Ёраном, вяжет свитера и глотает таблетки. Вяжет она без передышки, интересно, сколько у нее уходит денег на шерсть и кто все это носит? У Ёрана полно свитеров, у нее — тоже, ведь она мерзлячка, даже нам со Стуре досталось по свитеру, а куда делись все остальные?
— Ёрану нравится, когда я вяжу: звон спиц его успокаивает. Хуже, если я читаю, потому что во время работы он любит разговаривать и задавать мне вопросы.
Нахмурившись, она перебирает петли, как принцесса Элиза, которая вязала рубашки из крапивы для своих заколдованных братьев. Когда я готовлю, Ингрид с вязаньем садится посреди кухни, словно собака или кошка, которые норовят сесть на виду, чтобы про них не забыли; она болтает о всяких исследованиях и опытах, о гениальности Ёрана и о важности его работы.
— Я должна защитить его, — напрямик заявляет она иной раз. — Мне кажется, вы не совсем понимаете, что он делает. Социальному фактору теперь придают все большее значение, требуется все больше данных. Здесь у вас пока тишь да благодать, но скоро и вас затронут проблемы больших городов, и если заранее изучать тенденции развития социальных процессов, то социальным службам не придется действовать вслепую. Если бы всюду было так же спокойно, как здесь…
— И у нас всякого хватает, — говорю я. — То есть в Гудхеме, конечно. Водка, наркотики, подростки, воровство, поножовщина. Я уж не говорю о разных извращениях.
Ингрид усмехается и качает головой:
— Кто этого не изучал, тот не знает истинного положения вещей, газеты пишут очень поверхностно. Но верно говорят: нет пророка в своем отечестве.
— А зачем Ёрана защищать? Мы не всегда думаем так, как он, но ведь и он не всегда думает так, как мы. Он человек самостоятельный.
— Все так считают, потому что он кажется таким сильным, а на самом деле он гораздо мягче и чувствительнее, чем можно подумать. У него терпения, может быть, меньше, чем у других, он нуждается в поддержке и в отличие от многих мужчин осмеливается в этом признаться. Каждый человек нуждается в поддержке. И Стуре, и ты тоже.
— Стуре сам справляется.
— Какая же ты черствая.
— Я говорю, как есть! Стуре поднимет меня на смех, если я заведу с ним беседу о кубометрах древесины. А терпение? Конечно, терпения на все не хватает, но, когда нужно, приходится терпеть. Это ты должна знать по вашим исследованиям.
— Как раз терпения многим и не хватает! — Между нами возникает натянутость, Ингрид смотрит на меня почти сурово. — Разве не ясно? Именно над этим мы и бьемся, доказываем, что люди просто гибнут! Сколько людей погибло из-за социальных условий, из-за жестокости по отношению друг к другу! — Она понижает голос: — Посмотри на Гун. Если бы муж относился к ней иначе, заботился бы о ней, не увлекался бы другими… Она не смогла этого выдержать…
— Кто тебе это сказал, уж не Гун ли? Надеюсь, ты понимаешь, что это не вся правда?
— Она так чувствует, значит, для нее это реально.
— Выходит, если я чувствую, что дважды два пять, значит, так оно и есть?
— При чем тут дважды два? Для того чтобы помогать людям, надо уметь влезть в их шкуру. Чем ее чувства хуже твоих? А ты не очень-то с нею церемонишься, ни с нею, ни со Стуре, прости, что я так говорю. Если бы я так обращалась с Ёраном, он бы погиб.
— Так вот почему ты вяжешь!
— К чему это ты?
— Все, что ты недоговариваешь, ты вкладываешь в свое вязание. Знаешь, какой у тебя хмурый вид, когда ты вяжешь? Даже сердитый. Когда мне бывало невмоготу, это еще до рождения Эрика, я, точно одержимая, вышивала монограммы на носовых платках и простынях. Я бы забыла об этом, если бы они не попадались мне на глаза до сих пор. Я вышивала только свои инициалы, и Стуре даже сказал однажды — он был расстроен, — что я уже не беру его в расчет. Так и было. Мало того, что я вышивала только собственные инициалы, я еще вышивала вокруг них рамочку. Это уже психиатрический симптом, и, если на то пошло, я и тогда это понимала. Еще я навязала целую уйму хваталок для кастрюль. С тобой такого не бывало?
— Со мной? Нет. — Она кладет вязание на стол и даже слегка отпихивает его от себя. — Я люблю вязать, это так приятно! Надо же выдумать, будто я боюсь что-то сказать Ёрану! Чепуха какая! Ты же слышала, что мы с ним говорим о чем угодно. Он отличается от всех мужчин тем, что с ним можно говорить обо всем на свете. Как с женщиной. О других мужчинах этого не скажешь.
Она побледнела, и мне стало ее жалко. Пожалуй, следовало бы подойти и обнять ее, но у нас с нею не заведено обниматься. И если бы я обняла ее сейчас, боюсь, она углядела бы в моем поступке фальшь. Конечно, с моей стороны это не было бы фальшью, но ей с ее сверхчувствительностью необходимо, чтобы даже на самом безобидном объятии стояла проба подлинности. Она защищается, но тем самым отгораживает себя от людей. Пить она тоже не пьет, только пригубит рюмку, словом, она всегда начеку. Будь на ее месте Дорис, я бы сказала, что предпочитаю разговаривать со Стуре как с мужчиной, а не как с женщиной, но Ингрид я ничего такого не говорю, иначе она решит, что мне просто нравится спорить.
— Я защищаю Ёрана! Это ж надо выдумать! Мне его защищать нечего! Я только хочу объяснить.
— Ну прости, — говорю я. — Я же все понимаю.
А про себя думаю: один — ноль в мою пользу.
Однако мой выигрыш сомнительный, и, боюсь, не обернулся бы он проигрышем: уж очень я тревожусь за Карин. Я рассказываю про Ингрид, а сама думаю про Карин, ведь и она тоже защищает Бу, а стало быть, и самое себя. В глаза это не бросается, но мелочи говорят о многом. Например, когда они разговаривают, они не смотрят друг на друга. Это плохой признак. Карин отмалчивается, обронила только, что по вечерам Бу почти не бывает дома.
— Вот как? — удивилась я. — Что же он делает?
— Работает. Несколько вечеров в неделю. Домой иногда приезжает за полночь.
К нам она теперь стала приезжать чуть чаще. Я спросила у Стуре, не заметил ли он чего-то необычного, но он ничего такого не заметил. Может, и не заметил, а может, просто не хочет говорить. Он часто следует правилу: не расстраиваться раньше времени, авось пронесет. Умирать раньше смерти он не собирается.
Поди пойми, как лучше вести себя со взрослыми детьми. Молчишь — плохо, говоришь — опять нехорошо. Быть бабушкой, дедушкой, тещей — это же сущее рабство: тебе дозволено только быть доброй, дарить внукам подарки, сидеть с ними, когда нужно отпустить маму и папу, — но тоже не слишком часто, иначе другая бабушка начнет ревновать, — подкидывать время от времени деньги. А так — ничего не видеть, не слышать и не совать свой нос, куда не следует. Словом, быть идиоткой.
4
Я не верю в доброту, я верю в Войну. Я уже испытала на собственной шкуре, что значит быть доброй. У нас есть сосед, он тоже живет на берегу озера, он пенсионер, рыбак и кузнец своего счастья, так он себя именует. Подобно многим другим, Ольссон Аллохол — это его прозвище — учит людей житейской премудрости и считает, что этого достаточно. Он говорит, например, что доброму только ленивый на шею не сядет, и я с ним согласна. Я, правда, еще не полностью избавилась от своей дурацкой доброты, взять хотя бы случай с Густеном, но от недостатков и невозможно избавиться полностью, нечего и надеяться. А что такое домашняя война, я узнала благодаря Гун.
За свою жизнь мы с ней, можно сказать, почти обогнули озеро. В детстве мы жили на противоположном берегу, и, если бы не расстояние и не мысы, которыми изрезано озеро, отсюда было бы видно то место, где прошло наше детство. Теперь вот мы обе живем на этом берегу, правда, Гун прибыла сюда длинным кружным путем. Но сейчас она живет здесь. И скорее всего, останется у нас до конца своих дней, хотя в отличие от меня ей все тут не по душе.
Если уж рассказывать о войне, вошедшей в мою жизнь, то надо углубиться в прошлое, когда теперешнее настоящее было еще будущим. У настоящего, как и у всего на свете, есть свое начало, только в начале не видно, каким будет конец, зато в конце начало видно почти всегда. Можно попытаться проделать обратный путь, разматывая постепенно клубок, но путь такой извилистый. С него ничего не стоит сбиться.
Когда мне было восемь лет, а Гун — восемнадцать, она уехала в Стокгольм и устроилась там на работу. Я совсем не помню, какая она была, и теперь, когда я смотрю на своих внуков, Енса и Эву, и нам так хорошо друг с другом, я иногда думаю, что вот они вырастут и, может быть, даже не вспомнят, как нам было хорошо. Может, они лучше запомнили бы меня, если бы мы с ними ссорились, но оставаться в их памяти такой ценой я тоже не хочу. А что я помню про Гун? Помню, что завидовала ей и Густену: Гун была у мамы любимицей, а Густен — любимчиком. Я же, родившаяся второй и опять девочка, особым расположением не пользовалась. Я могла бы стать любимицей отца, но мама не подпускала его к нам. Оглядываясь назад и собирая по крохам то, что осталось в памяти, я вижу, что отец был скорее чем-то вроде квартиранта: он приносил домой деньги и за это получал еду, постель и чистое белье. Его ковбойки и рабочие куртки часто сушились над плитой. С утра до вечера он работал на лесопильне, проделывая неблизкий путь туда и обратно на черном велосипеде, который сам чинил, смазывал, заклеивал камеры. Помню, как он, поставив на пол тазик и опустив камеру в воду, искал прокол. Почти круглый год он пользовался велосипедом и только зимой, в самую холодную пору, ездил на автобусе вместе с другими рабочими лесопильни; автобус был дорогой, и в остальное время отец себе этого не позволял. С работы он возвращался затемно. Раздевшись и расстегнув до конца ворот нижней рубахи, умывался все в том же тазике. Он был бесконечно одинок. Зато мама всегда, или почти всегда, была дома, при случае она подрабатывала, и в доме все решала только она. Я рано усвоила, что отцу ничего не надо рассказывать. Что бы ни случилось. Кто приходил, что говорилось, а главное — не рассказывать того, что сделали или чего не сделали Гун или Густен, — об этом мама всегда молчала, а если было нужно, то и лгала. Их она выгораживала. Отец только рассердится, объясняла она, лучше ничего ему не говорить.
Каково жилось моему отцу, я так и не успела спросить, он утонул во время рыбалки, когда мне было одиннадцать лет. Какой-то рыбак обнаружил его пустую лодку, позже нашли и тело; когда мы прибежали на берег, он лежал на земле, накрытый брезентом, он выглядел таким маленьким, а одежда от воды казалась совсем черной. Мама сказала, что больше никогда не выйдет замуж, — я так и вижу, как она это говорит соседке, с которой они сидят на кухне. Воспоминание не из приятных.
Гун приехала на похороны, но тогда она еще не достигла вершин, на которые поднялась позже. Белокурая, красивая, она всячески старалась подчеркнуть свою фигуру — носила широкие пояса на тоненькой талии и обтягивала узкой юбкой круглые ягодицы, похожие на щеки с веселыми ямочками. Теперь, когда фигура у нее стала бесформенной, как заросшие илом бутылки ветеринара, я вспоминаю, что в ее красоте был все же один изъян — у нее были чересчур тонкие ноги. Наверное, ничего не бывает случайно. На таких ногах устоять трудно. Она работала секретаршей, у нее были длинные ногти, печатала она превосходно еще до отъезда в Стокгольм — буквы, казалось, так и сбегают у нее с кончиков пальцев. Из Стокгольма она писала, что каждый раз находит место лучше прежнего, уж не знаю, благодаря своей талии или скорости печатания, в конце концов она поступила работать в крупную бумажную фирму и вскоре вышла замуж за директора фирмы Харальда.
Домой она приезжала очень редко. Даже на мою свадьбу не приехала, правда, прислала в подарок вазу. Письма от нее приходили все реже, и в конце концов она стала присылать только открытки. На Рождество мы получали от нее шоколадные наборы, большие, как сиденье у стула. Позже я узнала, что эти наборы дарили их фирме другие фирмы, но шоколад от этого не стал хуже. Присылала она и наборы почтовой бумаги, на которой мама писала ей потом письма. Гун венчалась в Париже и прислала нам оттуда карточку — Гун с Харальдом идут рука об руку, нам они показались очень красивыми. Мама послала им в подарок вышитую ею скатерть; когда Гун приехала к нам, эта скатерть лежала среди ее вещей, и, по-моему, ею ни разу не пользовались. Однажды они пригласили нас с мамой в Стокгольм, мы никогда не видели такой роскоши. Харальд был очень красивый и радушный, гораздо радушнее, чем Гун. Нас поселили в гостинице, хотя места в квартире было достаточно. Наверное, Гун боялась, что мы перепутаем биде с унитазом. Все время, пока мы у них жили, я чувствовала какую-то неловкость, хотя вряд ли могла бы объяснить причину даже самой себе, мама, наоборот, была всем очень довольна, только сомневаюсь, что это было искренне.
Потом я вышла замуж, погрузилась в свои заботы и почти забыла про Гун. Казалось, до нее так же далеко, как до Америки. Мама получала от них открытки из-за границы, и однажды летом, еще до того, как мама переехала в Гудхем и поступила работать на кухню дома для престарелых, Гун с Харальдом проездом заглянули к ней, и мы со Стуре ездили, чтобы повидать их. Они были одновременно похожи и на герцога Виндзорского с супругой, и на пару клестов, и на туристов, едущих в Европу. Есть они не стали, им было некогда, выпили только по чашечке кофе. Позже Гун прислала матери письмо, в котором писала, что она pregnant[23], мы не сразу уразумели, что это такое, а когда уразумели, мама немедленно принялась вязать детские вещи и отсылать в Стокгольм маленькие мягкие пакеты. Только эти вещи не понадобились, после долгого молчания Харальд написал, что ребенок родился мертвым и что они были в Египте. Потом Гун снова была pregnant, но на этот раз у нее случился выкидыш. Письмо опять написал Харальд. Ручеек писем и открыток между матерью и Гун мало-помалу иссякал, и наконец мы стали получать только рождественские открытки, на которых стояли две подписи: Гун и Харальд, — и все.
Не знаю, как она там жила, но кое о чем догадываюсь.
Ее жизнь мало чем отличалась от нашей. Разница лишь в том, что мы здесь заметаем сор под лоскутный половик, а они — под дорогой ковер; если хотим купить что-то получше, мы едем в город, а они — за границу. Нашего Ольссона Аллохола часто приглашают к себе дачники, он кажется им типичным селянином — такой разговорчивый, открытый, и споет, и на губной гармошке сыграет. Ольссон рассказывал нам про пиры на их дачах, где все сплошь заграничное, в том числе и гости; разодеты они, черт бы их побрал, во все цвета радуги. Это немного похоже на те приемы, про которые рассказывают Ёран и Ингрид: все говорят на иностранных языках. За столом там не рыгают, впрочем, мы тоже этого не допускаем, разве что случайно, хмелеют они так же, как и мы, но в отличие от нас будут держаться как ни в чем не бывало, если за столом кто-нибудь перепьет. Мы со Стуре были однажды на таком приеме — шефу Стуре исполнилось шестьдесят, и народу было приглашено видимо-невидимо. Мое длинное платье застегивалось сзади на молнию, которая шла от шеи вниз по всей спине, ворот застегивался на крючок, и из-за этого крючка, да еще потому, что я танцевала и веселилась, я не заметила, что молния моя разошлась. Сказал мне об этом Стуре, но потом я узнала, что довольно долго ходила с расстегнутым платьем и никто мне ни слова не сказал. Уж очень они все были деликатные. Не знаю почему, мне вдруг стало стыдно, и Стуре — тоже.
Так что ошибается тот, кому может показаться, что я завидую жизни Гун. Я вообще не из завистливых.
На какое-то время Гун как сквозь землю провалилась. Она не приехала проведать заболевшую маму, она вообще перестала приезжать домой и отвечать на письма, в которых я писала ей про маму, — изредка я все-таки писала ей для порядка. Только рождественские открытки свидетельствовали о том, что она еще жива, да и те в последние годы были подписаны рукой Харальда.
И вдруг однажды вечером раздался телефонный звонок, было уже одиннадцать, мы спали. Такой поздний звонок мог означать одно: либо маме стало плохо, либо у соседей пожар. Стуре встал и пошел к телефону, а я пошла следом, чтобы сразу взять трубку, если звонят от мамы. Стуре долго слушал, ничего не отвечая, обычно по его лицу или по голосу я догадываюсь, с кем он говорит, но в этот раз я ничего не могла понять; судя по его лицу, звонили из преисподней; он молча передал мне трубку — оказалось, звонит Гун. Далеко не сразу я поняла, что за Гун, о нашей Гун я и думать забыла. Она сказала: это Гун — таким тоном, будто мы расстались вчера. Разговор был короткий, я помню его слово в слово:
— Привет, Улла, это Гун. Я в городе, на вокзале, в зале ожидания, ты можешь сейчас приехать за мной? Мне нужна дружеская рука.
С этими словами она повесила трубку.
После ее звонка на нас навалилась тишина, мы ничего не понимали. Однако поехали и забрали ее, а что еще нам оставалось? Стоял март, было скользко, темно, и мы могли только теряться в догадках о том, что же произошло. Перед нами зияла пропасть, но что можно сказать о пропасти, если не видишь даже ее краев?
Впрочем, кое-что мы знали, вернее, слышали, только забыли. Кто-то из Гудхема ездил в Стокгольм и видел там Гун, она была пьяная в стельку. Наверное, услышав это тогда, мы просто не поверили. А если бы поверили и вовремя вспомнили об этом, мы бы все равно привезли ее к себе.
5
Сказать, что с нами вообще ничего не случалось, было бы неправдой.
Некоторые говорят, что жизнь похожа на зеленый пейзаж, и я согласна с этим, несмотря на одолевающую меня усталость. Да, жизнь — зеленый пейзаж, но среди зелени виднеются и вехи. Невозможно, чтобы была только зелень или только вехи, жизнь похожа на срез дерева, испещренный годовыми кольцами. Большой зазор между кольцами — хороший год, кольца почти сливаются — год похуже, похолоднее, я видела много проб, которые Стуре брал буром из стволов деревьев. Оглядываясь на свою жизнь, я думаю, что хорошие годы пронеслись мгновенно, хотя они были долгие; они сплавились в памяти, и непонятно, куда ушло время. Пять минут иногда могут показаться вечностью. Но когда человек стар, прожил лет восемьдесят, а то и больше, он спрашивает себя, куда ушло время.
Тут-то и помогают вехи. Год свадьбы, год рождения ребенка, переход на другую работу, смерть отца, смерть матери — моя мать еще жива, но скоро в моей жизни появится новая веха. Есть у меня в жизни еще две вехи. Год рождения Эрика и год его смерти.
Я так тревожусь за Карин, не потому что я ее мать и, как все матери, боюсь развода дочери, а потому что вижу кое-что, знакомое мне по собственному опыту. Карин сейчас тридцать четыре года, а мне было, наверное, уже сорок, когда я, обращаясь к Стуре, стала смотреть мимо него, а если и глядела на него, то без всякой нежности. Не знаю, как это началось и почему, — у меня не было никого другого, но я вдруг почувствовала, что этой жизнью сыта по горло. Карин к тому времени уже давно жила отдельно, мы со Стуре остались вдвоем. Жизнь наша текла очень однообразно: из дома на работу, с работы — домой, и так без конца. Стуре никогда не был особенно разговорчив, чем в свое время мне и понравился, но тут меня стало раздражать, что он такой спокойный, ну хоть бы раз придумал что-нибудь веселенькое. Но Стуре не придумывал, да и с чего бы он вдруг начал что-то придумывать? И так, как теперь, будет ныне, и присно, и во веки веков? — думала я. Я видела, как скворцы стремятся сесть на самую верхушку дерева, особенно они любили нашу березу; когда стая садилась на березу, тонкие ветви качались под тяжестью птиц, и я думала: так и нужно! Нужно стремиться на вершину. Зачем копошиться внизу, если можно забраться на вершину! А мы не просто внизу, а уже чуть ли не под землей. Приходишь домой, готовишь ту же самую надоевшую еду, моешь все ту же надоевшую посуду в той же надоевшей кухне, где сидит тот же надоевший муж. Он такой же, каким был всегда. Ест ложкой жаркое, заговаривает со мной, когда я читаю, музыку слушает только плохую, поехать в кино отказывается, он, видите ли, устал, без меня даже рубашки себе не купит, спит, как бревно, храпит, как бензопила, и никогда не знает, о чем поговорить, если я не помогу ему придумать тему для разговора. Вот я и перестала с ним разговаривать, с какой стати рассказывать ему, как у меня прошел день, если он про себя ничего не рассказывает? Еще мне хотелось, чтобы он на себе испытал, каково жить с человеком, который всегда молчит: ведь из него клещами надо вытягивать, что было на лесопильне и как он там справляется с прижимистыми крестьянами и оболтусами рабочими. И когда Стуре наконец-то заметил гулкую тишину, которая образуется, когда близкий человек молчит просто потому, что не находит нужным тратить на тебя слова, — я ведь даже перестала звать его к столу, садилась сама, когда еда была готова, и начинала есть, — он робко спросил:
— Ты стала такой молчаливой. Что-нибудь случилось?
И я ответила, не глядя на него, будто не понимала, чем он обеспокоен:
— С чего ты взял? Разве я молчаливее тебя?
Какая же я тогда была злая! Я злилась на мебель, на кастрюльки, гремела посудой так, что и на дороге, наверное, было слышно — окно кухни как раз выходит на дорогу. Мне даже странно, что от такой не находящей выхода, подавляемой злобы у меня не случился заворот кишок и не свернулась кровь в жилах. Мы просто охладели друг к другу, думала я, недаром и пишут, и говорят, что супруги со временем могут охладеть друг к другу. И прежде всего охладела я, а не он, так мне казалось. Правда, иногда при виде Стуре сердце у меня чуть-чуть екало. Например, когда он работал во дворе или одиноко смотрел спортивную передачу. Случалось это редко, но уж тогда мне становилось невмоготу. Я была готова развестись, но заводить разговор об этом первая не хотела, у меня на это и смелости никогда бы не хватило, просто я ждала, что в конце концов наша жизнь станет невыносимой даже для Стуре и тогда развод произойдет сам собой, и я ждала его с нетерпением, как летнего отпуска. Развод получится легким, что-то вроде развилки на дороге, мне даже незачем будет произносить это слово вслух. Ведь я все-таки трусиха. Словом, все это было ужасно.
У Стуре заболела спина. Спина всегда была его слабым местом, а на этот раз она разболелась всерьез. Проснувшись раньше меня, он долго сидел на краю постели, потихоньку распрямляя спину и держась за поясницу, а потом вставал, согнувшись в три погибели, ноги у него были кривые и волосатые. Раньше он никогда так не горбился, и мне казалось, что он нарочно хочет вызвать у меня жалость. Но я не поддавалась, то есть, конечно, в глубине души мне было его жалко, но я не могла признаться себе в этом. Я посоветовала обратиться к врачу, если ему на самом деле так плохо, и предложила записать его на прием.
Иногда я делилась с Дорис своими переживаниями, жаловалась, что мне почему-то от всего тошно, и спрашивала, не тошно ли ей. Стуре стал каким-то чудным, может, она тоже это заметила? Раньше я не замечала в мужчинах ничего рабского, а теперь мне кажется, что они все похожи на рабов. Правда? Будто, кроме работы, в жизни ничего не существует. Всю жизнь выращивать лес и торговать им? Дай им волю, так они весь лес на земле уничтожат, лишь бы заработать на целлюлозе, фанере и бревнах! Что им эрозия почвы, наступление пустыни и наводнения, от которых страдает вся Азия! Я приношу ему специальные книги, но думаешь, он их читает? Он берет эти книги с собой на работу и там с приятелями, наверное, смеется над ними, а деревья как валили, так и продолжают валить. Мужчины, они все такие. А подарки? Я никогда не придавала этому значения, но Стуре мне ни разу в жизни ничего не подарил, а иногда ведь хочется получить хоть какой-то подарок. Но он только отмахивается: мол, этого я не умею. А чего тут уметь? Пошел да купил. Было бы желание! Не знаю, но, по-моему, в жизни должен быть смысл! Как ты считаешь?
Дорис не спешила соглашаться со мной. Она считала, что Стуре не изменился, разве что стал немного серьезнее. А что касается мужчин с бензопилой в руках, тут и в самом деле нужен глаз да глаз. Как только у Хеннинга выдается свободная минута и он берет в руки пилу, я тут же спрашиваю, что он собирается делать, а иначе он все пустит под пилу, он готов свести и малинник, и смородинник, а я их решила не трогать. А насчет рабского? Мужчины они и есть мужчины, тут уж ничего не поделаешь. Правда, в то время у сына Дорис Рубена родились близнецы, его семья жила у родителей, и потому все мысли Дорис были заняты малышами, это были ее первые внуки.
Что верно, то верно, Стуре стал более серьезным и более раздражительным, чем раньше, его раздражение выплескивалось наружу, но только не на меня. Он чертыхался, когда ронял молоток или у него сгибался гвоздь, а однажды он так разозлился на пилу, когда она застряла в бревне, что сломал полотно. Это было на него не похоже — он бережет свои инструменты. Потом он стал пропадать по вечерам. Он уже забыл, как всегда смеялся над разными там курсами, дескать, ходишь-ходишь, а потом получишь бумажку, годную разве что на растопку. Теперь же он по вечерам мчался с одних курсов на другие и даже не звонил домой. Меня устраивало, что он не звонит, и все же я повсюду таскала за собой телефон, а когда работала в саду, ставила его на веранде на металлический поднос.
Однако я все-таки не ездила на вечера для одиноких с нашими жизнелюбивыми девушками, чтобы развеять скуку жизни, всему есть предел. Как-то раз я побывала на такой вечеринке, с меня хватит. Нас собралось семь или восемь женщин: у одних мужья были дома, другие только что развелись, они были немного испуганны, дрожали как осиновый лист, но надежд не теряли — вызывающие платья, блеск в глазах, нервы натянуты как струна — ну, скажите же нам что-нибудь смешное, мы хотим посмеяться! И осторожно, но явно изучают мужчин за соседними столиками. Танцевать их не приглашают, и нервы натягиваются еще больше, вот-вот лопнут, впрочем, одну пригласили, но самую молодую, и весь вечер мы делаем вид, что поглощены только друг другом, для нас нет ничего более важного. Однако мужчины знают: эти, за соседним столиком, на главное не решатся, а потому нечего тратить на них силы, порох и время. «Эти» пришли сюда только для того, чтобы проверить, могут ли они еще нравиться, но нравиться они уже не могут.
Если бы я стала по вечерам развлекаться, чаша терпения Стуре переполнилась бы. Может, поэтому я никуда и не ходила.
Я вдруг достигла сорокалетней отметки, когда на горизонте уже ничего не маячит. Но если жизнь — пустыня, человек мечтает об оазисе. И что делать, если верблюд, твой муж, шагает и шагает вперед.
Мне больно, когда я заново переживаю это время. В такие минуты, если Стуре дома, я могу прильнуть к нему на мгновение, провести пальцем по спине или чмокнуть в нос. И возможно, он в эту минуту думает о том же, потому что взгляд у него темнеет.
6
Когда мне было сорок три, у нас родился Эрик, наш поскребыш. Мы не собирались заводить ребенка. Я только на четвертом месяце сообразила, что это беременность.
Карин у нас родилась сразу, как мы поженились, даже раньше положенного, потом мы хотели иметь еще детей, но больше не получилось. И вдруг — Эрик, подкрался тихой сапой, словно с черного хода.
Так оно, собственно, и было. В ту пору мы редко любили друг друга и я никогда не начинала первая. Начинал только Стуре, может быть, он считал, что это его супружеский долг, а может, надеялся таким образом поправить дело, не знаю. Как-то раз дождливым воскресным утром мы долго не вставали, капли уныло барабанили по крыше веранды, казалось, дождь зарядил на целый год. Что вставать, что лежать было одинаково тошно, поэтому мы продолжали лежать, я лежала к Стуре спиной и поняла, к чему все идет, ну и пусть, подумала я, пусть делает, что хочет, буду вести себя, как корова.
Так я и вела себя, как корова, и мне это даже нравилось. Нравилось не испытывать никакого стыда. Мне было приятно, и я становилась все бесстыдней, вдруг я заметила, что он не такой, как прежде, и даже подумала: этому он научился у другой женщины, хороша наука на его курсах! И хватает же у него наглости показывать мне свои фокусы. Это уже ни в какие ворота не лезет! Для меня Стуре был все равно что мусор, который следует выбросить, и вот, когда я уже была у мусорного бака, я обнаружила там Эрика. Словом, я лежала тогда неподвижно, как корова, и вспоминала одного мужчину, который несколько дней назад записывался у меня к врачу, у него болела нога; потом я встретила его на площади, он шел с женой, она была так себе, но каким взглядом он посмотрел на меня. Взгляд взгляду — рознь.
Конечно, узнав, что у меня будет ребенок, я испугалась. Мне было страшно, как бы ему не повредило все, что я тогда чувствовала, и вся эта ненависть, которая тогда — чего греха таить — переполняла меня. Я даже самой себе не смела признаться, как мне страшно. И все же этот страх лишь узкой черной каемкой обрамлял великое, тихое и сокровенное чудо. Даже посещение ангела потрясло бы меня не так, как то, что у меня будет ребенок; я носила этого ребенка и чувствовала себя королевой.
К врачу я не пошла, но попросила одну из акушерок проверить меня. Думаю, что ничего нет, сказала я ей, это было бы чересчур, но надо проверить. Осмотрела она меня в начале недели, а Стуре я рассказала обо всем только в пятницу. При наших тогдашних отношениях это было равносильно тому, чтобы подойти к незнакомому мужчине и сказать: а я жду от тебя ребенка! Я не чувствовала ни малейшего недомогания, я вообще ничего не чувствовала, у меня просто пропали месячные, и, хотя я знала причину, поверить в это мне было трудно. А Стуре так и вовсе не был готов к подобному известию. Я нарочно села на стул, а не на диван, на котором мы всегда вместе смотрим телевизор. Сидя на диване, я сразу пойму, что новость его не обрадовала — он не сядет рядом со мной, другое дело стул… Я сказала, что мне нужно с ним поговорить, и сообщила свою новость. Сперва Стуре долго молчал, потом стал на колени возле моего стула и зарылся лицом мне в колени, он плакал, и я заплакала вместе с ним.
Вот и все. Может, пятидесятилетнему специалисту по целлюлозному производству следовало в таком случае вести себя иначе? Но Стуре не думал об этом.
Мне все время казалось, что я получила ребенка незаслуженно. Вообще-то, все дети даются незаслуженно, но мало кто это понимает. Как будто семя редкого, прекрасного растения занесло в мой огород. Однако на растении были шипы, так, во всяком случае, считала Карин. Она тогда тоже ждала ребенка, своего первенца, и моя беременность казалась ей не только неприличной, но и недопустимой, она считала, что она со своим будущим ребенком отступит на задний план, и что поделаешь — доля истины в этом была. Конечно, мне было жалко, что радость беременности была для нее омрачена моей беременностью, но об этом я предпочитала молчать, иногда бывает лучше промолчать, чтобы не напортить еще больше. О своей беременности я рассказала ей сразу, как сама узнала, не хотела тянуть до тех пор, пока это станет заметно.
— Но ты же не станешь рожать? — сказала Карин. — Ты сделаешь аборт? Господи, мама, ведь ты уже старая!
— Сара родила, когда ей было сто лет.
— Какая еще Сара? Ты шутишь. Или ты не знаешь, сколько осложнений бывает при поздних родах?
В каком-то смысле я понимаю Карин. В молодости кажется, что жизнь идет по часам. Карин была молодая, хотя я была моложе, когда она у меня родилась. Ее никто не вычислял по календарю с учетом каникул, отпусков, продвижения по службе, покупки автомобиля или дома, как это принято теперь. Вот Енса, а позже Эву Карин с мужем планировали именно так. Некоторое время Енс будет единственным ребенком, рассуждали они, а когда ему исполнится столько-то лет, можно родить еще одного. Рожать же незапланированного ребенка, по мнению Карин, было старомодно и даже противоестественно. В таком ребенке дефекты заложены изначально.
Так говорила не одна Карин. Избавься от него, подумай, что ты делаешь, ведь это обуза на всю оставшуюся жизнь. Когда ему исполнится десять, тебе будет пятьдесят три, в этом возрасте силы уже не те. Ты хотя бы хромосомный анализ сделай, или ты совсем сдурела? Подумай, что скажет Карин, говорили некоторые.
Может, и я бы говорила те же глупости, если бы все это случилось с кем-нибудь другим. Ведь глупо повторять расхожее мнение, даже не пытаясь услышать того, кто это мнение не разделяет. Откуда оно вообще берется, это расхожее мнение? От глупых людей? Вполне возможно. Расхожее мнение часто похоже на житейскую мудрость, все так умно и понятно, а кто станет спорить с житейской мудростью? Но расхожее мнение опасно вдвойне — его легко принять за истину, обманувшись тем, что его все подхватили. Собственное мнение против расхожего — все равно что комариный писк против мычания коровы. Хорошо, что малышей и школьников учат ничего не принимать на веру и полагаться лишь на собственное мнение. Но они дети, а мы взрослые, и стоит им подрасти, как они запоют иначе и станут такими же умными, как мы. И так же, как мы, станут больше полагаться на чужое мнение, чем на свое собственное.
В общем, вокруг меня все говорили примерно одно и то же. И лишь одна бездетная старая женщина, соседка матери по отделению, ничего такого не сказала. Она только молча положила руку мне на живот. Не сомневаюсь, что кое-кто из тех, кто меня отговаривал, мне завидовал.
— Ну ты и храбрая! — говорили они. — Откуда у тебя столько смелости?
И вдруг наступала тишина.
— При чем тут смелость? — удивлялась я. — Меня же никто не спрашивал, хочу я или нет.
А Дорис, которой рожать было уже поздно, сказала, что непременно родила бы, если б могла.
В наших отношениях со Стуре словно лед тронулся, только без гула и треска. Просто растаял. Но если бы я не пережила всего, что было связано с рождением, жизнью и смертью Эрика, я бы так и не поняла слов, которые однажды услышала от доброй знакомой: не лишайте людей их страданий.
Все дурное во мне как будто растаяло, хотя и не сразу. Когда тяжелобольной узнает, что опасность миновала, он еще долго боится в это поверить. А выигравший в лотерею поверит в свою удачу, только проверив таблицу выигрышей в банке. Так было и у нас со Стуре. Потихоньку-потихоньку. Но когда мой живот стал расти на глазах, Стуре был на седьмом небе от счастья. Я не делала никаких анализов, не ходила к врачу, только к акушерке, которая слушала сердцебиение ребенка. Я рассуждала так: если это чудо, то при чем здесь врач?
7
В нашем центре есть библиотека, и мы, сотрудники, тоже можем брать в ней книги. Мой кабинет находится в одном коридоре с библиотекой, иногда после обеда я беру туда с собой кофе и просматриваю там книги. Запах библиотеки напоминает мне о философии и мудрости. В библиотеке почти никого не бывает, и книгам, должно быть, скучно. Я представляю себе, как они, услышав, что кто-то вошел в библиотеку, прилагают все усилия, чтобы их заметили и сняли с полки, они подмигивают и как бы говорят: возьми меня, возьми, я самая интересная! Столько труда вложено в каждую из книг, а теперь с них даже пыль толком не смахивают. Большая часть книг старые, из рук писателей давно уже выпали перья, а пишущие машинки превратились в металлолом, так же, как и скальпели выпали из рук хирургов, — дело в том, что часть библиотеки занята архивом, оставшимся с той поры, когда центр был настоящей больницей, в которой делались операции. Старые пациенты до сих пор с уважением и признательностью вспоминают суровых докторов. Однажды отец Хеннинга, Оссиан, загнал себе глубоко под ноготь занозу, она засела так крепко, что, сколько он ни парил себе палец, ничего не помогало, пришлось идти к врачу. Тот врач был настоящей грозой больницы, о нем до сих пор ходят легенды, а Оссиан, я думаю, и тогда был не робкого десятка — он высказал врачу все, что о нем думает.
— Доктор велел мне согнуть здоровые пальцы, а потом как ухватит за больной, да как притиснет его к какой-то пластинке на столе, у меня аж в глазах потемнело, а он — возьми да гаркни: Кончай вопить, сукин сын!
Фотография этого врача, как и других, висит в коридоре. Седые усы щеточкой и взгляд острый, как кончик иглы. Позволь он себе так говорить с больным в наше время, тут же вмешалась бы газета «Экспрессен» и общество защиты больных.
В одной старой пожелтевшей библиотечной книге я прочла интересную мысль. Я выписала эти несколько строчек, но не записала номер страницы; всегда так: помню, что в книге было интересное место, а найти его не могу, оно как будто прячется от меня — ишь, мол, чего захотела, премудрость так просто в руки не дается. Сколько раз я перелистывала ту книгу, мне хотелось узнать, в связи с чем это было сказано. А сказано было вот что:
«Те дни, о которых в моем дневнике сделаны записи, остались со мной навсегда».
Я не вела записей в те дни, когда Эрик был жив, а их было много, но, как и все счастливые дни, они пролетели очень быстро. Фотографии у меня есть, а вот записей нет, и все-таки те дни остались со мной навсегда, без них я была бы совершенно другая, это — мой фундамент. И мне даже страшно подумать, что годы до рождения Эрика и после его смерти не стали бы моим фундаментом, останься он жив. «Не лишайте людей их страданий». Это сказала мужественная женщина. Я пережила трудные годы, но, боюсь, и их было бы недостаточно, я бы их просто забыла, если бы впоследствии моя жизнь была слишком легкой. Эти слова о страданиях оправдывают их существование, или я не права? Нам-то кажется, что только счастье имеет право на существование. Что счастье — это закономерно, а несчастья вообще быть не должно. Несчастье — это ошибка. В таком случае почти все, что творится в мире, ошибка или еще хуже — преступление. Но мы продолжаем думать, что только счастье имеет смысл. Радио, телевизор, газеты каждый день стараются разубедить нас в этом, а мы стоим на своем. И нам легко оставаться при своем заблуждении, пока несчастий так много, что они сливаются в огромный ком. Но с другой стороны, обычное несчастье, несчастье, которое обрушилось на того или другого человека, ворвалось в чью-то жизнь, разве это тоже преступление или ошибка? Такое несчастье, которое становится вехой в чьем-то зеленом пейзаже? А мы говорим: это так ужасно, так бессмысленно, так ужасно бессмысленно! Зачем столько бессмысленных несчастий?
Если верить, что только счастье имеет право на существование, как тогда объяснить несчастье? Как несчастный случай? Все, дескать, под Богом ходим? Но кто же из нас не слышал и не говорил сам: погодите, он свое еще получит! Под этим подразумевалось: жизнь преподаст ему урок. Это означает одно: мы все признаем, что в несчастье есть какой-то смысл.
Увы, это так и есть, но признаваться в этом страшно, кажется, что накличешь беду. Чем обернется признание, будто несчастье существует на законном основании? Перед несчастьем надо захлопнуть дверь, не пускать его на порог, его можно только ненавидеть. А кто этого не делает, играет на руку дьяволу.
Но, бывает, мы сами призываем несчастье, иногда его поначалу можно даже принять за счастье, пока это счастье однажды не превратится в свою противоположность. Словом, иногда мы сами призываем его или усердно помогаем ему, так сказать, превышаем скорость. Что правда, то правда.
Может, и я сама призвала несчастье на свою голову? Кто знает. Зато теперь я стала не то чтобы умной, но гораздо умнее, и у меня пропал страх. Страх-то пропал, однако тревога осталась. Как это совмещается в одном человеке?
В то лето Эрику было три года, в воскресенье Стуре возился с моей машиной, а я сидела возле веранды и нарезала лоскуты для половиков, это для Дорис — сама она не успевает. Одни тряпки я резала, другие с треском разрывала на ленты. Эрик, голышом, бегал по двору, собирал камешки на дорожке перед гаражом, гонялся за бабочками, залез в машину, которая стояла открытой, но бибикать ему не позволили, а без этого в машине нечего было делать. Все вокруг дышало Летом и Красотой. И вдруг мы услышали его крик, громкий и отчаянный, но увидели его не сразу. Он с криком выбежал из-за старой уборной, которая стоит возле зарослей малины. Стуре первым оказался возле него, он рассказывал потом, что ему почудилось, будто вокруг Эрика вьются птицы, он не сразу понял, что это шершни. Стуре подхватил Эрика на руки и побежал ко мне, по ноге у Эрика полз шершень, Стуре прибил его рукой. Мы сначала не поняли, как это опасно, ножка у Эрика покраснела и затвердела, а сам он сделался вялым и сонным; в машине я сидела с ним на заднем сиденье, нам пришлось поехать в город, потому что наш центр в Гудхеме по воскресеньям не работает. Как раз когда машина остановилась перед пунктом неотложной помощи, Эрик несколько раз судорожно глотнул воздух. В это мгновение он и умер, сказала мне потом женщина-врач, неужели ты не поняла!
Делайте что хотите со своими чувствами, говорите о них, крошите их, месите, выворачивайте наизнанку, трясите, становитесь выше их, давайте им выход, все, все, что угодно, только не верьте, будто в случившемся есть какой-то смысл. Я говорю не о счастливых переживаниях, с ними ничего не нужно делать, их можно употреблять в сыром виде; я говорю о несчастьях. Несчастный случай — не твоя вина, уезжай куда-нибудь, перечеркни прошлое, считай только счастливые мгновения.
На Стуре было больно смотреть. Он не мог пережить смерть Эрика и, кроме того, боялся потерять меня во второй раз. Мы уехали на Готланд и несколько дней бродили по берегу моря, словно по кромке вечности. Море там глубокое и тяжелое, но оно не было бы морем без этой глубины. Стуре плакал. Это был не поток, хлынувший в открытые шлюзы, а слабый родник, такой родник может забить только из-под огромной каменной глыбы или в пустыне, где нашли воду.
По вечерам я засыпала в его объятиях, он ничего не говорил, не пытался меня утешить, и его молчание было лучше всяких слов. Через день после смерти Эрика исчезла и его кроватка. Не старая наша кроватка, та давно была у Карин, а новая — ее мы не хотели хранить. Я поднялась наверх и увидела, что ее нет, наверное, Стуре утопил ее в озере. Я так думаю. Он бы не смог ни сжечь ее, ни разрубить. И я тоже. Я рада, что он это сделал, не посоветовавшись со мной, ничего мне не сказав.
Что я тогда чувствовала? Испуг, но не удивление. Я всегда сознавала, что не заслужила Эрика, что он достался мне случайно и место его не с нами. Хоть давай объявление в газете: найден мальчик. С Карин ничего подобного я не чувствовала. Родить Карин было естественно, а Эрик был чудом, милостью Божьей. Именно поэтому я и не дрожала над ним, не кудахтала, как наседка, обращалась с ним как со щенком. Он и был моим маленьким щеночком, щенки могут упасть, это им только на пользу — они учатся сохранять равновесие. В сорок три года я была гораздо лучшей матерью, чем в девятнадцать. Я была спокойна, я думала, вернее, не думала, но знала в глубине души, что кто-то хранит его. Матерью Эрика была я, но кто был Эрик?
Мне делается страшно, когда я перестаю верить в случайность несчастий и начинаю верить, что слова «Не лишайте людей их страданий» справедливы. Какая же роль тогда была предназначена Эрику, кто дал ему эту роль, ради кого? Когда нам темно, мы зажигаем свет. Видно, лампа счастья давала мало света, а вот когда зажглась лампа несчастья, я все увидела. Теперь я вижу лучше, хотя понимать лучше не стала. Эрик заплатил за это своей жизнью, разве я когда-нибудь смогу это понять?
Наше бескрайнее звездное небо не оскверняют уличные фонари. Мы часто стоим на веранде или на причале и смотрим на звезды и на спутники, которые шмыгают украдкой, как безбилетные пассажиры, как светлячки среди ярких звезд. Ничто, кроме ночного неба, не может вызвать у меня головокружения, оно убеждает меня в том, что вечность существует. Объяснять мне, что динозавры жили сто миллионов лет тому назад, бесполезно, я не понимаю, что такое сто миллионов лет. Но на веранде или на причале я ощущаю вечность, я вглядываюсь в темноту, стараюсь разглядеть ее, однако я слишком близорука. То же головокружение, которое вызывает у меня звездное небо, я чувствую, когда пытаюсь разгадать тайну существования Эрика. И опять же мне мешает близорукость. Существуют ли высшие силы? Кто управляет нами? Если моя судьба зависит не от меня, то от кого же? Неужели могут существовать силы, которые дают ребенку жизнь, а потом ее отнимают только для того, чтобы кто-то другой пробудился или начал пробуждаться, тщетно силясь понять непостижимое? Я не могу в это поверить. Не смею. Но с другой стороны, если я не вижу в несчастье смысла и значения, не получается ли, что все на свете бессмысленно? Если первое кощунственно, то ведь и второе, наверное, тоже?
Эрик и его жизнь — передо мной как бы встает белая гладкая стена, такая высокая, что не видно, где она кончается, и такая скользкая, что подняться по ней невозможно. Я знаю одно: Эрик и все, с ним связанное, имело огромный смысл. Мы ищем этот смысл, пытаемся его угадать, постичь, но разве легко это сделать, когда все, что причиняет боль, мы стараемся отсеять, как кляксы или помарки? Стоит ли удивляться, что смысл неясен, когда из множества слов осталось всего несколько?
Для меня смерть Эрика была первой смертью близкого человека — когда умер отец, я была ребенком. Наверное, смерть всегда воспринимается одинаково. Примерно то же я чувствую, когда мне в руки попадает история болезни обреченного пациента, но только примерно. Вот мы тут суетимся, думаю я, обставляем свои дома, устраиваем свою жизнь, а значительного в ней только то, что по ночам над нами встает вечность. Непостижимость.
Тут недавно по телевизору выступал священник, жизнерадостный такой старичок, в белом жабо, все как положено; он говорил, что ошибка современных людей состоит в том, что они всё пытаются осмыслить, а как раз этого делать не следует, нужно просто радоваться жизни. Прекрасно быть христианином, а еще прекраснее будет на небесах, на небесных золотых улицах. Вот тогда начнется настоящая жизнь. Там все будут танцевать и петь любимые песни, у всех будет хороший голос, и воскресенье там семь раз в неделю. (Последнее, по-моему, почти совпадает с требованием профсоюзов.) Вот так говорил этот священник. Мол, смерть — это песни и танцы.
Только меня от этого увольте. Я бы не хотела увидеть этого священника у своего смертного одра. Я бы не хотела, чтобы он обратил в прах всю мою жизнь и предложил мне взамен игрушечный рай, где Господь танцует старинный вальс и где тебя за примерное поведение, может быть, пригласит на танец сам Иисус Христос. Мне не хочется, чтобы сумрак загробного царства освещали уличные фонари, дабы никому не было страшно. Мне нужны не только высь и свет, но и глубина и сумрак.
Не лишайте людей их страданий.
8
Где-то в Библии сказано, что исполнение видений ждет своего, часа.
Многое западает в человека. Западает что-то, что ему подходит, западает ощущение, что ему чего-то недостает.
Необходимо время, чтобы увидеть то, что у тебя перед глазами, и понять то, что знаешь.
После смерти Эрика я плакала еще очень долго. Не горько, нет. Я просто выла, но выла про себя. Дом, из которого ушел ребенок, становится непривычно тихим. Правда, тишина тишине рознь: когда Карин с детьми уезжает от нас, мы вздыхаем с облегчением и наслаждаемся наступившей тишиной, наши внуки очень шумные, они всегда в компании чужих детей, которых днем пестует Карин, к тому же дома у них не смолкая надрывается магнитофон или радио. После Эрика у нас наступила совсем другая тишина. Нет, горечи у меня не было, но появилась какая-то болезненная чувствительность, как будто я без конца ударялась одним и тем же местом. Это естественно, и Стуре чувствовал то же самое. В ту пору у нас был не Пигге, а Гулла, маленькая ласковая такса, которую неудержимо тянуло к грузовикам, под одним из них она и сложила свою голову. Грузовик не успел притормозить, и Стуре был вынужден пристрелить Гуллу. Ему трудно было это сделать, и я посоветовала ему поручить это Хеннингу, но Стуре, наверное, считал, что все тяжелое он должен делать сам. Когда Эрика не стало, Гулла еще была жива, и Стуре перенес на нее свои ласки. Он постоянно возился с нею, я тоже с нею играла, но не так много, как он. Наши руки встречались, когда мы оба гладили и ласкали ее, у нее был собственный стул, покрытый старой шкурой, по вечерам этот стул стоял между нами.
Нам было хорошо вдвоем, но что случилось, то случилось, и мы заново учились ходить. К счастью, меня приняли на мое старое место в центре, и жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло, хотя она была бесконечно далека от нашей прежней жизни. Но главное отличие состояло в том, что в свои сорок шесть лет я наконец повзрослела.
Однако слезы мои все не унимались, и хорошего в этом было мало. Впрочем, как и в излишней сдержанности. Один бывает слишком сдержан и скрывает свое горе, другой, напротив, плачет открыто. Но приехала Гун, и слезы мои высохли начисто, хотя и на это понадобилось время, сразу ничего не делается.
Меня потрясли ее слова в тот вечер: мне нужна дружеская рука. Я не привыкла к таким высокопарным оборотам, так выражаются в романах. Возможно, я тоже чувствовала, что мне нужна дружеская рука, не знаю, но бывает, душа всколыхнется от пустого слова. В последнее время одной из любимых песен Стуре стала песня про собаку: «Отправлюсь на небо с собакой моей». Конечно, он думает о Гулле; Пигге хоть и симпатичный, но для неба он слишком шумный. Мне тоже нравится эта песня, от нее хоть ненадолго становится тепло на душе, все равно как от пары рюмок, впрочем, если разобраться, ничего особенного в ней нет.
Итак, той ночью мы поехали в город на станцию. У нас даже не было уверенности, что мы узнаем Гун, — ведь с тех пор, как они с Харальдом приезжали к нам, прошло чуть не полжизни. В зале ожидания никого, похожего на Гун, мы не обнаружили, хотя народу было совсем мало. Наконец к нам подошел дежурный и сказал, что если мы приехали за особой из Стокгольма, как он выразился, то она отправилась в отель «Статт», а вещи ее остались здесь. Это были три огромные сумки, набитые, как нам показалось, камнями, модные сумки с наклейками всевозможных отелей. В вестибюле «Статта» было пусто, но Стуре заметил портье и пошел к нему, а я осталась ждать у двери. По лицу Стуре я сразу поняла, что что-то неладно, он прошел в бар. Гун сидела в баре. Тут у нас уже не осталось никаких сомнений, все было ясно. Мы увидели герцогиню Виндзорскую, покинутую герцогом, на платье у нее расплылось огромное жирное пятно, а из шубы, которую Стуре нес на руке, вылезала оторванная подкладка. Этот водянистый взгляд я бы узнала из тысячи. Она была вылитая мать, только у мамы лицо казалось тяжелым из-за толстых щек, а у Гун из-за чего-то другого. Хотя щеки у нее тоже занимали почти все лицо, вместо глаз оставались две узкие щелки. Она медленно подошла ко мне и, пошатнувшись, ухватилась за косяк двери и за маленький столик, который чуть не опрокинула, но Стуре, шедший следом, успел его удержать. Я протянула ей руку, но она, по-видимому, этого не заметила.
— Наконец-то! — сказала она. — Почему вы так долго ехали? Что у вас за машина?
Гун можно было сравнить с использованной упаковкой, или, наоборот, использованную упаковку — с Гун.
— Я просто падаю от усталости, надеюсь, вы на машине?
Она взяла меня под руку. Мы вышли первыми, уже на улице портье догнал нас и отдал нам сумку Гун. В ней лежала дамская сумочка и книга «Рожденная свободной». О львице Эльзе.
Тяжелый багаж, разговор по телефону, оторванная подкладка, пятно на платье и «Рожденная свободной» — это была Гун в квадрате, и я все это видела, но ничего не поняла. А если бы и поняла, боюсь, от этого мало что изменилось бы. «Рожденная свободной» — это соломинка для утопающей, соломинка в стакане с коктейлем.
Итак, мы увидели Гун во всей красе в первый же день, увидели оба, но понял все только Стуре. Глаза — это зоркие вороны, они видят все, и белое, и черное, и складывают в архив памяти один снимок за другим, эти еще неясные, неопределенные симптомы будущей болезни, — и только когда болезнь прорвется наружу и оправдается на опыте то, что уже давно видели наши глаза, мы осознаем, что, оказывается, давно все знали.
Однако горе размягчило меня, и во мне проснулась Флоренс Найтингейл.
Гун сидела на заднем сиденье и курила, Стуре никогда не курит в машине, но на первый раз он не сделал ей замечания. Через несколько дней мы поехали за покупками, и Гун, несмотря на предупреждение Стуре, снова зажгла сигарету.
— То нельзя, это нельзя, — вздохнула она. — Сразу чувствуешь, что ты в Швеции.
Той ночью в машине я не стала ни о чем ее расспрашивать. Стуре молчал, он замкнулся в себе, у меня на языке вертелось множество вопросов, а Гун спокойно дремала. Когда мы проезжали через спящий Гудхем, я, чтобы не показаться недружелюбной и прервать долгое молчание, сказала:
— А вот и Гудхем. Узнаешь, Гун?
Гун взглянула на фонари и пустынные улицы:
— Откуда это известно, тут ведь так темно. Это что, Гудхем by night[24]? Чем здесь люди занимаются? Неужели только спят?
Теперь-то она знает поворот перед нашей калиткой, но больше года ей не удавалось его запомнить. Однажды она поехала в Гудхем и должна была вернуться домой с последним автобусом; было не поздно, но уже темно, мы ждали ее и, конечно, беспокоились. Автобус прогромыхал мимо дома, свет фар, как всегда, на секунду осветил кухню, остановка была метрах в ста перед поворотом, а Гун все не шла и не шла. Фонарь над верандой как раз тогда не горел, и Стуре вышел к калитке. Скоро я услышала, как Гун вошла в прихожую, за ней — Стуре, он еле сдерживал смех. Оказывается, он стоял там и тихонько наблюдал, как Гун с помощью зажигалки пытается отыскать нашу калитку. Гун была в ярости и проклинала все на свете.
Стуре видел в своей жизни больше алкоголиков, чем я, и потому все понял с первого взгляда. К тому же она не была его сестрой. Пусть она и мне была чужим человеком, она все равно приходилась мне сестрой, и при этом была поразительно похожа на мать. Конечно, все сложилось бы по-другому, если бы не наше с ней родство, если бы у нас не было Эрика, по которому я так горевала, если бы Стуре, подобно большинству мужчин, не так робел перед женщинами и если бы вообще Гун можно было куда-нибудь пристроить вместо того, чтобы везти ее к себе. Зато теперь я все знаю об алкоголиках и о наркологической службе, которой у нас почти нет, даже на бумаге, так что Гун — это наш крест на всю жизнь. Да-да, на всю жизнь. К нам приблудился кот, который, как и Гун, живет по принципу — рожденный свободным, но ему нужно есть, и он выбрал нас. Я так и не знаю, откуда он взялся. По утрам он мяучит под нашей дверью, тощий, ободранный, но я вспоминаю о своем долге перед братьями меньшими — ведь он не виноват, что бездомный, к тому же, если его не накормить, он сожрет наших птиц. Словом, я кормлю его и пою молоком. Ест он неопрятно, ноги у него кривые, как у кавалериста, мошонка сверкает, и он с одинаковым безразличием трется как о мои ноги, так и о ножки стула, ему подошла бы роль циничного порнокороля, мы прозвали его Бесстыдник.
У нас ничего не было готово к приезду Гун, все случилось слишком неожиданно. На верхнем этаже у нас была комната для гостей и комната, в которой я обычно шила и гладила, кроме того, была там еще кухонька, правда, без особых удобств. Увидев кровать, Гун повалилась на нее, даже не сняв шубу. Но она успела заметить, что вокруг дома темно, и сказала с укором:
— Господи! Вы что, живете в лесу? Я думала, вы живете в Гудхеме.
— Мы никогда не жили в Гудхеме, мы там только работаем.
В то время лестница на второй этаж вела прямо из прихожей, теперь лестницу от прихожей отгораживает дверь, и во все двери Стуре врезал замки. Стуре поднял наверх сумки Гун, постоял, посмотрел на нее, потом на меня и спустился вниз.
Наверное, все, кто не сталкивался с трагедией, имя которой алкоголизм, тем более женский алкоголизм, вели бы себя точно так же, как я. Я долго стояла, не зная, что предпринять. Меня охватила и глубокая жалость, и робость, и беспомощность, и стыд, как будто я подглядываю в замочную скважину или подслушиваю у двери. Мне становилось не по себе уже оттого, что я смотрю, как она спит. Какой у нее грустный нос, помнится, подумала я. Теперь-то я понимаю, что она к тому времени уже пила долго и много, с тех пор я видела достаточно таких же сизых щек и носов.
Я стянула с нее шубу и сказала, что постелю ей, если она ненадолго поднимется с кровати. Но она не пошевелилась, только чуть приподняла одно веко и сказала:
— Дашь мне пепельницу? И немного пива, сестричка, умираю от жажды.
Я спустилась за пивом, это было легкое пиво, которое ей пришлось не по нутру. Стуре уже раздевался, чтобы лечь, и я сказала ему, что через минуту вернусь. Бог ты мой! Когда я снова поднялась к ней, в горшке с моей весенней геранью валялся окурок, одна из сумок была открыта. Пока я стелила постель, Гун молча и неподвижно сидела на стуле, потом я помогла ей раздеться, белье у нее было шелковое, но грязное и заношенное, ее лицо напоминало дорогое блюдо, которое пошло трещинами. Не успев лечь, она начала плакать, она ничего не говорила, только плакала. Возможно, плакала она уже давно, но только теперь это стало заметно. Я отыскала в сумке ночную рубашку и натянула на Гун, чувствуя робость, это была робость и отсутствие опыта в трагедиях подобного рода. Ведь я облачала в ночную рубашку не что иное, как самое трагедию. Это ее грязные ноги с отросшими ногтями я укладывала на простыню.
Уехала в город за несчастной сестрой Улла, а стелила ей постель уже Флоренс Найтингейл.
9
Младенческие колики, детское упрямство, переходный возраст, право покупать спиртное и право принимать участие в выборах — это все своего рода ступени. Преодолеешь их живой и невредимый, а тут, глядишь, подоспела и пора зрелости. И снова идут ступени, и новое состояние — сорокалетие, а уже дальше — это прежде всего касается женщин — климакс. И понимать это следует так: спасибо и прощай!
Но все не так просто. Человек должен не только пройти эти ступени, он должен при этом обрести множество качеств. Каким ему следует быть, он слышит отовсюду, это носится в воздухе, даже внутренний голос говорит о том же. Все это не вызывает никаких возражений, этому учит и Библия; а кто я такой, думает человек, чтобы сомневаться в этом?
Будь добрым, чутким, терпеливым, приходи на помощь людям, умей понимать ближнего, не думай о себе, помни: в другой раз помощь может понадобиться тебе. Не бери, но давай, не бранись, не враждуй, не копи обиды. Но главное — это Любовь! Любовь — ключ ко всему. Если бы все дарили только любовь! Если бы любовь распространялась на каждого! «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас…»
Мы со Стуре бываем в церкви раз в сто лет, да и то по необходимости — на похоронах или на венчании. Что касается могил, то выбор у нас большой: и у Стуре и у меня на кладбище полно родственников, но мы оба хотим, чтобы нас кремировали. Мне это кажется самым подходящим, а Стуре, у которого самолюбия побольше, чем у меня, не хочет, чтобы его кости когда-нибудь потревожили. Несмотря на то что в церкви я бываю редко, у меня часто возникает желание заглянуть в Библию. Мне бывает приятно прочесть главу или просто один стих, но противно все, что накручено вокруг этого. Непрошеные слащавые голоса иногда вдруг звучат по радио у меня на кухне, но я его тут же выключаю. Убивать я пока никого не собираюсь, и меня мало интересует, что на эту тему может насочинять мальчик, выступающий по радио. Это как с шелестом берез и сосновым гулом. Я привыкла, что березовый шелест такой легкий, безыскусный, он светлый, как сама береза, а сосновый гул порывист и суховат. Но «толкователь», который недавно пел об этом по радио, просто-напросто выл. Он и в лесу-то, наверное, никогда не был.
Словом, Библию я читаю. Это так прекрасно и так успокаивает, красивое стихотворение или песня всегда меня успокаивает. Легко воспарить душой и хочется стать лучше, когда читаешь что-нибудь красивое. Я читаю и думаю: да, да, как верно сказано, если б только так все и было.
Наверное, желание стать такой, как нужно, и побудило меня взвалить на себя заботу о Гун. Я даже не задавала себе вопроса, нужно ли нам, или мне, за это браться. Гун приехала ко мне, она выбрала меня, разве могу я отказать ей? Я чувствовала себя избранницей, у меня появилась Миссия.
Кроме меня, у Гун никого не было, ни души. Дня через два позвонил Харальд и спросил, не у нас ли она, потому что она уехала, не предупредив его. Уже несколько месяцев она жила отдельно от него, в собственной квартире, и совсем опустилась. В квартире все на своих местах, а ее нет. Когда он узнал, что она у нас, я не почувствовала, чтобы у него камень с души свалился. Скорее, он раз и навсегда умыл руки. Харальд сказал, что они в разводе уже около года, если мы оставим ее у себя, он будет платить нам за ее жилье, кроме того, она получает ежемесячное содержание, но советовал не давать деньги ей в руки. Он долго терпел, но в конце концов терпение его лопнуло: теперь он женился во второй раз и скоро станет отцом.
— Ты подумай только, — сказала я Стуре. — Бросил ее, и все.
Но Стуре, видимо, был другого мнения, потому что только пожал плечами.
— Он терпел! — возмущалась я. — Терпел! Значит, недостаточно только терпеть! Как это типично для мужчин! Найти себе другую, помоложе, и отправить Гун на все четыре стороны. Она небось и пить-то начала из-за того, что Харальд все время путался с другими. Но мне она сестра, и я от нее отказываться не собираюсь. Мне ее жалко. Господи, как мне ее жалко, счастье еще, что у нее есть мы. Нельзя оставлять человека в беде.
Я видела Трагедию с прописной буквы, а Стуре видел падение. Я видела сломленного горем человека, а Стуре видел бутылку, и если у меня сердце обливалось кровью, то Стуре испытывал только досаду. Теперь я понимаю, что это была типично женская и типично мужская реакция, но через несколько лет мы пришли к полному единодушию. Я была готова пожертвовать многим, Стуре — малым, а Гун требовала всего. Я предложила ей руку помощи и чуть ли не душу, она же без единого слова благодарности готова была сожрать меня целиком, со всеми потрохами. И если мне стыдно, что я дала Густену деньги, то не менее стыдно мне и за то, что я отдала бы Гун всю душу, если бы это потребовалось. Ведь надо быть доброй!
Не так давно мне на работе попалась инструкция, как обслуживать пациентов. Я принесла ее домой и прочитала Стуре вслух, а потом спросила, знал ли он, что именно так следует оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Это был пространный трактат, за который, между прочим, было заплачено, и немало, заключительная его часть была просто шедевром, иначе не скажешь.
«На практике трудно провести четкую грань между услугой, процессом предоставления этой услуги и той системой, в задачу которой входит обеспечение предоставления услуг. (Это все мы с тобой, Стуре, сказала я.) Поскольку эта служба сама по себе уже является действием, объектом которого становится обслуживаемый, то качество услуги он воспринимает в совокупности этих моментов. (Как ты думаешь, Гун именно так воспринимает наши услуги? Ты вообще понимаешь, о чем тут идет речь? Стуре покачал головой.) Качество услуги целиком и полностью зависит от той системы, которая эту услугу обеспечивает (Уж не про меня ли это?), от индивидуальных способностей и поведения обслуживающего персонала в сочетании со вспомогательными средствами и организацией труда. (Боюсь, Гун считает, что у нас нет никаких индивидуальных способностей, особенно у тебя.) Есть возможность создать систему, которая будет производить и воспроизводить такую услугу эффективно и при сохранении высокого качества, что явится инновационным вкладом в дело организации медицинского обслуживания. (Что верно, то верно, наш инновационный вклад — обнаружение бутылок и разоблачение тайных поставщиков, ты согласен? Стуре кивает.) Выражаясь несколько абстрактно, можно сказать, что способность мыслить обобщенно, интеграция структур и процессов неизбежно приведут к созданию эффективной системы обслуживания». (Тут я уже совсем ничего не понимаю, мы, во всяком случае, стали действовать эффективнее во всех отношениях, но угодить Гун не можем. Разве не обидно? Это же черная неблагодарность.)
Я отнесла эту инструкцию нашей заведующей Биргитте и спросила, верит ли она, что благодаря таким инструкциям обслуживание может улучшиться, но она эту инструкцию, оказывается, не читала, она уже несколько лет вообще не читает никаких инструкций.
После приезда Гун я взяла на неделю отпуск. Наша мебель со второго этажа частично отправилась на первый, частично — в сарай, потому что прибыла мебель из квартиры Гун. Хотя вообще-то говорилось, что Гун проживет у нас совсем недолго, от силы лето, а потом уедет за границу, потому что жить в этой проклятой стране невозможно, тем более в лесу. Платить за квартиру? Неужели мы в самом деле хотим получать квартирную плату? Второй этаж у нас все равно стоит пустой, что ж, теперь брать за него деньги? Но мы, конечно, как все крестьяне, сквалыги. Ну хорошо, а если платить будет Харальд? Он что, решил удерживать эту сумму из ее ежемесячных денег? Ну, значит, он мстит — не может простить, что это она, а не он, первая захотела развестись, он ей до смерти надоел, да-да, до смерти надоел, и уже давно! Ей хочется восстановить силы на свежем воздухе, вот она и приехала ко мне. А вообще-то у нее много друзей и все зовут ее к себе в гости.
Ступив на эту стезю, я не прочь была бы узнать, как Флоренс Найтингейл стала Флоренс Найтингейл, из-за несчастной любви или из-за какого-нибудь другого разочарования? Как новообращенная спасительница я в глубине души верила в утешение, добро, искренность, понимание и прощение. Я старалась помнить о несложившейся жизни Гун, о двух неудачных попытках родить ребенка, о безудержном стремлении души к чистоте и свободе и что человек все может, если только захочет. Чего я только не перепробовала — и молоко, и минеральную воду «Виши». Но из этого ничего не получилось — от молока у нее расстраивался желудок, а вода не помогала при бессоннице. Почему нельзя выпить водки или вина? Боже мой, ну выпила она рюмочку хорошего вина, стоит ли поднимать из-за этого такой шум? Конечно, она устала, иначе и быть не может, она уже не помнит, когда последний раз проспала целую ночь.
Чем слабее человек духом, тем крепче дух перегара. Сумки, с которыми она приехала, были неподъемные, и я слышала звон бутылок в ее пакетах с мусором, когда ставила рядом свои. Но вначале почему-то всегда бывает стыдно. Стыдишься и веришь, потому что, если не верить, под тобой разверзается ледяная бездна. Пьяный мужчина-это дело обычное. А пьяная женщина?.. Трудно, когда женщина молчит больше, чем говорит, плачет больше, чем молчит, и пьет больше, чем плачет. Мучительно стыдно, по себе знаю, пьяного назвать пьяным, а грязь — грязью. Вообще неприятно иметь дело с чем-нибудь неприятным, предпочитаешь отвести глаза: авось оно сгинет.
Я, правда, глаз не отводила, но далеко не сразу решилась на грубое вмешательство в жизнь Гун. Например, открыто, а не украдкой искать пустые и непустые бутылки. Не сразу признала тот факт, что содержимое наших бутылок, стоящих в буфете, понемногу убывает. Когда же мы в этом убедились, Стуре врезал в дверцу замок. Пока он возился с замком, сверху спустилась Гун, она увидела, чем он занят, однако и бровью не повела. А вот я чуть со стыда не сгорела из-за того, что нам по ее милости приходится заниматься таким постыдным делом. С трудом преодолевая неловкость, мы как бы невзначай выглядывали в прихожую и ловили на месте преступления Гун с ее посетителями, кем-нибудь из жителей Гудхема, знакомым мне часто только в лицо, который по просьбе Гун, будто бы оставшейся без продуктов, принес ей самое необходимое. Я была возмущена, когда узнала, что на законном основании можно отказать в продаже спиртного только тем покупателям, которые не стоят на ногах, а если у них всего-навсего трясутся руки, красный нос и блуждающий взгляд, они имеют законное право продолжать пить, пусть руки у них трясутся еще сильнее, нос станет еще краснее, а взгляд еще бессмысленнее. Но больше всего меня возмутило, что, оказывается, ни один врач не может сделать в удостоверении личности отметку, которая запрещала бы продавать спиртное тому или иному человеку, — это, видите ли, покушение на человеческое достоинство и свободу. Однажды я решила, что Гун умирает: она была без сознания и даже похолодела. Мы тут же отвезли ее в психиатрическую лечебницу, где ее продержали несколько дней. Все эти дни я просила медицинскую сестру помочь мне встретиться с лечащим врачом Гун, до сих пор помню взгляд и слова этой сестры. Она строго посмотрела на меня, будто уличая во лжи, и сказала:
— А что вас, собственно, интересует?
— Меня? — удивилась я. — По-моему, это вас должны интересовать дополнительные сведения о вашей больной.
— Спасибо, но этого не требуется.
К тому времени Гун жила у меня уже почти год, но я не знала о ней ничего, у них же она лежала всего неделю, однако им все было ясно.
Жизнь предлагает нам на выбор либо трудности, либо бутылку. Гун предпочла бутылку, я — трудности. Жизнь похожа не на прямую автостраду, а на неразбериху предместий Лос-Анджелеса, сеть дорог, которую я долго изучала по карте, прежде чем решилась выехать на нее. Мосты, виадуки, туннели, перекрестки, одностороннее движение, многорядное движение, съезды и въезды на трассу, немудрено, что новичок запутается, бензин у меня кончался, покрышки и мотор могли отказать в любую минуту. Зато теперь я не уступлю любой закаленной жене алкоголика, я уже выучила и не раз повторила все застольные куплеты, а их, между прочим, немало и не все они веселые. И с пятого куплета на десятый не перепрыгнешь, каждый нужно зазубрить и выжечь на собственной шкуре, и важно помнить, что на дне бутылки прячется трагедия, но еще важнее не потерять контроль над этим адом. Вожжи у лошадей в этом аду всегда должны быть натянуты, иначе они свернут в рай и все там вытопчут и опустошат. Именно это Гун и готова была проделать. Она бы оставила вокруг меня и Стуре голую землю, если б я продолжала разыгрывать из себя Флоренс Найтингейл. Я одержала победу, а вот Флоренс Найтингейл потерпела поражение, правда, эта женщина оказалась упрямой, но мир праху ее. Безработица ей не грозит, ее обожают люди, готовые отдавать все сто процентов своей любви и доброты. Но хорошей рекомендации я ей не выдам. Если меня спросят, я скажу: глядите за ней в оба, она хочет подновить блеск своей славы. Конечно, намерения у нее добрые, но жизненного опыта маловато, она прочитала слишком много инструкций по обеспечению эффективного обслуживания, газетных статей и прочей дребедени, при этом еще сердце у нее дало течь, а это самое опасное, такой человек уже ничего не слышит, кроме звона капель.
Однако ни одна жена алкоголика не позвонила мне и не спросила, считаю ли я, что ей следует и дальше терпеть, верить, подтирать грязь и оберегать человеческое достоинство мужа — например, звонить к нему на работу и предупреждать, что его человеческое достоинство заболело, что ко всему у него першит в горле и раскалывается голова, поэтому говорить он не может, кроме того, он вывихнул ногу и разбил нос. Но даже если бы я сказала ей, что ничего этого делать не следует, она бы непременно спросила меня: но все-таки мне следует, наверное, поговорить с ним по душе? Ради Бога, говори сколько угодно, ответила бы я, особенно если тебе нечего делать, но вообще-то ты с таким же успехом можешь поставить пластинку или запиши на магнитофон все, что ты говорила ему десять тысяч раз, все слова утешения, какие тебе придут в голову, и включай его, когда твоя фантазия иссякнет, повторение — мать учения. А если хочешь услышать по-настоящему дельный совет: перестань любить его на сто процентов, довольно с него и пятидесяти. Это тоже не поможет, но зато ты сохранишь себя, а ему все равно хуже не будет.
Нам со Стуре теперь уже не так тяжело. У нас в доме по-прежнему находится мина, но мы приняли необходимые меры предосторожности: повесили на углу дома старый ревун и подсоединили его к пожарной сигнализации — сирену слышно у Хеннинга, если только они с Дорис не сидят вместе на тракторе в защитных наушниках. Мы выжили, а от тетушки Флоренс остался лишь жалкий призрак, время от времени он появляется, но навредить уже не может. В результате всех наших страданий мы получаем солидную плату за наш верхний этаж и вдобавок оборудовали приличный домик для гостей. И еще я обнаружила, что стала назидательно поднимать указательный палец, совсем как старая учительница. Со Стуре я этого пока не делаю, а вот с Пигге бывает. Обнаружила я это случайно: Гун привезли из Гудхема заказанные ею продукты, и я услыхала мопед посыльного, только когда он уже отъехал от дома. Я кинулась к Гун, она как спасательный жилет прижимала к груди коробку с бутылками, я отняла у нее этот жилет и стала читать ей нотацию, тут я заметила свой дрожащий, воздетый кверху палец. Вместо того чтобы рассмеяться, я со всего маху грохнула коробку об пол. Бутылки разбились, и мне же пришлось подбирать осколки и вытирать пол, я знала, что Гун этого не сделает. Лопнули гроздья гнева. Я рассказала Стуре про свой палец, и он признался, что уже не раз замечал это.
Да, жизнь — это не езда по автостраде. У большинства она выбирает извилистые дороги поблизости от ворот ада, где может опалить адским пламенем. Учитывать это нужно, но бояться не следует. Убережешься от пламени в первый раз, будь уверен, что тебе вновь придется повторить тот же маршрут, — все надо изведать на собственной шкуре. Если бы не это, если б высшую науку жизни, которую человек начинает проходить по достижении возраста, дающего право голосовать, и кончает, выйдя на пенсию, можно было постигать вечер за вечером, сидя перед телевизором, не сходя с места, то все были бы очень мудрые. Но пока этого нет, приходится за все платить собственной шкурой.
А Гун? Что ж, Гун несчастна и никогда не будет счастлива, ей это не нужно, она предпочитает прятаться в свою раковину. Ей вроде и нужна дружеская рука, но в ответ на протянутую руку она свою не протянет. Мне кажется, я понимаю ее, однажды мне случайно довелось испытать нечто подобное. Как-то вечером я поехала на велосипеде в гости к дачникам, которые живут на горе, на западном берегу озера. Стуре дома не было, я взяла велосипед и поехала без него. Было жарко, дорога все время шла в гору, и, когда я добралась до них, я просто умирала от жажды. Хозяева сидели на веранде и любовались вечером. Я сказала: Господи, как пить хочется, мне бы сейчас целое ведро воды! Они угостили меня чем-то, похожим на сок, и я пила этот вкусный напиток, пока снова не села на велосипед, и только тогда я вдруг обратила внимание, как им хорошо и спокойно, а на обратном пути я поняла, почему так. Проселочная дорога, ведущая к ним, заросла травой, кустарник по краям дороги разросся, мне казалось, что я, как Восточный экспресс, мчусь сквозь джунгли. Наконец я доехала до дому. Надо им позвонить, подумала я, сказать, что все в порядке. Но строчки в телефонной книге сливались, и звонок пришлось отложить. Я села на веранде в ожидании Стуре и вдруг представила себе, что то же, что я сейчас, ощущает Гун, только так она и хочет жить. А как именно? Я чувствовала, будто весь мир и вся жизнь вдруг сузились вокруг меня, и можно было достать до их пределов, а за пределами уже не было ничего. Я словно сидела в пузыре, и все, что было снаружи, походило на сон. Реальность стала сном, а сон — реальностью.
И слава Богу, что Флоренс Найтингейл скончалась, а Улла вернулась. Почему я не смогла быть Флоренс Найтингейл? Очень просто: мне нужна была благодарность. Мне нужен был хоть какой-нибудь отклик. В конце концов я поняла, что нельзя только давать, ничего не получая взамен. Вместо того чтобы призывать людей делать добро, надо призывать их отвечать добром на добро. Эти качели должны удерживаться в равновесии, иначе одного из качающихся будет жалко. Второго, впрочем, тоже, потому что он висит в воздухе, а живут-то люди на земле. Гун не виновата, она просто живет в своем пузыре, я виню только себя: я была наивна, а потому несправедлива, нельзя отдавать ближнему слишком много, а потом отворачиваться от него, если он не возвратил всего сполна. Когда отдаешь все, хочется хоть что-то получить взамен, но у меня не хватало смелости признаться в этом. У меня не хватало смелости, да я и не хотела признаться самой себе, что, столько отдавая Гун, я надеялась заполнить пустоту в своей душе. А это дурно.
Надо отдавать половину — не больше. Половину отдашь — половина останется у тебя. И другой отдаст мне половину, а больше и не нужно. Я же отдавала все и ничего не получала взамен, и осталась ни с чем. После смерти Эрика Стуре убрал его кроватку, не спросив меня и не сказав мне ни слова, между нами словно возник некий уговор, и я молча это приняла. После тяжких лет, прожитых с Гун, это только окрепло: независимая зависимость, независимость, основанная на доверии. Открытия тут никакого нет, это старый закон: живи и давай жить другим.
Пятьдесят процентов любви, внимания, преданности — и не больше. А тому, кто пожелает большего, я объявляю войну. Так я борюсь за себя. Вначале, конечно, было стыдно и неловко, нас ведь учили только доброте, но потом привыкаешь жить в условиях войны и уже понимаешь, что иначе невозможно. С людьми, которые отдают не больше, чем пятьдесят процентов своего сердца, диктаторам совладать трудно, как большим, так и маленьким, как южноафриканскому Боте, так и моему Стуре. Впрочем, Стуре не диктатор. Но кто знает, какие у него задатки, я могла бы здорово влипнуть, если бы следовала правилу — доброта превыше всего.
Я бы немного изменила Библейскую заповедь, по-моему, она должна звучать так:
Люби ближнего, но только наполовину, другую половину сохрани для себя.
10
В жизни каждого, как в жизни земли Египетской, годы изобилия сменяются годами нужды; зеленый пейзаж перебивается жизненными вехами. Но кольца, по которым можно прочитать жизнь и историю дерева, в жизни людей видны не так отчетливо. Вдруг замечаешь, что как-то все сливается, все смешивается. Конечно, в моей жизни зелени много, достаточно даже не тронутой ничем зелени, и она сродни настоящей зелени — природе. Без этой зелени, как нетронутой, так и помеченной вехами, я бы не выдержала Гун. Правда, и ценить эту зелень я бы не научилась, не будь у меня раньше Эрика, а потом — Гун. Добро и зелень лучше всего видишь через очки благодарности.
Мой зеленый пейзаж — это Стуре, Карин, Енс и Эва, наш дом, сад и озеро, соседи, друзья, работа и жители Гудхема. Всего этого Гун оценить не может, потому что это не Стокгольм и не Париж, Ёран и Ингрид этого тоже не замечают — для них это слишком мелко. Они охотно приезжают к нам, ходят со мною за покупками, и мне не раз приходилось краснеть за них в магазинах. Ёран разыгрывает из себя рубаху-парня, расхаживает в сапогах Стуре и силится показать, что он свой в доску (несмотря на то что его имя иногда мелькает в газетах, которые не читает и четверть населения страны), а диалект у него еще почище, чем у Оссиана или Ольссона Аллохола. Можно подумать, всем только и дела, что до его жизненного успеха. А Ингрид почти никогда ничего не покупает в наших магазинах. Говорит, что качество ее не устраивает и цены, мол, у нас выше, чем в Стокгольме, однако по ее милости не так давно перевернули вверх дном весь склад с гардинами в нашем мебельном магазине.
— Разве ты собиралась их покупать? — спросила я, когда мы вышли. — Тебе действительно нужны гардины?
— Бог с тобой, — ответила она. — Просто интересно узнать, какой выбор предлагает сельский магазин.
По-моему, они считают, будто Гудхем что-то вроде Скансена — стокгольмского музея народного быта — или старинного скотьего торга, а мы — экспонаты, вроде чучела куницы, сидящей на колышке в краеведческом музее. Да-а, говорят они, в определенном смысле хорошо, что такая жизнь еще сохранилась! Пусть пока подержится!
Заголовки из нашей местной газеты они читают друг другу вслух, как сборник анекдотов: «Домашняя проповедь в Кроксхульте», «За кулисами мировой политики», «Праздник „В родном краю“ собрал двести пятьдесят гостей», «Пираты из Бангладеш атаковали речное судно». Я вам могу прочитать не хуже, говорю я и беру «Экспрессен»: «Не выбрасывайте пустые стеклянные банки», «Радиоактивное загрязнение из Чернобыля». Не вижу никакой разницы, говорю я, а вы? Разве что наша газета увеличительное стекло, а ваша воображает себя телескопом.
— Ты сама не знаешь, до какой степени ты права, — говорит Ёран назидательно. — Но детали деталями, а если не видеть общих процессов, можно в этих деталях увязнуть. Общие процессы и тенденции — это главное, особенно для исследователя. Ты постоянно твердишь, что в Гудхеме есть все то же, что и в больших городах, но ошибочно судить о целом, когда в поле твоего зрения попадает от этого целого лишь крохотная часть.
— Мы здесь тоже следим за тенденциями. Но, по-моему, еще ошибочнее, исходя из этого твоего целого, что бы там оно собой ни представляло, воображать, будто и крохотная часть от него точно такая же. Исследуйте, только отдельно, какой-нибудь городской район — и вы убедитесь, что он ничем не отличается от Гудхема.
— Нет, мы работаем не так, мы не углубляемся в детали, поскольку нас не интересуют отдельные личности. Мы стараемся выяснить, как современные тенденции и социальные структуры влияют на человека. Вот что главное.
— Хорошо, — говорю я. — Но если вы ничего не знаете о людях, которых вы спрашиваете, какими они были до воздействия на них разных тенденций или стали после этого, что же вам удается выяснить?
— Если бы ты увидела наши анкеты, ты бы сразу все поняла, — вмешивается Ингрид. — Там ясно прослеживается влияние социальной структуры. Сами респонденты этого влияния не отмечают, но мы-то видим. И, как правило, это влияние разрушительно.
— И что же вы в связи с этим предпринимаете?
— Мы тут ни при чем, изменяться должно общество, но прежде необходимо выявить общие тенденции.
Так говорит Ёран. Он смотрит в телескоп не только на мир, но и на себя с Ингрид, и на нас.
Мне их жаль, они не способны увидеть зеленый пейзаж, который вижу я, но я-то вижу его лишь потому, что живу здесь. Иногда я проезжаю мимо незнакомых городков, и мне может показаться, что они выглядят не так приятно, как наш Гудхем, но это только потому, что я там чужая. Я как будто зашла в чужой дом. Пусть там уютно, красиво, даже шикарно, но все это не мое.
Оссиан тоже частичка моего зеленого пейзажа, летом ему стукнет восемьдесят, и он собирается устроить гулянку всем чертям назло и в остатний раз душу отвести — это его слова, за деньгами он не постоит. Оссиан много лет помогает нам с дровами. Мы привозим из леса бревна: когда Стуре свободен, они с Оссианом их пилят, и потом Оссиан колет, как надо, и для плиты на кухне, и для кафельных печей, колет он артистически, это уже целая философия. Он курит, правда, не в дровяном сарае, и по его манере курить видно, что жизнь его не баловала, — он выкуривает сигарету чуть ли не вместе с фильтром. Он весел и доволен жизнью, однако и у него есть свои огорчения. Это и наша коммуна, будь она неладна, и правительство, и международная политика, и молодежь, и внуки. Молодежь, по его словам, ничего не делает, ничего не хочет и ничего не может.
— Зла на них не хватает. Так обленились, что задницу от стула не оторвут. Гоняют на своих лисапедах и мопедах, а если что изломается, так сами и починить не могут. На месте их папаш нипочем бы не стал ихние лисапеды чинить, уж я такой, — пущай ногами топают. Только ведь они пойдут таскать лисапеды у других. Они уж два раза магазин взламывали, один-то раз я их даже видел: у меня окна аккурат на магазин смотрят; ночью мне никак не уснуть, нога болит, хоть ты что делай, а доктор говорит: нету у тебя ничего. Как это нету, а что же тогда болит? Что ж это за болезнь такая — болит, а болезни нету? Не отвечает. Ну вот, значит, гляжу — взламывают заднюю дверь, звоню в полицию, так, мол, и так, грабят. Но полицейские приехали только через полчаса, понятно, дураков нет их дожидаться. Снимите хоть отпечатки пальцев, говорю, а они только дверь осмотрели да позвонили своему начальнику.
— Ну и как, поймали их?
— Какое там! Говорю им: они на «ямахе» укатили. А даже следов искать никто не стал. Нынче вот, говорят, другой магазин взломали, но это я не видал, не знаю, а только, наверное, те же самые.
В ту ночь, когда убили Пальме, он тоже не спал из-за больной ноги и первый услыхал по радио сообщение. И сразу же позвонил Хеннингу с Дорис, потом нам и обзвонил чуть не всех. Голос у него дрожал от волнения, он сказал, что в Гудхеме одно за другим зажигаются все окна и что это похоже на начало войны. Сам он смолоду был и остался социал-демократом, хотя и не всегда, по его словам, они делают то, что надо, но ведь за других голосовать не станешь, это ведь все равно что отказаться от отца с матерью. Эрландер был неплох, но самым лучшим из всех был Пер Альбин, и, когда Хеннинг вычитал про него в одной книжке, будто у него было сразу несколько женщин, Оссиан сказал, что, мол, это вполне естественная вещь. Пальме Оссиан недолюбливал, однако весть об убийстве Пальме потрясла его так же, как и всех нас. Правда, и на это у него имелась своя точка зрения:
— Раньше-то у меня завсегда окно в гостиной ночью было открыто, в спальне-то я затворяю, спать холодно, а в гостиной было открыто, но теперь и в гостиной не открываю — ежели людей за здорово живешь на улицах убивают, то так они половину Гудхема за полчаса перебьют, пока только полиция из города подоспеет. А Пальме, какой он ни на есть, ведь и ему в кино охота сходить, только зря он на такси не поехал, его-то небось задаром возят. А коли не задаром, так неужто у него денег на такси не хватило при его-то зарплате! Жалко жену его и детей. А сколько его бранили! Заграничный долг-де большой. В бедные страны миллионы посылает! А тут и про налоги, и про долги забыли, сами цветов на полмиллиона натащили. Тут уж никто про деньги не кричал. Я бы и сам миллион Африке пожаловал, если бы у меня был кредит в банке, и пусть коммуна потом за меня долг платит. Ну разве это разумно? Как по-твоему? Теперь, когда я смотрю телевизор, я думаю: хорошо ему, избавился от всего этого безобразия, уж больно безобразий-то много. Многим умным головам, вроде Пальме, при жизни-то одни шишки достаются, если у них, так сказать, передовые взгляды. Многих больших людей внуки потом причесали так, что их и не узнать. Вот и Пальме так же, умер — и сразу для всех стал хорош.
Таких, как Оссиан, много, может, не совсем таких, но похожих, любят порассуждать, пофилософствовать, на каждый случай у них своя точка зрения, это все люди пожилые, и женщины и мужчины. Их слушать интереснее, чем молодых, у них за спиной долгая жизнь, и они умеют взглянуть на явление с разных сторон. Они живут как бы в двух временах — в нашем, которое для них тоже свое, и в прошлом, когда они были молодые. Оссиану есть что порассказать о своей жизни. Все больше о работе, но также и о том, как весело им жилось, как часто они собирались вместе и все хорошо знали друг друга. Если и случалось какое убийство, так, значит, убийца был сумасшедший либо убивал кого-нибудь из родных или соседа, с которым чего-то не поделил; хорошего, конечно, мало, но хотя бы понятно. То было старое доброе время. Может, всякое время становится добрым, когда уходит в прошлое? Что я стану вспоминать добром, когда в будущем оглянусь на свою жизнь? Про Оссиана, или про то, что в наши дни нельзя было есть морскую рыбу, или еще про что?
Оссиан приезжает на мопеде из Гудхема, куда переселился несколько лет назад, передав усадьбу Хеннингу; каждую неделю он их навещает. Готовить он не умеет, этим всегда занималась жена, поэтому он питается в пансионе для престарелых, а ногти на ногах ему подстригает девушка, такая хорошенькая, что ему стыдно за свои ногти, он говорит, что они похожи на старые желтые зубы. Раз в неделю он ездит на танцы, там у них своя компания, все вдовые, они танцуют, играют в карты и… еще кое-что; кое-что — это немножко виски. Оссиан не пьет, разве что пригубит рюмку, пьянство Гун внушает ему ужас, слыханное ли дело, чтобы дама пила. Женской любовью он тоже не обижен и продолжает вдовствовать не потому, что нет желающих выйти за него замуж, просто он не думает о женитьбе.
— Я тебе так скажу, Улла, ты старости не бойся, вон у нас женщины, сперва они такие строгие, неприступные, а пойдешь с ней танцевать, она и размякнет. Танцевал я в субботу с одной, совсем несимпатичная, разве что волосы красивые, а так — страх поглядеть, но Господи Боже мой, как она танцевала, и сама была мягкая, как перина.
Покончив с дровами, он выпивает на посошок, и я сую ему деньги, потихоньку, иначе у него вычтут из пенсии налог, потом он облачается в кожаную куртку, шлем и уезжает. Хеннинг и Дорис волнуются за него — у него плохо поворачивается шея, и он смотрит только вперед. Полицейские не раз делали ему замечания, но он всегда отругивается: чего к старику придираетесь, небось, когда всякие молокососы гоняют, как черти, вы их не трогаете.
Хеннинг говорит, пускай старик ездит. Лучше сломать голову, чем сидеть дома и скучать. Однако по пятницам Оссиан к нам не приезжает, пятница — базарный день, и все старики, которых еще ноги носят, встречаются у лотерейных киосков, где собирают средства на союз пенсионеров или клуб горнолыжников. Они глазеют на толпу, на женщин и наслаждаются жизнью. По пятницам я тоже бываю на базаре, мне нравится царящая там атмосфера семейного праздника, весной здесь торгуют садовой мебелью, плетеными корзинами, картинами с автографами художников, зеленью, цветами, рыбой. Наверное, так же выглядят базары в Самарканде или в Каире.
Но прежде, чем Оссиан сядет на свой мопед, он непременно меня потискает, если, конечно, Стуре нету дома. Разумеется, я не противлюсь, но только каждый раз прибегаю к испытанной уловке — стараюсь увернуться от его поцелуя в губы, он даже не целует, а просто чмокает меня, причем за один поцелуй он успевает чмокнуть раз пятнадцать, а таких поцелуев может быть и семь и восемь. Объятия у него железные, но, по-моему, он ничего при этом не испытывает. То ли на нем слишком много одежды, то ли ему для разгона нужно много времени, может, даже несколько часов. Но какое это имеет значение, ведь он пенсионер, как и его подружки по танцам.
Мы с Дорис и Хеннингом часто говорим об Оссиане и смеемся над его приключениями. У Хеннинга слезы текли от смеха, когда его папаша, съездив на Аландские острова, подробно рассказывал о своих похождениях. Хеннинг смеется заразительно, при этом его надо не только слышать, но и видеть: уголки губ у него не растягиваются, а высоко поднимаются, и он вдруг становится очень красивым. Ну, папаша, ты кого хочешь уморишь! — стонет он, вытирая слезы. У них с отцом прекрасные отношения, Хеннинг говорит, это потому, что, начав хозяйничать в усадьбе, он сразу дал понять старику, кто здесь главный. Оссиан только кажется таким благодушным, а характер у него ой-ой-ой, Дорис подтверждает, что когда отец с сыном сцепятся, так только пух и перья летят.
По-моему, Хеннинг, как и Стуре, с возрастом только хорошеет. Он ровесник Гун и чуть постарше Стуре; и у Стуре, и у Хеннинга внешность очень соответствует их внутренней сути, и с каждым годом все больше. У обоих, например, носы похожи на руль, в молодости человек переживает, если у него такой нос, зато теперь такой нос только подчеркивает силу характера. Нос да еще появившиеся кое-где морщины, у Стуре даже не морщины, а складки — Стуре как сыр: чем дольше он выдержан, тем лучше.
Помню, однажды вечером, накануне Иванова дня, я возвращалась на велосипеде от Дорис. Иванов день мы всегда празднуем вместе, и я помогала Дорис с готовкой. По дороге я встретила Стуре и Хеннинга, они шли навстречу, ведя велосипеды, нагруженные березовыми ветками. Смотреть на них было одно удовольствие — такие беззаботные, загорелые; я вдруг почувствовала себя очень богатой при виде этих двоих мужчин, которые мне дороже всего на свете.
Что еще я вижу среди своего зеленого пейзажа? Конечно, лосиную охоту. Каждую осень, после охоты, вся компания — и владельцы лосиных угодий, и охотники — собирается на пирушку. Мы веселимся от души — человек пятнадцать мужчин, все в расцвете сил, независимо от возраста, и все ухаживают за нами с Дорис, потому что мы единственные женщины. Мы все когда-то были ближними или дальними соседями, но теперь некоторые переехали в Гудхем или в город. Просто удивительно, насколько веселее и приятнее бывают мужчины, когда они приходят без жен, — резвятся, как кони на лугу, и мы с Дорис наслаждаемся каждой минутой. Конечно, хлопот с угощением много, но и они в радость, собираются все у Дорис, у них просторнее, а вообще-то самые большие охотничьи угодья принадлежат Стуре. Дорис сидит на одном конце стола, я — на другом, и мы следим, чтобы все было как надо, мужчины сами собирают тарелки и относят их на кухню, они рады случаю потискать нас. У Дорис грудь и плечи сорокового размера, а бедра — сорок шестого, наоборот было бы хуже, а так она выглядит даже очень недурно, да и от меня кони тоже не шарахаются, напротив, эти кони пялятся на нас, как на мешок с овсом. Редко кто-нибудь напивается всерьез, однако глаза у них горят, и нам с Дорис ничего не стоило бы закрутить с двумя или тремя, но Стуре с Хеннингом находятся рядом, и никто не позволяет себе ничего лишнего, правда, мужчины пожирают нас глазами, хоть мы и не такие уж молодые лосихи. А как они чешут языки! Почище двадцати женских клубов, вместе взятых. Больше всего разговоров об охоте, о ней они могут говорить без конца, и это понятно. Но мы с Дорис заметили, что рано или поздно они непременно заговорят о простате. Большинство из них как раз в том возрасте, когда начинаются нелады с простатой или «простотатой», как говорит Оссиан, и, если разговор о простате заходит, пока мы с Дорис еще сидим за столом, мы с ней обязательно поднимаем бокалы и обмениваемся понимающим взглядом. Однажды Стуре спросил у меня, за что мы пьем, но я ничего не сказала. Речь о простате заходит, когда мужчин уже не связывают условности, именно в такую минуту года два назад один из охотников, самоуверенный и неравнодушный к женщинам, признался, что они уже давно не спят с женой из-за этой самой простаты и тем не менее прекрасно ладят друг с другом. Он сказал это спокойно и немного задумчиво, и тишина, наступившая после его слов, тоже была спокойной и задумчивой.
К концу вечера всегда найдется два-три человека, которые пили немного, они и отвозят домой тех, кто живет в Гудхеме. Другие, живущие поблизости, потихоньку добираются до дому сами. А мы вчетвером моем посуду, и эти минуты, пожалуй, самые лучшие. Наконец уезжаем и мы со Стуре, я сижу за рулем, на веранде нашего дома горит фонарь, и на гараже — тоже. Теперь светится еще и окно Гун, потому что она предпочитает спать днем, а не ночью. Больше нигде ни огонька. Разве что светятся окна в доме на другом берегу озера, но этот дом далеко, и мы видим лишь светящуюся точку.
Раза два я выносила Эрика ночью на причал мне хотелось, чтобы он увидел тьму и звезды. А через несколько дней он выкинул из кухонного шкафа все мои кастрюли и сковородки, а сам забрался внутрь и закрыл дверцу — он играл в ночь.
Но разве могут все эти счастливые мгновения попасть в отчеты или исследования? В отчеты попадает не индивидуальное, а только среднее и общее. Бедняга человек теряется среди этого общего и в конце концов перестает верить, что он существует.
11
Отпуск кончился, и я снова работаю. Часть отпуска я беру в начале лета, остальное — в августе. И вот я опять каждое утро еду по хорошо знакомой дороге. Поглядываю на сады по обочинам, знаю, возле каких стоит притормозить, а возле каких — нет, сады меня интересуют. У пожарного депо цветут огненные розы, а у нашего центра — кровавые, хотя это тот же вид. Во время отпуска я выкидываю из головы все мысли о работе, несмотря на то что заезжаю иногда в наше отделение хроников проведать маму, которая лежит там уже давно. Однако после отпуска я легко вхожу в привычную колею, как будто прыгаю на карусель, которая все это время не переставала крутиться: я столько лет здесь проработала, что возвращаюсь сюда, как домой.
Мне дали новый кабинет с видом на лес, я не против леса, но раньше, оторвавшись от писанины, я могла выглянуть на улицу, и это было повеселее, чем смотреть на стволы сосен и берез. На одной из сосен сорочье гнездо; если подойти к окну вплотную и посмотреть наверх, можно увидеть черный шар. Гнездо большое и похоже на многосемейный дом. Птенцы вылупились еще до моего отпуска, они пытались летать и иногда срывались на землю, теперь они выросли; сороки красивые, но уж очень крикливые птицы. Наверное, это своего рода справедливость. У одного красивое оперение, и хватит с него, другой выглядит неказисто, зато у него голос, как у соловья. А вот вороне ни в том, не в другом не повезло… И воробью тоже, хотя, если приглядеться повнимательнее, его оперение напоминает твидовый костюм, у меня был такой несколько лет назад. Под окнами ходят и прыгают вороны и воробьи, они совсем ручные; больные из отделения хроников любят птиц.
Воробьи для них словно маленький привет из деревни, где они жили, хотя там водились только полевые воробьи.
Мой кабинет совершенно безликий; единственное, что в нем живого, — это я или кто-то другой, кто работал здесь во время моего отсутствия. Если только здесь кто-то работал, а наверняка так и было, хотя никаких следов человека в моем кабинете не видно, он ничем не отличается от других кабинетов. Нас, секретарей, трое. Марианна работает в центре почти так же давно, как я, я ее люблю, и еще есть Сив, она работает около двух лет, мне она совсем не нравится, но мы с ней по работе почти не сталкиваемся. Я самая старшая и потому удостоилась отдельного кабинета. Лучше сидеть одной в тесном кабинете, чем в просторном, рядом с этой трещеткой Сив.
Врач, с которым я работаю, обычно отдыхает в августе, он с семьей каждый год уезжает во Францию, это одна из причин, почему я часть отпуска беру в августе — с новым врачом трудно работать. В нашем центре пятеро врачей, а пациентов пятнадцать тысяч. Но пятеро их только на бумаге и по количеству кабинетов, а на самом деле мы бываем рады, если у нас одновременно работают четверо врачей, потому что чаще всего их бывает только трое, да и то один из них работает временно. Во время отпуска все устремляются на лоно природы, поближе к лесам, озерам; людям нравится жить в уютных деревушках и делать покупки в маленьких лавочках, нравится золотистый солнечный свет и шелест листвы, но все это только во время отпуска. А работать они пред почитают в городе, в крупных больницах. Все стараются получить работу там, туда же даются и все средства на специалистов. На стенде возле столовой Биргитта вывешивает статьи из газет, в которых именно специалисты часто жалуются, что слишком много денег идет на оздоровительное центры, половину из которых, по их мнению, давно пора сровнять с землей. Они, наверное, думают, что мы здесь ничего другого не делаем, как только стрижем пациентам ногти. Им, конечно, виднее, но они считают, что простые люди ни в чем не разбираются, а главное — все безоговорочно верят врачам. Грустно, что каждый думает только о себе.
Мы не стрижем ногтей нашим пациентам и не пересаживаем ради науки свиньям задние ноги на место передних или наоборот. А сколько в газетах писали об этом эксперименте! Действительно! Взять да пересадить свинье ноги с места на место, разве это плохо? Например, приходит человек, который потерял руку, но у него, предположим, отроду было три руки или три ноги, остается только заменить одну конечность другой, и дело в шляпе. Чудесно! Но все же лучше делать то, что делаем мы: облегчаем недомогания, поддерживаем в трудную минуту и помогаем людям найти выход из тупика. Мы стараемся не допустить, чтобы их недомогания превратились в тяжкие недуги, когда без специалиста будет уже не обойтись, или чтобы душевные ссадины превратились в глубокие язвы.
У меня такая ссадина появилась после смерти Эрика. Почувствовала я ее не сразу, примерно через год. Я не могла спать, у меня ныло сердце, и я попала к чудесному врачу, который у нас тогда работал. Он был очень умный. Он не знал про Эрика, внимательно меня выслушал и задал несколько вопросов, но лекарство не выписал, а только объяснил, что у всех такие потрясения проходят по-разному: у одних сдает сердце, у других — желудок, у третьих — нервы, это в порядке вещей. Когда случается что-то ненормальное, ненормально чувствовать себя нормально. Я догадывалась об этом, но самому прогнать собственных призраков не так-то легко.
Теперь этот врач у нас больше не работает, его гастроли закончились, и его сменили новые гастролеры. Они выслушивают больного, мнут ему живот, выписывают рецепт и просят явиться через месяц. А через месяц на месте прежнего уже другой врач, он выслушивает, тоже мнет живот и предлагает старое лекарство заменить новым — а там посмотрим, и покидает Гудхем. Неудивительно, что у людей развивается депрессия и ссадины превращаются в раны, настолько глубокие, что лечить их под силу только специалистам из города. Иногда я думаю, а нет ли здесь умысла, ведь каждому специалисту хочется, чтобы список записавшихся к нему больных был как можно длиннее, ведь такой список свидетельствует о том, насколько этот специалист необходим людям. Мне много чего приходится выслушивать. Меня знают. И знают, что я работаю в центре. Многие очень недовольны, они возмущаются: мы уже не годимся на то, чтобы летние домики сдавать, а нас все никак за больных не признают.
Наш центр или больницу, как говорят многие по старой памяти, называют еще Мельницей. Когда-то давно здесь работал врач по фамилии Кварнстрём[25], на ходу он всегда размахивал руками, его недолюбливали и прозвали Мельницей. Врач исчез, а прозвище осталось, оно прилипло к центру, может, еще и потому, что он как бы перемалывает врачей, и они здесь не задерживаются.
Словом, я работаю на Мельнице, и мне все здесь нравится, все подходит. Я во всем участвую и в то же время — не участвую, такова роль Машинисток судьбы. Больные меня не видят, разве что изредка, когда мы раз в неделю по очереди дежурим в регистратуре. Для Сив это праздник, она сидит там, словно в баре или в дорогом отеле. Все остальное время я печатаю то, что доктор набормотал на магнитофон. Если он не спешит, а я это слышу по голосу, то голос у него усталый, и это я тоже слышу. Когда голос звучит у самого уха и ты его хорошо знаешь, по нему можно о многом догадаться. Все подряд я не записываю, слишком много там всяких «гм-м», «н-да», «ну как вам сказать», я пишу только суть. Иногда доктор долго не может подобрать нужное слово, а иногда подпустит такое словечко, что, если я его запишу, он получит нагоняй даже из-за какой-нибудь назойливой старухи. Я слушаю по нескольку раз, гоняю ленту вперед и назад — докапываюсь до самого главного, мой словарь затрепан не меньше, чем старая добрая Библия у проповедника. У наших постоянных опытных врачей я с полуслова угадывала, что они говорили, они обращались не столько к больному, сколько ко мне, и делали это сознательно, а вот с новыми врачами мне приходится выступать в роли Шерлока Холмса или даже доктора Ватсона, я то и дело захожу к врачу и задаю дополнительные вопросы. Если я знаю больного, мне иногда кажется, что я вместе с ним присутствую на приеме и вместе с ним по команде делаю вдох и выдох, но чаще всего моя работа напоминает работу на почте. Там тоже, наверное, сначала читают каждую открытку, но потом это надоедает. Я ищу диагноз, как сыщик, и врачу тоже часто приходится быть сыщиком, чтобы распутать сложный случай. Что ни говори, а работа захватывает меня целиком, обогащает мою жизнь, хотя часто именно жизнь стоит под вопросом в тех записях, которые я должна вести.
Я словно страж у городских ворот, как будто наш центр — это таможня, шлюз или сеть, в которую большинство людей рано или поздно, но попадутся. Я не раз об этом думала. Мало кому посчастливится миновать нас. Одни попадаются ненадолго, другие, тщетно пытаясь высвободиться, бьются до самой смерти. Это невидимая сеть, в нее можно угодить где угодно, от нее трудно уберечься, и попадают в нее всегда неожиданно. Всем страшно, и, когда кто-то из знакомых забьется в этой сети, ты думаешь про себя: слава Богу, не я, еще не моя очередь. В Гудхеме — на улицах, в магазинах, всюду — я часто встречаю людей, которые, насколько я помню, запутались в ней накрепко, иногда они меня останавливают и спрашивают: послушай, Улла, я хожу к доктору, но никак не пойму, что он у меня нашел, может, ты знаешь? Я только качаю головой — мол, откуда мне знать, сходи еще раз и спроси, доктор добрый, ему невдомек, что ты его не понял, поди и спроси и не волнуйся, у тебя наверняка нет ничего страшного. Но не всегда их гложет тревога, гораздо чаще это просто тоска по постоянному врачу. Врачу, которого они знают и который по их лицам поймет больше, чем вычитает в истории болезни, он угадает и то, о чем они ему не рассказали. Это самый лучший из друзей, как поется в псалме. Может быть, эти слова написаны отчаявшимся больным?
Не исключено, что такого самого лучшего друга можно было бы обрести и у нас, будь у нас достаточно врачей и не такой наплыв страждущих: один хочет продлить выходные за счет понедельника, другой — за счет пятницы, у третьего похмельный синдром, четвертый кашляет или чихает, пятый растянул ногу, у шестого — само все обошлось бы. И сидят все эти люди в нашей приемной и листают зачитанные журналы. Всех их одолело отвращение к работе. Или к жизни, обычное отвращение к жизни, а может, и к самим себе. Им бы взять да потратить пятьдесят крон не на визит к врачу, а на местный автобус и прокатиться куда-нибудь, увидеть что-нибудь новое, развеяться. Но за это им никто не заплатит по больничному. Два раза в день я прохожу мимо приемной — выпить кофе и пообедать. Заслышав шаги по коридору и увидев белый халат, все как по команде поворачивают головы, но из-под моего распахнутого халата видна обычная одежда, и все сразу теряют ко мне интерес. Многим сидящим у врачебного кабинета я могла бы прямо сказать: выйди на воздух, поброди часика два или три, ну хотя бы только один час, но каждый день, перестань пить, как сапожник, поменьше кури, брось свою болтливую жену или убогого мужа. Однажды я обнаружила в приемной Густена, и тут меня разобрала настоящая злость: ведь я знаю, что он здоров, но, когда ему нечем оплатить свои счета, или просто лень одолеет сильнее, чем обычно, или в нем вдруг проснется острая жалость к самому себе, у него обязательно что-нибудь заболит. Я просто вытолкала его из центра и сказала: ступай работать, нечего отнимать время у тех, кому действительно нужен врач. Боль в желудке или в коленной чашечке у тебя от твоих неоплаченных счетов, но лекарства от лени пока еще никто не придумал. Правда, прежде, чем выгнать, я затащила его в свой кабинет и сунула ему пятьдесят крон, потом я получила их в регистратуре. Нам бы не мешало каждый день производить такую чистку в приемной, но выгнать я могу только собственного брата. Иногда, если вспомню, я нарочно проверяю историю болезни кого-нибудь из этих бездельников и чаще всего оказываюсь права. Если бы наши врачи не были перелетными птицами, то все обстояло бы иначе, каждый больной знал бы своего врача, знал бы, что врач не станет попусту давать ему бюллетень, значит, и ходить к нему бесполезно, однако он знал бы и другое: мой врач всегда на месте, он никуда не денется и, если мне не полегчает, я могу пойти к нему.
Но больше всего страдает у людей, по-видимому, душа. Я говорю о той душе, о которой ни разу не вспомнили на семинаре, посвященном проблемам депрессии, — я ездила на него в Стокгольм. В существование этой души не верят или начинают верить, лишь отпраздновав пятидесятилетний юбилей, когда вдруг понимают, что жизнь пошла к закату. О ней задумываются уже и в сорок лет, когда туман над горизонтом постепенно рассеивается, но тогда все валят на обстоятельства, и прежде всего на других людей, обвиняя их в отсутствии души. Ведь именно душа прячется в сумочке или в заднем кармане, когда больной заходит к врачу, а врач не дурак, он чует эту душу по запаху, и, как правило, запах ему не нравится. Душа — это пугливая и неуловимая рыбка, чтобы к ней подступиться, необходимы специальные знания. Сколько душ скрывается в больных коленях, спинах, желудках и шейных позвонках; их невозможно обнаружить с помощью рентгена, да и больные вовсе не хотят, чтобы причиной болезни признали душу, душа требует много времени, а врач спешит — приемная у него набита битком. Только у Господа Бога много времени, но не каждый получает к нему направление, к тому же Бог не выдает справок в больничную кассу, а такая справка, как ни странно, исцелила бы многие души.
Интересно, до того, как люди узнали про душу, были ли они здоровее? Я имею в виду психическое здоровье. Душа и психика — это ведь не одно и то же. Я понимаю так: психика — это оболочка души. Психика представляется мне скорлупой, в которую заключена душа, теперь эта скорлупа стала такой тонкой, что почти не защищает, или душа стала такой беспокойной, что не дает психике времени восстановиться. Я думаю про Оссиана, который много чего пережил за свою долгую жизнь, и не понимаю, как ему удалось избежать психосоматических заболеваний. То ли потому, что их открыли сравнительно недавно, то ли ему помогла привычка все посылать к черту? Я часто покупаю авокадо, и его плод напоминает мне соотношение между душой и психикой: внутри большое ядро, а снаружи тонкая оболочка.
Теперь на первом месте стоит психика, а раньше стояла душа. В стихах, например. Но, может быть, просто к слову «душа» легче подобрать рифму? Ведь все внутри звенит, когда читаешь что-нибудь прекрасное, допустим, погружаешься в сладкую грусть стихов Нильса Ферлина, и начинаешь жалеть всех, в том числе и себя, и звенит вовсе не психика, это отзывается душа. Наш маленький воскресный колокол. Пойди в церковь и молча признайся, что на минувшей неделе тебя не было среди примерных чад Господа Бога, посмотрим, что будет на следующей неделе. С туберкулезом, чумой и холерой вроде бы справились всюду, кроме риксдага, теперь надо заниматься тревогой, психикой, душой. Нашу жизнь и мир вокруг нас все время качает, как тут не заболеть морской болезнью? Если не одолевают собственные тревоги, то заражаешься общей тревогой. Я сама ощущаю, общая тревога — она как усталость мира, и эта усталость проникла в нашу душу. Как избавиться от этой общей мировой тревоги? Может, принимать успокоительные таблетки перед выпуском последних известий по телевизору?
Ничего удивительного, что врачи бегут от нас, их гонит та же тревога. Куда интересней менять местами ноги у свиньи и таким образом набить себе руку перед операциями по пересадке сердца, легких, почек и бедренных костей — всего того, что хранит живая человеческая кладовая. Тут сразу видна работа, это не то, что лечить вовремя ссадины да царапины. Хорошо также изучать агрессивность живых существ, пропуская через обезьяну, сидящую в клетке, электрический ток и наблюдая, не проявит ли она признаков беспокойства. Ведь это тоже вклад в науку. Интересно, почему бы такому исследователю не избивать каждый день после работы свою собачку или ребенка? Потому что такие эксперименты, скорей всего, не финансируются и исследователь не мог бы освободиться от своей лямки врача? А то еще можно поэкспериментировать с живыми зародышами. Прекрасный, никому не НУЖНЫЙ материал, из крошечного мозга можно попытаться создать новое лекарство. Да здравствует прогресс! Злополучную несостоявшуюся мать ни о чем спрашивать не стоит, ей вообще незачем знать об этом, ведь никто не станет благодарить ее за то, что она явилась на аборт именно в тот день, когда поступило сразу несколько заявок на зародышей. Это было бы слишком жестоко, она и так огорчена, что ей сейчас некстати этот ребенок, которого она не заказывала, зато с точки зрения здравого смысла и науки можно только приветствовать, что от зародыша будет и польза и радость: слава Богу, мы избавились от изнурительной необходимости вынашивать и рожать детей. Тридцать тысяч абортов в год, подумать только! Если бы население нашей коммуны увеличивалось каждый год хоть на десятую часть этого числа, нам не пришлось бы закрывать начальные школы, о чем все так сокрушаются, и не нужно было бы увеличивать коммунальный налог. Мы обсуждаем все эти проблемы с Дорис и Хеннингом, но Хеннинг как заместитель председателя нашего комитета по социальной помощи молит Бога избавить нас от этих трех тысяч ежегодных младенцев — ведь и социальная помощь, и детские сады стоят денег. Стуре тоже иногда вдруг возьмет да и скажет глупость: мол, если б не аборты, у нас были бы сейчас те же проблемы с перенаселением, что в Индии или Китае, где люди помирают в сточных канавах, а другие в это время у себя дома заняты воспроизводством населения. С одной стороны, это шутка, я сама чувствую, что, когда на нас потоком обрушивается информация, одна ужаснее другой, теряешь способность воспринимать всерьез даже часть услышанного; но с другой стороны, такой взгляд на вещи почти все мужчины считают рациональным. Подобная рациональность — не что иное, как убеждение, что все плохое случается не с нами, а с кем-то другим, кого мы даже не знаем, и, значит, можно быть каким угодно рациональным. Хотела бы я знать, что сказал бы Хеннинг, если б его внука, которого у него нет, потому что их дочь Хелен сделала аборт, поместили в искусственную металлическую матку, изобретенную в Америке. Это такая экспериментальная камера, в которую помещают плод и смотрят, как долго можно поддерживать в нем жизнь. Неужели, глядя на это, он остался бы спокойным и рациональным? А ведь большинство людей, подобно Стуре и Хеннингу, не задумываются ни над настоящим, ни над будущим. Этим страдают многие: мы ни о чем не задумываемся и не видим дальше своего носа.
Прогресс — все равно что война, губительная для всех, сказал по радио один ученый. Удобно все сваливать на прогресс. Как будто сам человек безучастно наблюдает за его развитием: поглядите на этот губительный прогресс, мужики, как по-вашему, чем дело кончится?
Но в нашем центре восторгов по поводу таких целителей никто не выражает, они вещают в городе или где-нибудь еще, а у нас Биргитта, как я уже сказала, снимает копии со всех попавшихся ей впечатляющих статей и вывешивает их в коридоре. Некоторые из них я потом беру домой, чтобы показать Стуре: на слово он мне не верит. Вы, мол, там делаете из мухи слона. Но даже когда я показываю ему эти статьи, он все равно до конца не верит. И я его понимаю. Если держать в голове все плохое, что творится вокруг, можно в уме повредиться, впрочем, даже если не держать, оно все равно проникает в тебя и становится «общей» тревогой. И где бы ты ни работал, будет то же самое. Если бы я служила в банке и видела, на какие уловки пускаются люди, или в полиции, где сталкивалась бы исключительно с жуликами, ворами и мошенниками, я бы тоже дошла до того, что возненавидела бы все человечество. Вот из-за чего скорлупа на ядре становится все тоньше. А если представить себе, что я спряталась под столом или за занавеской где-нибудь в Пентагоне или в Кремле? Тут уж прямо хоть уши зажимай.
Но пока я сижу, где сидела. Отстукиваю судьбы людей: подозрение на рак — выписать направление в городскую больницу, больная спина — записать на лечебную гимнастику, дай Бог, чтобы там нашлось свободное место. Я отстукиваю все подряд и складываю на подпись, и собираются там эти судьбы, разделенные только пластмассовыми папками. И судьбы тех, кто своим ходом пойдет в аптеку за таблетками от кашля, и тех, кого отсюда увезут на «скорой помощи». Да, жизнь и в самом деле висит на волоске, на тончайшем кровеносном сосудике. И человеку ничего не стоит попасть в сеть. Даже если кому-то казалось, что жить незачем, стоит ему угодить в эту сеть, и тут же выяснится, что он ошибался. И тогда приходят к нам со своей судьбой в сумке, как поется в песне.
12
Мы, секретари, Машинистки судьбы, почти никогда не ездим на многолюдные семинары или конференции, которые обходятся в сумму, равную годовому заработку главного врача; а между тем такие поездки вполне можно было бы заменить более или менее подробным обзором дискуссии.
Но для более плодотворного научного развития полезнее не читать дома отчеты, а жить в дорогом отеле с сауной и бассейном, ходить на многолюдные обеды, где завязываются нужные знакомства и контакты осуществляются не только на профессиональном уровне. Встречаться, как встречаются люди, пользоваться роскошью человеческого общения.
У меня на работе все знают про Эрика и, конечно, про Гун. Знают, как я устала от нее и как я беспомощна, они восторгались мною, когда я приютила ее, хотя в их восторгах была и изрядная доля сомнения; теперь-то, когда я хлебнула с нею горя, мне это понятно. Конечно, я слишком много распространялась о своих трудностях, ахала и охала и всем, наверное, надоела — ведь в любом романе с продолжением должен быть захватывающий сюжет, иначе читатель потеряет к нему интерес, мой же роман оказался слишком нудным и длинным. Тем не менее меня спросили, не хочу ли я съездить на семинар, потому что, как сказала Биргитта, там наверняка зайдет речь об алкоголизме, а эта тема мне знакома не понаслышке. Впрочем, может, просто никто другой не захотел туда поехать. Это был семинар, вернее, курс лекций, посвященный проблемам депрессии. Мне дали прочитать программу семинара, и я согласилась.
Два или три раза я уже бывала на таких семинарах, но тогда они проходили в городках поблизости от Гудхема, этот же должен был состояться в Стокгольме. Среди докладчиков значились многие известные специалисты, в том числе и иностранные, их доклады должны были сопровождаться переводом, так было написано в программе. Очень интересно, подумала я, да и прокатиться бесплатно в Стокгольм тоже недурно.
В поезде я ехала первым классом, моим соседом оказался профсоюзный деятель, слащавый тип, который очень гордился своим портфелем и тем, что он Представитель. Но не всегда содержимое портфеля гарантирует, что голова способна соображать, впрочем, какое это имеет значение, зато живот у моего соседа был такой, что полы пиджака на нем напоминали плохо задернутый занавес. Он рассказал мне, сколько стоит номер в том отеле, где он остановится, и показал свой исписанный еженедельник. Видишь, ни минутки свободной! По три заседания в день, но мне не привыкать!
Два раза наш центр почтили своим посещением политики из ландстинга: первый раз перед капитальным ремонтом, чтобы убедиться, какое у нас тесное и плохое помещение, а второй раз они приехали посмотреть, как стало после ремонта, и провели у нас собрание. Пришли все, кто мог освободиться от работы и имел желание их послушать, я тоже ходила, так что я их и видела и слышала. Почетные гости осмотрели в центре все, заглянули и в мой кабинет, хотя смотреть там особенно не на что. Однако женщины — среди них было несколько женщин — похвалили занавески и стены пастельных тонов, а мужчины поговорили о вентиляционной системе и о проблемах противопожарной безопасности. Маленький кабинет был набит битком, и большая часть гостей еще осталась в коридоре. На собрании присутствовали также и деятели от профсоюза, в том числе и мой попутчик, помню, я сидела тогда и думала, что же это происходит с нашими профсоюзами? Почему они говорят только о своем? Или им за это платят? Нет ничего хуже, чем быть представителем профсоюза и думать только о своих интересах, неужели они не понимают, что это не демократично? Политики должны пытаться воспринимать все в целом, но какой от этого толк, если любая ничтожная пичуга поднимает писк, когда ей кажется, будто кто-то посягает на ее владения? У нас есть два скворечника, и каждую весну в них располагаются синицы, но стоит прилететь мухоловкам, и синицам приходится ретироваться под черепичную крышу домика для гостей, потому что мухоловки заявляют свои права на скворечники. Вот так же и с профсоюзами — я представляю себе профсоюзы в виде ячеек для корреспонденции, имеющихся в любом почтовом отделении, из каждого профсоюза-ячейки высовывается рука и выхватывает что-то у другого профсоюза, и чем длиннее руки, тем больше профсоюзов они обчистят и тем больше получат для себя.
В дороге мы с профсоюзным деятелем почти не разговаривали, у него была с собой толстая пачка документов, которые ему предстояло прочесть, только, судя по всему, в них было мало интересного, потому что он то и дело глядел в окно, а потом пошел обедать. На обратном пути мы опять ехали вместе, тут уж я была более разговорчива, меня переполняло все, что мы оба с ним услышали на семинаре, я говорила, глядя не столько ему в глаза, сколько в ноздри, глаза по сравнению с ноздрями были совсем маленькие, а ноздри его мясистого вздернутого носа казались глубокими гнездами ласточек-береговушек. Я спросила, не кажется ли ему немного странным, что на таком вот семинаре по депрессиям все исходят из того, что человек болен, если он просто глубоко переживает нечто, и вправду достойное переживания. Мне, например, кажется, что переживать, имея на то причины, — это здоровая реакция организма. Ведь огорчаться и сердиться, гораздо здоровее, чем не переживать и не впадать в депрессию, когда для этого есть все основания; расстроенный человек наверняка заболеет только оттого, что его огорчения и переживания назовут болезнью. Ты как считаешь?
Конечно, я говорила не слишком складно и не слишком ясно, но, с одной стороны, я была и смущена и возмущена, а с другой — я не привыкла разговаривать с ноздрями, которые представляют по меньшей мере несколько тысяч членов профсоюза. С профсоюзными деятелями всегда так — трудно избавиться от ощущения, что ты говоришь не с одним человеком, а как бы с тысячами, ты слышишь общее мнение, а не его личное, и, конечно, ему трудно вечно оглядываться на эти тысячи и справляться, что же еще он, по их мнению, должен сказать. Однако мой попутчик начал как раз с того, что мне хотелось услышать: мол, сам ничего не понял, хотя семинар, безусловно, был очень интересный и полезный, правда, у него лично никогда не бывает депрессии, он не теряет самоконтроля, но он поставит этот вопрос перед группой личной гигиены, поскольку это очень важный социально-медицинский вопрос и поскольку очень большой процент всех освобождений от работы, выданных врачами на предприятиях, связан с нарушениями в области психики.
Безусловно, он прав, для меня там тоже было много непонятного. А после этого семинара я стала понимать еще меньше, чем до него; и наверное, так всегда бывает, когда наслушаешься докладов о проблеме, в которой мало разбираешься.
Народу там было видимо-невидимо, я попыталась всех сосчитать, но сбилась, пока считала ряды. Больше всего там было врачей, участникам семинара выдали карточки с фамилиями, которые мы прикололи себе на грудь, на карточках были полоски разного цвета в зависимости от профессии, и докторских полосочек я видела очень много. Я никого не знала и села в последнем ряду, даже не подумав, что, возможно, это весьма типичный симптом, который следует скрывать, но пересесть не решилась — вдруг он станет еще заметней. Трибуна не пустовала. Это был какой-то конвейер профессоров, и почти все они показывали графики кривых, силуэты небоскребов Манхэттена, изображения мозга, похожего на какой-то загадочный полураскрытый парашют, он был усеян точками и разделен на доли, связанные между собой вдоль и поперек разноцветными линиями, все это весьма напоминало карту расположения военных частей. Или пульт управления, скорее все-таки пульт управления, потому что почти все выступающие выражались языком инженеров и техников. А то и телефонистов, ведь речь все время шла о сигналах, сигнальной субстанции, наверное, поэтому мне и пришла в голову мысль о коммутаторах.
Всем им страшно не нравился фильм «Полет над гнездом кукушки», мысль об этом фильме, который упомянул один из выступавших, казалось, блокировала работу их коммутаторов, кто-то назвал фильм порнографией на тему психиатрической больницы. Они спорили из-за диагнозов, спорили не открыто, однако сигнальные субстанции отчаянно мигали, а в доказательство правильности своих диагнозов они нажимали на кнопку, и на экране появлялось новое изображение дрожащей частицы мозга с диагнозом в уголке.
Один оратор заявил, что точно знает, какой процент новорожденных находится под угрозой психических заболеваний, и я подумала, что знать этот процент не худо, но только при условии, чтобы этих младенцев можно было изымать еще в родильных домах, а иначе для чего он нужен? И я вспомнила Ёрана и Ингрид.
Только к двоим из выступавших врачей я решилась бы обратиться со своими несчастьями и огорчениями, но что бы я ни сказала всем остальным, у них я получила бы только таблетки, от которых появляется сухость во рту, исчезают вкусовые ощущения, портится формула крови, начинается озноб и судороги и атрофируется чувствительность. И еще неизвестно, помогли бы они мне поправиться или нет. Разве что после такого курса я уже не могла бы сказать, чем вызвана моя депрессия, старыми причинами или новыми таблетками. И вообще я никак не могла понять, о чем же они все-таки говорят, о людях или об отдельно взятом мозге? О людях, страдающих из-за отношений с родственниками, от пьющих и жестоких отцов, от требовательных и деспотичных в своей любви матерей, от неразговорчивых холодных жен, от болезненно-ревнивых мужей-тиранов, от непонимания родителей или от их отсутствия, — об этих людях не вспоминал никто. Все сосредоточились только на комочке мозга. И о таком распространенном недуге, как комплекс неполноценности, тоже не было сказано ни слова. Как и о комплексе полноценности, который не менее опасен. Ведь именно из-за него я сочла, что получила от Стуре все, что он мог мне дать, хотя это было далеко не так. Зато перед Гун я чувствовала свою неполноценность. Оба эти комплекса распространены не меньше, чем обыкновенный насморк, но последствия их могут оказаться роковыми. Только ведь в обычных недугах нет ничего интересного, как в колбасе. А между тем именно грипп и комплекс неполноценности укладывают многих в постель, от неуверенности в себе и чувства собственной неполноценности у многих пересыхает во рту и начинают дрожать колени. К какому врачу обращаться с болезнями «я-ни-на-что-не-гожусь» или «он-(она) — мне-не-подходит»? К бутылке? Как Гун?
Только к одному пророку я осмелилась подойти во время перерыва. Это был пожилой человек в помятом костюме. Он выглядел как торговый агент, который разъезжает на велосипеде и иногда вынужден ночевать на помостах для молока у дороги. Но это был профессор чистой воды; выступая, он одну руку, как положено, держал на кафедре, а другой то и дело почесывался в разных местах; я всегда боюсь в таких случаях, что оратор по рассеянности почешется там, где не следует, но, к счастью, этого не произошло. Одна щека у него подергивалась, словно он пытался согнать муху. По словам профессора, его пациенты страдали всеми мыслимыми формами депрессии, хотя были прекрасно устроены, имели благополучные семьи, хорошую работу, на удивление мало проблем — этакие счастливчики. Вид у профессора был самый обычный, а торговых и страховых агентов я никогда не боялась, вот я и пробилась к нему через толпу и сказала: извините, но почему все-таки эти люди к вам обратились, если у них все в порядке?
Он поглядел на меня, вернее, не на меня, а на карточку у меня на груди, но цвет моей полоски, по-видимому, ему ничего не сказал, и он спросил, кем я работаю. Я ответила. Он отставил чашку с кофе, показал на свою голову и сказал: у человека есть мозг вот тут. Этого достаточно. Больше он ничего не прибавил. Я рассказала об этом Стуре, и он спросил, почему я не сказала профессору, что это еще как посмотреть. Конечно, следовало бы так сказать, если б я вовремя сообразила и у меня хватило бы смелости. У самого Стуре точно бы не хватило — во всяком случае, в том обществе.
Как я уже сказала, я не почувствовала присутствия живых пациентов там в зале, на экране мелькали только загадочные ускользающие полушария. Их горы и долины казались картой снятого с высоты горного массива со сглаженными очертаниями. И мне стало ясно, что только сами выступавшие, и только они, как бы они ни противоречили друг другу, располагают необходимыми знаниями об этих горах и долинах, и это открытие удручило меня. Выходит, у меня в голове не что иное, как приборная доска реактивного самолета, и чтобы управлять самолетом, необходим диплом летчика. Все выступавшие были как бы первооткрывателями этой неведомой земли, чертили свои планы и карты; безусловно, они изучили мозг не одного покойника, они расчленяли эти мозги на кусочки и исследовали их, как археологи исследуют древнее поселение, в котором когда-то жили люди, и вполне естественно, что каждому хотелось найти в этом брошенном поселении свое собственное зернышко. Они знали, что им известно не все, однако достаточно, чтобы понять, что обычные люди не знают вообще ничего, хотя и берутся судить обо всем. Тот, кто сказал это, сорвал аплодисменты. Но почему же тогда он не воспользовался этой трибуной, чтобы объяснить простым людям их заблуждения, этого я не понимаю. Правда, мы, может, и за сто лет этого не поймем при нашей-то серости. И почему специалисты напускают на себя такую таинственность, отказываются беседовать, почему они с такой неприязнью отнеслись ко мне, когда я пришла к ним насчет Гун? Они, как цепные псы, охраняют подступы к своей науке. Что они скрывают в первую очередь: то, что они знают, или то, чего не знают?
Когда все кончилось и я вышла в духоту города, я совершила поступок, по-видимому, самый спасительный для пассажира туристского класса, который, не имея диплома летчика, вынужден сам вести самолет, чтобы добраться домой, — я пошла и купила себе платье. А для Стуре, который должен был встречать меня на вокзале, — бутылку самой лучшей сигнальной субстанции. Ну вас к черту, думала я. Все равно лучше, чем Ольссон Аллохол, не скажешь: «Спасибо за все, и катитесь к черту!»
13
В пятницу у нас была Карин с детьми, дети хотели покупаться в озере, а Карин — забрать ящик ранней картошки. Я всегда сажаю побольше скороспелки, чтобы хватило и на ее долю, зимней картошки — тоже. Они круглый год едят мою картошку, так приятно отдавать им собственноручно выращенные овощи. Гун я могу и не давать, она возьмет сама. И хоть бы в благодарность не лишала меня радости отдать. А то ведь она просто идет и берет. Казалось бы, не все ли равно, но на самом деле — не все равно. И дело не в картошке и не в овощах, а в том, что мне обидно: как она смеет так со мной обращаться после всего, что я для нее сделала. Я понимаю: это все мелочность, но мне от этого не легче. Моими услугами пользуются и надо мной же смеются, совсем как Густен. Я не хочу, чтобы Гун платила мне за овощи, но спросить у меня разрешения прежде, чем рвать их, она могла бы. И тогда бы я с радостью ей это позволила. Есть разница, черт возьми, говорю я Стуре. Меня это бесит. Что бы я для нее ни сделала, ей все мало! Если у меня не найдется полкроны, чтобы вернуть ей после того, как я привезла купленные по ее же просьбе продукты, она не постесняется прийти на другой день и получить с меня эти полкроны. Кто я ей, в конце концов? Служанка?
Обычно Стуре пропускает это мимо ушей, разве что пожмет плечами — мол, про Гун все давно известно, не возмущайся, с таким человеком это бесполезно. Но если я не уймусь и буду долго жаловаться и сетовать на свою судьбу, он в конце концов взорвется:
— Да вышвырни ты ее к чертовой матери! Ее никто сюда не звал. По мне, так пускай хоть завтра катится на все четыре стороны. Любая помощь вознаграждается черной неблагодарностью, спасибо тебе никто не скажет. Сами жить не умеют, вот и садятся другим на шею, а ты расхлебывай. Так тебе и надо. Чужое дерьмо все равно не разгребешь, и неважно, хуже оно или лучше. Бог ты мой, чтобы я стал церемониться со всякой пьянью? У нее, — он кивает головой на потолок, — у нее ведь ни стыда, ни совести, чего ты с нею носишься? Что могла, ты сделала, и даже больше, чем надо, вот в чем твоя ошибка. Потому ты и злишься. Плюнь ты на нее! Тебе что, больше всех надо?
Я знаю, что он прав, и чаще всего все кончается тихо и мирно, мне ведь надо только выплеснуть свою досаду, да это и случается не часто; я и самой Гун могу сказать, если что не по мне, — осторожность и деликатность исчезли вместе с Флоренс Найтингейл. А по поводу овощей я сказала, что требую одного — спрашивать разрешения прежде, чем что-то рвать; после этого она пришла и, склонив голову на плечо, жалобно, как нищенка, спросила, нельзя ли ей выдернуть несколько свеколок. Конечно, я разрешила, и она забрала свеклу вместе с ботвой, а потом выбросила ботву из окна своей кухни: мол, вот тебе, получай. Я подобрала ботву, отнесла и положила ей на кухонный стол, при этом предупредила: чтобы больше этого не повторялось.
Мне вовсе не доставляет радости вести с кем-то войну, но иной раз это необходимо. Когда война уже у тебя на пороге, остается либо драться, либо капитулировать. Ни то, ни другое не принесет мира, потому что его не существует; а капитулируют люди, когда не решаются воевать, когда хотят быть добрыми, и если после капитуляции они не погибнут, то в конце концов окажутся втянутыми в еще более ожесточенную войну.
Интересно, почему тот умник, который выступал по радио, говорил, что прогресс — это война, губительная для всех. Если бы он сказал, что прогресс — это просто война, я бы с ним согласилась.
Мне бы тоже хотелось уметь сохранять нейтралитет, как Стуре, например, но у меня это не получается. Вообще-то. Бог с ним, с нейтралитетом, но мне бы хотелось уметь проявлять участие, не принимая ничего близко к сердцу. Может, мне действительно больше всех надо? Довольно противная черта, к тому же просто наивная. Несмотря на самые добрые намерения. Тот, кто сохраняет нейтралитет, защищен от разочарований. А дурой быть неприятно.
Теперь вот еще Карин, я же вижу, что ее что-то гнетет. Она такая беспокойная, нервная, в глазах тревога. Глаза ее наблюдают за детьми — мы смотрим, как они купаются, — скользят по мне, по воде, но видит она только то, что точит ее изнутри, и она так похудела. Я обратила на это внимание, когда мы с нею купались. Мы с нею купаемся нагишом. Зато Енс и Эва — непременно в плавках и в купальнике, как Стуре, — он купается нагишом, только когда мы одни. Детей моя нагота и притягивает и смущает, особенно Енса, я вспоминаю, как меня в детстве так же захватывала и пугала нагота моих родителей. Но трехлетняя Эва не смущается. Она трогает мою грудь и сообщает, что сосала из такой груди молочко, когда была маленькая. Я говорю, что тоже могла бы покормить ее, да только сделала из своего молока сыр, не хочет ли она бабушкиного сыра? Но сыра Эва не хочет.
— Что у тебя случилось? — спрашиваю я Карин, когда мы садимся на край причала. — Какие-то неприятности?
— С чего ты взяла? — Карин не глядит на меня. — Эва, не заходи так глубоко! Да нет, никаких неприятностей.
— Ты вроде бы чем-то озабочена, и так похудела. Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. Но иногда я была бы не прочь заболеть.
Она встает, надевает халат и плотно его запахивает, потом стоит, обхватив себя руками, и глядит вдаль.
— Глупости, так нельзя говорить. Вот заболеешь, тогда узнаешь.
Енс хочет, чтобы мы посмотрели, какой он смелый и как глубоко заходит, — он поднимает руки над головой и идет на цыпочках, то и дело оглядываясь на нас, от напряжения он почти не дышит. Да-а, думаю я, приятно играть с опасностью, я еще помню это. Преодолев страх, забраться на высокое дерево или зайти поглубже. А потом, когда опасность миновала, испытываешь облегчение и сознание собственной силы.
— Молодец, Енс, — говорю я, когда вода доходит ему до подбородка, глаза у него совсем круглые. — Молодец! — Я смотрю на Енса, но думаю о Карин.
Она молча прохаживается по причалу и вдруг говорит:
— Бу на этой неделе купил машину, почти новую; со мной даже не посоветовался, ни слова не сказал. Мы хотели поменять машину, но не его, а мою.
— Вот как? Где же он взял деньги?
— Не знаю, он не говорит. Понимаешь? Купил себе новую машину и даже не предупредил, а ведь нам за дом еще платить и платить!
Она плюхается на край причала в стороне от меня.
— Попробовал бы наш отец купить машину, ничего мне не сказав. Я ведь тоже должна и посмотреть, и выбрать. Откуда у Бу деньги? Взял ссуду?
— Говорю же, не знаю. Спрашивать бесполезно: он молчит. Он вообще стал каким-то странным, если бы ты знала, как мне тяжело…
Та-ак, думаю я про себя. Вот она. Очередная беда…
— Без денег, конечно, плохо, но у Бу они, по-видимому, есть. Наверное, он работает сверхурочно?
— Ты что, забыла? Я же тебе говорила: да, он работает сверхурочно. Только и делает, что работает сверхурочно. За всю весну ни одного вечера его не было дома. Однажды он не возвращался до двенадцати, я позвонила на работу, и он оказался там, зато в другой раз он сказал, что поедет навестить родителей, и я позвонила туда, потому что у Эвы поднялась температура, но его у них не было. Он так разозлился, когда приехал домой и узнал, что я туда звонила!
— Где же он был?
— Так он мне и сказал! Потом позвонила Магда и долго мне втолковывала, как много Бу работает и что я должна быть с ним помягче. Ведь, несмотря ни на что, он даже успевает почитать детям сказки! Так и сказала, представляешь? Это он-то? Хорошо, если он два раза в месяц уложит их спать.
— Ты говоришь, это началось весной?
Мне всегда неловко смотреть на человека, который очень волнуется, это все равно что подглядывать в окна, вот и у Карин сейчас нервно задрожал подбородок. Это у нее с детства. У Карин такой же маленький подбородок, как у Стуре, и вовсе неверно, что маленький подбородок — признак слабости, к Стуре, например, это не относится.
— Хорошего мало, — замечаю я.
— Но это не то, что ты думаешь. Я спрашивала. Дело не в этом. Он себе этого не позволит. Он знает, что на меня можно положиться, а потому и сам себе этого не позволит. Он говорит, что это нормальный процесс развития, у всех так бывает. А как же я? Дети? Он на себя не похож. По-моему, он меня больше не любит, я чувствую, он просто притворяется. И как Магда могла сказать, что он читает детям сказки? Да он этого сроду не делал.
— Наверное, это с его слов, почему бы ей не верить родному сыну? Ты бы лучше рассказала ей, что происходит на самом деле.
— Бу просил ничего не говорить ни тебе, ни им. Это, мол, наше дело, и касается оно только нас. Знала бы ты, как он кричит! Я бы ничего тебе не сказала, но ведь я ни с кем не общаюсь, вокруг меня только дети… Если он едет на какой-нибудь обед, меня с собой не берет: там, видите ли, будут только его сотрудники и мне будет неинтересно.
Однажды я уперлась и пошла вместе с ним — просто чтобы вырваться из дома, так он ко мне там даже не подошел, и никто не понял, кто я такая. Один сказал мне: так ты жена Буссе? Можно подумать, они даже не знали, что он женат!
— А ты бы пригласила кого-нибудь к себе.
Он не хочет. За телефон не заплатил; сам сказал, что заплатил, а они прислали напоминание. Чем он занят?
Теперь у нее дрожит не только подбородок, но и плечи. К нам подходит Эва, на поясе у нее надувной резиновый круг, она деловито поясняет:
— Мама часто плачет.
— Знаешь, что мы делаем, когда мама с папой ссорятся? — кричит Енс. — Мы включаем радио погромче!
— Ладно, — говорю я. — Он развивается. А ты, выходит, остаешься неразвитой? Он тебе этого еще не говорил?
— Прямо — нет, но он считает, что мне надо чем-то заняться. Ботаникой, птицами, иностранным языком, чем угодно. Говорит, что нужно совершенствоваться. А когда мне совершенствоваться, говорю, если я целый день с детьми, а тебя пять вечеров в неделю нет дома. Придумал тоже, ботаника! Сам сосну от ели отличить не может. Совсем рехнулся!
— Да-а, — вздыхаю я. — Рано или поздно все через это проходят.
— Но я-то чем виновата? — Карин почти кричит. — Я так старалась угодить ему. Я всегда брала чужих детей, чтобы подработать, никто не знает, какой это кошмар нянчить детей с утра до вечера, у меня уже сил нет, а он еще говорит, что мне надо заниматься ботаникой и совершенствоваться. Сам заявляется домой за полночь и тут же валится спать, а мне хочется поговорить. Давай поговорим, прошу я. О чем это, интересно, нам же всегда не о чем было разговаривать! Представляешь? Я так ему верила, думала, на него можно положиться, мне хотелось, чтобы у нас была дружная семья. Я ему говорю: у нас же семья, мы все должны делать вместе! Мы собирались в Голландию на две недели, а он не стал брать отпуск. Говорит, посажай одна, если тебе надо!
— Ну и съездила бы. Чего его уговаривать? Где это он столько сверхурочной работы набрал? Раньше у него ее вроде не было!
— У них там какая-то новая машина. Одна я не поеду. Да и денег у меня нет.
Мне показалось, будто солнце зашло за облако, но это моя давняя тоска заслонила его. Как мне все это знакомо, все это я уже слышала и испытала раньше — ту же тоску, от которой тускнеет солнце. Что такое современная самостоятельная молодая женщина? Во многом она создана по образу и подобию несовременной, несамостоятельной и старомодной, а та была существом неуверенным, жаждущим мира и гармонии, опоры, потому что, если опереться не на кого, приходится рассчитывать только на себя, а это во все времена одинаково трудно. Лучше, если есть на кого положиться. А если опора не выдерживает нагрузки, то это вина опоры, а не того, чью тяжесть она должна нести. Опора винит того, кто на нее опирается, а тот — опору. А ведь никто из них не виноват!
— Почему, собственно, у тебя нет денег? Ведь он должен много зарабатывать, вон он сколько работает! Раз он сам тебе не говорит, сходи в банк да узнай, сколько у вас на счету. Деньги у него должны быть, сама понимаешь.
— Как я одна пойду в банк? Что они там подумают? Что я не доверяю своему мужу? Нет, это исключено.
— Либо ты ему доверяешь, тогда пускай все остается, как есть, и он самостоятельно ведет все дела, либо — не доверяешь, тогда надо выяснить, на каком ты свете. Попроси Бу пойти с тобой в банк.
Как только я заговариваю о деньгах, он лезет на стенку. Я сказала, что хочу знать, как у нас с деньгами, куда они уходят, почему он тратит их неизвестно на что, но он никогда не сделает того, о чем его просишь. Он прекрасно знает, чего я хочу и о чем я прошу его, но ни за что этого не сделает. Он только кричит. И хвастает. На одном приеме, на который мне, по великому счастью, удалось попасть, какой-то тип сказал мне — а Бу стоял рядом: вам, привилегированным, хорошо, у вас свои охотничьи угодья и рыбные заводи. Я так и обмерла, а Бу как ни в чем не бывало говорит: мол, и вправду это здорово. Когда мы вернулись домой, я спросила: откуда это у тебя взялись угодья такие. У тебя не то что рыбных заводей, у тебя собственной воды и чашки не наберется. Оказывается, он имел в виду ваши с папой владения; раз я единственная дочь, значит, все достанется мне, а стало быть, и ему. Я чуть не сгорела со стыда.
— Слышал бы это отец! Как все-таки жаль, что Бу так похож на своего папашу.
— Он понимает, что вы его не любите.
— Неправда! Мы никогда ничего такого не говорили, ты сама прекрасно знаешь. Если нам не нравится, что он хвастает и несет всякую чушь, так это дело другое. Это его же и позорит.
— Я знаю, мне самой стыдно, — говорит Карин. — Я не хотела об этом рассказывать. Я становилась на его сторону, я считала, что должна его защищать. Я была чересчур доброй! Но как же иначе, если у нас дети? Кто-то должен думать о семье? Мне самой противно все время ссориться, но я говорю ему, чего я хочу, а он никогда с этим не считается!
Почему становится так тяжело и неприятно слушать от других то, что когда-то говорил сам? Кто это говорит: «Он никогда не сделает того, о чем я прошу» или «Он совсем не такой, как мне хотелось бы» — моя Карин или я сама о Стуре? И если бы тогда, когда я так говорила и думала, кто-нибудь попытался «открыть мне глаза», помогло бы это или нет? Да ни в коем случае. Почему так редко учатся на опыте других? У разных людей опыт бывает похожим как две капли воды, но это не помогает: к чужому опыту не прислушиваются и ему не верят. Никто не хочет идти по узкому пути, и никто добровольно не откажется от собственного мнения. Человека можно принудить только под гнетом обстоятельств. Гнет обстоятельств — это, можно сказать, отец жизни, но кто в таком случае ее мать? Наверное, нужда. Гнет обстоятельств и нужда — вот отец и мать жизни.
Видишь на Эве надувной круг? Это на прошлой неделе подарили его родители. Хорошо, если он продержится несколько дней, резина слишком тонкая. Такие вот подарки дарят мне и детям, всякую ерунду. Зато Бу они дарят на Рождество и в дни рождения дорогие рубашки, замшевую куртку, большую хорошую радиолу, а мне знаешь что? Кастрюли, сковородки, занавески на кухню, всякие там ложки-плошки. Ни разу ничего лично для меня, все только для кухни. Мне каждый раз бывает так обидно, кажется, взяла бы и вернула им все их подарки. Я даже сказала Бу, что не стану вешать их занавески. Если уж они решили подарить мне материю, то почему бы не подарить материю на платье? Но он сказал, что занавески нужно повесить, иначе его мать обидится. Ну, я повесила, а потом одну из них сожгла утюгом. И детям они дарят черт знает что.
— Да, иной раз все это так надоедает…
За время нашего разговора она то и дело вскакивала и снова садилась, вот она опять мечется взад-вперед по причалу, я чувствую, как вздрагивают доски, как вздрагивает Карин.
— Это ему все надоело, а не мне. Иначе почему он вечно где-то пропадает?
— А он говорил, что ты ему надоела?
— Нет, но ведь я чувствую. Он просто притворяется. Я его знаю, у него никогда не хватает духу сказать что-нибудь прямо.
И снова у нее по щекам текут слезы.
— Вот, я не выдержала и все тебе рассказала, а ведь не хотела. Я хочу, чтобы все было хорошо. Не говори Бу о нашем разговоре. И папе тоже не говори.
Я все время старалась говорить потише, чтобы нас не услышали дети, но Карин голоса не понижала. Мне было не по себе оттого, что дети слышат наш разговор, никогда не забуду чувство страха и отчаяния, которое меня охватывало всякий раз, когда ссорились мои родители: мне казалось, что рушится мир.
— Ты сама понимаешь, что папе я все равно все расскажу. Кстати, он скоро вернется. Но на твоем месте я бы поинтересовалась вашими денежными делами, а потом поговорила бы с Бу. Если он не захочет разговаривать дома, поезжай к нему на работу и поговори там. А я побуду с детьми, ты только позвони мне или привези их к нам. Нельзя покорно ждать, когда случится что-то страшное, надо действовать. К сожалению.
Я могла бы прибавить, что страшное действительно иногда случается. С Эриком, например. Но Эрик все еще запретная тема для нас с Карин. Не столько из-за меня, сколько из-за нее. Так мне кажется.
— Никуда я не пойду — ни в банк, ни к нему на работу. Я со стыда сгорю, да и Бу разозлится. Ты себе даже не представляешь, какой он бывает злой.
— Что же тогда делать? — Я начинаю сердиться. — Ты ревешь — он злится, он злится — ты ревешь! Должен же быть какой-то выход!
— Не кричи на меня! — Карин сама кричит. — Зачем только я завела этот разговор! Ты ничего не понимаешь! Только и знаешь, что всех отчитывать. Я вижу, как ты стала обращаться с Гун! Раньше ты ее жалела, и стоило ей пискнуть, как ты бежала к ней со всех ног, а теперь ты с ней на ножах. Если ты скажешь Бу хоть слово, ноги моей здесь больше не будет! Боже мой, папа идет! Хотя бы при мне ничего ему не рассказывай.
Мы погрузили картошку в ее машину, и я сунула ей пятьсот крон; Стуре с Енсом и Эвой удили с причала. Они остались у нас обедать, что случается редко, и Стуре, ни о чем не подозревая, удивился, что они не торопятся домой. Эва хотела было что-то сказать, но Карин прикрикнула на нее; ешь! Енс, довольный тем, что поймал двух окуней, совал их под нос Карин, чтобы она понюхала, как они пахнут. Наконец они уехали. Мы махали им сначала у гаража, потом вышли за ворота и помахали оттуда, я не могла забыть, каким взглядом посмотрел Енс на Карин, когда она прикрикнула на Эву. Такой же взгляд он бросил и на меня из заднего окна машины, и я снова подумала о детях, которым страшно, что их родители могут разойтись. Если верить Карин, слово «развод» в семье еще не произносилось, но Енс уже большой мальчик, он мог где-нибудь об этом слышать или видеть по телевизору. О чем он сейчас думает? Скорее всего, гонит от себя эти мысли. Дети в какой-то степени умеют отгораживаться, сама помню, как в детстве старалась многого не замечать, из-за этого взрослые и считают, будто дети ничего не понимают. Дети сильные, но больший ли у них запас прочности, чем у взрослых? Может, нужно совсем немного, чтобы у них в душе появилось пятнышко, как появляется «тронутый бочок» на упавшем помидоре, персике или яблоке? И от этого пятнышка уже не избавиться. Но между мной и моими внуками целое поколение, и мне остается только наблюдать за всем со стороны. Удел бабушек — бежать к внукам по первому их требованию и по первому их требованию уходить. И не спешить радоваться, гордиться или чувствовать себя польщенной, если они обратились к тебе со своими вопросами, следует помнить: они обратились к тебе только потому, что никого другого не нашлось под рукой, сами они тебя бы не выбрали. И смириться с тем, что они могут подолгу не давать о себе знать, ничего о себе не рассказывают, только говорят: все нормально, все в порядке, спасибо. Не так легко быть существом второго сорта, бессловесным второсортным существом, которое снабжает их деньгами, когда они на мели, и когда не на мели — тоже. Это все не для меня, я также заранее знаю, что не сдержусь, если встречу Бу: от его сверхурочной работы за километр разит чужой постелью.
Стуре я все рассказала, умолчала только про рыбные заводи и охотничьи угодья, решила, что расскажу, если Бу еще раз даст для этого повод. Зато про его сверхурочную работу, новую машину, неоплаченный счет и ботанику доложила все. И он сделал тот же вывод, что и я:
— Черт подери, нетрудно понять, чем этот сукин сын занимается!
— А если и так, что мы можем сделать?
— Да черт с ним, будь он неладен… А насчет машины, тут все что хочешь может быть… Либо получил страховку, либо взял кредит, а если ни то, ни другое, значит, занял у своего папаши. Если только у того есть деньги. Ты, может, и не знаешь, но у Бу слава не лучше, чем у Густена: покупать — покупает, а денег не платит. Только идиоты верят им в долг. Идиоты или родственники.
Он сердито посмотрел на меня, и я почувствовала, как сердце у меня екнуло и поползло вниз. Что-нибудь пронюхал или ему в таком состоянии безразлично, на кого бросать сердитые взгляды? Один Бог знает, хватит ли у меня духу признаться во всем, если он спросит. Нет, надо срочно бежать к Густену! И не уходить, пока он не отдаст все до единого эре.
— У него что, так плохо идут дела? Я имею в виду Бу.
Не знаю, что-то он все-таки зарабатывает, но я слыхал, что кое-кому он должен, такого не скроешь. Недели две назад я встретил хозяина городского магазина скобяных товаров, у него есть участок возле Истропа, вернее, он один из совладельцев. Он спросил, не зять ли мне Бу, я сказал, что зять. Тогда он попросил, чтобы я напомнил ему о жалюзи, которые тот взял у него в магазине несколько месяцев назад и до сих пор не заплатил за них.
— Жалюзи! У них же есть, зачем им еще?
— То-то и оно, я тоже об этом подумал. Но сказал Бу, как бы невзначай, что его, по-видимому, с кем-то спутали, он начал клясться, что никаких жалюзи не покупал и все это подлая ложь. Потом он стал на чем свет стоит ругать хозяина магазина, он ведь всякого честит, кто ему на хвост наступит. Думаю, во всем Гудхеме не найдется человека, о ком бы он сказал доброе слово. Но хотел бы я знать…
— Я могу спросить у Карин. Надеюсь, про жалюзи у нее спросить можно?
— Э-э, брось. Не будем встревать раньше времени. Я постараюсь разузнать стороной. Когда мы удили, Енс сказал, что мама такая грустная, потому что папы нету дома.
— Господи, вот горе-то…
— И верно, горе. Она не хочет ни о чем говорить, а зря. Чем он плох, так это своим бахвальством.
— Да, если б не это, еще можно было б терпеть.
На этом наш разговор кончился, ни он, ни я не сказали того, что напрашивалось само собой. Что все еще не так безнадежно. Мы-то знаем, что в жизни бывает всякое, от этого никто не застрахован. Каждому может быть плохо — сейчас плохо Карин. Но ничего этого я не сказала, мне по-прежнему тяжело вспоминать то время, и всегда будет тяжело, хотя я ни за что, ни за что не согласилась бы вычеркнуть из своей жизни то землетрясение. Никто не согласится добровольно пережить землетрясение, зато теперь мы знаем, что наш дом стоит крепко. Раз он не рухнул от того удара и раз его не разрушили Гун и Флоренс Найтингейл, значит, он будет стоять. Стуре тоже так считает, но мы помалкиваем об этом. Совершенно незачем выкладывать все, что знаешь, кое-что можно оставить при себе.
Я тоже слыхала, что у Бу не все ладно. Никто ничего не утверждал, но разговоры были, правда, я не желала их-слушать и отгоняла прочь неприятные мысли. Считала, что нужно быть объективной, а не верить сплетням. Вот только не оказалась ли я, наоборот, субъективной. Ведь я не хотела слушать эти разговоры, потому что они были мне не по душе. На каждого мудреца довольно простоты. У нас грешных, всегда глаза открываются слишком поздно. Раз мне что-то не по нутру, я этому не верю, и наоборот. Задним умом все крепки.
Карин обещала позвонить и сказать, вернулся ли Бу домой к их приезду, но позвонила она только на другой день. Он вернулся в три часа ночи после делового ужина в мужской компании, и счастье еще, что он не был пьян. Но лечь ему пришлось на диване, потому что Енс и Эва спали в его постели. Она сама попросила детей лечь в его постель, раз их папа не желает в ней спать.
Так, значит, он пришел трезвый? Разве так бывает, чтобы мужская компания ужинала до трех ночи и все они не надрались? Что-то я первый раз слышу про такой ужин.
14
Все, что я думала о «пятнышках» на персиках и яблоках, упавших на землю, и упрек Карин, будто раньше я жалела Гун, а теперь она мне безразлична, и замечание Стуре, будто мне больше всех надо и ответят мне черной неблагодарностью, — все это, должна признать, справедливо. Мои «пятнышки», если они у меня есть, и дело не только в моей дурости, коренятся еще в моем детстве: я всегда сидела как бы между двух стульев — между Гун и Густеном, между матерью и отцом, я чувствовала себя лишней и никому не нужной — у мамы были Гун и Густен, а «папиной дочкой» я не стала, потому что мама этого не допустила. Я никогда об этом не задумывалась, но ведь на глаза то и дело попадаются статьи или научные работы про детей, обделенных любовью, так что, кто его знает… Пока я была лишней, очевидно, и некоторые мои чувства тоже сделались лишними. Я не раз замечала, что, когда к нам приходила на работу новая девушка, неважно какая, хорошенькая, так себе или противная, я обязательно внушала себе, что хорошенькая — непременно добросовестная и милая, а которая так себе или безобразная — бесконечно добра, однако в конце концов мне приходилось признаться, что все они не ангелы, и я переживала глубокое разочарование. Я чувствовала себя обманутой и обобранной — непроходимой дурой. Однажды я вбила себе в голову, что к одной из «противных» все очень несправедливы, я стала приглашать ее к нам в гости, угощала, мы купались в озере, и как-то раз она украла у меня кольцо. Позже выяснилось, что она по мелочам крала и у больных. Но ведь никто не верил ей так, как я!
Или, к примеру, Густен. Я же знаю его как облупленного, но именно поэтому мне и хотелось дать ему понять, что он всегда может перехватить у меня денег — кто из нас не попадал в трудное положение! — и пусть другие ему не верят, я поддержу его своим доверием, оно станет для него стимулом, а деньги он вернет в назначенный срок. И что же я получила взамен? Глубокое разочарование и лишнее доказательство собственной беспробудной глупости, которая бьет всем в глаза, и только я ее не замечаю! То же самое с Гун. Я верила, что если человек почувствует, что его любят, то он будет счастлив и благодарен и быстро встанет на ноги. Но Гун осталась верна себе, а я вновь испытала знакомую боль — разочарование. Каждый раз зарекаюсь: все, точка. Больше я никому не верю. Довольно с них пятидесяти процентов моей любви. Можно проявлять участие, ничего не принимая близко к сердцу.
Если бы жизнь можно было выбирать, то все предпочли бы жизнь полегче. Без кризисов и разочарований, без назойливых родственников — можно, правда, сделать исключение для богатой тетушки, которая тихо и мирно скончается, оставив тебе наследство, — без трудных детей, без несчастий. Люди выбирали бы жизнь удобную, как шезлонг. Слава Богу, что мы все-таки лишены такого выбора.
Я, правда, не знаю, сколько людей пережили разочарование по моей вине. Кто ждал и не дождался от меня больше того, что я могла дать? Жизнь — это хоровод разочарований.
Ольссон Аллохол, наш сосед, о котором я говорила, живет совсем рядом с нами, если плыть по озеру, и довольно далеко, если ехать по дороге. Он говорит, что денег у него достаточно, но, сколько их у него, известно только налоговой инспекции, да и то не обязательно. Все его знают и знают при этом, что не знают о нем ничего. Деньги, если они у него еще есть, он получил, продав после смерти матери лес, это было единственное, что осталось от усадьбы. Мать не хотела продавать лес, она считала, что лес продавать — последнее дело. Дом они с сестрой оставили себе и живут в нем. Мы покупаем у Ольссона рыбу — превосходных копченых угрей домашнего приготовления. Питается он в основном угрями, не дурак выпить, потому и является крупным потребителем аллохола. Не так уж редко он приезжает к нам рано утром на своей моторке и барабанит в окно веранды. Это значит, что ему срочно требуется принять аллохол или опохмелиться. Таблетку он получает бесплатно, а за спиртное расплачивается угрями. Он называет себя кузнецом своего счастья, но мне кажется, он сильно преувеличивает. Я бы ни за что не стала пить или есть у него в доме. Вместо скатерти у него старые газеты, а край стола, который виднеется из-под них, весь истыкан ножом — Ольссон вгоняет нож в столешницу, когда он ему не нужен. Они с сестрой Эльной ведут хозяйство раздельно; у Эльны не противно пить и есть, у нее, в отличие от брата, настоящая кухня, а у Ольссона электрическая плитка стоит на бюро. Правда, разделились они не полностью, питаются врозь, а рыбачат вместе, но касса у каждого своя. Деньги у них водятся, но, как это бывает, лишь потому, что они их почти не тратят.
— Моя сестра любопытная, как коза, — говорит Ольссон. — Если мне нужно уйти из дому, я заколачиваю письменный стол.
На самом деле он его не заколачивает, а закрывает на мощную щеколду, которая просовывается в железные петли, не давая ящикам открываться, и на все это вешается замок.
— Прежде чем она сунет нос в мои ящики, ей придется все к черту взорвать, — злорадно говорит он.
Да, он кузнец, кует и кует свое счастье, и помешать ему в этом никто не может.
— Жизнь идет к неизвестной цели, как нагретый нож проходит сквозь масло, вот в чем дело, — говорит он. — Всякое бывало, когда я работал страховым агентом, — получал то вершки, то корешки: в нашей округе меня угощали чашечкой кофе, а чуть подальше — посылали к черту. Жизнь, скажу тебе, Улла, штука глупая и неприглядная, но у кого голова на плечах имеется, на того где сядешь, там и слезешь, он всегда начеку, потому что стоит зазеваться — и пиши пропало. Так-то вот, запомни мои слова, они тебе еще пригодятся. Шагай себе, не останавливайся, а не то тебя живо оседлают.
Конечно, Ольссон не из тех, к кому я пойду за советом. Когда я впервые услышала от него: «Спасибо за все, и катитесь к черту!» — я только рассмеялась, но теперь думаю, что это не лишено здравого смысла. Даже от слепой курицы бывает прок. И хотя я не пойду со своими горестями к Ольссону, я иногда думаю, не лучше ли такой неудачливый кузнец своего счастья, а в определенном смысле это так и есть, чем удачливый, который говорит и верит сам, что у него все в порядке. Такой не будет напрягаться, ему уже все «удалось» и больше ничего не надо. Но разве можно составить представление о глубине, если торчишь на мелководье? Поэтому если тебя занесло на глубину, то обращаться за советом к такому счастливчику, который понятия не имеет, что такое настоящая глубина, следует в последнюю очередь. Конечно, священники не должны толкать людей на грех, да в этом и нет необходимости, но как не пойду я в москательную лавку за продуктами, так и не пойду за утешением к тому, кто ни разу не оступался. Мне не поможет тот, кто всегда по одежке протягивал ножки и журавлю в небе предпочитал синицу в руке. Такой даже не пытался в одиночку поднять бревно, и боль поражения ему незнакома.
Ну разве я не дура, что взвалила на себя это неподъемное бревно по имени Гун, а теперь сетую на судьбу? Из-за разочарования — ведь я хотела сделать как лучше, а в ответ получила черную неблагодарность или того меньше. Интересно, в чем разница между волей и безволием? Моя воля была так неразумна, что обернулась безволием.
Сейчас столько пишут о любви. Самая популярная тема. Мол, каждому нужна любовь, и чем больше ее отдаешь, тем больше получаешь, и что любовь — сама по себе уже награда. Не знаю, с чего началась вся эта шумиха, но, должно быть, мы вскоре получим объяснение, которое обойдемся нам эдак миллионов в десять. Может, это правительство начало всю эту кампанию с любовью. Может, они встревожились, что деньги кончаются и нечем платить пособия детям, пожилым и старикам, и решили: пусть эти чертовы налогоплательщики сами раскошеливаются; мол, мы им скажем, что, конечно, мы против всех форм частной инициативы, но, что касается любви, тут мы не делаем никаких ограничений, разумеется, при условии, что никто на этом не станет зарабатывать. Никаких борделей, только бескорыстная любовь. Мы направим их недовольство по определенному руслу, решило правительство вместе с Управлением по социальной помощи, пусть вся вина ляжет на них, скажем, что мы ничего не имеем против скрипок, но, если им нужна приятная музыка, пусть сами и играют.
И началось: любовь, любовь и опять любовь, отдай сердце и душу и обретешь блаженство.
Но если бы я встретила праведника, который только отдает и говорит, что делает это по зову сердца, что он хочет доказать, будто существуют люди, которым дорог ближний и которые ничего не ждут взамен, так как отдавать — само по себе награда, то я сказала бы такому праведнику: все это отлично, но только на бумаге. А на практике это чревато серьезными осложнениями. Каким бы добросердечным и милосердным ты ни был, обязательно наступит день, когда ты почувствуешь, что выдохся и силы твои на исходе, запас любви иссяк, иссякла даже бумага на полках. Ты невольно заметишь, что любви недостаточно только той награды, которую может дать она сама. Тебе с ужасом придется признать, что ты все-таки рассчитывал хоть на малую отдачу; и после этого открытия тебе станет нестерпимо стыдно — ведь ты считал себя таким благородным. Ты отдавал, ты любил всей душой, и вдруг оказывается, что тот, кому предназначается это самое естественное чувство в мире, принимает его как должное — ведь он тоже начитался о том, как важно любить ближнего, и потому думал, что оказывает благодеяние, принимая эту любовь. Кому придет в голову стыдить кукушонка за то, что он объедает других птенцов в гнезде? Вот еще! Просто кукушонку требуется больше пищи!
Это я и собираюсь сказать, если встречу такого же дурака, как я сама, и непременно скажу, хотя знаю, что мне никто не поверит. Мне не поверят, даже если я буду говорить спокойно, сдержанно и убедительно, как директор банка, дающий совет, как вам извлечь из своего капитала наибольшую прибыль. Допустим, он скажет: для начала поместите все, что имеете, в мой банк. Все до последнего эре, можете на меня положиться, потому что я люблю всех наших клиентов. Но ему никто не поверил бы. Все решили бы, что в первую очередь он печется о своем банке. А вот если бы этот директор сказал: положите в наш банк половину ваших денег на срочный вклад, дающий высокий процент, а оставшуюся половину можете тратить по своему усмотрению, можете иногда купить себе лотерейный билет или развлечься по своему желанию, — надеюсь, такое предложение придется вам по душе: у вас на руках останется достаточно денег и вы ни от кого не будете зависеть, ведь свобода для вас превыше всего. Не так ли?
Пусть даже я говорю все это ради собственного удовольствия — приятно говорить умные вещи, даже если знаешь, что никто тебе не поверит. Нет, никто мне не поверит, это точно. В ответ мне непременно скажут: ты, видно, не читала историю о милосердном самарянине. А там вот что говорится: некоего человека избили до полусмерти и бросили в канаву, мимо проехал один путник, потом другой, оба видели его, но проехали, не оказав никакой помощи. Наконец появился милосердный самарянин, он помог несчастному, позаботился о нем, словом, поступил, как подобает милосердному человеку. Возьми и прочти эту притчу, она тебя вразумит, а то ты кого угодно запугаешь. Любовь превыше всего!
Однако это все мои фантазии, потому что ни единая душа не придет ко мне за советом. Но это неважно. Ни беседой, ни ацетоном иллюзии не смыть, необходимо побывать в преисподней, чтобы их выжгло, это единственное; что помогает. Да и то плохо, потому что глупость нарастает, как дикое мясо, только диву даешься.
Нет, любовь — это хорошо, но нужно помнить, что иногда в нее необходимо выплескивать ковш холодной воды. А не то не избежать разочарования. Бывает, Гун скажет: ты такая добрая, мне хочется сделать тебе хороший подарок. И в один прекрасный день я получаю от подвыпившей Гун обещанный подарок, но стоит ей на трезвую голову увидеть его у меня, и она забирает его обратно. Так что теперь, когда она мне что-нибудь дарит, я с благодарностью беру ее подарок и тут же возвращаю его обратно, как будто она давала его мне взаймы. Сперва она сердилась и обижалась, говорила, что ничего такого не помнит, но теперь это ее даже устраивает. И когда она, по выражению Стуре, «передвигает мебель», то есть падает на пол вместе со столом или лампой, я поднимаюсь к ней, но уже давно не бегу, как на пожар. Как и раньше, я сажусь рядом с нею на пол, накрываю ее одеялом, если она раздета, сую ей под голову подушку, иногда поглаживаю ее, чтобы она чувствовала, что я рядом, и терпеливо сижу. Картина привычная, Гун напоминает человека, уцепившегося за обломки корабля, ее движения замедленны, как будто она преодолевает сопротивление воды. Я по-прежнему ощущаю здесь присутствие Трагедии и Одиночества, но мое сердце уже не сжимается, как вначале, — ко всему привыкаешь.
— Скажи что-нибудь, — просит она.
— Что сказать? Я уже все сказала, а нового ничего не знаю.
— Ты меня любишь?
— Люблю. Как и ты любишь меня. Устраивает?
— Устраивает, не устраивает… Я понимаю, что ты устала.
— Совершенно верно. Я очень устала.
Она каждый раз плачет и обвиняет во всем Харальда, но я не очень-то верю: все люди ищут виновника своих несчастий, это самое действенное утешение. Однако мне кажется, что она и в самом деле скучает по нему.
— Должен же и у меня быть хоть кто-то, — вырывается у нее иногда.
Я сижу с ней, помогаю, если надо, и думаю, как хорошо отказаться от надежды и веры в то, что моя помощь ей поможет. Если отдавать свою любовь только на пятьдесят процентов, то можно отказаться от надежды и от веры и таким образом избежать разочарования, а оно-то самое трудное. Пятьдесят процентов всем — Гун, Стуре и прочим, — я стараюсь не выходить за эти пределы. Но это касается только людей. Природе я и сейчас отдаю все сто процентов, потому что от нее получаю столько же. Пятьдесят процентов людям и пятьдесят процентов себе. Я не бухгалтер, но расчет у меня верный, при таком обороте мой общий доход никогда не превышает пятидесяти процентов, но этого достаточно. И я знаю, что веду дело правильно, потому что мне бывает больно, а все, что правильно, причиняет боль. Больно не давать воли своей тоске и своим желаниям, своей вере и надежде, больно отказаться от мысли получить когда-нибудь высокие прибыли со своего капитала, знать, что этого никогда не случится. Потому и бываешь на седьмом небе от счастья, когда к тебе нежданно-негаданно возвратится шестьдесят процентов. Но если я и могу надеяться получить от кого-то больше, так только от Стуре, правда, я стараюсь, чтобы мои ожидания не тяготили его. Половину я сохраняю себе, а половину пускаю на текущие и на непредвиденные расходы, всегда ведь возникает что-нибудь непредвиденное. В таких случаях я обычно думаю: хорошо, что я не пустила в оборот все, что у меня есть, — небольшой резерв остался, так что я не безоружна.
Поэтому теперь я сижу у Гун добровольно. Она получает ровно столько, сколько я ей даю, а не сколько она потребует. Мне стыдно, но иногда я с ней не церемонюсь. Иной раз, когда мы оба на работе, а она в запое, а поставки спиртного на дом, насколько мне известно, нам удалось перекрыть, я просто прячу ее вставную челюсть. Я редко прибегаю к этому и не раскрываю ей свою хитрость, но я отлично знаю, что без зубов она из дому не выйдет. Это помогает ей быстрее прийти в норму и избежать приступа сердцебиения и страха смерти, а в пятницу утром я как бы случайно нахожу ее челюсть либо под кроватью среди хлопьев пыли, либо в корзине с грязным бельем, либо в платяном шкафу.
— Вот видишь, — говорю я. — Ты так пьешь, что теряешь не только разум, но и зубы. Пей молоко!
— Я не переношу молока, — жалуется Гун. — Если бы ты знала, как у меня болит от него живот!
Я все-таки взяла и перечитала притчу о милосердном самарянине. Она очень интересная. В Евангелии от Луки рассказывается так:
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился.
И подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем;
А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
Между прочим, в Библии так и написано, что священник прошел мимо. Сомневаюсь, чтобы в профсоюзном журнале металлургов или в газете медицинских работников можно было прочесть про металлурга либо медсестру, которые хладнокровно прошли мимо страждущего, а вот в Библии про священника — пожалуйста! Но главное, отчего мне становится легче на душе, заключается в том, что самарянин взял на себя заботу о том человеке не навсегда, не на год или хотя бы на неделю, а только на один день. Никаких ста процентов, только один день и небольшая материальная помощь. Все. С одной стороны, мне стало легче, но с другой — у меня зародилось сомнение. Неужели так мало нужно, чтобы прославиться на весь мир и столетие за столетием служить образцом для подражания?
15
Конечно, не каждый день, но почти каждый, когда я бываю на работе, я забегаю к маме на четвертый этаж. С тех пор как я переселилась в новый кабинет, у нас с нею один и тот же вид из окна: сосны и сорочье гнездо, мы с нею много разговариваем о сороках, она часто сидит и смотрит в окно.
В отделении у них светло. Не знаю, почему больничные отделения часто кажутся такими светлыми. Наверное, из-за отсутствия ковров, да и мебели там мало, нужно свободное место, чтобы было где поставить кровати или проехать с каталками и креслами на колесах. На многих больница действует угнетающе, особенно на тех, кто пришел навестить больного, а вот мне в больнице нравится, я чувствую себя в ней как дома. Это чувство угнетенности объясняется угрызениями совести, которые испытывают люди из-за того, что они редко навещают больных, эти же угрызения побуждают их к беспричинным жалобам. Меня подобные угрызения совести не мучают, не мучаюсь я и из-за того, что моя мать лежит в отделении хроников, а не у меня дома, потому что в больнице ей лучше. Я знаю всех сестер и всех маминых соседей по отделению, а когда их знаешь, они из жалких, сгорбленных стариков, которые сидят, скрючившись, в инвалидных колясках или крохотными шажками семенят по коридору, держась за коляски для ходьбы, превращаются в Арвида, Грету, Алгот, у которых за плечами длинная, как поезд, жизнь. Это отделение — их последнее пристанище на земле. Жизнь начинается в детском саду, а заканчивается в больнице, правда, никто из обитателей четвертого этажа не был в свое время в детском саду. Грета — самая бодрая в этой компании, она до сих пор читает газеты и смотрит телевизор, который стоит у нее в палате, однажды она сказала:
— Нынче никто на себя не похож. Только старики все такие же, как были.
— Что ты имеешь в виду? — спросила я.
— А то, что только в старости понимаешь, что все молодые какие-то увечные.
Десять лет назад у мамы случился инсульт, и говорит она с большим трудом. Слова она помнит, но произносит так, что их почти не узнать, они катаются, как шарики, и о чем она говорит, можно только догадываться, к тому же шариков этих совсем немного. У нее ампутирована нога выше колена — она уже давно страдает диабетом. Днем мама в кресле-каталке сидит в общей комнате или у себя в палате, которую она делит с Гунхильд. Гунхильд говорит не лучше, чем мама, и по той же причине, но ноги у нее целы. В палате у каждой из них своя тумбочка, тумбочка Гунхильд уставлена фотографиями в рамках, это ее дети и внуки, вероятно, они считают, что это заменяет Гунхильд их присутствие, они редко навещают ее. Многие дети рассуждают так: мама или папа должны иметь собственную мебель и собственную комнату, чтобы у них было ощущение дома; только мы сами, к сожалению, не можем навещать родителей так часто, как хотелось бы, кроме того, нам больно видеть, как старики одиноки, какая казенная здесь атмосфера и насколько безразлично относится персонал к своим подопечным — как-никак, а мы платим налоги! До чего же сильно мама сдала, а была такая бодрая! Бедняжка! Остается надеяться, что ей недолго мучиться, все равно это не жизнь. Не жизнь, а сплошное унижение. Какой недостойный конец!
Такие рассуждения я слышала не единожды. Одна из дочерей Гунхильд иногда работает в киоске, она моя ровесница, при встрече она непременно спрашивает про Гунхильд, поскольку знает, что я часто бываю в том отделении. «Я ведь очень занята, не то что ты»— говорит она.
Допускаю, что дети Гунхильд вовсе не желают матери скорого конца, ее пенсию они тратят на свой отдых и даже не делают из этого тайны; «Ведь у мамы есть все необходимое, надо ездить сейчас, пока мы еще не старые, а там, кто знает…» Кольцо с красным камнем, которое Гунхильд носила раньше между двумя обручальными кольцами, сверкает на пальце у киоскерши.
Недостойная жизнь, недостойный конец, что они хотят этим сказать? А пасть на поле битвы, как Густав II Адольф или Карл XII, это достойно? А попасть под колеса автомобиля и умереть в одночасье на улице или в постели? Может, и болеть тоже недостойно? Наверное, единственное, что достойно человека, — это сохранять здоровье и веселое расположение духа до последнего вздоха? Брехня все это. Им тяжко не оттого, что они видят старческое слабоумие или сердечную недостаточность, — их пугает недостаток собственной сердечности, сознание, что они поступают не так, как «надо». Ничего удивительного, что многие теперь поговаривают, будто не худо бы помочь человеку вовремя уйти из жизни. Жизнь, которая миновала свою высшую фазу, — недостойная жизнь; пожалуйста, сделайте последнюю инъекцию Юханссону из отделения «Б», такова воля его близких и его самого, он столько раз говорил, что хочет умереть. И никому дела нет до того, что у Юханссона из отделения «Б» тоже бывают светлые и хорошие дни, например когда к нему на окно прилетает синица и клюет замазку или когда он пьет божественный кофе. Ну, это уже несерьезно! Какой смысл жить ради синицы или чашечки кофе? Разве достойно человека умирать голодной смертью в лагере беженцев, не лучше ли, если Красный Крест сделает ему достойную инъекцию? Взрослые дети готовы собственноручно сделать укол отцу или матери, а потом заглянуть и в лагерь для беженцев. Чтобы там тоже с достоинством был полный порядок. И чем скорее это будет сделано, тем лучше для всех. Одновременно мы избавимся и от угрызений совести, что не навещали своих близких в больнице.
Однажды я зашла в отделение трудотерапии и застала там хрупкую старушку, работавшую за ткацким станком. В руках у нее мелькал пестрый челнок, она ткала и плакала. Я спросила, почему она плачет, и она ответила, что ее дочь, которая живет в другой коммуне, хочет забрать ее туда, поближе к себе. Но что же в этом плохого, удивилась я, если дочь хочет, чтобы ты жила к ней поближе? Но, оказывается, я просто не поняла. Дело в том, что дочь хотела не переселить мать поближе, а похоронить ее в своей коммуне, а не в той могиле, где уже был похоронен старушкин муж, потому что он не был отцом дочери. Дочери просто не хотелось ездить на могилу так далеко.
Но та, что сидит в киоске, конечно, права: мне, работающей в оздоровительном центре, забежать к матери в перерыв или перед уходом домой проще, чем ей. Мне все тут привычно. Привычно видеть мать и других больных, я нахожу хорошие стороны в здешней жизни. Конечно, больница — это не дом, а старый человек — не молодой и здоровый, тут не о чем спорить. Но те, кто сетует на это, забывают о том, что и дома, и тогда, когда ты молод и здоров, все отнюдь не безупречно, — они уже не помнят об этом и требуют, чтобы все было безупречно, раз уж они платят налоги. Сестры в коротеньких белых халатах, с голыми загорелыми ногами в сандалиях работают весело и легко, они хохочут над Эббой, которая ест пальцами яйцо всмятку, они повязывают старикам салфетки, которые те беспрестанно развязывают своими непослушными пальцами, они шутят с этими стариками: «Привет, Густаф, ты выглядишь сегодня молодцом!» — а у Густафа лицо застыло и одеревенело. Как и все родственники, я могу приходить и уходить, когда захочу; если я прихожу во время обеда, я сама кормлю маму или помогаю мыть ее перед сном — ей тяжело долго сидеть в инвалидной коляске. У нее бывает такой ублаготворенный вид, когда она опускает голову на подушку и волосы у нее на лбу еще влажные после мытья. Судя по ее лицу, она испытывает такое же блаженство, как я, когда у меня грипп и Стуре ухаживает за мной и подает чай в постель. Или как Карин — в детстве она говорила, что больше всего на свете любит болеть — так приятно лежать на чистых накрахмаленных пахучих простынях.
Конечно, немного чудно разговаривать с матерью, как с маленьким ребенком, и помнить при этом, что она твоя мать. Все возвращается на круги своя. Иногда я слышу собственный голос, произносящий слова громко и отчетливо, но они повисают в воздухе, потому что часто я не получаю ответа, даже по взгляду мамы я не могу понять, слышит ли она мои слова, понимает ли или только бессознательно смотрит на меня и слушает мой голос. Взгляд у нее бывает отсутствующим и пустым, даже когда она смотрит мне в глаза. Я рассказываю ей о сороках, о рыбе, которую мы вытащили сетью, хорошо или плохо уродилась картошка и велик ли будет урожай, о новых телятах в стаде Дорис и Хеннинга, о веселых проделках Оссиана. Иногда она спрашивает про отца, как будто он еще жив, я объясняю ей, что отец умер, и ее взгляд как будто темнеет. Неожиданно в памяти у нее всплывают знакомые, она называет чьи-то имена, но только я начну рассказывать о них, а она уже забыла, кто они такие. Она как будто смотрит длинный, полустертый фильм, кадры мелькают беспорядочно и бессвязно, в любую минуту она может перебить мой рассказ и, показав на мои обручальные кольца, спросить, замужем ли я. По-моему, потеря памяти изредка огорчает ее, она вдруг осознает, что ничего не помнит, но такое озарение длится не больше минуты, и снова к ней возвращается великое забытье и гасит последние проблески сознания.
Несколько раз я чуть не силой вытащила Гун к маме, не ради мамы — она, я думаю, вряд ли узнала Гун. Я сделала это ради Гун. Но не для того, чтобы облегчить ее совесть, а скорее, чтобы помучить ее. Уж слишком она отгородилась от всего, думала я, все ее помыслы сошлись на бутылке. Пусть поглядит на маму, которую она никогда не принимала в расчет. В одно из посещений Гун осмелела и решила погладить маму по ноге — мама тогда лежала в постели. Но под рукой у нее оказалось пустое одеяло — ведь нога у мамы ампутирована. Гун отдернула руку, как ужаленная.
Пока есть жизнь, есть надежда. Возможно, это и так, но только не для мамы. Однако, пока есть жизнь, есть сама жизнь; сколько раз мне хотелось узнать, в каких мирах витает мама, что всплывает в ее памяти, почему она вдруг начинает плакать и слезы медленно стекают по ее морщинистым щекам, как водопад по изрезанной трещинами скале. Причины не знает никто. Говорят, будто старики впадают в детство. Это не совсем так. Мы не знаем, что думает младенец, который еще не умеет говорить, а только слушает и смотрит, и он тоже не может нам этого сказать. Но у ребенка сознание становится все более ясным, а у мамы все более сумеречным. Ребенок растет, а мама угасает.
Но самое лучшее в моих посещениях мамы — это то, что я как будто примирилась с ней, даже не знаю, как это объяснить. Простила ее, что ли. Простила за то, что она была не такая, какой мне бы хотелось ее видеть. Глупо, конечно, но это так. Каких только требований мы не предъявляем нашим родителям, они все должны мочь, понимать и уметь… Мы не видим в них людей, нет — они Мама и Папа. И если они не соответствуют нашим требованиям, значит, они глупые, «не знают и не понимают собственных детей». Им положено быть самыми умными, но вот ребенок достигает отрочества и замечает, что это вовсе не так, что много людей гораздо умнее, чем они. Мне до сих пор стыдно, когда я вспоминаю, что относилась к маме без должного снисхождения только потому, что она была не такая, как мне хотелось бы. Приятно исправить эту ошибку, пусть даже и поздно. А что касается моего прощения, то я не знаю точно, кого я простила, маму или себя. Может, просто я не замечала, а мама видела и понимала гораздо больше, чем она говорила мне? Как, например, у меня с Карин: Карин наверняка думает, что я многого не понимаю, и в этом есть доля правды, но все-таки я вижу и понимаю гораздо больше, чем говорю. Сказать что-то можно и слишком рано, и слишком поздно. Когда говоришь слишком рано, тебя одергивают: не лезь не в свое дело, а если говоришь слишком поздно, тебя упрекают: где же ты была раньше?
Я, как и большинство, одновременно и ребенок и мать: в первом случае помалкиваешь по собственной воле, в другом — по необходимости. И в этом есть определенный смысл. Все, что человек должен понять, он должен понять сам. Ему необходим собственный капитал, а не чужой. А на один день его поддержит милосердный самарянин.
Нс знаю, возможно ли было поговорить с мамой о ее жизни с отцом до того, как ее разбил паралич. Вряд ли она захотела бы что-нибудь рассказать. Да и есть ли у нас право знать все даже о собственных родителях? Карин я ничего не рассказывала о своих переживаниях. Смешно, но мы скорее посвятим в свои дела постороннего, чем родителей. Это, наверное, все равно что предстать перед судом, состоящим из ближайших родственников, судом заведомо пристрастным и неправым. Нет, я бы ни за что не смогла рассказать Карин о своем отношении к Стуре. Это было бы равносильно тому, что она застала бы нас в постели. Какое счастье, что я ничего ей не говорила.
Поэтому я прекрасно понимаю, что и она далеко не всем хочет со мной делиться. Но у меня есть право толковать по-своему то, что я вижу.
Каждого человека подстерегают несчастья. Они в нашей жизни что-то вроде будильника. Подкрадываются с той или иной стороны и нападают почти всегда неожиданно, как раз когда только-только улеглось предыдущее несчастье и ты осторожно перевел дух. Не успеешь оправиться от простуды, как заболел желудочным гриппом.
Сегодня я принесла маме два кусочка жареного окуневого филе, я знаю, что она его любит, но в больнице этого никогда не дают. Я выбрала из филе все косточки, и мама разевает рот, как скворчонок, который жил у меня летом, она глотает филе, причмокивает и с благодарностью смотрит на меня. Потом я возвращаюсь печатать человеческие судьбы, на ходу погладив Густафа по щеке, щека у него шершавая, как наждачная бумага.
— Девочки тебя сегодня плохо побрили, — говорю я. — Такого я целовать не стану.
Густаф смеется, он похож на старую замшелую сосну. В свое время Густаф повидал мир, плавал матросом, а потом бросил якорь в Гудхеме и стал сельскохозяйственным рабочим. Густаф много чего знает; когда у него спрашивают, как он поживает, он отвечает, если только у него хорошее настроение:
— Danke schön, es knallt und es geht[26].
16
Лето в самом разгаре. Подарив нам новый день, оно взамен уносит день нашей жизни. Лето не сразу набирает силу, если считать, что оно начинается в мае, но, набрав ее, быстро идет на спад. Разгар лета длится не дольше отпущенного ему срока, а его высшая точка — всего лишь миг. Но пока еще лето на подъеме, и кажется, что так будет вечно. Всегда хочется, чтобы хорошее продолжалось вечно, а плохое поскорее проходило. Идеальное несчастье должно быть чем-то вроде крутой горы — быстро поднялся и еще быстрее спустился, — зато что-то хорошее мы бы предпочли в виде широкого плоскогорья. Благодатное тепло окутывает дом, оно словно толстый слой масла на хлебе, но от этого масла не случится инфаркт. Какое удовольствие идти босиком по траве и по гравию, даже если идешь всего-навсего к мусорному баку. Мне никогда не надоест работать внаклонку над клумбами и грядками, подрезать розы, выпалывать бедные сорняки, которых никто не любит, съесть запачканную землей редиску или, подобно генералу, проводить смотр идеально ровным рядам моркови. Трудно себе представить, что все вырастает из крохотного зернышка, но нельзя забывать и о благоприятной социальной среде и о нежелательном соседстве для каждого растения. Гусь свинье не товарищ, говорю я и выдергиваю из земли пырей, который пристроился возле лука в надежде, что я его не замечу. Сколько еще пройдет дней и ночей, пока созреет зимний картофель. Зимний картофель — это закаленная в боях пехота, которая решает исход сражения.
Гун тоже любит лето, ей нравится загорать. Она медленно поворачивается на солнце, как мясо на вертеле, белым остается только треугольник под подбородком. Этот белый треугольник почему-то вызывает во мне умиление, он похож на беззащитное горло собаки, которая доверчиво тянется к человеку. Летом я непременно дня на два беру маму к себе. Гун в это время старается не выходить из дому: ей так больно смотреть на маму, говорит она. А мама сидит около веранды с просветленным лицом, морщинки у нее разглаживаются, правда, когда она возвращается в отделение, вид у нее не менее довольный. В Гудхеме все сбрасывают с себя лишнюю одежду; старого учителя, всегда облаченного в строгий темный костюм, жилет и шляпу, я видела сегодня в шортах и сандалиях, он выглядел прямо-таки непристойно.
Можно было бы ожидать, что летом, в жару, когда всем так хорошо и весело, никто не захочет воевать и убивать друг друга, но, увы, это не так, вон что творится в Южной Африке или на Ближнем Востоке, а ведь там всегда тепло. Может, у них слишком много солнца и они так избалованы теплом, что не ценят его? Мне это пришло в голову, когда я заметила, что очень небрежно отношусь к своим тапочкам, отличным кожаным тапочкам, я как-то сообразила купить перед Рождеством сразу три пары и теперь треплю их, не жалея, и дома, и на улице, одна пара уже лопнула по шву, и в ней стерлись кожаные стельки. Но, что имеем, не храним… Как у нас в центре раньше, например, больные обычно сворачивали прокипяченные марлевые бинты, чтобы использовать их опять. Они скручивали бинты на колене, и у них получались аккуратные трубочки. А теперь они складывают пластмассовую мозаику, и это не приносит им ни пользы, ни радости — пустая и унизительная трата времени, особенно для тех, кто привык трудиться по-настоящему. Если бы Стуре заболел и попал в больницу и его там засадили бы за это занятие, отнимающее у людей время и уважение к себе, мне было бы мучительно стыдно, хотя мой стыд не шел бы ни в какое сравнение с его собственным. Однако профсоюз никогда не допустит, чтобы больные делали что-нибудь полезное.
Мне так хорошо, я так благодарна и лету и солнцу, да и не я одна, и если бы душа моя была спокойна за Карин, все было бы прекрасно. Она звонила несколько раз и сказала только, что все как обычно, — вот и весь разговор, но если раньше ее «как обычно» означало, что все хорошо, то теперь уже «как обычно» означает — плохо. У меня на душе тревожно, и я предупреждаю Стуре, который подстригает траву, что сплаваю к Ольссону, узнаю насчет угрей. Пахнет бензином, однако этот запах не забивает запаха скошенной травы. К волосатым ногам Стуре прилипли травинки, он кивает и машет мне рукой, мол, все понял, и идет за косилкой дальше. Что бы он ни делал, он делает это с душой. А как он моет посуду! Сперва раскладывает ее рядами — ни дать ни взять войска перед битвой — и моет в первую очередь не стаканы, как я, а тарелки, ему так больше нравится, потом принимается за ножи и вилки — негоже их разлучать с тарелками, и, когда вода уже совсем грязная, он моет стаканы, однако умудряется отмыть их до блеска. Раньше я часто делала ему замечания, потому как не сомневалась, что только я правильно мою посуду; мы подолгу спорили, кто из нас прав. Тайком от него я щупала тарелки и разглядывала на свет стаканы, в конце концов мне пришлось сдаться. Мне приходилось уступать Стуре много раз и по самым разным поводам. Впрочем, и ему мне — тоже. И это хорошо. В конце концов надоедает никогда не ставить под сомнение свою правоту. Когда Стуре подстригает траву, он всегда начинает не с того конца участка, с которого начинаю я, хотя что ему стоит это сделать или мне — начать с его конца? Но мы так не делаем. Незачем уступать, если в этом нет необходимости.
Стуре скрылся за домом со своей косилкой и не видел, что я распустила дорожку. Он бы непременно сказал, что сегодня это бесполезно или еще что-нибудь, но я распустила дорожку и гребу к острову, возле которого часто стоят щуки. Мне не нужна щука, щуку мы ели два дня назад, но просто мне хочется подольше побыть на озере. Очень тихо, хотя вода покрыта легкой рябью, слышится только рокот косилки. Я затаилась и стараюсь вобрать в себя немного этой вечерней тишины. Обычно мне это удается; когда я на озере одна, я начинаю философствовать, наверное, под влиянием открытой водной глади: пространство, так же как и время, позволяет все увидеть на расстоянии — когда смотришь вблизи, многого не замечаешь. Трудно понять, что время обладает такою властью. Часто говорят: поймешь со временем. В любом случае следует признать, что на все требуется время. Вот и мне сейчас нужно время, чтобы доплыть до Ольссона. К нему попадаешь не сразу: прыгнул в лодку — и ты у Ольссона; нет, нужно преодолеть определенное пространство. Помидорам тоже требуется время, чтобы вырасти и созреть. Каждый раз, глядя с озера на наш дом, я думаю: вот дом, я в нем живу, а кто я? Я пытаюсь представить себе, будто вижу себя возле дома, пытаюсь понять, кто она, эта женщина. Но ничего не получается.
Сейчас я пытаюсь уплыть от Карин, от ее изгрызенного крысами буфета, который она боится распахнуть настежь.
Мы с Дорис много раз говорили о разводах, ей с ее пятерыми детьми в пять раз хуже, чем мне. Она говорит, что по глазам детей старается прочесть, все ли у них в порядке, но их злит даже это — что ты все высматриваешь, мамаша, возмущаются они. Занимайся своими делами. Дорис считает, что они совершенно правы, — нужно брать пример с кошки: как только котята научились есть самостоятельно, она прогоняет их от себя.
Возле острова щука мне не попалась, зато я видела крохаля с утятами, они выплыли из тени прибрежных деревьев, с мягким кряканьем поплыли прочь и скрылись в солнечном блеске. Я сменила курс и стала грести прямо к Ольссону. И тут почувствовала, что на мою блесну кто-то попался — это легкое подергивание лесы не спутаешь ни с чем, — я бросила весла и стала вытягивать дорожку. Судя по всему, щука была не большая, но и не маленькая, я уже видела ее желтое брюхо. Жестокая забава, но ведь так увлекательно. Хорошо еще, что они не такие большие, а то недолго и в пасть угодить. Я ударила ее, но она продолжала трепыхаться. Я оглянулась на наш дом — Стуре, наверное, уже ушел смотреть телевизор.
А вот Ольссон все видел. Он стоит на причале и, дождавшись, когда я подплыву поближе, кричит:
— Что поймала? Я видел тебя в бинокль!
Я молча подплываю и показываю ему свою добычу.
— Кило триста, — говорит он, у него глаза, как весы. — Протяни-ка мне свою белу рученьку. — И он буквально поднимает меня из лодки. — Чувствуешь, какая сила? Это я в матушку, она была самая сильная женщина на свете. Я бы мог поднять тебя одной рукой, только взяться надо покрепче. Заходи, Эльна уже поставила кофе. Хотя она и считает, что протрезветь всегда успеется. Давай щуку, я ее выпотрошу, и дело с концом.
Не знаю, была ли его мать такой сильной, помню ее уже старой и больной, она не ходила, жила только на картошке, рыбе и кофе и, лежа на диване, пронзительным голосом, который был выше любого самого высокого сопрано, распевала псалмы и народные песни. Тогда-то Эльна и вернулась домой, хотя поговаривают, что вернулась она, потому что ее уволили с работы. Она была акушеркой где-то в Норланде и придерживалась известного принципа, что протрезветь всегда успеется. Пьяной, правда, я ее ни разу не видела, а в Гудхеме она не бывает, Ольссон говорит, что она там уже десять лет не была. Зато каждый год осенью она ездит на Родос, и тогда она преображается до неузнаваемости. У нее в шкафу хранятся два парика, я сама видела; в парике и шляпе Эльна похожа на бывшую кинозвезду. И брат и сестра получают пенсию и немало зарабатывают на рыбе; никто не продает таких копченых угрей, как они, и ни у кого нет такого сада, как у Эльны. Я много раз брала у нее цветочную рассаду, но у меня в саду сразу видно, что цветы посажены специально, а у Эльны они растут так, точно они сами выбрали себе и место и соседей, все выглядит так естественно, словно это не сад, а луг. Возясь в земле, Эльна стоит внаклонку, не сгибая колен, так же стояла когда-то ее мать, только на Эльне брюки, а на матери была юбка.
Ольссон приносит мою щуку и заворачивает ее в газету. У Ольссона живот, как большой надувной мяч, из-под расстегнутой рубашки виднеется жирная грудь. Угрей они мне не продают. Я хотела подарить их Оссиану на день рождения, но Ольссон и Эльна сами намерены сделать такой подарок, они оба тоже приглашены на праздник, правда, Оссиан знал заранее, что Эльна не придет; зато я наверну там за двоих, говорит Ольссон. Праздник будет что надо — много гостей и пять гармонистов.
Я пила кофе с коньяком, как вдруг Эльна спросила:
— Надеюсь, твоего зятя Бу там не будет? Вот негодяй так негодяй.
— Это точно, — говорит Ольссон. — Он негодяй по всем статьям. Жалко Карин с детишками. Я ему так и сказал: что ты, мол, за мужик? Раз у тебя дети, раз у тебя жена, стало быть, ты семейный человек, это совсем не то, что холостой; он и глазом не моргнул, как вот эта самая щука. Говорит, между нами с Карин точки над «и» расставлены.
Я сижу, будто с неба свалилась, и не верю своим ушам. Наверное, вид у меня был глупый, да я и чувствовала себя дура дурой, потому что Эльна вдруг спросила:
— А ты что, ничего не знаешь?
Из-за одного только стыда, что я ничего не знаю, да еще из-за нежелания обсуждать жизнь Карин я хотела ответить, что, конечно, все знаю, однако не ответила, а сказала чистую правду, что слышу об этом впервые.
— Ах ты, моя милая, так ты, оказывается, ничего не знаешь? — удивился Ольссон. — Да ведь Бу себе зазнобу завел. Она у вас на Мельнице работает! Уж с неделю прошло, как они приезжали к нам за угрями. Поздно вечером, часов этак в девять или попозже, они, вишь ты, устраивали пирушку и хотели купить угрей. Так они сказали: мол, им нужны угри. Я машину-то его не признал, он, видать, новую купил, но вижу — машина, а в ней женщина сидит, сперва я ее принял за Карин, потом гляжу: за ручку-то он ведет не Карин, а эту вашу, из центра. Хрен они получили, а не угря! Думай про меня что хочешь, но моя фирма таким господам угрей не продает. Я человек маленький, но свои понятия имею, что хорошо, а что худо. Не знаю, как ее зовут и кто она там у вас, докторша или нет, но только работает она в вашем центре, это точно. А что, Карин-то знает об этом?
— Я думала, ты все знаешь, — говорит Эльна с несчастным видом.
— Первый раз слышу. Ты уверен, что она из центра? Как хоть она выглядит?
— Вот с такими титьками, — говорит Ольссон и изображает руками круглую грудь. — И говорит все этак непросто.
— Беда-то какая, — вставляет Эльна.
— Неделю назад, говорите?
— Неделю или две, а может, поболе, я уж не помню. Где он теперь живет? С Карин?
Я киваю.
— Я ему так сказал, — голос у Ольссона становится вдохновенным, как у новоявленного Моисея, — я тоже в молодости малый был не промах, но с чужими женщинами на людях никогда не показывался. Черт бы тебя побрал, сказал я, портки сраму не имут, так их и не на башке носят. И еще: ты мне тут бурю на море не устраивай, а не то…
— Не слушай его, — говорит Эльна, — ничего этого он ему не сказал. Но угрей мы им не продали, это верно, я не захотела, когда увидела, что к чему. Между прочим, возьми кусочек угря, я угощаю. Пусть Стуре поест. И поговори с Карин.
Я отправляюсь домой. Щуку и угря я чуть не забыла, но меня нагоняет Ольссон — Эльна заметила оставленный мною пакет.
— Не вешай голову раньше времени, — кричит он, кидая пакет мне в лодку. — Поклонись от меня Карин, я помню ее совсем махонькой, скажи ей, что можно поймать рыбку и получше. И еще скажи, что я хоть и не компьютер, но если кого видал, так уж не позабуду, а ее мужика я и раньше с той бабой видел. Он уж не первый раз приезжал угрей покупать, а расплачивался обещаниями. Я буду не я, если не нагряну к нему в контору, он сам сказал: позвони мне в контору, — а я возьму да сам явлюсь. Карин хорошая, она как ты, и не думай, ей от этого беспокойства не будет, уж я позабочусь.
Я гребу домой, Ольссон все еще стоит на причале, а Эльна — в дверях. Рябь улеглась, поверхность воды кажется блестящей и мягкой, вдалеке на воде покачивается большая стая чаек, они отдыхают после обеда, и ничто не нарушает тишины. Я прекрасно поняла, кого имел в виду Ольссон, изобразив большую грудь. Это Сив, и самое скверное, что мы вместе работаем. Нет, это еще не самое скверное, хуже то, что я ее терпеть не могу. Неужели это правда? Предположим, правда, но как они могут разъезжать по округе, не таясь даже от наших знакомых? Может, это ошибка? Однако Эльна все подтвердила! Ольссон есть Ольссон, но это еще не значит, что он говорит неправду. Как же получилось, что Карин ничего не знает? Или и в самом деле последним правду узнает тот, кого она касается?
Сив! При одной мысли о ней у меня внутри все переворачивается. С некоторыми людьми сходишься легко, а с другими не сходишься вообще, я никогда не сошлась бы с Сив. Она работает у нас уже два года, и я знаю, что мое первое впечатление часто бывает обманчиво, но на этот раз я не ошиблась. Я не доверяю такому типу людей — склонив голову набок, они обнимаются с каждым встречным и все-все понимают, потому что сами пережили то же самое! Теперь она понимает Бу! Будь это кто-нибудь другой, любая другая женщина, не Сив, и любой другой мужчина, не Бу, я бы, может, тоже поняла его, но теперь… Неужели его так пленили ее подушки, правда, у Карин с этим плоховато. Сив не носит бюстгальтеров, на ней всегда лишь тонкая блузка, и грудь колышется под ней, как буйки на воде. Халат у нее всегда нараспашку, она стучит по коридорам своими каблуками, оставляя за собой стойкий запах духов.
Многие говорят, что запах больницы внушает им страх, хотя на самом деле в больнице вообще ничем не пахнет. Так вот, мои духи — это психологическая поддержка, говорит она. Наверное, ради психологической поддержки она постоянно болтается по коридорам; а может, у нее потребность показывать себя, кто знает, но она то и дело пробегает по коридорам с какими-то документами, чаще всего направляясь к врачам. Но только один из врачей согласился обследовать ее поподробнее, да и то, говорят, это было лишь беглое обследование — он проработал у нас не больше месяца. Сив была замужем, у нее две взрослые дочери, муж у нее был богатый, как она говорит, и он выплачивает ей содержание, а может, он просто рад от нее откупиться? Но Бу? Неужели Карин не почувствовала запаха духов? Или он сам начал душиться одеколоном? Нет, это неправда! Я гребу так, что трещат весла. Когда я привязываю лодку, у меня дрожат руки.
Стуре, как всегда, заснул перед телевизором, на экране творилось нечто невообразимое: то тут, то там мелькали огненные всполохи и два придурка, широко расставив ноги и закрыв глаза, вопили так, будто каждому в штаны заползло по гремучей змее. Я выключила телевизор, и Стуре проснулся, и я тут же, стараясь унять дрожь, рассказала ему все, что узнала:
— Ты слышишь? Можешь себе представить? Такой наглец, приезжает туда с этой тварью и заявляет, что с Карин у него покончено, коротко и ясно. И стыда ни в одном глазу. Угорь ему, видите ли, понадобился для пирушки! И ехать за угрем именно к Ольссону!
До Стуре не сразу доходит смысл моих слов, и если бы я не была так взволнована, то разволновался бы он, у нас так всегда — либо я волнуюсь, либо он. Разделение труда. Однако он тоже рассердился.
— Какого черта!
— Вот именно! Но что же нам делать? Если он был там в девять вечера и собирался ехать на какую-то пирушку, значит, его ночью не было дома и Карин не может этого не знать. Или, во всяком случае, он вернулся очень поздно. Вот разве что без угрей пирушка не состоялась… Это ж надо додуматься, притащить ее с собой к Ольссону!
— Он мог ей сказать, что ездил по служебным делам. Или, может, он тогда, после Ольссона, вернулся домой? А что это за Сив?
— Да я же тебе про нее рассказывала, ну эта, которая всегда такая милая и обаятельная. Распахни свою душу! Береги все хорошее, что у тебя есть! Каждый человек достоин твоей улыбки. Уж сама-то она распахнута будь здоров! Грудь у нее вот такая, и она носит ее, точно два прожектора, ты бы, наверное, тоже ослеп. То-то я замечаю, она так странно на меня поглядывает в последнее время. Нет, ты только подумай! Ведь она знает, что у Бу дети!
— Мало ли что он ей там наплел. Сказал же он, что с Карин покончено.
— Н-да. Но Карин мне сказала, что у него никого нет.
— Она нам не все рассказывает. А ему все готова простить.
— Это верно. Она только дуется и возится целыми днями с детьми.
У нас такие славные, симпатичные внуки, их фотографии стоят на книжной полке рядом с фотографией Эрика, сделанной за несколько недель до его смерти. По-моему, Карин считает, что, потеряв Эрика, я уже не могу любить Енса и Эву. Если я говорю Енсу: какой ты большой, как ты вырос — и обнимаю его, она подозрительно смотрит на меня, в ее глазах недоверие. Как будто я обнимаю не Енса, а Эрика, который был бы сейчас таким же большим. Разумеется, я помню Эрика, но это не мешает мне любить Енса. И я не переношу свою любовь к Эрику на Енса, это два совершенно разных чувства. Перенести любовь с одного на другого невозможно. Пожалуй, я даже Енса люблю чуть больше, потому что он с нами, когда я гляжу на него, меня охватывает какая-то особая нежность. И Енс и Эва — то, что Карин называет «современные дети», они не способны помолчать и вести себя тихо, мы со Стуре не раз спрашивали, нельзя ли их угомонить хоть ненадолго, чтобы можно было поговорить, не повышая голоса, но Карин отвечала, что дети, как и взрослые, имеют право жить и заявлять о себе, такое теперь время. Она ни разу не сказала, но я знаю, о чем она думает: и Эрик был бы точно таким же.
Мы со Стуре, наверное, слишком старомодны, все равно что ножная швейная машина в эпоху электрических. Но мы очень устаем, когда они бывают у нас или мы у них. Разговариваем мы односложно, и разговор все время прерывается: либо детям что-то понадобилось, либо они просто кричат. Думать некогда, мысль не успевает оформиться в слова, невозможно ни спросить что-нибудь, ни ответить. Когда мы возвращаемся домой или когда они уезжают от нас, нам кажется, будто над нами пронесся ураган и мы выглядываем в окно, чтобы узнать, почему вдруг стало так тихо. И потом, приехав домой или, наоборот, после их отъезда, вспоминаешь, о чем беседовали, и понимаешь, что несказанного осталось гораздо больше, чем сказанного. У нас все-таки бывает потише, потому что у них весь день орет радио, а если я прошу Енса выключить его или убавить звук, он, взглянув на Карин, понимает, что меня можно не слушаться. Мы радио не выключаем, говорит Карин. Ты просто к нему не привыкла. Детская забита игрушками и напоминает муравьиную кучу, но заставить их успокоиться может только телевизор, все остальное время их что-то гонит, будто они на охоте, и каждый из них одновременно и дичь, и охотник, и гончая. Но, видно, их всех это устраивает.
— Когда вы с Бу успеваете поговорить? Вечером?
— Вечером! Вечером я с ног валюсь от усталости! Ты думаешь, легко, когда дома, кроме своих, еще трое чужих детей? Да и Бу тоже устает.
Я чувствую свое полное бессилие. Мне куда легче разговаривать с детьми Дорис, чем с Карин, которая почти все мои слова принимает в штыки. Так же как и я когда-то мамины. Я никогда не могла рассказать матери о своих неприятностях, любая моя неприятность не могла существовать для нее сама по себе, словно это случилось с кем-то другим; мама переживала не столько из-за неприятности как таковой, сколько из-за того, что переживаю я. Такая близость уже мешает и не позволяет человеку быть откровенным. Близкие отношения необходимы, но порой они слишком болезненны, сложны и сковывают свободу.
— Ладно! — решительно говорит Стуре. — Наше вмешательство тут не поможет. Но это же надо, так врать!
И чтобы излить все без остатка, благо есть кому, я рассказываю Стуре про охотничьи угодья и рыбные заводи, про то, как у Карин не хватило духу оборвать Бу в присутствии посторонних.
— Раз так, черта лысого увидит теперь его папаша, а не лосиную охоту. Я тебе не рассказывал, а пару лет назад, когда мы ездили в Стокгольм на охотничью выставку, мы вечером выпивали в гостинице, и кто-то, уже не помню кто, спросил: а где же Эрнст? Ну, мы пошли к нему в номер, а он сидит там, и с ним еще один тип, Эрикссон, и оба пьяные вдрызг; Эрнст сидит в одном исподнем на краю постели и названивает бабам. У него весь бумажник забит объявлениями массажисток, вырезанными из газет, — все равно как псалтырь с закладками. Он звонит, а Эрикссон ждет.
— Ну и как, повезло им?
— Какое там! По голосу было слышно, что он пьян в стельку. Зато утром ему принесли телефонный счет — будь здоров. Так ему и надо! Мы ему сказали: как же ты так оплошал!
— Жаль. Магда не знает. Повезло нам с тобой со сватами, ничего не скажешь. Магда — живая газета, раздел «советы женщинам». Представляешь, она спрашивает у Карин: ты заботишься о Бу? Ты обеспечиваешь ему полноценное питание? А сама держит семью на одних консервах! Рюмки у нее хрустальные, а угощенье — кошачьи консервы!
— Да ладно тебе, — урезонивает меня Стуре.
— Конечно, осуждать нехорошо, но она такая! Мне бы надо поговорить с Сив. Просто скажу: мол, слыхала, будто ты знакома с моим зятем. Посмотрим, что она мне ответит.
— Оставь, сделаешь только хуже.
— А если бы ты узнал, что у тебя на работе кто-то путается с Карин, ты бы промолчал? Да ты бы ему череп раскроил!
— Она, конечно, догадывалась, что это за сверхурочная работа, да верить не хотела, — задумчиво говорит Стуре. — Неужели он…
Стуре не договаривает, но я понимаю, что он хотел сказать, и отвечаю ему утвердительно. Он продолжает:
— Нужен был им этот дворец! Он, как его папаша, любит пыль в глаза пустить… Я же ему сказал тогда… Ладно, всегда лучше держать язык за зубами.
Уже в постели Стуре спросил:
— Как хоть ее фамилия, этой, грудастой?
— Ханссон, а тебе зачем?
— Я на днях поеду в город. Хочу взглянуть на ее дом, есть ли у нее жалюзи.
В спальне сумеречно. Мы, взрослые люди, лежим и переживаем за свою взрослую дочь. Я вижу Енса и Эву, Карин и Бу. Я привыкла эти четыре жизни считать неразрывными, а теперь мне нужно увидеть рядом с ними и Сив. Я знаю Сив, и у меня в голове не укладывается, чтобы она могла перетянуть на весах Карин с детьми, но, может, именно из-за этой тяжести Бу и предпочел почивать на подушках, на мягких подушках Сив. Одурманенный ее психологическими духами. Он обвиняет во всем Карин — я тоже в свое время обвиняла во всем Стуре. — а Карин обвиняет его. Он думает, что стоит ему покончить со старой жизнью, как тут же начнется новая. Более легкая, более свободная, главное, более свободная; по его мнению, кровеносный сосуд так же легко перерезать, как шнурок. Всем это будет стоить потери крови, в том числе и Бу, но он этого не понимает, во всяком случае сейчас. Ему уже сорок, он достиг определенного рубежа и почувствовал, что надо что-то предпринять, вот он и покупает жалюзи, потом не платит за них, меняет машину, меняет женщину в надежде, что его это спасет. Сперва человек долго-долго живет, как цыпленок в яйце, но вот он вылупился из него, теперь ему надо уже самому добывать себе корм, однако у него к этому времени есть дети, они кричат и требуют все новых и новых расходов, жена, которая ничего не смыслит в ботанике, не говорит по-испански и недостаточно сексуальна, и дом, за который еще платить и платить, — словом, всего не перечесть. Конечно, ему хочется скинуть с себя этот груз, а как же иначе? Если бы только я могла любить Бу, но я люблю Карин, и это естественно, и если бы Карин не была до такой степени предана ему и не кидалась каждую минуту на его защиту, еще можно было бы о чем-то говорить. Но что бы ни случилось, у Бу на все один ответ: нет проблем! Все знаю сам! Карин говорила, что Бу работает как одержимый, а если там что-то не так, то виноват не он, а другие, те, кто ему завидует, это из-за них у него бывают неприятности. Все время защита и круговая оборона. Она защищает не ого достоинства, достоинства в защите не нуждаются, она защищает его слабости. И сама она такая же слабая. Защищая чьи-то слабости, сильнее не станешь. Но зато так удобно — полагаешься не на себя, а на кого-то.
И вот вся ее оборона рухнула. Он возлежит на подушках у Сив, а она ничего не понимает: ведь она так старалась угодить ему! Все ему позволяла.
Фу, черт!
Наверное, я все время ворочалась, потому что Стуре говорит недовольно:
— Да спи же ты, наконец!
— Я думала, ты уснул…
— Уснешь тут, когда ты крутишься как веретено. Все равно раньше утра ничего не сделаешь. Спи.
— Какого утра? Ты имеешь в виду понедельник?
— Ну да. Наступит же он в конце концов. Спи.
17
Как много они потеряют, если разведутся, думаю я. Самое лучшее из всего, что существует или могло бы существовать на свете, — это долгая супружеская жизнь, которую основательно потрепало, но которая вновь восстала из пепла. Однако несколько лет назад у нас недалеко от Гудхема случился один развод, о котором говорили, потому что оба супруга были уже очень старые. Они прожили вместе долгую жизнь, и брак их, должно быть, уже давно барахлил, но глушители работали исправно. Старику было восемьдесят шесть, однажды он пришел к соседям и сказал: все, к черту, я развожусь. И развелся, и свои последние два года прожил свободным; не знаю, жива ли еще его старуха.
Или взять нас со Стуре. Мы похожи на старую лодку, которую много раз конопатили, чинили и смолили, но она еще прочная и в воде течи не даст. А новую лодку мне и даром не надо, я бы чувствовала себя неуверенно и ни за что не решилась бы испытать ее в непогоду. А если в ненастье не доверяешь ни лодке, ни напарнику, так лучше сидеть на берегу и вообще не вступать в брак. У меня не хватило бы смелости в зрелом возрасте во второй раз выйти замуж из-за того, что прежняя лодка дала течь. Но большинство людей именно так и поступают. Винят лодку, то бишь семейную жизнь, будто она никуда не годится, а если разобраться, так это они сами не умеют содержать ее в порядке.
Но я не стану говорить, как мне удалось справиться со своей лодкой. Если кто справился, о нем говорить нечего, потому что у каждого свое и других чужой опыт ничему не научит. Справился — и хорошо, а вот другой…
Мне помогли два несчастья: смерть Эрика и приезд Гун. Но если бы не это и если бы я, страшно подумать, ушла от Стуре, я бы никогда не решилась на новое замужество. Ведь никто не знает, на что идет, когда вступает в брак, только в молодости не приходит в голову, что чего-то не знаешь. А вот когда лодка однажды опрокинется и ты окажешься в воде без спасательного жилета, ты начнешь остерегаться лодок. Правда, многим везет, и к тому времени у них уже есть новый спасательный жилет с мягкой грудью.
Я с радостью плыву на своей испытанной лодке по имени Стуре по океану жизни. Думаю, и Стуре тоже рад. Желания, конечно, поутихли, чтобы не сказать просто остыли, прятать уже нечего, однако они еще могут вспыхнуть. Мне теперь даже трудно вспомнить, как это, когда тебя обуревает желание. И даже нежные или откровенные сцены по телевизору, когда полуодетые герои извиваются, как угри в тине, ничего во мне не пробуждают. Меня эти сцены не возмущают, я не ханжа, просто я сижу и думаю: ну ладно, довольно, мы уже поняли, в чем дело, это мы и без вас умеем, покажите что-нибудь поинтересней. Каждый год мы с Дорис и Хеннингом ездим в Шеннинге на ярмарку, там в шапито показывают порноспектакли, и один раз мы пошли посмотреть — нас с Дорис пропустили без билетов, потому что мы были с мужьями, — меня все это ничуть не взволновало, Дорис — тоже, зато у мужчин заблестели глаза и покраснели носы, это было очень заметно. Мне это зрелище напомнило готовую еду в пластиковой упаковке, которую я никогда не покупаю. Только и слышишь про эксплуатацию женщин в порноиндустрии. Какая же это эксплуатация? Я бы не сказала, что девицы на сцене выглядели более угнетенными, чем их молодые партнеры, все они были холеные и упитанные, но, конечно, родом они были не из Шеннинге. Если бы женщины были такие же целомудренные, как Дева Мария, они не одевались бы так, как сейчас, — никаких бюстгальтеров и тонкая блузка, смотри — не хочу. Я, кстати, вовсе не против, я и сама разглядываю чью-нибудь грудь с не меньшим интересом, чем мужчины, могу и сама так одеться, если есть желание и позволяет обстановка, вернее, раздеться и превратиться в этакую приманку для мух. Но даже если ко мне приклеится какая-нибудь муха, я к ней домой не пойду. Все это как-то сомнительно. Сперва одеваются так, чтобы к ним липли, а если кто-нибудь прилипнет, да еще не тот, кто им нужен, поднимают страшный крик. Откуда мужику знать, к которой из них можно прилипнуть? Предположим, в наши дни можно было бы обратиться в Высшую комиссию по равноправию и получить возмещение морального ущерба, если бы кто-то хлопнул меня по заднице. Но как это доказать? Намазать юбку или брюки штемпельной краской? Как вообще относиться к мужчинам? Как к насильникам, которые при первой возможности кидаются на свою жертву, или как к пай-мальчикам, которые приглашают к себе приманку для мух исключительно для того, чтобы поговорить с ней о высоких материях или выразить ей восхищение ее нарядом? Не знаю.
Остывшие желания — как это грустно звучит, и все-таки страшного тут ничего нет. Я не думаю, что Стуре мне изменяет, но могу и ошибаться, может, когда-нибудь, на каком-нибудь празднике он и согрешил. Но даже если и так, хотя не думаю, ведь всегда трудно представить себе, что у твоего мужа кто-то есть, но, допустим, он иногда согрешит, однако, если дело дальше не зайдет, я переживать не буду. Я знаю, о чем говорю, на себе испытала, с Хеннингом. Несколько раз. Все получилось неожиданно, я как-то пришла к ним, он был дома один. Мы всегда были добрыми друзьями, впрочем, с моей стороны это было немножко больше, чем дружба. Я только не думала, что и с его стороны тоже, подвела меня моя интуиция. Или я просто не знала, что если мужчины приветливы и улыбаются женщине, то это то самое и есть? Но так или иначе, а нам было очень хорошо, мы старые друзья и могли ничего не опасаться, для меня это было почти то же самое, что спать со Стуре. Хеннинг все время гладил меня по щеке, я находила, что это смешно, но трогательно. Не знаю, повторится ли это. Если повторится — хорошо, а не повторится — тоже неплохо. Но в любом случае я знаю: как бы приятно это ни было, все равно это ничего не значит. Это останется нашей с Хеннингом тайной, мы с ним будем чуть больше, чем просто друзья. Хеннинг к этому относится так же, как я.
Я, конечно, не собиралась спать с мужем своей лучшей подруги, и я все время думала о Дорис, и тогда, и после. Но именно потому, что ни Хеннинг, ни я не придаем этому большого значения, мне кажется, что и она должна отнестись к этому, как мы. И все-таки я понимаю, что не права, недаром я ничего не рассказала Стуре.
Остывшие желания — мне трудно объяснить, почему на самом деле это не так грустно, как кажется. То, что от них остается, похоже на тепло от кафельной печки, в которой огонь уже потух. Конечно, какой-то интерес из жизни уходит, но ведь нельзя иметь все. По крайней мере в одно и то же время. Я решилась на тот поступок только потому, что это был Хеннинг, которого я хорошо знаю, с другим бы я не решилась, да и где бы я взяла этого другого. То же можно сказать и про Хеннинга. В отличие от Стуре, он никуда не ездит без Дорис, им хорошо вместе во всех отношениях, я это знаю. Если ей станет известно про нас с Хеннингом, я сгорю от стыда, это точно. Но, пока она не знает, угрызения совести меня не мучают.
А Стуре? Я не скажу, что до конца изучила его, это было бы неправдой, но чем больше я узнаю его, тем больше он мне нравится. Мне нравится, как он относится к своей работе, я знаю, что он работает лучше многих. Он очень добросовестный, и ему самому это нравится, такой уж у него характер. Я как-то сказала ему об этом, и он мне ответил, что есть люди, которые вкалывают за двоих, а есть такие, которые только делают вид, что работают, таких земля родит в избытке, но он их за людей не считает. Дома Стуре вечно что-то мастерит, для него лучшее лекарство — это его ящик с инструментами, до книг он не большой охотник, книги — это по моей части. Стуре может мгновенно выйти из себя, вспылить из-за пустяка, но это не больше, чем искры от костра, однако он такой же злопамятный, как я. Только разве это недостаток? Не все ли равно — долго любить кого-то или долго не любить? Мало кто из людей вызывает у меня неприязнь, и эти люди мне не мешают, просто я не люблю их и мне не придет в голову дружить с ними. Я даже рада, честное слово, что не люблю некоторых людей, например Магду, свекровь Карин. Она мне ничего не сделала, но она такая… словечка в простоте не скажет. Впрочем, вся их семья строит из себя невесть что. У нас никогда не было открытых споров или ссор, но мы соперничаем, и от этого никуда не денешься. Я, как «старшее поколение», выяснять отношения не собираюсь, это было бы глупо. Мы встречаемся с ними в дни рождения или на других семейных праздниках, нам этого больше чем достаточно, и все идет тихо-мирно.
Как я уже сказала, я знаю про Стуре далеко не все, в отличие от тех жен, которые утверждают, что видят своих мужей насквозь. Но кое-что я вижу и размышляю над увиденным, это любопытно. Однако сколько бы я ни размышляла о Стуре, понять не могу одного — как он вытерпел все эти годы, когда я, выбиваясь из сил, возилась с Гун? Почему он ни разу не сказал: либо Гун, либо я? Он сердился, был недоволен, думаю, не раз мысленно назвал меня дурой, но никогда ничего такого не сказал мне. Конечно, она нарушала, и до сих пор нарушает его покой, когда по ночам спускается вниз или начинает звонить, однако он терпит.
Мне иногда кажется, что женщины внушают мужчинам комплекс неполноценности. Мужчины как будто все время подвергаются «промыванию», но не мозгов, а души. Им ведь то и дело приходится слышать, что они ничего ни в чем не понимают. Что ни возьми — дом, семью, детей, женщин, занавески, месячные, беременность, роды, чувства… Чувства, кстати, в первую очередь. Если чувства мужчин отличаются от наших, то чаще всего мы считаем их бесчувственными. Я сама так считала, теперь, правда, перестала, но до сих пор, стоит мне вспомнить, как я разговаривала со Стуре, будто с пятилетним ребенком, мне становится стыдно; он, конечно, сердился, и я это видела, но чаще ему становилось грустно, только я-то считала: это потому, что он убедился в моей правоте.
Пусть я теперь и не обвиняю его в бесчувственности, если он к чему-то относится не так, как я, зато в других случаях я веду себя глупее, чем следует. Мне, например, часто кажется, что только я знаю, как и что надо делать. Прошлой весной я собиралась покрасить железные перила на маленькой веранде, которая смотрит на дорогу. Я стала счищать ржавчину наждачной бумагой, а Стуре сказал, что достаточно почистить их стальной щеткой, поскольку идеальная гладкость тут ни к чему, да и бумаги наждачной не напасешься. В глубине души я понимала, что он прав, но сперва извела всю наждачную бумагу, какая была в доме, и только потом взялась за стальную щетку. Ну разве не глупо? И из-за того, что я разозлилась, никакой близости у нас в ту ночь не получилось, хотя днем я этого хотела. Не то чтобы я решила его наказать, просто пропало желание.
Конечно, это ребячество, и хорошо еще, если сам все понимаешь. Видишь собственное упрямство и самоуверенность. Стуре тоже не ангел, он может проявлять точно такое же ребячество, с кем этого не случается, думаю, что и сильные мира сего этим грешат. Черта с два я признаюсь, что он прав, скажет такой про себя, плевать мне на его правоту, уж лучше война! А виной всему мелочность и амбиции, идет ли речь о стальной щетке или о баллистических ракетах. Теперь, если мы со Стуре разошлись во мнении, я стараюсь внушить себе, что и он может оказаться прав, точно так же, как и я. Правда, небольшие войны между нами все-таки вспыхивают, но это лучше, чем сразу сдаться, а потом копить недовольство. Мы оба знаем, что готовы к войне, и потому стараемся избегать споров: предоставляем друг другу свободу действий, даже если считаем, что другой не прав. Нас это уже не трогает. Мы довоевались до мира. Мне нет нужды считать, будто Стуре всегда прав, достаточно, если я признаю его правоту наполовину, так же как и он — мою, а большего ни требовать, ни желать невозможно.
Все равно я знаю, что у меня есть перед ним преимущество, хотя бы потому, что я женщина, а он мужчина. Но это налагает на меня ответственность. Мужчине труднее жить без женщины, чем наоборот, я много наблюдала одиноких мужчин. И дело не только в том, что им трудно себе готовить, просто они, вопреки всему, считают, что лучше женщины ничего нет. Мы для них вроде цветов на столе. Многие мужчины злятся из-за этого, но что поделаешь. И ничего удивительного, если они злятся, ведь они никак не могут понять, какими же им нужно быть, чтобы угодить женщинам. Сексуальными, но не больше, чем того хочется женщине. Милыми, но не настолько, чтобы утратить мужественность. Сильными, но не грубыми. Решительными и даже очень, но сперва советоваться с женщиной. Они должны заботиться о детях, но не настолько, чтобы дети предпочли отцов матерям. Должны зарабатывать кучу денег, но при этом много времени проводить дома с семьей. И еще они должны разделять все чувства женщины. Словом, в идеале это должна быть помесь тигра с ягненком.
Разговоры о том, что мужчины не любят, если на работе над ними стоят женщины, имеют под собой почву, они не любят тех женщин, кто равен им по положению, потому что с женщинами нельзя воевать так же, как с мужчинами. Неуверенность мужчин в себе, их определенный комплекс неполноценности перед женщиной и страх, внушаемый гинекологическими болезнями, стали искусственной преградой между двумя полами. Если мужчины начнут воевать с женщинами на равных, им, безусловно, скажут, что они воюют только из женоненавистничества, и отчасти это будет справедливо, но как же мужчинам воевать в тех случаях, когда это и вправду необходимо? Никто не говорит о равноправии столько, сколько сами женщины, но при этом они все-таки рассчитывают на особое к себе отношение — ведь как-никак они женщины. Мужчины объединяются потому, что их постоянно гнетет эта искусственная преграда, хотя вслух они об этом не говорят, а женщины объединяются потому, что знают: против них, только за то, что они женщины, объединились мужчины. Представляю себе, что будет, если ученые научатся производить детей без мужчин. Вегетативным способом! Буквально! По телевизору уже одна женщина говорила, что, когда ищешь работу, быть женщиной — это преимущество.
Наверное, я впервые по-настоящему поняла, почему мужчины иногда так пьют, когда Стуре рассказал мне, как проходят их мужские пирушки. У одного из его приятелей по работе есть в горах домик, и они, человек восемь-десять, ездят туда порыбачить. Стуре берет с собой рыболовные снасти, резиновые сапоги и водку. Зачем вы столько пьете? — спросила я. Посмотрел бы ты на себя, когда возвращаешься домой, кому это нужно, женщины никогда так не пьют.
— Понимаешь, — посмеиваясь, объяснял он мне, — мы вырываемся на свободу. Все так считают. Если рядом женщины, приходится держать себя в руках, а то они будут недовольны. Мы рыбачим, но не ради улова, главное — не улов, нам нравится рыбалка сама по себе, впрочем, ты же знаешь, что, когда мы вместе с тобой ловим рыбу, тебя улов заботит гораздо больше, чем меня. А нам плевать на него. Самое главное, что водки у нас — хоть залейся, и все могут пить, сколько душе угодно. Постепенно все напиваются: считаешь рюмочки и чувствуешь, как от рюмки к рюмке становишься веселее, и другие тоже; бывает, мы выпиваем по двадцать пять рюмочек. Ну а потом ребят начинает выворачивать, и меня тоже; хорошего, конечно, мало, самому противно, а все равно это здорово, черт возьми. Только мужики, и ни одной женщины.
— А о женщинах вы говорите?
— А как же, бывает.
Хеннинг тоже участвует в этих пирушках, если только они не приходятся на сев или сенокос; когда он уезжает, я помогаю Дорис, если нужно; эти пирушки бывают по выходным, и их сын Рубен, который вообще-то работает на усадьбе, в эти дни свободен. Возвращаются Стуре и Хеннинг в ночь на понедельник чуть живые, однако утром Стуре находит в себе силы отправиться на работу. Я бы так не смогла, и к тому же мне было бы стыдно, если бы я напилась, а вот Стуре и Хеннинг не чувствуют ни малейшего смущения. Они похожи на мальчишек, которые убегали пострелять из рогаток. Меня эти возлияния не беспокоят, во всех остальных случаях Стуре соблюдает меру.
Мужчины празднуют свое освобождение от женщин, свой день независимости. Они заливают водкой свою зависимость от женщин и в то же время славят их. Все эти великие рыбаки женаты, и я сомневаюсь, что они бы приняли в свою компанию вдовца, холостяка или разведенного — тот, кому некого ругать, не на кого призывать проклятия и не о ком тосковать, только испортил бы им все удовольствие.
Я помню фильм о белых медведях, который мы смотрели по телевизору. Чей это был фильм, я забыла, но в нем рассказывалось, как метят и считают белых медведей, чтобы спасти их жизнь и здоровье; экспедиция состояла из одних мужчин. Разумеется, там было очень холодно. Мне особенно запомнился фотограф, который сидел в клетке и снимал, мягко говоря, назойливых хищников; он был в восторге, он хохотал, когда вернулся к себе в вагончик, кажется, они жили в вагончике. Он только что не кричал: они хотели меня сожрать! Хотели добраться до меня! Они такие спокойные, такие мирные, но сожрать могут за милую душу! Они чуть не откусили мне руку!
Эти ученые проявили заботу, когда им понадобилось усыпить медведицу и ее медвежонка, а как они горевали из-за того, что им пришлось застрелить медведя.
Кстати, насчет охоты. Стуре охотится не только на лосей, но также на косуль, зайцев, лисиц. Мне приходилось стрелять только в крыс, но я понимаю, почему люди находят в охоте удовольствие, а вот заколоть животное я бы не могла, я вообще не думаю, что среди женщин найдется много желающих резать скот, лично я могла бы, разве что, в случае крайней нужды, утопить котят. Все это лежит на Стуре. Ему это тоже не по душе, но что поделаешь. Теперь у нас, правда, кошки нет, но раньше была. Хеннингу, как и Стуре, не доставляет удовольствия топить котят, вот они и плодятся у него на скотном дворе. Прошлой весной мы с Дорис однажды заболтались возле скотного двора, ворота были приоткрыты, и кошки, заслышавшие голос Дорис, вышли наружу. Сперва одна, потом две, и так друг за другом вышли тринадцать кошек! Но Стуре помогает Хеннингу резать овец, слава Богу, они оба не такие чувствительные, как Ёран, который, по словам Ингрид, чувствительный, как женщина. Не хотелось бы мне увидеть, как они рыдают, припав к стене хлева и закрыв лицо руками, после того, как закололи свинью или барашка. Это неприлично!
Я так хорошо понимаю и так люблю Стуре только потому, что мы женаты уже очень давно. А если бы я бросила его в свое время, если бы все-таки вышла замуж за другого? Это все равно что не дочитать книгу до конца. Книга может быть и не особенно хороша, но многие книги вначале кажутся скучными, а вчитаешься — и уже не оторваться. Если Бу и Карин сейчас разойдутся, они не дочитают свою книгу. У мужа, с которым живешь давно, есть свои преимущества, перед ним не нужно казаться лучше, чем ты есть, можно делать, что хочешь, и не очень обращать внимание на его слова. Правда, Стуре никогда не вел себя так, как Бу, никогда не изменял мне с какой-нибудь смазливой телкой, вроде Сив, но кто знает? Если бы я была такой же «доброй», как Карин, и не воспитывала его, так сказать, кто знает, каким бы он сейчас был? Конечно, Стуре научил меня терпению, аккуратности и многому другому, но, если бы не я, он был бы куда более занудным и скучным. Он бы меньше интересовался людьми и не замечал бы красоту природы, если б не мои постоянные разговоры; и сомневаюсь, чтобы он мог балагурить так, как сейчас, и дома, и где угодно; балагурить и веселиться, раньше он бы никогда на это не решился, такой он был робкий и застенчивый. Но я всячески поощряла его и внушала, что он умеет развлекать людей не хуже других, даже если иной раз и сморозит глупость. Правда, у Стуре хорошая природа. Он человек надежный. Пожалуй, Бу именно этого и не хватает. Он только и знает, что хвастать и сваливать вину на других. Он не внушает доверия. Иметь с ним дело все равно что идти по мосту, который выглядит крепким, и вдруг провалиться. Но если провалились они оба, и Бу, и Карин, почему Карин ничего не сказала, не взбунтовалась, почему она молчит, все сглаживает и продолжает тянуть резину, ведь сама-то она знает, что половина досок уже прогнила, а вот ведь даже не пытается узнать, откуда Бу взял деньги на новую машину, которая стоила несколько десятков тысяч. Она боится, что опозорит Бу, если пойдет в банк. Так, мол, не поступают. А вот Бу «так поступает», но она только скандалит дома и ничего не предпринимает. Это все равно что подмести пол, а потом снова высыпать на него мусор. Беда в том, что они не воспитывали друг друга. Как будто после восемнадцати уже не надо воспитывать. Карин плакала, ссорилась и скандалила, Бу понял, что ничего другого ждать не приходится, хлопнул дверью и подался к Сив, теперь он ей жалуется, что дома у него ад и жена его не понимает. Но им нет еще сорока, до них еще не дошло, что ножницы не будут резать, если оба лезвия не будут острыми. Бу делает вид, что с его-то лезвием все было бы в порядке, если бы Карин помогала ему его натачивать, а если говорить о Карин и ее лезвии, так ей удобнее, чтобы вместо нее лезвие натачивал Бу.
Если они теперь разведутся, у каждого останется только одна половинка ножниц.
Неужели они думают, что у них, как у раков, вырастет по новой клешне?
Какое счастье, что у меня есть Стуре.
18
Иногда в журналах публикуют тесты, ответив на которые можно определить, нервный ты или спокойный. Я всегда себя по ним проверяю, но легко быть спокойной, когда сидишь дома и отвечаешь на эти вопросы, по ним я всегда считаюсь уравновешенной. Настолько уравновешенной, что тем, кто набрал столько очков, сколько я, советуют подумать, честно ли они ответили на все вопросы.
Однако от спокойствия моего не осталось и следа, когда я, придя утром на работу, приоткрыла дверь кабинета, чтобы вовремя услышать цоканье каблуков Сив и запах ее духов. У меня даже вспотели ладони, а о сердцебиении я уж не говорю.
— Ну, поговори с нею, если тебе так хочется, только не волнуйся, — сказал мне Стуре.
Я стою у окна и смотрю на сосны, застывшие в неземном покое, видно, сосновая смола закипает не так быстро, как моя кровь. Я повторяю про себя: спокойно, спокойно, представь себе, что ты детектив лорд Питер Уимсей из романов Дороти Сейере и тебе предстоит разговор с человеком, подозреваемым в убийстве. У детектива сердцебиения не бывает. Он вставляет в глаз монокль с таким видом, будто зашел сюда случайно. Но уговаривать себя бесполезно, я не лорд Питер.
Первое, что я слышу, — не каблуки Сив, а ее голос. Где-то в конце коридора она что-то щебечет о восхитительной погоде. Я поджидаю у двери и, когда каблуки цокают совсем рядом, высовываю голову и прошу ее заглянуть ко мне на минуту. Она игриво соглашается.
— Закрой, пожалуйста, дверь, — говорю я.
— Дверь? Я, кажется, догадываюсь, о чем пойдет речь.
Она еще не успела надеть халат, и ее груди, как дыни, дыбятся под желтой кофточкой; они хорошо видны благодаря глубокому вырезу — две большие дыни.
— Я слушаю, — говорит она.
Вступление, которое я заготовила заранее, вылетело у меня из головы. Я могу только задать один-единственный вопрос:
— Это правда, что ты крутишь любовь с моим зятем?
— Узнала наконец-то? — Она хохочет. — Бабий телеграф у вас тут никуда не годится. Да, я знаю Бу, и очень близко. Я знаю даже его родителей, если тебя это интересует.
Я так ошарашена, что могу произнести только:
— Но…
— Что «но»?
— Он же женат! У него маленькие дети! Как ты можешь? Значит, он у тебя пропадает по вечерам?
— Возможно. Мы давно знаем друг друга.
Она поднимается со стула и опирается руками на стол.
— Подумаешь, жена и маленькие дети! Это еще не значит, что он не имеет права общаться с другими людьми. Что тебе, собственно, известно? Да ты понятия ни о ком не имеешь. Ни о своей дочери, ни о зяте. Что ты знаешь о его жизни? Ровным счетом ничего. Я не встречала более несчастного человека, чем Бу, и, если бы не я, он бы просто погиб! Дома он существо подневольное, он чувствует себя как в тюрьме. Я даже предлагала пойти и поговорить с его женой, но Бу запретил мне, он боится причинить ей боль. Если хочешь знать, он даже плакал! Это ужасно, и его мать очень мне благодарна. Я просила ее поговорить с Карин и с тобой, но она считает, что с тобой говорить бесполезно — ты всегда недолюбливала Бу. Я помогаю Бу, поддерживаю его. И ничего я не разрушила, только помогла.
— Не разрушила?
— Если люди разводятся, значит, их брак разрушен и кто-то его разрушил, но только их брак разрушился еще до моего знакомства с Бу.
— Карин ничего не знает о том, что Бу решил разводиться. Он ей ничего такого не говорил.
— Говорил, и давным-давно. Но она вцепилась в него мертвой хваткой.
— Мне она, во всяком случае, об этом не говорила… Ты считаешь, что, если женщина не хочет разводиться из-за детей, значит, она вцепилась мертвой хваткой?
— Это слова Бу. Он сказал, что отношения у них испортились уже давно, он себя чувствует одиноким и бездомным. Ведь люди могут стать чужими друг другу, даже если у них есть дети. Я сама через это прошла. Это невыносимо. Ты вся внутренне сжимаешься. Карин точная копия моего мужа. Он тоже был ограниченный обыватель. Так делай, а так не делай, у него не было никаких интересов, только сидеть дома, возиться с детьми да навещать родных. Я этого не выдержала, я должна была стать самой собой! А Бу я просто поддержала, нам всем надо поддерживать друг друга. Ему так хотелось выговориться.
— Это для того, чтобы выговориться, вы ездили за угрями к нашим соседям?
— Так вот откуда ветер дует? Нас пригласили мои друзья, и Бу хотел внести свою лепту. Но угрей нам не продали.
Сив снова села, она совершенно невозмутима, а я окончательно сбита с толку. Она продолжает:
— Конечно, мне следовало поговорить с тобой, но Бу мне не разрешил. Между прочим, с тобой не так-то просто найти общий язык, из тебя слова не вытянешь, слава Богу хоть, у меня хорошие отношения с его родителями. Бу страшно тяжело! Я прекрасно понимаю, что тебе жалко дочь, мне ее тоже жаль, но, если бы она была другой, этого бы не случилось. Ни один человек не выдержит бесконечных придирок, попреков из-за того, что он чего-то не сделал, и при этом ни слова благодарности, когда он что-то сделает. Кому придется по душе вечное нытье о неоплаченных счетах, о том, что опять нет денег, особенно если человек работает как зверь. С ним обращаются, как с неразумным ребенком, и вы с мужем туда же, смотрите на него, как на ребенка. Ты даже не поблагодарила его за машину. Приняла как должное.
— Какую машину? Он что, мне машину подарил?
— Ну, не то чтобы подарил, устроил ее тебе за полцены.
— Дорогая моя! Я на своей машине езжу уже больше десяти лет и Бу не имел к ней ни малейшего отношения! Он сказал, что устроил мне машину?
— Ну, в общем-то, да.
— Так вот, спроси у него еще раз, и пусть он покажет мне эту машину! Я знаю, что он треплет направо и налево, будто мы со Стуре его не любим, но если даже и так, то только потому, что он не в ладах с правдой. Или слишком много фантазирует, если тебе так больше нравится. Он достал мне машину! Это он себе купил новую машину, но даже не счел нужным сказать об этом жене и объяснить ей, где взял деньги. Хороша поддержка, ты, кажется, сама говорила, что надо поддерживать друг друга?
— Вот и он о том же. Говорит, что даже мороженое купить не может без ее разрешения.
— Машина — не мороженое.
— Какая разница? Ей ничего не стоит позвонить ему на работу, чтобы проверить, где он.
— Что ж тут удивительного, если его полночи нет дома. Ты небось была с ним, когда она звонила?
— Да, случайно.
Она встает и идет к двери, теперь щеки у нее пылают;
— Мне стыдиться нечего. Я ему сказала: если тебе нужен друг, можешь рассчитывать на меня, приходи, когда я тебе понадоблюсь. Если бы твоя дочь была повеселее и повнимательнее, а вы с мужем не ворчали бы по пустякам, этого бы никогда не случилось! Я тут ни при чем. У Бу очень нежное сердце, и единственный человек, который его понимает, — это я. Он удивительный. Но если человека постоянно бранят и не понимают, он может погибнуть. Спасибо тебе за то, что ты у нас есть! — сказала мне его мама. Было бы лучше, если бы она могла сказать это Карин!
Сив открыла дверь, но остановилась; держась за ручку двери, она расправила плечи и гордо вскинула голову. Ничего от утренней игривости в ней уже не осталось.
— Мне нечего стыдиться, и Бу — тоже, — говорит она. — Он очень спокоен и знает, что делает.
— Он тебя любит?
— Что значит любит? Прямо как в романе. Во всяком случае, я ему нравлюсь. Не то что тебе.
— Что верно, то верно, мне ты никогда не нравилась. Но я даже не подозревала, что ты такая дура! Что его мать человек ненадежный, я всегда знала, и папаша точно такой же. По мне, так забирай своего Бу хоть сейчас, вы один другого стоите. Он приезжает к тебе, а потом возвращается домой, как будто после психотерапевта. Грош цена твоей поддержке. Грязь это, и больше ничего.
— Я люблю людей. Вот они и тянутся ко мне. Тебе бы тоже следовало научиться любить их!
— Катись ты к чертовой матери со своей любовью!
Она так и делает. Во всяком случае, уходит, громко хлопнув дверью. Но прежде, чем я успеваю перевести дух, она снова распахивает дверь и просовывает в кабинет голову и обе свои дыни.
— Он все сказал твоей дочери, но она вцепилась в него, как собака в кость! — шипит Сив. — Такая порода! Гордости ни на грош! А вот Бу — гордый!
Мне кажется, что прошел целый год, а не десять минут. Я никак не могу отдышаться, словно пробежала кросс. Как это мерзко, гадко и унизительно впадать в такую ярость, от которой перехватывает дыхание! И уже не помнить, что говоришь. Неужели я и в самом деле послала ее к чертовой матери? Я мечусь по своему кабинетику, от стены к стене, и задыхаюсь от гнева, вспоминая ее слова. Бу купил мне машину! Карин вцепилась в него, как собака в кость! Несчастный Бу! А Магда, эта старая дура! Принимает у себя Сив. Неслыханно! Что, в конце концов, произошло и что знает обо всем Карин? Что мне делать? Что должна сделать Карин? Что с нею будет? Может, все еще хуже, чем я думаю? Как мог Бу привести Сив к своим родителям и как они смели принять ее? А может, Магда, начитавшись бульварных журналов, считает, что иметь любовницу очень шикарно? Эрнст-то, как я понимаю, вылупился на ее дыни и уже ничего больше не соображал.
Я сажусь за стол и бессознательно пишу: Карин, Карин, Карин. Дышать нужно медленно и глубоко. Мне бы хотелось позвонить Стуре, но он в городе, ищет жалюзи. Карин я звонить не хочу, не стану же я говорить об этом по телефону. А может, сказать? Даже не знаю, что лучше. Но позвонить кому-нибудь мне просто необходимо, и я звоню Густену. Сейчас я всю свою ярость сорву на нем. В трубке звучит его расслабленный, тихий голос, меня вдруг осеняет, почему по телефону его голос так не похож на обычный: он просто не знает, кто ему звонит, может быть, кредитор, и поэтому на всякий случай говорит голосом тяжелобольного, умирающего. Умирающих обычно оставляют в покое.
— Привет, это Улла. Ты что, болен? Простудился? Нет, таблетки тут не помогут, пора бы знать, а приема к врачу надо ждать две недели, до тех пор у тебя все пройдет. Кстати, насчет ждать, я ждала уже достаточно, сегодня после работы приеду к тебе за деньгами. Не подходит? Ничего, подойдет. Я приеду в половине пятого, и, если не будет ни денег, ни тебя, я тут же заявлю в полицию или куда там обращаются в таких случаях. В твоем распоряжении целый день. Всего хорошего.
Он думает, это все шутки. Сегодня он убедится, что я не шучу. Прекрасно. Хоть какая-то польза от моего гнева, нельзя быть рохлей, только вот что делать с Карин?
А как бы я поступила, если бы все было наоборот? Если бы это Карин нашла себе психотерапевта и работала бы с ним сверхурочно, а Бу нянчился бы дома с детьми, лил горькие слезы и прогонял ее спать на диван, когда она возвращается среди ночи? Уж я бы поговорила с ней, это точно! А если бы она заявилась к нам со своим психотерапевтом, стала бы я благодарить его за чуткость и теплоту? Зная при этом, что Бу ни о чем таком не подозревает и считает, что она работает до рези в глазах. Как бы я поступила? Думаю, поступить так или иначе я бы просто не успела, потому что Стуре тут же спустил бы их с лестницы. Я бы не стала ему мешать и укорять тоже не стала бы, была бы только рада, что это сделал он, потому что у меня бы духу не хватило, я ведь очень нерешительная. А вдруг я поступила бы, как Магда, из одного только любопытства или нежелания ссориться?
Кто бы мог ответить мне на мои вопросы?
Ведь тот, от кого ждешь ответа, должен быть умнее тебя, но, если ты сама дура, как ты поймешь, кто всех умнее? А до самого умного все равно не добраться.
Кто без греха, пусть бросит камень, говорится в Библии, а ведь и там идет речь о супружеской неверности. Кто без греха, пусть бросит первый камень. Те же шалости, что тогда, что теперь, не случайно Христос велел бросить камень тому, кто не нарушал супружеской верности.
Как мне понять это? Выходит, я не имею права ни сердиться, ни проклинать Бу за то, что он работает сверхурочно с Сив втайне от Карин?
А если я вне себя от бешенства и чем больше думаю про Бу, тем больше негодую? Подумать только, оказывается, он купил мне машину!
Надо бы чем-нибудь снизить адреналин, но нечем, и я принимаюсь за работу. Во время кофе мимо моей двери цокают каблуки, мне кажется, что несколько мгновений они топчутся на месте. Я пропускаю сегодня кофе.
Теоретически легко быть умной и спокойной, особенно когда сидишь дома и отвечаешь на вопросы теста.
19
Кофе я пропустила, но обед пропустить не могла. Жизненная энергия, что бы это ни означало, может питаться злобой, но желудок чувствует ответственность за весь организм и протестует. Еще в коридоре я слышу звон тарелок и гул беззаботных голосов, в дверях столовой стоит Биргитта, наша заведующая, любимая если не всеми, то большинством, она кого-то ждет. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что ждет она меня.
Маленькая, хрупкая, белокурая, но характер у нее железный. Работает она молча и быстро, от нее не укроется ни одна мелочь. Она отлично знает, сколько стоит стирка, сколько у нас пропадает простыней, халатов и полотенец, я допускаю, что она даже знает, кто уносит их домой и потом пользуется коммунальным имуществом; как бы там ни было, Биргитта улаживает все недоразумения в высшей степени тактично. Биргитта все видит, слышит и знает, кто, что, когда и как сделал. Можно сказать, что она остов нашей Мельницы. На ней все держится. У нее хорошие отношения с врачами, но она умудряется сохранять нейтралитет и никогда ни на чьей стороне не выступает. Интересы Мельницы для нее важнее всего. Она видит сквозь стену, как сквозь стекло.
Я подхожу к ней, и она, не говоря ни слова, поворачивается и идет впереди меня к столику, за которым привыкла есть, он свободен — все уже поели и ушли. Я украдкой ищу глазами Сив — вот она, я слышу ее голос и тут же вижу ее, она видит, что я заметила ее, и награждает меня взглядом, острым, как игла. Мы приносим тарелки и начинаем есть, Биргитта говорит:
— Я слышала утром ваш разговор, вас было далеко слышно. Я уже хотела зайти к вам, да Сив сама ушла. Вообще-то хорошо, что вы в конце концов объяснились. Я знаю, что об этом уже ходят слухи, сама же Сив их и распускает, но я не придавала им значения, ведь мы знаем Сив… Да и ты тоже ее знаешь. Я очень сочувствую твоей дочери. А может, стоит посочувствовать и ему, если отношения с Сив зайдут у него слишком далеко. Ведь Сив больше интересует процесс охоты, чем сама добыча. Он, видно, часто бывал у нее, но я-то узнала об этом только в субботу, хотела поговорить с тобой, а тут… Работает она добросовестно, а если бы и не так, все равно не уволишь… Я только хотела сказать, что ты должна быть порезче, раз уж так все обернулось. И на меня не обижайся. Если бы я знала об этом раньше, да наверняка, я бы тебе непременно все сказала. Сиди, я принесу сладкое.
От слов Биргитты у меня теплеет на душе. Она говорит о случившемся так просто, как о погоде; и я не спешу рассыпаться в благодарностях или умиляться оттого, что она мне сочувствует, мне не хочется, чтобы она сочла, что была более пристрастна, чем ей следует. Я благодарю ее только взглядом. Мы беседуем немного о маме, Биргитта спрашивает мое мнение о персонале в отделении хроников, потом рассказывает, как трудно находить временных работников, и это при том, что все жалуются на безработицу. На этом мы расстаемся.
Я не сомневаюсь, что Биргитта непременно предупредила бы меня, знай она об этой истории. А вот другие, которые все знали и не сказали мне ни слова, на чьей они стороне? Ясно, что на стороне Сив. Никто открыто не одобрит романа с женатым человеком, но сплетням все рады. И вот пошли сплетничать да шушукаться, пока волна этих сплетен не достигнет того, кого все это касается. Зато все благородные — никто ничего не сказал.
Неужели у Карин не нашлось ни одного друга, который постарался бы избавить ее от унизительного положения обманутой жены? Похоже, не нашлось. Да и у Бу не нашлось порядочного приятеля, который сказал бы ему: уж если загулял, так делай это поаккуратнее. Бу, может, и хотел бы выложить Карин все начистоту, да у него не хватило мужества. Он избрал испытанный и самый легкий путь — действовал открыто и ждал, пока Карин узнает обо всем от других. Так многие делают. Узнав о его романе, Карин устроила бы скандал, что позволило бы и ему тоже вспылить по поводу ее подозрительности и любви к сплетням, слежки — мол, это не жизнь, я ухожу, прощай!
Старая и в то же время новая песня. Но как трудно ее петь, когда петь приходится самому.
День сегодня спокойный, стопка с историями болезни тоньше, чем обычно. Один из наших немногочисленных врачей в отпуске, а значит, отпуск и у всего отделения, сестры могут передохнуть. Пациенты это видят, видят, что персонала в центре больше, чем больных, а им все равно приходится ждать. И, конечно, в восторг их это привести не может, и они возмущаются. Не громко, но говорить говорят. Какое счастье, что Мельница может на некоторое время перестать крутиться.
Я звоню Стуре на работу, но он еще в городе, прошу передать ему, что вернусь домой попозже. И ухожу из центра, но сперва я еду к Густену.
Они с двумя приятелями открыли малярную фирму, думаю, что зарабатывает он больше чем достаточно, но деньги у него не держатся. И вдобавок ему хочется всем угодить, а потому он раздает обещания направо и налево. По этой причине у него распалась семья. Марианна сказала, что устала от его брехни, как она выразилась. Устала от бесконечных звонков клиентов, которых он обманул, потому что в то же время обещал выполнить другой заказ. Устала от того, что сам он к телефону не подходил и выкручиваться приходилось ей — отвечать, что его нет дома и неизвестно, когда вернется. Поймать Густена трудно. Но когда я подъезжаю к его фирме, по крайней мере машина Густена стоит на месте.
Приятно пахнет масляной краской, маляры убирают свои инструменты после рабочего дня. Они кивают мне на дверь кабинета — Густен там.
Наверное, Густен мечтал совсем о другом кабинете. Несколько справочников на полке, на полу банки с краской, календарь с голой девицей, кисть, готовая для работы, дорогая пишущая машинка, которая, наверное, ощущает себя породистым скакуном под неопытным наездником, когда Густен принимается стучать по клавишам, письменный стол весь в пятнах, полная пепельница и блюдечко со скрепками.
Когда-то Густен был не лишен смазливости, но теперь он состарился, ничего не поделаешь — возраст. Однако ему не свойственна та особая красота, которая появляется у некоторых пожилых мужчин, как, например, у Стуре. Мне жалко Густена. Потому-то я и дала ему денег. Я хорошо обеспечена, а вот Густена и Гун мне жалко. Не будь он моим братом, я бы, конечно, не дала ему взаймы — но кровь гуще воды. Хотя нынче она стала жиже воды.
Перед Густеном лежит ворох счетов, и он говорит мягко, почти с сочувствием, словно ему меня жалко:
— Что случилось, Улла? Ты утром была так взволнована. Тебе нужны деньги? У тебя затруднения?
— У меня? С чего ты это взял?
— Ты была просто сама не своя. У тебя плохо с деньгами?
— Ты всегда задаешь этот вопрос своим кредиторам?
Густен пожал плечами:
— Но ты так волновалась…
— Деньги приготовил? Я спешу, мне нужно в город.
— Конечно, приготовил, я и сам собирался вернуть их тебе на следующей неделе, правда-правда, на этой неделе мне еще предстоят кое-какие расходы. Было бы замечательно, если бы ты могла подождать еще недельку, не больше. Посмотри, вот счета, которые я должен оплатить до завтрашнего дня.
— Прекрасно. Но деньги мне нужны сегодня.
Перевес сил на моей стороне, но это отнюдь не доставляет мне удовольствия. Мое превосходство подкрепляется не только тем, что он должен мне, а не я ему, но и тем, что по сравнению с Карин дело это пустяковое и мне по силам его уладить. Теперь, когда на горизонте замаячила настоящая беда, оно мне кажется незначительным. Я понимаю, что вот-вот от добродушия Густена не останется и следа, он помрачнеет, но мне-то что за дело, этим он меня не проймет. Он мне уже двадцать раз обещал вернуть деньги. Густен меняется на глазах.
— Ну и дрянь же ты. Самая настоящая дрянь.
— Да-да, знаю, мне уже сегодня утром сказали об этом. Только меня это не трогает. Давай деньги, братец, и больше ко мне за деньгами не приходи.
Густен достает бумажник, кидает на стол пачку денег и просит меня пересчитать.
— Мы договорились, что ты возвращаешь долг без процентов, потому что берешь всего на несколько дней. А значит, можешь позволить себе навестить маму и принести ей два торта, чтобы хватило на все отделение, ты ведь не был у нее уже целую вечность. А еще тебе следует сказать: спасибо, сестричка, за то, что выручила меня в трудную минуту, обещаю не сердиться на тебя за эту помощь. Пока.
Слава тебе, Господи, проносится у меня в голове, когда я сажусь в машину. Одной заботой меньше. Приятно, что у меня хватило духу с нею справиться. Пожалуй, стоит иногда доставлять себе неприятности, чтобы радоваться, когда избавишься от них. Надо было бы попросить у него банку с олифой вместо процентов. Может, зря я этого не сделала? Нет, не зря. Он бы запустил в меня этой олифой. А Стуре ломал бы себе голову, какая муха укусила Густена, что он подарил нам олифу. Что ни делается, все к лучшему.
20
Я еду в город. И чем ближе подъезжаю, тем дальше отодвигаются от меня мужество, мудрость и уверенность. Почему она не позвонила? Так расстроена, что не может даже позвонить? А вдруг она только рассердится, что я приехала? Вдруг она до сих пор ничего не знает? Я спешу на пожар, а Карин и не подозревает, что горит. Ведь говорят же, что за дурную весть расплачивается гонец.
Они живут в новом районе, застроенном виллами; через некоторое время, когда кустарники и деревья пойдут в рост, здесь будет даже красиво. Но при теперешних частых разводах наслаждаться зеленью будут уже другие. Пока здесь есть только газоны да привязанные к колышкам молоденькие деревца, похожие на детишек в детском саду. Плоские, расчерченные по линейке участки, прямые ограды, домики, стоящие в ряд, прямые углы и прямые линии, кошмар миллиметровки — мечта архитектора. Ни холмиков, ни валунов, ни горушек, все строго и чинно. Да они, наверное, никому и не нужны, участок должен быть как пол, покрытый линолеумом. Весною почти у всех дверей цвели кусты форсиции. Если кто-то посадит у себя красные тюльпаны, можно не сомневаться, что следующей весной на соседних участках вытянутся, словно солдаты на плацу, еще более длинные ряды еще более красных тюльпанов.
На улице ни души, видно, все возятся на задних дворах или уехали в отпуск, однако машина Карин на месте. Я сначала стучусь, потом толкаю дверь, обычно она бывает не заперта. Однако на этот раз дверь не поддается, и я звоню; мне открывает Енс, к нему бежит Эва, в руке у нее шарик на нитке, она говорит, что мама в ванной.
— Ты принесла нам конфеты? А что у тебя есть?
— Ничего нет. Я вам с Енсом дам денег, чтобы вы покатались на водяной горке.
— А мама в ванной. Она весь день плачет. С самого утра, — говорит Енс.
— А папа от нас ушел, — рассказывает Эва. — Взял и ушел.
— Наверное, на работу? — спрашиваю я.
— Нет, насовсем, — говорит Енс. — Забрал свои вещи и ушел.
Только теперь я замечаю беспорядок и в гостиной, и в прихожей, из ванной выходит Карин, и, хотя лицо у нее распухло от слез, я вижу, как она осунулась. Слава Богу, она сразу прижимается ко мне, и мы стоим, обнявшись, я бессознательно глажу и глажу ее по голове. Какая огромная разница, обнимаешь ли ты своего маленького ребенка или взрослого. Мы с Карин отвыкли обниматься, но, видно, когда хочешь утешить, без этого не обойтись. С Енсом и Эвой я могу присесть рядом, обнять их, приласкать, заговорить о чем-то постороннем, с детьми это получается как-то само собой, а вот перед взрослыми я беспомощна.
— Это правда, что он ушел? — спрашиваю я тихо. И чувствую плечом, как она кивает.
— В обед, — шепчет она в мою блузку. — Пришел злой и сказал, что, раз я ничего не понимаю, ему остается только уйти, что он, к сожалению, меня больше не любит… Что мне делать?.. Как он мог?.. Мне так плохо…
Она достает носовой платок, уже насквозь мокрый.
— Давай сядем, — предлагаю я.
— Не могу, я могу только ходить. Он очень спешил, бросился к шкафу и стал выбрасывать оттуда свои вещи. Потребовал сумку. Я ничего не поняла. Утром мы не разговаривали, он встал рано, выпил кефира и ушел. Когда он стал выбрасывать одежду, я спросила, не уезжает ли он, а он стал орать: ты что, до сих пор ничего не поняла? Ты не заметила, что я этот дом больше своим не считаю, что я тут задыхаюсь, от тебя задыхаюсь? Я спрашиваю: что случилось, что с тобой? Куда ты собрался? Не твое дело, кричит, я не желаю перед тобой отчитываться. Между прочим, говорю, ты еще не заплатил за телефон, вот тогда-то он и сказал, что пора положить этому конец и что он больше меня не любит… Вот и все.
— Зато ты не дала ему сумку, — сказала Эва.
— Про какую сумку она говорит?
— Про дорожную, — объяснил Енс. — Ему пришлось взять мешок для мусора, такой черный, из пластика!
— Я сказала, что не собираюсь лезть ему за сумкой, а если он сам не знает, где ее взять, пусть берет мешок для мусора, — сказала Карин.
— Бабушка, а папа вернется? — спрашивает Енс.
— Конечно, — отвечаю я. — Раз вы здесь, значит, вернется. Он просто был не в духе.
— Он очень злился на тебя, — сказала Карин. — Что ты вечно суешь нос, куда не следует. Что когда-нибудь ты заработаешь по носу, нечего воображать себя Господом Богом и вмешиваться в чужие дела. Ты что, с ним разговаривала?
Я качаю головой и уверяю ее, что я его даже не видела.
— Хоть бы объяснил, что случилось! Я говорю: что я тебе сделала? Объясни мне, в чем я виновата? Ты что, с ума сошел? Я-то не сошел, говорит, а вот ты — не знаю.
— Стало быть, он в своем уме?
— Он — да. И он не может больше жить по расписанию, ему осточертели дети, счета, ссоры, наша еда и я, потому что я… потому что со мной вообще не о чем разговаривать. Сказал, что я могу пока жить в этом доме, а потом мы его продадим, что, если он тут останется, он просто повесится… Кстати, а что ты ему сделала, почему он злится?
Карин прислоняется к книжной полке, Енс и Эва прижимаются к ней, Енс плачет, я прошу их принести свои копилки, чтобы я бросила туда монетки, но они не уходят.
— Как он мог при детях сказать, что не любит меня? Енс даже подошел ко мне и сказал: а мы тебя любим.
— Да, мы тебя любим, — повторяет Енс. — Правда, Эва?
Эва кивает.
— Пусть папа не любит маму, а мы ее любим.
— Значит, Бу не сказал тебе, куда он уходит? — спрашиваю я. — Больше он тебе ничего не сказал?
— А что еще говорить? Разве этого мало? Он сказал, что уезжает по делам с одним типом, я звонила на работу и проверяла, их нет.
— Дети, пожалуйста, сбегайте за копилками. Пусть мама отдохнет.
— У меня никого нет, кроме детей, — плачет Карин.
Я сижу и никак не могу набраться мужества, чтобы все ей рассказать, а рассказать надо, в этом нет никаких сомнений, не понимаю, почему Бу до сих пор этого не сделал. Почему так трудно все объяснить, выразить в словах? Дать понять всем своим видом и поведением — это пожалуйста… Но сказать? Верно говорят: слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. А слово «развод» звучит страшно. Оно как церковный свод. Такое же высокое и гулкое.
— Могу тебе объяснить, почему он разозлился на меня. У нас в центре работает одна женщина по имени Сив. У Бу с нею роман. Сегодня утром я с ней побеседовала. Вот и все. А она, наверное, позвонила ему.
Глаза у Карин широко раскрылись и стали неподвижными, как на фотографии.
— Это правда? — шепотом спрашивает она и садится к столу.
— Да, к сожалению.
— Кто она такая? Как она выглядит? Ее зовут Сив, ты сказала?
— Да, Сив. Мне она очень не нравится. Я спросила у нее, правда ли то, что они с Бу приезжали к Ольссонам купить угрей, это Аллохол с Эльной мне все рассказали.
— Он покупал угрей? Они приезжали вместе?
— В том-то и дело. Именно поэтому Ольссон и не продал ему угрей.
— Как она выглядит? Сколько ей лет?
— Ну как тебе сказать? Многие считают ее симпатичной. Она немного старше тебя, разведена, у нее две дочери.
— Она живет в Гудхеме?
— Нет, в городе. Ты ничего не подозревала?
— Я же у него спрашивала… Не знаю… Я даже боялась подумать об этом… Так вот где он пропадал! Ты говоришь, она тебе не нравится?
— На мой взгляд, ничего в ней хорошего нет. Она очень вульгарная.
— А ведь он такой разборчивый! Что же это такое? Бес в ребро, что ли? Как он мог?
— Кто знает. Со всяким может случиться. Смотря какая муха укусила. Впрочем, такие мухи кусают не только мужчин.
Про главное оружие Сив я умалчиваю. Карин всегда страдала оттого, что у нее маленькая грудь.
— У папы теперь другая тетя? — спрашивает Енс. — Мама, а у тебя будет другой дядя? Я не хочу!
Карин и дети как будто срослись друг с другом. И хотя я все знаю от самой Сив, в голове у меня это не укладывается. Я сижу на диване и сама являюсь частичкой этого невероятного, непостижимого, если только возможно быть частью того, чего не понимаешь.
— Он тебе ничего такого не говорил? — спрашиваю я. — Не говорил, что он хотел бы…
— Развестись? Да? Ни слова! Он только очень изменился, дома почти не бывал, а когда бывал, то ходил злющий-презлющий. Нет, я ничего не понимала…
И снова слезы.
— Ты слишком на него полагалась, — медленно говорю я. — Я не хочу сказать, что не надо полагаться на мужа, но все хорошо в меру. Ты ведь сама говорила, что… Что у вас бывают недоразумения. Тебе надо было самой побольше вникать в дела.
— Я уже говорила, что не хочу жить так, как вы с папой. Вы ссоритесь по любому поводу. Я хотела жить мирно. Старалась, чтобы нам хотелось одного и того же. Я не такая, как ты.
— Мы вовсе с папой не ссоримся по любому поводу. Но мы говорим о своих желаниях, и, если наши желания не совпадают, кто-нибудь из нас уступает, но мы не скрываем, чего мы хотим. Так гораздо лучше. Мир и покой тебе по почте не пришлют. И даром их не получишь.
— Ты что, выгораживаешь Бу?
— И не собираюсь. По-моему, он вел себя как последний трус. Но ты всегда так ему доверяла, вот он и решил, что ему все дозволено. Есть такие люди. Может, поедем к нам? Что вам здесь одним делать?
— Не хочу. — Карин плачет. — Он вечером вернется. Я же его знаю, не сможет он нас бросить. Лучше я буду дома. Он уехал только на один день, так мне сказали. Все было бы в порядке, если бы ты не поговорила с Сив. Я же тебя предупреждала, чтобы ты никому ничего не говорила. Я-то его знаю. Он злится больше всего на тебя…
— Ну что ж, — говорю я. — Хорошо, если так.
— Но как же он мог? Встречался с нею, потом приходил домой! Нет, это неправда. У меня в голове не укладывается. Как он мог так со мной поступить? А дети? Она, наверное, такие способы знает, что ни один мужик не устоит.
— Сомневаюсь. Не очень-то на нее похоже.
— Он вернется, я знаю, я же ни в чем не виновата, мы так подходим друг другу.
— Разумеется, — говорю я.
Мне хотелось бы верить, что это так, но я не могу.
— Мама, только, пожалуйста, больше ничего не предпринимай. Ни с кем не говори, не ходи к Магде и Эрнсту. С Бу так бывает. Вспылит, накричит, уйдет, но вернется. Он должен вернуться! Не вмешивайся, а то будет еще хуже.
— Ладно, ладно, больше никому ничего не скажу. И ей тоже. Вот тебе деньги, заплати за телефон, а то отключат.
Карин бегает по комнате, она вся дрожит от волнения, стоит ей остановиться, как к ней тут же бросаются Эва и Енс, прижимаются, отталкивают друг друга. Это все так противоестественно. Так глупо. Взять и разорвать книгу пополам. Вместе с переплетом. Выбросить последнюю часть, сжечь ее. А если есть дети, маленькие дети? Бывает, овцы не признают своих ягнят, гонят их прочь, не дают им сосать; бывают свиньи, пожирающие своих поросят. Их обычно убивают. У Дорис с Хеннингом была свинья, которая сожрала восьмерых поросят. Как будто дом лишился одной стены и остался стоять с тремя стенами. Можно ли когда-нибудь привыкнуть к тому, что в доме не хватает стены, или к тому, что трехстенный дом брошен на произвол судьбы? Не знаю, но я представляю себе, каково было бы мне, если б я бросила Стуре. Проехать, к примеру, мимо своего огорода и увидеть там другую женщину. Даже если бы я «по своей воле» оставила этот огород.
Кто без греха, пусть первый бросит камень. Почему Иисус не наказал блудницу, только велел больше не грешить? Ведь вор и убийца понесли наказание. А как он разгневался на торговцев в храме!
Летним вечером, почти ночью, я возвращаюсь домой, вдоль дороги светлеет купырь, люди спят. В такую светлую ночь все кажется призрачным, будто во сне. Таким же сном кажется и несчастье Карин. За весь вечер она не съела ни кусочка, ели дети и я. Она замирала при звуке машины и прислушивалась. Но даже если бы Бу приехал, он повернул бы назад, увидев мою машину. Эва со своим мишкой уснула в кухне на полу, а Енс долго боролся со сном, он как будто стерег Карин, чтобы не исчезла и она. Боже, какое горе!
Может, блудница потому и не была наказана, что Иисус считал блуд скорее несчастьем, чем преступлением? С точки зрения закона это и в самом деле не преступление, хотя люди расходятся, разъезжаются, расстаются. Иисус знал, что несчастье — само по себе наказание.
Я еду и слушаю соловьев. Интересно, легла ли Карин? Для детей случившееся — то же самое, что для всех нас была бы война, настоящая война. И все-таки странно. Во время войны или какой-нибудь другой опасности — болезни или чего угодно — каждый знает, что должен сам справиться со своей бедой, должен приложить все усилия и выкарабкаться, у многих это получается. Если человек упадет в воду и будет знать: не выплывет — значит, утонет, он сможет проплыть столько, сколько никогда не проплывал раньше, достаточно вспомнить, что в экстремальных условиях люди проявляют порой выносливость и жизнеспособность, удивляющие их самих. Но когда рушится дом, семейный очаг, стараемся ли мы любой ценой предотвратить этот крах? Да или нет? Или мы видим бревно только в глазу у другого?
Я ведь и сама тоже не прилагала никаких усилий, чтобы сохранить свою семью. Мне тогда казалось, что спасать нечего. Я считала, что если наш брак погибнет, то это будет к лучшему, что в этом и есть спасение. Что гибель принесет покой. Я действительно так думала. А теперь знаю, что это было заблуждением.
Бу тоже думает, что поступает правильно. Он считает, что терпеть незачем. И Карин считала, что поступает правильно, отказываясь от борьбы за свои права. Глупо думать, что кто-то другой должен бороться за твои права. Ведь твоим голосом никто петь не будет. Это невозможно — у каждого свой голос.
Щелкает соловей, и я вздыхаю.
Я тоже допустила ошибку, только как раз обратную: я думала, что смогу бороться за Гун.
Раньше я была плохим примером для подражания, но теперь, после всех своих ошибок, мне кажется, я могла бы поделиться кое-каким опытом, однако Карин заявляет мне, что мы со Стуре только ссоримся, и не видит, как хорошо мы ладим. Она мне не верит и себе тоже, она верит только Бу, хотя прекрасно знает, что как раз ему-то верить не следует. Я хочу верить, я должна ему верить, говорит она. Сколько раз она повторила это хотя бы сегодня.
Впереди на дороге что-то лежит, и я торможу. Медленно проезжаю мимо и вижу, что это барсук. Бедняга. Проехав еще несколько метров, машина останавливается, я разворачиваюсь и еду обратно. На дороге пусто и тихо, летний вечер. Я вылезаю из машины и подхожу к барсуку, я боюсь, что он зашевелится, но он лежит неподвижно. Ему год, не больше. Он безупречно красивый, только мертвый, у него пушистая серая шкурка. Я беру его за заднюю лапку, разглядываю ступню, она нежная и пухлая, как ручка у Эвы. И бросаю его в канаву, заросшую цветами. Как сказать, эта смерть была достойная или недостойная? Стоит торжественная тишина. Надо ходить гулять по вечерам, особенно летом, сейчас одиннадцать. Какая тишь! А меня гложет тревога.
Этот барсучок мне помог. Так бывает, вдруг что-то поможет, но не всегда. Я немного успокоилась, хотя казалось бы, при чем тут бедный погибший барсучок, но тем не менее это так. Ладно, думаю я, будь что будет, мы со Стуре всегда рядом с ней. Стуре, конечно, может отремонтировать дом, но не с такими трещинами. Наладить свой дом ей придется самой. Только захочет ли она? И захочет ли Бу?
Тяжелая ноша жизни врезалась им в плечи, я знакома с этой ношей и называю ее либо отвращением, либо усталостью, но я понимаю, что она неизбежна, а вот они еще думают, что им ничего не стоит сбросить ее с себя. Карин считает эту ношу несправедливой — ведь она так старалась угодить Бу, так верила ему, опиралась на него. Что думает Бу, я не знаю, но он все послал к черту. И все это обрушилось на голову детям.
Наконец-то я дома после этого бесконечного дня, я будто попадаю в рай, я вижу озеро, отражающее звезды и потому мягко мерцающее, как керосиновая лампа, и в самом деле чувствую себя как в раю. Вижу наш дом с освещенной верандой, Стуре зажег свет, чтобы было уютней. Я люблю наш дом не меньше, чем люблю Стуре. Дом — это все. У беженцев нет дома. Такого, в котором они могли бы ходить в темноте, не задевая за мебель.
Я чищу зубы, ложусь и начинаю рассказывать. А Стуре говорит, что он таки разыскал Сив и видел эти жалюзи, двое с передней стороны дома и двое сзади.
— Не понимаю, зачем ей жалюзи с задней стороны, которая смотрит на север? Видно, Бу хотел шикануть.
21
Пришла открытка из Франции от Ёрана и Ингрид — они там «едят и пьют в свое удовольствие», а по дороге домой заглянут к нам, надеются, что у нас все в порядке.
Конечно, все было бы в порядке, если не считать Чернобыля, закопанных в землю оленей и лосей, бомб, угонов самолетов, СПИДа, которого так боится Оссиан, хламидий, ну и кое-чего еще, а также Гун и Карин. Да заодно уж и грозы, у нас тут такая гроза прошла!
Трудно понять людей, которые жалуются, что вокруг ничего не происходит. Ну хоть бы что-нибудь случилось! Гун тоже любит так говорить. Интересно, чего они ждут, если им мало того, что происходит? Приглашения на королевский обед или они надеются выиграть кругосветное путешествие, в которое им некогда будет поехать? Или, к примеру, незамужняя девица надеется в один прекрасный день, придя домой, обнаружить у себя в постели мужчину приятной наружности? Я бы в таком случае предпочла Алека Гиннеса, случись ему оказаться в наших краях, или лорда Питера, будь он реальное лицо, не отказалась бы и от нашего министра финансов, найдись у него свободная минута, он кое-что соображает. Но вообще-то я считаю, что событий у нас происходит больше чем достаточно. Правда, на взгляд Ёрана и Ингрид, наши события — это, конечно, сущая мелочь. С отдаленного расстояния да еще через призму среднестатистических данных многое может показаться несущественным. Я прекрасно понимаю, что лет через десять я уже иначе буду смотреть на Карин, на Гун, на долг Густена, — все то, в чем я сейчас варюсь, впоследствии превратится в жизненный опыт, но пока это еще не стало опытом и я не могу относиться к этому спокойно. Трехлетнему ребенку пригорок кажется горой, а в тринадцать он видит, что это всего-навсего пригорок. Но ведь когда-то этот пригорок был горой!
Просто удивительно, как много бед подстерегает человека. Однако стоит получше вглядеться в каждую из них, как и вообще в любое явление, и непременно найдешь ее корни, по крайней мере один. Можно написать тысячи книг и проанализировать в них причины разных несчастий, только вряд ли кто-нибудь успеет за свою жизнь их все прочитать, осознать, разбить прочитанное по группам и создать «пакет неотложных мер», поэтому беды застают нас врасплох и мы ничего не понимаем. Чисто теоретически можно предположить, что крупные катастрофы, такие, как потоки беженцев, извержения вулканов, и тому подобные, должны затмевать собой мелкие личные неприятности, постигающие каждого из нас, но не тут-то было. Авария на Чернобыльской атомной станции не выдерживает никакого сравнения с твоим собственным сгоревшим дровяным сараем, а тысячи беженцев меркнут перед тем фактом, что Бу бросил свою жену и детей. Мне изредка приходится сталкиваться с человеческим горем, когда к нам в центр привозят пострадавших от несчастных случаев или автомобильных аварий. Их всегда тут же отправляют в город, но все равно воздух как будто заряжается и от напряжения перехватывает дыхание, когда случается что-то серьезное и человеческая жизнь висит на волоске. Вой сирены заполняет приемную, где сидят больные гриппом или конъюнктивитом или пришедшие на повторный прием, все они на время забывают о своих недугах, но стихает сирена, уносится «скорая помощь» с синей мигалкой, и все возвращается на круги своя.
По законам перспективы более мелкие предметы заслоняют собой более крупные, если находятся ближе.
Зато я положила в банк деньги, возвращенные Густеном, кроме той тысячи, которую отдала Карин, и вздохнула с облегчением, точно вырвалась из тисков смерти. Позвонила Карин: вчера вечером Бу домой не вернулся, правда, позвонил и сказал, что некоторое время должен отдохнуть и подумать, Карин поинтересовалась, на работе ли Сив, и я сказала, что Сив на работе. Потом она звонила уже без конца, мы говорили много и подолгу, в конце концов у меня даже заболело ухо. Я в основном только поддакивала и соглашалась; сперва она хотела, чтобы Бу вернулся, — я с ней согласилась, но напомнила, что она и одна не пропадет, потом она хотела, чтобы Бу не возвращался, и осыпала его проклятиями, я опять с ней согласилась и напомнила, что ей пригодится ее самостоятельность, на это мне было сказано, что я ничего не понимаю. Карин упала в колодец, и, прежде чем она выкарабкается, она не раз сорвется обратно. Однако переехать к нам она отказалась, ей хочется быть дома, когда он вернется. И ни Стуре, ни я не можем бросить ей веревочную лестницу.
Летом, как всегда, у Гун нашелся повод пить больше, чем обычно. Началось это после того, как ее навестили прежние друзья. Она сказала, что к ней приедут гости и что она этому очень рада, правда рада. Однако ее больше радовала мысль об их приезде, чем сам приезд — с его приближением Гун все больше нервничала. Она обдумывала, чем их угощать, будет ли это ленч или обед, я по ее просьбе купила продукты, и сама она тоже купила «кое-что» — на всякий случай я спросила, действительно ли нужно «кое-что», ведь они приедут на машине. Может, они предпочтут кофе? Кофе! Она возмутилась так, как будто я предложила поить их навозной жижей. Наконец гости приехали, правда совсем ненадолго; Гун, воспользовавшись случаем, основательно подкрепила свои силы, и потому они отбыли еще раньше, чем предполагали. В ней всколыхнулось одиночество, тоска и покинутость, она вспомнила все, что потеряла. У нее не хватило духу спросить про Харальда, но мне гости рассказали, что живет он хорошо и души не чает в своих сыновьях. Грех не порадоваться за него; я обычно рассказываю Гун всякие новости, но стараюсь выбрать удобный случай, только трудно сказать, какой случай окажется удобным. Если она в это время трезвая и уравновешенная, мой рассказ может выбить ее из колеи, а если она в это время пьет, запой может затянуться. С ней никогда не знаешь, чего ждать.
Однако, когда ее бывшие друзья уехали, я не выдержала. Я рассказала ей про Карин, чтобы объяснить свою усталость и чтобы она поняла, что ее близким тоже бывает несладко, но предугадать реакцию Гун невозможно. Она может проникнуться жалостью к Карин и начать пить из одного только чувства сострадания, а может обидеться, что я думаю о Карин больше, чем о ней.
Живет Гун, как говорится, не бедствуя, но в сердце-то у нее — беда. Даже при благополучии беда закрадывается в сердце. И с нею приходится считаться, как со всем остальным.
Когда у Гун плохой день, я, вернувшись с работы, собираю поднос и иду к ней. Обычно я пою ее бульоном, как будто ухаживаю за мамой. Но только как будто. Оба случая достаточно безнадежные, но безнадежность мамы в том, что ее дорога все сужается, и это естественно. А Гун не может и не хочет сделать над собой усилие. Дорога-то перед ней открыта, но она не хочет идти — она хочет парить.
— Я больше не выдержу, — заявляет она. — Ради чего мне жить?
— Я бы тоже не выдержала, если бы жила так, как ты, — говорю я.
— Обо мне никто не думает. У тебя-то есть Стуре.
— А ты о ком-нибудь думаешь? Только о себе.
— Проклятая страна. Никакой свободы. Я скоро уеду отсюда. Ты даже не знаешь, как прекрасна Греция, там все такие добрые. Милые. Уеду. Переселюсь в Грецию, сниму квартиру. И заберу свою мебель. Можешь снова здесь гладить.
— Я теперь глажу на кухне.
— У меня есть рекламный проспект… Маленький городок в Греции.
— Выпей бульона, пока горячий.
— В Швеции можно жить только летом. У тебя нет поильничка?
Я даю ей поильник, который стянула в больнице.
— Угораздило меня застрять в этой дыре. Ведь ты знаешь, я никогда не любила Гудхем.
Я сижу у ее постели и грею ладонями чашку с бульоном, чтобы он не остыл. Гун пьет маленькими глотками.
— Мне жалко папу, Господи, как мне его жалко! А маму я никогда не любила.
Она крепко сжимает мою руку, по-настоящему крепко, несмотря на свою слабость.
— Почему ты не любила маму? Ты же была для нее светом в окошке. Сделай еще глоток.
— Она обижала папу. Я любила Харальда. И сейчас люблю. Я хочу уехать отсюда. Уеду в Грецию и заберу с собой мебель.
— Хорошо-хорошо, ты уже говорила.
— А сюда буду приезжать в июне, в июле. Какая холодная страна! Холодная страна и холодные люди. А там меня будут любить, там все друг друга любят. Они обо мне позаботятся.
— Не столько о тебе, сколько о твоем кошельке.
— Ты жестокая. Ты не любишь людей, а я люблю. Я родилась, чтобы жить на солнце. Я орел, а ты воробей. Я хочу парить в вышине. А ты любишь землю.
— Правильно, я люблю землю. Ты бы видела, как вчера вечером дорога блестела после дождя.
— В Греции ездят на ослах. На маленьких хорошеньких осликах. А какие там мужчины! Особенно на Родосе. Я могла бы влюбиться в каждого. Там был один шофер… За день до свадьбы с Харальдом я спала с другим. Тебя это шокирует? Ты, ты…
— Ну — кто же я?
— Ты сухарь. Все шведы — сухари. А во мне бурлит жизнь.
— В Гудхеме тоже бурлит жизнь. Пей, осталось совсем немножко.
— Я его ненавижу, этот твой Гудхем! Ясно? Пойми ты это, наконец! В сентябре я буду уже в Греции.
Она сползает с подушки, натягивает на лицо простыню и плачет безутешными слезами, я не первый раз вижу их, но мне всегда становится больно.
— У меня ничего нет, ничего, а ты такая черствая. Почему ты такая черствая, я хочу умереть. Я уеду, уплыву в море и исчезну. Я хочу исчезнуть…
— У нас за углом озеро. Чтобы утопиться, незачем ехать так далеко, дешевле и проще сделать это здесь.
— Так ты этого хочешь? Господи, как у меня болит живот!
— Это же ты сказала, что ты хочешь…
Я ухожу развести ей лекарство, она, как и Аллохол, страдает изжогой. У нее по подбородку стекает струйка воды, я ее вытираю. Потом укрываю Гун еще одним одеялом и надеваю носки на ее остывшие ноги. Она не видит смысла в жизни и хочет умереть, но просит лекарство от желудка и, если простудится, выпьет кипяток с медом. Прежде чем уйти, я в открытую ищу у нее бутылки, но делаю это не слишком старательно и ничего не нахожу.
— Я пойду поем и скоро вернусь. Спи.
— Ты вернешься?
— Да, непременно.
Я укутываю ее поплотнее, глажу по лбу. Через несколько минут она вскочит и снова начнет ходить. Ее вечера и ночи — это бесконечное хождение, душевная тревога поднимает Гун с постели, в которой ее подстерегает страх. Ее орлиная страсть к полету лишена силы, каждый раз Гун больно ударяется о землю. Она пытается парить, но не может подняться выше самой себя. Гун устала воевать сама с собой. Вести эту изматывающую окопную войну. Неудивительно, что в своем окопе ей хочется иметь двухкомнатный номер с баром, ванной и видом на море.
Мне незачем жить, сказала Карин по телефону, надеюсь, дети этого не слышали. Нет, пожалуй, она сказала, что у нее нет сил жить. Надеюсь, Енс не слышал. Он может услышать такое по телевизору, но от собственной матери… Вот если бы всех, кто надумал разводиться, подержать какое-то время в специальном лагере вместе с их детьми. Пусть бы мужчины жили отдельно от женщин и каждый день могли бы слушать, как их сотоварищи поносят своих жен за то, какими они были или какими не были, какие они плохие и как с ними невозможно жить; так же и жены пусть бы объяснили друг другу, какие плохие у них мужья и лучше утопиться, чем жить с ними. А по субботам родители могли бы встречаться с детьми и угощать их сосисками и мороженым. И пусть бы там устраивались многолюдные собрания, на которых любовники и любовницы отвечали бы со сцены на любые вопросы и объясняли свою точку зрения. И никаких государственных субсидий или коммунальных сборов, все должны оплачивать сами разводящиеся — стоит, наверное, чем-то пожертвовать ради того, чтобы освободиться от ведьмы жены или мерзавца мужа. И если после такого испытания они все-таки захотят развестись, никто не станет чинить им препятствий. Есть, правда, риск, что папы и мамы, вкусив прелесть свободы от заботы о детях, откажутся потом брать их к себе, это вполне возможно, я знаю.
Стуре нажарил картошки с мясом, на это он мастер, и теперь делает омлет. Он обжаривает его с обеих сторон. Ёран и Ингрид предпочитают жарить омлет с одной стороны, возможно, это интеллигентнее, но не так вкусно; я сегодня зла на всех и вся. Я быстро надеваю ночную рубашку, накидываю сверху халат и — как хорошо, мне останется только поужинать и почистить зубы. Мы выпиваем по рюмочке, и бутылка остается на столе — сегодня Гун к нам уже не спустится. Я спрашиваю у Стуре:
— Ради чего ты живешь?
Стуре перестает жевать и смотрит на меня, оторвавшись от своих мыслей.
— Это ты меня спрашиваешь?
— А кого же, здесь больше никого нет.
— Ради чего я живу? Именно я? Не знаю. А зачем тебе?
— Просто так. Сидела и думала об этом.
Стуре вопросительно поднимает глаза на потолок.
— Это она сказала, что ей незачем жить?
— Не только она. Карин тоже, и Бу.
— Н-да, — Стуре вздыхает. — Чуть что застопорилось, так им уже все кажется бессмысленным. Не знаю, ради чего я живу и нужно ли вообще жить ради чего-то. Никогда об этом не думал. Об этом размышляют, когда уже совсем не о чем думать. Пойду включу телевизор, принеси кофе в гостиную.
В вечерних новостях, как всегда показывают разных людей: и тех, которым есть ради чего жить, и тех, которым — нет. Каждый вечер мы видим на экране пылающий мир. Каждый вечер нас пронзает тревога, тревога за всех, но мы все-таки далеко от этих событий, а каково смотреть на это их участникам? Могут ли они вот так в халатиках пить кофе, как мы? Многотысячные демонстрации на улицах, бомбы, подложенные в автомобили, пожары, перепуганные окровавленные люди, бегущие с детьми на руках, где они проведут эту ночь? При Карле XII воевали благородно, а теперь действуют бандиты и наемные убийцы, молодые парни прячутся с гранатами и автоматами за углом. Потом они расходятся по домам, если только у них есть дом, или отправляются в свою компанию идеалистов, очень довольные, что им удалось убить гада капиталиста, который уже имеет столько, сколько, по их мнению, должны иметь все, и потому должен заплатить за это своей жизнью, или радуются, что им удалось спалить целый квартал, где живут люди, которые неправильно верят в Бога. С их точки зрения, это достаточный повод. А кто виноват с точки зрения Господа Бога? Он-то наверняка думает о нас, хотя мы имеем о нем весьма смутное представление, как о дедушке, которому нужны только псалмы повеселее, этакие песенки, про которые я уже не могу с уверенностью сказать, псалом это или шлягер. Но как же выдерживают они, эти бедные люди? Где они берут силы, чтобы жить? Уж если кто может сказать о себе, что ему незачем жить и что у него больше нет сил, так это они. И ведь действительно они не выдерживают, поэтому и бегут. Наш богатый мир полон бездомных.
— Ради чего я живу? — вдруг повторяет Стуре посреди программы. — Скорее всего, ради того, чтобы жить и выполнять то, что мне назначено. Большего, наверное, и нельзя желать? Жизнь сама все решает. Да-да, именно так, жизнь сама все решает.
Вечерние новости окончены, но мы не выключаем телевизор — хотим посмотреть передачу о рыбах Амазонки.
Рыбы очень красивые, как будто нарисованные, и птицы тоже. Но в джунглях скрывается целый оркестр, даже орган играет за лианами, не говоря уже о гитаристе, сидящем на дереве, и мы выключаем телевизор. Однако остаемся в гостиной. Гун бродит у себя наверху, и я напряженно вслушиваюсь, не упадет ли она — нет, как будто обошлось.
— Я тут случайно встретился с Эрнстом, — медленно произносит Стуре. — Сперва мы об этом не говорили, но потом я сказал: жаль, что все так получилось. Он сначала вроде как не понял, о чем это я толкую. У детей наших дела плохи, говорю я. А, да-да. Ты бы посоветовал Карин поменьше скандалить и придираться к Бу, кто же такое выдержит, и так он сколько терпит. Терпит, говоришь? И потому купил жалюзи другой женщине, только вот расплатиться позабыл. И новую машину себе купил тоже поэтому? Наверное, его подруга боится дневного света, иначе зачем ей жалюзи? Ты, говорят, ее видел? Но Эрнст сказал, что она вообще ни при чем, она только поддерживает Бу.
Она, мол, не имеет ни к чему отношения.
— Господи Боже мой!
— Да-а. Я прятал руки в карманах, чтобы не врезать ему. Только сказал: чего ждать от твоего сына, если ты сам такой болван. Повернулся и ушел, иначе не знаю, чем бы все кончилось.
— Что же нам делать?
— Нам? Ничего. А что мы можем сделать? Пусть сами разбираются. Ну, можно ли быть таким болваном? Говорит, нужно доверять друг другу.
— Доверять! — фыркаю я, вскакиваю и начинаю ходить. — Доверять! Полагаться! Дичь какая-то, глупость! Хотела бы я посмотреть на директора банка, который примет деньги от кассира, не считая, поскольку кассир ему сказал, что тут примерно столько, сколько должно быть. Или крупный бизнесмен! Заключает сделку без всяких договоров: мол, я вам полностью доверяю, нужно полагаться друг на друга! Или, скажем, тебе предстоит удалить аппендикс и хирург говорит: мы вам, конечно, сделаем эту операцию и все будет в порядке, правда, я никогда раньше аппендиксов не удалял, но не сомневаюсь, что все обойдется, положитесь на доктора. Все знают, что так не бывает, что на работе такой номер не пройдет, а вот дома — пожалуйста: доверяйте, и точка.
— Ну-ну, не заводись.
— Не заводиться? Да мне плакать хочется! Если бы все действительно было так просто: доверяй, и все будет хорошо. А почему тогда в раю с самого начала уже был змей? Да для того, чтобы человек был начеку, чтобы смотрел себе под ноги, когда идет.
— Но, по-моему, он сидел на дереве, этот змей, так, во всяком случае, его изображают.
— Он мог быть где угодно. А как Адам и Ева воспитывали своих детей, если Каин в конце концов убил брата? Этот Авель наверняка считал, что на Каина можно положиться, ведь так учила мама!
— Значит, ты никому не доверяешь? — ехидно спросил Стуре. — И потому ты дала в долг Густену? Правда, я слышал, что он уже вернул тебе деньги.
Не знаю, побледнела я или покраснела, но с моим лицом что-то произошло, это точно.
— Так ты знаешь? А… А кто тебе сказал?
— Сам Густен. Он еще с одним маляром ремонтирует у нас кабинет. Густен со мной едва поздоровался, и я спросил у него, чем он меня обидел, что не здоровается — он ведь всегда так, ты его знаешь, — и тут его прорвало: проклятые родственники, устроить такой шум из-за пустяка. Не думал, Стуре, что ты так плохо зарабатываешь, не мог два дня перебиться без этих денег. Он нарочно говорил громко, чтобы все слышали. Ты верен себе, только и сказал я ему. Сколько хоть он был должен?
— Десять тысяч. Я уже положила их в банк, но тысячу из них отдала Карин. Стуре! Мне очень стыдно. Такая дура. Поэтому я ничего тебе и не сказала, знала, что сглупила.
— Успокойся, ведь все обошлось. Если бы еще и мне вернули долг. Полгода назад Бу попросил у меня взаймы, чтобы погасить проценты и на машину — в старой мотор отказал, но Карин про это ничего не знала, и мне тоже вроде следовало молчать. Однако я сказал, что даю ему деньги только ради нее. Глаза у него так и сверкнули.
— Ха! Значит, мы оба с тобой дураки.
— Выходит, что так.
Мне это очень нравится. Если другой совершил такую же глупость, как ты, то она уже и не кажется глупостью.
— Можем открыть клуб дураков, — говорю я.
На этом наш день был закончен, но, прежде чем лечь, мы постояли на веранде и послушали стрижей, которые гонялись за насекомыми и криками благодарили за обед. А потом я попыталась выгнать большую синюю муху, которая летала по спальне, точно бомбардировщик с пьяным пилотом. Мне показалось, что я убила ее, но утром муха ползала по полу с поврежденным крылом. Я помогла ей расстаться с жизнью — надо быть гуманным. Аборт на заре жизни, если кто-то захотел явиться некстати, и гуманное убийство всех, кто уже ни на что не годен, — в конце. Скоро из нас из всех сделают удобрение.
22
Каждое воскресенье, в любую погоду, мы ездим в лес. Стуре — потому что он жить не может без леса и без движения, я — потому что слишком много сижу и потому что тоже люблю лес. Мы садимся в машину, и Стуре везет меня на какое-нибудь место, которое он хотел посмотреть сам, или туда, где можно будет в свое время набрать брусники или лисичек. Когда наступает пора, я собираю их вместе с Дорис или с девочками из нашего центра. Сам Стуре не ездит с нами — не хочет собирать ягоды на чужой земле, он бы со стыда сгорел, если бы там вдруг появился хозяин, а женщинам это не страшно. Но он никогда не берет меня на вырубки, где от прежних красавцев осталась только груда хвороста, там мы никогда не поймем друг друга. Теперь мы даже не разговариваем об этом, такой разговор всегда оканчивается ссорой.
Иногда мы берем с собой в машину велосипеды, а вообще-то по округе мы любим просто ездить на велосипедах. Стуре всегда впереди на своем старом черном велосипеде, который остался у него с детства и на котором прежняя только рама. Все остальное пересажено — он так говорит нарочно, чтобы подразнить меня. Пересаживай на здоровье, говорю я, лишь бы ты не крал детали и не требовал, чтобы прежние владельцы этих деталей погибли в дорожных авариях. В одной из статей, что вывешивает Биргитта, как раз говорилось, что жертвам аварий приходится расставаться со всеми своими органами. И поэтому врачи перестали выступать за ограничение скорости на дорогах.
Сперва мы едем по проселку, это неизбежно, куда бы мы ни направлялись. Стуре никогда не говорит, куда и далеко ли мы едем, но я держусь за ним, как будто мы на тандеме, хотя у каждого из нас свой велосипед. Просто мне нравится быть сзади, следить лишь за тем, чтобы не наехать на Стуре, а в остальном глядеть по сторонам и думать о своем. Я всегда предоставляю Стуре выбирать путь, и ему это нравится.
Около двух часов дня мы пускаемся в путь, жарко, и наши куртки прикреплены к багажнику. Спина Стуре в ковбойке то поднимается, то опускается над рамой, когда дорога идет вверх, — на какие-то высоты мы в силах взобраться на велосипедах, а где-то приходится идти пешком и вести велосипеды за руль, но до этих подъемов еще далеко, пока дорога лишь слегка волнится на подступах к тому холму, который мы себе наметили. Дорога, и особенно старая, как та, по какой мы едем, всегда очень красива. Она струится, как музыка, как вальс с плавными поворотами вокруг полей и домов, то вниз, то вверх, как сама жизнь. Ведь и жизнь идет сперва вверх, потом вниз, потом опять вверх. Наша жизнь, по которой мы со Стуре едем тандемом. Среди других тандемов и одиноких велосипедистов.
Через телескоп все может показаться очень мелким. Но если смотреть через телескоп на землю или на собственную жизнь, можно и в канаву угодить. Дома я часто слушаю радио, по радио выступают люди, которые живут в далеком мире, их мир гораздо больше, чем мой, иногда я чувствую к ним зависть, а иногда страх, когда подумаю, насколько необъятен их мир и насколько богаче их жизненный опыт. А мы крутимся здесь, на нашем пятачке, я знаю каждого человека в этой коммуне, которой суждено было оказаться моей. Стуре, кроме людей, знает еще каждое дерево, но как это ничтожно мало по сравнению с теми, кто раз в неделю бороздит небо над планетой. Я имею в виду не туристов, которые возвращаются в свой дом такими же, какими покинули его. Дочь Гунхильд, та, что работает в киоске и путешествует на деньги матери, побывала во всех странах Европы, но умнее от этого не стала. Я имею в виду тех людей, которые могут прочитать лекцию на любую тему, и, может быть, прежде всего международных корреспондентов. Интересно, позволяет ли им их работа по-новому взглянуть на свою жизнь? Правда ли, что собственная жизнь приобретает иной масштаб, если сравнить ее со всем, с чем они сталкиваются? А собственные беды блекнут по сравнению со вселенскими? Может, этим людям легче забыть про свои невзгоды, которые и невзгодами-то не назовешь в охваченном огнем мире? Вроде моих невзгод, например, — давшей трещину жизни Карин или Гун, которой не поможет ни искренность, ни любовь, ни чашка бульона, ни дружеская рука? Или моего собственного отвращения к жизни, скорее даже не отвращения, а разочарования? Я не знала этого разочарования, когда была моложе, но теперь оно не покидает меня. Может, так и должно быть? Может, жизнь вовсе не праздник, как кажется в юности? Нет, в определенном смысле она все-таки праздник, только не бесплатный, а складчина. Угощение и одежда у каждого свои. Человек — не лилия полевая на земле и не птица небесная.
Мы едем вниз по длинной извилистой дороге, словно спускаемся в дивном танце, и там, внизу, перед новым подъемом, как всегда, останавливаемся и смотрим на водопад. Небольшой мост, перекинутый через узкий конец озера, неподвижная вода. Темная вода, она кажется коричневой из-за густых деревьев. Это с одной стороны моста. А с другой стороны все иначе. Ширины моста достаточно, чтобы неподвижная вода с плавающими кувшинками превратилась в хрустальный водопад. Кажется, что здесь одна за другой падают вниз дворцовые хрустальные люстры, светлые кристаллы сверкают, как звездный дождь. Им нет конца. Но у самой земли с кристаллами происходит новое превращение — они сливаются в узкий мелкий ручей, который, по-видимому, даже не подозревает, откуда он взялся и чем был еще совсем недавно или давно. Он точно бабочка, вылупившаяся из кокона. Не знаю, о чем мне это говорит и говорит ли вообще, но я не могу проехать мимо, не остановившись, чтобы посмотреть на неподвижную гладь воды, на падение хрустальных люстр и на маленький поток, который устремляется к другому озеру. И если я о чем-то думаю, глядя на это, так только об одном: удивительно, как жизнь преобразует смерть.
Дальше дорога круто поднимается в гору, и мы катим наши велосипеды рядом с собой, потом дорога спохватывается и вновь ведет себя смиренно, с земли поднимается терпкий коровий запах. Рядом с дорогой на вкусной и сочной траве лежит буренка, вероятно, ее замутило от этого изобилия. Стоит, сбившись кучками, черно-синий водосбор. Стуре что-то кричит мне и показывает на землю; подъехав к нему, я вижу в траве раздавленную гадюку. Всегда интересно смотреть на гадюку, эту грозу деревенских дорог, но жалости, как при виде барсука, не возникает.
Жизнь — это праздник-складчина, только куда при этом девать тревоги и разочарования? И как избавиться от беспокойства, что на твою долю досталось слишком мало угощения? Деликатесов, которые тают во рту, и других лакомств — разве что чуть-чуть. А чего, собственно, мы ждем? Чтобы в рот полетели бутерброды, жаворонки с неба? И чтобы дорога шла только под гору или ровно, без крутых подъемов? Если так, то ошибка кроется не в жизни, а в наших ожиданиях — просто мы не разобрались, в чем дело. Но почему? Ведь жизнь каждый день учит нас уму-разуму.
Если нет надежд, ложных и несбыточных, тогда легко избежать и разочарований, а ведь именно они причиняют самую острую боль. Никто не хочет, чтобы его праздник омрачался болью, но от судьбы не уйдешь, поэтому не удастся избежать ни крутых подъемов, ни страданий. А загвоздка вся в том, что страдать не хочет никто. Каждый уверен в своем праве на счастье, поэтому ищет его, подстерегает, ждет, но вместо него находит только страдание, или страдание находит его. Впрочем, немного счастья тоже выпадает на его долю, а иногда не так уж и мало, если быть честным; тут важно, с кем и с чем сравнивать. И все же мы опутаны, связаны болью и разочарованием. Сколько узлов нам приходится распутывать прежде, чем удается добраться до главного, какое мучительное это занятие! И что же в итоге представляет собой это «главное»?
Тут живут дачники: вокруг зонты, гамаки, машины, укроп, салат, клумбы с цветами, транзисторы, и по крохотному палисаднику ходит совершенно голая женщина с лейкой. Мы ее знаем, она приезжает сюда уже несколько лет и каждый раз с новым мужчиной, я машу ей, она — мне, но Стуре не машет — ее вид его ошарашил. Она была замужем, потом развелась, потом жила с кем-то еще, у нее не разберешь. Однажды я ходила за ягодами и встретила ее в лесу; я сидела на камне, и она меня не видела, но, когда я встала, она услыхала шум и чуть не упала в обморок: Господи Боже мой, я думала, это лось, сказала она, побелев, как бумага.
В том загоне раньше были овцы, это видно по колючей проволоке. Она вся в клочьях шерсти, как будто на веревке сушится кукольная одежда. Но теперь здесь пасутся коровы. Стуре остановил свой велосипед и тихонько поманил меня рукой, я подошла и увидела, как телится корова. Она отошла от других коров, и те, поняв, в чем дело, оставили ее в покое. Корова встала у кустов, и под хвостом у нее, словно маленькое облачко, вздулся блестящий кровавый пузырь. Она медленно изгибалась и перебирала ногами, а мы не отрывали от нее глаз. Я глянула на Стуре, он смеялся. Ласково и восхищенно, но при этом с присущей мужчинам сдержанностью. Я видела однажды, как Хеннинг, когда у него телилась корова, ходил по скотному двору и украдкой на нее поглядывал, словно боялся, что его взгляды ей помешают, он смотрел как специалист, и все же в его глазах была нежность. Не знаю, почему считается, что мужчину интересует только кошелек и его собственные дела; кошелек, правда, бывает не у всех, но лучше, если он есть. Корова легла тяжело, словно опрокинулся дубовый стол, и тут же появился теленок — корова родила облако, в котором кто-то был. Стуре откашлялся и сплюнул в песок. Мимо прогрохотал грузовик с двумя пустыми прицепами для бревен, и, когда пыль улеглась, мы увидели, что корова уже стоит и облизывает черно-белого теленка, который еще ничего не понимает. Мы знаем, чьи это коровы, сейчас мы проедем мимо дома их хозяев, но я прошу Стуре ничего не говорить им: может, корове посчастливится и теленок останется с нею на всю ночь. Несправедливо, что коров сразу же разлучают с телятами.
И снова мы едем: Стуре — впереди, я — сзади. Мы съезжаем с холма, встречный ветер так силен, что воротничок блузки хлещет меня но горлу, блузка надувается — я сегодня без бюстгальтера, и мне очень приятно. Карин и Бу вряд ли будут вместе ездить на велосипедах, когда достигнут нашего возраста. Жаль. Бу будет кататься с Сив, Карин тоже, вероятно, найдет себе другого, но это будет уже не то. Ты любишь музыку? В общем, да. Ты ешь чеснок? Да, только немного. Не говори так с моими детьми, они к этому не привыкли! И так до бесконечности. Его старая жена, ее новые свекор со свекровью, его дети в первую очередь, нет, мои дети в первую очередь. И где она вообще кого-нибудь встретит, если она продолжает сидеть днем с детьми. Ей надо начать бегать или записаться в какой-нибудь клуб. Впрочем, это она решит сама. А Бу, конечно, захочет встречаться с детьми, он все-таки отец, правда, еще неизвестно, есть ли у него отцовское чувство. Остается ли отцом тот, кто покидает корабль с детьми? По крови он им отец, но кто знает, готов ли он выполнять родительский долг? Для меня слово «отец» означает прежде всего того, кто всегда рядом, под рукой. Ладно, все это не моя забота, им распутывать эти узлы, им страдать.
А со мной всегда мои вехи и то «главное», которое мне в конце концов открылось. Мне бы и в голову не пришло, что оно существует, по крайней мере в моей жизни, однако я заплатила за то, чтобы узнать это. И теперь я знаю, это «главное» есть; оно как особый мир внутри меня, но как трудно его осмыслить. Если бы меня стали спрашивать: ну и что же ты в итоге узнала? Как, скажите на милость, мне объяснить все это?
Мы подъезжаем к продолговатому лесному озеру, которое блестит за березами. Несколько лет подряд мы собираем на его дальнем берегу морошку, почти всюду берега озера болотистые и мшистые, и по ним пройти невозможно, даже большие кочки не выдерживают тяжести человека. Но рыба здесь плещется, Стуре считает, что это плотва, караси и лини — они родились и всю жизнь провели в этом своем питомнике, только как они сюда попали, ведь озеро болотного происхождения? За озером есть незаметная тропинка, ее разглядит только тот, кто про нее знает. Стуре сворачивает на эту тропинку. Ехать по ней — все равно что ехать по узкому ремешку. Теперь я знаю, что на уме у Стуре — тропинка ведет к Хеннингу и Дорис.
На этой тропинке не до размышлений, тут можно только ехать, да и то с трудом. Сплошные камни и корни, того и гляди потеряешь равновесие. Стуре укатил далеко вперед, ему весело, у него еще остались мальчишеские замашки. Сейчас мне не до леса, я смотрю только на землю под колесом, а ведь здесь чудесный бор, весной я в этом бору собираю сморчки.
И снова заросшая дорога, тихая, безлюдная, хоть ложись и спи на ней ночью. Кругом клены, дубы, березы, летом красиво, а зимой лучше в хвойном лесу. Весной здесь под деревьями много незабудок и ландышей. Жарко, рубашка Стуре потемнела от пота. Мне нравится запах его пота, и моего — тоже, свежий пот хорошо пахнет.
Так что же я отвечу, если меня станут спрашивать, что я узнала? Отвечу так: пусть я жалуюсь, что многое на свете причиняет страдание, зато я не жалуюсь, что мне пришлось его изведать, потому что без этого я не была бы собою. Это я скажу для начала. Когда Ёран проводит свои исследования, составляет отчеты и чертит графики различных несчастий, то в них речь идет только о самих несчастьях и ни слова об их возможных последствиях. Это неправильно, но в сферу исследований последствия не входят, потому что это внесло бы в них нечто личное, а ученых интересуют только проценты.
— Гляди! — кричит Стуре. — Ястреб-тетеревятник!
Нет, к сожалению, я его не видела… Ни один социолог не может сказать: радуйтесь, что у вас все так плохо, от этого умнеют. Нельзя в конторе по социальной помощи повесить табличку с надписью: «Не лишайте людей их страданий».
И себе я этого не говорю, разве что скажу, когда все уже будет позади. Я стараюсь избегать разочарований, но безуспешно. Наверное, я бессознательно все время чего-то жду, если так часто меня постигают разочарования.
Может быть, это объясняется тем, что жизнь, какой бы трудной она нам ни казалась, хочет заставить нас отказаться от этих бессознательных ожиданий? Вера не защитит. Мы рождаемся с грузом веры, она необходима нам, пока мы не поймем, что почти ни во что верить не стоит. И когда мы наконец вылупимся из яйца, в котором сидели вплоть до сорокалетия, то уже все остальное время будем учиться понимать. Вера так дорога всем, потому что приятна и удобна. Приятно и удобно верить в добро, в человека — потому и трудно поверить тому, что верить вообще нельзя. Мы отдаем сто процентов веры и любви и еще Бог знает чего и считаем, что чисты сердцем, если верим в человека, в добро, — но когда все, во что мы верили, рухнет, мы будем плакать, что нас обманули и предали. Однако своей вины в этом не увидим. Один должен платить за то, что удобно другому. За удобство всегда нужно платить. Карин неудобна, она полагается на Бу больше, чем на самое себя, но каждый должен сам нести бремя своей жизни. Я бы не хотела взвалить на Стуре свое бремя, оно мне дорого, оно — мое.
Но я знаю, что я пыталась это сделать. Когда совершил много ошибок, благо состоит в том, что в следующий раз узнаешь их по запаху. Нельзя погрузить автомобиль на велосипед, а потом сокрушаться, что велосипед сломался. Примерно так я всю жизнь относилась к матери. Мне так хорошо с нею теперь, потому что я принимаю ее такой, какой она была и есть. А не такой, какой мне хотелось бы ее видеть. Как много этого «хотелось бы» стоит между Карин и Бу. С обеих сторон. Они уцепились за это «хотелось бы», а не за то, что есть. И горько разочаровываются.
Я чувствую себя такой мудрой, сидя в седле велосипеда, — во всяком случае, у меня есть все основания так думать, — словно у меня с глаз спала пелена. Так бы ехать и ехать навстречу ветру! Если уж пелена рано или поздно должна упасть, то нужно и самому стараться от нее избавиться, это нужно иметь в виду. Когда вас постигнет очередное разочарование, вспомните: вот, опять с моих глаз спадает пелена — и скажите: слава Богу! Страдая, вы избавляетесь от пелены. И утешайтесь тем, что это избавление помогло вам лучше узнать и себя, и других.
Я отрываю взгляд от дороги, уж очень здесь красиво. Синие горы окружают озеро. Оно блестит, словно на дне голубой чаши. Эта красота делает меня такой богатой! Просто неслыханно богатой.
Дорис и Хеннинг не видели и не слышали, как мы подъехали, ведь мы были на велосипедах, поэтому Хеннинг не успел встать с дивана — он отдыхал после обеда, сегодня как-никак воскресенье. Он так и остался лежать, только приподнял голову и махнул нам рукой, и все; я улыбаюсь ему, он — мне, и только мы вдвоем понимаем смысл этой улыбки. Из спальни приходит Дорис, она тоже отдыхала. Дорис причесывается и зевает, кажется, будто дом уже не может вместить в себя весь этот воскресный покой. Мы садимся на кухне, на столе лежит наполовину разгаданный кроссворд и тупой карандаш из Профсоюзного банка.
— Решили завернуть к нам? — спрашивает Хеннинг.
— А мы вот лежали, — говорит Дорис. — Хотите кофе, еще горячий?
Стуре от кофе никогда не отказывается, но я не пью. Хеннинг спрашивает, не хочет ли Стуре добавить кое-что в кофе, но прежде чем Стуре успевает ответить, вернее, радостно улыбнуться, словно это для него неожиданность, хотя Хеннинг всегда предлагает выпить, как Дорис уже ставит бутылку на стол.
— Знаете, что мы видели? — говорю я. — У Андерссона в загоне отелилась одна из коров, мы стояли и смотрели. Так интересно!
— А знаешь, что было в прошлом году? — спрашивает Хеннинг. — В прошлом году тоже одна из его коров отелилась в загоне, он отвел ее с теленком в хлев, но корова так металась, что он никак не мог понять, в чем дело. А на другой день он нашел в кустах другого теленка. Корова принесла двоих, двойняшек, как говорится, и этот теленок пролежал там всю ночь и весь день, почти до вечера, но ничего ему не сделалось. Я такого еще не слышал.
— Оставайтесь ужинать, — приглашает нас Дорис. — Вы же свободны? Ничего особенного у меня нет, но что-нибудь соображу. Оставайтесь!
— Когда Дорис обещает что-нибудь сообразить, это значит, что она приготовит запеканку, — говорит Хеннинг. — Смешает все, что у нее есть, и зальет яйцом, чтобы было непонятно, чего она туда напихала.
— Ничего подобного! Ты в мои дела не суйся, думай о своих!
Все вместе мы идем за коровами: их нужно пригнать домой. Хеннинг берет с собой собак: когда мы приехали, собаки были на скотном дворе, не то они бы предупредили о нашем приходе. Мужчины на велосипедах и с собаками уезжают вперед, мы с Дорис не спеша идем следом, далеко мы не собираемся, но погода прекрасная, и почему бы не прогуляться. Мы поднимаемся на пригорок и садимся на землю. Собаки лают одна громче другой, басовитый голос Хеннинга подгоняет коров, собак зовут Дорис и Улла.
— Как дела у Карин? — спрашивает Дорис.
— Что тут скажешь? — Я ложусь навзничь на траву, надо мной только синее небо. — Мучается и страдает. Хуже не придумаешь, разве что какая-нибудь серьезная болезнь. Впрочем, заболел так заболел, вроде и не виноват. Ведь никто не станет стыдиться того, что заболел. Но ее болезнь… Все пошло прахом, остались одни обломки, так ей по крайней мере кажется. Сейчас они хоть начали разговаривать друг с другом. Может, еще все наладится, ей-то очень хочется, чтобы наладилось, но с другой стороны, она хочет, чтобы он всю вину взял на себя. Знаешь, я думаю, что такое крушение было необходимо. Если они справятся с этим, то справятся и со всем, что их ждет в будущем, я так считаю. Вот только хватит ли у них мужества? Ты заметила, что теперь почти не говорят о мужестве? А оно необходимо, по крайней мере чтобы взглянуть на самого себя. Может, поэтому все и идет вкривь и вкось? К сожалению, мы понимаем, что все идет вкривь и вкось, только когда дело доходит до нас самих, поэтому я и считаю, что такое крушение было необходимо. Это вроде галочек на полях тетради, которыми отмечают ошибки. Возьми хотя бы Гун и меня. Без нее я по-прежнему была бы о себе лучшего мнения, чем следует. И возможно, в один прекрасный день очень разочаровалась бы в себе, а так я знаю, что я такое. Я говорю Карин: попытайся разобраться в себе и понять, чего ты хочешь, однако она может только ждать, что Бу сам все уладит. Вот так. Но ей, конечно, очень плохо. И плохо будет еще долго.
— Ты не говорила с Бу?
— Я его даже не видела. Но Карин запретила нам с ним разговаривать.
— Так будет лучше. Если разговариваешь с обоими, то и соглашаться приходится с обоими. Один ругает другого — ты поддакиваешь ему, потом поддакиваешь другому, ведь им нужно только одно: чтобы с ними соглашались. А кончится тем, что ты же и будешь виновата. Так было с Хелен и ее другом. Им, видите ли, обоим нужно было поговорить с нами, а мы знали, что виноваты оба, и потому соглашались и с ней и с ним. Хотя и не во всем. Потом они помирились, и теперь от них вот уже полгода ни слуху ни духу. Хелен нас же и упрекнула за то, что у нас не хватило ума не совать свой нос в их дела.
— Вот-вот. Я тоже сгоряча наговорила лишнего, но теперь буду молчать.
Дорис ложится рядом, мы с ней говорим о детях, о погоде, о мягкой траве, прислушиваемся к лаю собак, редким выкрикам мужчин и утробному мычанию коров.
— Интересно, — говорю я. — Я вот ехала сейчас и думала, что с годами все-таки немного умнеешь, только что это дает? Зачем это, если тебя все равно никто не слушает? Скажут тебе: ну, мама! — и все. И кто угодно, не только Карин, тоже будет думать, что ты ничего не понимаешь. Так что, если даже и станешь умнее, никакой радости ты от этого не получишь. Это все равно что домашняя карамель — никто, кроме тебя самой, есть ее не станет.
— Да-а, — Дорис глубоко вздыхает. — Кому ты рассказываешь! В лучшем случае у тебя спросят какой-нибудь рецепт или подкинут тебе детей, если вечером им надо уйти. Но даже в этом случае, когда им нужен рецепт или еще что-нибудь, они считают, что осчастливили меня своей просьбой, будто я старая собака, которую, по их мнению, нужно приласкать. Так что от моего ума мало проку. Уверена, что мои дети считают, будто я ничего ни в чем не смыслю.
Я молчу, и она продолжает:
— Возьми хоть Оссиана. Он всегда сердился, если Хеннинг с ним не советовался. А Хеннинг считает, что отец отстал от жизни и что он сует свой нос куда не следует.
— Господи, до чего мы договорились, — смеюсь я.
— Нас тут с тобой так и распирает от избытка ума, по крайней мере меня, я с весны даже два килограмма прибавила, а со мной советоваться не хотят. Кстати, вы сегодня слушали дневные известия? Передали, что схвачена банда, которая ограбила два банка и подожгла туристическое бюро, где погиб человек; грабителей было десять и все моложе двадцати лет. Какими бы мы ни были, но такими — никогда.
— Да, ужасно!
— Раньше мы ничего не запирали, ни дом, ни машину, ни хлев.
— Не говори!
— А скажешь им что-нибудь, они в ответ: теперь, бабушка и дедушка, другие времена. Что же это такое?
— А вот старая Грета из маминого отделения говорит, что только бабушки да дедушки остались такими, как были.
Впрочем, Грета не знает Магду и Эрнста.
— Все так, а что толку? В Южной Африке опять стреляли, убили восемь человек.
Я слышу Дорис сквозь дрему, у нее такой серьезный, глубокий голос. Греет солнце, и я распахнула блузку, чтобы грудь тоже дышала. Да, моя обретенная с годами мудрость — это не более чем хвойная иголка, которую муравей тащит для плотины, чтобы помешать наводнению. Однако наводнение бушует повсюду, оно затягивает в свой водоворот всех и вся. Бороться с ним — все равно что плевать против ветра, по выражению Ольссона Аллохола. Неужели человечеству необходимо пройти через весь этот ад, чтобы извлечь для себя какой-то урок? Раньше эти уроки не помогли, мало надежды, что и теперь помогут! Неужели требуется такое сильное средство, как гибель половины человечества, чтобы другая половина одумалась? Дети рисуют на своих картинках мир, а через два года идут на курсы каратэ, потому что их рисунки не помогают. Но что же помогает?
К нам подходят первые коровы, я застегиваю блузку и сажусь. Коров много, на дороге становится тесно. Они грузно ступают, неся тяжелое вымя, и таращатся на нас. Добрые буренки. Их рыжие спины текут, будто небольшая река. Господи, есть же еще такое старомодное существо, как корова, скоро, наверное, выведут огромную корову с сотней сосков, и будет в каждом хлеву стоять по одной корове, и Хеннингу уже не нужно будет ходить за ними на выгон. Неужели в самом деле есть какой-то смысл в том, чтобы все рухнуло в преисподнюю? Чтобы люди пожали то, что посеяли? Но только ведь никто не признается в том, что сеял. Никто. Все будут винить других. И даже если сильные мира сего договорятся, все равно бомбы ждут своего часа и какая-нибудь может взорваться, или произойдет то, что случилось на Украине, — а потом все только руками разводят: мы-то считали, что все это совершенно безопасно. Кто бы мог подумать, что так случится, во всем виноват какой-то болван. У нас есть расчеты и выкладки лучших экспертов мира, разумеется, мы им верили! Только вот будет ли у них возможность рассказать обо всем, во что они верили? Они, как упрямая старуха из сказки, утонувшая из-за своего упрямства, до последнего вздоха будут объяснять, что все казалось таким надежным, и размахивать расчетами, которые должны были всем гарантировать безопасность.
— Вот видишь. — говорит Дорис, — нам только и останется, что головой качать да сокрушаться: ну, что я тебе говорила? Но так или иначе, а на ужин у нас будут свиные отбивные, я их уже вынула из морозилки.
За коровами на велосипедах медленно едут мужчины, собаки, виляя хвостами, подбегают к нам, они так похожи, что я не знаю, которая из них Дорис, а которая Улла, но они недолго виляют хвостами — Хеннинг окриком возвращает их к коровам. Мы встаем — на том месте, где мы лежали, трава примята, я лежала на колокольчике. Он сломан, и я беру его с собой. Мы идем по песчаной дороге, пахнет коровами, песок изрыт их копытами. Стуре остается с Хеннингом в хлеву, где мычат коровы, а висящее там радио передает о требованиях увеличить заработную плату, об отсутствии гарантий и нищенском уровне жизни. Мы с Дорис идем в дом, в ногах у нас крутятся Дорис и Улла, сейчас мы будем готовить ужин.
Примечания
1
Смерть плода (лат.).
(обратно)2
Говорите ли вы по-английски? (англ.).
(обратно)3
Говорите ли вы по-немецки? (нем.).
(обратно)4
Говорите ли вы по-французски? (франц.).
(обратно)5
Неполное отслоение (лат.).
(обратно)6
Джентльмены! Вы хотели бы, чтобы вас навестила в вашем номере прелестная девушка? (англ.).
(обратно)7
«Мост над бурными водами» (англ.). Знаменитая песня американского рок-дуэта 60-х годов Пола Саймона и Арта Гарфункеля.
(обратно)8
Перевод Л. Вернского.
(обратно)9
Dasslokket — букв.: «Крышка унитаза» (норв.). Это кафе на главной улице Осло, Карл Юхан, находится над расположенным в подвале общественным туалетом.
(обратно)10
Гостиница и ресторан в центре Осло.
(обратно)11
«Если нет у тебя любви, крошка, не дари ее здесь» (англ.).
(обратно)12
«Я живу в счастливом неведении… Я живу враньем и обманом» (англ.).
(обратно)13
«Меня бросят… предадут… так и будет… Я живу в счастливом неведении» (англ.).
(обратно)14
Перевод Л. Вернского.
(обратно)15
Американская писательница (род. в 1929 г.), автор популярных «женских» романов.
(обратно)16
Сокр. от «Амалиенборг». Джаз-клуб и ресторан в центре Осло.
(обратно)17
«Если ты поцелуешь до завтрака живую лягушку, за весь день с тобой Уже не случится ничего хуже» (англ.).
(обратно)18
Респектабельный пригород Осло.
(обратно)19
Сельский район в долине реки Гломма.
(обратно)20
Куполообразные сооружения, которые лепят из снежков скандинавские дети, вставляя внутрь свечу.
(обратно)21
«Прекрасная танцовщица» (англ.). Ресторан и ночной клуб в одном из аристократических районов Осло.
(обратно)22
«Речи Высокого» — одна из песен «Старшей Эдды», древнеисландского сборника мифологических и героических песен, бытовавших в устной традиции у германских народов.
(обратно)23
Беременная (англ.).
(обратно)24
Ночной Гудхем (англ.).
(обратно)25
Kvarnström — мельничный поток (шведск.).
(обратно)26
Большое спасибо, со скрипом, но дела идут (нем.).
(обратно)

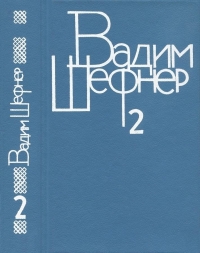

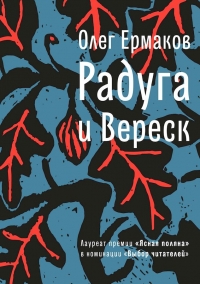

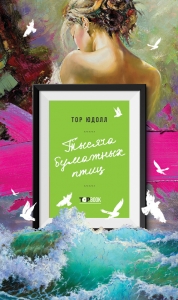




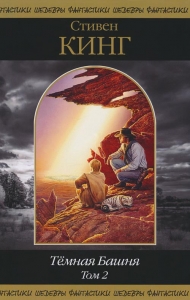
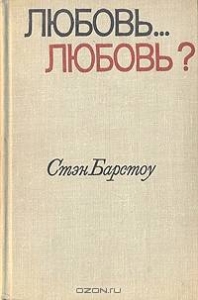

Комментарии к книге «Земные заботы», Деа Триер Мёрк
Всего 0 комментариев