Петр Муравьев Рассказы
Ход коня
Я должен был сделать этот ход; выбора у меня не было. И не потому, что не знаю других ходов, — отлично знаю: и прямые, и вкось; длинные — через всю доску, и короткие — в одну клетку, что предоставлены маленьким воинам, устилающим своими трупами поле шахматного сражения.
Но все эти варианты не для меня; я подчинен иной закономерности: две клетки вперед, одна направо или налево и… стоп! — ни шагу дальше! Любое нарушение такой последовательности — намеренное или случайное — привело бы к анархии, а я уж не раз бывал свидетелем того, как династии и королевства рушились из-за анархии, хотя, положим, не по одной этой причине. Вообще же, если начать серьезно размышлять об этом предмете, то увидим… Но — постойте! Куда это я понесся, словно позабыв, что длинноты губительны не только для сочинителя, но и для шахматного коня!
С этого, собственно, и следовало начать. Да, я шахматный конь — белый конь — так меня называют, хотя я не совсем белый, скорее желтый или кремовый — цвета кости, из которой я выточен. Возраст мой — почтенный, и имя знаменитого Калипсо, из-под резца которого мы вышли, давно предано забвению. Но я его хорошо помню; когда, созданный из мертвой кости, я ожил в своем совершенстве, дотошный мастер еще немало меня помучил, ковыряясь у меня в глазу, вздыбливая гриву и придавая мне горделивую осанку.
Что я понимал? Мне казалось, что он жесток, и только со временем я оценил его вкус и старания. Помню, однажды какой-то бледный высокий человек, увидев меня, воскликнул:
— Какая восхитительная работа!
Такая оценка вызвала бы дрожь умиления у кого угодно. Но я лишь снисходительно улыбнулся: этот человек не знал, что я и раньше был таким! И мой добрый мастер тоже не подозревал, что я лишь ожил под его резцом. Смею ли я роптать на него за это?
Как видите, признание вырвалось у меня само собой; искренность нередко становится игрою случая. Впрочем, я и не думал прятаться за шахматной доской; я лишь опасался, что чрезмерные подробности усложнят ход повествования. Но раз так получилось, извольте, я расскажу все сначала.
* * *
Итак, я не всегда был шахматной фигурой; когда-то я был настоящим конем.
Первые проблески памяти относятся к тому времени, когда я веселым жеребенком носился с табуном по зеленым лугам Ломбардии. Мать моя была сухопара и не очень красива, и только ее тонкие ноги выдавали знатное происхождение. Отца я долгое время не знал, но однажды мать, остановившись, с дрожью в голосе сказала:
— Вот! Это — он! — и указала головой в сторону белого коня царственной осанки.
Я тотчас сообразил, в чем дело, и с веселым ржанием устремился к родителю. Но как только потерся мордой о его шею, он фыркнул и, ухватив меня зубами за загривок, основательно потрепал, а затем, забыв обо мне, погнался за красивой серой кобылицей.
Тогда я понял, почему у матери были такие грустные глаза.
Больше я о нем не вспоминал, или нет, раз-таки вспомнил — это когда мать как-то, насмешливо посмотрев на меня, сказана:
— Чего горбишься? Или хочешь, чтобы тебя отдали в цирк? — И в ее голосе послышалась затаенная гордость.
Но цирк меня не интересовал, волновало меня другое. В то время я был уже взрослым конем, и в одной упряжке с матерью таскал большую нарядную коляску, набитую веселыми бездельниками.
И вот, помнится, путь нам преградила странная процессия. Впереди медленно-медленно двигалась черная карета, влекомая шестериком удивительных лошадей. Да разве это были лошади?! Нет, это были какие-то высшие существа, строгие, торжественные, покрытые донизу тяжелой черной парчой, с золотой бахромой, с золотыми же кистями по краям, и еще какими-то чудесными узорами. Пышные султаны украшали их головы, а ниже, сквозь узкие прорезы, словно из другого мира, смотрели невидимые, но всевидящие глаза.
И как они ступали! Медленно, шаг за шагом, словно не шли, а двигались по воздуху, так что легкое цоканье копыт казалось неправдоподобным. Толпы народа с непокрытыми головами сопровождали карету.
— Это похороны! Видишь — гроб! — шепнула мать.
— А эти, — мотнул я головой в сторону шестерика, — кто они?
Мать снисходительно улыбнулась.
— Это самые обыкновенные лошади, основательно разряженные…
Дальше я не слушал; я только подумал про себя, что женщины лишены воображения и многого не понимают. Вслух я ничего не сказал, да и мог ли я огорчить мою мать! — она тогда уже страдала одышкой.
Жизнь моя с тех пор превратилась в сладкий сон: день и ночь я грезил загадочными красавцами: я похудел и ослаб, и душистый овес, которым потчевал нас дюжий конюх, казался мне отрубями, что подмешивали к корму крестьяне.
Я был настолько увлечен мечтой, что и не заметил, как ушла моя добрая мать. Помню лишь, как сквозь сон, раннее хмурое утро; их было двое — конюх Марсель и еще кто-то — коренастый, в грязном кафтане, с круглой головой, спрятавшейся промеж плеч. Вид у обоих был заговорщицкий; они пошептались и подошли к матери. Коренастый осмотрел ее, ощупал круп и сказал равнодушно:
— Да, этой пора — и стал отвязывать повод.
По-видимому, мать что-то знала, чего не знал я. Вот она подняла голову и ткнулась мне мордой в шею.
— Прощай, сынок! Будь умницей! — шепнула она и понуро поплелась за коренастым. Больше я ее не видел.
Как я упомянул, я был молод и не ломал себе голову над загадками жизни. И уж совсем не думал о том, чтобы воспользоваться дельным советом и стать «умницей». Скорее наоборот, но вот об этом «наоборот» и пойдет дальше речь.
На другой день, когда меня вместе с пегим коньком впрягли в коляску, я знал, как поступлю.
Хозяева расселись по местам, как всегда нарядные и шумные; не хватало одного — младшего сына, блестящего гусара, приехавшего домой в отпуск. Но вот и он — в голубом мундире, с тяжелым, расшитым золотом, ментиком, перекинутым через плечо. Легко и свободно он вскочил на подножку и уселся возле матери.
Кучер тронул вожжами. Мой пегий товарищ, основательно застоявшийся в конюшне, бодро рванулся вперед… Тут и началось. Я резко сдержал рывок, так что коляска дрогнула, а затем медленно и торжественно, чуть выбрасывая одну ногу, потом другую, двинулся шагом. Все во мне замерло; какая-то незнакомая музыка властно заполнила пространство вокруг. Я шагал как во сне…
Но вот кожаный ремешок полоснул меня по крупу, и еще, затем больно, как укус шмеля, достал промеж глаз… Я мотнул головой, затем услышал шум — от удара — и, обернувшись, увидел, как с кучера слетела шапка. Гневный голос офицера прокричал:
— Болван! Разве можно бить такого коня!
Карета остановилась, и молодой красавец подбежал ко мне. Он ласково взял меня за морду:
— Не сердись, брат! Ну что поделаешь с этими олухами! — И стал растирать мне ушибленное место.
* * *
Положение мое чудесным образом изменилось. Из меня решили сделать верховую лошадь. Сам Жан — так звали гусара — занялся моим перевоспитанием. Сотрудничество наше было искренним и легким; я быстро научил его, как со мной обращаться, а он, гордый своим умением, как-то сказал матери:
— Этот конь — клад! Он слушается каждого слова! — чем вызвал у меня улыбку.
Но сейчас нам было не до пустяков: в воздухе собиралась гроза! Судьбы королевства, в результате неоплатных долгов короля, принимали неожиданный оборот. Монарх наш проиграл соседу-императору не только замки и поместья с королевою в придачу, но еще и трех любовниц. Положение сложилось щекотливое и выход оставался один — война!
Народ обожал короля-рыцаря, и хоть по-прежнему отказывался платить подати, выставил внушительную армию из двух конных и трех пехотных полков.
В день Святого Стефана наше воинство вторглось во владения императора!
О, это было лихое время!
Сражения велись по всем правилам военного искусства, то есть, когда одна армия наступала, другая тотчас отступала, и наоборот. Поэтому жертв с обеих сторон было немного, и после самых жарких схваток, на поле битвы оставалось не более полдюжины огрубленных голов и столько же рук, да и эти печальные случаи происходили скорее по недоразумению.
Когда наши воины дочиста разграбили приграничные владения императора, а неприятель проделал то же у нас, патриотический пыл утих, и начались переговоры. Затем между сторонами был подписан мирный договор, по которому наш добрый монарх отдавал императору какой-то полуразвалившийся замок, золотую шкатулку, в которой драгоценные камни были ловко подменены безделушками, и одну из трех любовниц. Правда, в последнем пункте тоже не обошлось без подвоха, но император ничего не заметил — к тому времени он был очень стар.
Последовали пышные празднества, пиры, награды. Они вконец истощили королевскую казну, и взоры нашего монарха, по тем временам неплохо разбиравшегося в экономических вопросах, обратились к западным границам. Вскоре наша армия, не слишком обремененная обозами — ростовщики королю больше не доверяли, — двинулась на соседнее королевство.
Через несколько дней мы повстречались нос к носу с противником.
Не знаю, как описали это сражение историки, но по моему скромному разумению, нас раскатали в пух и прах.
Уже в начале битвы пали наши знамена, были убиты барабанщик и трубач, а наш полководец, с рассеченной головой, выпал из седла и, сжимая в руке саблю, неподвижно лежал на траве, среди танцующих коней и мечущихся пехотинцев.
Мой славный Жан показал чудеса отваги: он отбивался от наседавшего врага, и его сабля нанесла немалый урон неприятелю. Мы с ним слились в одно, и это одно вертелось волчком, кидалось вперед и отскакивало, повсюду оставляя трупы и вызывая смятение.
Но вот перед нами возник вражеский стрелок; черное дуло мушкета почти уперлось в грудь моему господину. Я знал, чувствовал, что он ничего не заметил, — да и до того ли ему было — в тот самый момент он рубил наскочившего на него с пикой драгуна. Я заржал и поднялся на дыбы; мушкет метнулся выше, раздался выстрел, что-то заклокотало в горле, ноги стали расходиться, и я, охваченный одной лишь тревогой — как бы не рухнуть на всадника, — стал медленно оседать.
Потом ничего не было, была пустота, но так как пустота не может длиться вечно, я снова открыл глаза и увидел, далеко внизу, поле сражения. Убитых и раненых уже унесли, и только трупы лошадей — их было немного — лежали там и сям.
— Ничего, старина, вот мы и опять вместе! — услышал я голос господина. Его колени подбадривающе сдавили мне бока, а рука ласково трепала по загривку. — Едем, брат, путь далек! — добавил он.
Значит, все хорошо?! От радости я хотел было заржать, когда, глянув вниз, увидел нечто страшное: на примятой траве, с раздутым животом и широко раскинутыми ногами, лежал белый конь; шея его была покрыта запекшейся кровью.
Черные вороны, неуклюже копошась, что-то клевали у него на голове. Вот они недовольно закаркали и, оторвавшись от темных впадин глаз, тяжело взлетели и опустились на ветку дуба. А из кустов вынырнули два тупомордых волка и, не спеша, с зловещей осторожностью стали приближаться к трупу.
Так вот оно что, вот где я!.. И Жан тоже… Мой прыжок не уберег его!.. Забыть, поскорей забыть! — торопил я себя, не подозревая, какой ценой дается забвение…
* * *
Но вот я опять очнулся. Это было странное ощущение, потому что я был другим. Ног не было, я был неподвижен и нем, хотя видел и слышал. Я стоял на большом рабочем столе, окруженный причудливыми белыми фигурами. Поодаль расположилась другая группа, очень похожая на нас, но черная. Я тотчас почувствовал, что между сторонами залегла скрытая вражда. Но рассмотреть тех и других мне не удавалось — мешало что-то в правом глазу.
И только я об этом подумал, как сухая рука схватила меня и подняла в воздух.
— Что брат, свербит в глазу? — услышал я насмешливый, но не без приятности голос. — Сейчас мы тебя подправим!
Пораженный и обрадованный тем, что могу передавать мысли, я беззвучно заржал, но в следующий момент пожалел о своем даре. Острый резец впился мне в глаз и, причиняя нестерпимую боль, стал ковыряться там, что-то выцарапывая.
Хоть ног у меня не было, мне все ж, видимо, удалось побрыкаться, иначе зачем бы мой мучитель приговаривал:
— Потерпи, браток, сейчас закончим!
Он закончил, и я ясно увидел его. Это был человек немолодой, с румяными щеками, из которых торчали рыжеватые пакли бакенбардов. Брови были густы и свисали, закрывая глаза. Зато растительность на голове была жидкой и украшала лишь часть черепа, больше по сторонам. Вообще же, по виду, моего мастера можно было бы принять за пирожника или корчмаря, если бы не блестящие глаза, в которых дрожали мятежные искры.
Я мельком оглянулся по сторонам и заметил расставленные вдоль стен глиняные и мраморные скульптуры; другие, видимо, неоконченные, стояли на соседнем столе…
— А, здравствуйте, Николо! — с этими словами мой хозяин повернулся навстречу входившему в мастерскую человеку, еще молодому, высокому и щегольски одетому.
— Здравствуйте, Калипсо! — ответил тот. — Что это вы, все шахматами заняты?
Мастер развел руками:
— Что делать! Жить нужно!
— А ваши скульптуры?
— Бросьте, Николо! Вы же знаете, что на мои работы покупателя нынче нет. Сейчас вы у нас законодатель; вы и еще этот, Скарцел.
— Но я слышал, что вы вылепили отличную статую Сильвии?
— Пустое, уверяю вас! Присядьте, а я принесу вина. Вчера привезли бочонок с Сицилии. — С этими словами хозяин оставил гостя и вышел из мастерской.
Тот оглянулся вокруг и, заметив в углу нечто покрытое холстом, быстро подошел и сдернул покров.
Взору моему представилась статуя девушки. Признаюсь, я куда лучше разбираюсь в лошадях, особенно молодых кобылицах, но научился ценить и красоту человеческого тела, потому что красивое, по-моему, встречается повсюду среди обилия форм, созданных природой. Так вот, мне сразу почудилось, что открывшаяся моему взору статуя удивительно хороша: волнующая нежность сквозила в каждой линии тела; голова чуть склонилась вниз, а на лице, задумчивом и непорочном, лежала мечта, прекрасная в своей недосказанности.
Я перевел взгляд на гостя; в его поведении было что-то странное. С минуту он неподвижно стоял, словно ослепленный, потом отступил на шаг, другой, и вдруг вынул платок и стал вытирать лоб, хотя в помещении не было жарко. Приглядевшись, я заметил, что он бледен. Губы его что-то беззвучно шептали. Вот он повернулся и, странно поникший, пошел к выходу. В дверях столкнулся с мастером, который нес полный ковш.
— Куда это вы? — удивился тот. — Сейчас будем пить молодое киянти! — Он взял гостя под локоть, но тот, не отвечая, рванулся и выскочил за дверь.
Мастер пожал плечами и направился к столу. Заметив открытую статую, остановился, что-то соображая. Затем подошел к нам и уселся. По тому, как рассеянно он наполнял кружку, я понял, что он о чем-то усиленно думает. Вот взгляд его остановился на мне, черты его лица потеплели, он отхлебнул из кружки и протянул ко мне руку.
— Хорош конь, хорош! — бормотал он, вращая меня и оглядывая со всех сторон. — Небось, Николо такого не вырежет!
Он пил много и долго, и скрытая горечь проступала в его чертах.
Но вот он поднялся из-за стола, и я увидел в лице у него что-то мятежное. Он подошел к статуе и, схватив с полки деревянный молоток, замахнулся… Я в ужасе зажмурился и только слышал глухие удары и еще мелкий стук от разлетавшихся по мастерской глиняных осколков. Когда я снова открыл глаза, мастер сидел перед нами, упершись подбородком в руки. Глаза его покраснели, и из них текли пьяные слезы.
* * *
Наутро, отряхнувшись от впечатлений вечера, я осмотрелся и стал знакомиться с соседями. Одного я узнал сразу — это был конь, такой же как я, но в чем-то отличный: у него не было прошлого. Несмотря на это он был хвастлив и разговорчив. Для начала он спросил:
— Ты видел вчера этого старика, — он имел в виду мастера, — он взбалмошен и пьяница!
Возмущенный, я не ответил и повернулся к другой фигуре. Это оказался офицер; своей осанкой он напомнил мне Жана.
— А кто те двое? — спросил я, смутно угадывая в головных уборах фигур что-то знакомое.
— Это король и королева.
— Они и раньше были?
— Нет, они только что созданы, но это не мешает им требовать для себя царских почестей.
— Значит, все как и там?
— Совершенно верно! — И офицер вытянулся в струнку, почувствовав на себе взгляд монарха.
— А эти маленькие? — продолжал допытываться я.
— Эти… что ж, эти, известно — простой народ — солдаты! — Офицер оглянулся и шепотом добавил: — С ними нам не следует якшаться!
— Значит, совсем, как… — начал было я, но тут же сообразил, что повторяюсь, и потому спросил:
— А зачем мы, собственно, здесь?
— Чтобы защищать его величество! Видишь тех, черных?
— Как же, один из них только что показал мне язык.
— Вот-вот, вскоре мы их основательно поколотим.
— А где мы будем драться?
— Узнаешь, а сейчас молчи! Его величество сегодня в плохом настроении.
* * *
Ждать пришлось недолго; уже на следующий день к мастеру зашел приятель, и они уселись за доску. Поначалу я не мог понять, насколько все это серьезно, но вскоре убедился, что дело это нешуточное. Слишком дерзко вели себя черные, опасность нависала то здесь, то там, и наш король, бледный и растерянный, уже дважды искал спасения за спиной у туры. Привыкнув к тому, что исход сражения решается не полководцами, а историками, я мало интересовался результатами битвы и больше был захвачен ее процессом. Я тут же выяснил, что успех зависит не только от игроков, но и от нас самих. Поэтому, когда мне удалось лихим наскоком снять вражескую королеву, я не без основания приписал удачу себе. Под конец я так разгорячился, что решил снять и черного короля — деваться ему все равно было некуда — но, взглянув на его посеревшее от ужаса лицо, раздумал и предоставил мастеру принять почетную капитуляцию.
Когда игроки покинули мастерскую, из лагеря неприятеля послышалась брань. Это королева отчитывала своего короля за глупость, а воинов — за малодушие.
* * *
Через неделю мастер изменил нам: он продал обе армии богатому купцу. Совершенно непонятно — зачем мы тому понадобились! Шахматное искусство не процветало в его доме, и мы подолгу стояли, без дела, переругиваясь с противником и накапливая новые обиды. Изредка нас беспокоили дети, по-видимому, принявшие нас за кегли, и белые деревянные шары с треском сбивали нас с ног. Больше всего приходилось на долю королей и королев; сперва нас это коробило, но потом мы привыкли, и даже радовались, что достается не нам.
Такое неопределенное состояние длилось недолго. Вскоре корабль нашего хозяина был захвачен пиратами, дела его пошатнулись, и дом со всею утварью был продан с молотка.
В дальнейшем судьба наша складывалась сумбурно. Мы переезжали с места на место, меняли кров и хозяев, обленились, и наш воинственный пыл сменился расслабленным добродушием, не подобающим воинам.
Потом наступила длительная темь, и нашу шкатулку, в которой была заключена судьба двух враждующих королевств, швыряло, как швыряет ореховую скорлупу по волнам океана. Впрочем, это, кажется, и был океан, потому что многих, включая королеву, мутило, король лежал бездыханный и бредил лимонным соком, а маленький пехотинец — самый скромный и законопослушный, вообразил, что он в таверне и, пьяно икая, подпевал:
Шестнадцать человек на ящике с мертвецом; Ио-хохо, и бутылка рому!На него шикали, но безуспешно.
* * *
Очнулись мы среди успокоительной прохлады, заполнившей большое красивое помещение — должно быть, лавку. Кругом было великое обилие предметов — своеобразных и ценных. По стенам были развешены картины, а на столах, полках и на полу стояли статуи, лежали пестрые ковры. В стеклянных ящиках, переливаясь цветами радуги, сверкали драгоценные камни, блестели золотые кольца, браслеты и цепи.
В знатную компанию попали мы!
В помещение входили нарядные кавалеры и дамы и, не торгуясь, покупали все, что им нравилось. День был погожий, и солнечные лучи, проскальзывая между занавесками, придавали помещению фантастический блеск.
Вскоре в дверях появился пышно одетый человек в сопровождении еще двоих. Они долго расхаживали меж столов и полок. Неожиданно остановились перед нашей доской. И опять я услышал знакомый возглас:
— Какая чудесная работа!
Оба монарха зажмурились от удовольствия, а их супруги кокетливо поджали губки. Но человек, игнорируя их, протянул руку ко мне.
— Изумительно, просто изумительно! — бормотал он, осматривая меня со всех сторон. — Ба! Да это работа славного Калипсо! — прибавил он, заметив мелкую надпись на моем подножии. Он обернулся к своим спутникам и что-то им сказал.
Вернувшись на место, я был ошарашен холодным приемом со стороны своих же соратников: многие смотрели на меня косо, королева дулась, а король, фыркнув, обратился ко мне:
— Белый конь, почему у вас в гриве репейник?!
Надо же додуматься! — Ну какой может быть репейник у шахматного коня? Я хотел было ответить резкостью, но в это время с противоположной стороны доски донеслось:
— Выскочка!
Голос был женский, и я тотчас его узнал, а потому не удивился. Черная королева мне и раньше казалась несколько вульгарной.
* * *
Очередное путешествие не было долгим, и вскоре мы снова вылезли на свет и осмотрелись. Нет, такого нам еще не доводилось видеть! Это был настоящий дворец, с колоннами, гобеленами, богатой росписью стен. Высокие золоченые кресла, украшенные слоновой костью, стояли вокруг тяжелого стола; другие, поменьше, окружали маленькие столики, отделанные по краям черепаховой броней. Статуям и вазам не было числа.
Мы стояли, ошеломленные роскошью, а наш король, растроганный, обратился к нам с короткой прочувствованной речью:
— Достойна похвалы заботливость тех, кто приготовил нам, — он имел в виду собственную персону, — подобающее нашему высокому званию помещение. Надеемся, что оказанный нам почет укрепит вас в чувствах преданности скипетру и короне… — Он запнулся и бросил недовольный взгляд в сторону черного короля, который, обратившись к своим подданным, слово за словом повторял речь нашего монарха.
Но до ссоры не дошло, потому что послышался шум, двери раскрылись, и в зал вошел полный, приятной внешности человек в красной мантии и золотой короне, надетой поверх белокурого парика.
Сомнений быть не могло — это был король. Рядом с ним, чуть отставая, шла молодая женщина с красивым светлым лицом.
Король взял ее под руку и подвел к шахматной доске.
— Посмотри, Мэри, что я получил!
Красавица всплеснула руками:
— Какая прелесть!
Они тут же уселись за доску. Уже через полдюжины ходов выяснилось, что оба играют прескверно. Мы буквально сбились с ног, стараясь выправить что можно, но наши тревожные сигналы не доходили до игроков. Одновременно по нескольку фигур находились под ударом, короли охрипли от команд, пехота с обеих сторон была перебита, и вообще на доске творилось что-то невообразимое.
— Шах и мат! — вдруг воскликнула Мэри и передвинула фигуру на доске, но, заметив растерянность короля, добавила: — И какой же вы хитрец! Ведь я отлично видела, что последние ходы вы сделали для моего спасения.
По-видимому, король был удовлетворен таким оборотом дела.
— Ну, вот, всегда что-нибудь выдумаешь! — сказал он с деланным смущением и притянул к себе юную фаворитку.
* * *
Как-то во время очередной партии в зал вошел человек и почтительно замер в отдалении. Король недовольно поднял голову от доски.
— Что там еще?
— Ваше величество, в стране беспокойно! — отвечал вошедший, но король прервал его:
— Опять вы за свое! Вы плохо знаете моих подданных — они любят меня.
— Но, ваше величество…
— Никаких «но»! И не беспокойте меня; вы видите — я отдыхаю!
Подобные сцены стали повторяться чаще. А однажды мы услышали глухой нарастающий гул, доносившийся с улицы. Теперь мы стояли у окна, куда перенесли наш столик, и отлично видели происходящее на улице. Толпы народа собирались на площади, что-то кричали, чего-то требовали. Более дерзкие подбегали к дворцовой изгороди и, глядя на окна, показывали кулаки. Двое вскочили на изгородь, но их оттуда сбили стражники.
Покричав, народ разошелся, но на другой день все повторилось, только толпа была многолюдней. Король, не закончив партии, ходил по залу расстроенный. Мне было жаль его; я понимал, что искусство управления подданными дается ему так же плохо, как и искусство шахматной игры.
И так изо дня в день. Постепенно брожение в стране стало сказываться и на нас; что-то тревожное поселилось между нами. Помню, как один из пехотинцев, самый строптивый, в разгар сражения повернулся к соседу и сказал:
— Все, эти войны — войны между монархами. — И так как никто не остановил наглеца, он мечтательно добавил: — Погодите, буржуи!
Я заметил, что наш монарх побледнел; с тех пор мы старались не отлучаться от него, и это, естественно, нарушало ход игры.
Но вот наступил страшный день: какие-то грязные, грубые люди ворвались во дворец и увезли короля — прямо от шахматной доски. Вожак, красномордый парень, подошел к нам и, окинув быстрым взглядом поле сражения, коротко обронил:
— Ну и дураки! — Я так и не понял, к кому это относилось. Он принялся расставлять фигуры таким образом, чтобы с одной стороны оказались пешки обеих армий, с другой — фигуры, тоже обоих цветов. Недоброе предчувствие шевельнулось во мне. Я взглянул на наших монархов — они стояли рядом — и прочел на их лицах обреченность.
Расставив столь нелепо фигуры, красномордый позвал товарища.
— А ну, давай! — сказал он с ухмылкой. — Сыграем-ка партию! — и уселся со стороны пешек. Другой сел напротив.
Нет, никогда еще этот благородный поединок не был подвергнут такой чудовищной профанации, как в руках этих варваров. Чего они не вытворяли, каких коленец не выкидывали! Пешки шли на нас сплошным строем и на лицах у них проступала бессмысленная жестокость. Правила игры не соблюдались; каждая жертва в наших рядах вызывала дурацкий смех новых хозяев. Вот очередь дошла до черного короля — он был сбит своим же пехотинцем и с треском полетел на мраморные плиты; кусок короны откололся, и монарх, опозоренный, лежал лицом вниз на полу.
Нас оставалось немного, когда я увидел белого пехотинца-смутьяна, подступавшего к нашему королю. Я изловчился, вывернулся в мозолистой лапе моего командира и, прыгнув наискосок, сбил с ног нахала.
Красномордый удивленно поднял голову:
— Ты что это… против народа? — спросил он товарища, нехорошо осклабясь.
Но тот и сам был смущен неожиданным оборотом.
— Черт! Я… не знаю, как это вышло, — забормотал он.
— Не знаешь? А ход откуда знаешь? Небось с буржуями якшался, а?
— Ничего не якшался. Я…
— Ладно, расскажешь кому нужно, идем! — Вожак грузно поднялся из-за стола и, подталкивая незадачливого партнера, тронулся было к двери, когда что-то вспомнил; вернулся и сильно, наотмашь ударил лапой по сгрудившимся возле короля фигурам.
— У, сволочи! — бормотал он, злорадно наблюдая, как мы беспорядочно запрыгали по полу. В тот же момент я больно ударился головой о мраморную колонну и потерял сознание.
Пришел я в себя от прикосновения теплых ладоней: старик камердинер при свете свечи ползал на коленях, заботливо собирая в шкатулку разбросанные на полу фигуры. Видно, он был неравнодушен к лошадям, потому что отставил наш четверик в сторону и, прежде чем опустить крышку, добродушно прошамкал:
— Не тужите, братки, придет и ваше время!
* * *
Сбылось пророчество старого слуга, хотя ждать этого дня пришлось долго, ах, как долго! Был длительный сон, странное состояние — что-то среднее между летаргией и бесцветным прозябанием, когда жизнь — или то, что откликается на жизнь, — дает себя чувствовать лишь внешне, не затрагивая сознания и не оставляя воспоминаний. Как долго это длилось? Не знаю, и никто не знает, а если и думает, что знает, то потому лишь, что не сознает, что нет у времени ни начала, ни конца, и скрытый ход событий не подчинен никаким часовым механизмам.
А ведь это любопытно! Откуда пришли ко мне эти мысли? Не помню, чтобы мне доводилось размышлять об этом предмете раньше. Или, может быть?.. Полно, кому интересны философские отвлечения шахматного коня, да еще такого, у которого в гриве запутался репейник?!
Шутливое воспоминание вернуло меня к действительности. Я осмотрел себя, но никаких изъянов не заметил. Вот только уши — они у меня тонкие, с острыми краями… Но нет, и с ушами все в порядке. Осмотрелся кругом: фигуры стояли на местах, потягиваясь и разминаясь. А это что за чучело? Вместо знакомого пехотинца-бунтаря я увидел жалкую фигурку — явную подделку самой недоброкачественной работы. И еще что-то: откуда-то доносился противный запах клея! Что бы это могло быть? И только я об этом подумал, как услышал кряхтение, а затем тяжеловесную брань. Это его величество ругал какого-то сапожника, который… Я взглянул на моего короля и едва сдержал улыбку: аляповато склеенный из трех кусков, с проступающим из трещин клеем, он выглядел кособоким и жалким. Нет, что-то изменилось, и не к лучшему! Раньше сапожники шили сапоги, но чтоб сапожники лечили королей!..
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я стал осматриваться. Это была антикварная лавка, но поскромней, и соседи были публика незнатная: какой-то мужик, вылепленный из глины, раскрашенный как праздничный пряник, плохонькая статуя из дутой бронзы, надломленный подсвечник и две грубых вазы — для тех, кто не умеет отличать стекла от хрусталя, ну и тому подобная дешевка — как мало напоминало это былую роскошь! На полках лежала пыль, она покрывала нашу доску да и нас самих — видно, спрос на этот товар был невелик и вещи застаивались здесь подолгу.
Вошедшая женщина с девочкой рассматривала фиолетовую вазу; старик хозяин — я только сейчас его заметил — маленький, сухой и горбатый — что-то блеял и непрестанно дергал головой. Летали мухи, а бурый таракан бодро перебежал доску и обнюхивал черную туру.
Новая жизнь не приносила ярких впечатлений. Мы маялись от скуки, переговариваясь между собой, вяло переругивались с противником; офицер скучно и монотонно муштровал новобранца. Дважды к нам приценивались покупатели, но сделка не состоялась: хозяин был зажимист и упрям.
Прошло много дней, когда однажды, под вечер, в лавку зашел человек. Был он высок, статен и отлично одет. Последнее обстоятельство заставило хозяина прервать погоню за тараканом; он подбежал к посетителю.
— Чем могу служить? — начал он подобострастно, но человек отстранил его движением руки и не спеша проследовал вдоль полок, рассеянно рассматривая незамысловатый товар.
Чем ближе он подходил, тем больше мне нравился. В осанке, в посадке головы, в движениях незнакомца было что-то открытое и благородное. Вот уж он совсем близко; я видел его лицо, несколько бледное, не слишком молодое, но и не старое — лет тридцати пяти. В выражении его было что-то мечтательное, свойственное людям, чей внутренний мир никогда полностью не совпадает с внешним.
О последнем говорили и глаза: светлые, посаженные глубоко, они производили впечатление загадочной полупрозрачности, за которой таилась волнующая жизнь, быть может, страсть. Мне сразу подумалось, что это художник, поэт или музыкант.
Увидев нас, незнакомец остановился и снял ближайшую фигуру, потом другую. На лице у него появилось удивление.
— Откуда это у вас? — спросил он хозяина. Тот сразу насторожился.
— Это — старинной работы. Не правда ли, хороши?
— Хороши! Сколько вы за них хотите?
Ах, этот старый мошенник! Он назвал цифру вдвое против того, что просил на прошлой неделе! Но покупателя это не смутило; он достал бумажник и отсчитал деньги.
— Пришлите их мне с посыльным завтра! — коротко сказал он и положил сверх банкнот визитную карточку.
Наше новое жилище хоть и не отличалось роскошью, было обставлено не без изысканности. Это была гостиная в небольшой квартире. Все здесь — мебель, ковры, картины — было подобрано со вкусом и создавало какой-то задумчивый уют.
Поначалу все складывалось беспорядочно: исчезли оба короля и новоиспеченный пехотинец, пропала доска, и мы стояли прямо на полке, испытывая растерянность.
Впервые я ощутил привязанность к королю: как-никак, правитель он был добрый, и если подчас излишне полагался на свое красноречие, то греха в том не было. А репейник я ему давно простил.
Поэтому я был искренне обрадован, когда дня через четыре он вернулся. Его было не узнать: от трещин и следа не осталось, ушел запах клея, и вообще он выглядел молодцом. Вернулся и черный король в искусно починенной короне, появился пропавший пехотинец — теперь он ничем не отличался от других. Вместе с ними королевствам были возвращены их владения; мы стояли на тщательно отполированной доске с привычными белыми и черными квадратиками.
В тот вечер мы заснули, убаюканные затянувшейся тронной речью нашего монарха; он не мог уступить в этом своему коронованному собрату.
Утром произошло удивительное: хозяин расставил нас на доске и, достав с полки книгу, уселся играть — сам с собой! Правда, ходы он вычитывал из книги — это я тут же сообразил, но все же это было странно, да и, пожалуй, обидно, потому что такого рода игра не предоставляла нам свободы. Вскоре, однако, я почувствовал, что скрывавшиеся в книге игроки понимали толк в шахматах; некоторые ходы мне весьма понравились, другие — озадачили. Оказалось, это — целая наука, сложная и многообразная. Мой бедный король! Он не был рожден полководцем, и теперь смущенно сопел, стараясь скрыть свой конфуз.
Я был посмышленнее и вскоре научился угадывать ходы; когда вражеская пешка подступила ко мне, я и бровью не повел, несмотря на панические сигналы монарха. Я знал, что снять меня решится только простак, а кто станет учиться у простаков? Хотя, впрочем, бывает, что и учатся.
Наш хозяин разыгрывал партию за партией. Он ничего не ел, только пил крепкий кофе.
Уже под вечер зашел человек, полный и жизнерадостный. Усевшись в кресло напротив, он глянул на доску и весело спросил:
— Ну, как, гроссмейстер, готовитесь?
Так вот к кому мы попали! Гроссмейстер! Неожиданное открытие захватило меня врасплох, да и не одного меня: их величества тоже стояли с раскрытыми ртами.
Хозяин кивнул, а гость полюбопытствовал:
— Чью партию разыгрываете?
Хозяин назвал имена, потом, помолчав, добавил:
— Мне в этой партии не дает покоя один ход.
— Какой?
— Ход белого коня, смотрите! — Он передвинул ряд фигур на доске. — Вот этот! — с этими словами он медленно переставил меня.
Гость внимательно посмотрел на доску.
— Помню, как же! Это был отважный, но гибельный ход! Вскоре после него белые капитулировали.
Хозяин улыбнулся.
— Это еще вопрос. Тут не все ясно.
— Что вы, Гарс, это доказано!
…Итак, его звали Гарс. Славное имя! Да и сам он славный; я тут же подумал, что, наверное, полюблю его. Вот он говорит:
— Этот ход, Вальдо, не просто отважен, он красив и загадочен. Обратите внимание, какое напряжение создается на доске!
— Что толку, если конь нейтрализован?
Но Гарс словно не расслышал реплики. Он сказал задумчиво:
— Прекрасное должно быть совершенным. Нужно только проникнуться этим сознанием; тогда придет ясность, понимаете?
Вальдо рассмеялся.
— Вы фантазер, Гарс! Надеюсь, вам не придется делать этот ход завтра.
— Ладно! — Гарс примирительно улыбнулся. — Идемте-ка ужинать! — Он поднялся, вышел в спальню и через минуту вернулся в пиджаке и галстуке.
В ту ночь я не сомкнул глаз. Услышанное не выходило из головы. «Прекрасное должно быть совершенным»! Над этим стоило поразмыслить. И еще этот загадочный ход — мой ход! Сознаюсь: честолюбие мне не чуждо — так ли это страшно?! Да и кто доказал, кто осмелился утверждать, что за честолюбием не скрывается подчас более сложный механизм, направляющий творчество?!
На другой день мы узнали ряд интересных подробностей: Гарс участвовал в турнире на мировой чемпионат! Положение его блестяще, и он вышел в финал турнира.
И еще что-то: когда вечером к Гарсу зашли друзья, с ними появилась и «она». Что это была именно «она», об этом красноречиво говорили взгляды, которыми они с Гарсом обменялись. Звали ее Веста, была она высока — под стать хозяину — и ослепительно красива. Именно эта ослепительность и помешала мне изучить в подробностях черты. Одно лишь я успел подметить: выражение ее лица часто менялось, и за внешним, кажущимся вдохновением неожиданно проступало что-то плотоядное.
Вечером, когда они с Гарсом остались наедине, он сказал:
— Ты должна быть моей, Веста!
А она, мягко уклонившись от его объятий, ответила:
— Об этом — когда окончится турнир!
Он встал не без досады и прошелся по комнате. Потом остановился и спросил с легкой иронией:
— Это что — условие?
Она не ответила, поднялась и сняла с кресла свой плащ.
— Ты меня проводишь, Гарс?
Состязания продолжались ежедневно, и к списку побед моего хозяина прибавились новые. Дважды он брал нас с собой, и мы сражались в настоящем международном матче.
Должен сказать, что в обеих партиях Гарс показал себя с самой блестящей стороны. Как красиво он играл! Некоторые его ходы вызывали в зале шепот восхищения. Он сознательно отказывался от избитых проторенных путей и, движимый вдохновением, шел особой дорогой. Как любил я его в эти моменты! Он сидел, бледный и строгий, и его глаза, как два бездонных озера притягивали меня.
Дома он подолгу корпел над доской, упорно изучая странный ход коня. Мы уже разыграли немало вариантов, но появлялись новые. Иногда Гарс устало поднимался и нервно ходил взад и вперед, или брал на руку пиджак и уходил из дому.
По вечерам он с нетерпением ждал прихода гостьи, чаще — напрасно. Когда она приходила, он нервничал и осыпал ее упреками.
— Я не могу без тебя жить, Веста! Ты должна стать моей! — говорил он просительно и нетерпеливо.
А она отвечала;
— Еще недолго ждать, Гарс! Потерпи! — И загадочно улыбалась.
После таких разговоров он мрачнел, движения его становились беспокойными, речь — прерывистой. Вдохновение покидало его и последующие победы давались с трудом и не отличались яркостью. Он мучительно переживал упадок сил и, стараясь его преодолеть, истязал себя ночными бдениями над шахматной доской.
Время шло, приближался решающий день.
Несмотря на недомогание, Гарс добился еще нескольких побед, и хотя последние две партии сыграл «вничью», вышел благополучно к завершительному матчу.
В последние дни он был сам не свой: поднимался засветло и, усевшись за доску, разбирал все новые комбинации.
Вечером, накануне матча, он уснул за доской. Я остался стоять и еще долго обдумывал дальнейшие ходы, но безрезультатно; мешал неприятный холодок, исходивший от двух вражеских фигур, придвинувшихся ко мне вплотную. Вреда они мне принести не могли, а все же…
Наконец я тоже заснул, вернее, провалился в хаос смутных воспоминаний. Здесь было все: и вздутый живот мертвого коня, и вороны, копошащиеся у него на голове, последние звуки трубы, взметнувшийся вверх темный ствол мушкета, и выстрел — последнее, что я запомнил, потому что потом… Или нет, не последнее; еще вспомнилось, как ноги моего господина сдавили мне бока и звон его клинка прыгал как искра в наступившем мраке. Или мне это только снится? Жан жив, он еще отбивается, это не мой прыжок привел к его гибели! Мой ход был верен, другого не было, а вот он не уберегся! Значит…
Я открыл глаза: Гарс беспокойно спал в кресле. Что ему снилось? Наверное, Веста! Фигуры на доске застыли в глубоком сне. Таким же покоем были охвачены те, что выбыли из строя; один из них — белый офицер, чем-то напоминавший Жана. Он был сбит вражеским конем, и никто не поддержал его. Да и откуда могла прийти помощь? Королева? Она была занята охраной супруга! Тура? Как же! Ведь это она и спровоцировала его на гибельный ход, чтобы улучшить свое положение. Женщины от природы тщеславны, и наша тура уступает в этом только черной туре — длинноносой старухе с злыми бегающими глазками. О, ее стоит послушать: она никому не даст открыть рта и всех обрывает криком: «Подождите!», а как заговорит, так только и слышишь, что белое есть белое, а черное — черное. Это потому, что ее кругозор ограничен шахматной доской.
Вот еще второй конь — он мог бы угрожать левому флангу черных, и тогда… Впрочем, на плохого коня неразумно делать ставку; к тому же он поэт и вечно занят подбором рифм. На днях он сотворил такое:
Мчатся кони, быстры кони! Мчатся, гривы раздраконив!Затем, соблазнившись экзотикой, переделал двустишие:
Мчатся кони, борзы кони, — Зебры, лошади и пони! —и тому подобное — все больше о лошадях. Нет, пусть уж стоит себе на месте!
Остается пешка — о ней как будто позабыли. А она могла бы прийти на помощь офицеру, и тогда черный конь не снял бы его. Правда, дальше не все ясно, потому что вражеская королева может устремиться в образовавшийся прорыв. Или нет, не может, потому что… Шаг за шагом разыгрывал я в воображении новые варианты, устраняя нескончаемые трудности и преграды.
Уже светало, когда я благополучно разрешил последнюю комбинацию — самую трудную! Я понял — это пришло неожиданно, — что после 47-го хода черный офицер не сможет выступить в защиту королевы! Тут и скрывался ключ к решению проблемы! Значит, мой ход был верен и вел к победе! От радости я заржал и затем, напрягшись вовсю, стал посылать Гарсу позывные сигналы. Он спал беспокойным сном, но я тотчас заметил, что мои призывы доходят до него: он повернулся в кресле, вздохнул, слегка пошевелил губами. Я еще напрягся. Напрасно: голова его снова упала на грудь — он был переутомлен.
Я и сам ослабел и чувствовал, как закрываются у меня глаза. Больше я ничего не мог сделать. Я странно отяжелел, попытался расправить плечи, встряхнуться, но вместо этого стал медленно проваливаться в бархатную темноту.
Матч начался утром. Первая партия показала, что противник у Гарса серьезный. Техникой игры он владел в совершенстве, действовал внимательно и систематично, не подвергая себя риску, полагаясь на испытанные комбинации. Излюбленным его приемом было усложнение ситуаций, где только возможно. Это рассеивало внимание противника, не позволяя ему сосредоточиться на одной стратегии.
Такая тактика поначалу выбила Гарса из колеи, но затем он оправился и посредством двух блестящих ходов вышел из положения. Вскоре он выиграл партию.
Точно таким образом он выиграл на следующий день и другую.
Третья была сыграна вничью.
А затем последовали неудачи: Гарс проиграл подряд три партии. Я даже не берусь в точности объяснить, чем это было вызвано, хотя мне и показалось, что он, не доверяя утомленному воображению, перешел к систематическому методу игры, что лишало его главного его оружия.
После десятой партии у обоих противников было по пяти очков; таким образом очередное сражение — оно было назначено на завтра — могло оказаться решающим.
Проснулся я, когда Гарс, побритый и одетый, ставил нас в коробку; руки у него дрожали — видно, сон не принес ему отдыха. Окончательно я пришел в себя уже в коляске; я знал, куда мы едем: матч должен был начаться в половине одиннадцатого.
На этот раз зал был переполнен и атмосфера была напряженной. Публика рассаживалась по местам, корреспонденты газет приготовили блокноты; взоры были устремлены к столу, где распорядитель расставил нас в боевом порядке на большой шахматной доске. На момент мне почудилось, что я увидел высокую прическу Весты.
Как счастлив был я, что Гарс играл в этой партии белыми!
Первые десять-двенадцать ходов не дали преимуществ ни одному, ни другому; потом перевес оказался на стороне черных, а еще через два хода Гарс теснил противника на правом фланге. Затем опять установилось равновесие сил, и игроки, морща лбы, подолгу обдумывали ходы. По всему было видать, что сражение будет длительным и жестоким.
Гарс был бледен и беспокоен, каждую минуту закуривал новую папиросу и тут же оставлял ее догорать в пепельнице.
Это случилось, кажется, после тридцать шестого хода. До этого я был настолько увлечен отдельными комбинациями, что не следил за общим положением на доске. Теперь же, внимательней оглянув поле битвы, я заметил что-то знакомое. Да нет, не может быть! Я закрыл глаза и снова открыл: сомнений не было, это — то самое! Я взглянул на Гарса и понял, что он тоже видит. На его посеревшем лице проступили мелкие капли пота.
Вот он остановил свой взгляд на мне.
— Я не могу! — сказали его глаза.
— Можешь! — беззвучно отвечал я.
— Ход офицером менее рискован, — продолжал он.
— Прекрасное не боится риска, — подбадривал его я, — нужно уметь верить!
Он еще что-то сказал, чего я не расслышал; сзади раздались возмущенные крики:
— Не мешай ему, слышишь, не мешай! — шипели белые фигуры.
Я отвечал:
— Этот ход единственный и лучший!
— Это гибельный ход! Это доказано!
— Для вас доказано, потому что все вы — ничтожества! Я… — Крики возмущения покрыли мой голос. Среди них я расслышал окрик короля!
— Белый конь, я вам приказываю!
Но я не слушал. Я с презрением отвернулся и тут же столкнулся взглядом с Гарсом.
— Я боюсь, — умоляюще говорил он, — я не выдержу… Веста…
А я, оправившись, отвечав:
— Не бойся! Победа — это средство, а не цель. Слава не приходит к тому, кто топчется по проторенным дорожкам!
Гарс вытер лоб платком и нерешительно протянул руку ко мне.
— Бери же, бери! — надрывался я.
Он взял; его пальцы были холодны и дрожали. На момент нехорошее предчувствие шевельнулось во мне, но я отогнал его.
— Ставь! — прокричал я, намеренно тяжелея в его руке.
Все замерло и на доске и в зале, когда я опустился на черный квадратик. Противник недоуменно взглянул на Гарса, затем склонился над доской.
Поначалу все шло, как я задумал, но затем, с усложнением ситуации, Гарс начал выказывать колебания. А с этим нарушалась и связь между нами, и мои сигналы уходили в пространство.
Вот наш офицер под ударом.
— Пешку! — кричу я. — Пешку!
Но Гарс не видит; он смотрит мутным взглядом в сторону, затем медленно протягивает руку к туре.
Больше я не мог выдержать. Я закрыл глаза и теперь был в неподвижности чувств, как в трансе. Я знал — это конец! Только раз взглянул — не на доску, а в зал: Веста сидела рядом с богато одетым мужчиной; он что-то ей шептал, а она улыбалась.
* * *
Иначе и не могло закончиться — я это предчувствовал: ночью состоялся суд! Он длился недолго, все было ясно, и бедный офицер — он успел искренне привязаться ко мне — напрасно пытался меня защищать. Сознаюсь, я мало ему помог; на все вопросы обвинителя я отвечал презрительным молчанием и тоскливо поглядывал на диван. Гарс, одетый, лежал, не подозревая, что происходит. Пустая бутылка и стакан стояли рядом на полу. Он бредил, но слов нельзя было разобрать.
Потом послышались крики, гневные голоса — впрочем, может быть, я путаю, может, ничего этого не было, а было раньше? Не помню, помню лишь, как откуда-то, словно с потолка обрушился на меня сухой как выстрел приговор:
— За измену короне — осужден на смерть!
Пошляки! Они даже это слово не сумели выговорить должным образом!
Наступило глухое молчание. Я стоял и смотрел поверх их голов, не замечая их, но зная, что они — все! — уставились на меня. Я испытывал на себе странное давление. Постепенно оно усиливалось, я чувствовал, что задыхаюсь, происходящее казалось мне фантасмагорией: ведь я не знал, что у них такой запас злобы, и уж совсем не подозревал, что взгляд может стать инструментом убийства! Кто дал им право? Я обернулся к офицеру: он смотрел в сторону; в глазах у него стояла мутная горечь.
Что-то оборвалось во мне. Я ухватился зубами за собственную гриву, но тут же почувствовал, что цепляюсь за воспоминание; то реальное, чем я был, отступило назад, мягкое спокойствие охватывало меня, и я, удивленно разглядывая безжизненные фигурки, уже поднимался вверх.
Я попал в туман; он окутывал пространство вокруг, оставляя там и здесь случайные просветы. Впервые я ощутил, что могу двигаться, хотя проку в том было мало: вместо твердой доски с ясными квадратами, под ногами была вязкая мгла, стекавшая сверху. К тому же угнетало состояние невесомости; чтобы преодолеть его, понадобилось до боли напрячь воображение.
Я двинулся вправо, потом влево, еще влево… Напрасно — выхода не было! В отчаянии я хотел — была не была — помчаться напролом, когда услышал голос — кто-то звал меня!
Еще через момент знакомая рука ласково трепала меня по загривку.
— Вот мы и опять вместе! — сказал он, а я, сраженный неожиданный открытием, только и мог пролепетать:
— Значит, мой ход…
Он перебил меня:
— Не горюй, ход был отличный!
— Тогда почему ты здесь?
Он тихо засмеялся:
— Разве для мечтателя существуют «здесь» и «там»? Главное — куда ход ведет. Посмотри-ка туда! Видишь?
Я взглянул, куда он указывал: далеко впереди медленно нарастало удивительное сияние!
Мы шли в задумчивости, спотыкаясь о вершины небоскребов, и пролетавшие птицы радостно щебетали нам вслед.
— Птицы… — начал я нерешительно, — каким образом они видят нас?
— Это не птицы, это — дети. Дети всегда узнают мечтателей.
Мне стало грустно.
— Да, но дети растут, а мечтатели старятся! — слабо откликнулся я.
Он не отвечал.
— Мне жаль детей! — робко настаивал я.
Он остановился.
— Чего же ты хочешь?
— Может быть… вернемся?
И вдруг он рассмеялся:
— Знаешь, я сам только что об этом подумал!. Мне хотелось бы переиграть последнюю партию. Там, кажется, возможен еще один ход — получше! Идем!..
И мы медленно и осторожно стали спускаться вниз.
Тень
Когда Кукушкин вышел из кинематографа, его слегка мутило. Сеанс затянулся, да и накопившаяся за неделю усталость давала о себе знать: в ногах чувствовался неприятный зуд, а в висках копошились мурашки. «Кофейку бы…» — мечтательно подумал он, но, взглянув на часы, только вздохнул: последний автобус отходил через полчаса.
Шагая по улице, Кукушкин рассеянно глядел перед собой и чуть настораживался, когда навстречу попадались группы гуляк, чаще — подростков-негров. И под стенами зданий их стояло немало, и вид их не внушал особого доверия.
Усталость, а может быть, и еще что-то, мешали проследить до конца какую-то ускользающую мысль, какую-то странную неудовлетворенность, оставшуюся от просмотренного фильма. Показывали «Преступление и наказание» — в отечественной постановке. Кукушкину вспомнилось, что — когда он, недавно, смотрел «Братьев Карамазовых» и «Идиота», у него осталось точно такое же чувство, как и сегодня. «Ведь не удается что-то во всех этих постановках!» — размышлял он. «Но почему? Говорят, что много, де, монологов, диалогов, сложных мыслей. Что дается при чтении, плохо укладывается на сцену… Так ли это?»
Кукушкин вздрогнул: кто это сейчас сказал «так ли это?» Это не он сказал. Он обернулся по сторонам, но никого не обнаружил, и только его вытянутая тень — от уличных фонарей — держалась рядом, справа, по-видимому, боясь отстать и затеряться среди небезопасных улиц.
И еще одна — слева — эта, наверное, от витрин. Он посмотрел направо: витрин не было, были глухие стены с темными провалами потухших окон. Еще раз глянул налево: что за вздор! — эта другая шла рядом и, что самое поразительное, вела себя вроде как бы самостоятельно. Кукушкину даже почудилось, что тень идет не совсем в ногу с ним, чуть забегает вперед, а сейчас, гляди-ка, почесала у себя в затылке…
— Тьфу, ты, черт!
Видно, последнее восклицание решило дело, потому что, как только оно вырвалось, он услышал сдержанный, несколько иронический, а впрочем, не лишенный приятности голос:
— А вот это вы напрасно!
— Что напрасно? — Кукушкин даже приостановился и теперь уже совсем ясно заметил, что тень, не рассчитав, прошла пару шагов и только тогда, спохватившись, прыгнула назад. — Кто ты такой? — спросил он.
— Гм!.. — Тот — потому что теперь не оставалось сомнений, что это был кто-то, а не просто тень — тот кисло рассмеялся. — Прежде чем отрекомендоваться, — сказал он, — позвольте заметить, что мы с вами, в некотором роде, на брудершафт не пили, и, как воспитанный человек, вы должны понимать… — Говоривший выдержал паузу, вполне достаточную, чтобы позволить собеседнику осознать свою оплошность.
Кукушкин смутился.
— Прошу прощения, — сказал он, — но все-таки, кто же ты… виноват, кто же вы?
— Кто я? Гм! Начистоту, значит? Ладно, будь по-вашему! — Тень почесала у себя за ухом. — Видите ли, в прошлом, у вас, или, вернее, у нас на родине, меня звали запросто, ну, сами знаете как…
— Это, то есть, чертом? — догадался Кукушкин.
— Именно так. Только что тогда в этом смыслили! Черта по Домострою толковали. И так его, беднягу, затуркали, что он сам в себя верить перестал, учиться бросил, домовому завидовал. И вообще стал страшным провинциалом, подвизающимся больше на ролях интригана и мошенника. То ли дело здесь, на Западе: тут дьявол — это звание, что-то вроде докторской степени, культура, почет. А у нас? Рожки да копытца, скучные пакости, мещанство. Да что там толковать! Помнится, один из наших «Фауста» прочел; так, поверите ли — сам себе хвост от зависти отгрыз!
Кукушкин улыбнулся.
— А теперь там, на родине, разве вам не свободней? — неуверенно спросил он.
— Теперь? Свободней? Вы, гражданин, в своем ли? Там же нас отменили! Научно, так сказать, доказали, что ад и без нашей помощи построить можно! — Говоривший доверительно нагнулся к уху Кукушкина. — Знаете что? — только уговор — не болтать! Сейчас наши сами изучают, как это все у нас в отечестве вершится. — Он слегка прыснул: — Помните басню о монахе и черте?
— Какую басню? Не припомню.
— Как же! Ну, о том, как послушник, в пост, тайком, в келье яйцо на свече пек. А игумен тут как тут — «Ах ты, такой, сякой!» А тот: «Прости, отец, нечистый попутал!» А черт за дверью прятался. Как выскочит, хвост от обиды опух… — «Врет, кричит, врет! Первый раз в жизни вижу, чтобы яйца на свечке пекли!» Здорово, а?
Кукушкин поморщился: словоохотливость нового знакомца начала его раздражать.
— Послушайте, — сказал он, — ведь это анекдот.
— Вы думаете? — охотно согласился другой. — Что ж, вам со стороны виднее. Только, знаете, и в анекдотах иногда… — Он не докончил фразы и, спохватившись, заторопился: — Как же это я! Позвольте, наконец, представиться! Впрочем, имя мое вам ни к чему. Замечу лишь, что я, значит, тоже из этих самых… только с высшим образованием, по литературе, значит.
— Вот почему мы с вами сегодня встретились, — сообразил Кукушкин. — Так вы и фильм, значит, смотрели? Кстати, где вы там прятались? Я вас что-то не приметил.
— За воротником у вас, — смущенно сознался разговорчивый знакомец, — вот, дайте, поправлю, а то я, вылезая, чуть примял здесь.
Кукушкин почувствовал у себя на шее легкое дуновение, но из вежливости даже не поежился. И вдруг, вспомнив, взглянул на часы: стрелки показывали десять и до отхода автобуса оставалось, таким образом, четверть часа.
— Простите, — начал было он, но спутник, догадавшись, хлопнул себя по лбу.
— И какой я стал забывчивый! Сейчас устроим! — Он с чем-то повозился и затем весело сообщил: — Все в порядке! Проверьте ваши часы!
Кукушкин посмотрел на часы и ахнул: они показывали девять.
— Как же вы это? — удивленно спросил он.
— Секрет изобретателя! — рассмеялся другой.
— Теперь мы с вами и потолкуем обо всем, не спеша… Так вот, уважаемый, вы, помнится, о Достоевском рассуждали, о постановках его творений, то есть. Трудное это дело, согласен: и монологи, и диалоги, и авторские ремарки, как тут на экран перенесешь, не обкорнав до кочерыжки! А без этих пояснений, согласитесь, все предстает в преувеличенном виде.
— То есть, как это в «преувеличенном»?
— Да все эти раскольниковы, рогожины, настасьи филипповны!.. Ведь таких в нормальном быту днем с фонарем не сыщешь! Как же их на сцене выведешь?
— Вы хотите сказать, что Достоевский…
— Ну да, хочу сказать, что Достоевский… — бесцеремонно перебил Кукушкина собеседник. — Ведь он не французов — своих описывал, а у нас, как вам известно, склонность к гиперболам — характерная национальная черта. Либо все очень уж хорошо, до слезливости хорошо, либо — безнадежно плохо. Немец, например, увидит двух прохвостов и скажет: вот два прохвоста! Американец заметит двух мошенников и скажет: вот мэр города и адвокат! Англичанин… ну, тот, пожалуй, ничего не скажет. А русский увидит и закричит караул! Прохвост на прохвосте сидит, прохвостом погоняет! И о том не подумает, что и гнать-то некем — ведь прохвостов-то двое!
Тут Кукушкин потерял терпение и, не без резкости, ответил, что Достоевский — гений и подходить к нему с такой обывательской меркой по меньшей мере неуважительно. Но это замечание отнюдь не захватило его спутника врасплох.
— Правильно! Хорошо! — почти закричал тот. — Я же к тому и веду: что можно гению… или как это?.. «что можно Юпитеру…» и пр. и пр. Достоевский, видите ли, огонь с водой смешает, а другой возьмется — только пар пойдет, как из чайника. На днях одного вашего поэта читал — не помню где уж. Все, как будто, прекрасно, и вдруг, в одном стихотворении, то самое — огонь и вода! И получился чайник, не смешалось, значит. А поэт талантлив хоть куда, да вот только не соразмерил сил своих с амбициями! — Тень замолкла, явно довольная своей тирадой.
Воспользовавшись этим, Кукушкин взял слово:
— Итак, — сказал он, — из всего сказанного вами следует, что постановка произведений Достоевского вообще невозможна?
— Экий вы торопливый, — укоризненно отвечал тот, что прятался за тенью. — Повремените с итогами, я еще главного не сказал… Да что вы все на часы смотрите! Обещал же — устрою!
Теперь Кукушкин уже без удивления заметил, что находится в самом начале пути. Тень слева не жалась к его локтю, а шагала вполне самостоятельно, так что, расходясь с встречными прохожими, Кукушкин оставлял с левой стороны больше места. Такая заботливость показалась его спутнику забавной. Он засмеялся:
— Не беспокойтесь! — сказал он. — Нам не привыкать стать. — И затем, уже вполне серьезно, продолжал: — Есть у Федора Михайловича статейка, кажется, от 1874 года. В ней он разбирает русских художников, а именно картины, что были приготовлены для Венской международной выставки. И вот стоит наш писатель перед картиной художника Ге «Тайная вечеря». Хорошо? Хорошо! Талантливо? Да! Реалистично? Как будто! Но что это? Разве это Учитель с учениками? Нет, это просто группа приятных молодых людей, собравшихся, чтобы поужинать. Почему же так получилось? И вот тут, понимаете ли, писатель высказывает гениальную мысль об «историческом реализме». Всякое историческое событие, говорит он, в позднем изображении, должно отразить все то, что за истекший срок из него произошло. Иначе человеческое сознание не в состоянии воспринять его. А на картине, говорит, две тысячи лет отсутствуют. И получилось, что реалистическое, на первый взгляд, изображение оказалось вовсе не реалистичным в современном, так сказать, понимании. Вот в чем штука! — Говоривший пугливо оглянулся по сторонам и уже шепотом прибавил: — Только это все между нами. Мне по моему положению не полагается на такие темы… — Он слегка замялся и замолк.
Кукушкин смотрел на спутника широко раскрытыми глазами.
— Интересно, — пробормотал он, — очень интересно, но какое отношение все это имеет к постановкам Достоевского?
Теперь в голосе того, другого послышалось нетерпение.
— Ах, какие мы непонятливые, — начал он. — Так ведь столетие прошло, да какое! Две мировых войны, дюжины революций, концлагеря, атомная бомба, полеты на Луну… — ведь мир перевернулся вверх ногами! Но главное — открытия в области психологии — психоанализ, патология и пр. и пр. Ведь мы живем в эпоху менсонов, наркоманов, психопатов разных. А тут на экране перед нами кривляются такие же невротики и истерички, давно уж подведенные под соответствующую научную классификацию и едва ли способные довести до нас хоть крохи идейных замыслов. — Тень перевела дух и затем, уже спокойнее, продолжала: — Заметили ли вы, почтеннейший, что с самого начала второй части фильма, то есть как раз там, где Раскольников временно отходит на задний план, все в зале облегченно вздохнули? Так оно и понятно! Ведь никакого преступления, собственно, и не было. Был невменяемый неврастеник, дергающийся, таращащий глаза где нужно и где не нужно, точно так, как Рогожин и Настасья Филипповна в «Идиоте». Ну можем ли мы их, таких вот, принять за глашатаев идей великого писателя?
Кукушкин молчал. И не потому лишь, что ощущал странное смятение в мыслях, а и оттого, что по мере приближения к центру города, они вступали в полосу света и обычного городского шума, мешавших сосредоточиться. Вокруг двигались толпы гуляющих, слышался громкий говор, назойливо гудели такси, а городские автобусы, дребезжа оконными рамами, с несносным завыванием отходили от остановок.
К тому же по правую руку возникли ярко освещенные витрины и теперь тень слева представлялась вполне отчетливой и естественной. На какой-то момент это даже навело Кукушкина на мысль, что все происшедшее было просто галлюцинацией. Но лишь только он так подумал, как услышал возле себя знакомый голос:
— Что же вы на все это скажете?
Кукушкин пришел в себя. Он сказал:
— Может быть, актеры не на высоте? Или режиссер чего-то не учел? Ну, хотя бы этого самого… как его, — он пощелкал в воздухе пальцами, — исторического реализма?
— А если бы учел, тогда что, героев наших в больницы, в психиатрички?
На это Кукушкин возмущенно воскликнул:
— Позвольте, но ведь это далеко не все, что имел в виду писатель!
— Что же он еще имел в виду?
— А то, что душа человека — это поле битвы Бога с дьяволом, то есть со злом!
Тень скрипуче засмеялась:
— Вы эту справочку как нельзя кстати привели, — отпарировала она. — Ведь если прав был Федор Михайлович насчет исторического реализма, то и для зла пора уж другое словцо подыскать. Может быть, словцо это и есть — «болезнь»? А коли так, то и бороться с ним надлежит психиатрам и хирургам. А высшие силы здесь ни при чем?
Тут Кукушкин не на шутку рассердился. Человек он был верующий, каждое второе воскресенье выстаивал в церкви обедню, и потому выслушивать дальше всю эту чертовщину совсем его не устраивало. К тому же он заметил, что было уже за десять и ему следовало поторопиться. И потому он раздраженно сказал:
— Не пойму, чему вы, собственно, радуетесь. Если все так, как вы уверяете, то и здесь вас отменят, вместе с вашим высшим образованием. И останется вам разве что — вставлять палки в колеса тем же психиатрам и хирургам!
Тень помолчала, затем обиженно процедила:
— А вот это с вашей стороны невежливо — переходить на личности. Я к вам со всем доверием, а вы… Хорош гусь! В будущем буду… — Но Кукушкин не дал болтуну договорить. Он сказал:
— Счастливо оставаться! И не задерживайте меня, через десять минут отходит мой последний автобус.
Тогда тень желчно хихикнула:
— Ладно уж. Счастливого пути! Но прежде чем суетиться, проверьте-ка лучше ваши часики!
Кукушкин поднес руку к глазам и… обмер: часы показывали далеко за одиннадцать. Окончательно раздосадованный, он повернулся налево и хорошенько сплюнул. Но тени и след простыл: вместо нее он угодил себе же на туфлю. И еще что-то: откуда-то вдруг пошел тяжелый дух и прохожие, подозрительно оглядываясь по сторонам, морщились и ускоряли шаг.
Сумерки кумира
Когда б Архипелаг-Гулаги, Дахау и Аушвицы возникли в странах, забытых Богом и историей, не озаренных светом культур и религий; когда б чудовища происходили от чудовищ, отмеченных неопровержимым клеймом злодейства… тогда трагедия человечества и не стала бы таковой — в историософском ее понимании. Скорей была бы она массовой драмой, вызванной факторами антропологическими, знакомыми еще пещерным векам.
И, однако, трагедия истории налицо: если в далеком прошлом человек произошел от косматых чудищ, то современные монстры, наоборот, вышли из людей, принадлежащих к высокой цивилизации, из людей внешне обыкновенных, без специфических черт, которые бы указывали на их жестокую сущность.
Робеспьеры и Мараты, Сталины и Дзержинские, Гитлеры и Гиммлеры, — так ли уж отличимы они, в быту, от многих, с кем мы сталкиваемся при ежедневном общении?
Достоверно известно, что иные из них любили детей, трогательно чтили родителей, не могли без содрогания видеть страдания животных. Да и вдали от власти, оставаясь на первоначальных своих ролях, — адвокатов ли, мастеровых, городских служащих или непризнанных художников, — смогли ли бы они выявить в себе то страшное, что незримо гнездилось в них, и что теперь, вместе с гекатомбами жертв, поглощено равнодушной историей?
Они ушли, но призраки рокового двойничестаа остались. Пусть под иными именами, еще не опознанные, они тут, рядом и, быть может, сами того не подозревая, ждут, когда придет их черед.
Исторические образы тиранов и злодеев давно уж выписаны. Но не поняв, не углубив человеческих черт в портретах этих оборотней, мы никогда не получим ответа на мучительный вопрос: как могло это случиться?
Сегодня Гитлер проснулся, как и обычно, в 11 часов утра. С большим усилием он поднялся и сел на кровати, свесив ноги. В голове стояла тяжелая муть, в глазах рябило, левая рука непроизвольно жалась к животу и дрожала мелкой дрожью.
Он напрягся, вспоминая: лег он, как всегда, в пять часов утра; было тихо — вот уж вторые сутки как прекратились англо-американские налеты. И все-таки он дважды просыпался. Раз даже встал и прошел в кабинет к карте Восточного фронта; долго смотрел на нее, недоумевая, каким образом враг прорвался к Одеру! Ведь там оперировали лучшие эсэсовские дивизии! Затем вспомнил, что красные давно уже переправились через Одер.
После этого он снова уснул, но сон был тревожным и не принес успокоения.
Возможно, что снотворное, которое оставил ему доктор Морелль, было уже не то? Морелль, вместе с другими, улетел накануне в Берхтесгаден. Гитлер его не удерживал, но как был бы он признателен, если бы тот остался! «Впрочем, думал он, Морелль не один; все рады покинуть своего вождя в трудную минуту. И Геринг, и Гиммлер… Особенно эти двое. О, да, они прилетели, чтобы поздравить его с днем рождения, но надо было видеть их физиономии при прощании! А генерал Кристиан?! Как отвратительно он смешался, когда жена его отказалась покинуть бункер вместе с ним! Жалкие карьеристы, паразитировавшие на теле Рейха!»…
Гитлер всунул ноги в ночные туфли и медленно, с трудом, поднялся. Двигаться сразу он не мог: левое плечо проваливалось вниз, под ним скрючивалась и вся левая сторона тела. И нога начинала дрожать — вот-вот подогнется, и тогда он опять осядет на кровать.
Эти симптомы инвалидности появились у него — а может, только усилились? — с того злополучного дня — в июле прошлого года, когда только чудо спасло его. Каждый раз, вспоминая об июльском покушении, Гитлер чувствовал, как сжимаются в бессильном гневе челюсти, поднимается к лицу кулак, а каблук зло и капризно бьет в пол.
Но теперь у него не хватило бы на это и сил.
Осторожно ступая, он подошел к столу и оперся о него. Постоял немного и затем, как будто успокоившись, прошел через приемную в уборную.
Правой рукой он еще владел в достаточной мере и потому без особых затруднений совершил несложный обряд умывания. Затем провел мокрой ладонью по волосам и затылку, наскоро пополоскал душистой жидкостью рот и горло, после чего дольше обычного растирал грубоватым мохнатым полотенцем голову, шею, лицо.
Только закончив всю эту процедуру, он поднял голову к зеркалу. То, что он там увидел, его не обрадовало.
К глубоким не по возрасту морщинам, к нездоровой желтизне кожи и свисавшим под глазами темным мешкам он давно привык, но вот выражение глаз в последнее время его пугало. Как будто это было не одно выражение, а два: невероятного напряжения и… апатии. Сегодня это странное сочетание проступало с особой силой.
Как эта новая черта отражалась на его контактах с подчиненными, он давно уже заметил. Правда, ему все еще удавалось высказываться с прежней силой убеждения, но он никак не мог остановиться взглядом на глазах собеседника; смотрел куда-то в пространство, так, что слушатель под конец начинал косить, словно стараясь поймать ускользающую нить.
Это именно и случилось вчера, на дневном совещании с фельдмаршалом Кессельрингом, командующим Западным фронтом. Гитлер настаивал на контрнаступлении армии генерала Штейнера Кессельринг возражал, причем более решительно, чем сделал это в марте, когда Гитлер потребовал повторения Арденнской операции. Другие генералы молчали. Взбешенный, Гитлер закричал:
— Где же ваши армии, генерал?
Кессельринг склонился над картой и стал что-то объяснять, но Гитлер резко оборвал его.
— Довольно! Довольно!
Последние минуты он стоял, зацепившись ступней за ножку стола, чтобы скрыть досадную дрожь в ноге. Теперь ом тяжело опустился на стул и только пробормотал:
— Война проиграна! Проиграна!.. — Затем, обратившись к Борману, прибавил: — Совещание окончено. Прошу всех оставить меня!..
Вспомнив эту сцену, Гитлер скрипнул зубами и, оторвавшись от своего отражения, повернулся и вышел из уборной. Он пересек приемную и вошел в кабинет.
Кабинет был невелик — 10 футов на 15. Обстановка поражала скромностью: простой письменный стол, под стать ему кресло-стул с полумягким сидением; еще несколько стульев напротив, а также вдоль стен. Слева от двери — высокая полка, наполовину пустая. Стены были увешаны картами Западного и Восточного фронтов. Стол закрывала карта «большого» Берлина с окрестностями. Поверх нее лежала другая, поменьше — карта «Цитадели», той части столицы, где предстояло дать окончательный отпор «большевистским ордам», как Гитлер именовал наступавшую Красную Армию. Что это будут красные, в том уже не было сомнений: еще в середине апреля англо-американские армии фельдмаршала Монтгомери прочно остановились на Эльбе, хотя дорога на Берлин была открыта.
На полках красовались две фотографий: матери Гитлера и… бывшего личного его шофера Мориса, того самого, с которым в 1930 году Гитлер застал на месте преступления свою племянницу Гели Раубаль.
Единственным украшением неуютного, выкрашенного в серый цвет кабинета был портрет Фридриха Великого, кисти мало известного художника Антона Графа. Портрет висел справа от карты Западного фронта. Перед портретом стоял походный стул.
Здесь и находилась последняя ставка фюрера, верховного командующего вооруженными силами Рейха. Вместе с двумя такими же неуютными залами конференций, столовой и другими служебными и жилыми помещениями, все это составляло комплекс в тридцать комнат, спрятанный на глубине 55 футов под старым зданием Канцелярии.
Сюда, по настоянию своих приближенных, Гитлер переселился в январе из наземного бункера, примыкавшего к новому зданию Канцелярии.
Надземный бункер был просторней и удобней, но тяжелые двухтонные торпеды, какими с прошлого года стал пользоваться американский воздушный флот, сделали это убежище беспокойным. Там все еще были расположены многочисленные службы и частные квартиры крупных партийцев и генералов. Там же поначалу устроилась и Ева Браун, прилетевшая в марте из Берхтесгадена…
Гитлер подошел к письменному столу. Поверх карт стоял календарь; дата была сегодняшняя — 23 апреля, понедельник. Видимо, здесь уже побывал фельдфебель Миш, верный ординарец и связист фюрера.
Как всякий деспот, Гитлер ценил верность превыше всего; за нее он многое прощая — своим, конечно. Простил когда-то Магде Геббельс ее попытку бегства в Швейцарию, а мужу ее — скандальный роман с чешской актрисой Лидой Баровой, прощал Герингу его лень и бестолковость в деле командования воздушным флотом. Простил Морису, соблазнившему Гели Раубаль; правда, тут не совсем было ясно, не выступила ли любимица фюрера сама в роли соблазнительницы. И Шпееру простил — такое, что никому еще не прощал и никогда бы не простил…
Странно, именно сейчас, когда он, нагнувшись над столом, рассматривал карту «Цитадели», Гитлер — в который раз — возвращался мыслями к своему «архитектору». Имя Шпеера вызывало в нем чувство какой-то болезненной утраты…
«Война проиграна!» — фраза, которую Гитлер впервые бросил в лицо своим генералам, придумана была не им и не вчера. Еще в марте он услышал ее из уст Альберта Шпеера, когда тот вернулся из своей инспекционной поездки по Саару.
Гитлер знал — агенты Бормана доносили ему о каждом шаге Шпеера — чем занимался тот в свою поездку. Еще раньше Гитлер подготовил приказ, вводящий в действие «политику голой земли» тотальное уничтожение всех промышленных, аграрных, водных ресурсов Германии, разрушение фабрик и заводов, шахт, водоемов, электростанций и железных дорог. Пустыня, голая земля — вот что должно было достаться врагу вместе с остатками народа, который не сумел до конца выстоять в борьбе с плутократами и ордами варваров. Только такой «вагнерианский» конец оправдал бы германскую нацию в глазах истории.
Когда Шпеер узнал о готовящемся приказе, он примчался к Гитлеру, но тот отказался его выслушать. Шпеер покинул Берлин.
Он носился от гауляйтера к гауляйтеру, с заводов на фабрики, с фабрик на шахты, повсюду требуя неповиновения готовящемуся приказу.
Гитлеру это было известно, но он ничего не предпринимал против мятежника. Другая тайная мысль волновала его: восстание ли это против его мероприятий или против него самого? Первое он мог простить, второе — никогда! Приказ оставался лежать на столе неподписанным.
Но вот, 26 марта Шпеер вернулся в Берлин. Прямо с дороги, даже не приведя себя в порядок, он спустился в бункер. Гитлер знал о его возвращении; взвинченный, он метался по кабинету, стараясь представить себе, во что выльется эта встреча.
Но он умел, когда нужно, овладеть собой. Когда Шпеер вошел, они некоторое время молча стояли друг против друга. Потом Гитлер сказал:
— Шпеер, мне все известно.
Шпеер отвечал:
— Я знаю, мой фюрер.
— Вы знаете, что вам за это грозит?
— Знаю.
Гитлер медленно обошел вокруг стола и остановился перед гостем, не отрывая от него тяжелого взгляда.
— Шпеер, — глухо сказал он, — вы же верите, что не все еще потеряно?
— Нет, мой фюрер! Война проиграна. Я не хочу вас обманывать, как это делают некоторые подхалимы.
Гитлер хотел было протянуть к Шпееру обе руки; но левая не поднялась, вместо этого часто задергалась. От бедра вниз исходила нехорошая пульсирующая немота. Чтобы не потерять равновесия, он тяжело шагнул назад и прислонился к столу.
— Шпеер… послушайте… — Он сам не узнавал своего голоса, таким он был неровным и просительным. — Вы ведь еще можете… хотя бы питать надежду? Ведь есть же хоть какая-то надежда?
Шпеер хотел что-то сказать, но Гитлер остановил его:
— Нет, не отвечайте! Не сейчас. Завтра… завтра скажете. А сейчас идите и… подумайте! Если завтра решите, что еще можете надеяться, меня это удовлетворит и… все останется по-старому. А сейчас уходите!
Последние слова он выкрикнул почти на истерической ноте и повернулся к гостю спиной…
Теперь, припомнив эту сцену, Гитлер не чувствовал раздражения. Таковы уж были его отношения с этим человеком, с которым они столько помечтали о перестройке послевоенной Германии, о новом Ренессансе в архитектуре городов, — Линца, Мюнхена, Берлина…
Когда на следующее утро Шпеер явился с ответом, Гитлер едва мог скрыть волнение.
— Да, Шпеер, я вас слушаю.
И опять, как и накануне, в воздухе повисло почти физически ощутимое напряжение. Наконец, Шпеер сказал:
— Мой фюрер, я останусь вам верен до конца.
Для Гитлера и этого было достаточно.
— Спасибо, Шпеер. Я знал, что вы меня не разочаруете.
Он взял со стола кожаную папку и протянул гостю.
— Здесь проект приказа. Ознакомьтесь и внесите поправки, какие сочтете нужными.
К вечеру новая редакция приказа была готова. Согласно ей, германская промышленность должна была быть не уничтожена, а «парализована». Растяжимость этого термина проглядывала весьма недвусмысленно, но Гитлер и бровью не повел. Он молча взял ручку и проставил внизу все еще значительные буквы: «А.Г.»…
Странно, все это произошло только месяц назад, но было тогда вполне реальным. Теперь это событие представлялось в каком-то тумане, как, впрочем, и многое другое, что недавно тоже было настоящим, а теперь…
Вглядываясь в эту мутную пелену, Гитлер подчас недоумевал, где были призраки, а где реальность. Они были неотличимы. Армии и дивизии, которыми так легко командовалось отсюда, из недр этой железобетонной пещеры, вдруг оборачивались миражами, тысячи танков становились сотнями, сотни — десятками, с карт исчезали города и провинции…
А совещания шли и дальше, по-прежнему поступали военные сводки, выслушивались доклады. Карты становились новой действительностью; то, что было там, наверху, было ей враждебно, противоречило ей.
Противоречили ей и генералы, отказывающиеся переходить в контрнаступление, и командующие воздушными соединениями, оправдывающие свое бездействие нехваткой топлива, гауляйтеры, неспособные реорганизовать промышленность в условиях тотальной бомбежки.
А то вдруг, ненадолго, приходило просветление, и тогда, наоборот, призраки наверху становились реальностью, а то, что было здесь, кругом и на картах, теряло свою эмпиричность и, сдавленное низкими потолками, расплывалось бесшумными привидениями по мертвому улею.
Вот уж некоторое время Гитлер стал подмечать, как трудно ориентируются в Бункере те, кто прибывают оттуда, сверху. Словно попадают в иной мир, с иным законом притяжения, другим языком, незнакомыми средствами коммуникации. Обычный разрыв между штабом и действующей армией был хорошо Гитлеру знаком не только сверху, но и снизу, со времен еще 1-й мировой войны, в которой он подвизался ефрейтором. Но теперь было не то. Теперь в глазах пришельцев «оттуда» сквозило новое выражение — недоумения, страха, недоброго предчувствия, какое возникает у людей суеверных, когда они вдруг ощутят, что мир потусторонний посягает на реальность их бытия.
Атмосфера призрачности сгущалась. Апофеозом ее было недавнее появление еще одного персонажа — Евы Браун! Для многих, даже своих — это Гитлер сразу подметил — она была приведением, облекшимся в плоть лишь для того, чтобы поставить на их пути еще одну, может быть, последнюю веху.
Приезд Евы в Берлин не был для Гитлера неожиданностью. И все же, где-то в глубинах сознания, копошилась до самого последнего момента, не надежда, нет, а странная неуверенность в правильности принятого решения — устроить свой триумфальный конец здесь, в столице.
Берлина Гитлер не любил, как вообще не любил севера Германии, Пруссии. За эти долгие месяцы он ни разу не выехал на осмотр смертельно изувеченного города, ни разу сам, по собственной инициативе, не поинтересовался судьбами населения, жертвами, понесенными от вражеских бомбежек.
Юг, Бавария, Тироль, Оберзальцберг с его горным гнездом — Берхтесгаденом, вот что влекло его далекими упоительными воспоминаниями о былом могуществе и славе.
Там не было удручающих развалин, вокруг синели горы, был заготовлен еще один «последний редут» — не хуже этого, — где можно было б воздвигнуть себе не менее эффектный исторический памятник. В воображении рисовалось будущее славное имя, которое придет на место Берхтесгадена — Гитлерберг!..
12-го апреля произошло важное событие, всколыхнувшее жизнь обитателей Бункера: скончался американский президент Рузвельт, верный союзник Сталина и заклятый его, Гитлера, враг.
В тот день Геббельс примчался в Бункер с гороскопом фюрера, составленным еще в 1930 году и хранившимся у Гиммлера.
Согласно гороскопу, после поражений в начале 1945 года, должен был наступить, в апреле, перелом в военных действиях, которые закончатся полной победой Германии.
Выслушав своего министра, Гитлер улыбнулся — впервые за последние недели.
— Итак, — сказал он, — союзнички вскоре начнут в упор расстреливать друг друга?
Геббельс сиял. Он отвечал:
— Да, столкновение неизбежно!
В тот вечер Бункер бурлил как пчелиный улей, празднуя смерть врага. Геббельс подогревал всеобщий психоз огненными тирадами.
А Гитлер? Он сидел у себя на походном стуле перед портретом Фридриха и… вспоминал:
Какая и вправду изумительная аналогия: 1762-й год; великий прусский король, потерпев поражение, дает последний отпор врагам в крепости Бреслау. Отсюда же он пишет свое знаменитое письмо маркизу д’ Аржансону. Все, казалось, кончено и помощи ждать неоткуда.
Но вот, неожиданно умирает русская императрица Елизавета. На трон вступает Петр III, друг Пруссии. Союз России с Австрией и Саксонией расторгнут. Король спасен!
Гороскоп… Смерть Рузвельта… Фридрих Великий… Все это, конечно, выходило за пределы рассудочных суждений, но в обстановке, какая сложилась в тот критический момент, только иллюзия могла хоть частично рассеять сгустившийся мрак подземелья.
Не раз в последовавшие часы бесшумно проникали в кабинет к фюреру тени Миша, Геббельса и Бормана. Входили и так же бесшумно исчезали. Ночное совещание не состоялось. Гитлер неподвижно просидел до утра перед портретом, не отрывая остекленевшего взгляда от своего кумира.
Увы, дальнейшие события не подтвердили оптимистических предвидений гороскопа.
На другой день пала Вена. Еще через несколько дней Красная Армия стояла у Франкфурта на Одере.
А англо-американцы застыли неподвижно на Эльбе. Ставка на их конфронтацию с красными оказалась, таким образом, битой. Ничто больше не могло спасти Рейх.
Вечером 15-го апреля Гитлер поднялся наверх, к своей возлюбленной.
Только что началась очередная воздушная бомбежка, и верхний бункер дрожал как от землетрясения.
— Мне будет спокойней, если ты вернешься в Берхтесгаден, — сказал он ей.
Ева Браун отвечала:
— Я останусь с тобой.
Он, конечно, и не ожидал иного ответа.
— Ты знаешь, что это значит? — спросил он.
— Знаю.
— Мне придется сойти со сцены до конца действия.
— Я сойду вместе с тобой.
Гитлер прошелся по комнате и опустился в кресло. Подперев голову руками, он смотрел в пол, прислушиваясь к гулу от взрывов. Затем он сказал:
— Помни, что это твое решение, а не мое. Но если ты раздумаешь…
Но она уже была рядом. Опустившись на пол, она обхватила его колени. Она сказала:
— Впервые я запрещаю тебе говорить дальше!
Он усмехнулся, но ничего не ответил.
В тот же вечер Ева перебралась в нижнее помещение.
* * *
Гитлер взглянул на часы: двенадцать. В час — совещание, а еще нужно одеться. Он протянул руку и нажал кнопку на столе. В последнее время ему при утреннем туалете обычно помогал Арндт, двадцатилетний солдат, вернувшийся с фронта после тяжелого ранения. Но его еще накануне отправили в Берхтесгаден.
Поэтому на зов фюрера отозвался Миш; уже через несколько секунд он стоял в дверях кабинета.
Гитлер молча повернулся и направился к себе в спальню. Миш последовал за ним.
Без посторонней помощи Гитлер уже не мог одеться. Только в лежачем положении удавалось натянуть брюки, а затем носки и мягкие новые ботинки. После этого Миш осторожно поднимал своего господина и усаживал боком на стул. Дальнейшая фаза облачения была не легче. Левая рука никак не попадала в рукав френча, а попав, нередко застревала, согнувшись, в подкладке. Да и другая вела себя капризно, устремляясь на помощь к первой. Миш терпеливо, как больничная нянька, возился над скрюченной фигурой, невозмутимо выслушивая раздраженное брюзжание человека, никак не соглашающегося примириться со своей инвалидностью.
Когда оба рукава были заполнены, Гитлер поднялся и, опершись на спинку кресла, подождал пока Миш застегнет на все пуговицы его обычное обмундирование: черные брюки и серый, военного покроя, френч.
Последний не блистал свежестью: на нем проступали два пятна, посаженные вчера за ужином. Гитлер их и сам заметил раньше, но сейчас, когда Миш захотел их подчистить, он недовольно буркнул:
— Не надо!
Отказался он и от бритья, рассчитывая побриться к вечеру.
— Передайте генералу Кребсу, что совещание состоится в Малом зале конференций, — коротко обронил он.
Малый зал меньше всего походил на зал — 20 футов на 17, с таким же низким потолком. Тот факт, что он был избран, указывал на то, что совещание будет ограниченным как по составу, так и в отношении поставленных на обсуждение вопросов.
Ровно в час, выпив до этого чашку кофе, Гитлер входил в Малый зал. Все были в сборе. При появлении фюрера разговоры стихли. Движением руки он приветствовал присутствующих и уселся в кресло, стоявшее боком к залу и так же боком к главной стене с картами.
— Слово за вами, генерал Кребс!
Кребс, начальник генштаба сухопутных войск, подошел к карте Восточного фронта и дал сводку последних событий на этом участке. Гитлер слушал молча. Затем, перейдя к карте Западного фронта, Кребс пространно описал стратегическую обстановку здесь, объяснив, каким образом немецким армиям удалось прочно остановить неприятеля.
Гитлер знал, что это не так; понимал и то, что и участникам совещания это ясно. В другое время он и сам был бы не прочь поверить в оптимистические спекуляции, теперь же это было ни к чему. Он нетерпеливо заерзал в кресле.
— Короче, генерал!
Кребс вытянулся и щелкнул каблуками.
— Я, собственно, кончил…
Тогда Гитлер обратился к генералу Монке, коменданту Канцелярии:
— Будьте добры, генерал, прочесть мой приказ.
Монке снял со стола свернутую роликом карту, развернул ее и повесил на стену. Это была карта «Большого Берлина». На ней неправильным пятиугольником была выделена территория «Цитадели», последнего опорного пункта немецкой армии.
Монке никогда не был близок к Гитлеру. Но он был старым фронтовым офицером. И этим, и резкими заостренными чертами лица, он импонировал фюреру, презиравшему, за редкими исключениями, всех штабных генералов.
Поэтому, в обход других более видных кандидатов, он назначил командующим обороной «Цитадели» Вильгельма Монке.
Монке коротко и толково сформулировал стратегию «Операции Клаузевиц», закончив утверждением, что Берлин станет кладбищем для тысячи советских танков.
При последних словах Гитлер, до того слушавший совершенно апатично, дважды кивнул. Он знал из недавнего специального доклада, что немецкие панцерфаусты, фабриковавшиеся, кстати, тут же в подземных мастерских Берлина, оказались в уличных боях самым действенным противотанковым оружием.
Он, однако, ничего не сказал. Когда Монке закончил, Гитлер обратился к участникам совещания:
— Замечания есть, господа?
Тон, каким был задан вопрос, сам по себе исключал возможность дальнейшего обсуждения. Все молчали.
Гитлер медленно поднялся с кресла и, вяло отсалютовав своим соратникам, пошел, было, к выходу, но на полдороге остановился. Он обернулся к Монке:
— Генерал, будьте добры последовать за мной.
Когда они вошли в кабинет, Гитлер прошел к столу и оперся на него.
— Генерал, — начал он, — мне незачем напоминать вам о сложившейся обстановке. И однако, я должен поговорить с вами об одном важном деле. Как солдат с солдатом, понимаете?
— Яволь, мой фюрер!
Гитлер продолжал:
— Как вождь немецкого народа, я хотел бы закончить жизнь в рядах моих воинов. Но возможность ранения и пленения исключает такой вариант. Я не должен попасть в руки врагу ни живым, ни мертвым. Поэтому мне предстоит сойти со сцены заранее. Надеюсь, вы поняли меня?
И опять Монке, подтянувшись, отвечал:
— Понял.
— Так вот, генерал. Все, о чем я вас прошу, это предупредить меня за сутки до того, как вы сочтете окончательно невозможным гарантировать мою безопасность. В этом и заключается моя последняя к вам просьба и… приказ! Это все. Вы можете идти.
Монке молча отсалютовал и, четко повернувшись кругом, вышел из кабинета.
Оставшись один, Гитлер опустился в кресло у стола, немного помедлил и нажал на сигнальную кнопку. Вошел Миш, как всегда аккуратный и подтянутый. Гитлер спросил:
— Есть вести о «десятом номере»?
Эвакуация Канцелярии — штата и документов — в Мюнхен и Берхтесгаден была в разгаре. «10-й номер» был транспортер, на котором были отправлены ящики с записями служебных и частных разговоров фюрера. Судьба этих документов его беспокоила.
Миш отвечал:
— Вестей все еще нет. Ни в Мюнхене, ни в Оберзальцберге не принято никаких сигналов. Полагают, что самолет вынужденно приземлился из-за неполадок в моторе.
— Так… Передайте, чтобы мне принесли обед сюда. И скажите Борману, что я хочу его видеть.
В последние недели Гитлер редко выходил к общему столу. Присутствие людей его угнетало. Вот и теперь, когда Миш принес ему на подносе обед, как обычно, вегетарианский, приготовленный личным поваром фюрера — Констанцией Манциали, Гитлер уселся за небольшим столиком и принялся за трапезу.
Вкусовые ощущения у него, вследствие употребления сильных доз лекарств, почти атрофировались, да и аппетит появлялся редко; он ел как автомат, плохо разбираясь в поглощаемой пище.
То же произошло и сейчас. Поковырявшись в овощах, он отодвинул тарелку и собирался уже приняться за рисовый пудинг, когда услышал легкий стук в дверь. Затем дверь приоткрылась и в кабинет, мягкой кошачьей походкой, вошел Борман. Он сделал несколько шагов и остановился, вытянувшись.
Гитлер молча кивнул гостю на стул, приглашая его сесть, но тот оставался стоять, чего хозяин словно и не заметил. Он съел ложку-другую рисовой каши и только тогда оторвался от тарелки.
— Что слышно от Гиммлера? — Он, конечно, имел в виду другое: «Что слышно о Гиммлере?» Борман это понял. Он отвечал:
— Завтра от него прилетит с докладом генерал Фегелейн. Пока же мне не удалось с ним самим связаться.
Гитлер поморщился.
— Не добились связи со штаб-квартирой?
— Нет, связь со штабом установлена, но его самого там нет со вчерашнего вечера.
— Где же он?
— Никто не мог мне этого сказать.
Гитлер медленно и сосредоточенно ел сладковатую кашу. Закончив, бросил ложку и пробормотал:
— Странно… Доложите мне, как только что-либо узнаете!
Настроение у Гитлера окончательно испортилось. Все шло вкривь и вкось, все рассыпалось. Даже Гиммлеру нельзя было доверять. И потом этот дурацкий Фегелейн! Гитлер не без умысла женил его на сестре Евы Браун, рассчитывая, таким образом, иметь своего человека в окружении Гиммлера. А оказался дрянь человек и притом пьяница и бабник!
А Геринг? Тоже неизвестно, что у него на уме. Хитер, хотя и не Бог знает как умен! Другого, на месте Геринга, Гитлер давно бы убрал, но с рейхсмаршалом дело обстояло сложнее. Связывали их кровные узы совместной борьбы, «славного» прошлого. К тому же Геринг был едва ли не единственным мостом между партией и прусской военной знатью, которую Гитлер ненавидел, презирал, слегка ее побаивался, но в то же время связь с которой была ему необходима для консолидации сил в высшем командном составе Вермахта.
А все-таки следить за ним следовало. Об этом ему уже не раз нашептывал тот, кто сейчас стоял перед ним, такой же подозрительный и жестокий, как и сам Гитлер — Борман.
Появился он среди «избранных» как-то незаметно: сперва в роли личного секретаря фюрера, затем управляющего канцелярией, а позднее и всей администрацией партии. Функция эта упрочилась за ним скорее де-факто, официальное же его положение оставалось неясным — Рейхсляйтер!
Гитлер всегда недолюбливал всяческую административную нагрузку и потому до прихода Бормана взаимоотношения внутри партии, равно как и отношения ее с Канцелярией, с различными частями страны, хозяйственными и прочими институтами, носили несколько хаотический характер.
Борман все это изменил. Действуя осторожно, всегда от имени фюрера, он подтянул гауляйтеров, завел списки служащих и получал для предварительного просмотра все доклады, адресованные Гитлеру. Его ненавидели и боялись, и он платил такой же ненавистью и интригами. Гитлеру это было хорошо известно, но как всякий тиран, он приветствовал такое положение вещей. Он знал, что Борман был единственным, кто без него сразу становится ничем, а такие служат верно.
Зато с Борманом не о чем было говорить кроме как о делах. С ним не помечтаешь, как с умным Шпеером, не отдашься воспоминаниям, как с Геббельсом или Герингом. Борман был всегда тут, рядом, но своим в избранном кругу так и не стал.
И, глядя на него сейчас, Гитлер вдруг почувствовал усталость.
— Как Геббельсы? Переселились?
— Да. Магда с детьми обосновалась в верхнем бункере, а Геббельс занял комнату доктора Морелля.
— Ага… Хорошо, Борман… Вы можете идти.
— Мой фюрер…
— Да?
— У меня все еще сидит фон Риббентроп. Он просит вас принять его.
Гитлер раздраженно дернул плечом.
— Zum Teufel! Сколько раз мне нужно повторять, что я не желаю его видеть!
Борман подобострастно изогнулся.
— Я ему объяснил, что вы заняты, но он настаивает. Он говорит, что будет ждать у дверей как верный пес, пока вы его не примете.
Борман метил в слабое место Гитлера; тот это знал, но он догадывался и о другом. Вот уже некоторое время Борман, посредством ли туманных намеков, или через других лиц, старался склонить своего шефа к эвакуации Верховного командования в Берхтесгаден. «Трус! — думалось Гитлеру. — Только и беспокоится о собственной шкуре!..»
Неожиданно он раздумал. Он посмотрел на часы и сказал:
— Ладно, зовите! Только не дольше, чем на десять минут. Слышите: десять минут!
Еще через минуту в кабинет вошел министр иностранных дел Рейха. Худощавый от природы, он похудел еще больше; костюм болтался на нем как на вешалке. Лицо у него было бледное и измученное.
— Мой фюрер… — начал он нерешительно.
Хозяин смотрел на гостя с равнодушным презрением. Этот человек, вместе со своим министерством, был ему теперь ни к чему. Мало того, он возбуждал в нем невероятную скуку.
Гитлер слушал молча. Риббентроп говорил о вещах, в создавшейся обстановке неважных и неуместных. Было ясно, что он зашел, движимый несносным честолюбием, только чтобы напомнить о себе.
Когда он, несколько напыщенно заверив шефа в своей преданности, спросил — окончательно ли решение вождя остаться в Берлине, Гитлер не вытерпел.
— Этот вопрос, герр фон Риббентроп, никак не относится к вашему министерству, — раздраженно бросил он и демонстративно взглянул на часы.
Министру ничего не оставалось, как ретироваться. Хозяин едва буркнул что-то на прощание и, подождав, пока визитер не уйдет, медленно прошел в гостиную, а оттуда в коридор.
От всех этих нудных встреч с генералами и министрами его буквально мутило. Сейчас, как никогда, ему нужно было женское общество. Он прошел до конца коридора и, заглянув за угол, увидел Миша за столом связи.
Гитлер приблизился к нему и, когда тот вскочил на ноги, сказал:
— Пригласите фрау Кристиан и фрейлейн Юнге к чаю — в гостиную! — Затем, подумав, добавил: — И фрейлейн Манциали тоже.
Ни Еву Браун, ни Магду Геббельс фюрер никогда не приглашал к своим чаям; таков уж был им самим установленный порядок.
Когда, точно в пять минут шестого, он вошел в гостиную, молодые женщины ждали его, усевшись на диване и в креслах возле чайного столика. Чайник, приборы, поднос с пирожными, ваза с компотом — все было приготовлено.
Гитлер привычным жестом остановил женщин, когда они сделали движение, чтобы встать.
— Сидите, прошу вас!
Он уселся в свое кресло. Сейчас, среди этих полуреальных, изящных и не слишком умных созданий, он чувствовал себя проще и непринужденней. Ему захотелось чем-то отблагодарить их за эти короткие минуты относительного успокоения.
И он сказал:
— Если бы среди моего генералитета было столько преданных мне людей, скольких я вижу сейчас, война не была бы проиграна!
Он тут же с удовлетворением отметил, что его красноречивый комплимент произвел надлежащее впечатление. Он только пожалел, что эта его сентенция, никем не записанная, не войдет в историю.
Дело в том, что когда-то, вскоре после своего назначения, Борман наладил секретную запись застольного красноречия фюрера. Позднее этот ловкий придворный как-то, будто невзначай, проговорился хозяину о своем «секрете». Гитлер поморщился и приказал принести ему записи. Они оказались тщательно отшлифованными. Гитлер остался доволен.
Внешне он этого не показал; вернул Борману записи без комментариев. Но тот понял. С тех пор записи не прекращались, вплоть до переселения в нижний бункер. Здесь негде было спрятать стенографистов.
И опять кольнуло воспоминание: 10-й номер — тот самый транспортер, на который эти записи и погрузили! Что с ним?
Но тут же Гитлер спохватился; он считал себя отменным кавалером и внимательным хозяином. Пока Герда Кристиан разливала чай, он предложил дамам пирожные, сам взял ломтик штоли, откусил кусочек и сказал:
— Такую штолю я, помнится, ел в Берхтесгадене на Рождество, в 1938-м или 39-м году. — Он вздохнул. — Да, славное было время. И не нужно было прятаться в бункере.
Женщины смотрели, не отрываясь, ему в рот. Это его вдохновило. Совсем не думая о том, что повторяется, он отдался воспоминаниям: Берхтесгаден, Мюнхен, парад в Париже, триумфальное возвращение в Берлин, приемы, блеск восходящего Рейха!..
Когда он, наконец, остановился, Герда Кристиан восторженно прошептала:
— Такой славы не было ни у Цезаря, ни у Наполеона!
Гитлер скромно улыбнулся:
— Ну, это вы, положим… Маленький Корсиканец тоже оставил по себе след в истории. И потом вы позабыли главного — Фридриха Великого. Вот это, действительно, персонаж для античной трагедии… — Гитлер хотел сделать соответствующий жест рукой, но она дрогнула и, упав на живот, мелко затряслась. Он торопливо накрыл ее другой, сдерживая конвульсию. Минута, пока он успокоился, прошла в гробовом молчании. Тогда он положил правую руку на руку Гертруды Юнге, самой молоденькой и хорошенькой из секретарш. Он сказал:
— Будьте верны! — Верность — самое высокое качество: она — лучшее украшение немецкой женщины.
Гитлер возвел глаза наверх, но встретив там низкий пололок, сообразил, что в настоящей обстановке слова его могут показаться высокопарными. Чтобы снова опуститься на землю, он стал теребить за голову подошедшую к нему Белянку, большую овчарку светлой шерсти. Он даже объяснил дамам, каким образом эту породу выводят и в чем ее преимущество перед сенбернарами…
Точно в шесть Гитлер поднялся. Немного постоял, нащупывая ускользающее равновесие, затем поклонился гостям и неуверенной походкой направился к выходу.
Не успел он войти к себе в кабинет, как кто-то постучал в дверь. Это оказался Шпеер.
— Мой фюрер, — начал он, — я завтра улетаю и зашел проститься.
«Проститься! Проститься!» — это все, что Гитлер слышал в последние дни. Самое слово выводило его из себя. И хоть бы кто сказал: «Мой фюрер, позвольте остаться с вами!»
Гитлер молчал.
— У меня к вам просьба, — продолжал Шпеер.
— Какая?
— Мы эвакуируем администраторов одного завода. Среди них группа чехов-конструкторов со Шкоды, которых мы вывезли из Праги. Если эти люди попадут в лапы к красным, им не сдобровать.
— Ну и что же?
— Чтобы вывезти этих людей, нужно специальное разрешение.
Гитлер ощутил, как в нем поднимается волна гнева. «Чешские конструкторы! Черт! До всех ему дело. Обо всех позаботится, кроме…»
— Ну и обратитесь к Риббентропу! — едко обрезал он.
Шпеер выдержал короткую паузу, затем сказал:
— Это моя последняя к вам просьба. Личная просьба.
Гитлер почувствовав, как раздражение спадает. На место него приходила апатия, полное безразличие ко всему.
— Давайте! — Он щелкнул пальцами и шагнул к столу.
Шпеер, торопясь, вынул из портфеля бумагу и положил перед Гитлером. Тот, не читая, проставил внизу свои инициалы. Шпеер спрягал бумагу в портфель и вытянулся.
— Спасибо! И… прощайте! Желаю вам…
Он не докончил фразы; Гитлер, не глядя на него, отошел к карте на стене и там застыл в неподвижности.
Воцарилось молчание.
Шпеер медленно направился к двери…
— Постойте, Шпеер!
Шпеер остановился.
Хозяин повернулся к гостю. С минуту он колебался, затем с трудом выдавил:
— Скажите, Шпеер, почему, каким образом…
— И вдруг, резко оборвал фразу и, глядя в пол, отрывисто бросил: — Auf Wiedersehen!
Дверь за Шпеером закрылась. Гитлер остался один.
Теперь он знал наверное: все кончено! Если у него не хватило мужества поставить этот вопрос и спокойно выслушать ответ, то чего мог он требовать от других?
Шпеер! Он был едва ли не единственным, кто не солгал бы, чья искренность была вне подозрений. Интересно, догадался ли он, какой вопрос думал задать ему Гитлер? Наверное, догадался. И не трудно было догадаться, потому что этот вопрос непрестанно стоял перед обоими: почему была проиграна война? Но ответ на этот вопрос у каждого из них был свой, во многом их заключения не совпадали. Более того: Шпеер знал что-то, чего не знал или не хотел признать Гитлер. И это что-то больше всего страшило фюрера.
Почти всегда, когда он не был занят размышлениями над практическими вопросами или честолюбивыми воспоминаниями о былых успехах, или когда попросту не впадал в состояние бездумной апатии, Гитлер думал об одном: как это могло случиться? Перебирал в памяти препятствия, возможные промахи и просчеты, случайные неудачи, но все это, даже сложенное вместе, не давало ответа на вопрос.
…Ведь как удачно все началось! — думалось ему, — как слаженно работала государственная машина! Успех за успехом, молниеносные и неоспоримые! И какие открывались горизонты! Deutschland über alles! — не это ли было его главной всегдашней мечтой? Да, именно это. Самой войны он, собственно, и не хотел. Она была ему навязана. Если бы он ее не начал, красные орды давно бы захлестнули Европу. Он спас ее, а что получил в благодарность?!
…Еще Францию можно понять: он унизил ее, но должен же был он отплатить ей за унижения 1918 года! А что думала Англия? Нет, мир определенно сошел с ума, потерял всякий инстинкт самосохранения! Он, Гитлер, пришел в историю слишком рано, как и Наполеон, и остался таким же непонятым, как и все истинно великое!
…Впрочем, думал он, с Англией, да и с большевиками, он бы еще управился, а вот Америка оказалась роковым сюрпризом. Кто мог ожидать от этой изоляционистской страны фермеров и торгашей, что она займется европейскими делами? В идеалистические мотивы американской политики Гитлер не верил. Рынки, торговля — вот что, по его мнению, направляло эту политику; и еще — еврейская пропаганда! Евреи, конечно, не могли ему простить его «решения» еврейского вопроса. И тут у Гитлера иногда возникали сомнения: не поторопился ли он с этим «решением»? Не следовало ли обождать, пока не будет покончено и с плутократами и с большевиками? Но он тут же признавался себе, что ждать был не в силах; слишком захлестывала все его существо слепая ненависть к евреям.
Доходили до Гитлера — через дипломатов в нейтральных странах — жалобы «союзников» на якобы бесчеловечное отношение немцев к военнопленным, а также к населению оккупированных областей.
По поводу первых, помнится, фельдмаршал Кейтель пошутил в ответ, что он-де и сам не рад пленным; такого множества еще ни одной армии не случалось брать.
А насчет населения, так ведь этим, опять-таки, ведал Розенберг, который утверждал, что на этих варваров обычными средствами не воздействуешь…
Гитлер вздохнул. Варвары! Но как, каким образом эти варвары, обезглавленные и деморализованные, смогли остановить продвижение непобедимых немецких армий, разбить его лучшие ударные дивизии, дойти до Берлина? Судьба! Фатум! Какие-то непонятные темные силы — это они вторглись в круг истории, определив, наперекор звездам, его конечную неудачу…
Гитлер очнулся от своих одиноких размышлений, заслышав стук в дверь. В следующий момент он увидел острый лисий профиль Геббельса.
— Мой фюрер, — начал тот с порога, — позвольте приветствовать вас и поблагодарить за гостеприимство!
Гитлер был рад увидеть своего соратника, одного из последних, оставшихся верными ему до конца.
— Здравствуйте, Геббельс! Садитесь! Надеюсь, вы уже обвыклись в нашем подземелье?
Гитлер недаром ценил Геббельса за неиссякаемую бодрость. Вот и сейчас министр выглядел так же, как в 38-м году: в светлом полувоенного покроя пиджаке, в белоснежной рубашке, улыбающийся словно на параде. Он уселся на стул напротив.
— Отлично устроился, — сказал он. — Правда, это не Берхтесгаден, но все-таки лучше, чем в бункере моего министерства.
Гитлер криво усмехнулся.
— Вскоре и это убежище перестанет быть надежным. Вы подготовили проект завещания?
— Подготовил. Он здесь, со мной. — Геббельс чуть приподнял изящный портфель. — Прикажете прочитать?
— Да, прочтите!
Геббельс извлек из портфеля аккуратную папку. Раскрыл. Вздохнул, словно готовясь к прыжку, и начал читать.
Гитлер слушал, иногда одобрительно кивая, иногда, задумавшись, терял нить мысли. Он доверял Геббельсу; они отлично понимали друг друга с полуслова. Только однажды он прервал чтеца:
— Геббельс, это место прозвучало у вас чересчур траурно. Мы не бедные родственники истории: мы — нибелунги, и наше поражение только ступень к будущим победам.
Геббельс, как зачарованный, смотрел на своего шефа.
— Понимаю, отлично сказано! Я это исправлю.
— И он сделал пометку на полях черновика. Затем продолжил чтение…
…Итак, вот он, заключительный акт драмы! Гитлер слушал механически. Знакомые слова, старые мысли, повторение мест из «Mein Kampf». Когда он делал наброски «завещания», он, помнится, был вдохновлен, переживал поражение Рейха как великую историческую трагедию, в которой он был главным персонажем. Теперь что-то переменилось. Искоса поглядывая на низкий потолок, на унылое убранство помещения, Гитлер внезапно ощутил, как на место «трагедии» приходит другое — «неудача». И в этом нащупывался иной элемент, чего-то личного, человеческого. Неужели он попросту неудачник?! Победителей не судят, зато неудачников — клянут! Может быть, клянут и его, свои же, тысячи, миллионы, влачащие пещерное существование в разрушенных городах.
Возможно, он смешон? Причем смешон и физически? Последнее время Гитлер стал мнительным. Ему казалось, что и в инвалидности его было что-то неладное, слишком человеческое: дрожащая рука, кривящееся плечо, нелепо дрыгающая нога…
Уже то, что такие мысли могли появиться, было симптомом слабости. Действительно, он был уже не тот. Все чаще ловил себя на жалости к себе и, что еще хуже, на унизительной потребности, чтобы его кто-нибудь пожалел. Но на это никто бы и не осмелился, даже эти милые женщины, смотревшие на него влюбленно-преданными глазами. Даже Ева, в минуты их самых интимных отношений! Для них он по-прежнему оставался вождем, кумиром, несокрушимым в своем крушении. И отсюда рождалось его ледяное одиночество…
Гитлер поднял отяжелевшие веки. Задремал он или просто забылся? Нет, заснул.
Геббельса в кабинете не было. Зато в дверях стояли двое: Борман и Шпеер. В руках у Бормана были какие-то бумаги.
Оба ждали, не смея нарушить оцепенения шефа.
Борман первый заметил, что Гитлер открыл глаза Он выждал еще немного и затем сказал:
— Мой фюрер, получена телеграмма от Геринга.
Гитлер молча смотрел на своего секретаря. «Телеграмма. Геринг… И почему они сами не могут ничего решить? Почему все падает на него, на него одного?»
— О чем там?
Борман, торопясь, поднес бумагу к глазам и стал читать.
Геринг запрашивал Гитлера, не пришло ли время, ввиду полной неясности берлинской обстановки и изолированности фюрера от внешних событий, передать, согласно декрету от июня 1941 года, управление Рейхом ему, Герингу? Геринг просил ответа до 10 часов вечера.
Гитлер выслушал спокойно. Он видел, как взъерошен Борман, но он знал и то, как тот ненавидит Геринга. Шпеер стоял, бесстрастно глядя в пол.
— Ну и что же, — сказал Гитлер, — ответим ему, что время еще не пришло.
Бормана всего передернуло.
— Это еще не все, — сказал он, — здесь у меня вторая телеграмма, адресованная Риббентропу.
— Риббентропу?
— Да. В ней Геринг требует, в случае, если до 12 часов не последует инструкций от вас, чтобы Риббентроп немедленно вылетел в Берхтесгаден с докладом Герингу, как законному руководителю Рейха. Это измена, это гнусное предательство!
Но Гитлер и сам уже вышел из состояния апатии. Он весь дрожал от бешенства.
— Мерзавец! — глухо пробормотал он. — Как смел он! Как смел!
Борман подлил масла в огонь.
— Да, мой фюрер, Геринг — предатель! Его следует незамедлительно арестовать и расстрелять. Я давно уже предупреждал вас относительно этого субъекта. Если бы вы были в Берхтесгадене…
Это было ошибкой Бормана. Напоминание о бегстве из Берлина охладило Гитлера. Он сказал:
— Расстреливать рано. Пока же передайте ему, что я отрешаю его от всех занимаемых им должностей. Он должен немедленно подать заявление об отставке!
— Но…
— Никаких «но»! Ступайте и выполняйте мой приказ! И чтоб через час был ответ! Понятно?
— Яволь, мой фюрер! — Борман щелкнул каблуками и направился к выходу.
Шпеер последовал за ним, но Гитлер остановил его. Он подождал, пока Борман не скроется за дверью. Затем сказал:
— Шпеер, считаете ли вы правильным мое решение остаться здесь, в Берлине?
Шпеер, не задумываясь, отвечал:
— Да, вы решили правильно. Ваше место сейчас здесь, в столице Германии.
— Спасибо, Шпеер. Я и не сомневался в вашем ответе. Я только хотел проверить. Это все. Вы можете идти. Прощайте, Шпеер!
— Прощайте, мой фюрер! — Шпеер повернулся кругом и вышел из кабинета.
Гитлер опять остался один. Сверху глухо донеслись разрывы снарядов. Это тяжелая артиллерия «красных варваров» нащупывала последние очаги сопротивления в обреченной столице.
Петр Александрович Муравьев родился в Белграде, Югославия. Там же окончил русскую гимназию.
В 1947 г. окончил Мюнхенский университет — по политической экономии, а в 1970 г. получил докторскую степень по русской литературе — при Нью-Йоркском университете.
В США работал инженером-экономистом, консультантом промышленности и профессором экономики и промышленного управления — при Нуваркском инженерном колледже.
В 1974 г. вышел роман «Время и день»; в 1980 г. — сборник рассказов «Тень Дон-Кихота»; в 1986 г. — сборник рассказов «Звезды над Смоленском»; в 1990 г. — роман «Полюс Лорда».
В 80-х годах у писателя возникло новое увлечение — живописью.
В сентябре 1988 г. состоялась персональная выставка П. Муравьева (50 картин) в Музе им. Рериха в Нью-Йорке.



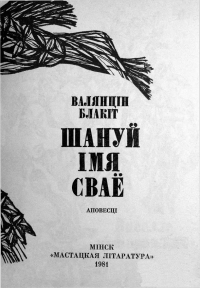




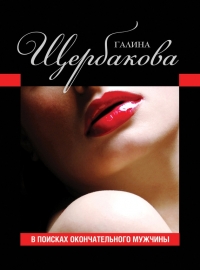


Комментарии к книге «Рассказы», Петр Александрович Муравьев
Всего 0 комментариев