Елена Вернер Десерт из каштанов
© Вернер Е., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
«Жизнь, которую ты спасешь, может оказаться моей»
(Джеймс Дин,
за несколько дней до гибели)Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«Сколько себя помню, мне всегда не давал покоя один вопрос: почему шоколад электризуется, если его натереть на терке? Что может быть более несовместимо, чем эта парочка?
Шоколад.И электричество».Часть первая. Джейн Доу
I
Ее привезли под утро. Уже рассвело, но в июне светает рано, и до конца дежурства оставалось еще несколько часов. То самое время, когда вдруг накатывает невыносимая, нечеловеческая усталость, перемешанная с ощущением пресловутой тленности бытия и бессмысленности всего сущего. Когда хочется домой и реветь – если верить Ларке. Сам Арсений, естественно, не плачет. Не та профессия. По правде сказать, Ларису Борисовскую за двенадцать лет совместной работы он тоже никогда плачущей не видел, даже когда от нее ушел муж, и то, что она когда-то призналась в желании «чуток пореветь», было настолько удивительно, что Гаранин помнит это до сих пор. Обычно все, что не касается работы, он выбрасывает из головы незамедлительно.
– Арсений Сергеич, ургентку[1] везут! – сунулась в дежурку медсестра. – Уже на подходе. Не то избиение, не то столкновение с поездом. Травмы, массивное внутреннее кровотечение. Вторая операционная.
Он одним глотком допил несладкий кофе, на зубах мягко хрустнул песок кофейной гущи. Арсений не переносит растворимый кофе и всегда захватывает из дома свой, самого мелкого помола – настоящая черная мука, – чтобы заваривать кипятком прямо в чашке и пить непременно очень горячим. Компромисс качества и быстроты. Этот вкус, кисловатый и чуть жженый, еще преследовал Арсения Гаранина, пока он бегом двигался по серо-зеленому коридору, переодевался в оперблоке и перебрасывался отрывистыми фразами с хирургом, седеющим субтильным Володей Сорокиным. Гаранин любит работать с ним, у Сорокина – ловкие маленькие руки, необъяснимая «чуйка» давно оперирующего человека и незлобивый нрав. В отличие от многих других с Сорокиным не надо ни прогибаться, ни ставить себя выше – словом, обычного подспудного соперничества хирургов и анестезиологов у операционного стола здесь даже не возникает.
Сколько бы операций ни было в его прошлом, сколько бы опыта он ни накапливал, Гаранину всегда в первую минуту не по себе рядом с лежащим на столе пациентом. Это не опасения сделать что-то не так, не страх за жизнь больного и не дурное предчувствие, конечно, – этому даже определения-то нет. Просто тугой холодный комок в животе, и челюсти сводит, как от озноба или зевоты. Сейчас это чувство было даже сильнее обычного. Но времени обращать на это внимание нет.
– Женщина, около двадцати пяти, вес 52, рост 171. Найдена без сознания на железнодорожной насыпи. В «Скорой» сердце встало. Запустили. Переломы костей лица, закрытая травма черепа, множественные ранения головы, желудочковая тахикардия, давление 90 на 50 и падает, пульс 130. Внутреннее кровотечение в брюшной полости. Перелом большеберцовой кости, правая нога.
– Общий анализ крови. Готовьте эритроцитную массу на переливание, – буркнул Сорокин. – И Лискунову звоните. Быстро.
Женщина? Да, пожалуй. Гаранин бегло и хватко оглядел распластанное перед ним тело. Смешение синего, белого и красного, и все эти цвета неприятны, мертвенны, каждый по-своему. Несмотря на то, что мониторы фиксировали признаки жизни, это было не тело, а почти останки. Ссадины, кровь, а вместо лица… Черт.
Кажется, он выругался вслух, потому что Сорокин бросил на него острый взгляд поверх маски. Медсестра продолжила:
– Судя по всему, жертва избиения и изнасилования.
– Ощущение, что и то и другое сделали грузовиком, – пробормотал Сорокин.
– А при чем тут поезд? Мне говорили, столкновение с поездом.
– Нашли на насыпи.
Гаранин дал наркоз.
Весь следующий день, отсыпаясь, он то и дело выныривал из потного сна, путаясь в мокрых простынях, и ему чудились волосы неизвестной женщины. Блестящие плети, кое-где залитые бурой густой смолой уже свернувшейся крови. Кажется, он слышал, как одна из ассистировавших медсестер шепнула другой:
– Какие волосы-то хорошие у девчонки… Жалко.
Черные волосы. Самые черные из всех, что Гаранину приходилось видеть, с синим отблеском, но некрашеные – он почему-то понял это сразу. Такого цвета бывают перья на шее у лесных воронов или грачей. Их сбрили подчистую, а по поводу черепно-мозговой пришлось вызывать бригаду нейрохирургов во главе с Лискуновым. «Снявши голову, по волосам не плачут», – вертелась и путалась в мыслях старая бестолковая поговорка, вызывая раздражение и тоску. Сейчас эти великолепные волосы наверняка покоятся в одном из мешков с хирургическими отходами.
На этой операции Гаранину стало плохо. Такое с ним впервые. Нет, во второй раз, чуть не забыл: однажды, на третьем курсе, всю группу водили в перевязочную посмотреть на вскрытие флегмоны. Он был не единственным, кто отключился прямо в перевязочной, но отец, профессор Сергей Арнольдович Гаранин, узнав о позорном фиаско сына, вздохнул разочарованно:
– Не выйдет из тебя ничего путного…
Однако в сознательной врачебной жизни с ним такое впервые. Всему виной непереносимая духота в операционной – опять сэкономили на кондиционере… А ведь им, стоящим вокруг стола, приходится едва ли не подпирать своими затылками лампы, отрегулированные оперирующим хирургом. Чувствуя, что уже поплыл и вот-вот потеряет сознание, Гаранин отошел от стола и прикрыл глаза. Кожу прошибла испарина, липкая, кислая, пальцы похолодели и мелко вибрировали, к горлу подступал давешний кофе.
– Светлана Юрьевна, – обратился он к медсестре сипло. – Попить дайте.
За сорок лет жизни, из которых детские годы он провел в окружении родителей-медиков, а взрослые – в мединституте, больнице и военном госпитале на Кавказе, Гаранин научился держать себя в руках. Вот и сейчас приказал себе вернуться к столу и делать свою работу. Не хватало еще, чтобы из-за его унизительного недомогания что-то на операции пошло не так. Эта несчастная женщина, больше похожая сейчас на раздавленную велосипедным колесом лягушку, явно заслуживает лучшего. После того, что пережило это тело, ей должны бы проститься все грехи. Вот только он и Сорокин делают все возможное, чтобы ангелы не уволокли ее в рай прямо сейчас…
Пробуждение оказалось ударным. Гаранин сел на постели рывком, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, и только после этого открыл глаза. Его тело было готово к бою, к бегу, к обороне, напряженное в каждой клеточке, суставе и мышце. И только несколько мгновений спустя, окончательно придя в себя после бредового сна, он понял, что биться ему не с кем и бежать тоже некуда. Он дома, в кои-то веки дома, и, если верить старинным часам, сумрачно перебирающим паучьими лапками стрелок, у него еще целый час до петушиного крика будильника.
С тех пор как два года назад его назначили завотделением реанимации, Гаранин почти не бывает дома. Постоянно засиживается допоздна в своем кабинете, ставя подписи в бесконечной череде выписок, графиков, табелей, распоряжений, уведомлений, должностных инструкций и отчетов. Или обходит вверенную ему территорию, наведывается к больным, следит исподтишка за медсестрами и врачами, делая выводы об их работе и душевном состоянии (моральный настрой тут очень важен). Спорит с начальством, пытаясь выбить современную потолочную консоль, дополнительные медикаменты, инструменты и бог знает что еще. Больница постоянно испытывает острую нужду в чем-нибудь, а его отделение особенно, хотя оно и так самое затратное из всех. Не потому, что тут одни транжиры, а потому, что здесь балансируют на грани жизни и смерти, и эта черная эквилибристика влетает в копеечку. Частенько Гаранин остается ночевать на работе, прикорнув на диване и укрывшись с головой худым колючим шерстяным одеялом, которое в обычное время лежит в шкафу на верхней полке. Не то чтобы это было необходимо – скорее, ему не нравится альтернатива долго трястись в трамвае, топать через парк, подниматься по лестнице на верхний, третий, этаж и заходить в пустую темную квартиру, где его никто не ждет. Больше не ждет.
Прошло около двух лет, а он все ловит себя на том, что пытается услышать ее шаги, уловить ее запах. Когда он приходил, Ирина почти всегда была дома, выходила из дальней комнаты с книгой в руках и шалью на плечах или выглядывала из кухни, откуда волнами накатывали запахи пряностей, уксуса, горячего варенья, жареного лука, гречневого супа… У нее была особая улыбка, небыстрая, словно жена не сразу узнавала его, выплывая из морока собственной задумчивости, и по мере узнавания улыбка становилась все шире. Теперь ему этого не хватает. Квартира тихая, прохладная, всегда с одним и тем же запахом: на стене прихожей висит большой сухой венок из листьев лавра и эвкалипта, который они привезли из последнего совместного отпуска. Ездили в Грецию… Этот трескучий островатый аромат не терял своей силы с течением времени, им пропахла одежда на вешалке и полотняная штора, закрывающая стеллаж с книгами. Он напоминает об Ирине и архипелаге в Эгейском море, так же как напоминают о них голубые стены и белый потертый комод. Вот только в отличие от воспоминаний, перелитых средиземноморским солнцем, словно оливковым маслом, настоящее Гаранина сухо, сумрачно и холодно, как этот венок на стене.
У него нет даже домашнего питомца, который встречал бы вечером, потираясь спиной об угол или виляя хвостом от радости. Нет кошки и собаки – это лишняя ответственность, а у него и так этого добра хватает. Даже цветы, которые Ирина растила в горшках и кадках, он перевез потом в больницу, в холл. Там их хоть кто-то видит: медсестры, больные… Может, кому-то эти цветы поднимут настроение. Сам-то он за цветами ухаживать не умеет, как-то загубил один (название, конечно, выпало из памяти, потому что совершенно не пригодится в работе) и расстроился намного сильнее, чем от себя ожидал. Решил, что лучше и вовсе избавиться от этих зеленых обормотов в горшках. Так что теперь их Вера Ромашова обихаживает. Или кто-то из санитарок, точно Арсений не в курсе.
Чувствуя, как медленно и неохотно отступает дремота, он почистил зубы, поплескал в лицо холодной водой, зашнуровал кроссовки и спустился по лестнице. Жара еще не успела разойтись, из-под балконов и из темных дворовых углов тянуло ночной влагой, хотя небо уже наливалось белесым зноем.
Гаранин бежал по парку, ощущая, как ступни упруго встречаются с вытоптанной землей тропинки: хлоп, хлоп, хлоп. Футболка на спине промокла и липла меж лопаток. Он всегда бежит не по мощеной дорожке, а по грунтовой: бережет коленные суставы. Руки работают, как поршни, вперед-назад, кровь по венам струится быстрее, на лбу выступает пот, грудь вздымается от разворачивающихся в полную силу легких. Этот непременный утренний моцион проводится уже давно, чтобы окончательно проснуться и привести организм и мысли в порядок. За эти сорок семь минут Арсений успевает прокрутить в голове вчерашний день, упорядочить его, составить список дел на сегодня, вспомнить имена больных, их диагнозы, назначения. Иногда во время пробежки у него наступает озарение, вдруг вспоминается упущенная накануне в суматохе деталь, оброненное замечание, которое теперь вдруг встает на место и позволяет сделать важный вывод. Например, как на той неделе, когда он не сразу заметил чересчур тревожное состояние пожилой пациентки, и только на третьем круге вдруг осенило, что ее тревога – это симптом. К счастью, очень вовремя осенило.
Сегодня он думал о неизвестной с черными волосами. Об операции.
Из-за сильного отека они сообща приняли решение держать ее пока в медикаментозном сне, чтобы снизить возможность повреждений. Когда операция завершилась, в холле, как раз в окружении комнатных растений, когда-то росших у него дома, Арсения уже дожидался полицейский. Наверное, этот тучный человек с темными кругами под глазами просидел здесь не один час и уже потерял всякое терпение, судя по тому, как проворно и раздраженно он рванулся навстречу врачу. Капитан, разглядел Гаранин погоны. Приближаясь к посетителю неспешным шагом, он привычно составлял портрет незнакомого пока человека. На вид около сорока, скорее больше, чем меньше, хотя с подобной работой он может выглядеть старше своих лет. Взять хоть самого Арсения: первые морщины у него появились еще во время бессонных бдений интернатуры… Форма опрятная, а ботинки давно не чищены, их тусклые носы выглядывали из-под мешковато висящих брючин. Китель он по случаю жары снял и перекинул через спинку стула, не боясь помять, а рукава рубашки закатал до локтя, так что стали видны крепкие волосатые руки. На правой Гаранин разглядел большой белый рубец овальной формы, с бледными лучиками хирургической стяжки по краям. Возможно, старый след от пули.
– Вы Гаранин? – спросил полицейский довольно хмуро. Арсений кивнул. Ему не понравился тон, пусть даже этот человек прождал его не один час… Он тут тоже не землянику собирал.
– Капитан Грибнов, следственное управление. Веду дело вашей пациентки…
– Вы узнали, кто она? – перебил его Гаранин. Капитан чуть заметно поморщился от неудобства прямого вопроса и стал разворачивать рукава, приводя себя в порядок:
– Еще нет. Ищем. По крайней мере, заявлений о пропаже человека, подходящего под ее описание, пока не поступало. Она хоть выжила?
– Хоть выжила! – Арсений отозвался резче, чем планировал.
– Тогда мне бы с нею потолковать…
– Капитан… Грибнов.
Арсений сделал паузу, потом вздохнул, потер руками глаза и лицо, чувствуя, как отросшая щетина царапает ладони. Наверное, видок у него изрядно помятый. Еще бы, двое суток на ногах. Надо приструнить свое раздражение…
– Капитан Грибнов, – уже миролюбивее продолжил он. – Эта женщина пережила жестокое, зверское нападение, у нее очень серьезные травмы, и опоздай «Скорая» минут на пять, мы бы ее уже не спасли. Сейчас она в медикаментозном сне, и пообщаться с ней совершенно невозможно, только если у вас нет какого-нибудь знакомого экстрасенса или медиума, который может достучаться до коматозницы, но я думаю, что вряд ли. – Он хмыкнул в конце фразы, давая понять, что это шутка, но у Грибнова на лице ни один мускул не дрогнул. – Держать ее в этом состоянии мы будем столько, сколько потребуется, чтобы исчезла угроза повреждений мозга, и сейчас я не могу сказать, насколько все плохо. Даже придя в сознание, она может ничего не вспомнить о произошедшем или забыть, как говорить, двигаться, кто она… Неврологические, физические и психические последствия предсказать в этой ситуации чрезвычайно трудно. Так что я советую вам начать с другого конца.
– С какого конца?
– Ну, это уж вам виднее. Место преступления, свидетели… – Гаранин развел руками.
– Так вот вы и есть один из свидетелей! Я тут что, зря столько торчу?
– Не знаю, зря или не зря, но свидетель я никудышный… Неизвестную привезли на «Скорой» примерно в 3:50. Были ли при ней какие-то личные вещи – понятия не имею, об этом надо врачей «Скорой» спрашивать. При мне на ней и одежды-то уже не было, медсестры сняли. Владимир Сорокин ее прооперировал, я был на операции анестезиологом. Теперь она в палате реанимации. Вот, собственно, и все, что я могу вам сообщить.
Грибнов покивал, подошел к посту медсестер и, перегнувшись через стойку, не спрашивая разрешения, вытянул из стопки чистый лист бумаги, перевернул обратной стороной, проверяя, не написано ли чего. Вера Ромашова, старшая медсестра отделения, наблюдавшая их разговор издали, выразительно и возмущенно приподняла брови, но Гаранин качнул головой, мол, пусть. Капитан протянул лист и, вытащив из деревянного стаканчика шариковую ручку, пощелкал ею пару раз:
– Можете это все записать?
– Нет, навряд ли. Я с суточного дежурства, завершившегося сложной операцией. Поэтому сейчас я пойду переодеваться, а вы пока запишете мои показания в той форме, которая вас больше удовлетворит. И на обратном пути из своего кабинета я непременно их подпишу.
Оставив капитана с выпученными глазами – тот явно не привык к отсутствию трепета перед ним, – Гаранин прошагал по коридору под ликующим взглядом Ромашовой.
Теперь, делая очередной круг по парку, подставляя разгоряченное лицо ветру, Арсений нисколько не жалел о своей беседе с капитаном. Вместо того чтобы торчать в больнице, мог бы по горячим следам расследовать дело. Впрочем, Гаранин в следственных мероприятиях не специалист… Они разошлись в разные стороны сразу после того, как были подписаны свидетельские показания и сунута в портфель простенькая картонная визитка с координатами следственного отдела, и очень хотелось бы верить, что капитан поехал расследовать дело неизвестной дальше.
Неизвестная… Мыслями Арсений снова вернулся к ней. Истерзанная плоть. Про душу внутри изувеченного вместилища лучше вообще не думать. Она сейчас в благословенном забытьи, в небытии. Мир для нее не существует, и его, Арсения Гаранина, в ее мире не существует тоже, равно как и всей больницы целиком. Занятно все-таки: она для него есть, а его для нее – нет и никогда еще не было. Это хорошо.
Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы незнакомка подольше пробыла в медикаментозной коме, словно отсрочка могла как-то уменьшить ее трагедию. Конечно, уменьшит – физически. Чем дольше она пробудет в контролируемом сне, тем лучше затянутся ее раны, начнут срастаться переломанные кости; микроскопическая жизнь клеток, сосудов, весь этот таинственный мир внутри ее тела будет вновь стремиться к цельности и здоровью. Возможно, даже ее лицо успеет приобрести отдаленно прежние черты – Гаранин слишком хорошо видел ее травмы, чтобы понять, что она никогда полностью не вернется к своему изначальному облику. По крайней мере, не без помощи пластических хирургов.
Но пока нет даже этого. Тотальное ничто. Не существует даже ее имени. В англоязычных странах для подобных случаев есть общее имя – экземплификант, Джейн Доу: так называют всех неопознанных женского пола в больницах и моргах; у нас ничего подобного нет. Просто неизвестная. Незнакомка. Вдруг не к месту подумалось, что незнакомки в реальной жизни чаще встречаются отнюдь не блоковские, дышащие «духами и туманами», а вот такие, окровавленные и обезображенные до неузнаваемости.
II
Он сошел с трамвая на остановку раньше обыкновенного и побрел мимо живой изгороди из кустарника, покрытого молочными, медово пахнущими мелкими соцветиями, напоминавшими мотыльков, по шаткому мостку перебрался на другой берег затхлого ручейка, почти потерявшегося в высокой траве, и очутился у дальнего входа на больничную территорию. Давненько он тут не бывал. Судя по тому, что в глаза бросался общий упадок, главврач и завхоз сюда тоже заглядывали нечасто. Краска на чугунной ограде облупилась и завитыми лохмотьями осыпалась в придорожную пыль, штукатурка со столбиков тоже. Между больших, раскрошившихся уже кое-где по углам тротуарных плит лезли растрепанные кочки овсяницы, любопытный мятлик и приземистый основательный подорожник, а в советских бетонных вазонах-шестиугольниках рассыпали по ветру сероватый пух перезрелые одуванчики да трепетали серебристые хвостики ячменя. Гаранин про себя отметил, что, хоть это и ячмень, совершенно точно ячмень, но в детстве, помнится, бабуля Нюта называла его ковылем. Но даже это теплое, мигом промелькнувшее воспоминание не развеяло огорчения от увиденного. Да, все здесь довольно живописно, даже фонтан с выщербленной чашей, на самом дне которой в лужицах дождевой воды киснут листья и травяной сор. Но на территории горбольницы не место цветущему декадансу, по-хорошему-то… Так сказать, в идеале… Но кто из нас когда этот самый идеал узрел? Вот то-то же… И тем грустнее, что Лидия Алексеевна Шанина, их главврач, получившая прозвище Шанель за любовь к высоким каблукам, прическе бабетта из седых волос и старомодным платьям с узкой талией и пышной юбкой, прекрасно знает, как неприглядна задняя часть территории. Да вот только деньги на ремонт фонтана можно выбивать лишь после того, как починят раковины в палатах, заменят заржавленный, вечно текущий вентиль на третьем этаже, приклеят на место отвалившийся кафель в кардиологии, закупят расходные материалы на пару лет вперед, а еще аппарат УЗИ, уже упомянутую консоль, а еще рентген и… Можно перечислять до бесконечности, и ни каблуки, ни бабетта положения не исправят. Правда в том, что, пока они просят больных самостоятельно добывать шовные материалы и трамадол с мелоксикамом, стыдно даже думать, что у фонтанной статуи «Мальчик с дельфином» на дальней аллее постамент дал трещину. Какие, к черту, трещины в постаментах…
Гаранин кивнул греющемуся на солнышке Максимычу. Он сторож, хотя Гаранину еще с юности больше нравилось называть его привратником. Сколько он помнит эту больницу, Максимыч всегда здесь, местный старожил, и даже не сильно изменился: все та же седая трехдневная щетина, которая никогда не бывает двух- или четырехдневной, папироса в желтых пальцах и распахнутый тулуп – в июльскую жару и в январскую стужу.
– Здравия, Арсений Сергеич! – нараспев произнес Максимыч.
– И вам не болеть. Как оно?
– Помаленьку.
– Ну и славно.
Этот диалог стал почти традицией, Гаранин редко останавливался поболтать с привратником, но переброситься парочкой слов при встрече считал обязательным. Когда он проходил мимо, дворняга Максимыча, Берта, лежа в тени большого шиповника, дружелюбно побила обрубком хвоста в пыли. На памяти Гаранина, до Берты у Максимыча была Изольда, до нее – Марго, а еще раньше – Годива, белейшая лохматая овчарка, с которой Арсений часами бегал по двору больницы, когда приходил на работу к матери после уроков в младшей школе. Заднюю левую лапу ей ампутировали после того, как свора бродячих собак почти отгрызла ее, но Годива и на трех лапах мчалась куда быстрее Арсения. Когда она умерла, он очень горевал, иногда даже плакал. Кажется, тогда – в последний раз в жизни. Появившейся после этого рыжей Марго он никогда не приносил ни говяжьих костей, ни сосисок из больничной столовой. От ее шерсти вечно воняло псиной.
Арсений зашагал быстрее. По длинной аллее, засаженной стройными рослыми липами, он добрался до восточного крыла здания, второй этаж которого занимало его отделение. Главный корпус горбольницы, светло-желтый, старинный, был построен еще до революции. Его, пожалуй, можно назвать даже красивым с фасада, с этой белой оторочкой барельефов, оконных переплетов и воздушной колоннады у парадного входа. Здесь, позади, располагаются хозпостройки, стоянка карет «Скорой помощи» и морг, сюда же выходят пожарные лестницы. Арсений отметил, что жизнь тут по-прежнему кипит, водители, пожевывая сигареты, перебрасываются шутками с хорошенькой молодой докторшей, санитарка выносит звякающее ведро помоев, из кухни пахнет рисовой кашей и горелым маргарином. Почти зайдя через черный ход в здание, он поднял глаза на окна отделения и нахмурился: окно сестринской было распахнуто, на подоконнике вполоборота сидела медсестра и курила.
Гаранин взлетел вверх по лестнице, в мгновение ока пересек коридор и распахнул дверь сестринской.
– Вы что себе позволяете?
Медсестра, немолодая, похожая на усталую сову, испуганно скользнула ягодицами по подоконнику и замерла, глядя на Гаранина затравленно, исподлобья. Сигарета все еще сизо дымилась в ее пальцах, сунутых едва ли не в карман халатика. Звали медсестру Валентиной, она устроилась работать в отделение в прошлом месяце. Что ж, недолго продержалась.
– Я вас спрашиваю! – Не закрывая за собой дверь, Гаранин вошел в сестринскую, где пахло хлоркой. Женщина понуро молчала.
– Валентина, вы четко проинформированы о правилах нашего отделения. Так? Так или нет?
– Так, – ответила она негромко, но твердо, будто спорила, а не соглашалась.
– И там ясно сказано, что курить в отделении запрещено. Это не бар и не дискотека. Это ОРИТ[2], черт возьми. Здесь люди… лежат! Вы за них отвечаете. А как вы можете отвечать за их жизнь, когда не способны дойти до лестницы? Я же не прошу луну с неба! Просто дотащиться до дверей отделения вы как, в состоянии? Вместо того чтобы травить их прямо тут! И себя тоже. Ну как так можно?! – Гаранин глубоко вздохнул и рубанул: – Пишите заявление по собственному желанию. У меня всё.
Он едва успел переодеться в своем кабинете, когда в дверь постучала Ромашова. Она уже была в курсе – по глазам видно.
Старшую медсестру Веру Ромашову за спиной все в отделении звали Ромашкой. И она это, конечно, знала, потому что хорошая старшая медсестра всегда в курсе, что происходит на вверенной ей территории, а Ромашова – хорошая медсестра. На цветочное прозвище она не обижалась, потому что к фамилии своей давно привыкла и на глупости внимания не обращала в принципе: ее внимание слишком дорого, чтобы им разбрасываться. Помнится, когда Гаранин увидел ее впервые, то невольно еще раз заглянул в трудовую книжку, подумав: «Да ладно! Не смешите. Это и есть медсестра с опытом работы? Не слишком ли молода?» У Ромашовой был младенчески-гладкий лоб, над которым свивался в кудряшки золотистый пушок, не попавший в гладкий узел на затылке, и огромные глаза наивной гимназистки. Худая, невысокая и до невозможности расторопная. И если поначалу она в своем небесном брючном одеянии казалась не то Дюймовочкой, не то Снегурочкой, то скоро от первого впечатления не оставалось и следа. Ходила она быстро, хотя и без мельтешения, говорила веско, смотрела остро, зорко, бегло, ничего не упуская, потому как все перепроверяла дважды. Ее сухие руки были настолько ловки, что можно было только диву даваться. Иногда ее звали в другие отделения: когда попасть в тонкую или ушедшую вглубь вену не удавалось несколько раз. Катетеры она ставила виртуозно, даже если нужное место западало и не пальпировалось. Она могла попасть, как говорится, «в темноте с разбегу» в любую вену. Талант.
Но и в остальном, кажется, не имелось такой работы, которую Ромашова была бы не в состоянии выполнить, с которой бы не справилась. И нервы у нее – как стальные канаты, и с мозгами порядок. Для одинокой женщины, которая замужем за собственной работой, – редкость, признавал Гаранин. Однажды, к тому моменту, когда они уже сработались, Вера призналась, что в юности ее как-то сразу заприметили врачи в операционной и начали ставить на крючки во время холецистэктомий и на резекции желудка, и она ни разу не потеряла сознания над разверстым багровым зевом человеческой плоти, чем долгое время гордилась: «Девчонкой была, что взять-то…»
Ромашка прикрыла за собой дверь, придерживая рукой.
– Доброе утро, Вера. – Арсений сел за стол, машинально взглянул на график дежурств на июнь, подсунутый под толстое царапаное стекло поверх столешницы. – Как у нас дела?
Ромашка лаконично описала жизнь отделения за прошедшую ночь, хотя знала, что позже Арсений выслушает подробный отчет от дежурных. Никто не умер. Вчера прооперированная дама с резекцией кишки немного буянила, психоз из-за интоксикации. Пробовала отгрызть катетер и ударить медсестру Лену в нос.
– Лена отбилась?
Вера неопределенно улыбнулась:
– Пациентку седировали. Пара больных поступила из экстренной хирургии, один с аппендицитом, другой после автоаварии с открытыми переломами конечностей.
– Попозже к ним зайду. После летучки.
– Койки для плановых уже готовы.
– Хорошо.
– Через полчаса совещание у Шаниной, – сообщила Ромашка. – Просили быть всех завотделениями…
– Буду, куда мне деться. Что там… с той девушкой?
В глазах Ромашовой мелькнуло непонимание – выражение, настолько ей несвойственное, что Гаранин на миллисекунду тоже растерялся: как можно не понять, о ком идет речь? Все мысли ведь постоянно к ней возвращаются… Потом спохватился и уточнил:
– Неизвестная. В первом боксе.
– А, с ней порядок.
По непонятной, но какой-то досадной причине Гаранину хотелось, чтобы ответ медсестры оказался более развернутым, но она обронила это свое «с ней порядок» и замолчала, и Арсений не стал допытываться. Лучше сам потом заглянет.
Гаранин кивнул, давая понять, что разговор окончен, но Ромашка не уходила. Пришлось поднять глаза от бумаг.
– Арсений Сергеевич. Надо решить по поводу Валентины. Сергиенко.
– Что там решать? Она курит в отделении.
– Такое больше не повторится.
Арсений посмотрел на Ромашову с иронией: ей-то откуда знать.
– Она толковая… Нам такие нужны, – мягко продолжила Ромашка, и Гаранин расслышал за ее словами: «Такими не разбрасываются». В общем-то она права, конечно, у них напряженка с квалифицированным персоналом. Недавно одна из процедурных ушла в декрет, так что пришлось взять совсем молодую девчонку после училища, которая не умеет толком даже капельницу поставить… Словно подслушав его мысли, как бывало нередко, Ромашка подытожила:
– Я новенькую ей в подмастерья дала, Лену, чтобы научила ее всему…
– Вера… Чего ты от меня хочешь? Мне кажется, это непрофессионально и просто низко – вести себя, как Валентина. Хочешь, чтобы я изменил свое мнение на ее счет?
– Чтобы вы изменили свое решение. А мнение может оставаться прежним, – улыбнулась Ромашка безмятежно. Ох и бестия… Арсений чуть было не улыбнулся в ответ, но сдержался, сжал губы и для пущей убедительности нахмурился:
– Твоя взяла. Дадим еще один шанс Валентине.
Ромашка с готовностью кивнула и поднялась:
– Спасибо.
– Один, Вера, – Гаранин поднял указательный палец. Медсестра улыбнулась снова, и он был готов поклясться, что в глазах ее плеснулось торжество, точь-в-точь рыбка на середине тихой заводи. Ладно, Ромашовой это позволительно. Пусть думает, что уломала заведующего отделением… По правде, Арсений и сам знал, что процедурную медсестру выгонять нельзя, но, не заступись за нее старшая, это о многом сказало бы. А так – все хорошо, позволил себя убедить, а заодно выведал, как Ромашка относится к подопечной.
День в горбольнице пошел своим чередом. Летучка по отделению, совещание у главврача, на котором все чуть не порвали глотки, пытаясь поделить скромное муниципальное финансирование на следующий квартал; обход, плановая операция, легкая истерика дочери старенькой пациентки из пятой палаты, обед в столовой.
Гаранин как раз лениво гонял вилкой видавший виды зеленый горошек по тарелке, когда рядом бухнулся о стол тяжелый поднос. На нем стояла тарелка грибного супа, затянутого желтыми масляными кружочками, котлета с пушистым пюре, две булки: одна в сахарной обсыпке, другая с вишневым повидлом. И чай – кирпичная жидкость за толстым граненым стеклом. Лариса Борисовская спустилась перекусить.
Она чмокнула Гаранина, тут же чуть послюнила палец, стерев с его щеки след от своей помады, и села напротив – румяная, сдобная, с блестящими желтыми, как у кошки, глазами и покачивающимися в ушах массивными серьгами из крикливой ростовской финифти в серебряных завитушках. На белой пышной груди покоилось, как на этажерке, такое же расписное колье. Борисовская испытывала страсть к броским украшениям, носила их в ушах и на груди, видимо, компенсируя невозможность украшать руки. Как врачу (и особенно – гинекологу) в перстнях и кольцах ей было отказано заведомо.
– Ну что, дружочек, червячка моришь? – хохотнула она.
– И ты, как я посмотрю, не голодаешь, – в тон ей откликнулся Гаранин. Она с аппетитом вонзила зубы в плюшку с повидлом, вгрызаясь в самую сердцевину, где послаще. И с завидным удовольствием, закатив глаза, пробормотала неразборчиво, смахивая крошки с губ:
– Мечтала об этом полдня… У нас всегда по четвергам такие привозят, замечал? Только по четвергам.
– Вот уж на что не обращаю внимания…
– А ты бы обратил! Вкуснятина! – Она в три укуса справилась с плюшкой, запила чаем и успокоенно улыбнулась:
– Теперь можно и пообедать… Слышала, у тебя коматозница новая.
– Ты-то откуда знаешь? Лучше б про бюджет на следующий квартал спросила.
– А! – Лариса махнула рукой. – Гинекологии все равно ничего не причитается.
– Не прибедняйся, пожалуйста. Вы только и живете, что на благодарностях от успешно разрешившихся чиновничьих жен.
– Так и я ж о том. Но официально – ни-ни. Так что там коматозная-то?
– Лежит, – буркнул Гаранин. – Что ей сделается. Технически она не в коме, а на препаратах. Отек был, решили перестраховаться.
– И ни имени, ничего? – уточнила Борисовская, вылавливая из супа рыжий скользкий китайский опенок, ничего общего с опятами на самом деле не имеющий. – Девчата болтают, ее на насыпи за парком Пионеров-Героев нашли. М?
Борисовская испытующе всмотрелась в Арсения.
– Я как-то больше по медицине… – и уголок его рта мелко дернулся.
– Ох, Гаранин, будь ты проще, сколько раз тебе говорить! Вот не может быть, чтобы тебе не было интересно. Это ж даже не сплетни, это – про-ис-шест-вие! Если не городского, то районного масштаба. И не просто с кем-то там… а с твоей пациенткой. А может, кто-то что-то видел и сейчас вспомнит, и это поможет найти урода, который такое сделал, а? Ты ж ей наркоз давал, неужели не любопытно…
– Вот именно поэтому, Лара, именно поэтому, – Арсений не дал ей договорить. – Я у стола стоял, прямо над ней. Видел и селезенку ее разорванную, и почечную ножку, оторвавшуюся от почки. И что на ней живого места нет ни снаружи, ни внутри. Ее даже опознать невозможно, потому что вместо лица – фарш, будто только что из мясорубки… Знаешь, был такой старинный рецепт у красавиц девятнадцатого века – на ночь привязывать сырые телячьи котлеты к щекам, для хорошего цвета лица… Я вспомнил об этом чертовом рецепте четыре раза, пока стоял там. Я могу представить себе по секундам, шаг за шагом, что с нею вытворял этот нелюдь. И именно поэтому как-то вообще не хочется об этом думать и что-то представлять. Особенно за обедом!
О нет, он не боялся испортить себе аппетит, его врачебный желудок и не такое выдерживал. Но во всем этом ажиотаже ему почудилось что-то неправильное, нездоровое. Все равно что собирать толпу зевак у места крушения. Борисовская суть уловила, но хмыкнула:
– Стареешь, батенька. Корабль профессионального хладнокровия дал течь.
– Ладно, кончай строить из себя циника и стерву, лучше булку жуй, – беззлобно отозвался Гаранин.
– Тебе бы бабу, – миролюбиво вздохнула Борисовская. – А то на куски разваливаешься, я-то вижу. То смотришь зверем, то хандришь целыми неделями. В понедельник стоял на лестнице и пялился в одну точку. За окно. Ни дать ни взять Рыцарь печального образа. Сонечка Мирошниченко с тобой дважды поздоровалась, а ты ее и не заметил. Я все вижу, Гаранин! Я твоя нечистая совесть. И общественное порицание тоже. Нельзя так.
– А как можно?
– Не знаю, как можно, зато знаю, как нужно. Тебе надо с кем-то общаться.
– Я с тобой вот общаюсь, – пожал плечами Арсений. Этот разговор перестал ему нравиться еще полгода назад.
– Ну что ты дурку валяешь? – возмутилась Ларка. – Сам же понимаешь, о чем я. Со мной он общается… Ты ж посмотри, какой общительный!
– Прекрати меня сватать. И хватит меня на женщин натравливать.
– Ой божечки, слово-то какое выискал! Натравливать! Кинг-Конг ты недоношенный, да ты от барышень наших бежишь сломя голову. Тебя натравишь, как же!
– Хватит, Лар, – Гаранин поморщился. – Я серьезно. Хватит.
На обратном пути из столовой Гаранин встретил Саню Архипову. Она, по-прежнему еще на костылях, ловко впрыгнула в распахнутую дверь второй травматологии. Рядом шагал ее жених – кажется, Федя.
– Привет, Саня.
– Здравствуйте, Арсений Сергеевич! – Ее белые веснушчатые щечки заволокло румянцем.
– Как самочувствие?
– Хорошо, спасибо! Вот, гулять пошли.
– Правильно, тебе полезно. Хотя в тихий час надо отдыхать. Тебя не потеряют?
– А они привыкли, я же вечно ношусь туда-сюда. Належалась уже, надоело, – мотнула головой девушка и нетерпеливо откинула со лба прилипшую прядку. Лицо сердечком, пухлые губки, россыпь ржаных веснушек по белой коже, а волосы – тугие апельсиновые пружинки, подпрыгивающие от малейшего движения.
Саня Архипова, которая сама себя со смехом называет Саней Франкенштейн, уже давно стала местной достопримечательностью. Скоро полтора года, как она здесь. В позапрошлом декабре ее на перекрестке сбила машина, как раз у южного входа на территорию больницы, куда она бежала навестить своего Федю, у которого было воспаление легких. Случись это где-то подальше, ее не спасло бы даже чудо, с такими травмами это было невозможно. Гаранин прекрасно помнил, как хирурги собирали ее по кусочкам. Саня, кажется, перенесла одиннадцать операций – настоящий Шалтай-Болтай, она постоянно переезжала из реанимации во вторую «травму» и обратно, приобретая то титановую пластину в череп, то аппарат Илизарова на правую ногу, то новый штырь в лучевую кость, то искусственный сустав взамен раздробленного. Но еще большим чудом была ее неутолимая и заразительная воля к жизни. Гаранин помнил и то, как она силилась улыбнуться, даже когда глаза не слушались и сами по себе сочились слезами от боли, и от них по обеим сторонам висков темнела подушка. А уж когда ей легчало настолько, чтобы передвигаться на кресле-каталке, Саня непременно принималась знакомиться с другими обитателями отделения, болтала с сестрами и посетителями, становясь понемногу экскурсоводом. Еще бы, за это время она разузнала о больнице и врачах столько всего – не каждый работник похвастается. Из разобранного на запчасти механического человечка в обтяжке тускло-серой кожи, человечка, измученного болью, наркозами и скальпелями, она теперь как-то незаметно превратилась в бледноватую красавицу с ямочками на щеках и отчаянно рыжими волосами, вьющимися мелким бесом. Хотя, конечно, поправил себя Гаранин, не превратилась, а вернулась в состояние, которое было до происшествия. Воительница Брунгильда, по воле случая закованная в броню ортопедического корсета, и с костылем вместо меча. Исхудавшая на больничных харчах, но это ничего.
От мыслей о Сане он как-то снова незаметно перескочил к своей неизвестной, Джейн Доу. С трех до четырех в стационаре тихий час, но у коматозных двадцать четыре часа в сутках – тихие, так что ее сон он не потревожит. Всего лишь заглянет проверить…
Сразу после операции Гаранин определил неизвестную к Баеву, в первый бокс, напротив поста. Шестидесятилетний Баев впал в кому три недели назад после несчастного случая, когда его катер перевернулся на середине реки прямо у главной набережной. Вскоре показатели упали, и из глубокой комы он перешел в запредельную. Баев-младший, довольно известный в городе предприниматель и хозяин трех пиццерий, исправно платил за улучшенное обслуживание для отца, но сам в больнице не появлялся после единственного раза, когда пришел все устроить. Гаранин предполагал, что тот вряд ли будет в восторге, когда узнает, что у отца в улучшенном боксе появилась соседка, а впрочем – какая разница?..
В палате стоял горьковатый и неживой запах кварцевой лампы. Арсений уже был здесь утром во время обхода, но еще раз изучил показатели жизнедеятельности. Оксигенация, ЧСС, давление. Осложнений нет, аллергических реакций тоже. Свежие рентгеновские снимки показывают, что отек немного спал. Совсем чуть-чуть, едва заметно – но Гаранин все равно обрадовался: динамика есть. Он примостился на подоконник и долго всматривался в бесформенные очертания на койке. По сравнению с Баевым, опрятным стариком, прикрытым до груди простынкой и клетчатым одеялом, неведомая Джейн – кокон из бинтов, повязок и гипса. Пучок проводов, шнуров, трубок и катетеров. В капельнице зачарованно капает препарат, капля за каплей, как будто сама жизнь вливается в вену. Изредка попискивают приборы.
Кто она? Почему ее никто не ищет? Неужели никому в этом мире не важно, где пропадает хрупкая (Гаранин точно помнил, как медсестра назвала ее рост и вес, да и наркоз он рассчитывал по комплекции) черноволосая девушка двадцати пяти лет? Она не вернулась домой, не пришла на следующий день на работу или учебу, ее мобильный «выключен или находится вне зоны действия сети». Удивительно, Гаранин видел всю ее изнутри, видел ее кровь, сочащуюся из сосудов, пока края ран гроздьями не увешали зажимы, он может пересчитать в уме количество лигатур, помнит желтоватую остроту ее костей, но не узнает ее по фотографии, даже если снимок сунут прямо ему под нос. Ее зрачки, когда он светил фонариком под лиловые запавшие веки, заполонили собой все, но, кажется, глаза у нее серые. Безликая, безымянная, настоящая стопроцентная Джейн Доу. Он не соврал, когда сказал Борисовской, что может досконально восстановить картину ее пыток – иначе как пытками то, что с ней сделали, не назвать. Настоящее истязание, и изнасилование было отнюдь не самым страшным и не самым болезненным тоже. Хорошо, что не ему пришлось писать медицинское освидетельствование для следователей, этим занимался Володя как оперировавший ее хирург.
Арсений подошел ближе. Из провала рта торчала трубка, ведущая к аппарату ИВЛ, все остальное почти полностью покрывали повязки и гипс. Глаза заплыли гематомами, неприятные пухлые сиреневые складки в просветах бинтов… Будь она в сознании, ей все равно не удалось бы их разлепить. И тут взгляд его опустился к ее левой руке. Она лежала совершенно целая, невредимая, тыльной стороной вверх. Бирюзовые вены, как дельта неведомой тропической реки, текущей по запястью. Выпуклый холм Венеры, от которого вглубь ладони бегут перепутанные линии ненаписанных еще историй. Он совершенно отчетливо помнил, как с тоненького мизинца уже в операционной снимали латунное колечко. Где оно, интересно… Наверное, передали Грибнову. Лака на ногтях при поступлении не было, так что стирать не пришлось, розоватые овалы испещрены крохотными белыми пятнышками. Под ногтями по-прежнему буро от крови и земли.
В боксе стремительно материализовалась Ромашова. Арсений повернулся к ней:
– Образцы чужой ДНК с нее снимали?
– Да. Мазки брали.
– У нее под ногтями кровь. Может быть, ее собственная, а может, и насильника. Соскоб нужен.
– Сделаем, – кивнула Ромашка.
III
С работы он вышел в начале седьмого. Солнце стояло еще высоко, и по двору больницы мело жарким ветром, который, казалось, нес с собой охристую выжженность далеких среднеазиатских степей, щелкающие от зноя травы, коричневые лица худых детей и неодобрительное цоканье стариков: «Суховей…» Над мощеным тротуаром суетились клочья тополиного пуха, заверчиваясь в вихорьки. «Будто призраки гоняются друг за другом», – подумал Гаранин. Из куста шиповника цыкали кузнечики, и большой шмель, то присаживаясь, то взлетая с низким рассерженным гудением, пытался забраться в цветок с отогнутым трепещущим лепестком.
Сколько он знает эту больницу, все было таким же и двадцать лет назад, и тридцать. Здесь все его бытие. Кажется, двор горбольницы – это первое, что Арсений Гаранин вообще запомнил в своей жизни. Младенческое полуразмытое воспоминание, почти как на кинопленке: ясный день, опрокинутое небо все в белую крапинку, и колоннада, обнимающая фасад. Мама и еще какая-то женщина в белой косынке (или, быть может, это была медсестринская шапочка) заглядывают в коляску, и он видит их круглые, непомерно большие лица, заслоняющие облака. Странно, ему всегда казалось, что стены здания в то время были розовыми, хотя мать и утверждает: за все сорок пять лет ее работы в больнице стены не перекрашивали в иной цвет, кроме желтого.
Ему суждено было стать врачом, как говорится, на роду написано. В первой горбольнице всю жизнь проработали его родители: Елена Николаевна – педиатром, а Гаранин-старший – хирургом и завотделением кардиологии. На прием к профессору Сергею Арнольдовичу Гаранину записывались за пару месяцев, приезжали со всего района, иногда – из соседней области, а чехословацкий полированный секретер, что стоял в его домашнем кабинете, постоянно пополнялся коробками шоколадных конфет и бутылками всевозможных калибров, из-за чего в определенный момент и сам секретер стал называться в семье не иначе как «бар». Более материальной благодарности от пациентов профессор Гаранин никогда не принимал. Конфет было так много, что сам вкус детства у Арсения до сих пор ассоциируется со старым, покрытым беловатым налетом шоколадом. Он помнит, как не разжимались забетонированные ореховым грильяжем челюсти, как из коробки «Птичьего молока» он пытался незаметно выудить только конфеты со сливочным суфле (лимонное и шоколадное он не переносил, а потому втихую надламывал каждую), а из ассорти – только с начинкой из белой помадки.
В подростковом возрасте Арсению доставляло странное удовольствие представлять, что и зачат он был где-то здесь же, в кабинете врача или, может, в смотровой или сестринской, на жесткой клеенчатой кушетке, во время ночного дежурства. В этой воображаемой реальности с отца слетал его постоянный лоск и ореол безупречности, и Арсений часами представлял его в самых нелепых позах, с неловкими дрожащими пальцами, то со спущенными штанами, то застуканным в самый ответственный момент. Почему-то маму эта фантазия никак не очерняла и вообще касалась едва заметно, самым краешком.
На самом-то деле родители были совсем другими. Дрожащие пальцы у отца? Нонсенс. Он не брал в рот ни капли спиртного, не занимался никакой работой по дому, и боже упаси донести тяжелые сумки из магазина – такого не случилось ни разу. Отцовские руки были предметом семейной гордости и трепета, Елена Николаевна даже заботилась о них словно бы отдельно от самого мужа. Впрочем, Сергей Арнольдович этой заботы почти не замечал, точнее, принимал как должное. Ему не приходило в голову спросить, как полмешка картошки переместились с рынка на застекленную лоджию и каким образом в кухне перестала искрить неисправная розетка. Домой отец приходил поздно, уходил рано, проводя иногда по несколько операций в день, пару-тройку раз в году уезжал на конференции и научные съезды, публиковал статьи в «Медицинском вестнике», читал лекции в мединституте. Присутствие его в квартире тоже было зыбким, под дверью отцовского кабинета допоздна лежала полоса зеленоватого света, и заходить в ту комнату маленькому Арсению строжайше запрещалось. Казалось, что там, за дверью, происходит какое-то темное волшебство, и, если открыть дверь, все потонет в яркой вспышке, а нарушителя перенесет куда-то в неведомый и опасный край, где придется сражаться с летучими обезьянами.
А еще Арсению запрещалось шуметь, когда профессор отдыхал. Тот редко ночевал с Еленой Николаевной в общей спальне, чаще стелил себе прямо на диване коричневой кожи, что стоял – и до сих пор стоит – в оконной нише кабинета. Из-за того, что отец тяжело работал и нуждался в полноценном отдыхе, Гаранины забрали сына из второго класса музыкальной школы, хотя тот умолял позволить ему заниматься дальше. «Арсений, тебе негде репетировать, ты же знаешь… А без тренировок ты станешь самым отстающим. Ты ведь не хочешь отставать от других ребят?» – улыбнулась ему мама. Ее глаза требовали понимания. А он сам в тот момент лишь хотел сжать ее руками и уткнуться лицом в грудь, чтобы в горле и глазах перестало першить. Но такие проявления чувств были не приняты в их доме.
Родители никогда не ругались. Гаранин даже теперь не мог припомнить случая, когда отец повысил бы голос на мать, или когда она поворчала бы и бросила ему какой-нибудь упрек. В доме всегда было мирно. Ни музыки, ни громких звуков, радио включали изредка и едва слышно, и Елена Николаевна даже готовить умудрялась тихонько, лишь слегка позвякивая половниками и сковородками. С мужем она никогда не спорила, да и разговаривала довольно редко, обычно сводя общение к нескольким незначительным фразам – вроде того, как прошел день. Ни она, ни профессор Гаранин не отличались буйным темпераментом, составляя на редкость уравновешенную пару. Когда в его присутствии поссорились родители одноклассника, – громко, безобразно, с площадной запальчивой бранью и даже со швырянием мокрого кухонного полотенца друг в друга, – Арсений вернулся домой угрюмый и встревоженный и задал отцу вопрос, чего вообще-то с ним не случалось. Он спросил:
– Пап… а почему вы с мамой никогда не ссоритесь?
– Потому что я ее очень уважаю, а она меня. Люди кричат, когда не могут найти других аргументов или не владеют собой. И то и другое прискорбно. И выглядит мерзко и жалко. Да, я уважаю твою маму и не собираюсь оскорблять ее ни словом, ни поступками.
Слышавшая это Елена Николаевна улыбнулась и посмотрела на мужа ласково и восторженно. После этого она поставила опару и к вечеру испекла пирог с рыбой и рисом, фирменное блюдо, присутствовавшее до сего дня лишь на новогоднем столе. Только много лет спустя Арсений осознал, что это был, пожалуй, один из самых эмоциональных моментов в его семье и между его родителями.
За ужином у Гараниных частенько царило молчание, прерываемое только просьбами передать вилку или хлеб. Обычно Сергей Арнольдович за едой просматривал студенческие курсовые или новый выпуск медицинского альманаха. Однажды Арсений, беря с него пример, положил перед собой дочитанный на три четверти приключенческий роман и принялся уплетать макароны по-флотски.
– Убери книжку, пожалуйста. Испортишь себе желудок, – проговорила мама. Несмотря на мягкость, в ее голосе присутствовала нотка, из-за которой совсем не хотелось спорить. Но Арсений все же попробовал:
– Но папа всегда читает за столом…
– Если бы ты был, как папа, тебе это позволялось бы. Но ты ведь не он, – приподняла она брови с укоризной. Сергей Арнольдович отвлекся от чтения и взглянул на сына поверх очков. Его взгляд как-то по-особенному сфокусировался, так что Арсений моментально почувствовал себя нескладным, будто влез в одежду на два размера меньше и она давит ему в плечах, а из рукавов торчат тощие руки. Пятнышко чернил на запястье почудилось целой огромной кляксой, и он вспомнил, что уже несколько дней не гладил пионерский галстук. Ничто из этого не укрылось от профессорских глаз.
Сергей Арнольдович отпил из стакана, потянулся через стол и подцепил пальцами книгу за корешок – так, будто держал змею или насекомое. Повернул обложкой к себе:
– А, Томас Майн Рид… Я думал, ты уже перерос такие книженции.
Арсению тогда только исполнилось двенадцать.
Дачи у Гараниных, конечно, не было, зато имелась бабуля Нюта. Арсений до первого класса думал, что так звучит полное имя этой пожилой улыбчивой женщины: Бабулянюта. А может, это ее семейное положение или профессия… Ее крупные ладони, больше подходящие заводскому работяге, пахли овечьей шерстью, которую она вечерами спрядала в крепкую нить. Бабуля Нюта носила короткостриженые волосы с хохолком и торчащей челкой и цыганские цветастые юбки, на каждую из которых уходило ткани больше, чем на иное покрывало. Она жила недалеко от города, в большом деревенском доме с верандой, опоясывающей первый этаж, и долгое время вдовствовала после того, как ее первый муж, отец Елены Николаевны, погиб на фронте. Повторно она вышла замуж, когда Арсений уже ходил в школу. И несмотря на то, что поначалу Арсений отнесся к новому деду настороженно (Толик был слишком уж пугающе громогласным), вскоре они поладили.
Эта супружеская парочка разительно отличалась от родителей Арсения, они постоянно пересмеивались и переглядывались, хохот бабули Нюты был слышен через три огорода, а Толик при случае мог завернуть что-нибудь настолько витиевато-матерное, при этом подмигнув ласковым хмельным глазом, что у Арсения вспыхивали щеки и уши. Толик гнал самогон и ставил яблочный сидр, вдоль стен порой выстраивался с десяток темно-зеленых стеклянных бутылей с натянутыми на горлышко растопыренными перчатками, которые Арсений пожимал, бывало, когда никто не видел. Ядреный запах бражки плыл по летней кухне до глубокой осени. По вечерам бабуля Нюта пела то романсы, то частушки, а Толик подыгрывал ей на аккордеоне, и Арсений как зачарованный следил за бегом его загорелых пальцев с серыми заусенцами по костяным клавишам. Характер у обоих был непростой, но отходчивый, и Гаранин до сих пор не мог сдержать улыбку, когда вспоминал тот случай с рассольником.
– Пересолила ты, мать, – пробурчал Толик, пробуя суп с ложки. Бабуля Нюта с самого утра была не в духе, повздорив у калитки с соседкой. Так что Арсений вполне мог предположить, что Толик говорит правду, хотя сам поостерегся бы жаловаться.
– Дружок, что ж ты городишь, это ж рассольник! Тебе туда сахару, что ли?
– А я говорю, пересолила.
– И что? Есть не будешь? – в голосе бабули Нюты послышалась угроза. Но, видно, Толику тоже было невесело, и он решительно отодвинул от себя тарелку.
– А и не буду.
– А и не надо!
Никто не успел и ахнуть, как бабуля Нюта подцепила рубаху Толика и одним махом выплеснула суп ему за шиворот. Хорошо, что кастрюля рассольника к тому моменту остывала на плите уже больше часа.
Толик побагровел и медленно встал. Вид у бабули Нюты был все такой же воинственный, руки в боки, но в глазах уже зарождалось сожаление. А Арсений и вовсе вжался в стену, надеясь провалиться вниз, куда-нибудь в погреб… С полминуты муж и жена сверлили друг друга глазами, потом Толик несмело повел мокрыми плечами:
– От баба… Лучше б сахару сыпанула в супец, чем супец – за пазуху, ей-богу.
Бабуля Нюта прыснула, как девчонка, а Толик тут же захохотал басом. Арсений смотрел на них во все глаза и не мог понять, что же это было – и как к этому относиться. Подобная сцена никогда, даже в фантасмагорическом сне, не могла произойти с Еленой Николаевной и Сергеем Арнольдовичем Гараниными…
Арсений любил проводить в деревне целое лето. Он плавал на лодке, купался в реке, по вечерам зачитывался на сеновале книгами, глядя сквозь щели в дощатых стенах на пламенеющее зарево заката, слушая мычание колхозного стада и незамысловатую ругань пастуха. Иногда Толик гонял его на покос, работа эта была тяжкой, а для городского юнца вроде него и вовсе непосильной. Слепни летали вокруг и жалили, трава кололась, ладони стирались в кровь, плечи ломило, голову пекло, кожа обгорала на солнце до волдырей.
– Ничё-ничё, держись, – подбадривал Толик, посасывая изогнутую козликом папиросу. – Мужик ты или не мужик? Профессором быть не обязательно, а вот мужиком надо непременно!..
И Арсений терпел. Ему доставляло удовольствие чувствовать, как легко идет лезвие косы, срезая мокрую от росы траву – как только солнце поднималось выше, влага испарялась, и кошение тут же оборачивалось мучением. Поговорка «коси, коса, пока роса» приобретала и смысл, и краски. А потом, дома, пока обед еще пыхтел в печи, бабуля Нюта давала им по большой чашке тюри – крошеного белого хлеба с молоком, и не было ничего вкуснее… Арсению нравилось думать, что так закаляется его характер, что он не городской неженка больше, не профессорский сын. И вот уже его ладони стерты, кажется, не рукояткой крестьянского инструмента, а толстыми канатами, пропитанными морской солью, на каком-нибудь корабле посреди океана. И сам он юнга, и плывет в неведомые земли, и настанет тот день, когда он непременно сразится с врагами, будет спасать людей и станет капитаном…
Для этой судьбы он считал себя недостаточно крепким, сильным, бесстрашным. Поэтому не проходило и недели, чтобы он не придумал себе нового испытания. Арсений ходил пешком в соседнюю деревню в десяти километрах, по четыре раза без остановки переплывал реку, едва борясь с течением, не спал по двое суток, представляя себя вахтенным, которого не пришли сменить, и несколько полнолуний подряд ночевал на кладбище.
Комары одолевали его страшно. «Сладкая кровь», – объясняла ему бабуля Нюта, которую насекомые не трогали вовсе. Как-то вечером, желая натренировать силу воли, он отправился на реку, отвязал лодку от старой узловатой ветлы и поплыл по речной протоке, делающей у деревни круг. На закате комарья над водой становилось особенно много, им кормилась рыба, и временами вода словно закипала от мелкого бурления. Тогда Арсений стащил через голову выцветшую футболку и замер едва ли не в позе лотоса, позволив комарам безнаказанно питаться собой. Он не шелохнулся, пока лодку течением не пригнало на выбранную им изначально точку, и не почесал ни один укус. Когда он вернулся, бабуля Нюта ахнула: вся кожа его покрылась вспухшими пятнами. И несмотря на подскочившую температуру, Арсений был ужасно доволен собой. Он лежал в темноте, стиснув зубы, пока тело гудело и зудело, как трансформаторная будка под напряжением, и мнил себя победившим в бою.
Он не стал моряком. Родители были категорически против того, чтобы он покидал родной город и поступал в мореходку.
– Где родился, там и пригодился, слышал такое? Никуда ты не поедешь. Ты мой наследник, и, честно говоря, у тебя есть что наследовать, – таков был вердикт отца.
Однако поступив в мединститут, Арсений все же не стал хирургом, чем раз и навсегда разочаровал профессора Гаранина.
Толик и бабуля Нюта держали скот. Их хозяйство насчитывало пару десятков кур, несколько гусей, корову с непременным теленком, коня и двух-трех свиней каждый сезон. Лет с пятнадцати Арсений помогал Толику закалывать кабанчика и разделывать тушу. После каждого такого действа он до вечера ходил сам не свой, руки помнили теплоту крови и внутренностей, от которых шел пар, если дело было к Седьмому ноября. В ушах стоял визг, а в носу – вонь требухи, и глазам было красно от вывернутой свиной плоти. Но хуже всего было ощущение надвигающейся смерти. Арсений не мог сообразить, как именно животное понимает, что сейчас его будут убивать, – но понимает совершенно точно. Еще не видно ножа, еще ничто не предвещает страшного, но только зайдешь в свинарник, кабаны в загоне уже верещат, хрюкают и забиваются подальше. Узнавать в их круглых бестолковых глазах с короткими ресничками самый главный страх – вот что тяжело. Арсений многое отдал бы, чтобы облегчить его и унять боль умирания, облегчить переход. Но тогда он этого еще не мог…
IV
Неизвестно, что именно подтолкнуло Арсения запустить маховики памяти, но колеса раскрутились, и он почти уже не замечал пути, хотя, кажется, переминался на остановке, ехал куда-то на трамвае, переходил перекрестки. «Куда глаза глядят» – было бы неверным описанием – его глаза были обращены зрачками вовнутрь, они исследовали глубь времен, самые истоки его истории, когда можно было сделать миллион других выборов, но он сделал ровно те, что привели его в день настоящий и к нему сегодняшнему. День этот должен был закончиться, как и сотни дней до него, но что-то пошло не так, где-то в луковых слоях жизни попался один, не похожий на остальные. И теперь Гаранин удивленно моргнул и остановился, озираясь по сторонам и еще не вполне понимая, где находится.
Парк Пионеров-Героев. Мелкая крошка скрипит под подошвами, красные с черным крапом жуки-пожарники копошатся в бетонных трещинах, выползают и снова прячутся. Раскидистые липы шелестят и перешептываются над щербатыми дорожками, засыпанными липовым цветом и прошлогодними, еще медно-сухими листьями, которые легонько трогает ветер. Зина Портнова, Марат Казей, Володя Дубинин, Леня Голиков, Валя Котик, Жора Антоненко, Петя Клыпа… Гаранин перечислил их имена по памяти, даже не глядя на таблички под старыми, давно не чищенными бюстиками на высоких цилиндрах постаментов. Сейчас он уже не рискнул бы рассказать повесть каждого из погибших ребят, как когда-то на уроке истории, когда одноклассницы ревели и вытирали слезы платочками, – все они сливались в одну, с радостным идиллическим началом и мрачной развязкой где-то посреди залитых дождем, расквашенных полей, развороченных взрывом берез и черной крови на мерзлой земле. С пионеров мысль его скакнула к Зое Космодемьянской, замученной героине войны, со звонким голосом, последние слова которой сохранились в веках и все звучат, звучат и будут звенеть так до бесконечности. А ведь в сущности… Голос ее вполне мог быть глухим, сорванным, простуженным, сама она могла быть вздорной или завистливой, да и вообще вовсе не подарком – с обычной точки зрения. История, как он слышал уже в перестройку, происходила довольно темная и мутная, но размышлять об этом не хотелось, это будило в душе неудовольствие и тревогу. Гораздо лучше оставить ее такой, нарисованной бело-кумачовыми красками патриотизма и Победы. Людям нужны герои, нужны святые. Без них тяжелее.
Он не сразу осознал, что в сумбуре мысли о легендарной Зое как-то неуловимо слились, схлопнулись с образом его неизвестной из первого бокса реанимации.
Мученицы. И та и другая. Как возвеличивает человека страдание, удивился Гаранин. Представляя себе черноволосую Джейн Доу, какой она была до всего приключившегося с нею. Он почти наяву видел жизнерадостную красавицу, окруженную любящими ее близкими людьми, умненькую, улыбчивую, не мыслящую зла. Спортсменка? Возможно. Отличница? Определенно. В меру шаловлива, в меру благоразумна – этакий светлый ангел. А какие у него основания? Он не знает о ней ничего. Ведь вполне может статься, что Джейн в своей реальной жизни хамит соседям, плюет с балкона, угрожает трем бывшим мужьям и семь лет не разговаривает с матерью. Он не знает ее настоящей, она для него – лишь миф, придуманный им самим, и причина тому – пережитые ею страдания, те истязания, которые отвратительно даже представлять, потому что неизбежно возникает вопрос: а выдержал бы он сам, если бы такое произошло с ним, с его телом? Она умоляла, рыдала и визжала наверняка. В происходившем не было ничего героического. Но то, что она прошла через эту боль, уже сделало ее на порядок выше живущих рядом. А того, кто совершил это с нею, отбросило на самое дно, в мерзостную гниль нелюдей.
И случилось это совсем неподалеку. Вот почему ноги принесли его в парк: он продолжал думать о безымянной Джейн, даже когда мысли его были заняты им самим.
Гаранин сориентировался на местности. Кажется, Ларка говорила о железнодорожной насыпи? Или это упомянула медсестра в операционной? Так или иначе железная дорога, делая петлю, подступает прямо к задней части парка Пионеров-Героев, оцепленного в том месте лишь забором.
Всматриваясь в лица редких прохожих, большую часть из которых составляли дети на велосипедах и матери с колясками, полностью погруженные в собственные мысли и будто дремлющие на ходу, Арсений миновал аллею с памятниками и дощатый навес старой эстрады, на котором кто-то с поразительным умением изобразил Чебурашку. Милый несуразный зверь, которого и в природе не существует… Порыв ветра донес до чуткого носа Арсения запах гнили и нечистот: в кустах за навесом, в отсутствие иных альтернатив, давно уже образовалось отхожее место. За эстрадой начинались сплошные заросли дурноклена, затянутого вьюнами. Весна в этом году выдалась ранняя и влажная, и к июню зелень успела заполонить все, заматерев и сменив салатовую невинность на темную густоту, дышащую прохладой и прелью.
В этой части парка ему уже никто не попадался, да и парком здешнее пространство было уже номинально: терялись всякие приметы цивилизации. Лишь тонкая тропка, вьющаяся меж кустов, еще робко напоминала о том, что здесь кто-то бывает. Арсений не был так уж уверен, что идет в правильном направлении, хотя он слышал мерный стук колес проходящих мимо поездов и перекличку их гудков в знойном воздухе. Это отправляло его назад во времени, в те дни, когда он блуждал по лесам в окрестностях деревни, аукая и прислушиваясь к эху, которое всегда морочило его, отзываясь отовсюду – и ниоткуда, пока не начинала кружиться голова.
Наконец, тропинка вильнула в сторону – Арсений шагнул наобум, так что ботинок скользнул по вязкой жиже небольшого оврага и черпнул через верх зеленоватой зацветшей воды, – и вывела к забору из натянутой на широкие рамы ржавой сетки. За забором взмывала вверх, растягиваясь в обе стороны, рыжая железнодорожная насыпь. Раз и навсегда размеченная верхушками светло-серых бетонных столбов, она выглядела обманчиво-безмятежной под простирающимся небом.
Гаранин на минуту остановился. Сетка-рабица словно создана для того, чтобы растопырить руки и погрузить пальцы в ее ячейки, чувствуя, как шероховатая проволока давит на кожу в том самом месте, где одна фаланга суставом сочленяется с другой. Если долго смотреть сквозь сетку, покачивая головой и стараясь расфокусировать взгляд, то вскоре все начинает двоиться, и вот уже кажется, будто реальность заменяется голограммой и все чуточку не по-настоящему. Он все еще медлил, стараясь полностью ощутить это странное безвременье, внепространственность, порожденную оптической иллюзией. Эта сетка – будто граница между сном и явью, и можно остаться дремать, а можно проснуться. И решать только ему самому, нет ни будильника, ни обязательств. Однако и это обман: в момент принятия решения никогда не знаешь всей правды. Не располагаешь информацией, необходимой для принятия этого решения. Все мираж.
Арсений встрепенулся, вдохнув всей грудью смесь ароматов цветущего желтого и белого донника, сухой травы, влажного лесного подлеска, стоячей воды и маслянистого ядовитого креозота, жирный и острый дух которого источали каждой щепочкой пропитанные им потемневшие шпалы. И пошел. Он без труда отыскал дырку в заборе, клок сетки, вырезанный явно не без помощи кусачек по металлу. Кто сделал это? Со злым ли умыслом или только от мальчишеского озорства?
На самом деле сейчас Гаранина волновал лишь один вопрос – где? Он пришел сюда не просто дышать жарким воздухом насыпи. Где все случилось? В том ли он месте, правильно ли понял Борисовскую? Здесь ли нашли его неизвестную?
Арсений отогнул кусок сетки и протиснулся в дырку, больно оцарапав шею проволочным краем. И ровно в тот самый миг, когда он ступил на другую сторону от забора, все пространство вокруг как-то неуловимо изменилось. Так меняется местность, стоит над нею раздаться протяжному волчьему вою: все остается по-прежнему, и все другое. Те же серо-рыжие камни, те же шпалы, тот же солнечный блик на укатанной до блеска поверхности рельса, те же покачивающиеся метелки желтого донника, синего цикория и пурпурного иван-чая, тот же душный запах. Но само небо налилось белой тяжестью, словно на него плохо натянули кусок прозрачного полиэтилена, и небосвод провис, коснулся земли, и этой насыпи, и самого Гаранина. И стало тяжело и муторно, и во рту появился навязчивый сладковатый привкус. Это здесь, понял он. Где-то совсем рядом. Словно в само место врезался, вдавился невидимым оттиском недавно произошедший здесь ужас.
Не зная еще, что именно он ищет, Арсений стал медленно продвигаться вдоль насыпи, взглядом перебирая каждый камешек, каждый цветок, сигаретный и папиросный бычок, обрывок проволоки, блестящий конвертик от презерватива, смятую бумажку, выцветший обрезок молочного пакета, банку из-под газировки, сплющенную до тонкости столовую ложку. Он и сам мальчишкой баловался так: клал на рельсы перед проходящим составом ложку или монету. После того как последний вагон мчался прочь, возле рельсов оставались истонченные зеркальные кусочки металла, и было во всем этом какое-то торжествующее кощунство. Нарушение запрета. Однажды он повторил опыт с трамваем и даже услышал, как противно-тоненько запел металл, раскатываясь стальными кругами колес.
Арсений прошагал, наверное, метров сто на северо-запад, не найдя ничего, кроме мусора, обычного для подобных оврагов вдоль железных дорог, и вернулся обратно к дырке в заборе. Рядом с ней приторный привкус тления, все еще не выветрившийся из его гортани, стал отчетливее. Захотелось сглотнуть. И тут же, через пять шагов, взгляд Гаранина споткнулся. Обо что – он сперва и сам не понял. Но в коленях и локтях поселилась ватная нерешительность, и тогда Арсений присмотрелся получше. Там, где насыпь вставала на дыбы, взмывая к путям, на пыльной щебенке темнели бурые пятна. Их можно было спутать с какой-нибудь масляной смазкой, мазутом или грязью. Но Гаранин слишком часто видел человеческую кровь, желейно-стынущую в ранах, чтобы обознаться.
Кровь уже давно спеклась и высохла, но все еще не утратила своего тихого голоса и все рассказывала, рассказывала. А Арсений умел слышать. Вот эти капли, похожие на черные солнышки, падали из разбитого носа Джейн Доу. Она стояла на четвереньках, должно быть, силилась подняться. Смазанные светловатые полосы – от ссадин на коленях, лодыжках, ладонях. Вот это большое пятно, вытянутое в сторону оврага, натекло от разбитой головы, когда она упала, оглушенная последним ударом. С противоположной стороны, ниже, в метре от того места, где лежала голова, – тонкая струйка, почти впитавшаяся в песок… Гаранин стиснул зубы и не стал заканчивать мысль. И так ясно.
Оставалось лишь надеяться, что полиция здесь уже осмотрелась. Наверняка забрали в качестве улик все, что этот подонок использовал: по характеру ран Арсений вполне мог предполагать и обрубок ржавой трубы, и бутылку, и горящие окурки, шнур или шланг. Если, конечно, все это происходило именно здесь, если он не бросил девушку умирать, притащив откуда-то из другого места. Арсений напомнил себе, что заниматься расследованием – не его работа, и не надо уподобляться доморощенным детективам-самоучкам, которых пруд пруди в кино и сериалах: на самом-то деле, в реальной жизни расследовать преступления не так уж легко. И уж точно не весело.
Ему захотелось выпить. Не просто пригубить вина, а напиться вдрызг, пусть даже в такую жару это самое неразумное желание. Желания вообще неразумны. Гаранин повернулся и направился к сетчатому забору, ругая себя за то, что вообще притащился сюда. Как теперь ему смотреть на свою безвестную пациентку без того, чтобы вспоминать каждый раз, как засохла на камнях ее кровь и как невыносимо пахнет на этой насыпи?.. Черт, Гаранин, чтоб тебя…
Сумку он увидел самым краем глаза. Давно уже сетка забора осталась позади, слоистый жар насыпи сменился прохладой влажных джунглей, по которым продиралась тропинка назад к цивилизации. Это вполне могла оказаться просто сумка, чья-то сумка, выброшенная, потерянная… Нет, ну правда – как часто люди в здравом уме теряют сумки? Не забывают в транспорте, в гостях или гардеробе, а вот так теряют, роняют на ходу, прогуливаясь по парку? Гаранин вытащил ее из-под куста и еще прежде, чем заглянул внутрь, точно знал, что сумка эта принадлежит его неизвестной. Большая, мешковатая, из разноцветной гобеленовой ткани с коричневой замшевой бахромой, будившей невольную ассоциацию с ковбойскими пончо из старых вестернов. Один угол запачкан кровью.
Арсений осторожно поднял ее с земли. Тяжелая. Она была раскрыта, застегнутая молния вырвана с корнем. Прислонившись спиной к узловатому стволу ивы, куполом накрывающей эту часть тропинки, Гаранин заглянул внутрь.
V
Содержимое сумки Джейн Доу:
– початая упаковка жвачки со вкусом бабл-гама,
– тетрадь в твердом переплете, оранжевая в синюю полоску,
– использованный трамвайный билетик,
– гигиеническая прокладка,
– бесцветная помада с пантенолом,
– связка ключей, на брелоке два дельфинчика из давней коллекции киндер-сюрпризов,
– темно-вишневый блеск для губ,
– пачка влажных салфеток,
– резинка для волос,
– прозрачный резиновый мячик-попрыгунчик с зелеными блестками,
– деревянная расческа,
– книга,
– пластинка шалфейных леденцов от кашля,
– шариковая ручка с синим стержнем,
– круглая монета с квадратной дыркой посередине, перевязанная толстой красной ниткой,
– два пакетика с корицей в палочках,
– черный складной нож.
Наверное, вместо того, чтобы трогать сумку, нужно было позвонить тому полицейскому. Грибнову. Все же это улики. Но Арсений как-то не сразу сообразил. Соблазн узнать о неизвестной хоть что-то оказался слишком велик.
Ни паспорта, ни телефона, ни кошелька, содержимое которого могло бы подсказать имя хозяйки.
Нож лежал во внутреннем кармашке за замком. С черным клинком и черной вставкой из сандалового дерева на рукоятке он был красив и обманчиво надежен. Арсений взвесил его на ладони, уперся в шпенек большим пальцем и без труда открыл одной рукой. Нехитрый механизм работал как положено, лезвие выходило ровно, мягко, без рывков и затруднений. Тонкий режущий край светился серебром. Такая вещь в умелой руке могла стать и помощником, и защитником. Жаль, что она никак не защитила незнакомку. Гаранин захлопнул нож и с негодованием, будто тот был и вправду виноват, бросил его снова во внутренний кармашек сумки. И только после этого решил открыть оранжевую тетрадь в синюю полоску.
Толстую, листов на сто двадцать, линованную в клетку тетрадь в твердой обложке, с немного потертыми уголками, уже почти до середины исписали размашистым, жутко неразборчивым почерком. Уж не участковый ли она терапевт, подумалось Арсению почти с улыбкой: только ленивый не шутил над этой врачебной особенностью, связанной, конечно, не с неаккуратностью, а исключительно с торопливостью и постоянной нехваткой времени. Иногда на страницах попадались примитивные рисунки, стрелочки, домики, перышки и розочки. Однако стоило Арсению пролистать дальше, как он увидел на уголках страниц человечка с большими ослиными ушами. Этот образ повторялся на каждом следующем листе так, что, если согнуть страницы и быстро, одним потоком пролистать их все, человечек оживал и начинал шагать, помахивая рукой, а потом и вовсе разбегался и прыгал в большую лужу. Заканчивался бумажный мультфильм на том, что из лужи летели брызги, а на лице у человечка растягивалась дурацкая улыбка до ушей. По-прежнему ослиных.
VI
Слушая визгливое жужжание станка, обтачивающего металлическую болванку для дубликата, Арсений все еще не мог поверить, что делает это. Точнее, наоборот, прекрасно верил и отдавал себе отчет в том, как странен, подозрителен и, в сущности, противозаконен его поступок. Он знал, что сумку со всеми вещами нельзя было даже осматривать, а вместо этого стоило бы пулей примчаться в полицию и отдать все Грибнову. Но нет же. Сначала он терпеливо отстоял очередь в душном почтовом отделении между старушками, обсуждающими пенсию, и молодой мамашей, тщетно пытающейся унять заходящегося криком младенца в коляске с поднятым капюшоном. Люди переговаривались, скандалили и беспокоились, что почта скоро закроется и они не успеют. Потом он отдал целое состояние за ксерокопии оранжевой тетради в синюю полоску – каждого листочка, включая те, на которых не было ничего, кроме шагающего человечка. И вот пожалуйста, теперь носком ботинка ковыряет присохший к ступеньке цементный плевочек, пока токарь в подвальчике трехэтажки вырезает ему дубликат чужих ключей. От чужого дома. Адреса которого он не знает.
Свет в каморку почти не проникал из крохотного узенького окошка под самым потолком. Над заваленным всяким барахлом столом, покрытым грязной фанерой, горела яркая лампа. Прежде чем мастер окончил работу, Гаранин успел рассмотреть и огромную доску с крючками, на каждом из которых висели разномастные заготовки для ключей, и икону в крикливом окладе со стразами, и скверный карандашный портрет женщины, приколотый к стене кнопкой. Разрезанное пополам яблоко «грэнни смит» уже начинало темнеть на срезе. Повсюду между станками, паяльниками и шлифовальными машинками валялись бумажки, обрезки резиновых прокладок, тряпицы с черными потеками, обрывки цепочек, дешевые брелоки, деревянные и обувные молоточки, гвозди, набойки, старые каблуки от уже не существующих сапог. С лампы свешивались карманные часы с корпусом желтого металла и миниатюрный белый череп, кажется – из пластмассы. Сухие, жилистые, поросшие темными курчавыми волосами руки токаря действовали размеренно и ловко. Слева от мужчины, зацепленные за полку, болтались маленькие боксерские перчатки-сувенир, по красному фону шла белая надпись «Armenia», и когда он встал, чтобы отдать Гаранину готовые ключи, то задел перчатки головой.
Клубились сумерки, когда Гаранин вернулся на работу, положил в стол копии тетради и ключей и нашел в бумажнике визитку с телефоном следователя.
– Вы смотрели, что там? Внутри.
На следующее утро все-таки пришлось везти сумку капитану Грибнову. Так уж он повернул разговор, чтобы выставить Гаранина просто-напросто обязанным. Когда капитан задал этот вопрос, сразу же, с порога, Арсения охватило молниеносное искушение солгать. Пришлось практически принудить язык произнести:
– Да. Смотрел. Более того, я почти все перебрал и повертел в руках. Так что прошу прощения за отпечатки пальцев. Они там наверняка повсюду.
– Ай-ай-ай, любопытный доктор, – Грибнов даже пальцем погрозил, как ребенку. Гаранина это буквально взбесило:
– А у нас это в крови! Профессиональное. Знать, что произошло, как произошло и что теперь с этим делать. К примеру, из-за любопытства, особенно врачебного, ваша рука, та, что с пулевым ранением, отлично функционирует, а не отгнила по локоть и не утащила вас в могилу из-за сепсиса! Как непременно случилось бы, не будь у современной медицины антибиотиков, или рентгена, или кетгута. Они все – плоды любопытства. И эту девушку как раз сегодня закопали бы на Раевском кладбище. А вам на будущее, капитан, я посоветовал бы тоже быть полюбопытнее. Меньше улик упустите.
Капитан Грибнов запыхтел, насупился, а потом мотнул вдруг головой и улыбнулся:
– А! Мне и похуже говорили. Любит наш брат других поучать, да?
Да что с ним такое? Чтобы перевести дух, Гаранину пришлось отвернуться к окну. Капитан тем временем нашел в недрах стола носовой платок и, обмотав им ладонь, стал изучать содержимое сумки. Покосился на посетителя:
– Можно спросить, что вы там делали? В парке?
– Хотел увидеть собственными глазами, где все случилось. Она моя пациентка.
– Не вы ли говорили, что она пациентка хирурга…
– Моя. И нет, я такого не говорил. Потому что именно в моем отделении она лежит в медикаментозном сне. Я за нее ответственен. Еще вопросы?
– Вы так со всеми пациентами носитесь? Когда привозят жертву аварии, вы что, едете на место столкновения? А если кого глыбой льда прибило? Пристаете к коммунальщикам?
Гаранин промолчал. Капитан тем временем повертел и полистал оранжевую тетрадь.
– Читали?
– Читал.
– Еще бы. И что там? Есть интересненькое?
– Смотря что считать интересным. Там… поток сознания. Типа кулинарного дневника в свободном стиле. С отступлениями, заметками, цитатами, рисунками, – Гаранин старался говорить ровно, и с каждым новым словом самообладание возвращалось к нему.
– Ладно, товарищ доктор. Дальше мы сами, – деловито заключил Грибнов, нажав кнопку напольного вентилятора и зафиксировав его в одном положении. От струи теплого воздуха на столе зашевелились бумаги, а с пыльного цветка упал скрученный лист. – Остальным займутся эксперты. Спасибо за сознательность.
Гаранин кивнул. Он понимал, что надо уходить, но все медлил.
– Есть… подвижки? В следствии? – наконец, поинтересовался он.
Грибнов цокнул языком.
– Вот. Сумку потерпевшей нашли. Чем не подвижка?
Чтобы не отхлестать это мягкое красное лицо, Арсений торопливо покинул кабинет.
VII
Нужно было подумать. После визита в полицию Гаранин обеспокоился насчет своего психического состояния. В самом деле, что с ним такое творится? Допустим, это все вовсе не из-за черноволосой неизвестной. Допустим, из-за годовщины. Двадцать седьмое июня. Два года. Но ведь уже два года! Это много, пора смириться и отпустить. Сердце вот только не на месте, и от тревоги наизнанку выворачивает.
Однако сегодня надо взять себя в руки, непременно надо. Кто он? Арсений Гаранин? Нет. Он врач. Это превыше всего, и это всегда было ему прекрасно известно. А раз он врач и заведующий отделением, у него нет ни времени, ни права вот так расклеиваться, нервничать и носиться по городу в поисках незнамо чего. У него нет времени и права ни на что, кроме работы. Потому что от его работы зависит жизнь других людей. Вот что банальность, и вот что всегда твердит ему отец; и пора бы вернуться к тем принципам, которыми он руководствуется всю сознательную жизнь. Как врач, он давно уже навидался всякого и привык не пускать эмоции в рациональную область своей работы.
Впервые за многие годы ему пришлось осознанно напомнить себе об этом на операции Джейн Доу. Он сразу почувствовал, что теперь все пойдет наперекосяк. Гаранин видел это тело и не мог отделаться от мыслей, насколько болезненно все то, что с ним происходит. Раньше, стоя над операционным столом, Арсений глядел, не моргая, как скальпель рассекает человеческую кожу, плотную, неприятно голубоватую в свете операционных ламп, и как из разреза выступает кровь, сперва крохотным пунктиром круглых капель и тут же, почти мгновенно, – широкой полосой. Теперь же он думал, как резко и сухо ощущается боль, если полоснуть по пальцу кухонным ножом. Как ноет колено, если ударить его о твердый подлокотник дивана. Как волнообразна электрическая боль, расходящаяся от локтя, когда въедешь им в острый край стола. Как жгуче пульсирует ожог, если запястьем случайно прислониться к нагретой решетке духовки или баку в котельной. Как неотступно и навязчиво зудит комариный укус на суставе пальца или голеностопа, и как разрывается голова от воспалившегося зубного нерва. Все эти неприятные ощущения даже близко не имеют ничего общего с тем, какая боль раздирает тело несчастной неизвестной девушки, чьи внутренности сместились с привычных мест, чья кожа сплошь покрыта багрянцем гематомы, к чьим ранам скоро прилипнет пропитавшийся лимфой и кровью бинт, чьи заточенные обломки костей впиваются в истерзанное мясо, пронизанное нервными окончаниями и призванное сейчас причинить самые немыслимые мучения. «Хорошо, что не я хирург», – с облегчением подумал Гаранин тогда. Он не смог бы орудовать скальпелем, зажимом и иглой, еще больше нарушая целостность этого человека, беззащитно покоящегося на столе.
И хорошо, что в его власти держать ее в благословенном наркотическом сне, чтобы не позволить болевым сигналам терзать ее сознание, решил он сейчас, три дня спустя.
Своей работой Арсений гордился с самого начала, с того дня, как выбрал специализацию. Всю жизнь ему доставляет удовольствие отвечать на вопрос: «А вы кто по профессии?» – и внутренне ликовать, улавливая в обращенных на него глазах новое, уважительное выражение и отблеск самого себя, уже более высокого, осанистого, сильного. Всевластного. Слово «реанимация» приводит людей в трепет, заставляет мурашки пробежать колючей волной по хребту. Фраза «Он попал в реанимацию» мгновенно отдает синевой, холодом страха, кислым привкусом обреченности. Глагол «реанимировать» – почти синоним божественного «воскресить». Еще с мединститута он помнит формулировку «наука о закономерностях смерти и оживления организма». Определение реаниматологии. От нее веет таинственностью и могуществом, особенно если вспомнить, что реаниматология в свое время отпочковалась от танатологии. Науки о смерти. Ну, если буквально.
В детстве, коротая долгие сизые вечера в одиночестве, он частенько брал с забитого книгами стеллажа в родительской спальне книгу в серо-лиловой обложке с нарисованной на форзаце амфорой. И больше других греческих мифов, собранных в ней, он любил именно описание царства мрачного Аида. Там, верили греки, среди ужасов ночи обитает и бог смерти Танат с черными крыльями, что шевелятся за его спиной. Холодным своим мечом срезает он прядь волос с головы обреченного и уносит с собой его душу на берега священного Стикса. Он не требует даров и нелюбим не только смертными, но даже другими богами. Арсений часто представлял себе это высокое и грозное создание, закутанное в плащ, в одиночестве бродящим по загробным полям, заросшим аконитом и блеклыми асфоделиями, при виде которого прячутся в расселины даже души тех, кто уже умер и не должен более его страшиться.
Однажды после интернатуры, когда Арсений на две недели ездил в Москву – посмотреть столицу, пошататься по музеям из составленного матерью списка и отвезти несколько гостинцев отцовским коллегам, – он заглянул на вернисаж в Измайлово. За красивым французским словом скрывался огромный блошиный рынок. Чего там только не было! Самовары соседствовали со старыми телефонами, расписными матрешками, бахромчатыми платками, потемневшими иконами, шапками-ушанками, лисьими хвостами и потрепанными советскими плакатами, пестрящими лозунгами и призывами. Тускло и маняще поблескивал столовый мельхиор, прикидывающийся серебром, махрились корешки книг, мозаичным разнобоем глядели с черных ворсистых подложек значки с Лениным, Гагариным, бессмертным команданте и олимпийским мишкой, запонки, магниты и дедовские медали. Кухонные домотканые полотенца и соломенные фигурки домовых и кикимор соседствовали с послевоенными фотоаппаратами, аляповатые картины с охапками сирени и дождливыми пейзажами «под импрессионистов» обрамляли ларьки резчиков по дереву, торговавших деревянными скульптурами медведей всех мастей, а заодно и берестяными шкатулочками, зеркальцами в узорчатых оправах и березовыми расческами и гребнями, на которых вдоль редких зубьев едва виднелись штампованные надписи «From Siberia with love». Над всем этим разномастным великолепием витал дух пережаренного шашлыка и крепкого кваса. От толкотни, голосов и залихватской песни про Кострому, несшейся из стерео, у Арсения кружилась голова, становилось смешно и весело, и он даже пожалел, что не с кем разделить эту бесшабашную кутерьму. Родители явно не оценили бы, Арсений тут же представил Сергея Арнольдовича, который пожал бы плечами и назвал это «разлюли-малиной», хохломой или – лаконично и веско – лубком. В сущности, это и был лубок. То же самое, что барахолка народных промыслов на их городской набережной. Что-то ярмарочное, низовое, языческое в своей лютой наивной бессистемности, и оттого такое завораживающее. И конечно, глубоко чуждое отцу. Иностранцы мерили меховые шапки и объяснялись на пальцах с деловитыми киргизами и таджиками, ловко пересчитывающими сдачу, хрипло хохотала румяная баба в кокошнике, сарафане и вьетнамках, толкая под бок грузина в спортивных штанах с лампасами.
На развале, среди латунных и бронзовых бюстиков, где толпились разнокалиберные Сталины вперемешку с Николаями II, дородными Екатеринами, бровастыми Петрами, хитрыми египетскими сфинксами и крылатыми ангелами, Гаранин отыскал Анубиса в виде черной собаки из алебастра. Оказалась очень приличная копия той самой изящнейшей статуэтки из гробницы Тутанхамона, которой Арсений не раз любовался в иллюстрированных альбомах. С тех пор Анубис всегда стоял на столе в рабочем кабинете Гаранина, навострив длинные уши и вытянувшись всем телом. Как будто в любую минуту готовый подняться. И в отличие от Таната о косвенном отношении этого собакоподобного покровителя бальзамирования и ядов к его собственной профессии он сообразил лишь много лет спустя, да и то с подсказки Борисовской. Она тогда только разводилась со своим Васей, сильно располнела и, заглянув как-то раз уже на закате, рухнула на стул, расплывшись по нему ягодицами.
– Вот, – без предисловий ткнула она пальцем в Анубиса, и Гаранин покосился сначала на нее, потом на статуэтку, опасливо дожидаясь продолжения тирады. Он только что вернулся с ампутации: у тщедушного, полотняно-белого наркоманчика пошел ангиогенный сепсис. Пока препараты не подействовали, парень выл, звал мамку и обещал завязать, если ему не отнимут ногу. Честно говоря, после этого действа хотелось посидеть в тишине хоть минутку.
Ларка не стала продолжать, и Гаранин поднял бровь:
– Что именно?
– Что именно! – С готовностью накинулась она, передразнив. – Вечно вы, мужики, прикидываетесь шлангом! Будто не понимаете.
Гаранин помолчал. Он моментально пожалел, что не дождался, пока Лара продолжит мысль, и второй раз эту ошибку не допустил. Подруга тем временем шумно вздохнула и взяла-таки статуэтку в руки. Поскребла черную спинку ногтем.
– Хоть бы раз признался. Ты же изображаешь его из себя. Что, скажешь нет? Весь такой серьезный, возвышенный, себе на уме. Бог загробного мира, душу с перышком на весах перевешивать, над снадобьями колдовать, все дела…
Арсений сморщил лоб, намереваясь сказать что-то вроде: «Околесицу ты несешь, Борисовская» или предположить, что душу взвешивает бог Тот, а не Анубис, но Ларка его опередила:
– Только вот не надо мне тут! Знаю я вашего брата. Мой Васька тоже такой. Строил из себя Робинзона, строил… Непонятая душа, одинокий странник. Вот и достроился. Ну и пусть. Пускай отваливает на какой-нибудь необитаемый остров. Мне ж легче. Ага, уедет он, как же! Это я к тому, Гаранин, что нечего из себя небожителя корчить. И вообще не надо ничего из себя корчить. Вот почему, скажи мне на милость, все мужики делятся на тех, кто скучен до непереносимости и копает «от забора до обеда», и мечтателей-переростков, ни черта не соображающих в реальной жизни? А? Идеалисты хреновы. Где середняки-то? Чтоб на ногах твердо стояли. А?
Он не стал говорить, что и женщины сплошь и рядом грешат ровно тем же. Вместо этого пожал плечами:
– Все люди разные… – и быстрее, чем она побагровела и отчитала его за эту глубокомысленную банальщину, спросил, тряхнув пачкой рафинада:
– Чай будешь?
Борисовская открыла рот, закрыла, засопела, потом махнула рукой:
– А давай! Черт с вами, мужиками. Хоть чаем напоишь!
– С паршивой овцы хоть шерсти клок? – улыбнулся Арсений.
– Во-во.
Вспоминая сейчас тот разговор, Гаранин невольно провел пальцем по изгибу черного алебастра и, кажется, понял наконец, о чем тогда бурчала Ларка и что вменяла ему в вину. Это ведь почти то же самое, что повесить в кабинете фото себя, любимого, жмущего руку президенту. Чуть более завуалированно, чуть менее конъюнктурно, но все так же себялюбиво. Всего-то навсего статуэтка с барахолки – и какие глубокомысленные выводы…
– Доктор, вас там спрашивают, в холле, – бросила Валентина, пробегая мимо распахнутой двери кабинета.
За стеклянными дверями отделения, возле лифтов, прохаживалась броская женщина на немыслимой высоты каблуках. У Гаранина даже мелькнула мысль, не вывихнет ли она голеностоп с минуты на минуту: так неестественно были выгнуты ее стопы, закованные в алый лак туфель. Впрочем, передвигалась она на них со впечатляющим мастерством. Короткие рукава блузки открывали тонкие и рельефные загорелые руки. Спортзал и курорт.
– Арсений…
– …Сергеевич, – подсказал Гаранин.
– Сергеевич, – она улыбнулась, едва заметно прикусив губу. Ее лицо незамедлительно приобрело вид лукавый и донельзя соблазнительный. В эту секунду ее не портило даже то, что левый глаз немного косил в сторону. – Здравствуйте, я Вероника, дочь Владимира Баева. Он у вас лежит. В коме.
– Да-да, первый бокс. Чем могу?..
– Я прилетела, как только смогла. Брат позвонил. Просто я в Москве живу, сами понимаете…
Что должен был «сам понимать», Арсений точно не знал, так что предпочел не кивать попусту. Так или иначе с момента несчастного случая с Баевым-старшим прошло уже три с лишним недели. От Москвы можно было дойти пешком.
– Можно мне навестить? Папулю?
Гаранин понял, что медсестра не взяла на себя право впустить посетительницу, особенно после их недавней стычки. Хоть на том спасибо.
Злодеем он не был и родных пускал – чаще всего попрощаться, потому что реанимация – не проходной двор, здесь боролись за жизнь и врачи, и пациенты, а остальные только мешали. Для посещений же открыты двери других отделений, когда больных переводят туда. К Баеву-старшему до сего момента из родных никто не порывался, только однажды появилась тихая неприметная женщина с бархатными восточными глазами и аккуратной старомодной улиткой из темных с проседью волос. Представилась приходящей домработницей. Гаранин отказал: домработниц пускать не принято. И, пока она шла прочь, все хмурился и думал – а почему, собственно, не принято? Если она пришла проведать человека, стало быть, он ей небезразличен… Арсению пришлось нагнать ее уже на лестнице и в двух словах обрисовать состояние своего подопечного, чего он вообще-то делать не выносил. На то опять-таки были другие врачи и другие отделения. В реанимации прогнозов не делают.
А теперь вот явилась и дочь.
– Вероника Владимировна, ваш отец сейчас в коме. Ни на что не реагирует, и дышит за него ИВЛ. Вы должны это понимать. Он не слышит, не ощущает, не думает.
– Да, да, да, мне брат передал, – мелко закивала она. Поймать ее взгляд оказалось трудно, он постоянно сквозил чуть мимо, и про себя Гаранин решил, что это легкое косоглазие даже придает посетительнице некий шарм. Ее брат-бизнесмен, с которым Гаранин пообщался лишь раз, напротив, был обычным русским детиной, ничуть на нее не похожим. Конечно, тот не упустил возможности сказать сестре, что оплатил их отцу отдельную палату.
– А в остальном… Конечно, навестите.
Баева обворожительно улыбнулась:
– Спасибо, доктор!
Арсений провел ее в палату, приготовившись объяснить присутствие здесь второй пациентки, той, что без имени, но Вероника быстро процокала к кровати отца и присела на край, не обращая внимания на что-либо вокруг.
– Папуля!
Арсений предпочел выйти. Хотя и не удержался в последний миг от того, чтобы взглянуть на монитор возле Джейн Доу.
И уже в коридоре услышал, как резко всплеснулось и ходуном заходило все отделение. Заговорили, засуетились.
Единственный вопрос:
– Что?
– Авария на проспекте. Лобовое, маршрутка и легковушка. Два трупа, остальных к нам везут, – отрапортовала на бегу Ромашка.
– Сколько?
– Четверо! – выкрикнула она на пороге отделения. – Один – ребенок. Пять минут!
Народу на всех может не хватить, прикинул Арсений. Одна бригада в родильном на кесареве, две на плановых в онкологии, одна на стентировании в кардиологии… И, раздав отрывистые приказы, он помчался вниз встречать первую «Скорую».
Инструментарий готовили впопыхах. Когда мозг занят тысячей дел, во врачебной голове они не перебивают друг друга, сваливаясь в куча-мала, а выстраиваются в список. И по мере исполнения список просто ползет вниз, будто рейсы на табло прилетов, только очень быстро: верхняя строка смещается, и на смену ей тут же приходит следующая. Иногда Гаранину казалось, что вся операционная команда: хирурги, анестезисты, анестезиологи, операционные сестры – лишь тени, некая интерактивная система. Даже вместо восьмибитной озвучки – вполне подходящий писк и сигналы датчиков. Но он никогда не обсуждал этого с кем-либо из коллег. Это ощущение непременно пропадало, стоило только операции завершиться, и даже воспоминания о нем как-то очень быстро улетучивались.
Ему достался ребенок, самый тяжелый из всех участников аварии. Мальчик лет десяти, лежа на каталке, постоянно издавал звук, средний между бесконечным всхлипом и змеиным шипением. Дыхание слева не прослушивалось, повсюду пузырилась кровь.
Рентген.
– Травма грудной клетки. Возможно, пневмоторакс. Давление ни к черту.
Перелили литр крови, только потом повезли в операционную.
Дальше все пошло как надо. Катетеры, растворы, брызги йодоната, хлюпанье отсосов, задумчивые перфузоры, перемигивание диодов на аппаратуре… В голове было звонко и чисто – как всегда, когда обретаешь контроль над ситуацией.
Пожилая анестезистка Зоя приподняла худенькую руку мальчишки и чуть повернула на свет.
– У него тут рыболовный крючок в ладони. Глубоко.
– Не смертельно. Сейчас подлатаем, – отозвался хирург Вадим. – Рыболовный, говоришь? Мальчик же из автодорожки…
– На рыбалку, видать, ехали. Или возвращались.
– Да, повезло кому-то с пацаном. С сыном на рыбалку – красота. Мой от приставки носа не поднимает.
– Та же история. Что за народ пошел… – ответила вполголоса Зоя. – Не проходило и дня, чтобы она не сокрушалась о нравах нынешней молодежи в общем и своего внука в частности.
VIII
Пока ребенка везли из операционной в реанимацию, Арсений вышел передохнуть на балкончик. Снял маску и шапочку, вобрал полной грудью нагретый июньский воздух без едких больничных примесей. Даже непривычно. Вкус летней улицы (желтый песок и цветущие липы) осел на языке, глубоко, у самого корня. Гаранин прошелся по кафельным плиткам балкончика. Одна хрустнула, неплотно посаженная на раствор. С громко стрекочущего старого кондиционера на пол одна за одной падали капли, то и дело норовя превратиться в струйку.
Арсений не сразу заметил Ромашову. Та стояла, положив руки на вспученные коррозией перила, и тяжело глядела на горизонт, утонувший в мареве. Жесткий дневной свет подчеркнул все мелкие морщинки, и в эту минуту она не казалась ему девчонкой. А опустившиеся уголки губ отняли сходство и со Снегурочкой.
– Вер.
Она спокойно повернула голову, видимо, уже давно уловив его присутствие. Мягко кивнула:
– Закончили? Как там?
– Мальчика к нам уже привезли, – отозвался Гаранин. – Остальные?
– У одной черепно-мозговая, сотрясение. Плюс ссадины и разрыв связок. У второго три ребра. Ничего серьезного.
– Было трое взрослых. И ребенок. Ты говорила…
– Да. Одну не довезли.
– Ясно. А что с пацаном? Родные не объявлялись?
– Он в легковушке ехал. С родителями. Отец умер мгновенно. А мать… это та, которую наши не довезли.
– Ясно… Ясно.
Гаранин помолчал.
– Вид у тебя усталый. Может, кофейку?
– Голова побаливает. Наверное, из-за жары. Пройдет.
Вместе они дошли до ординаторской. По сравнению с духотой на балкончике, в отделении было свежо: в воздухе переливалась благословенная неживая прохлада. Покой нарушал только надтреснутый, но бойкий голос Тамары Георгиевны, пациентки онкологии. В подопечных Гаранина она успела побывать уже трижды. Сейчас уже два часа как ее привезли из операционной.
– Тамара Георгиевна, а вот и вы! – нацепив улыбку, Арсений зашел в палату энергичным шагом.
– Ну здрасьте, доктор, я уж заждалась!
– Весь в делах, голубушка, весь в делах. Потише говорите, не мешайте другим.
Старушка оказалась всклокоченная, бледная и взволнованная:
– Ибола у меня.
– Что?
– Ибола! – раздраженно ответила пациентка, и сухонькие руки в синих узелках вен пошли тревожно шарить по застиранному до серости пододеяльнику. Арсений глянул на показатели. В норме. На делирий вроде тоже не похоже.
– Вот до чего же нынче врачи непрофессиональные! Вот в мое время, бывало, сразу с порога диагноз ставили. А нынче крутят, вертят, переспрашивают. Говорю ж, это… лихорадка у меня! Африканская. Как есть лихорадка.
– Ах, Эбола… На что жалуемся?
– На нее и жалуюсь! Вот ведь непонятливый.
– И где вы ее подхватили, дорогая моя Тамара Георгиевна? Признавайтесь. Страна должна знать своих героев.
Гаранин положил пальцы на ее запястье. Скорость сердцебиения он видел и на мониторе, скорее, просто хотел успокоить пациентку. Старушка ненадолго прикрыла глаза, и Арсению показалось, что она задремала. Молоденькая медсестра Леночка вопросительно взглянула на него.
– Он и заразил, – не открывая глаз, пробормотала Тамара Георгиевна. – Черт мохнатый. Ой, и ведь как чувствовала! А мне ж перед операцией-то нельзя было болеть. А я пошла. Гулять. В парк, значит. Иду себе, иду… Ой не к добру из дома я вышла. А тут же Алевтина Геннадьевна мне еще позвонила, помидоров рассады отдать хотела. У нее-то уже переросли, такие кони, а места в теплице не хватило, ну, я думаю, дай заберу. Пошла, значит. Иду. По парку, по нашему. И тут он.
На этом драматическом моменте старушка распахнула глаза и вытаращила их так, что, наверное, стало больно глазной мышце.
– Я ведь пошла, устала, присела на скамеечку. Солнышко так грело, прямо приятно. А потом, думаю, что ж я это расселась-то? Я ж так никогда до Алевтины-то Геннадьевны не дошкандыбаю. Ну, встала, пошла. Ой, батюшки, думаю, а авоська-то моя где? В ней же кошелек, пенсионное… Поворачиваюсь, гляжу – а мне навстречу он. Глаза белые, сам черный, как трубочист. Смотреть страшно. И главное, это… Лыбится!
Арсений покосился на Леночку. Та слушала с возрастающим вниманием.
– А я прям так вся и обмерла. А он идет, значит, прямо ко мне. Авоську-то протягивает и говорит – вот, мол, так и так, мадам, забыли сумку свою. Мадам меня назвал, ишь ты. Ох. Ну я сумку-то это, вырвала. И бегом. А потом у Алевтины сели чай пить, с сушками. Я ей еще сказала, помню, ты ж чего, вредительница, сушек-то накупила? Так же все зубы переломать можно, у меня их и так по пальцам пересчитать! И вдруг чую, нехорошо мне как-то. Сердце не на месте. Ой. А она мне и говорит, по телевизору говорят, лихорадка в Африке. Ну, тут-то я и смекнула.
– Так, – кивнул Арсений, почесывая глаз. Кажется, попала какая-то соринка. – А этот человек… Он больным не выглядел? Может, кашлял…
– Может, и кашлял, – с готовностью согласилась Тамара Георгиевна. – Да я не приметила.
– А говорил он с вами как? По-русски?
– Да. А как иначе? Я ж других не знаю. Нет, в школе, помню, немецкий учили, – она пожевала губы, поморщила лоб. – Как там… Сейчас… Вер фельт хойте? Морген фарен вир нах Кунцево.
Леночка как-то тоненько хрюкнула и отвернулась к стене.
– Все понятно, Тамара Георгиевна, – вздохнул Арсений.
– Так что? Ибола эта заграничная или что?
– Живот-то как? Болит?
– Болит, доктор. Дак а что ж делать, операция, – стоически улыбнулась старушка. – Третья уж.
– И то верно. Ладно, что ж. Будем лечиться. Повезло, что у нас есть как раз новая вакцина. Сейчас поспите, лекарство подействует, и все пройдет. Африканские заразы в наших краях быстро гибнут.
– А то ж, – обрадовалась пациентка. – Им нас никогда не одолеть!
В следующую минуту Леночка вколола ей успокоительное, и Тамара Георгиевна погрузилась в сон. Арсению оставалось надеяться, что с пробуждением про лихорадку Эбола она уже не вспомнит. Впрочем, такой хрестоматийный ипохондрик вскоре найдет у себя что-то другое. Не родильную горячку, так простатит… Но это будет уже после перевода обратно в отделение, а значит – не его ума дело.
Вскоре он уже и думать забыл о старушке. День в реанимации шел своим чередом. По «Скорой» доставили четырнадцатилетнюю беременную девчонку с желудочным кровотечением и ожогами ротовой полости и пищевода.
– И пена-то идет не обычная, кровавая, и с таким, знаете ли, легким фиолетовым отливом, – рассказывал позже Илья, анестезиолог, откинувшись на спинку дивана в ординаторской и отхлебывая из чашки черный чай. – Изысканная…
Гаранин жевал булку со вкусом картона и малинового ароматизатора, смотрел в окно и вполуха слушал обычную околомедицинскую болтовню.
– Только не говори мне, что… – начала Ромашка.
– Именно, – кивнул Илья. – Мамаша посоветовала выпить густой раствор марганцовки как абортирующее.
– Вот сволочь. Как такое людям вообще в голову приходит? Чем думают-то?!
– То, что голова есть у каждого, а в голове наличествует мозговое вещество, по сути – распространенное медицинское заблуждение…
– Помню, когда в третьей городской работала, нам однажды такую привезли. Только выпила она скипидар, – поморщилась Валентина, вытаскивая из холодильника подписанный пакетик с бутербродом.
– Спасли?
– Какой там! Не успели, «Скорую» не сразу вызвали. Желудок начисто спалила, в месиво превратила…
– Может, правильно? Естественный отбор? У кого нет мозгов, те себя сами угробят…
– Ага. А мы их спасаем с утра до ночи…
– Ну, с точки зрения природы и эволюции, мы вообще зло, – вмешался в разговор Арсений, стряхивая с груди крошки. – Если природа сама регулирует популяцию и выживать должны только самые умные, сильные, здоровые и выносливые, то мы играем против нее. Если бы медицина существовала в эпоху кроманьонцев, например, в качестве инопланетного вмешательства, человечество вымерло бы задолго до рождения Христа. Я в этом уверен. В крайнем случае превратились бы в уродцев-мутантов. А потом все равно вымерли бы.
– Да вы сегодня оптимист, – хохотнул Илья. Арсений неопределенно улыбнулся и вышел.
По коридору навстречу ему летящей, ровно как из песни, походкой (как, как она держится на этих шпильках?) шла Вероника Баева.
– Арсений Сергеич, нам необходимо поговорить, как я понимаю… – кивнула она и подождала, пока Гаранин отопрет перед ней свой кабинет. Он и понятия не имел, о чем уж так необходимо им беседовать. Но ведь с женщинами лучше не спорить в открытую…
– Я вас внимательно слушаю.
Вероника села напротив него, мимолетным движением огладила колени, затянутые в блестящую лайкру чулок, достала из кармашка сумки упаковку бумажных платочков и одним из них осторожно обмахнула абсолютно сухие глаза. Надсадно всхлипнула.
– Я приняла решение. Вы не представляете, как это трудно и непросто, и… я не знаю, как это описать словами. Это ведь мой папа… и… Вы должны понять.
– Понимаю, – осторожно отозвался Гаранин, не вполне, впрочем, уяснив предмет ее решения.
– Ну так вот. Я знаю, нужно разрешение, согласие членов семьи… Не представляю, каким присутствием воли, каким хладнокровием нужно обладать, чтобы решиться на такое. Я не спала ночей после того, как узнала, и все думала, думала. Позвонила подругам, мне даже, представьте, психолога посоветовали. Я, правда, не пошла… Но терзания были такие… врагу не пожелаю, не пожелаю, правда! Так тяжело это произнести, у меня просто не поворачивается язык. Господи, как же так… В общем… Одним словом… Ох. В общем, я согласна.
Она замолчала и принялась изучать лицо Арсения своими красивыми косящими глазами в обводке темного карандаша. «Ждет моей реакции», – понял Арсений и чуть нахмурился. Ее, видимо, это не удовлетворило:
– Подписать бумаги ведь какие-то надо? Пусть тогда готовят, я завтра приеду. Или вам еще нужен кто-то? Моего согласия ведь достаточно? Я наследница, так что все в порядке. Ведь я за него ответственна… Мать наша давно уже умерла, так что я ближайший родственник. Хотя, конечно, строго говоря, нас двое, но… Вы не подумайте, брат не будет против! Если что.
– Против… чего? – мягко поинтересовался Арсений.
– Да отключения же!
– Отключения от чего? – Почему-то представилась трансформаторная будка с пучком торчащих проводов и рядом рубильник. Или большая красная кнопка. – Вероника Владимировна, вы продолжаете говорить загадками, а у меня после сегодняшней операции пропало всякое…
– Отключения моего отца, Владимира Баева, от аппарата ИВЛ, или дыхания, или как он там у вас называется! – выпалила дама, перебив его.
Гаранин очень постарался не вытаращивать глаза. Очень. Вероятно, это удалось.
– Так, – начал он осторожно. – Вероника Владимировна. А кто вам сказал, что такой вопрос вообще стоит? Ваш отец в коме.
– Ну правильно, в коме! – всплеснула она руками. – Я и говорю, что его надо отключить!
– За него дышит машина, однако сердце бьется, и мозговая деятельность сохранена. Насколько – это другой вопрос, но он сейчас не решается.
– Так а… Он же… Господи, да вы меня совсем уже запутали! – рассердилась красавица. – И что?
– И ничего. Люди лежат в коме долго. Иногда это недели, иногда месяцы. Бывает, что и годы.
– Но… нет никаких гарантий, что он… жив?
– Однако он точно не мертв, вот что важно. И отключить его – все равно что убить. А его не для этого откачивала целая бригада реанимации.
– Плохо откачивали!
Вероника Баева рывком встала и повернулась к Гаранину спиной. Какое-то время она молча изучала стену. Арсений видел, как ее шея покрывается красными пятнами.
– И что же это значит? Я зря звонила нотариусу?
Гаранин пожал плечами:
– Я знаю одно. Отключить его можно, если соберется консилиум и констатирует смерть мозга.
– Я поняла. Я все поняла, – высоким и странным голосом заговорила гостья. Арсений готов был поклясться, что она в ярости. – Всего доброго!
– До свидания.
– Телефон главврача не подскажете?
– Второй этаж, приемная прямо у центральной лестницы.
Красная, что ее туфли, Вероника Баева выскочила в коридор. Арсений покачал головой и устало потер глаза.
Через час позвонила Шанель.
– Арсений Сергеич, привет.
– Здравствуйте, Лидия Алексеевна, – он зажмурился, как от головной боли, примерно догадываясь, что сейчас последует.
– Давай признавайся, зачем Веронику Баеву обвинил?
– Я? – поразился Гаранин. – В чем?
– В том, что она хочет отца убить. Такими словами не бросаются. Покушение на убийство все-таки, статья…
– Во-первых, я такого не говорил даже близко. А во-вторых, вообще-то, если уж по чесноку, это правда. Пришла ко мне с намерением отключить его. Будто попугайчика решила усыпить в ветеринарке. И так просто! Не поинтересовалась даже о его состоянии, вообще ничего у меня не спросила! Поломала только комедию для видимости.
Главврач в трубке вздохнула. Гаранин ждал, что сейчас она начнет увещевать, мол, спонсор больницы, важные люди, связи…
– Вообще-то… молодец ты, Арсений. Были бы деньги, выписала бы премию.
– Но денег нет.
Шанель фыркнула в трубку:
– И не будет, пока ты будешь мешать нашим меценатам отключать их надоевших родителей от ИВЛ. Так держать.
И главврач отсоединилась.
Арсений послушал гудки в трубке и осторожно положил ее на рычаг. Потом заторможенно поднялся, запер кабинет и пересек отделение, уже угомонившееся к вечеру. Медсестры на посту встрепенулись, готовые к поручениям, но он только отрицательно покачал головой, едва заметно помедлил и оказался в первом боксе.
Какими разными все-таки бывают люди. Словно дышат не одним воздухом. Ведь что такое воздух? Всего лишь смесь газов, и дышать человек способен смесью многих из них, лишь бы кислорода содержалось двадцать процентов. Наш обычный земной воздух – семьдесят восемь процентов азота, двадцать кислорода, да еще два – разные примеси. Казалось бы, все мы одинаковы: руки-ноги, сердце-почки – ан нет. Кто-то мыслит и живет, будто только что надышался кислородом с гелием: инфантильно, бестолково, даже если при этом говорит серьезным, а не мультяшным от гелия голосом. Кто-то спит на ходу, и вязкие мысли едва переваливаются в его мозгу, будто одурманенные ксеноновой смесью, поступки отличаются нерешительностью, и все укрыто толстым ватным одеялом равнодушия и отупения. Кто-то неоправданно оптимистичен и задорен, и веселящий газ в его легких заставляет поступать опрометчиво, громко хохотать и не думать про завтрашний день. Красноречивые звонкие щеглы. Но правда в том, что и ксенон, и закись азота – анестетики, а после все равно возникнет разочарование и упадническое настроение.
Он задумчиво остановился между двумя кроватями, переводя взгляд с одной на другую. Слева Баев. Справа Джейн. Странная пара, если подумать. Одну никто не ищет, от второго хотят избавиться. Ненужные люди? Может быть, Арсений чего-то не знает, не видит всей картины целиком? Но это так не по-человечески: отказываться от своих. В любом случае эта пара – под его охраной.
Гаранин придвинул к правой кровати стул и сел. Согнулся, опершись локтями о колени, и поставил подбородок на сцепленные в замок руки. Его губы поджались. Казалось, прошло не меньше десятка минут, пока он пристально оглядывал свою неизвестную. За это время он успел запомнить каждую мелочь, вплоть до обмахрившегося кусочка бинта возле ее уха. Зрение обострилось до рези в глазах, будто внутри черепа поднялось давление.
– Вас наверняка никто не представил друг другу, – проговорил он негромко, неожиданно для самого себя. И слова вдруг потекли, будто давно уже напрашивались, набирались, как вода на краю большого листа, капля за каплей, и теперь внезапно сорвались вниз. – У нас не принято знакомить людей, лежащих в глубокой коме, да еще когда имя одного из этих двоих неизвестно. Но вы хотя бы должны знать, что здесь, в палате, вас лежит двое. Вас двое, на расстоянии протянутых рук. Это лучше, чем лежать поодиночке. А данные с ваших мониторов сообщаются на пост медсестры реанимации, постоянно, день и ночь. Так что вы не бойтесь, мы здесь, неподалеку. И наблюдаем, чтобы помочь, если возникнет нужда. Вы не одни. Вас двое, и все мы… Знаете, почему-то вспомнилось вот прямо сейчас… В детстве я очень боялся, что мне не найдется пары. Не в смысле спутника жизни, я ведь ребенком был, в детстве о таком не думаешь. Нет, я другого боялся. Помните, как в детском саду? Если, конечно, вы ходили туда, мало ли. Вот я там был, меня с полутора лет отдали в ясли. В детском саду всех ребят ставят в пары. Постоянно. Когда идут на прогулку, с прогулки, обедать, петь… До сих пор помню голос воспитательницы: «А ну-ка все встали по парам!» Я отчаянно боялся, что мне не достанется пары. Хотя вообще-то такого ни разу не случалось, но я почему-то все равно каждый день по нескольку раз покрывался потом от одной только мысли, что вот я протягиваю руку, а ее никто не берет. И все уже стоят по двое, а я один. Потом я почему-то стал бояться, что меня не возьмут в игру, не выберут, не позовут… А игр было много. «Цепи-цепи кованы», помните? «Цепи-цепи кованы, раскуйте нас! – Кем из нас?» И надо было выбрать, назвать по имени, кем будут расковывать. Я всегда переживал, если меня не выбирали. Мне казалось, я…
Тут Арсений вдруг смутился, осознал себя бормочущим какие-то глупости перед двумя коматозниками и рассердился. Щеки запылали жаром. Он коротко откашлялся, поставил стул обратно к окну и быстро ретировался.
IX
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«Сегодня 7 сентября, и я разобрала вещи. Разложила кучу бестолкового хлама, с которым, знаю, мне не расстаться – слишком уж я люблю все эти вещицы. Долго искала, куда пристроить ту морскую раковину, что Юльча привезла мне из отпуска. Какая же она удивительная! Розовая, со сливочным нутром и маленькими рожками, и в ней шумит море.
А потом я решила опробовать духовку. А посему будет старопомещичий пирог со сливами… О, один из моих любимых. Гладкое ароматное тесто, фиолетовая кислинка, белое роскошество пудровой посыпки, или сеточки белошоколадной глазури, или сметанной заливки! Я пеку его в сентябре, когда в воздухе пахнет сливами, арбузами, и хрусткой крепкой антоновкой, и тушеными перцами, и еще холодком осени. Я буду есть его, закутавшись в клетчатый флисовый плед, с чашкой чая, возле открытого вечером окна. А за окном на площадке ребята, как вчера, будут играть в баскетбол. В звуке тяжелого мяча, бьющего о землю, слышится холодный звон… У звуков нет имени. Это всегда действие: капанье, свист, цоканье, грохот, мяуканье. Только действие производит звук, бездействие же равно тишине. Вчера я шла по двору и услышала, как каркает воронье. Такой холодный звук, подумала я, и сама себе удивилась: разве у звуков бывает температура? Оказывается, да. От карканья веет пасмурным небом февраля. А вот стрекот кузнечиков – звук теплый, даже жаркий, или полуденный, или полночный… Всегда найдется что-то, что не укладывается в общепринятые определения. Например, бывает желтый вкус. И красный тоже, и даже бирюзовый – например, если разжевать листик мяты.
Мне не нравится говорить «сливовый пирог», только – пирог со сливами, пирог с вишнями, пирог с черешнями. Все равно что сказать о дереве «старая абрикоса», а не абрикос. Не пойму, почему так, просто нравится. И этот пирог – определенно старопомещичий. Рецепт я нашла в потрепанной рукописной книге на чердаке много лет назад, лишь чуточку изменила и уменьшила порцию ингредиентов вдвое – мне одной не осилить. Наверное, в прежнем варианте его пекли кухарки для своих мелкопоместных господ, что коротали век по тургеневски-небольшим усадебкам с деревянными верандами, выкрашенными в белый, со всякими мансардами и мезонинами. С дремотным уютом провинциальных гостиных, расстроенным клавесином, долгими чаепитиями, домоткаными ковриками и ажурными салфетками, скрипучими половицами, потрескивающими печами, сытыми мышами и вальяжными кошками, дремлющими в пятнах солнечного света, с прошлогодними календарями, брусничным морсом в хрустальном графине и несчастливыми любовными историями, утихшими в дальних уголках истосковавшихся сердец. Они давно уже почили, усадьбы разорились и рассыпались, линии рода пресеклись, все прошло. Остался только этот пирог со сливами, пахнущий звонким сентябрьским вечером.
Итак. Ставлю духовку греться на 170 градусов и разрезаю сливы на половинки, вынимая косточку. Беру:
2 куриных яйца
стакан сахарного песка
полстакана растопленного негорячего сливочного масла. (Растопленное масло всегда напоминает мне о куличах, которые пекла бабуля…)
стакан молока
два почти полных стакана цельномолотой пшеничной муки (но можно взять и обычную, конечно, чуть меньше)
полторы чайные ложечки разрыхлителя и немножко ванили. (Так ароматнее и теплее в осенние сумерки…)
Из всего этого миксером замешиваю тесто, похожее на густую сметану. Форму смазываю маслом, выкладываю в нее тесто, поверх – половинки слив и присыпаю их корицей. Ставлю в духовку на полчаса или чуть больше, сижу возле, жадно втягивая носом дразнящие запахи. Или иду поливать цветы. Только бы не забыть про пирог и вытащить его, пропеченный, пыхтящий и до невозможности красивый. И, когда остынет, посыпать пудрой. «Притрусить» – так говорила бабуля.
Я приехала сюда, чтобы все начать сначала. Пирог со сливами – это мое намерение остаться. Он пропитывает запахом ванили и корицы всю квартиру и, знаю точно, волнует кого-нибудь из соседей. Не может не волновать. Итак, решено, я остаюсь…
15 сентября, и я обживаюсь на всех парах. То есть в прямом смысле: сегодня затопила соседей снизу. Такая глупость. Принимала ванну и после этого забыла вернуть на место шланг от стиральной машины. Словом, всю воду она сливала прямо на пол. Ох, такую гамму чувств, что охватила меня, когда нога, переступив порог, погрузилась в озеро, трудно испытать в повседневности!
А потом раздался звонок в дверь. От такого звонка сразу не ждешь ничего хорошего, это отчаянная трель, с надрывом, на взводе. Протекло – сразу поняла я.
К счастью, все обошлось! Соседка снизу, Джамиля, только-только затеяла ремонт. Какая удача, что я не стала так принимать ванну две недели спустя! Пришлось бы платить, а у меня ну совершенно нет на это денег.
Два банных полотенца не впитали сразу всю воду, но очень помогли. Ни одной тряпке такое не под силу. Потом полотенца отправились в стиральную машину, а я – в кухню, колдовать.
Взяла дрожжевого теста, пухнущего под салфеткой, раскатала в лепешки. Свернула каждую с двух сторон (от краев к центру) в два жгутика, краешки залепила. Получилась лодочка. Серединку чуть раскрыла, начинила сыром сулугуни и обычным, тертым, да и сунула в духовку. Когда лодочки подрумянились, вытащила их, смазала тесто желтком, добавила в серединки по столовой ложке сливочного масла и по одному маленькому сырому яйцу. И снова поместила в духовку на 5 минут, чтобы яйцо подернулось дымкой. А потом густо сыпанула зеленью и спустилась заводить дружбу с соседкой.
Она обрадовалась. Мы ели хачапури-«лодочки», томно истекающие желтым маслом, отщипывая кусочки булки с края и обмакивая в еще жидкий горячий желток, и болтали. Я уверяла ее, что точно такие, самые вкусные в мире хачапури, подают в ресторане «Нартаа» на сухумской набережной, вместе с кислым домашним вином, пахнущим овечками, потому что из винограда «Изабелла». Не люблю такое вино, хотя саму изабеллу обожаю. Такие у нее упругие и терпкие ягоды, она напоминает терновник… А Джамиля диктовала мне рецепт узбекской лепешки, катламы, и рассказывала, что ее мама печет их совершенно неподражаемо, рассыпающимися на сотню слоев, нежными и крапчатыми от черных кунжутных семечек.
Позже мы свернули из старой газеты пилотки. Джамиля мастерски белила потолок, а я красила батарею.
22 сентября. Как же все-таки прекрасна осень! Никогда не подумала бы, что заявлю вдруг такое. Но, по правде сказать, я так нечеловечески счастлива оттого, что наконец вырвалась, освободилась от своей прежней жизни, что теперь готова радоваться каждой мелочи. Сегодня видела клен, мелкоузорчатый и весь трепещущий, и по цвету он был – точь-в-точь желтое яблоко с румянцем… ну таким, яблочным румянцем, в общем. А еще набрала горсть боярки и слопала. Да, мимо шли люди и странно на меня смотрели. Да, рядом дорога, и в ягодах полно черт знает какой гадости. Но мне все равно было вкусно. И солнце с запада светило прямо сквозь лимонную листву, косо и ярко. И чирикал воробей.
Вот, кстати, о яблоках. Будут они у нас в карамели. А что, вполне себе осеннее лакомство!»
X
На бульваре над его головой шумели тополя, и в глаза и рот лезли целые клочья пуха. На скамейке не хватало одной перекладины, и доска через неплотную ткань летних брюк больно впивалась в ягодицы.
Гаранин сложил серые листы ксерокопий и осторожно опустил себе на колени. Взгляд его устремился вдаль, но, честно признаться, Арсений толком ничего и не замечал. Ни мальчишек, чиркающих зажигалкой у бордюра, чтобы тополиная вата вспыхнула и огонек побежал вдоль тротуарных плит, будто по бикфордову шнуру. Ни пожилого мужчину, крошащего сайку голубям. Ни даже симпатичную женщину, что прошла совсем близко от него, посмотрев благосклонно и с надеждой.
Он думал о хозяйке этой тетради. О девушке, чьего имени по-прежнему не знал. Оранжевая тетрадь в синюю полоску оказалась чем-то вроде кулинарного дневника: девушка рассказывала историю своего переезда в новый город, перемежая размышления рецептами. И даже вовсе не перемежая, нет, скорее – вплетая одно в другое. Ее повествование напоминало плетенку из сдобного теста. Вот почему в сумке ее нашлись два пакетика корицы в палочках – девушка просто обожает печь. Обожала. Арсений не терял надежды, что какое-нибудь замечание, признак, описание, деталь – хоть что-то натолкнет на возможность опознать его Джейн Доу, выяснить ее имя, место жительства или работы. Ему хотелось бы верить, что и в полиции не сачкуют, что есть хоть кто-нибудь, в чьи обязанности входит слово за словом штудировать оранжевую тетрадь, допытываясь истины. Это в заграничных детективах все просто: анализ ДНК или отпечаток пальцев – раз, и готово. На деле все оказывается куда сложнее. И приземленнее, что ли…
Зажмурившись, позволив лучу закатного солнца скользить по лицу, Арсений снова явственно представил, как подобрал в зарослях парка Пионеров-Героев сумку неизвестной. Что же там было? Кроме обычной женской дребедени, что заставило его горько улыбнуться, а сердце – дрогнуть от грусти? Ключи с голубыми дельфинчиками вместо брелока. Такие игрушки много лет назад попадались в киндер-сюрпризах, и Арсений припомнил, что толстушка Нина Павленкова собирала коллекцию, а остальные над ней смеялись, ведь дело было уже на пятом курсе мединститута. Поздновато для игрушек. Но в их детстве таких еще не было.
Наверное, Джейн Доу в те времена еще даже не ходила в школу… Она ведь намного моложе. Что же связывает ее с пластмассовыми фигурками? Напоминают ли они о каком-то событии, человеке, дне – или это просто забавная безделушка, привешенная к ключам от нечего делать? А мячик из прозрачной резины с зелеными вкраплениями блесток – один из тех прыгучих крохотных мячей, что продаются в автоматах почти в каждом магазине. Чей он? Предназначался ли он какому-то знакомому ребенку? Из медицинского осмотра девушки Арсений понял, что собственных детей у нее нет и никогда не было, но что, если это соседский мальчуган, воспитанник, ученик, племянник или младший брат? И почему непременно мальчик, возможно, это задорная девчушка с заливистым смехом, ободранной коленкой и рогаткой в кармане? В конце концов, быть может, и нет никакого ребенка, она могла просто шагать по улице, заметить в пыли что-то поблескивающее, наклониться, подобрать мячик, с улыбкой сдуть пыль с каучуковых боков, с удовольствием кинуть его о мостовую и ловко поймать в лодочку узких ладоней.
Гаранин представил это так отчетливо, будто только что видел Джейн Доу на бульваре в паре метров от себя, будто она всего только минуту назад подобрала оброненный кем-то из детей мячик. Он уже знал: она из тех чудаков, что грызут ранетки, боярышник и рябину прямо с ветки в городском парке, облизывают сосульки и макают хлеб в только что выпавший снег, собирают охапки разлапистых кленовых листьев и загадывают желание, когда проезжают под грохочущим по мосту поездом. А какой еще может быть девушка, которая носит в сумке китайскую монету с дыркой, повязанную на удачу красной ниткой? Ирина, его жена, тоже была из этой породы людей.
Иногда у Арсения возникало тревожное неотвязное чувство, будто он что-то… нет, даже не потерял, а не нашел. Упустил, проглядел. Чаще всего это неуютное чувство рождалось на выходных или в отпуске, когда он оказывался избавлен от привычной суматохи рабочих будней. Но вдруг оно возникло прямо сейчас, посреди людного предвечернего бульвара, заворочалось под ребрами, кольнуло локти и кончики онемевших пальцев. У чувства был сухой привкус пыли, словно у засушенных цветков, что лежат меж страниц книги из лавки букиниста. В такие моменты Арсению становилось не по себе в собственном теле, в собственной жизни, все внутри сдвигалось, сходило с осей, поднимался какой-то сокровенный ветер, дующий будто сквозь щели и свистящий тихо-тихо, так что сразу и не услышать. Это состояние имело смутное и не выразимое словами отношение к ненайденным дверям, пролитым чернилам, неразрезанным страницам, остывшим к утру кострам, не полученным адресатами письмам, неотпертым замочным скважинам, ключи к которым висят на большом кованом кольце, покрывшемся зеленоватой паутиной, к секретам, уснувшим в молчаливой глубине почти прожитой чьей-то жизни.
Гаранин поднялся и с трудом, через силу двинулся к дому. Весь вечер он смотрел телевизор, беспрестанно щелкая пультом, а наутро не мог вспомнить ни одной из передач. Не то что содержания – даже названия.
XI
Было время, когда с мая по сентябрь фонтан еще работал. Струи били из-под круглого гранитного бортика в направлении центра, и каменного юношу, прижимающего к себе небольшого дельфина, со всех сторон обдавало брызгами. Если в солнечный день встать под определенным углом, в струях непременно можно было увидеть вспыхнувшую радугу-семицветку, похожую на бензиновые разводы, зависшие в воздухе.
В обеденный перерыв Гаранин обошел территорию больницы и на минуту задержался возле фонтана, глядя на его щербатую пересохшую чашу, а казалось, что в прошлое. Как-то незаметно в его сознании образ дельфина-статуи сплелся с дельфинами на брелоке незнакомки, и внутри заворочалось беспокойство: как она там, в своем безвременье? Впервые Гаранину показалось, что раньше этого фонтана и вовсе не существовало, или он как-то неправильно его воспринимал, будто мимоходом, краем глаза, и сегодня, прямо сейчас, узрел его со всей ясностью и отчетливостью. Этот фонтан имел прямое отношение к незнакомке. Не только из-за брелока, нет. Арсений все никак не мог уловить, поймать за хвост собственную догадку и хмурился, трогал грязный парапет, испещренный известково-белыми голубиными кляксами. Вдруг сообразил. Ну конечно! Книга! В ее сумке он нашел, помимо прочего, книгу, которую не успел как следует осмотреть, ведь в руки попал предмет куда более занимательный – тетрадь. Но теперь-то он вспомнил. Потрепанная книжка была завернута в целлофановую обложку – «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, причем на английском языке. Что, если незнакомка – иностранка, задумался Арсений и тут же отмел это предположение: тетрадь-то принадлежала явно русской. Однако при чем тут дельфин? Ах да. Он тут же припомнил, что в детстве у него тоже была книга про Мэри Поппинс, точнее, сборник из трех произведений, вместе с «Чиполлино» и «Маленьким принцем». Он больше любил Экзюпери, но и сказку про английскую чудо-няню прочитал. И там, кажется, фигурировал мальчик, ожившая статуя… С дельфином под мышкой. Как же его звали?
Гаранин в смятении поднял глаза и пристально, с каким-то даже трепетом, вгляделся в каменное лицо. Совершенно советский, не по-детски бесстрастный облик, высокий невинный лоб, широкие скулы, волосы, наверняка светлые, если бы у скульптуры был цвет. Ему почудилась улыбка на холодных губах статуи. Что это? Какой-то знак свыше? Совпадение?
Рассердившись, Арсений решительно зашагал прочь. Что за старушечьи бредни? Ему бы в отпуск, а то всякая чушь в голову лезет… Он уже собрался повернуть к старому корпусу, когда слуха коснулись звуки женского рыдания. Встрепенувшись, он повернул голову и увидел возле сторожки двоих – Максимыча и плачущую женщину, узнать которую не составляло труда: во всей больнице не сыщешь других таких апельсиновых волос. Саня Архипова-Франкенштейн.
Он подошел ближе, переглянулся с Максимычем. Привратник, мрачно взглянув из-под пучковатых седых бровей, покачал головой и осторожно опустил короткопалую заскорузлую ладонь на плечо девушки. На потемневшей коже его руки между большим и указательным пальцем синел блеклый якорь.
Гаранин понимал, что самым правильным решением будет уйти отсюда, но эта сцена его заворожила. Он привык видеть Саню стойкой и мужественной в самые темные дни ее жизни, он видел слезы, непроизвольно выливавшиеся из ее глаз от боли, но даже тогда она силилась улыбаться, пусть обескровленная, пусть спекшимися от температуры губами. Сейчас ее душевная боль явно перевесила физическую. И это неожиданно поразило Гаранина, потрясло его.
Постепенно плач утих, и Саня, шмыгая носом, судорожно глубоко вздохнула:
– О-ох…
Вытерла ладонями лицо и шею, откинула волосы за спину, запыхтела, надув щеки:
– Жарко… Арсений Сергеевич, здравствуйте.
Смутилась. Да и он тоже.
– Привет, Саня.
Сказать было больше нечего, и он, помешкав еще пару секунд, побрел в сторону старого корпуса, чувствуя себя довольно неловко и как-то мешковато, как будто собственное тело стало ему велико.
Но на крыльце остановился и, сощурившись, стал наблюдать издали, как приближается, уже по привычке ловко управляясь с костылями, Саня. Подойдя к нему, она остановилась. Ее кожа все еще хранила пунцовый оттенок долгих рыданий.
Девушка не стала садиться на бетонный приступок фундамента, на котором обычно курили санитары, а прислонилась спиной к стене возле задумчиво стоящего Гаранина. Они оба вперились глазами в пышное облако пурпурной петунии, пластмассовая корзинка с которой болталась на крюке прямо возле дверей. От цветов тянуло непереносимой приторной сладостью.
– Меня выписывают. Завтра.
– Да? Ох, Санечка, я тебя поздравляю! Отличная новость. Хотя, конечно, больница будет по тебе скучать. Тебе тут уже впору турбюро открывать. Абориген ты наш.
– Да уж, – с непривычной мрачностью согласилась Саня. – Я позвонила Феде. Помните моего Федю? Сказала ему, что меня выписывают. А он… а он ответил, что не приедет забирать. И совсем больше не приедет. Потому что встретил другую девушку. И что он любит ее. И что у них уже скоро будет ребенок. Он просто не мог мне этого сказать, пока я болела, все ждал, когда выздоровею. И мама, мама моя, она давно знала об этом! И тоже молчала.
Несмотря на сухой ее голос, Гаранин с удивлением заметил, что по ее лицу снова катятся крупные слезы. Он вспомнил ее, искалеченную, набор костей и суставов, человеческий конструктор, который доставили им на «Скорой» полтора года назад. Он пересчитал все ее операции и наркозы, которые давал ей сам, все миллилитры и миллиграммы, которые выдержал этот организм. Радиацию рентгена, титан искусственных вставок в ее кости… Рядом с этим удивительным человеческим существом, ставшим еще более уникальным, чем оно было рождено на свет, озвученная ею история меркла и казалась серой и плоской до оскомины.
– Ну, Санька, нашла из-за чего слезы лить! Сплошь и рядом такое. Ты молодая, с мозгами все в порядке. Найдешь еще лучше. Тем более что ты недавно второй раз родилась.
– Ага…
– А маму твою понять можно. Как она натерпелась! Вера, помню, Ромашова, ее нашатырем в коридоре откачивала… Ей теперь с тебя пылинки сдувать хочется. Ясное дело, почему не стала ничего говорить. Чтобы ты вот так не убивалась!
– Но ведь я все равно узнала. Он сам сказал… Как же так, я ведь должна была почувствовать… что-то в глазах увидеть, разве нет? Когда он приезжал меня навещать. Женщины же обычно такое чувствуют, нет? Так говорят… А я совсем, видать, невнимательная… Так радовалась, дура. И вот он сказал.
– Да. Сказал. Но перед самой выпиской, когда ты уже выкарабкалась. И молодец, что сказал, другой бы еще тянул кота за одно место… Оцени это!
Саня резко повернулась к Гаранину:
– Я не могу без него жить. Я не хочу. Все это без него не имеет смысла!
Осознав, что она имеет в виду, он не удержался.
– Да ты что? – Он даже сощурился. – Вот молодец, додумалась. Мы что, зря тебя латали, по кускам собирали? Твое тело тебя не подвело, три десятка врачей тебя не подвели, а какой-то придурок сдался. И что теперь из-за этого? Сдохнуть?
– Я его люблю, – почти простонала Саня и принялась отчаянно тереть лоб, словно пытаясь вытереть, выскоблить оттуда эту мысль и это чувство. – Я его люблю!
Арсений оттолкнулся от стены и встал напротив девушки, практически нависнув над ней:
– Ты его любишь. Ага. И что из того? Ты что думаешь, любовь – это такая уж ценность? Редкость? Да оглянись ты вокруг. Посмотри повнимательнее! Все кого-то любят, каждый. Куда ни плюнь – попадешь в чью-то любовь. И ни черта это никого не извиняет, ни за что! Поняла меня? Ни один плохой поступок не может оправдываться любовью. Это нечестно. Нечестно, слышишь? Это твоя жизнь, жизнь человека. Вот что дорого. Черт, да это ведь дороже всего! И это надо уметь ценить, а не размениваться на медяки. Привыкли все коту под хвост пускать. Человеческую жизнь не ценят, оборзели вконец. Люди, господи, да что с вами не так?! Конечно, вешайся иди, топись, что уж тут. Мальчик бросил девочку, самое время распустить нюни. Только мать свою на тот свет не забудь захватить, раз такая умная. Она ж тебя зря рожала. Да?
Он осознавал, что говорит, кажется, жестокие вещи. Возможно, чересчур. Но все равно верил в каждое свое слово. И негодовал, что собранная, почти рожденная заново в стенах больницы Саня Франкенштейн осмелилась пойти наперекор своему спасению – в котором, кстати, Арсений принимал непосредственное участие. Это показалось ему кощунственным, как плевок в церкви.
Тон или смысл сказанного Гараниным достиг сознания Сани. По крайней мере, она перестала плакать и несмело покосилась на Арсения, высматривая что-то в его лице.
– Простите. Мне не следовало так говорить… – вздохнула она.
– Тебе такое думать не следовало. А говорить – говори на здоровье, я и не такое слыхал, – миролюбиво отозвался Гаранин, уже ругая себя за вспышку. Ведь перед ним обиженный ребенок, не больше. Не стоило принимать ее слова всерьез. – Санечка, дорогая, – он снова прислонился к стене и даже тронул рыжеволосую девушку за тонкое, птичье плечико. – Послушай меня. Ты жива-здорова, молодая эффектная девушка… Красивая-красивая, уж поверь мне. Сколько тебе, двадцать шесть? О, Сань, да еще сколько таких Федь-то будет, а? Так что даже думать не смей расстраиваться! Поняла меня?
Она криво улыбнулась, ковыряя заусенец на пальце.
– Эй, поняла, Александра Архипова? – Он приподнял ее лицо за подбородок и заглянул в глаза, чувствуя свое превосходство взрослого невлюбленного человека, считай что родителя, над растерявшимся подростком. – Плюнь и выкинь из головы. Это мое тебе врачебное предписание. Да?
– Да, Арсений Сергеевич, – энергично покивала она, явно хорохорясь.
– Смотри у меня!
Гаранин лихо подмигнул ей и отправился восвояси. Он взбежал по лестнице и толкнул дверь отделения, чрезвычайно довольный собой: ситуация была неприятная, но ему удалось повернуть все в правильное русло. Ай да ловкач!
Заглянул на пост, быстро изучил общий монитор, куда выводились показатели всех пациентов отделения в реальном времени.
Юная медсестра Леночка подлетела к нему с кипой бумаг:
– Арсений Сергеевич, подпишете на перевод?
– Давай.
Он просмотрел бумаги, поставил свою ровную подпись и передал стопку обратно. В этот момент к ним из сестринской вышла Ромашка:
– Мальчик приходил в себя. Давление низкое. Перелили еще две единицы. Узнали имя – Михаил Иванович Воронко, десять лет и семь месяцев.
– Спит?
– Да, только что уснул.
– Спрашивал?
– Да, – Ромашка сразу смекнула, о чем он. – Пока не сказали.
– А полиция что?
– Звонили полчаса назад. Есть бабка у него, но она парализованная, после инсульта, дома. Уже полтора года как.
Гаранин молча кивнул и отошел. Мальчишка в одночасье потерял родителей, и жизнь его теперь круто изменится. Через несколько суток его переведут в травматологию, а потом… Тело заживет, но что будет с ним самим, с личностью, когда после семьи, по выходным выбиравшейся из города на рыбалку, он вдруг окажется в детском доме? Бабку, конечно, заберут в дом престарелых, где она весьма скоро отойдет в мир иной. Месяца три максимум, там дольше не живут. Не надо быть Нострадамусом, чтобы увидеть эту историю так явственно, как она промелькнула перед внутренним взором Гаранина. Грустно, но он уже не впервые сталкивается с подобным.
Чуть позже он созвонился с майором Грибновым. Тот узнал его не сразу и не был настроен на разговор, сообщил только, что все без изменений, имени девушки они до сих пор не узнали и что у него и так дел невпроворот. И повесил трубку.
Часть вторая. Горячий шоколад
I
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«Сегодня заглянула на рынок. Он здесь большой, не то что у нас в поселке. Такое изобилие! Но и цены, конечно, повыше. Проходила по ряду, где торгуют орехами, закрутками и специями, и заметила мешок, а в нем какие-то незнакомые на вид орехи. Больше фундука, только не круглые, а угловатые. Коричневые, похожи на конские каштаны, но неказистые какие-то. Оказались, что это и вправду каштаны, не конские, а обычные. Откуда-то с Кавказа.
Вот это да! Я не смогла противостоять соблазну, ну никак! Это ведь каштаны, те самые каштаны, которыми, говорят, пахнет весь Париж, когда в октябре их жарят на открытых жаровнях по бульварам… Я столько раз об этом читала – у Саган, у Голон, у Джоан Харрис, у Эмиля Золя, у Пруста… Кажется, Пруст их недолюбливал, но не суть! Столько раз представляла, как я прогуливаюсь по Монмартру, разгрызая еще теплый, пахнущий дымом каштан… За неимением Парижа решила довольствоваться его знаменитым блюдом и купила 400 граммов.
Надрезая каштанчики крест-накрест (та еще работенка, кожура у них твердая, и я пару раз чуть не отхватила себе палец), а потом и жаря их на сковородке, я все мечтала о дальних странах. Как, наверное, здорово… Обсыпаться сахарной пудрой дрезденского штоллена на рождественском базаре. Следить, как оплывает ванильное мороженое от теплого дыхания венского штруделя. Вылавливать пальцами черные маслины из оливкового масла, ну, скажем, где-нибудь в переулочке Афин. Обляпаться банановым кремом из ядовито-желтого, чисто американского пончика-доната. Полить лимонным соком бретонскую устрицу. Сгрызть корочку настоящей неаполитанской пиццы, остро пахнущей орегано и помидорами…
Я только сейчас поняла, что никогда никому не признавалась в том, как страстно мечтаю посмотреть мир, что с самого детства составляю список мест и городов, которые непременно надо посетить… Не матери же или ее дружкам об этом говорить, ей-богу. Могу себе представить их реакцию… Брр. Они никогда не были дальше Липецка, но дело даже не в этом. Они просто не думают, что за Липецком тоже есть мир. Им это не интересно, и никогда не было интересно. Глеб, конечно, обещал мне поездку за границу, когда только начал ухаживать, но для него Турция или Таиланд – предел мечтаний. Да и в прошлом уже Глеб, ну его! Сколько можно вспоминать. Наверное, я не могу перестать думать о нем, потому что причинила ему боль. Значит, это моя совесть мучит меня.
Пока я так думала, каштаны мои чуток подгорели. Впрочем, я точно не знаю, может, так и надо. Я, как и было велено торговкой, посыпала их солью, стряхнула на тарелку и тут же, не имея терпения ждать, пока остынут, принялась за трапезу. У меня болели кончики пальцев (скорлупка от огня мягче не стала), губы щипало от соли… я сидела и улыбалась в одиночестве. Честно говоря, на вкус они – что-то среднее между сладковатой мерзлой картошкой, орехом молочной спелости и вареным нутом. Вроде бы понравились. Хотя не скажу точно, что именно: вкус ли жареных каштанов или само ощущение того, что я их наконец-то попробовала. Слишком давней была мечта. Хорошо, когда мечты сбываются!»
II
– Я должен кое в чем признаться. Я не имею на это никакого права, но… я читаю твой… дневник.
Арсений произнес это вполголоса, где-то между двумя и тремя часами ночи, в полумраке реанимационной палаты. Дежурный врач прикорнул в ординаторской, медсестра клевала носом на посту – выдалась тихая ночь без происшествий. Это была одна из тех ночей, когда Гаранин засиживался на работе допоздна и уже не видел смысла отправляться восвояси. Около десяти он задремал, съежившись на диванчике, но в час проснулся – совершенно отдохнувший, правда, с затекшей шеей и ломотой в затылке, и с разочарованием понял, что далеко не только до утра, но даже до рассветных сумерек. Осторожно, стараясь не потревожить отделение и повинуясь порыву, он снова забрел к коматозникам, Баеву и черноволосой (точнее, уже лысой) незнакомке, и плотно притворил за собой дверь, а потом несколько минут слушал таинственные звуки едва теплившейся в них жизни. И вдруг нарушил молчание.
– Я вообще не знаю, зачем это все. Но я ходил на насыпь, туда, где с тобой все это случилось. Там я нашел твою сумку. Не беспокойся, я отдал ее в полицию, чтобы расследование шло своим чередом. Я не хочу чем-то им помешать. Ты можешь быть уверена, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы…
Это все были глупые слова. Он знал, что Джейн Доу его не слышит, что она по-прежнему не знает о его существовании.
– Но я теперь знаю о тебе, – ответил он на собственную же мысль. – Мне хочется узнать о тебе больше. Чтобы тебе не было так одиноко. Это важно для меня. Вообще-то я подобным образом не поступаю, но… что сказать, кажется, я трогаюсь умом. Так или иначе мне больно от мысли, что тебе одиноко. Я даже не могу себе представить, где ты сейчас. Если там вообще что-то есть… кроме пустоты.
Он пошелестел листами ксерокопий, припоминая прочитанный рассказ об осенних каштанах Парижа. И улыбнулся.
– Я так и не понял, откуда ты приехала к нам в город. Зачем? Наверное, из-за твоей склонности к путешествиям.
И он пустился в рассказы, негромко, вполголоса.
В свои девять лет Арсений мечтал путешествовать. В районной библиотеке он отыскал том энциклопедии «География». В ней на сорок седьмой странице, в главе про великие географические открытия, на весь разворот красовалась карта мира, жирной красной линией этот мир опоясывал маршрут Фернана Магеллана, а синей – путь «Золотой лани» Фрэнсиса Дрейка. Арсений представлял себя Фрэнсисом: это имя нравилось ему больше.
– Да и с королевой у этого мореплавателя, кажется, была какая-то романтическая история, в подробности которой авторы энциклопедии предпочли не вдаваться, – усмехнулся Гаранин. – А может, я просто неправильно понял.
Пока родители дежурили в больнице, Арсений тащил от рояля черный стул с крутящимся круглым сиденьем, ставил вокруг него несколько табуреток, одну на другую, и обматывал веревку вокруг ножек. Край веревки тянулся до самой ручки двери, через всю комнату, и поверх нее мальчик набрасывал простыню. Не успевал он моргнуть, как простыню наполнял попутный бриз, веревка становилась такелажем, скрипучим от ветра, вся конструкция – кораблем, летящим поверх упругих, искрящихся на солнечном свету волн, и Арсений-Фрэнсис стоял за черным штурвалом, крутил его что есть сил и отдавал приказания расторопной команде.
– Есть, сэр! Так точно, сэр! – неслось на него со всех сторон. Мелькали по доскам выскобленной палубы босые ноги, темные от загара, болтались просоленные волосы, сплетенные в сальные косички, сверкали белки глаз, туго свитые корабельные канаты змеями укладывались в кольца.
– Но путешественником стать мне так и не довелось, а новые земли открыли еще до меня. Хотя это и не совсем верно. Ты и сама, наверное, понимаешь, что земли всегда новые, пока в них не пожил. Для каждого следующего человека. Бесконечная тайна. Мир так велик, а жизнь всего одна.
III
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«Зачем? Правильно ли я сделала? Еще неделю назад я задавалась этим вопросом постоянно. Так ли уж плоха была моя прежняя жизнь?
Если бы дело было только в родителях, я сказала бы однозначно – да. Неспокойная совесть не дает мне спать по ночам, но вчера я снова позвонила матери. Она едва сумела связать пару слов. Этого достаточно, чтобы понять в очередной раз, что ей совершенно безразлично, где я и что со мной, так что и не будем больше об этом.
Я скучаю по своим ребятам. Но школа такое дело, учителя приходят и уходят, а у них свои дела, свои маленькие трагедии и радости, что им до взрослых? Тем более что я уже казалась им взрослой, а значит – скучной. Так смешно! Это я-то взрослая?
Но никогда не забуду того вечера, когда Глеб предложил пожениться. Конечно, без цветов; конечно, без красивых жестов. Даже не убавив звук на телике, он пробурчал что-то типа:
– Давай поженимся, что ли. Мать уже спрашивает когда.
Да, на выходных он ездил к Светлане Сергеевне. Именно эта поездка его и надоумила.
– Ты хочешь на мне жениться?
– Ну да. А чего кота за яйца тянуть? Живем мы и так вместе. Вам же всем свадьбу хочется, я прав?
Я помедлила с ответом. В этом «вам» мне почудилось что-то мерзкое. Кому «нам», хотела спросить я, а потом поняла, что не стоит. И так ясно. Нам – значит, бабам. Не женщинам, не девушкам. Бабам.
Я ждала, что вот сейчас он скажет правильные слова. Потому что именно для такого случая, как мне кажется, есть правильные слова. Про любовь, про дальнейшую жизнь не просто бок о бок, но вместе! Про горе и радость, болезнь и здравие. Это потом, в ЗАГСе, можно ухмыляться от кондовости подобных формулировок, ставших уже казенными. Но не в момент предложения, наедине с любимой…
Может, права была Люда, когда еще в одиннадцатом классе сказала, что у меня высокие запросы? Что нужно уметь смиряться и не требовать луну с неба. Но ведь я и не требую луну, мне было бы достаточно желания достать ее для меня. Черт, когда же быть романтичным, как не в такие моменты?
Нет. Нет. Если я такая – значит, такая. Может быть, дай я тогда согласие Глебу, я лишила бы себя чего-то очень важного, что и сейчас маячит где-то впереди. Может быть, я безнадежна, но мне кажется, что счастье еще будет. Что оно уже совсем скоро.
Так что я отказалась, собрала вещи и объявила, что не люблю его. Возможно, он когда-то мне и нравился, но это было помрачение рассудка. Наверное, от одиночества. Какая разница, от чего именно? Главное, что я совсем не хотела, чтобы он стал моим мужем, а я – его женой. Для меня это важно. Тем более что и он, кажется, хотел не больше моего. Просто так было бы удобней.
Конечно, он назвал меня идиоткой. А Люда, к которой я потом пришла с сумкой, – дурой.
– Такого мужика бортанула… – вздохнула она.
Какого, хотела спросить я, но, опять же, не стала. Если бы он и вправду меня любил… Если бы любил, дал бы он мне так просто уйти? Да и вообще, какая разница, любит ли он меня, если я не чувствую того же в ответ. Я ведь ушла не для того, чтобы он помчался следом и принялся уговаривать! Да, у него есть деньги, есть эта его автомойка, есть машина… И что? Это предел мечтаний? Если и да, то не моих. Я на это не согласна, вот и все. Но Люда не поняла. За своего Матвея она долго грызлась, долго добивалась, устраивая его бывшей дикие истерики, проверяя его телефон, не давая ему и вздохнуть-то свободно. Уж этого я насмотрелась вдоволь. И сама поступать так не намерена. Жизнь у меня всего одна, и дурой я буду только в том случае, если соглашусь сцепить зубы и жить, как все.
Ну уж нет.
А посему я уехала и больше туда не вернусь.
Сегодня был первый рабочий день в кофейне. Им как раз нужен второй кондитер. Поначалу я переживала, что не справлюсь, но взглянула на меню, и у меня отлегло от сердца. Профитроли с ванильным кремом и вареной сгущенкой, медовик, наполеон, прага, штрудель, чизкейк и тирамису. Джентльменский набор, дешево и сердито, как по мне. Ну и горячий шоколад, который, как выяснилось ближе к обеду, делают не из шоколада, а из сухого «Несквика». Я попыталась было предложить приличный рецепт, из плитки горького, со сливками, молоком, щепоткой корицы и острого перца. Уж я-то знаю, как восхитительно нежно этот напиток течет по горлу и согревает каждую клеточку тела. Но кондитер Маша фыркнула про чужой монастырь и свои уставы, и я предпочла заткнуться.
12 октября. Сегодня удивительно теплый день, один из последних, я точно знаю. Синоптики обещают похолодание, и солнце уйдет из наших краев до весны.
Вернувшись со смены, я все-таки сделала это. Согрела сливки почти до кипения, отставила эмалированный ковшик в сторону, покрошила туда шоколад, добавила кардамон, перец, корицу и ваниль. Через пару минут размешала миксером на низкой скорости и – вуаля – мой несравненный горячий шоколад готов.
Мои окна выходят на запад. Солнце теперь ходит низко, и под вечер комната и кухня залиты оранжевым светом, будто облепиховым маслом или янтарем. Я распахнула обе створки, села на подоконник и вытянула ноги наружу, попивая шоколад. На первом этаже здания несколько магазинов, и хоть внизу живет Джамиля, прямо под моими окнами идет длинный козырек, соединяющий весь дом. Между вторым и третьим. Просто подарок для воров, сказала бы бабуля. Но это и понятно, она всю жизнь помнила, как перед войной зашедшие во двор цыгане свистнули наручные часы ее любимого старшего брата Кости. Того, который потом стал разведчиком… Воровства она опасалась всю жизнь. Но какой смысл ждать и трястись? Либо надо обезопасить себя, либо положиться на провидение и не думать о плохом. Большинство жильцов нашего дома пошли первым путем, поставив решетки на окнах. Но как же я рада, что хозяйка пожалела денег и не превратила эту квартиру в тюрьму. А насчет воров… что ж, у меня и брать-то нечего. Зато можно вот так сидеть и пить шоколад.
Это вкус странствий и иных веков. Лакомство ацтеков и французской королевы, которую не понимали придворные. Как забавно, что теперь этот десерт превратился в растворимое какао для малышей, безнадежно испорченное сахаром и утратившее всю свою соблазнительную перчинку. А когда-то такая чашка была до краев наполнена чувственностью вполне взрослого толка…
Там же, размышляя о любовных напитках, я познакомилась с ним.
Роскошный брюнет с пронзительными глазами.
– Привет, – сказала я.
– Мяу, – ответил он.
Словом, теперь мы друзья. Я подкармливаю его, а он садится на карнизе с той стороны окна и жмурится».
IV
Тайное, усиленно стискиваемое волнение не отпускало целый день. Он наконец-то знал, как именно опознает свою Джейн Доу, только для этого нужно было выкроить несколько часов свободного времени. Как назло, такового не появлялось. То одни заботы, то другие постоянно требовали внимания Гаранина. Именно сегодня забарахлил аппарат УЗИ, а в банке крови полетел терморегулятор, и несколько доз оказались безнадежно испорчены. Не говоря уж о том, что два реаниматолога слегли с ОРВИ, и Арсений осознал, что это только начало и что близится летняя волна болезней, про которую обычно никто не упоминает, когда рассуждает о понижении иммунитета к зиме. Им бы статистику показать, этим умникам…
Он старался не думать, кто теперь живет в черепе неизвестной, там, где в самой сложной системе во Вселенной, в нейронной сети, обычно возникает уникальное человеческое Я.
Та ли это девушка, что мечтала о каштанах и горячем шоколаде? Все еще та? Отек постепенно спадал, и становилось очевидно, что скоро она будет способна перенести еще одну операцию, Лискунов пообещал, что лично будет удалять гематому. Осталось продержать девушку в медикаментозном сне еще несколько дней. А что потом? Но нет, сейчас не до этого. Тем и хороша профессия реаниматолога: не строить прогнозов и домыслов, а работать с тем, что есть. В этом – какая-то вековая мудрость жизни, которая и существует только что в данный момент, без прошлого и будущего. Да, это частенько выводит из себя родственников пациентов реанимации, но что уж тут поделать. Людям порой невдомек, что планировать, знать наперед – неслыханная, богоравная роскошь. Но чаще глупость…
Гаранин и сам не понял, как это случилось. Просто почувствовал. В том, как тихо и безмолвно лежала эта замотанная в бинты девушка, было что-то от страшной сказки про мертвую царевну. Про заблудившуюся в лесу Красную Шапочку. Да, сначала ей повстречался серый волк. Но на этом горести не закончились, она еще и заплутала. И теперь ему, Арсению, предстоит помочь ей найти дорогу на опушку – раз уж больше некому. А для этого требуется отыскать дорогу самому. Или проложить новую.
И впервые за всю неделю он, наконец, сообразил, с чего начать.
В ее дневнике почти не имелось точных указаний. Ни полных имен, ни адресов. Но все же приметливый человек мог выудить крупицы. Например, ее дом с длинным карнизом. На первом этаже магазины. Другое дело, что таких домов в городе наверняка огромное количество. Или не огромное, но нет никакой базы данных, по которой можно просмотреть их перечень.
Поэтому Гаранин особенно обрадовался новости, что девушка работала в кофейне. И не только потому, что в прошлом сентябре она обустроила свою жизнь. Возможно, она числится в кофейне и по сей день. Не в ресторане, не в столовой и не при кухне отеля. В кофейне, где за десерты отвечает некая Мария, а в меню нет ничего, кроме недлинного перечня стандартных тортов.
Впереди было два выходных дня. Когда в половине шестого пятницы поток неотложных дел, наконец, иссяк, Арсений тут же загрузил поисковик в браузере. Результат его несколько ошеломил. В их (отнюдь не самом крупном) городе имелось двести сорок восемь кофеен. К такому он не был готов. Двести. Сорок. Восемь.
По какому принципу девушка выбирала место работы? Ближе к дому? Ближе к центру? Если бы она отправилась работать по специальности школьным учителем, это облегчило бы поиски, но что уж теперь… Гаранин распечатал список, вывел результаты на карту и принялся проверять одно заведение за другим. Там, где имелись сайты, он просматривал меню. Одиннадцать закрытых вкладок спустя он все же сообразил, что меню с момента трудоустройства могло претерпеть изменения. Тем более что Джейн Доу, кажется, обладала достаточно настойчивым нравом. Если, допустим, спустя месяц или два ей удалось убедить хмурую Машу отказаться от старой рецептуры горячего шоколада, то, может, в десертном листе появились и совсем новые позиции? Он собрался начать заново, но вдруг вздохнул и отодвинул клавиатуру.
«Не знаешь, как поступить, – доверься чуйке» – так всегда говорила бабуля Нюта.
В том, что касалось интуиции, Арсений собой гордился. По крайней мере, медицинской интуицией уж точно. Кое-что наверняка могло бы объясняться обширным опытом, например, его предчувствие близкой смерти пациента. Скорее всего, это горячее и пульсирующее, вопреки расхожему мнению о «холодном дыхании», ощущение было неразрывно связано с мельчайшими деталями, которые не успевает отслеживать и формулировать сознание, но подсознание все-таки считывает. Что-то в оттенке кожи, в ритме дрожащего под челюстной костью пульса, в температуре тела… В общем, что-то вроде этого наталкивало его на мысль, что пациент скоро отойдет. Иногда эта мысль появлялась, казалось бы, совсем некстати, в середине неплохо идущей операции, когда молчали приборы, чей визг обычно предваряет летальный исход. И все же Гаранин редко ошибался. Как будто за несколько минут перед смертью Некто, куда более крупный и значительный, чем все присутствующие, вдруг входит через закрытую дверь и встает совсем рядом. И если в каком-нибудь метафизическом слое и есть тот, кого древние греки называли Танатом, это наверняка он.
Сейчас Арсений понадеялся, что интуиция может сослужить ему добрую службу и в другой области.
Он доехал до самого центра, сошел на углу Школьной и проспекта и через три минуты остановился на главной площади, чутко прислушиваясь к внутреннему голосу. Какое направление выбрать? Стрелка мысленного компаса бестолково крутилась, словно попала на полюс.
И наконец – замерла.
Два часа спустя он мог лишь криво улыбаться при одном воспоминании о своих тщетных надеждах. Ага, интуиция, как же. Детский сад, в самом деле. С таким же успехом можно было тянуть соломинку. Откровенно говоря, даже идя по компасу, настоящему, географическому, можно было соблюсти поиски более систематические, чем это бессмысленное шатание!
Он обошел пять кофеен. В пятничный вечер в каждой из них оказалось довольно людно, и тихая погода только способствовала наплыву посетителей. В каждой из них Арсений шагал прямиком к администратору, и тот, в первую секунду еще дежурно улыбавшийся, в следующую смотрел с подозрением, выслушивал вопрос про кондитера Марию, нехотя качал головой и, наконец, полностью утрачивал всякую дружелюбность и заинтересованность.
– Так вы пройдете за столик? – все-таки уточняли некоторые из них, остальным намерения Арсения были предельно ясны и без этого вопроса.
В шестой по счету кофейне администратора не нашлось вовсе. Персонала не наблюдалось ни за стойкой, ни у кассы, но, судя по отсутствию недовольных и нетерпеливых взглядов посетителей, такое положение дел было не постоянным. Арсений присел за крайний столик, чтобы при возможности быстро подняться.
– Готовы сделать заказ? – раздалось у него над ухом минуты три спустя.
– У меня еще и меню-то нет, – буркнул довольно раздосадованный Гаранин.
– А, – отозвалась молоденькая девушка с ярко подведенными глазами. Она быстро порхнула к стойке и вернулась оттуда с простым листком бумаги, помещенным в потрепанный полиэтиленовый файлик. – Вот, возьмите.
– Спасибо. Скажите, вашего кондитера зовут, часом, не Маша?
Девушка удивленно улыбнулась:
– У нас и кондитера-то нет. Сейчас. Вообще была, но сейчас нет.
Черт. И тут неудача.
– Ладно. Принесите мне какао.
Густо прорисованные черным брови, так не вязавшиеся с обесцвеченными волосами, взлетели вверх. Видимо, по случаю летнего периода такой заказ был редкостью, все больше мохито и кола со льдом.
– У нас нет какао, только горячий шоколад.
Арсений усмехнулся, примерно представляя, какие мысли возникли бы у его Джейн Доу при таком ответе. Он, никогда не видевший ее лица – по крайней мере, до всего с нею приключившегося, все-таки живо представил себе юное веселое лицо с потеплевшими от улыбки глазами.
– Несите.
Через десять минут ожидания, которые Арсений провел, скучающе изучая посетителей, официантка опустила перед ним высокую чашку на блюдечке.
– Что-нибудь еще?
– Нет, спасибо. – Он сразу же отдал деньги, не намереваясь задерживаться долго.
Первый глоток он сделал равнодушно. Но теплая пена еще не успела растаять на губах, как язык уже распробовал все градации вкуса. Это было не какао, тут девушка душой не покривила. Наверное, впервые в жизни Арсений узнал, что такое горячий шоколад и о чем с таким вдохновением писала Джейн. Этот напиток, и не напиток даже вовсе, а десерт, ничуть не походил на то сероватое пойло, которым потчевали когда-то в школьной столовой, с молочной пленкой, пристававшей к небу и будившей в нем рвотный позыв. Нет, сейчас рот его распробовал вязкое, густое лакомство с пряным и терпким ароматом, сливочной нежностью и остротой, куснувшей за кончик языка. Пикантная коричная нотка тут же уступила место мощному кардамоновому аккорду, и Арсений, едва успев сделать глоток, тут же снова припал к чашке, как к живительному источнику.
Она была права, его незнакомая Джейн. В это же самое мгновение Гаранин совершенно уверился, что нашел правильную кофейню. Ту самую.
– Постойте, – он остановил официантку, шедшую мимо его столика. – Вы точно уверены, что у вас нет кондитера Маши?
– Конечно. У нас есть только Мария Васильевна, но она хозяйка.
– Где же она? – В величайшем оживлении Арсений вскочил на ноги, и часть его тут же пожалела, что придется оставить чашку шоколада недопитой. Но напиток слишком горяч, а у него нет времени на гедонизм.
– Она товар принимает, – кивнула официантка вглубь заведения. – У служебного входа. Стойте, мужчина!
Но Арсений, не слушая ее возмущенных протестов, устремился прямиком в служебные помещения, за шторку, разделявшую зал и кухню, в темный кафельный коридор, и в мгновение ока оказался перед распахнутой во двор железной дверью. Щуплый мужичонка с пропитой физиономией, крякнув, пронес мимо него упаковку бутылок с водой.
Гаранин быстро повертел головой и заметил дородную даму, расписывающуюся в документах возле распахнутой грузовой «Газели».
– Хорошо. Но только, если завтра перед открытием не привезете… – она угрожающе замолчала. Водитель «Газели» поднял широкие ладони в обезоруживающем жесте:
– Привезем, куда денемся-то, Марьвасильна?
– Знаю я тебя. Ладно, езжай, – дернула она рукой.
Арсений сделал шаг вперед:
– Мария Васильевна?
– Ну, я.
Хозяйка нахмурилась, видимо, слишком привыкшая к тому, что в ее жизни не бывает ни добрых вестей, ни невинных вопросов, особенно от незнакомцев. Широко расставленные глаза воззрились на Гаранина, ожидая подвоха. Он отметил про себя, что ее мелко завитые желтоватые волосы уже прилично отросли, а у корней они были темные.
– Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Арсений Гаранин. Скажите, у вас не работает… работала на кухне девушка. Лет двадцати пяти, с черными длинными волосами…
– Вы из санэпидемстанции, что ли? – перебила она. – Если кто-то траванулся, мы тут ни при чем. Это я сразу говорю. Потому что у нас все продукты под контролем, да и ваши в мае месяце приходили, проверяли все. А если волосы в еде, так раньше надо было обращаться, что уж теперь! Она уж сколько не работает, две недели? Да и закалывала она всегда их, вот что. Так что мне ваши претензии, знаете…
– Так, значит, работала? – ухватился Арсений за главное, игнорируя ее тон.
– Ну, работала Джейн, да.
Гаранин замер. Ослышался, конечно, ослышался.
– Что, простите?
– Женя говорю ж, работала, да. Женька Хмелева. И вот, хоть бы слово сказала, что увольняется. Но нет, мы ж все гордые! Взяла да и перестала появляться. Без всякого предупреждения. Ясное дело, обиделась. А мне что прикажете делать, умолять? Нашлась тоже, шоколадный профессор, то ей это не так, то се. И чизкейк у нас не чизкейк, а творожник, видите ли! Творожник, ага…
– И вы… не искали ее? Не звонили домой? – допытывался Арсений, чувствуя, что уши его уже горят огнем, и дальше будет только хуже. Внутри поднималась нехорошая волна.
– А че мне ей звонить? Не хочет работать, не надо. У меня таких желающих знаете сколько? – хозяйка широким жестом махнула на пустой двор. Если бы дело происходило в русской народной сказке, из ее рукава наверняка бы полетели куриные кости. – В стране вообще напряженка!
– Это ваш работник, вы ее приняли на работу и отвечаете за нее, нет?
Женщина поджала губы.
– Мне что теперь, за всех отвечать? У меня детей трое, мне хватает. А эти – взрослые люди! Не хотят работать – скатертью дорожка! Так вы кто, вообще? – сообразила поинтересоваться она.
– А трудовая-то, трудовая книжка ее все еще у вас?
Женщина остолбенела. Какое-то время она молчала, пожевывая губами и что-то прикидывая в уме.
– Вообще-то у меня… – наконец выдавила она.
– И вам не приходило в голову, – Арсений еще старался сдерживаться, – что человек не бросил бы свою трудовую просто так? Что при увольнении документы забирают. Что она вообще не уволилась, а? Что если знакомый вам человек – неважно, работник ли, соседка – не появляется долго и на это нет никаких очевидных причин, то стоит хотя бы просто поинтересоваться, все ли в порядке? Проявить хоть чуточку человеческого участия, нет? А что, если с вами что-то произойдет, а никому до вас дела не станет? Не посещала вас такая светлая мысль?
– Ну… в общем… нет… – Собеседница несмело пожала плечами. Очевидно, только сейчас при виде гаранинского негодования в ее голову стали закрадываться подозрения. – Так она ж это, непьющая…
– При чем тут это? – Он поморщился.
– Ну, если не появляется, значит, или уволилась, или в запое, – стала размеренно рассуждать Мария Васильевна. В этот момент Арсений едва удержался, чтобы не схватить ее за плечи и не затрясти как следует. – Но она непьющая. А вы говорите, что и не уволилась.
– Да, – резко бросил он. – Именно так.
Женщина глубоко вздохнула и покосилась на него.
– Случилось чего? – смирно спросила она. – Вы, поди, из полиции?
– Я из больницы. Но из полиции к вам тоже придут. Мне нужно узнать все имеющиеся данные: полное имя, адрес и прочее.
– Да-да, конечно, пойдемте.
Она засуетилась и повела его в кабинет.
– Женя, Женя Хмелева. Отчества не помню, но тут должно быть… Вот, держите, – она положила перед ним трудовую книжку, переплет которой казался совсем новым.
У Евгении Александровны Хмелевой в жизни было только два места работы. В средней школе учительницей русского и литературы, плюс английского языка на полставки, и здесь, в кофейне.
– Вот, у меня и медкнижка есть, все чин чином. Мы ж в общепите работаем, тут за здоровьем следить надо ой-ой-ой как. Ну, чтоб там, никакой заразы… – зачастила Мария Васильевна, кажется, запоздало почувствовав вину. – А я ей, между прочим, звонила, даже дважды. Только телефон не отвечал. Вот что.
Не обращая на ее лепет никакого внимания, Арсений быстро переписал все данные на отдельную бумажку и протянул документы обратно:
– Не потеряйте.
– Ага, – хозяйка взяла книжечки и прижала их к себе, под грудью, в районе желудка.
– Может, вы еще и знаете, где она живет? Я в курсе, она снимает квартиру…
– Ну да. На Кирова, туда, в сторону рынка. Дом-корабль, знаете? Но уж номер квартиры не скажу, никогда у нее не была.
– Понял, – Арсений кивнул. – До свидания.
В душе он понадеялся, что свидания больше не случится, за эти несколько минут Гаранин изрядно невзлюбил хозяйку кофейни, хотя и понимал умом, что она вряд ли повинна в чем-то, кроме равнодушия. Он и сам не без этого греха. Был. Раньше.
– Так, а это… полицию когда ждать, не знаете?
– Скоро.
Шагая в сторону дома-корабля, известного ему с ранних лет, Арсений никак не мог успокоиться и, только перебегая оживленный перекресток, сообразил почему. Марья Васильевна, беспокоившаяся и о полиции, и о санэпидемстанции, так и не справилась о Женином здоровье.
V
Десятиэтажный дом, серая махина и торжество светской архитектуры с громоздкими верхними этажами, нависающими над общей массой бетона, возвышался над низкой застройкой района. Кораблем его прозвали в народе, хотя, на взгляд Арсения, сходство с каким-нибудь плавучим судном или лайнером было минимальным, если вообще наблюдалось. Сначала он поразился, как же так, его Джейн – или Женя, как ее все-таки нарекли родители, – забыла упомянуть в своей тетради о том, что поселилась в доме-корабле. Но потом спохватился: да ведь она приезжая. Наверное, просто не знала.
Еще на подступах к дому Арсений достал телефон и набрал номер капитана Грибнова.
– О-о, – раздался в трубке голос следователя. – А я как раз вам звонить собирался. Как чувствуете.
– Что именно? Есть подвижки в деле?
– Есть имя! – удовлетворенно заявил капитан. Арсений не поверил своим ушам и даже остановился от неожиданности. Автомобиль, пытающийся припарковаться там, где он замер, наградил его пронзительной трелью клаксона.
– Имя, да. Нашу неопознанную, оказывается, зовут Евгения Хмелева. Пока выясняем подробности.
– Но… как? Откуда?.. – поразился Арсений и едва не проболтался, что сам узнал буквально только что. Грибнов помолчал в трубке, а когда продолжил, голос его поменял тональность:
– Это-то и интересно. Был анонимный звонок. Звонил мужчина. Сообщил имя найденной в парке Пионеров-Героев девушки и отключился. Не вы, часом, звонили? Больно уж вы заинтересованы. В этом деле, я имею в виду.
– Мне-то откуда знать ее имя? – вяло отозвался Гаранин, чувствуя, как неприятно прилипла к груди повлажневшая рубашка.
– Да ладно, это я так, гипотетически, – засмеялся капитан, и в его смехе совсем не чувствовалось веселья.
– Спасибо, что сообщили, – и Гаранин сдержанно попрощался.
После разговора со следователем он обвел здание растерянными глазами, будто видел впервые.
Ее окна выходили на запад.
Он задрал голову и мгновенно, вспышкой, представил себя мореплавателем. Вот он, огромный бетонный корабль, рядом, а над ним – небо и клонящееся к западу солнце летнего дня. Если встать к закату левым плечом, то по правую руку окажется восток, перед лицом – север, а за спиной – юг, это Арсений запомнил раз и навсегда, задолго до того, как в школе началась география. Правда, он сильно сомневался, что почерпнул эти сведения от родителей. Скорее, от Толика или бабули Нюты.
Впрочем, сейчас не было нужды ориентироваться на местности, обращенная к дороге сторона дома куталась в тень, а вокруг здания еще светился солнечный ореол: дом-корабль был точно сориентирован по сторонам света фасадом на восток и подъездами на запад. Арсений быстро прошел мимо торца и свернул во двор.
Вот и он, описанный Женей козырек, тянущийся вдоль всего дома и отсекающий первые два этажа от всех прочих. Подъездные двери ютились, зажатые широкой витриной Дома быта, продуктового магазина, лавчонкой по ремонту одежды и обуви, ЖЭКом и стоматологическим кабинетом. Но Арсений смотрел выше, торопливо перебирая глазами окна третьего этажа, одно за другим. Закатное солнце красной слюдой вспыхивало на стеклах и балконных переплетах.
Вот оно! До смешного просто: это единственная квартира на третьем этаже, окна которой не забраны уродливыми решетками. Арсений быстро прикинул номер квартиры, подойдя поближе и взглянув на табличку над дверью. В кармане брюк он нащупал дубликаты без брелка и быстрее, чем неверно заколотилось о грудную клетку его сердце, взбежал по ступенькам, придержав дверь подъезда, распахнутую до него каким-то пареньком.
Ключ плавно повернулся в скважине, и Арсений вошел в квартиру, закрыв за собой дверь. Ему не пришло в голову оглядеться на площадке и убедиться, что его никто не заметил. Он не чувствовал себя вором, хотя, откровенно говоря, совершал в эту самую минуту абсолютно противозаконные действия. Как минимум проникновение на чужую частную собственность – и бог весть с какими намерениями.
Да он и сам не знал с какими. Только вот его чувства никак не вязались со словом «любопытство», нет, это было нечто, намного превосходящее простой обывательский интерес.
В коридоре стоял сумрак, и потому отнюдь не зрение было первым органом чувств, давшим Арсению пищу для ума. Так же как в его собственном доме, прямо с порога ощущался запах трескучего эвкалипта, в этой квартире главенствовал аромат. Как реалист, Гаранин был скорее готов к вони невыброшенного мусора, ведь хозяйка отсутствовала уже давно и вряд ли предполагала свое отсутствие наперед. Но ничего неприятного в запахе не оказалось. То была сладкая сухость ванилина, окутывающее тепло корицы и парафиновых свечей. И еще различалась едва уловимая нотка святилища, не то ладан, не то мирра. Наверное, от ароматической лампы, стоящей на тумбочке возле обувной полки. Над нею, слева от двери, висела миниатюрная бирюзовая ключница, просто дощечка с тремя крючками, расписанная вручную цветочным орнаментом и покрытая лаком в мелкую трещинку. На одном из крючков прицепленный за длинную прорезиненную нить, которую портные называют шляпной резинкой, болтался простой карандаш с ластиком на конце, а дешевенькие бумажные обои вокруг все сплошь были покрыты карандашными пометками, сделанными уже знакомым Арсению косым почерком.
«У Оли Д. Р. 7 декабря»
«Позвонить сантехнику»
«Тел. хозяйки…»
«Пересадить сансевиерию и Бенджи»
«Carpe Diem!»
«Жаворонки – 22 марта»
«Это единственный раз. Так что надо ценить каждый день и делать его счастливее собственными силами…»
И даже целое четверостишие:
«В этих плоских краях то и хранит от фальши Сердце, что скрыться негде и видно дальше, Это только для звука пространство всегда помеха – Глаз не посетует на недостаток эха»[3] .В кухне, залитой закатным солнцем, запах ванилина был так силен, что Арсений понял: где-то просыпан целый пакетик. Так и есть, упаковка лежит на виду, оставленная, словно впопыхах. Несколько белых сахарных кристаллов разлетелись по столешнице. Он собрал их пальцем и задумчиво отправил в рот. Его поразило, как много растений умещается в крохотной кухоньке. На подоконнике в глянцевых сиреневых горшочках уже увядали, давно не политые, кустики петрушки, базилика и мяты. Карликовый томат сбросил несколько скрученных, засохших листочков, и помидоры, размером не больше вишни, уже краснели с одного боку. В кадке рядом с креслом топорщилась перьевидными листьями финиковая пальма, а рядом высилось узловатое лимонное деревце с одним спеющим плодом.
Из верхнего оконного откоса торчал грубо вкрученный крючок, за который подвесили «музыку ветра» – деревянный диск с пятью прикрепленными к нему металлическими трубочками и цветными стеклянными бусинами. Арсений осторожно тронул пару, и они отозвались неожиданно громко. Нет, человеческие руки – это слишком материально, нарочито, по-настоящему хорошо такие вещицы звучат, только когда в них действительно путается бестелесный ветер. Повинуясь порыву, Гаранин приоткрыл окно, позволив потоку свежего воздуха раскачивать трубочки и выманивать из них тонкое пение.
На полках убогого, облупившегося советского гарнитура со скрипучими дверками царил порядок, баночки со специями и крупами были выстроены в ряд и подписаны, початые пакеты с мукой, крахмалом и панировочными сухарями прихвачены зажимами. При виде этого у Арсения невольно пробудилось уважение к обитательнице дома: как медик, он тоже не терпел хаоса в своем инструментарии, пусть даже при скромной материальной базе. Только вот хлеб в полиэтиленовом пакете заплесневел, и Гаранин взял его в руки, намереваясь выбросить на обратном пути. Когда бы ни вернулась его пациентка домой, порядок должен быть соблюден.
Кровать в комнате была небрежно заправлена, из-под покрывала свисал выбившийся край простыни, а само оно пошло складчатыми волнами. Но не это привлекло внимание Арсения, а свободная стена слева от окна, напротив шкафов. Свободная от мебели, она отнюдь не была пустой. Даже напротив, на ней располагалось огромное количество изображений. То были открытки, картинки, вырезки из журналов и фотографии. Много фотографий. Только сейчас он впервые увидел, как выглядела его незнакомка.
На всех фотографиях она смеялась. Развевались ли по ветру ее черные волосы во время прогулки, были ли заплетены в строгую косу на школьном вечере. В учительской, сидя над тетрадями и сфотографированная кем-то исподтишка, одна и в окружении друзей, она все равно смеялась, будто ей сказали что-то на удивление забавное, и вслед за ней смеялись ее продолговатые глаза, теплые, лучистые, с лукавым прищуром, смеялся крупный рот, ямочки на щеках. На тех портретах, где она была снята достаточно близко, на лбу можно было рассмотреть несколько маленьких оспинок, не то от детской ветрянки, не то от давно прошедших прыщиков.
Арсений долго и пристально изучал фотографии, словно в попытке познакомиться с Женей Хмелевой, выхватить из этих запечатленных моментов что-то действительно важное, истинное: о том, кто она и какова ее жизнь. По крайней мере, какой она была еще недавно. Вот девушка в окружении нескольких учеников, на фоне классной доски, украшенной новогодней мишурой. Вот с охапкой разнородных букетов, где преобладают пушистые астры и длинные мечи гладиолусов – наверняка Первое сентября. Вот, она, в спортивных штанах и флисовой толстовке, сидит на поваленном дереве в обнимку с белокурой подругой (или сестрой? Она не упоминала…), и обе протягивают прямо в камеру шампуры с шашлыком. Посиделки в какой-то общежитской комнатушке, вместо стола – две сдвинутых табуретки, и шесть человек теснятся на одной кровати, выполняющей роль дивана. Веселые хмельные глаза, кто высунул язык, кто делает соседу рожки… На соседнем фото – Женя, с распущенными волосами, окутывающими ее черным каскадом, и в лавандовом коротком сарафане, демонстрирующем тонкие, как у олененка, колени, а из-за нее, дурачась, выглядывает девушка в свадебном платье.
Ни один человек из запечатленных рядом с Женей не годился на роль родителя, что само по себе не могло не вызывать вопросов, однако из тетради в полоску Гаранин уже знал, что с родителями отношения у девушки напряженные. Но с остальными она, кажется, замечательно ладила. Белокурая пышечка появлялась на трех или четырех фото, играя в жизни Жени, очевидно, важную роль. Снимки с мужчинами – по крайней мере, с близко знакомыми мужчинами, отсутствовали, и Арсений даже не заметил, что уделил этому факту ощутимо больше внимания, чем мог бы.
Он прошел вдоль полок, уставленных книгами, отмечая мимоходом литературный вкус своей Джейн (про себя он еще продолжал называть пациентку именно так). Новые глянцевые обложки перемежались потрепанными томиками, а Гоголь, Бродский и Цветаева соседствовали с Керуаком, Воннегутом, Борхесом, Фолкнером, Палаником, Довлатовым и Прустом. Кое-что из этого он читал, про большую же часть только слышал и даже почувствовал смятение при мысли, что наверняка не смог бы поддержать с нею на должном уровне беседу о литературе. Ни одного детектива – неважно, классического или современного, никакой беллетристической и проходной чепухи. Пара журналов по садоводству и стопка кулинарных томов довершали картину интересов обитательницы квартиры.
Перед корешками книг лежали и стояли безо всякого порядка или общего знаменателя разные примечательные вещицы. Арсений взял в руки деревянный коробок с крохотной металлической ручкой, не сразу сообразив, что это такое. В глубине коробкá раздался тихий звук, будто дрогнула струна, а в небольшом окошке удалось рассмотреть металлический валик с шипами. Арсений улыбнулся. Он осторожно повернул ручку, и музыкальная шарманка – а это была именно она – отозвалась одноголосой мелодией. Что-то очень знакомое, но что именно, так сразу и не вспомнить…
В гранях фиолетового кристалла, который Арсений опознал как самородный аметист, поблескивал солнечный свет. Рядом с ним розовела нежной гладкой воронкой большая морская раковина. Если такую прижать к уху, становится слышен гул. И Арсений, огладив пальцем карбонатно-кальциевый виток, припомнил слова из тетради так явственно, будто их сказал рядом с ним женский голос:
«…Юльча привезла мне из отпуска. Какая же она удивительная! Розовая, со сливочным нутром и маленькими рожками, и в ней шумит море…»
И Гаранин вдруг осознал, какая пропасть все-таки лежит между ними. Для Жени Хмелевой в морской раковине шумит море. А для него это всего-навсего звуковая иллюзия, созданная кровяным потоком внутри человеческого черепа. И внешняя скелетная структура водяного моллюска.
Эта мысль принесла запоздалое неуютное чувство сомнений и неправильности всего происходящего. Ему здесь не место. Какое право он имел вот так вторгаться на чужую территорию, в чужую жизнь? И более того, в жизнь прошлую, погибшую, утраченную навсегда. Эта квартира – покинутый рай, в который больше не вернется Ева. Рай этот оставили не по своей воле, из него выдернули с жестокостью. И та девушка, что любовно расставляла книги, слушала шум моря и вертела ручку музыкальной шкатулки… Где она?
Он знал ответ.
Ее нет и больше никогда не будет. А если будет – то уже кто-то другой.
Но этот ответ его не устраивал. Ни за что! Во имя чего тогда это все? Зачем все так устроено?
Ну уж нет. Он не зря пришел в эту квартиру, он не зря читал тетрадь, читать которую не полагается. Если есть хоть один шанс, он должен постараться…
Сумбурный шквал мыслей прервался на середине, на самом пике, а сердце рухнуло вниз. Именно в этот момент Арсений машинально взглянул в окно и увидел, как на парковке возле дома остановилась полицейская машина. Вышедший из нее человек был не кто иной, как капитан Грибнов. Следом за ним из автомобиля неловко вывалился второй полицейский, прижимавший к животу папку с бумагами.
Словно услышав гаранинские мысли на расстоянии, Грибнов приложил руку козырьком над глазами и оглядел дом-корабль. Арсений отшатнулся от окна и бестолково заметался по комнате.
– Черт. Быстро они…
«Что же делать? Думай, Арсений, думай».
Первым порывом было открыть дверь и смываться. Но, уже оказавшись в прихожей, Гаранин замер, прислушиваясь. На лестничной клетке плакал младенец, и тихий женский голос пытался его унять. Можно, конечно, подождать, пока женщина с ребенком уйдет, но драгоценные секунды будут потеряны. За это время Грибнов с напарником подойдут к подъезду, и он с ними столкнется нос к носу у самых дверей.
Порыв ветра закачал металлические трубочки, и они забренчали. Арсений бросил только один взгляд на них и окно, и план сложился сам собой. В конце концов, не зря же на этаже это единственная квартира без решеток. А вдоль дома тянется весьма полезный для данной минуты козырек.
Арсений осторожно выглянул из-за оконного косяка и определил, что Грибнов с коллегой уже отошли от машины на безопасное расстояние; наверняка они сейчас идут вдоль магазинов. Он пошире распахнул створку окна и уже забросил одну ногу на подоконник, как тут сообразил, что левая рука у него до сих пор занята. Ах да, это же заплесневелый хлеб в пакете. О чем он думал, в конце концов? Это ведь улика, она как минимум показывает, что девушка намеревалась вернуться домой и не вернулась… Ну или что-то типа этого. Арсений поспешно слез с подоконника, сунул хлеб на место. После этого, чувствуя, как горят его уши и спина, и боясь любого шороха, он торопливо перелез через подоконник, спрыгнул на козырек, попутно обтеревшись о пыльную стену и собрав на себя многолетнюю уличную грязь фасада. Встал на цыпочки, пытаясь как можно плотнее притворить за собой окно. И, когда это наконец удалось, кинулся прочь, держась поближе к зданию. Со стороны он выглядел, должно быть, довольно забавно, делая по-мультяшному большие не то шаги, не то скачки. Вот уж не думал он еще утром, что придется спасаться бегством, словно преступнику! Дай бог, никто не следит за ним, а если и следит, то не запомнит. Каждую секунду он ждал окрика позади себя, но все было тихо.
Двигаясь мелкими перебежками по крыше, Арсений с запозданием пожалел, что все-таки не воспользовался дверью. Можно было просто подняться на несколько этажей вверх и переждать. Но что уж теперь-то, все задним умом крепки…
VI
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«20 декабря. Иногда я совсем не понимаю людей. Но и они, наверное, не всегда меня понимают. Другое дело, что даже не стараются. Но сейчас не об этом.
Сегодня мне вдруг показалось, что я плыву в открытом космосе. Холодно, пусто и как-то неправдоподобно далеко. А все, кого я знала, остались на Земле, и Земля – это пятнышко не больше Луны (какой мы обычно видим ее на небе). У меня всегда глаза на мокром месте, стоит только услышать песню про нежность и еще про траву у дома. Мне с детства казалось, они очень-очень грустные, эти песни. И вот теперь я будто бы разделила участь космонавтов. Я тут, а мои друзья – там. Там все люди, которых я знала: и Люда, и Оля Мусевич, и Вася Тривцов, и Бармалейка.
Естественно, я сама уехала. Но не от них. Мне хотелось большего, другого. Но от них я не отказывалась и не думала, что все так получится. А сейчас села, подумала крепко и поняла, что за последние три недели никто из них не позвонил мне и даже не написал. Как будто я уехала, и так и надо, и меня и не было никогда вовсе.
Да нет, я же взрослый человек, все понимаю. У них своя жизнь.
Нет! Не понимаю я! Если бы понимала, не сидела бы сейчас над тетрадкой и не давилась бы слезами. Мне очень-очень грустно и очень-очень плохо. И даже некому сказать. Потому что если я сейчас примусь, например, Бармалейке названивать, то она, конечно, переполошится, расстроится. А ей, в положении, тревожиться вот уж совсем нельзя.
Завтра позвоню, успокоюсь и позвоню. Поболтаем. В конце концов, может, она тоже вот так сидит и дуется на меня, что я пропала. А я… я даже не знаю, что происходит со мной. Какое-то оцепенение.
Да, я постоянно на работе, но дело не только в этом. Похоже, мне захотелось их испытать. Васю, которого я исправно перезнакомила со всеми приятельницами. Он всех их кинул, а потом снова пришел сетовать на тяготы холостяцкой жизни. Олю, к которой я ежедневно моталась после уроков в больницу. Люду, которая прожила у меня три недели и все три недели плакала, называя Сережу козлом. Мы пили с ней дешевый вермут, который она любит, а я вот просто уже на дух не выношу. И она зачитывала мне его сообщения, после чего мы решали, что написать в ответ… Потом Людка к нему вернулась, и еще четыре месяца от нее не было ни слуху ни духу… Почему-то люди склонны искать у меня утешения, но никто не предлагает разделить свою радость. Может, я какая-то не такая? Не радостная?
Фу, вот сейчас написала все это, и стало мерзко от себя самой. Как будто я веду какой-то подсчет, мол, я сделала вот то-то, а они вот это, и одно другому не равно… Как в стишке у Агнии Барто про «друг напомнил мне вчера». Я не это совсем имею в виду. Просто обидно, что я всегда к каждому из них неслась сломя голову, когда им что-то было нужно. А сейчас меня нет, и они даже не вспоминают. Ну обидно же!
Помню, где-то прочитала, что обидеть можно только того человека, который хочет обидеться. Значит, не то слово подобрала. Тогда скажу иначе. Больно. И хочется, чтобы кто-то был рядом. Но к Джамиле идти не хочется. Она ведь просто соседка.
А вообще я вот сейчас подумала… сама ведь виновата. Нет, правда, любой поступок имеет последствия, а я об этом забыла. Я ведь не в младшей группе детского сада, когда между проглоченной в песочнице горсткой песка и поносом через час для тебя нет никакой связи! И нечего гнать на своих друзей, потому что это я собрала чемодан и отправилась на вокзал. Я, лично. Это я купила билет и села в поезд. Так что, какие к ним претензии? Я решила, что так будет, и теперь вот могу с удовольствием все расхлебывать. Поэтому, деточка, – приятного аппетита. Как говорится: «Кушайте не обляпайтесь».
VII
– Ты что сделал?
Борисовская не поверила своим ушам. Да он и сам себе верил с трудом, пока сбивчиво рассказывал все, что касалось Жени Хмелевой и его самого.
Ларка сидела на скамейке, схватившись ладонью за щеку, и смотрела на Гаранина со смесью изумления, веселья и некоего опасения, пока он немногословно описывал, как спасался бегством из квартиры Жени по крыше магазина. Наконец он замолчал, и следы улыбки улетучились с обычно добродушного лица Борисовской.
– Так, Гаранин, слушай меня один раз, я повторять не буду. Ты заигрался, заигрался серьезно, и надо остановиться прямо сейчас. Потому что… ты о чем думаешь-то? У тебя совсем мозги слиплись и отсохли, я не пойму?! – взорвалась она без предупреждения.
Арсений нервно сглотнул вставший в горле комок. А Борисовская бушевала:
– Ты вообще представляешь, чем тебе вся эта история грозит? А если тебя поймали бы? А если у них есть отпечатки пальцев и тебя заподозрят в нападении на эту девчонку? Ты как вообще собираешься отмазываться?
– Но я же ничего…
– «Но я же ничего», – резко передразнила его подруга. – Это ТЫ знаешь! И Я знаю. А ИМ нужен козел отпущения. И ты – ну прям идеальный кандидат. У тебя хоть алиби-то есть?
– Лар… Не строй из себя мисс Марпл, вот только не это, – поморщился он.
– Знаешь, вот что я тебе скажу… Сколько мы с тобой знакомы, ты всегда мне казался… примороженным, что ли. Как гипсовый истукан. И я честно хотела, чтобы ты как-то оттаял, начал жить по-людски. Попроще. Но, когда я говорю «по-людски», это не значит – вот так вот! Твое поведение попахивает психиатрией, серьезно. Чего ты вообще в нее вцепился?
– Да не знаю я! – заорал Гаранин так, что Борисовская вздрогнула и воззрилась на него внимательно. Потом покачала головой и принялась корябать хлопья отставшей от досок краски.
– Не знаю, – повторил он тише.
И тут Борисовская тоненько, по-девчачьи, хихикнула и вдруг залилась смехом, с повизгиванием и шмыганьем носом. Гаранин сердито засопел.
– Ой я не могу, Гаранин, ты ли это! Вот я всю жизнь думала, что только бабы себе придумывают принцев на белом коне. Неважно, Хулио ли, Педро или сосед Ипполит, или зэк из тюряги – мы на каждого из них готовы примерить сбрую романтического героя. Есть такой вот бабский порок. Но ты, мой друг, переплюнул всех! Шик! Ты что, влюбился, что ли? В девчонку, с которой ты мало того, что не говорил, а даже не видел никогда – без бинтов и цельную. Она у тебя в реанимации лежит, полено поленом, а ты тут скачешь по крышам. Зорро недорезанный. Окстись, Гаранин!
– Да ни в кого я не влюбился. Просто нет у нее никого, понимаешь! Обычно меня осаждают всякие мамы-папы-дочки, что там да как. А про эту – никто даже не спросил. Всем все равно.
– Профдеформация налицо. И ты сам решил поспрашивать, если уж больше никому не интересно.
Гаранин в сердцах махнул рукой. Глупо было надеяться, что Борисовская поймет… Но Ларка поймала его за запястье:
– А вот рукой ты на меня не маши. Кто, если не я, вправит тебе мозги, а? Арсений, вот послушай меня, пожалуйста, сейчас очень внимательно. Это все дурно пахнет, и непонятно, куда тебя заведет. У тебя раз в два дня в отделении труп, вот прямо стабильно. Это большая ответственность и большой стресс, уж я-то понимаю. И должен был настать тот момент, когда ты сорвешься, и крыша начнет протекать. И тут вступаю я. Которая должна тебя предостеречь и тормознуть. Потому что мало ли что может произойти. Девка вообще не сегодня завтра отойдет к праотцам! Я Вовку Сорокина допрашивала, и Лискунова тоже. Да ты и сам заешь, какие на нее прогнозы. И чего? Я знаю, ты тяжело пережил то, что произошло с Ирой. Но это же не повод так себя травить. Ну то есть повод, конечно, но сам-то ты должен соображать. Горе на то и горе, чтобы его пережить, отплакать и постараться жить дальше. Такая у нас, у человеков, участь.
– При чем тут Ира?
– Все при том же. Мы с тобой знакомы тысячу лет, так что мне-то можешь не заливать… Поэтому давай поступим следующим образом. Сейчас ты встанешь, дойдешь до кабинета, выкинешь к чертям ту ксерокопию и дубликат ключей. Проверишь ее показатели, а потом сделаешь обход всего отделения. И больше никогда не станешь относиться к девочке как-то предвзято, иначе, чем ко всем остальным. Это не твое дело. Не твоя жизнь. Это работа. И больше она никак к тебе не относится. А еще лучше возьми отпуск и свали на пару неделек. Понял меня?
– Понял… – буркнул Арсений, разглаживая несуществующие складки на брюках. Ларка щелкнула пальцами у него перед носом, привлекая его взгляд на себя.
– Точно понял?
– Лар, да все в порядке. Ты права.
Они посидели в молчании.
– Иди сюда, дуралей старый, – Борисовская раскрыла объятия и прижала его к своей мягкой необъятной груди. Он нее слабо пахло духами и потом.
Быстро промелькнуло воспоминание, не связанное историей даже, а моментальным фотоснимком. Новогодний вечер полтора года назад. Первый праздник, который они оба встречали без супругов. Девочки из бухгалтерии поставили в конференц-зале елку и украсили ее мишурой, блистерами парацетамола, какими-то пустыми коробочками, пузырьками и флакончиками, а под нижними ветками установили пузатого Деда Мороза с ватной бородой и стетоскопом поверх плюшевого воротника шубы. Под потолком покачивались большие ажурные снежинки из белой бумаги и обрывки серебристого дождика, шевелившиеся от любого дуновения. Среди всеобщего веселья наступил момент, когда Арсений вышел в коридор и увидел Борисовскую, в одиночестве шуршащую оберткой конфеты у профилактических стендов. Верхний свет был погашен, только одна лампа дневного света горела у дальнего холла. Пайетки на красном, туго натянутом на бедрах платье загадочно мерцали.
Он ничего не сказал, и она тоже. Просто стояли рядом. Борисовская с тяжким вздохом склонила голову ему на плечо, и он обвил ее плечи рукой, еще безо всякой задней мысли. Она подняла к нему лицо, и Арсений близко увидел ее блестящие глаза и ресницы со слипшейся, будто паучьи лапки, тушью.
В следующее мгновение они поцеловались, очень мирно и очень безыскусно, словно на пробу: а вдруг?
Но уже через секунду Борисовская мягко отстранилась и улыбнулась. Покачала головой.
– Нет… – тоже улыбнулся он, безошибочно распознав и свою реакцию, и ее.
– Нет. Инцест – это не мое, братец, – фыркнула Ларка. И он, засмеявшись, затормошил ее. Вопрос был закрыт уже навсегда.
После этого Борисовская по собственному желанию зачем-то взвалила на себя обязанности свахи. Она то и дело тыкала его локтем под ребра, так, что перехватывало дыхание, веля обратить внимание то на Машу из отдела кадров, то на новую инфекционистку Марину. Пускалась в многозначительные рассказы о незамужних подругах: одна разведенная, вторая с ребенком, зато отличный характер… Он никак не мог донести до Лары, что не собирается ни с кем заводить личных отношений. Это все осталось в прошлом, был убежден Гаранин, не сильно задумываясь о том, а было ли это вообще – хотя бы и тогда, в минувшем.
Врачей-мужчин всю жизнь штурмуют пациентки. То котлеток нажарят и принесут, то лифчик норовят снять при осмотре и прочее. Арсений исключением не был, и его жену Ирину это поначалу ужасно бесило, она была ревнива и тщательно это скрывала. Кроме того, она была из тех редких людей, кто всю жизнь словно испытывают внутренний жар, борются с ним, но никак не могут победить. Ира была молчаливой, миниатюрной, иногда ее бледные щеки заливал румянец от мыслей, которые она не озвучивала. Признаться, Гаранин за годы брака так и не разгадал эту женщину, не понял образ ее мыслей. Он лишь видел, что временами Ира становилась еще более молчаливой и погруженной в себя, ее губы сжимались еще упрямее, а внутренняя борьба, сжигавшая ее душу, вспыхивала еще ожесточеннее.
После того как Ирины не стало, Арсений закрыл для себя вопрос близких отношений и на все попытки Борисовской устроить его личную жизнь отвечал мягким отказом: некоторым из людей просто суждено оставаться одиночками. А если не суждено, то показано, почти по медицинским причинам.
VIII
Через день Евгении Хмелевой сделали повторную операцию.
Гаранин втайне переживал, что не справится. Что его эмоции, совершенно ненужные и неуместные, помешают делать свою работу, и это может как-то ей навредить. Но он опасался зря. На этот раз (то ли подействовали увещевания Борисовской, то ли и без нее все внутри уже встало на свои места) он был просто анестезиологом у операционного стола, а едва теплящаяся в теле на столе жизнь – просто чья-то абстрактная жизнь, которую надо попробовать сохранить всеми способами, отражая нападение темного ангела с мечом.
Пытливо глядя на лицо нейрохирурга Лискунова, наполовину скрытое повязкой, Арсений возблагодарил небо, что этому человеку переживания и вовсе не свойственны. Видимо, в этом и заключается секрет недрогнувшей хирургической руки. В холодной крови.
Он слышал довольно историй про Лискунова. Про измученную жену Екатерину, то и дело прибегающую к нему на работу и устраивающую скандалы, после которых больница шепталась неделями. Про короткие служебные интрижки, из которых нейрохирург выходил с высоко поднятой головой и безупречной полуулыбкой, оставляя позади себя выжженную землю, обильно орошенную слезами очередной медсестры: с женщинами-докторами он не связывался, видимо, из принципа. Его отстраненный, чуть свысока стиль общения, интересная бледность и привычка распахивать перед любой дамой двери действовали на противоположный пол убийственно, пробуждая, очевидно, азарт и молниеносное желание покорить, влюбить, восхитить и заставить упасть ниц. Только вот он не покорялся, а скорее свивался кольцами и скользил так, что не поймать – ни на слове, ни на деле. В общем, как человека Гаранин его сильно недолюбливал и всегда едва заметно морщился, когда оказывалось, что они встретятся на операции. Лискунов искренне, даже не стремясь этого скрывать, считал, что в операционной именно хирург – царь и бог, а остальные – так, статисты, свидетели Великого Делания. Однако, несмотря на личностные качества, он оставался профессионалом, Гаранину пришлось это признать, и Жене Хмелевой, пусть она об этом даже не подозревала, очень повезло, что над ее головой сейчас нависал Олег Лискунов.
Из-под его руки Арсений видел череп Жени. С прошлой операции, сделанной при поступлении, волосы успели отрасти от кожи на несколько миллиметров, и их снова пришлось брить. Он с щемящим сердцем вспомнил о том, какие у нее были кудри – когда-то, в прошлой жизни. Точнее, в той единственной, что безвозвратно потеряна и пока ничем не заменена.
– Я закончил. Зашиваем, – возвестил Лискунов и быстро взглянул поверх повязки на Гаранина. – Ну что, Арсений Сергеевич, я сделал что мог. Если она умница, то выкарабкается.
Арсений машинально кивнул, слушая пыхтение ИВЛ и следя глазами за белой змейкой интубационной трубки. Он мог бы ответить, что, во-первых, она умница, а во-вторых, не все умницы выживают, как и не все сволочи умирают прямо под ножом. Если бы это было так… Хотя и так – лучше не надо.
Судя по всем показателям, снимкам и томограмме, операция прошла как нельзя лучше. Гаранин рассчитал анестезию, чтобы она плавно закончила свое действие через час после окончания всех манипуляций. Он не видел ни одной медицинской причины, по которой бывшую Джейн Доу, а ныне Евгению Хмелеву, следовало бы и дальше держать в медикаментозном сне. Ее небытие подходило к концу.
Он ждал.
Ждал всю ночь, специально не ушел домой. Когда совсем стемнело, Гаранин спустился на крыльцо и постоял так с минуту, чувствуя, как давит и стучит в висках. Кажется, близилась гроза, с запада гулко и грозно рокотало, будто зверь пробуждался в пещере. Дурманяще пахло петуньями, в густом недвижном воздухе их аромат разливался тяжело, громоздко. Вокруг ближнего фонаря суетился рой ночных насекомых, безмолвное текучее облачко, каждый следующий миг уже другое, но вместе с тем то же самое, неизменное в своей переменчивости. Упитанный серый мотылек настойчиво бился о лампу, падал вниз, но тут же снова взлетал и мягко, упруго врезался в мутное стекло.
Арсению вспомнилась Саня Архипова: не так уж давно они разговаривали на этом крыльце. Он редко вспоминал пациентов после их выписки или перевода в другое отделение, отчасти – потому, что в реанимации люди не особенно склонны к общению, отчасти потому, что их личные жизни, до и после больницы, его не касались. Он – всего лишь посредник. Человек, приносящий с собой сон и недолгое отдохновение от боли. У него в кармане тишина и безвременье, забытье, глубокий сон, а в чемоданчике на замке и под роспись есть даже блаженство. Но в число избранных, которым оно предписано, лучше не попадать. Саня попадала, и не раз, и он до сих пор помнит ее растерянные глаза. Когда она приходила в себя после очередного путешествия к Морфею, в ее травянисто-зеленых глазах читались вопросы. А у него не было ответов, и приходилось только напускать на себя серьезный вид и становиться ее врачом… Как она сейчас?
Гаранин от всей души пожелал, чтобы девушка с апельсиновыми кудряшками лежала в эту ночь в своей кровати, с сонным медом дремоты, склеивающим веки, и долгой ровной жизнью где-то впереди, в ярко-голубом и сверкающем росой Завтра. Вздохнул, посылая свое пожелание вверх, в небо, но там клубилась мгла и не было звезд.
Он побрел по больничному парку. Из темноты вышла Берта. Заметив его краем глаза, она не выказала никаких дружественных намерений, даже обрубком хвоста не шевельнула. Наоборот, пройдя несколько шагов по тропинке, она уселась на меховой зад, задрала голову вверх и протяжно завыла.
– Тихо ты, – махнул рукой Арсений. Он был далек от предрассудков и народных примет, вся его профессия противостояла им, но память предков жила, очевидно, и в нем, поскольку собачий вой будил до дрожи неприятное чувство. Берта опасливо отскочила от него, затрусила прочь под сень серебристой ивы и дальше, шурша сухой травой и ветками. Через минуту из неосвещенного угла парка, как из преисподней, снова исторгся ее тоскливый вой.
Женя Хмелева должна была отойти от операции и наркоза уже давно. Идя по дорожкам, он размышлял об этом, но как-то лениво, без рвения, самым краешком своего сознания, как обычно думают о том, что будут делать в конце следующей недели. Безразлично и сумрачно. Внутри его вдруг поселилась всепоглощающая усталость и апатия, и, пожелай он покашлять или чихнуть, у него не хватило бы сил даже на это. У фонтана Гаранин остановился, не находя в себе физической возможности идти дальше, двинуть хоть одним членом своего тела. И в эту секунду он отчетливо осознал, что происходит. Это не леность мешала ему думать, нет. Просто он все уже понял и слишком берег себя от потрясения, чтобы признать и осмыслить правильный ответ. Чтобы допустить его в себя.
Он рванулся обратно.
Бежать сквозь сгущающийся плотный воздух оказалось неожиданно тяжело, хлопок лип к коже, пот струился от подмышек по рукам, и на ступенях Гаранин рванул воротник рубашки в единственном желании ослабить давление и вздохнуть как следует. Две пуговицы с тихим щелчком оторвались от ткани и застучали по лестнице вниз, в то время как Арсений, превозмогая грозовую тяжесть, поднимался вверх.
Когда он торопливо шел по коридору, поднявшийся на улице ветер уже ворвался в больницу сквозь открытые в кабинетах окна, и его потоки протекали в дверные щели. От сквозняка где-то громко хлопнула дверь. Буря рокотала совсем близко.
Он все проверил дважды, сомнений не осталось – мышечная гипотония. Слабые, довольно хаотичные подергивания рук и ног – он не мог назвать руки и ноги Жени конечностями, хотя и должен был. Кожные рефлексы на свободных от бинтов участках отсутствовали. Ее суженные зрачки отреагировали на свет очень слабо, нехотя, с той же самой неосознаваемой ленью, с которой Гаранин не хотел принимать правду.
Небо над больницей раскалывалось и срасталось, зашиваемое иглами белых молний. Небесная лигатура. Сухой треск разносился далеко за видимые пределы.
– Женя. Женя, ты меня слышишь? Моргни глазами, если слышишь меня. Женя. Пошевели пальцем, если слышишь меня. Женя. Женя.
Он старался, чтобы его зов звучал нерезко и настойчиво – так любящие родители будят своего любимого ребенка-соню, боясь напугать пробуждением. Но она не слышала. Едва освободившись от медикаментозного сна, она соскользнула в морок куда более темный и неведомый. Женя Хмелева впала в кому.
IX
Следующие сутки он провел в бессильном метании. Проверил все записи по первой операции и по второй, все снимки и заключения. Гаранин искал, где недосмотрел, где ошибся. Или, быть может, ошибся не он, а Сорокин или Лискунов? Казалось, что если найти ошибку, то и исправить ее не составит труда. По крайней мере, станет ясна причина. Но нет. Отек мозга спал, гематому удалили. Они сделали все, на что были способны, исходя из известных данных. Не было ни аллергии, ни токсического шока, ни эндокринных кризов. Но черепно-мозговая травма дала о себе знать именно таким образом.
Тщательно исследовав показатели и проведя кучу тестов, Гаранин постарался успокоить себя хотя бы тем, что ее кома не очень глубока. К утру, когда ливень за окном прекратился и все стихло, ей стала мешать ИВЛ, и он с замиранием сердца отключил аппарат. Грудь девушки вздымалась и опадала, ничем больше не поддерживаемая.
– Сама дышит. Это хорошо, – пробормотала медсестра за спиной Гаранина, и он с рассеянным удивлением узнал о ее присутствии, которого не заметил раньше.
Да, она права. Самостоятельное дыхание лучше, чем его отсутствие. Но это все равно была и есть кома.
Он следил за ней до вечера, но положительной динамики больше не наблюдалось. Теперь в первом боксе, над кроватями Баева и Хмелевой, висело колдовское оцепенение, как в страшной сказке. Принцесса уколола палец о веретено, и замок на сто лет погрузился в сон, и лес вокруг замка разросся, ветви сплелись, и ни один путник уже не может проехать по некогда широкой дороге прямо к воротам…
Наступило воскресенье.
Гаранин совершенно не представлял, чем себя занять. Копию тетради в полоску он не выбросил, как настаивала Борисовская, но после того разговора все еще не решался открыть. И намеревался удерживаться от этого и впредь. Телевизор он не терпел, а потому достал из стеллажа книгу и принялся за нее, но во время чтения мысли все время блуждали и прыгали, как блохи, не в силах усидеть на отпечатанных на белых страницах литерах. Окончательно осознав, что ничего путного из этого не выйдет, Гаранин затеял уборку. Вероятно, это называется в народе генеральной уборкой, потому что ничего настолько масштабного он не предпринимал, кажется, за всю свою жизнь. Когда полы были вымыты, а пыль вытерта на всех горизонтальных поверхностях, включая верхние торцы межкомнатных дверей и их резные филенки, он принялся пылесосить диван и три кресла, снял и закинул в стиральную машинку шторы и давно посеревший тюль, а сам отправился во двор вытряхивать пару одеял, плед и домотканый половичок, оставшийся ему от бабули Нюты.
Это занятие его успокоило. Арсений попросил помочь соседа, гревшегося на солнышке у подъезда. Каждому из них досталось по два конца одеяла. Наука нехитрая, дергать что есть сил стиснутые концы в разные стороны, наблюдая, как из купола натянутой ткани вылетают песчинки и пыль. Но это действо вдруг развеселило его и окунуло в ощущение беззаботного детства – в тот летний день, когда мама с одеялами наперевес повела его на пустырь за домами, чтобы он помог ей выбить пыль. До этого она ходила с соседками, но в тот раз решила, что сын довольно подрос, чтобы удержать в руках тяжелые края. Арсений до сих пор помнит, как старался, высунув от напряжения язык, и как волосинки и взвившийся сор на него тотчас налипали. Мальчик щурился и тихо отплевывался, изо всех сил дергая на себя одеяло. Его запястья и плечи окаменели, но на душе было радостно. И как-то очень тепло.
Пока он был во дворе, солнце окончательно ушло из квартиры, и по возвращении Арсений застал свое жилище пустынным и сумрачным. Окна зияли наготой, и он поспешно развесил тюль обратно, еще влажным, прохладным. Это наполнило комнату свежестью.
К вечеру он собирался навестить родителей, но теперь, усевшись в кресло, уже не мог заставить себя даже пошевелиться. К тому же он совершенно не представлял, о чем говорить с отцом.
Вместо этого он созвонился с Грибновым и попытался узнать номер телефона хоть кого-то из близких Евгении Хмелевой.
– А вам зачем?
– Два дня назад ей сделали повторную операцию. Ее состояние изменилось. Я обязан их проинформировать.
– А почему я узнаю об этом только сейчас? – отрывисто поинтересовался Грибнов. Арсений слышал в трубке музыку и чьи-то веселые вопли, потом стало тихо, как будто капитан перешел в другую комнату.
– О чем? – не понял Арсений.
– О том, что она очнулась. Вы ведь это хотите сказать?
– Я хочу сказать ровно то, что говорю. Ее состояние изменилось. Она в коме.
Грибнов замялся:
– Вот как… А до этого?
– А до этого я держал ее в медикаментозном сне. Чтобы минимизировать возможные повреждения мозга.
– Но это не очень-то помогло, так? Раз уж она в коме…
Арсений прикрыл глаза, стараясь сохранять спокойствие. Было в этом полицейском что-то такое, что «на раз» выводило его из себя. Едва заметный тон не то пренебрежения, не то глубинного недоверия и подозрительности. Хотя кому, как не представителю закона, не доверять людям?
– Мне просто надо понимать, как классифицировать степень нанесенных ей повреждений, – примирительно пояснил Грибнов, словно расслышав его мысли.
– Тяжкие телесные, как еще! Покушение на убийство, если и не убийство. Она на волоске от смерти.
– Понял я, понял, не надо так нервничать. Ладно, пишите телефон. Правда, не думаю, что из этого что-то выйдет. Мать ее живет в поселке и, судя по всему, нехило так закладывает за воротник. А папашу не нашел. Еще есть некий гражданин Глеб Константинович Горелов. Они с Хмелевой жили вместе полтора года.
– А… вы проверили его?
Красноречивое молчание Грибнова лучше всяких слов велело Арсению не лезть в чужие обязанности.
– Пишу телефон, диктуйте, – вздохнул он.
К сожалению, капитан оказался прав. Мать Жени Хмелевой, подошедшая к телефону только на третий звонок Арсения, лыка не вязала. Она что-то пришептывала, постанывала и хмыкала, и Арсений повесил трубку, так и не дождавшись вразумительной человеческой речи. Вот, оказывается, почему девушка почти не упоминала о родителях в своей тетради.
– Да, слушаю, – в трубке раздался раздраженный мужской голос.
– Здравствуйте. Глеб Константинович?
– Да, я. Это кто?
– Я Арсений Сергеевич Гаранин, врач первой городской больницы, отделение интенсивной терапии. У нас лежит ваша подруга Евгения Хмелева.
– Бывшая.
– Да, простите, бывшая подруга, – исправился Арсений, чувствуя, как рука непроизвольно стискивает телефон.
– И что?
– Я хотел сообщить вам информацию о ее состоянии…
– Меня уже спрашивали. Из полиции. Может, хватит?
– Нет, я не спрашиваю ни о чем. Я только хочу рассказать…
– Да в курсе я! – человек на том конце провода явно не обладал мало-мальским терпением. – Напали на нее. Вроде ж уже выяснили, я тут ни при чем.
– Но, быть может, вам нужно знать, что с ней.
– Знаете, что? Эта… В общем, она мне мозги скипидарила, а потом хвостом крутнула и ушла. Думаете, мне теперь вообще интересно, что там с ней да как?
Арсений не сразу нашелся с ответом. Мужчина выждал несколько секунд. Потом спросил уже помягче:
– Что там, сильно ей досталось?
– Очень. У нее…
– Хорошо, – перебил Глеб. – Просто прекрасно. Так ей и надо. Может, хоть чему-то научится, сделает выводы. Тварь. Наверняка сама напросилась и получила по полной программе. Не звоните мне больше. А ей можете передать…
Арсений не стал дослушивать.
X
Идя через больничный парк на следующее утро, Гаранин не сразу обратил внимание на этот звук. Протяжно-нудный и вместе с тем ритмичный, срывающийся порой на тихий визг.
Потом он заприметил Максимыча, нависшего над только что спиленной рябиной. Привратник снял свой неизменный тулуп, оставшись в несвежей фланелевой рубахе, синей, в серую клетку, и порывисто дышал, утомившись работой. Плечи ходили ходуном. Его рука сжимала рукоять зубчатой пилы, а на траве вокруг разлетелись свежие мелкие опилки. Мохнатая Берта лежала неподалеку, положив длинную морду на вытянутые лапы и тихо поскуливая.
Гаранин помнил эту рябину много лет – еще в бытность его интерном – школьники, пришедшие на апрельский субботник, высаживали несколько деревьев в парке, и крохотное тонкое деревце всего в две веточки было одним из тех давнишних саженцев. Он наблюдал, как из года в год рябина росла, крепла, ствол ее утолщался, а кора приобретала густо-медный цвет с металлическим отливом. В июне она вся стояла усыпанная крупными зонтиками белых соцветий с резким запахом, о котором нельзя было однозначно отозваться как о приятном. Зато по осени и зимой ее особенно любили пичуги, весело треща и обклевывая горькие грозди, и сугроб под ней был усыпан красной мелкой дробью, отдаленно напоминающей кровяные капли. Проходя мимо нее в период созревания ягод, Арсений непременно думал о той примете, по которой обильный рябиновый урожай сулит холодную и снежную зиму. Кажется, так оно обычно и случалось.
А в эту весну рябина не отошла от спячки. Все вокруг зазеленело и расцвело, а она продолжала стоять темным сухим остовом посреди весеннего буйства.
Максимыч перестал пилить древесину и замер. Арсений уже собирался поприветствовать его, когда заметил, что плечи привратника трясутся и содрогаются не от сбитого дыхания.
– Максимыч… – с испугом пробормотал он, пораженный в самое сердце. Видеть этого мужичка плачущим, хотя бы и со спины, оказалось больно.
Сторож вздрогнул. Он с величайшей осторожностью положил пилу, вытер поочередно оба глаза широкой мозолистой ладонью и только после этого повернулся к Арсению. Его лицо покраснело до самой шеи в вырезе рубахи, а в желтоватых белках глаз проступили капилляры.
Гаранин жутко растерялся. Он не знал, что делать, не знал, стоит ли спрашивать о причине слез, но даже если бы ответ оказался утвердительным, все равно его язык присох к небу и не пошевелился бы.
– Вы еще не знаете…
Не вопрос, а утверждение. И зависть человека, который и сам в эту минуту хотел бы не знать.
– Наша Саня. Нет ее больше.
Гаранин поверил сразу, без промедлений. И сам устыдился, что поверил, без уточнений, без расспросов. Саня Архипова-Франкенштейн, девушка с апельсиновыми волосами и веснушчатым лицом в форме сердечка. Брунгильда в ортопедических доспехах. Она встала перед ним так явственно, словно время отмоталось назад, и снова в саду были трое: он, она и Максимыч, утешающий ее перед выпиской.
Не проронив ни слова, Арсений шагнул к Максимычу. Он хотел обнять его, но внутри некстати сработал какой-то стопор, Арсений оробел и лишь неловко переступил с ноги на ногу.
Привратник сел на рябиновый пенек, слишком узкий в сечении, чтобы быть удобным табуретом, вставил в рот папиросу и принялся чиркать спичками. Его пальцы сильно тряслись, заскорузлые, с серой кожей и грязью под ногтями, и серные головки спичек срывались, не давая огня. Раньше Гаранину казалось, что от нервов не суметь зажечь спичку или зажигалку – не более чем клише. Но теперь в гулкой пустоте он опустился на корточки возле Максимыча, мягко отобрал из стариковских рук коробок и высек искру.
– Как же так-то, Арсений Сергеич?.. Как же она?..
Гаранин, ощущая в голове бестолковый мокрый синтепон мыслей, глубоко вздохнул. Едко пахло вонючим папиросным дымом.
– Как же так? – повторил Максимыч.
Больше он не проронил ни слова. Когда папироса догорела, он безвольно уронил ее из пальцев и, шаркая, побрел к сторожке, оставив на траве и пилу, и дымящийся бычок, и рябиновые обрубки.
Только после его ухода разум Арсения заработал в полную силу. Он почти слышал, как отстраненно щелкают шестеренки, подбирая варианты ответов на каждый из возникающих вопросов. Саня, Саня Архипова… Гадать было бессмысленно, и Арсений почти бегом направился в больничный морг.
XI
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«29 декабря. Очень-очень холодно. От рамы дует так, что шевелятся листья герани на подоконнике. Я отставила цветы подальше и проложила подоконник свернутыми в трубочку полотенцами – так хоть чуть-чуть меньше зябкого воздуха проникает в дом.
Но ничто не согревает квартиру лучше, чем приготовление пищи. Сегодня решила испечь имбирное рождественское печенье.
Когда-нибудь из этого же теста я буду печь составные части для пряничного домика. Мы вместе с детьми вырежем два торца, две стены и два ската крыши, прорези окон зальем растопленным мармеладом, чтобы стало похоже на разноцветные витражные стеклышки, а сверху прилепим на взбитый с сахаром белок леденцы и шоколадные капли. Обсыплем снегом сахарной пудры и украсим белой глазурью проемы и дверцу.
Ну а пока:
200 граммов сливочного масла смешиваю со 150 граммами сахара, ванильным сахаром и мечтами о грядущем;
добавляю три яйца, 2 чайных ложки молотого имбиря, по щепотке мускатного ореха, корицы, кардамона и нежности;
2 чайных ложки разрыхлителя и 450–500 граммов муки, щедро сдобренной загаданными желаниями и капелькой светлой грусти.
Вымешаю пластичное тесто и вырежу формочками. Их у меня много, и полумесяцы, и звездочки, елочки и колокольчики, носки, снеговички и подковки.
Они будут печься в духовке и увеличиваться в толщине, но все равно останутся рассыпчатыми внутри – если не пересушить.
А пока остывают, я смешаю 100 граммов сахарной пудры с несколькими ложками воды, чтобы было не слишком густо и не слишком жидко, разложу по мисочкам и добавлю красителей. Если вместо воды взять свекольный сок, получается очень красивый красно-сиреневый оттенок. Морковный дает оранжевый, шпинатный – ярко-зеленый. Так я обычно пеку радужный хлеб, переплетая потом тесто в косичку. Но сегодня мне лень морочиться, так что просто беру магазинные. И когда печенье остывает, покрываю каждую фигурку глазурью и даю высохнуть.
Совсем забыла сказать, я ведь вчера купила небольшую елочку. То, что я встречаю Новый год в одиночестве, вовсе не значит, что у меня нет праздника. Как же без елки? Так что перед выпечкой в каждой печеньке я сделала дырочку пластмассовой соломинкой. Когда глазурь высохнет, останется только продеть серебристые ленточки в прорези, завязать и развесить на ветках.
Вот и праздник в дом пришел. И пусть в оконные рамы все так же дует ветер. Мне теплее сегодня, чем многим в этом мире».
XII
– Картина чистая, Арсений Сергеевич, сами видите. Я уже и заключение оформил.
Патологоанатом Савинов покусывал изнутри щеку, из-за чего его худое, с мелкими чертами лицо дергалось, как от нервного тика.
Холодно. В морге всегда стоит прохлада, которой как нельзя лучше подходит затертый эпитет «мертвенная», даже если температура воздуха не слишком отличается от той, что за дверью. Это, скорее, психологическое восприятие. Где еще разливаться неживому холоду, как не в перевалочном пункте смерти? Кажется, откуда-то издалека доносился звук неторопливо, убийственно издевательски капающей воды. Кап. Кап. Он имел глубинное смысловое сходство с женским всхлипом, но вполне может статься, все это звучало и длилось только в голове.
Гаранин видел. И не видел. Перед ним на металлическом столе с бортиками лежало тело, обмытое, нагое. Это тело было очень знакомым и в то же время – абсолютно чужим. Оно хранило на себе следы и печати того, что происходило некогда с его хозяйкой, но стало теперь совершенно отделенным от нее. Все эти келоидные рубцы от швов, разрезов и соединений, вживления штифтов и скоб…
– Все было напрасно, – едва слышно пробормотал сокрушенный Гаранин.
– Что? – не расслышал Савинов. Арсений мотнул головой, уперто и бессмысленно, как отмахивается от оводов корова на выпасе.
На бледной сероватой коже веснушки впервые казались инородными, как сыпь или крошка. Волосы при жестком и резком освещении утратили свою солнечную живость, покровы тела натянулись так, что ключицы, колени, скулы проступили четче, темный курчавый треугольник меж бедер казался утонувшим в водостоке грызуном, черты некогда миловидного лица заострились и исказились, вроде бы слегка, но в целом – до неузнаваемости. Это была уже не Саня Архипова, совсем не она. И не существовало в лежащем на секционном столе прозекторской женском теле ни достоинства, ни спокойствия, ни умиротворения, ни величия.
Не было вообще ничего. Так, Арсений никогда не любил цифру ноль, ибо она подразумевает абсолютное отсутствие. Пустоту. Ничто.
– Значит, все-таки сама…
– Да, – Савинов обошел стол и приблизился к Гаранину, так что тот учуял идущий от патологоанатома слабый запах беляшей, пожаренных на кубанском масле. – Асфиксия от повешения. Странгуляционная борозда в верхней части шеи, незамкнутая, неравномерная. Узел был сзади, под затылком, как обычно. Кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы. Подъязычная кость сломана.
«Как обычно». Это лингвистическая формула больно дернула и отозвалась жестоким эхом где-то под грудиной. Гаранин отступил на шаг, сдержанно попрощался и вышел.
Другие могли бы при желании найти самоубийству оправдание. В спорах, которые так или иначе периодически возникают между врачами, ближе других профессий подходящих к черте. Он слышал заявления, что порой страдания человека так сильны, что прекратить их – единственный вариант. Чисто теоретически он мог даже согласиться, уж кто-кто, а он-то навидался страданий и боли предостаточно, и хуже всего та боль, что не имеет за собой надежды на прекращение. Всякое случалось в его врачебной практике… Но не в этом конкретном случае.
Сейчас он чувствовал одно только предательство. Саша Архипова предала. Не его, а что-то очень важное, намного более ценное, чем доверие, чем отдельный человек. Саму жизнь, ее чистейший исток.
– И мне плевать, что мы все стояли тут на ушах, а она этого не оценила. Да, человек никогда не ценит усилий других! Но это – наша работа. И кроме того, что это – наша работа… это – дело, понимаешь, избранное дело! Я сам решил быть здесь и делать то, что делаю. Сам!
Арсений стоял в ногах у кровати Жени Хмелевой и пытался донести до нее свою боль. Дверь была плотно прикрыта, а девушка – все так же безучастно тиха. И это приводило Гаранина в ярость. Такую, что перед глазами аж искорки мелькали.
– Там, в морге, когда я стоял над ней, я думал о тебе. И хотя твое сердце качает кровь, а легкие все еще дышат… Что с того? Ты не хочешь проснуться. Я знаю, что не хочешь, я даже понимаю это. Потому что – чего ради тебе просыпаться? Если бы у меня был хоть один крючок, чтобы выдернуть тебя оттуда. Подцепить и достать. Но крючков-то у меня нет. И у тебя нет. Женя… Же-е-еня.
Он хотел бы заорать на нее, хотя и отдавал себе отчет в том, что это бесполезно. Даже наоборот, вредно. И предосудительно к тому же.
Гаранин отошел к окну, сильно растирая ладонями лицо. Ему и самому не мешало бы очнуться.
– Если б она осталась жива, я придушил бы ее собственными руками, – хрипло заявил он. – Она не имела права. Не потому, что мы собирали ее по частям. Хотя это вообще-то могло бы заставить ее притормозить и задуматься. Но все равно не поэтому. А потому, что… она просто не имела права. И мне наплевать, чем уж так плоха ее жизнь. Федя бросил? Ох уж вот горе какое. Не понимаю любви? Да, такой любви не понимаю, верно.
Ему казалось, что вот-вот глаза Жени откроются и она начнет спорить с ним. Защищать Саню. Отстаивать ее право на добровольный уход из жизни. Он жаждал этого.
– Знаешь, до сегодняшнего дня мне казалось… что люди обязательно пересматривают систему ценностей, как только оказываются на пороге смерти. И если им удается вернуться, то их мозги встают на место. И все видится трезвее, что ли. Но, очевидно, это не так. Когда ее только привезли… на первую операцию, я имею в виду… Это на тебе не было живого места, а на ней… она просто представляла собой кучу мяса. И непонятно было, как в этой куче кровавых ошметков еще теплится жизнь. И когда она перенесла первую операцию, мы все сошлись во мнении, что это истинное чудо. Никто не говорил, но эта мысль парила по отделению, я осязал ее. Можешь назвать меня психом. Через полгода примерно Сорокин сказал мне, когда мы шли до остановки и обсуждали Архипову, что ради таких мужественных людей и стоит быть врачом. Потому что они цепляются за жизнь и не отпускают, и сделают все, чтобы помочь нам спасти их. О да, она нас очаровала, купила с потрохами – так она хотела жить! Я тотчас с ним согласился, потому что он высказал именно то, что я и сам думал. А теперь я вспомнил, что это ничего не меняет, ничего! Каждый раз надеюсь, что меняет, и каждый раз ошибаюсь. Помню, как после второго инфаркта стапятидесятикилограммовая дамочка первым делом попросила у соседки по палате булку с маком. Помню, как после ампутации двух пальцев из-за обморожения Петя, пьянчужка с вокзала, тут же принялся опохмеляться. Люди…
Он пожевал сухими губами.
– Наверное, это похоже на родительство. Я никогда не был отцом, но всегда внимательно наблюдал за другими. Человек дарит другому человеку жизнь, и это неоценимо и огромно. Но для ребенка его существование – само собой разумеющийся факт. Инстинкт. Он не требует восхищения и поклонения.
Рука Жени Хмелевой судорожно дернулась, большой палец согнулся и выпрямился. Неужели… Но нет, движение замерло так же беспричинно, как и началось. Децеребрационная ригидность, обычное дело. Гаранин склонился над девушкой и легонько провел по ладони, не решаясь ее пожать. Потом выпрямился и вздохнул:
– Кузнец Вакула покатался на черте и добыл черевички у самой царицы, чтобы подарить их невесте. А вертихвостка Оксана берет да и швыряет их куда подальше за ненадобностью… Мы выцыганили для Сани жизнь, а она плюнула на нее. И теперь сгниет сама. Как же так-то, а? Жень…
Быть может, он зря нарушал покой первого бокса, зря сотрясал воздух. На душе у него было так больно, так беспросветно тошно, что он обращался к Жене Хмелевой как к давней подруге, стремясь вызволить из небытия и вдохнуть жизнь, ту же самую летучую и переливчатую субстанцию, от которой так отчаянно отказалась Саня Франкенштейн.
Двух этих девушек кое-что связывало, и он знал, что не случайно поведал Жене о той, что сейчас лежит на цинковом столе. Им обеим некуда было возвращаться, там, под солнцем, их никто не ждет – или они думали, что не ждет.
Арсений почувствовал головокружение и сухую тошноту. Он ведь и сам боится. Каким-то образом эта безмолвная коматозница проникла в самый глубокий уголок его души, в самую чащу.
Ей просто некуда возвращаться. А он… Самонадеянно желая найти для нее дорогу, Гаранин сам вошел в лес. И, кажется, заблудился.
Часть третья. Влюбленный Анубис
I
В юности, в ту самую минуту, когда хулиган Колька Камынин с соседней улицы занес кулак над его щекой, Арсений Гаранин разгадал самую важную мудрость жизни: всюду сохраняй хладнокровие. Не впадай в горе до крайности, не радуйся сверх меры, не страшись больше положенного, и в этом срединном состоянии найдешь покой.
«На свете счастья нет, но есть Покой и Воля…»[4]
Долгие годы ему казалось, что в этих постулатах нет погрешности.
В кроне большой березы, растущей за окном, выводил замысловатые тягучие трели полуночник-соловей. Гаранина измотала бессонница, он выпил стакан плохо пахнущей холодной воды из-под крана и сел на подоконник, раздумывая о том, что есть правда и как ее распознать, когда она прямо перед носом… Душная безглазая ночь бесстрастно, как продажная женщина, целовала его в губы.
А правда в том, что ни Саню Архипову, ни свою жену он не уберег. Недоглядел, не понял, не поверил. Когда Саня глотала слезы на заднем крыльце и ее душа распадалась на кусочки от боли, – что он ей сказал? Арсений помнил смутно. Общие слова про молодость, про то, что все еще впереди. Господи, какая мерзость. И хуже всего то, что их последний разговор он помнит весьма расплывчато, зато отлично отпечаталось в памяти его самодовольство, когда он поднимался в отделение. Удовлетворение поверхностного человека, возомнившего, будто он здоровски кому-то помог.
Пытаясь разобраться в собственной преступной слепоте, Гаранин вспоминал и вспоминал, уходя назад по дороге своей жизни все дальше в прошлое.
С девушками по молодости как-то не клеилось, да и не до того было. Все они казались инопланетянками, хихикали невпопад, хотели то в парк, то на дискотеку и вообще, на взгляд Гаранина, тратили слишком много времени впустую. Он же, долговязый, худой, рукастый и большеухий, сперва прилежно учился в мединституте, потом стал интерном, несколько лет проработал в больнице, набираясь опыта, и, наконец, поступил в аспирантуру. Отцовское имя, известное в областной медицине, осеняло его, и он долго не мог понять, то ли это свет от Сергея Арнольдовича падает на него, то ли тень.
Был, правда, в его биографии один момент, который в последующие годы он очень не любил вспоминать. Однажды в марте Гаранин оформил в аспирантуре академотпуск, уволился из горбольницы и взял билет на поезд. Двое суток спустя он оказался на Кавказе, в неспокойной республике на самом краю страны. Отец и мать до последнего не верили, что он поедет, а когда увидели собранный чемодан, всполошились. Елена Николаевна волновалась почти молча, вскидывая тревожные глаза попеременно то на сына, то на мужа. Сергей Арнольдович негодовал:
– Зачем? Что тебе тут-то не нравится? Поясни!
– Да все мне нравится, – хмуро бубнил Арсений, таща чемодан в прихожую. – Доберусь – позвоню.
В тамошнем военном госпитале царила разруха, медикаменты появлялись стихийно и почти всегда – благодаря каким-то темным личностям, бородатым черноглазым мужчинам в камуфляже без знаков отличий. Эти люди напоминали Арсению Фиделя Кастро со старых фото. В операционной с зеленоватыми стенами, пахнущей фторотаном и закисью азота, огнестрельных и осколочных ранений было почти столько же, сколько плановых резекций. Новости горячих точек Гаранин узнавал не по телевизору вечером, а прямо во время дежурств, из торопливых объяснений медсестры над несущейся по коридору каталкой. Несколько раз приходилось выезжать в полевые госпитали. Но Гаранин не жаловался.
Через год он вернулся домой, повзрослевший и неулыбчивый. Восстановился в аспирантуре и больнице, в срок опубликовал нужные для защиты диссертации статьи и ни словом не обмолвился о том, как провел предыдущий год. Наверное, тогда он и утолил свою страсть и к путешествиям, и к приключениям: в них оказалось меньше романтики, но больше крови, гноя, этилового спирта и вдовьих слез.
Скопленных денег (на себя он почти не тратился, но часть зарплаты ежемесячно отдавал матери на хозяйство) хватило на первый взнос за ипотечную двушку на Михайловском бульваре.
– К чему тебе квартира? Жил бы с нами и жил. Ты ж наследник, кому еще добро-то завещать? – хмурился отец. Нельзя сказать, чтобы с годами взаимопонимания у них прибавилось.
– Вы тут живете. И жить будете еще долго. А я свой угол хочу.
– Свой угол. Лена, ты слышала? Свой угол. А это что все, чужое?
– Ладно, пусть уж как хочет, так и делает, – вздохнула мать и покачала головой, ясно давая понять, что не одобряет и даже обижена.
– Может, ты жениться надумал? – спохватилась она внезапно, и ее лицо даже как-то посветлело. Арсений мотнул головой:
– Нет.
Хотел что-нибудь добавить, пояснить или утешить, но что уж тут добавлять, когда все и так ясно. Он – одиночка. Больше к этому разговору никто из троих не возвращался.
А в сентябре он встретил Ирину.
– Арсений… А коротко как? – поинтересовалась она на второй день общения.
– Так же.
– Это же не ласково! Ну хорошо, а мама тебя как в детстве звала? Или папа…
– Арсений.
– Это странно, – заключила Ирина серьезно.
Гаранин пожал плечами. До этой минуты ему никогда в жизни еще не приходило в голову, что это странно.
В день их знакомства, без предупреждения и вопреки предсказаниям всеведущих синоптиков, после обеда разверзлись хляби небесные, и на мостовые города хлынул по-осеннему неприятный колкий ливень. Он обдирал желтеющие липы на проспекте и швырял листья пригоршнями в лицо бегущему по тротуару Гаранину. До остановки оставалась пара сотен метров, но дождь лил без просвета, и Арсений, не взявший зонт и не намеревавшийся вымокнуть до белья, заскочил под козырек старинного деревянного особняка с мезонином. За всю жизнь он ни разу не бывал в этом здании, занятом городским краеведческим музеем, и всегда проходил мимо, слишком озабоченный повседневностью. Прошел бы и тогда, если бы не непогода.
Козырек оказался слишком мал, и ледяные струи забрасывало ветром к самому порогу, так что Гаранин потоптался немного у входа да и заскочил внутрь, в благословенное тепло. Окошко кассы было заслонено картонкой, в предбаннике стояла тишина, пахло пылью и влажной штукатуркой. Он заглянул в смежную комнату.
Первая часть экспозиции, очевидно, касалась крестьянского быта, но заворожило его отнюдь не обилие экспонатов. В уголке, под ярко горящей электрической лампой, сидела, склонившись к работе, молодая женщина и пряла. Перед ней с легким шелестом быстро крутилось колесо, и на катушку наматывалась шерстяная нитка. Увлеченная занятием, женщина тем не менее услышала не то звук отворенной двери, не то его шаги и повернулась, одновременно поведя плечом, так что кружевная снежно-белая шаль соскользнула вниз и кончиком махнула по темной деревянной половице. Эта картина так выпадала из современности, оставшейся прямо за порогом, что моментально напомнила начало легенды про Петра и Февронию, и Арсений невольно оглядел комнату в поисках пляшущего зайца. Но косой показываться не спешил.
Колесо замедлило вращение и встало.
– День добрый.
– Здравствуйте, – голос оказался мелодичным, как у певуньи. – Вы в музей?
– Ээ… да, пожалуй. Я, собственно, заскочил-то дождь переждать.
Она закусила губу:
– А к нам только так и заходят!
По ее лицу, как блики от воды, разбежались невидимые смешинки. Женщина с любопытством и сочувствием оглядела Гаранина, его прилипшие ко лбу волосы и мокрый пиджак.
– У меня есть бублики и чай. Хотите? И еще мятный пряник, но он, кажется, засох.
Он думал, что откажется, но губы его в тот же миг проговорили:
– С удовольствием. Обожаю засохшие пряники. Тем более их всегда можно размочить, окунув в тот же чай.
Так делала бабуля Нюта, когда зубов почти не осталось, подумалось ему.
Ирина (а это была именно она) радостно кивнула, будто только и ждала согласия, и выскользнула из-за прялки. Арсений, следуя за ней, мельком взглянул в окно, где по-прежнему бежали вымокшие люди, и скорее ощутил, чем подумал, как же несказанно ему повезло.
Они съели все бублики и выпили весь чай. И встретились назавтра, и через три дня. И через четыре.
Рядом с ней Арсений неожиданно почувствовал себя дома, хотя именно дома никогда не испытывал такого всепоглощающего умиротворения.
Ирина представляла собой энциклопедическую, хрестоматийно женственную особу. Стоило ей родиться в Серебряном веке и познакомиться с поэтами-символистами, как их Вечная Женственность кристаллизовалась бы, обрела имя и вполне определенные черты лица. Она по-прежнему носила бы юбки и платья в пол, медленно улыбалась не собеседнику, но своим раздумьям, а в минуты волнения теребила бы тонкий золотой браслетик с фианитами на хрупком запястье. У поэтической героини оказались бы рассыпчатые волосы, длинные, без золотистого сияния, зато с ровным, матовым здоровым блеском – точь-в-точь пшеница на полях, когда ее колышет ветер. И эти плавные движения рук, и веский поворот головы – наследие давних, еще в школьные времена, занятий танцами. И родинка на левой щеке, и бледно-голубые кроткие глаза, смотревшие чуть сонно, но внимательно. От слова внимать.
Однако в ней не сквозило той драматичности, что так воспевали поэты серебряного Петербурга. Не было бренчащих монист, роз в бокале. Не было декаданса и глаз, обведенных темной каймой, один лишь неясный свет туманного утра. Поэзия и правда наполняла ее облик, но, узнав ее чуть поближе, Гаранин решил, что это скорее Рыленков, чем Блок:
«Все в тающей дымке: Холмы, перелески. Здесь краски не ярки И звуки не резки. Здесь медленны реки, Туманны озеры, И все ускользает От беглого взора. Здесь мало увидеть, Здесь нужно всмотреться, Чтоб ясной любовью Наполнилось сердце… …Чтоб вдруг отразили Прозрачные воды Всю прелесть застенчивой Русской природы…»[5]Дочка одинокой библиотекарши при ДК «Электроприбор», никогда не бывавшей замужем и трепетно хранившей предания о дореволюционных истоках семьи, Ирина получила довольно старомодное образование, включавшее в себя игру на пианино, танцы и даже французский язык, который по установившемуся русскому укладу знала довольно скверно, потому что не имела возможности им пользоваться. Ее проще было представить в платке, надвинутом на лоб, чем в брючном костюме, хотя в церковь Ирина не ходила. Она страстно любила свой краеведческий музей, в который устроилась сразу после окончания пединститута по кафедре искусствоведения, и водила там экскурсии, а по вечерам преподавала на курсах бисероплетения и валяния из войлока. Ее тонкие пальчики удивительно ловко держали и нитку, и клочья шерсти, и бисерную иголку толщиной с паутину, и толстую иглу с насечками, и крохотный стеклярус. Зайдя за ней однажды после работы, Арсений битый час не мог отделаться от восторженных пенсионерок, вдоль и поперек вознамерившихся изучить «мужчину, который украл у них Ирочку». Под конец Арсений мечтал уже о том, чтобы кто-нибудь украл отсюда и его тоже.
– По крайней мере, ты можешь меня не ревновать, – усмехнулась Ирина, когда он пробормотал это, наконец-то уводя ее подальше от музея.
– Наверное, – отозвался он, и сумерки скрыли его озадаченную физиономию: ревновать? Ему такое даже в голову почему-то не приходило.
Когда она возвращалась с уроков по валянию из мокрого войлока, от ее рук пахло мылом и влажной шерстью, и вскоре этот запах стал неразрывно ассоциироваться у тонконосого Гаранина с его Ириной.
Она обожала, когда Арсений начинал рассказывать о работе. В ее глазах он казался себе невероятным героем, спасающим жизни, – то забытое студенческое чувство благоговения, которое почти полностью изглаживалось в восприятии, вытесненное махровой прозой врачебной практики. Она редко говорила что-то о медицине, в которой не разбиралась, зато с таким любопытством расспрашивала о коллегах, пациентах, давно прошедшей учебе и повседневных тяготах, словно старалась побыстрее стать неотъемлемой и необходимой частью его жизни.
– Тебе ведь все это жутко скучно, – пробовал отмахнуться он поначалу.
– Никогда! – горячо уверяла она его. – Все, что связано с тобой, не может быть скучным.
Гаранин и сам не заметил, когда стал запоминать свои дни яснее, чтобы по пути домой успеть облечь произошедшее в слова и передать жене.
Он долго избегал близости с ней. Казалось, эта женщина вообще не создана для земных страстей и ее по недомыслию можно обидеть, травмировать, а то и вовсе разбить, как дутую стеклянную игрушку. Может быть, именно поэтому она так волновала его, мысль об этом не давала ему нормально соображать, одно ее осторожное касание способно было заставить взорваться все его тело. То, где для него как для медика не было тайн, где человеческое естество обычно представало с безыскусной откровенностью и физиологическими подробностями, в Ирине казалось самым сладким секретом.
Однако она не разбилась и не сломалась. Все-таки она ведь была женственна на все сто процентов, а женское естество – штука весьма многогранная…
Родители восприняли появление девушки в жизни сына почти с облегчением, хотя, положа руку на сердце, Арсению было безразлично, что они об этом думают. Безразличие с оттенком воинственности. Он привел Ирину знакомиться скорее из вежливости, когда она уже переехала к нему. Елена Николаевна испекла рыбный пирог, Сергей Арнольдович освободился на час раньше.
Когда необходимый церемониал представления был исполнен и Арсений с Ириной разместились за обеденным столом, а мать еще искала салфетки и наливала сметану в соусник, отец смерил Ирину пристальным недобрым взглядом.
– Ну а про квартиру он говорил? – вопрос, заданный как бы между прочим, был адресован Ирине. Та непонимающе улыбнулась.
– Пап, при чем тут квартира?
Арсений, несмотря на исполнившиеся тридцать лет, все еще чувствовал себя неуютно возле отца. Будто в чем-то провинился. А при упоминании собственного убежища и вовсе насторожился. Как выяснилось, не зря.
– Знаешь, сын, за многолетнюю карьеру я понял только одно: человек человеку никакой не друг. А вокруг пруд пруди молоденьких дамочек, только и думающих, как бы устроиться половчее.
Ирина побледнела.
– Поэтому я и хочу сказать, что приобретенная тобой квартира – только в твоей собственности, и даже если вы поженитесь…
– Сейчас не время и не место… – начал Арсений и тут же осекся. Выходит, для подобных разговоров есть свое время?
– Ты женским вниманием не избалован, и провести тебя – как два пальца об асфальт. Прости уж за прямоту, такой я человек. И неплохо было бы полистать ее паспорт. Записать серию, номер. Так, на всякий случай.
– Ириша, мы уходим. – Арсений подскочил как ужаленный, одновременно хватая за локоть девушку.
– Да не выдумывай! – махнул рукой Сергей Арнольдович и потянулся за первым куском пирога. – Нашел на что обижаться.
Но Арсений уже принял решение.
– Мам, мы пойдем.
– Как? Куда? – растерялась Елена Николаевна. – А пирог? Арсений, я же пекла…
– Ничего, поесть можно и в другом месте. Ириш, собирайся.
В прихожей Ирина, совладав с собой, хотя он и видел ее трясущиеся руки, наклонилась к нему и зачастила жалобно:
– Арсюш, ну, может быть, показать ему паспорт?.. Что ты… Он же не со зла, родители постоянно что-то не то говорят, что уж теперь… Он же из лучших побуждений…
– Нет, пойдем. Хватит с меня.
Не будь здесь Ирины, он высказал бы отцу все, что думал. С другой стороны, не будь здесь ее, и повода бы не случилось. Арсений увел девушку прочь. Они молчаливо пообедали в кафетерии на бульваре.
К этой сцене никто из участвовавших в ней больше не возвращался. С Гараниным-старшим Ирина с тех пор общалась хоть и вежливо, но с заминкой. Арсений не мог ее в этом винить.
II
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«С тех пор как я стала находить вдохновение в кулинарии, мне всегда хотелось сотворить нечто совершенное. Идеальное. Почему-то для меня это стремление приобрело черты белого-белого торта.
Безупречно белый торт. Мой Моби Дик…
Дело не в поверхности – я легко придаю ей свадебно-белоснежный вид при помощи сахарной мастики, которой так легко затянуть торт сверху словно атласом, сделав его абсолютно гладким и ровным, на пять с плюсом. Вся суть в том, что внутри – на разрезе. Я пробовала разные коржи и разный по составу крем. И если белый крем из взбитого со сгущенкой сливочного масла, кокосовой стружкой и сыром маскарпоне полностью меня удовлетворяет (он замечательный по цвету и выше всяких похвал на вкус), то корж – из безе ли, бисквитный или песочный – всегда получается с оттенком. Неважно, какую муку я возьму, пусть даже самого мелкого помола, высшего сорта и из отборной пшеницы (притом что такая мука, конечно, менее всего полезна, ведь она полностью очищена от клетчатки и представляет собой едва ли не голую клейковину). И даже если яичные желтки будут не рыженькие деревенские, а самые бледные из магазинных, все равно корж белым не получится. Всему виной сахар, который карамелизируется при высокой температуре и придает изделию из теста румяный цвет. Но торт без сахара не сотворить, иначе это не торт, а ерунда какая-то.
Дети обожают загадки и вопросы с подвохом. Вот и девочка Маруся из 2-го «Б» как-то подбежала ко мне и с лицом загадочным, какое бывает у детей под Новый год, спросила:
– А вы знаете, без чего нельзя испечь хлеб?
Я знала, но, конечно, решила подыграть, сделала большие глаза и покачала головой, всем видом показывая, что не на шутку задумалась. Больше, чем загадки, дети любят только несообразительных взрослых.
– Без корочки! – торжествующе выпалила она, выждав положенные секунды.
– Ах во-от оно что. Действительно, без корочки хлеба не получится.
Я пришла домой и осознала, что, строго говоря, серединное решение проблемы с белым тортом найдено. Для этого надо испечь максимально светлые бисквитные коржи и аккуратно срезать с них верхний зарумянившийся слой. И в тот же момент я ощутила, что это решение меня не устроит. Потому что… так много окажется ненужных отходов… А ведь это тот же самый вкусный бисквит, и внешний слой ничем не хуже внутреннего. Несправедливо как-то. Слишком многое окажется за кадром, и оттого мой белый торт станет не совершенным, а как раз наоборот – ущербным.
Кажется, что кулинария, а задумаешься всерьез: елки-палки, философия ж!»
III
Свадебный отпуск провели в Крыму. Они пили прохладное фанагорийское вино и обжигающий горячий турецкий кофе, бродили по горам и старинным крепостям, чувствуя, как белая мягкая пыль оседает на губах, слушали многоголосую перекличку порта, держались за руки, вечерами читали вслух Грина на скамейке под фонарем, вокруг желтого пятна которого, как сахарная вата на палочку, наматывался серо-туманный кокон ночной мошкары. Каждый день подавали милостыню старику-скрипачу, при встрече с которым Ира непременно вспоминала «Романтиков» Паустовского, цитировала вполголоса целыми абзацами, а после ею надолго завладевала щемящая грусть. Так что вскоре Арсений стал увлекать ее на прогулку другим маршрутом.
Она до глубины души изумилась, узнав, что мама никогда не чесала ему спинку.
– Никогда?
– Да я не помню. Нет, может, я пару раз просил. Но я вообще-то сам достаю. Зачем кому-то чесать мне спину?
– Ты не понимаешь, да? – с затаенным сожалением улыбнулась Ира. – Не спину, а спинку. Чесать не когда чешется, а просто так, для того, чтобы сделать приятно. Перед сном, чтобы долго, сладко, чтобы по шее бегали мурашки.
– Это разве не щекотно?
– Ложись. – Она хлопнула рукой по кровати. – Ложись, я тебя научу!
Это и правда оказалось очень приятно, ее недлинные ноготки мягко скользили по коже, и Арсений действительно покрывался мурашками от удовольствия, пока не задремал.
По возвращении молодожены зажили удивительно мирно. Гаранину это не казалось хоть сколько-нибудь достойным изумления, но он и не видел иных примеров. И Ирина, выросшая без отца, не видела тоже.
Они подошли друг другу.
– Как болт и гайка, – посмеивалась Борисовская, вкладывая в сравнение грубоватый подтекст, так ей свойственный, но все-таки была права. Материал, цвет, диаметр и резьба, если продолжать метафору, – все в Ирине полностью устраивало Арсения. Это было естественное и спокойное сосуществование.
Она всегда вставала на полчаса раньше, чтобы приготовить завтрак: яичницу, омлет, сырники, блины, рисовую кашу или овсянку с сухофруктами. Создавалось даже впечатление, что у жены есть расписание завтраков на неделю, которому она неукоснительно следует, но Арсений все забывал проверить эту догадку – или спросить. По крайней мере, по воскресеньям на столе точно оказывались оладьи с черникой и сгущенным молоком.
После завтрака он быстро собирался, чмокал Ирину в прихожей и торопился на работу, где оставался допоздна или, если выпадало дежурство, на сутки.
– У нас, как на войне, любовь урывками, – оправдывался он ей еще до свадьбы, вроде и со смешком, но исподтишка следя за ее лицом: быть замужем за врачом нелегко, сколько на его памяти уже пар поразводилось…
– Ничего, я умею себя развлекать! – безмятежно фыркала Ирина.
Наверное, так и было. Точно уже не сказать. Дни она проводила в краеведческом музее, вечера – на курсах, но к возвращению Арсения его всегда ждал ужин. Ира, выплывающая из комнаты или кухни с этой своей медленной улыбкой, будто не сразу узнавала мужа. С платком на плечах и книжкой в руке. Нужную страницу она закладывала пальцем или специальной вышитой закладкой. В это мгновение что-то в ней напоминало Лопухину с известного портрета Боровиковского. Та же задумчивость, то же мягкое лукавство и затаенные нездешние мысли. «Маленькая женушка» – вот как он ее звал. Она не переносила костей в селедке и оттого с недоверием относилась к новогоднему салату, в котором рыбу прикрывала неизменная свекольная «шуба», и еще не любила крепко заваренный чай, и он всегда вытаскивал из ее кружки чайный пакетик, поболтав им буквально пару секунд.
В глубине души он был рад-радешенек, что нашел исключительную женщину. Он ведь не дурак и не глухой: только и слышал в ординаторской, как врачи сетуют на склочных жен, а медсестры срываются на ком ни попадя в периоды плохого самочувствия или настроения. Отдельной статьей расстройств шли пациентки и их родственницы, но в силу специфики реанимации он видел в стрессовом состоянии и тех и других и списывал все на человеческую пограничную эмоциональность: мало кто держит удар, когда обрушивается горе или болезнь. Его же Ирина была здорова и начисто лишена недовольства, так ему казалось.
Три года пролетели совершенно незаметно. В первый год он так и не отгулял положенный отпуск, во второй Ирина упросила его съездить на море, но по возвращении пришлось взять подработку, преподавание вечерникам в институте. Гаранина очень нервировало обязанное и подневольное состояние, в котором он оказался из-за жилищной ипотеки, хотя Ирине он в этом и не признавался.
А незадолго до третьей годовщины со дня свадьбы вдруг вспыхнула ссора. На пустом месте, и оттого тем более кровавая, беспощадная и шокирующая.
Он задержался на работе: провели три операции, и надо было непременно написать отчеты, пока еще свежи воспоминания. Гаранин знал, что если не сделает этого в течение текущего дня, то за ночь (удивительное свойство его личной оперативной памяти) все сотрется до смутных припоминаний.
Возвращался он уже по темноте, гадая, спит жена или ждет его, сидя над очередной книжкой.
Она дожидалась его. Стол был накрыт праздничной скатертью с голубым восточным орнаментом «Пейсли», а волосы Ирины заплетены как-то иначе; в чем именно заключалась разница, Арсений не сообразил, но точно видел, что коса русых волос выглядит, будто вывернутая наизнанку. И, кажется, это платье он тоже ни разу не видел, но вслух предполагать не рискнул, потому что – вдруг старое, и тогда он предстанет перед ней невнимательным мужем из анекдота про брови и противогаз. Больше его занимало лишь мгновенное до липкой дрожи опасение: неужели пропустил годовщину? Да нет, еще две с половиной недели.
– У нас какой-то праздник? – оценив обстановку, осторожно поинтересовался он. Ирина ставила разогреваться курицу, и во время ответа он не видел ее лица:
– Нет. Просто у меня именины. Захотелось отпраздновать.
– Именины? А я и не знал. Мы разве их отмечаем?
Она пожала плечами:
– Нет. Говорю же, захотелось праздника.
– Тогда я тебя поздравляю, – он обнял ее и легонько потормошил. – Знал бы, принес букет.
– Что толку от букетов? Они завянут через неделю, а стоят целое состояние.
– Ты всегда так говоришь. И, как всегда, права. Рассудительная моя женушка.
– Угу.
Курица оказалась настолько вкусной, что Арсений попросил добавки и методично шевелил челюстями в молчании, погруженный еще в размышления о прошедшем дне. Третья операция с прободной язвой проходила не совсем гладко, с двумя внезапными кровотечениями, и все за операционным столом изрядно перенервничали.
Осознав, что ужин прошел в тишине, Арсений почувствовал себя неуютно.
– Так значит, именины, – решил реабилитироваться он. – А что это, день ангела?
– Нет, день ангела – это день ангела, а именины – совсем другое.
– А в чем разница?
– Ну… Именин бывает несколько в году. Это дни почитания святого, чье имя носит человек. А день ангела – это годовщина крестин. Потому что во время крещения Бог приставляет к каждому человеку своего ангела-хранителя.
– Вот оно что.
После ужина он решил сделать ей приятное и помыть посуду. Обычно она всегда говорила: «Я сама». Это касалось и уборки в доме, и стирки, и глажки. Ну, сама так сама.
Отскребая жир с противня, Арсений вдруг почувствовал на себе ее пристальный взгляд. Оказывается, жена не ушла в зал. Она стояла посреди кухни, сжимая в руках чашку, и глаза ее пылали:
– Ты вообще хоть что-нибудь ко мне чувствуешь?
– Ира, ты ли это? Я не узнаю вас в гриме, – пошутил Арсений. Но Ира не улыбнулась, и тогда он окончательно понял, что дело серьезное.
– Ириш, ты чего? – он выключил воду и вытер руки вафельным полотенцем.
– Ты можешь хоть раз ответить на вопрос?
– Что значит: хоть раз? Я всегда отвечаю на твои вопросы… И, да, конечно, у меня есть к тебе чувства. Я люблю тебя, вообще-то! Конечно, люблю…
– Конечно, – она качнулась всем телом. Вытянула вперед руку с чашкой и безвольно, с усталостью разжала пальцы. Не швырнула в стену, не заорала – просто позволила чашке выскользнуть из ослабевших пальцев. Белый фаянс, с нежной лиловой вязью по краешку, достиг пола и брызнул осколками. Ирина кивнула с некоторым удовлетворением и ушла в комнату.
Арсений не знал, что и предположить. Он замер и облизал пересохшие губы.
Прежде всего надо было убрать черепки, чтобы никто не порезался. Найдя веник, он смел острые кусочки в совок и вынес мусор к контейнеру во дворе, намеренно оттягивая момент разговора. Потом вернулся в квартиру. В носу еще стоял кислый запах летней помойки: гниющие овощные очистки и забродивший арбуз.
Ирина плакала в спальне.
– Ириш, что случилось? Расскажи-ка мне. – Он присел на край кровати и коснулся ее так, будто трогает удава или питона. С гремучей змеей он свою жену, к счастью, не сравнил даже мысленно. – Ну не плачь, родная моя. Тише, тише.
– Ты меня не замечаешь! Я будто пустое место, – в слезах, судорожно и горячо бормотала Ирина. – Ты приходишь, ешь, ложишься спать. И так каждый день. Зачем тогда я? Чтобы готовить еду и стирать белье? Ты даже никогда «спасибо» не скажешь. А ведь я стараюсь! Ты не замечаешь ничего. Вот хотя бы сегодня – ни нового платья, ни моей прически. А мне же хочется, чтобы мой муж меня ценил. Хотя бы иногда, хоть слово доброе!.. Курицу вот сегодня запекала, с можжевельником.
– Так вот что это было. Черные ягоды. Елкой пахли…
– Да, елкой. Это можжевельник. Но тебе все равно, хоть чем намажу!
– Нет, абы что я не одобряю… – Он поцеловал ее в макушку. Волосы пахли духами и жареной морковкой. Он хотел было возмутиться, что всегда благодарит ее за ужин, но сообразил, что это и правда не так. Это просто никогда не приходило ему в голову.
– Прости, Ириш. Очень вкусная курица. Ты же должна была понять, что она мне очень понравилась, я ведь добавки даже попросил.
– Да не в курице дело! Не в курице! Ты просто всегда встаешь из-за стола, а я остаюсь… Хоть бы «спасибо»!
– Но ты же не благодаришь меня за зарплату, которую я приношу, – мягко напомнил он. – Это само собой разумеется, муж зарабатывает, жена готовит. Таков порядок вещей.
– Порядок, может, и таков… Ты не понимаешь, совсем, да? – Она отстранилась и безнадежно взглянула ему в глаза. – Не понимаешь? Тебе все кажется, так и должно быть, все нормально… Я замерзла. Мне так холодно, Арсюш, так холодно.
Он чуть не оглянулся проверить, закрыта ли форточка. От волнения совсем перестал соображать.
– Я думала, что мы будем счастливы… – она громко шмыгнула носом.
– Ириш, так мы же счастливы! Я очень тебя люблю! Ну ты чего?
Голову наполнила такая раздражающая шуршащая пустота, будто вместо мозгов там вдруг оказался оберточный полиэтилен. Среди его полупрозрачных слоев никак не отыскивались нужные слова, и Арсений только обнимал жену, чувствуя, что ее слезы все же лучше обвинений в его адрес. А может быть, и нет.
Тяжко дыша, она отстранила его и неуклюже отползла к стене. От рыданий в подушку, вышитую бисером, у нее на щеке отпечатался точечный рисунок.
– И мне хочется этих чертовых букетов, неужели ты не чувствуешь?!
Арсений опешил:
– Зачем же ты тогда каждый раз говоришь, что не хочешь? Я же специально спрашиваю…
– Зачем ты спрашиваешь-то?! Это ведь так глупо. Покупать их и правда глупо. Но приятно получить хоть розочку, понимаешь? Знать, что я тебе не безразлична, что я не часть твоего интерьера. И не могу же я просить! Ты сам должен догадаться! Не спрашивать, а взять и купить, сказать: «Так соскучился, увидел эти лилии и понял, что они должны принадлежать тебе». Но ты так не делаешь. Это мне тебя, что ли, учить? В самом деле идиотизм! А выпрашивать я не собираюсь.
Как выяснилось, он совсем не понимал женщин. Всех вместе и эту в особенности. Хорошо, хоть сейчас узнал, подумал Арсений невесело. Он хотел что-нибудь ответить, но не подобрал мало-мальски разумных слов и потому лежал, прикусив язык.
Через час он погасил свет, заметив, что Ирина задремала в своем красивом зеленоватом платье, прикрыл ее пледом и ушел на кухню. Домыл посуду, даже не замечая тарелок и ножей, все его внимание было обращено внутрь себя, на слова Ирины и на их общую историю. Он все анализировал, раздумывал, сопоставлял. Тусклый августовский рассвет застал его таким же угрюмым и размышляющим.
Как только открылись магазины, он спустился и купил в ближайшем цветочном большую охапку белых лилий с одурманивающим запахом. Когда Ирина проснулась, цветы ждали ее в хрустальной вазе на ночном столике. У жены были припухшие от вчерашних слез веки и виноватая улыбка. Увидев букет, она засмеялась:
– Не надо было!
– Нет. Надо.
Был и еще один вопрос, требовавший немедленного разъяснения. Он прилег рядом.
– Ир… ты ведь… до сих пор не получаешь удовольствия, когда мы… занимаемся любовью. Да?
Она уткнулась головой в подушку:
– Арсений.
– Подожди… Согласись, между мужем и женой в этом вопросе нет ничего стыдного, ведь правда?
Когда он впервые об этом задумался, их браку не исполнилось и двух месяцев. Но тогда Ирина уверила его, что такое случается у женщин довольно часто, и проблема не в нем, а в ней самой, а ему не стоит даже обращать на это внимания. Теперь же он был почти уверен, что это важно, и обратить внимание все-таки стоило.
– Я буду стараться, – прижал он к себе жену, чувствуя, как она вся дрожит. – А ты ни о чем не беспокойся. Хорошо?
– Хорошо, – прошептала она, не смотря ему в глаза.
Это оказалось труднее, чем он предполагал. Шли дни, а в их постели лишь один человек удовлетворенно откидывался на подушки – он сам. И теперь его удовлетворение было неполным, с горькой примесью очередной неудачи. Ира краснела, иногда сердилась, иногда нервничала и расстраивалась, и он оставлял ее в покое.
– Может, мое тело просто не способно?.. – Ей было страшно, стыдно и неловко обсуждать с ним эту тему, проговаривать все вслух, ведь подобные вопросы не обсуждают ни в книгах, ни на лекциях в пединституте, да и в приличном обществе на них наложено табу, не говоря уж о маме-библиотекарше. А сам Арсений боялся, что, перестань он говорить, окончательно ее потеряет.
– Нет, с твоим телом все в порядке. Просто я должен научиться делать тебе приятно. Позволь мне.
Не решив этот вопрос с лету, Гаранин подошел к нему со всей присущей ему дотошностью: прошерстил несколько только появлявшихся тогда интернет-форумов, которые покидал с негодованием на человеческую бестолковость и грубость, и приобрел в магазине книгу по женской сексуальности. Ему не давал покоя образ Сергея Арнольдовича, который навряд ли стал бы заниматься всем этим. Но он – не его отец, и осознание этого факта воодушевляло Арсения.
Для того чтобы достичь цели, ему нужно было разобраться, кто она, его жена. Кто она внутри, в области невысказанных мыслей и фантазий. Хотелось залезть в ее голову. Пока же он уяснил только то, что она во многом ему не признается. Вот уж открытие. Борисовскую он решил не тревожить, ее взгляд на мир в этом вопросе никак не помог бы, да и неловко было обсуждать эту часть супружеской жизни, пусть даже и с подругой.
В один из выходных, когда Ира отправилась на свои курсы, он распахнул створки книжного шкафа. У самого его времени на художественную литературу не оставалось, и он обычно не заглядывал сюда. Но теперь ему в глаза первым делом бросились яркие обложки дамских романов. Для женщины, обладающей безупречным литературным вкусом, их насчиталось слишком много, почти целая полка. Арсений выбрал книгу с самой потрепанной обложкой – видно же, Ирина читала ее не один раз – и погрузился в чтение с самыми образовательными целями. Он хотел понять, как именно надо любить свою жену, чтобы она поняла, что он ее любит. Во всех смыслах.
И ему удалось. Не сразу. Но он раскусил, что ей надо говорить, как себя вести и что делать. Не всегда, но хотя бы изредка. Притом что механика его действий оказалась отнюдь не первостепенной.
Со временем Ирина перестала чуять подвох в его действиях. И однажды он был вознагражден. Все случилось именно так, как того хотелось…
Глядя на него слезящимися помутневшими глазами и тяжело дыша, она прильнула и горячо и обессиленно поцеловала его.
– Спасибо.
– Я тебя люблю, не забывай. А то мало ли, вдруг ты не знаешь.
Только теперь в его вены влилось долгожданное удовлетворение, принадлежавшее им обоим. Оно простиралось намного дальше, за пределы физических судорог и гормонального шторма.
Арсений и Ирина полежали, изучая узор обоев. Вечерело.
– Как думаешь, может быть, нам стоит родить ребенка? – предложил он, когда ее пульс под его ладонью выровнялся. Она вытаращила глаза, хихикнула и быстро-быстро закивала головой.
IV
С беременностью долго не складывалось. То, что в первые несколько месяцев представлялось волнующим предприятием, очень скоро утратило восторг новизны, и их большое Решение Стать Родителями обернулось хлопотами медицинского толка и подробностями чисто физиологического характера, в которых растворилась, растаяла магия продолжения рода. Гаранина это не обескуражило, а вот жена приуныла. Она часто стеснялась обсуждать с ним особенности своего организма, но он замечал, что Ирина волнуется, раз в месяц ходит пару дней грустная и какая-то неживая, и делал выводы, даже не спрашивая напрямую. Он тоже не хотел лишний раз тревожить ее своими вопросами.
Теперь Ирина крепко сдружилась с Борисовской: в руки другого врача Арсений доверить свою жену не пожелал. Ларка часто бывала у них в гостях, иногда с мужем, но чаще одна, и они выгоняли его из кухни, а сами распивали чаи и о чем-то болтали. Гаранин удивлялся, он не мог понять, что помимо медицинских приемов может связывать эфемерную Иру и грубовато-прямолинейную Ларису. Возможно, именно эта непохожесть их и притягивала, хотя Ларка частенько посмеивалась над Ирининой неиспорченностью:
– Как будто первый день замужем, честное слово, как девочка!
Ира вспыхивала, а Арсений грозил пальцем:
– Ты мне жену не смущай. Знаю я тебя.
В апреле, когда все живое восставало от мертвенного сна, на теплотрассах лезли желтые орды одуванчиков, окна первых этажей заслоняла помидорная рассада, а во дворе больницы пахло влажной землей, и не землей даже, а почвой, Ирина вдруг появилась на пороге его отделения (дальше не пустили) свежая, одухотворенная весной, с глазами-самоцветами и румянцем во всю щеку. То ли свет так щедро падал на ее личико, то ли все остальное этому поспособствовало, но он мог поклясться в эту минуту, что видит под тонкими покровами течение ее крови по капиллярам. Не красной крови, тут же поправил он себя, а той странной светящейся субстанции, которая одновременно и жидкость, и огонь, и называется жизнью.
– У нас получилось! – Она бросилась к нему на шею.
Он обрадованно вздохнул, прерывисто и неровно.
– Но ты уверена?
– Да, Лариса только что подтвердила! Четыре недели.
– Моя ты умница!
После ее ухода он еще чувствовал брожение света внутри себя, как будто их объятия объединили, и эмоции, и часть радости выплеснулись, перетекли из нее в него. Но вечером, по пути домой, стрелка его внутреннего барометра неожиданно поползла влево. Он не знал, что не так, и даже отказывался разбираться в этом. Все было хорошо. Скоро у него родится ребенок, но это произойдет через восемь месяцев, так что еще будет время, чтобы свыкнуться с этой мыслью и осознать ее в полной мере.
Даже женщинам сложно уяснить, что теперь все неуклонно меняется, и в их теле растет другая, неведомая еще жизнь. Но сама природа на их стороне, древняя сила инстинкта, помноженная на химию, сильнейшую химию в мире. Мужчины этого лишены, они лишь маячат на краю свершающегося рядом деяния. Они – на экваторе или на полюсе, в то время как женщины бурлят и плавятся в самом ядре, окутанные раскаленными слоями алой магмы, чтобы однажды полностью переродиться. И хоть внешне этот процесс взгляду постороннего и вовсе незаметен, пусть это никого не вводит в заблуждение: процесс глобален, он затрагивает каждую молекулу организма и каждое движение души, каждую мысль, страх, мимолетное сомнение и каждый восторг. Все то же, и все уже изменилось бесповоротно.
Гаранину как мужчине, как человеку и как врачу сложно было уяснить перемены, но он старался. Он не мог бы выразить в словах, что думает и ощущает, потому что ясного и цельного мнения об этом не составил. Порой ему казалось довольно глупым оживление Ирины, ведь вокруг полно беременных женщин, и в этом естественном состоянии нет ничего такого уж удивительного. Иногда он готов был расцеловывать каждый сантиметр ее тела, волшебного и чудесного сосуда с сокровенным содержимым. В эти минуты она казалась ему живым Граалем. Бывали дни, когда ему хотелось поскорее сбежать, потому что Ира становилась не в меру плаксивой и упрямой, и эта женщина мало походила на его благостную жену. Но он мысленно напоминал себе, что она такая – из-за него, ведь это же его ребенок растет в ней, и стремление было обоюдным. И тогда он начинал волноваться, поскольку прекрасно знал, как уязвима беременность и как часто что-то в этом отлаженном процессе идет не так. На самом деле удивительно часто, если сравнивать с другими природными функциями человеческого организма. С медицинской точки зрения это немало его обескураживало. Он, к счастью, был не из тех, кто равнодушно пожимает плечами и вспоминает минувшее, когда «в поле рожали, и ничего». Очень даже «чего», знал Гаранин наверняка.
Одно можно было сказать точно – покой и размеренность его жизни были утрачены, а вот навсегда или временно, Гаранин пока не понимал.
– О, помню, когда я ходила беременной Арсением… – Мать, заглянувшая в гости к ним, что случалось крайне редко, с одобрительной улыбкой оглядела Ирину. – Меня постоянно тошнило. Причем это даже не физическое было ощущение. Просто было тошно, от всего! И без Сергея я чувствовала себя ужасно одиноко, мне постоянно хотелось видеть его рядом. Вцепилась в него. Я и работала-то до последнего, только чтоб в декрет не уходить, его одного на работе не оставлять. А он тогда готовился к защите докторской. Я ночами перепечатывала его рукопись на печатной машинке «Любава», в красной такой коробке она хранилась, как сейчас помню… И постоянно западали клавиши Л и Д. А стук стоял такой, что соседи жаловались, и мы однажды крупно поскандалили. Потом я бегала, договаривалась по поводу банкета после защиты, развозила рукописи в переплет, рецензентам, искала букеты. В декабре их найти было сложно, не то что сейчас, на каждом углу…
– В общем, совсем ты себя не щадила, – кивнул Арсений.
Елена Николаевна приподняла бровь:
– А чего щадить-то? Дело, знаешь, нехитрое. Долго, муторно, больно, но со всеми бывает. А вот докторская диссертация случается только с избранными. Здесь мозги надо иметь… И вообще, знаешь, главная ошибка женщин – когда они после рождения ребенка забывают про мужа. Но я считаю, мне удалось совмещать роль жены и матери. Видишь, какой ты вырос.
После этих слов свекрови Ирина взглянула на мужа лучистым взором, и Арсений решил не спорить с матерью вслух, хотя сам имел иное мнение на этот счет.
Время шло, уже и живот у Ирины стал постепенно вырисовываться, когда Арсения отправили на трехдневный семинар по детской реанимации и анестезиологии. Ехать нужно было в Москву.
– А можно как-то отказаться? – примчался он в кабинет Шанели. – У меня Ира беременная…
– Слушай, Арсений Сергеич, ну имей ты совесть. Это ж госпрограмма! Дорогу и проживание оплачивают. А потом по итогам семинара будем подавать запрос в областную администрацию на новое оборудование во второй оперблок. И напирать станем именно на то, что у нас работают передовые специалисты. То есть ты!
Ирина, наоборот, восприняла новость с энтузиазмом:
– Я тоже поеду! Никогда не была в Москве.
– И не будешь. Пока. Потому что ты остаешься дома, – категорически отозвался Гаранин.
– А вот и нет. Я поеду.
– Мне оплачивают дорогу, тебе – нет.
Как будто это было веским основанием… Ира так не думала:
– Велика важность. Мы вполне можем себе позволить немного потратиться! Зато не расстанемся.
Арсений попытался воззвать к ее благоразумию: в ее положении… Но жена отметала все его аргументы. Беременность – не болезнь. Чувствует она себя замечательно, и нет никаких врачебных оснований отказывать себе в маленьком вояже. Кроме того, с беременными женщинами спорить нельзя, дабы не расстраивать. Последнее утверждение, озвученное вкупе с негодующе-смешливым взглядом, заставило Арсения улыбнуться. И согласиться.
Он ничего не предчувствовал и ничего не заметил. Первые два дня семинара пролетели, Ирина была весела и, пока он пропадал на занятиях, посетила пару музеев, о чем рассказывала за ужином в ресторане гостиницы где-то в спальном районе. Ни о каких недомоганиях она не упоминала.
А ночью он проснулся от какого-то мокрого звука, вроде стиснутого вздоха через силу.
– Ира… – Он щелкнул цепочкой настенного светильника в изголовье. Жена лежала бледная, с искусанными губами:
– Арсюша, вызови «Скорую».
Он откинул белый жесткий пододеяльник с коричневым штампом гостиницы и увидел поблескивающее под Ириными ягодицами пятно уже не впитывающейся в тонкий матрас крови.
V
Той осенью горели не только костры, и не только горечь от их дыма стелилась по городу.
Физически Ирина уже восстановилась. Но Гаранин знал, что потеря ребенка пробралась и осела в областях куда более глубоких и темных, чем тело. Он и сам это пропустил через себя.
Его никто не утешал, никто ему не сочувствовал, только в паре с женой – или только ей одной. Как будто это была исключительно ее утрата. Сначала – возможно. В первые несколько дней он волновался только за Ирину, за ее здоровье. Он знал наизусть, конечно, и все ее показатели по анализам, и объем кровопотери, и дозировку лекарств. При первой же возможности они вернулись из Москвы, которая в памяти его теперь навсегда осталась городом невыносимой, никак не кончающейся ночи, солоно пахнущей медью. И по возвращении Арсений сделал все мыслимое, чтобы здоровье жены наладилось как можно быстрее.
Но чем больше утекало недель в воронку обыденности, тем острее становилась его тревожность, больше похожая на кошмар, в котором все в таком идеальном порядке, что даже страшно, и только под ложечкой – противное сосущее чувство без названия и даже без четких границ. Как будто гудит тонкая пружина или дребезжит варган[6].
Ирина вернулась в музей и на курсы, Арсений снова пропадал в больнице, ввязываясь во внеурочные дежурства, заменяя приболевших коллег, и часто проводил на работе выходные и ночи. Борисовская однажды высказала ему в лоб, что думает об этом:
– Ты совсем оборзел, товарищ. Ты здесь поселился, что ли? А Ирка там одна? Перестань быть скотиной.
– Лариса, у меня много дел, и мои обязанности никуда не делись.
– Ну да, еще бы. Только вот твои обязанности не только здесь. Больница без тебя не рухнет, я проверяла. А вот жена твоя…
Он мысленно отключил у Борисовской звук. Она что-то еще вещала, взмахивала крепкой ладонью, хмурилась, патетически закатывала глаза, но он не слышал ни слова. Зачем? И так уже было говорено-переговорено. И с Ирой тоже.
Он сказал ей, что они оба ни в чем не виноваты. Ему, правда, хватило такта не заявлять, как Сергей Арнольдович: «Развели трагедию. Еще нарожаете! Люди вон с того света выкарабкиваются! С сердцем пересаженным живут, без ног, без рук. А у вас выкидыш, и плач Ярославны устроили… Такая уж нынче молодежь пошла хлипкая».
Никакого плача, справедливости ради, они не устраивали, просто отказались приходить на отцовский юбилей, который совпал со второй неделей их совместного горевания. На торжество собралось чуть не полгорода, от верхушки горбольницы до заместителя мэра, сыну которого Гаранин-старший когда-то заменял сердечный клапан. Ни мать, ни отец не приняли отсутствия Арсения с женой, однако Елена Николаевна, по своему обыкновению, выбрала молчание. А вот Сергей Арнольдович не утерпел, высказался, и хорошо еще, Ирина этого не слышала – разговор шел по телефону.
Арсений не собирался ничего никому объяснять: если душа не подсказывает, то и к чужим подсказкам не прислушается. Но внутри он негодовал от одного только обычно сочувственного замечания: «Какие ваши годы, еще нарожаете детишек». Чертовы умники! Ему хотелось орать на таких доброжелателей крепким деревенским матом, хотя он и знал, что так говорят не по злобе, а от недомыслия. Еще детишек? Возможно. Но именно этого, первенца, мальчика, которому были уже приготовлены свалянные Ириной из шерсти зайчик и медвежонок, которому уже было выбрано имя, – его никогда не будет. Он умер и не оживет, и этого не исправить. Смерть – она единственное неисправимое, что есть в сущем.
Осознание настигло Арсения много позже, чем Ирину. Раньше, еще до женитьбы, ему казалось, что выкидыш – это потеря беременности, обезличенного состояния приготовлений. Он, за время работы повидавший на операционном столе не одну сотню беременных, считал, хоть и молча, что мужчина к этому процессу почти никак не относится, ведь его инстинкт еще не проснулся, и вся вовлеченность в сотворении новой жизни с его стороны сводилась пока к обычному участию в естественном, хоть и довольно приятном, акте. Теперь Арсений понял, как заблуждался. Он переживал потерю не беременности, а своего ребенка, и переживал ее хоть и бок о бок с Ирой, но все-таки в одиночестве.
Ему не хотелось бередить ее раны еще и своей слабостью. Он ведь мужчина, следовательно, не должен показывать своих переживаний. Мальчики не плачут. Мужское дело – обеспечивать семью или то, что от нее осталось. Этим Гаранин и занимался, днюя и ночуя на дежурствах. Кроме того, он со стыдом считал, что так переживать едва ли позволительно даже внутри, никому не показывая. Этим он, как и намекал отец, обесценивает страдания других людей, куда более глубокие: например, страдания родителя, потерявшего своего ребенка, который родился и уже рос какое-то время у него на глазах. Да вот только каким измерительным прибором обнаружить, насколько одно горе тяжелее другого? И кому горевать можно, а кому стоит взять себя в руки, и как это сделать, когда внутри что-то каждый день бьется на острые кусочки?
Только однажды он не сдержался. Руки вцепились в кору пламенного клена. Это оказалась набережная, самый край, где закончились и асфальт, и пешеходная дорожка, а вдоль реки тянулись заросли ракитника и осоки. Прямо перед ним расстилалась медленная свинцовая вода, влекомая прочь за горизонт давним, неведомо кем придуманным законом. Арсений почувствовал боль в кончиках пальцев, и при осмотре обнаружил, что три ногтя сорваны до крови, а под один еще и щепка вошла. Он вытащил щепку зубами, пососал ранки с мстительным удовлетворением, зная, что так делать нельзя, ведь в слюне столько заразы… И расплакался.
Даже на похоронах бабули Нюты, а за год до того – Толика – он держался. А тут не успел, и слезы потекли сами собой, а из горла вырвалось почти детское, безутешное хныканье. Он зажал ладонью рот и отвернулся к кленовому стволу, ткнувшись в шершавую древесину лбом, но все равно не мог унять рыданий. Вдруг всплеснулось и обожгло душу то, что так долго сидело под замком, и в голове бешеной перемоткой замелькали бледные Иринины губы, убитые глаза, кровавое пятно, его собственные руки в ее крови, серый зайчонок с ушами до пяток, соседская коляска, пристегнутая к перилам подъездной лестницы, летний крик во дворе: «Пап! А кинь мне из окна мячик!» Кому-то, но не ему… И бледные, как смытые фотоснимки, образы из его собственного детства: как он со своим приятелем Артемкой и его отцом плывут на лодке за лесными орехами; как мать разматывает магнитофонную пленку с любимыми его песнями, чтобы он не шумел и садился за уроки; как в пять лет он дарит папе рисунок, а тот черной ручкой исправляет пропорции нарисованных там гуашью человечков и сует в ручонки Арсения анатомический атлас:
– Чтобы знал, как правильно.
Теперь ему было тридцать три, и он не знал, как же все-таки правильно. Как?
VI
Они больше не смогли зачать ребенка, как ни старались. Борисовская ощупала и осмотрела Ирину со всех сторон, но так и не нашла причины.
– Все проблемы – в голове, – назидательно заявила она и отправила подругу домой: становиться счастливой.
Но было поздно. За эти два года что-то поменялось в их отношениях, в том, как они смотрели и обращались друг к другу. Как будто ранние заморозки прихватили цветы в саду. Гаранин корил себя, что не может поговорить с Ирой, высказать все, что так просится наружу. Кроме редких слов утешения она ведь ничего от него так и не получила: ни признаний, ни откровений; а на его поцелуи отвечала без особого пыла. Но вместо того чтобы взять ее руку и сказать: «Знаешь, мне тоже горько, но мы справимся, родная», – вместо этого он с замиранием сердца ждал, что вот-вот она снова прибежит к нему в больницу, радостная, как тогда. И эту серую страницу можно будет перевернуть. Но дни сменялись днями, а их книга так и оставалась открытой на том же самом месте, и буквы в ней блекли, а листы покрывались не то пылью, не то сажей.
Постепенно Ирина стала почти прежней, или это он уже не помнил ее другой. Она устроилась вести курсы еще и во Дворце культуры. Выплаченная до конца ипотека освободила их от ярма, и супруги стали выбираться в отпуск за границу. Крит, Мальта, Греция, Тунис и Марокко – Ирина любила жаркое и вкусное Средиземноморье, масляно-пряное, с его мавританским восточным духом, громкими голосами и белыми стенами глинобитных домиков. Она везла оттуда шали с шелковыми кистями, расписные тарелки, мозаичные панно. И даже комод с потертыми углами – его она вымолила у мужа со слезами. Арсению мысль везти из отпуска мебель показалась чудовищной, но Ирина закатила такую истерику, что он испугался и договорился о доставке. Стоило это целое состояние.
Он не сразу заметил ее истончение: жена всегда была хрупкой и будто бы наполовину прозрачной. А многолетняя задумчивость сделала ее и того тоньше.
– Ты уже поела? – спросил он как-то вечером, заметив, что она едва поклевала рис с овощами, а к мясу даже не притронулась.
– Не хочется, – улыбнулась она. – Ты же знаешь, я экономная.
– Это точно.
Но через месяц стало очевидно, что с Ириной происходит неладное. Она вдруг, за несколько дней, осунулась и посерела, и одежда обвисла на ней сброшенной змеиной кожей.
– Ира. Ты как себя чувствуешь в последнее время? – встревоженно принялся допрашивать ее Арсений. Жена нехотя признала:
– Да вот бок побаливает…
– Давно?
– Да. Давно.
– Что же ты молчала? Где болит, как? Опиши. Ляг, я посмотрю.
Про такие случаи говорят «сгорела». Ирина сгорела за девятнадцать дней – ровно столько прошло с того момента, когда она призналась, что болит бок. Гаранин не мог даже помыслить, что его жена осознанно терпит боль и ничего ему не говорит. Она спит рядом с ним в кровати, покупает нурофен в аптеке на углу, возле продуктового, и глотает по несколько таблеток, потому что уже не помогает, она готовит ему ужин и – по воскресеньям – неизменные оладьи с черникой. Но не говорит ему главное, единственно важное. Он был в гневе, в отчаянии, потом в смятении, и страх заполнил его целиком, когда он увидел снимки и обнаружил, что ничего уже не исправить.
Снова ничего не исправить.
Много позже он прочел в колонке психолога Катерины Мурашовой рассуждения о том, что рак – это аутоагрессия, и люди заболевают онкологическими болезнями в среднем в течение года после того, как в голову им приходит желание умереть. Он прочел, и вздрогнул, и прямо перед собой увидел белесый, как выгоревшая за лето ткань, взгляд Ирины.
VII
Из оранжевой тетради в синюю полоску:
«17 мая. Три дня из каждых двадцати восьми я не умею готовить. Совсем. За что бы я ни взялась, все обязательно идет кувырком, пригорает, сбегает с плиты, пересаливается, недоваривается и сворачивается в комки. Как будто сами блюда действуют по им только ведомому стремлению к самоуничтожению. Хотя виновата, конечно, я, и не собираюсь ни на кого – и ни на что – перекладывать свою ответственность.
Сегодня как раз один из таких дней. Ванильно-черничный пудинг прилип ко дну кастрюли и обиженно запыхтел, превратившись в какую-то клейкую лепешку.
Я знаю, как исправлять ошибки кулинарии. Это знает любая придирчивая хозяйка и любой мало-мальски приличный повар. В пересоленный суп опустить марлечку с рисом, дать лишней соли впитаться и вынуть. Если заварное тесто слишком густое, сделать порцию жидкого и смешать обе части в одну. Если бульон сбежал и по нему теперь вовсю путешествуют серые медузы из свернувшейся пены, – процедить его через мелкое сито, мясо промыть, и доварить бульон с целой луковкой и морковью. Если соус бешамель получился комковатый, снять его с огня и перебить блендером на низкой скорости – и пусть меня сживут со свету французские шефы… но ведь работает же! Слишком жесткое или пересушенное мясо всегда можно потушить с овощами, а в слишком жидкие соусы добавить щепотку муки. И мокрое полотенце всегда заберет запах гари, если я вдруг недосмотрела (хотя такого почти никогда не случается) за кастрюлей жаркого. А если пирог пристал к форме, то мокрое холодное полотенце, приложенное ко дну формы снаружи, поможет ему отстать. По блинам сразу видно, что не так с консистенцией: если слишком бледные, значит, недостает сахара, прилипающие – масла, рвущиеся – яйца, плотные и без дырочек – соды. Только на соль надо попробовать, потому-то я всегда хватаю и жую первый блин.
Но некоторые моменты никак не исправить. Вот тот же пудинг. Или если в белок для взбивания попадает капелька масла, или простой воды, или желток: сколько вокруг ни пляши, он больше не взобьется. И крем для торта безнадежно испорчен, если сгущенка была холодной, а масло теплым, и при взбивании они расслоились на жижку и хлопья. С расслоившимися кремами всегда такая история – их не спасти.
И тогда нужно просто посмотреть правде в глаза. Признать поражение. Выбросить. И начать заново, не оглядываясь и не сомневаясь, что во второй раз получится. Хотя и следить при этом, чтобы прежние ошибки уже больше не пролезли в новую реальность.
20 мая. Я люблю смотреть на дождь. Неважно, летний или осенний. Когда он сильный и струи, будто белье, отделяют меня от всего, что вокруг.
Я не люблю березы. Они мне кажутся какими-то глупыми. Нет в них никакой нежности есенинской, одна бестолковость. Я не люблю, когда в кино люди чистят зубы зубной щеткой без пасты. Ну кто так делает в настоящей жизни? Откуда же тогда берутся все эти супружеские разборки о том, кто не закрыл тюбик и почему все зеркало в брызгах? Хотя, конечно, я мало что понимаю в супружестве вообще и в разборках в частности.
Я боюсь… охладеть. Стать равнодушной. Страшнее всего перестать замечать течение жизни вокруг, ее переменчивость. От плюса к минусу. От «больно» к «хорошо». Если нормально – значит, никак.
23 мая. Мне нужна любовь. Я теперь готова. Я чувствую запах парфюма проходящих мимо мужчин. В темноте майских переулков их неразличимые лица рисуются моим воображением до дрожи отчетливо. Кажется, вот-вот из тьмы на перекрестке выйдет Он, тот самый, единственный в своем роде. Существует ли Он в принципе или это сказка, которую придумали в давние времена такие же горе-мечтатели, какие и теперь живут среди нас?
Весна будоражит не только меня. Посетители по вечерам сыплют комплиментами в мой адрес, по большей части весьма сомнительного свойства. Хотя вчера я познакомилась с Виталиком, милым и приятным человеком. У него добрые глаза. Я запомнила его еще с прошлой недели, когда он заходил и брал крем-брюле (о да, лимитированный выпуск – от меня) и ромашковый чай. Запомнила, потому что он единственный на моей памяти мужчина, который пьет чай из ромашки. А вчера заказал свой чай и «Наполеон». Очень он его хвалил, так и разговорились. Да и хвалил он его не зря, это и не «Наполеон» никакой вовсе, а настоящий «Шантийи».
Сегодня в полдень наш грузчик Заур притащил мне кулек черешни. Для нее еще слишком рано, но какая же она была сладкая! Я позвала его присоединиться, и мы лопали черешню, сидя на заднем дворе на бордюре и болтая обо всем на свете. И мне было очень-очень хорошо.
Я знаю, почему переехала сюда и оставила за кормой свою прошлую жизнь. Мне вдруг до ужаса живо представилось будущее, согласись я выйти за Глеба. Все дальнейшее было б расписано, как я уже видела не раз и не два.
Пара ящиков водки, купленных на свадьбу. А я ведь даже запах ее не переношу. Я в белом платье из магазинчика на углу Урицкого и Фурье, Глеб в праздничном костюме, местная алкашня, которая перегораживает переулок и требует выкупа или чекушку «за здоровье молодых». И дай бог, чтобы среди них не оказалось моей мамы.
Потом я забеременела бы, и Глеб купил бы мне шубу. Я родила бы ребенка, ушла в декрет, и поначалу все было бы нормально, а затем хуже и еще хуже. Наконец, от безысходности я решилась бы еще на одного ребенка. Ведь надо же как-то оправдывать свое существование…
И вот тут – стоп. Эта мысль остановила меня на полном скаку, как удар хлыста, и я замерла, чуть не полетев кувырком через голову. Потому что никакая сила в мире не заставит меня дать жизнь другому человеку от отчаяния, безысходности или скуки. Только не меня.
Тогда-то я и уехала.
1 июня. Перечитала предыдущую запись. Наверное, так на меня подействовал грядущий День защиты детей, который как раз сегодня. Уговорила Машу объявить неделю советской выпечки. Орешки и вафли с варенкой, коржики, сочни с творогом, слоеные трубочки с белковым кремом, пирожное картошка и эклеры, те самые, в обсыпке, как из «Ералаша»… Еда – это не просто пища, это – маховик времени и пространства. Салат «Оливье» по старинному рецепту (тому, который первоначальный, с раковыми шейками и икрой) перенесет в эпоху ослепительного модерна, гречка по-купечески – в трактир гоголевских времен, а вот эти эклеры в обсыпке – в мое детство, в котором никаких эклеров не было и в помине, только телевизионная заставка на синем фоне и песенка «мальчишки и девчонки, па-ра-па-ра-па-пам…»
Люди часто спрашивают, в чем смысл жизни. Такая глупость! Будто никто не видит, что мы САМИ создаем смыслы, и это наше предназначение. Создавать смыслы. Как красиво. Что может быть красивее этого всепоглощающего созидания? Эта мысль не совсем моя, конечно, так однажды сказал мой любимый Доктор, не помню, в каком сезоне. Он рассуждал о людях – землянах, о том, что нам мало просто жизни на нашей потрясающей планете, мы еще и сочиняем песни, пишем, танцуем… Мы создаем смыслы. И в этом мы – почти божества…
VIII
«…Мой любимый Доктор…» – перечитал Арсений. Он не особенно понял, о ком шла речь, но в эту секунду был рад, что тоже – доктор. Хотя радоваться было нечему. Но эта мысль согрела сердце, и он впервые за день почувствовал себя лучше.
Он не последовал наказу Борисовской и ксерокопии тетрадки Жени Хмелевой так и не выкинул. Точнее, сунул в корзину, а спустя полчаса прибежал в кабинет и с облегчением увидел, что техничка еще не успела вынести мусор, и выудил листы.
Сейчас он был этому рад, как будто удалось перекинуться парой слов с давним другом.
День выдался тяжкий. Утром на повышенных тонах поговорил с начмедом, потом заглянул в палату, где лежал мальчик Миша, потерявший родителей в автоаварии. Тот, с рыболовным крючком в ладони. Его состояние было удовлетворительным, и Гаранин собирался оформлять ему перевод из реанимации.
– Где мои папа и мама?
Ссадина на лбу уже покрылась крепкой корочкой, и прямо из-под нее на Гаранина смотрели большие требовательные глаза.
– Тише, тише. Помолчи немножко. Вечером тебя переведут в другую палату. У меня хорошая новость, в интенсивной терапии ты больше не нуждаешься. Теперь надо сосредоточиться на полнейшем выздоровлении. Ладно?
Арсений старался говорить бодро и быстро, чтобы переключить маленького пациента на его собственную персону. Про себя он чертыхался: кто-нибудь мог бы уже и сказать про его родителей. Да вот только кто? – резонно возразил он сам себе. Медсестры предпочитают увиливать от прямых вопросов, это не их дело и не их прямые обязанности, а остальным путь в реанимацию заказан. Остается только он сам.
– Где они? – уперся мальчик.
Ох. Гаранин вовсе не был уверен, что способен на нужные слова. Он совершенно не умеет общаться с детьми. Тем более с пережившими аварию. Тем более с теми, чей мир в одночасье рухнул и больше никогда не восстановится.
– Они ведь умерли, да? Совсем умерли?
Арсений остановился и внимательно посмотрел на мальчика. За дни, проведенные в больнице, он сильно потерял в весе, и его лицо казалось непропорционально маленьким под копной черных кудрявых волос, растрепанных и давно не расчесываемых никем.
– Мама бы обязательно пришла. И папа. Они бы пришли ко мне, если бы не умерли! – проговорил он убежденно и почему-то обиженно, и, когда его губа задрожала, он упрямо ее прикусил и нахмурился.
Гаранин подошел ближе и постарался сказать как можно ровнее:
– Да. Их больше нет с нами. Мне очень жаль.
И поскольку Миша ничего не ответил, продолжая хмуриться и выпячивать челюсть, Гаранин вспомнил все, чему учили: поскольку дети, теряющие родителей, вместе с ними утрачивают и весь прежний мир, прежде всего они чувствуют угрозу самой их физической жизни (по аналогии с отлучением от материнской груди). Поэтому им надо непременно обрисовать новые обстоятельства как можно подробнее, чтобы возникло чувство, что новая жизнь так же возможна, как и старая, и она вот-вот начнет претворяться в реальность. И что теперь ничто не угрожает физическому существованию. В детском возрасте психологическое горе вторично, как бы там ни виделось с колокольни взрослого человека. Именно поэтому четырехлетка пойдет играть в машинки там, где молодую вдову придется откачивать нашатырем и пощечинами.
– Когда тебя переведут в палату, тебя можно будет навещать. А полиция уже сейчас ищет ваших близких. У мамы и папы ведь есть друзья? Я знаю про твою бабушку, она сильно болеет, да? Ее переведут в медицинское заведение, там ей помогут. А тебя тоже не бросят, ты не волнуйся. Есть специальные люди, организации по делам ребенка, они наладят твою новую жизнь. Сначала придут в больницу и поговорят с тобой, и вы вместе решите, как поступить дальше.
Он был бы и рад говорить с Мишей более ясно, но сам не представлял его будущего четко, а врать не решался. Если найдутся какие-то знакомые, готовые оформить опеку, – хорошо. В противном случае…
– Главное для тебя сейчас – выздороветь.
– Ага, как же!
Миша нехорошо клацнул зубами, и в следующий миг его так затрясло, что Арсений на долю секунды испугался, нет ли передозировки препаратов.
– Как они могли умереть и бросить меня?! – почти выкрикнул мальчик, глотая злые слезы. – Они же обещали! Вы все врете только. Говорите и никогда потом не делаете! Какие вы взрослые тогда? Уроды, вот вы кто! Уроды!
Неприкрытая агрессия. Значит, психологически Миша уже перешел в разряд подростков, именно так они и реагируют на ужасную весть. И обширность горя, с его точки зрения, была неизмерима: он больше не ребенок и никогда им не станет. Подростки – уже почти взрослые, и смерть для них так же непоправима, черна и безысходна, каковой и является в действительности. Гаранин ничем не мог ему помочь.
– Поверь, я очень тебе сочувствую, – примиряюще произнес он. – Если тебе нужно поговорить, поплакать, я рядом. Я всегда здесь. И в больнице, и… вообще.
– Отвали.
Арсений вздохнул. Уходя, он только убедился, что в порыве гнева Миша не вырвал внутривенный катетер от капельницы, но тот надежно держался, прилепленный квадратом белого пластыря.
За дверью Арсений постарался взять себя в руки. Не в первый и не в последний раз ему пришлось сообщать трагическую новость, и уж точно не в последний раз на него повысили голос. Что уж делать, привычный он к этому. Такие эмоции неизбежны, они со времен рождения человечества идут рука об руку с болью, страданием и смертью. И как в эллинистической традиции загадочный Германубис соединил в себе черты несущего вести крылатого греческого Гермеса и проводника душ египетского Анубиса, так и он бродит по своей горбольнице, наполовину вестник, наполовину – Психопомп[7], но никому – не Спаситель.
Возле первого бокса он, скорее по привычке, прислушался, ожидая ощутить только мягко выстилающуюся оттуда ковровой дорожкой тишину, но неожиданно различил голоса. От радостного еканья в сердце по всему телу брызнули искры, так что в ладонях мелко закололо, и он торопливо приоткрыл дверь.
Но Джейн, или, вернее, Женя, лежала все так же недвижимо. А возле кровати Баева стояла Вера Ромашова и девочка-практикантка из медучилища – кажется, Оксана. Одной рукой она держала иглу от системы, уже без колпачка, а второй дезинфицировала локтевой сгиб старика. Его плечо было перетянуто жгутом на подкладке.
– Пунктируешь вену и освобождаешь жгут. Давай, – велела Ромашка. – Прочувствуй кожу и вену.
– Вера…
И Ромашка, и Оксана встрепенулись как-то по-особенному, виновато, и Гаранин начал понимать, что тут происходит.
– Где назначение на эту капельницу, Вера? – сощурился он.
– Арсений Сергеевич…
– Вера. Где. Назначение.
– Это просто физраствор…
– Ко мне в кабинет.
Как же он кричал… Арсений не мог бы определить, что взбесило его больше: то, что Вера учила практикантку ставить капельницу на коматознике, то, что они капали физраствор в обход назначения, или то, что все это происходило в палате Жени и могло касаться лично ее. Неужели и она была одной из подопытных?
– На ком еще вы тренировались, а? На той, что после аварии? На Хмелевой? Да или нет? Отвечай мне.
– Нет! – с силой бросила Ромашка. – Арсений Сергеевич, я же не дура, я смотрю, кому что можно делать. У нее отек и почка едва справляется, куда ей еще жидкость… А Баеву можно. Пусть девчонка потренируется. Ей же с больными потом работать.
– И поэтому что? Будем колоть бессловесных, которые сами за себя заступиться не могут?
– Ну, бабка из восьмой так разохалась, когда девчонка ей мимо вены промахнулась и стала под кожу вливать…
– Еще бы! Это же грубейшая ошибка.
– Она только учится. Мы вот, помню, друг на друге с однокурсниками учились… Все вены были в отметинах. А здесь ведь практика, в больнице…
– Вера! Вера! Ты сама себя слышишь? Это же вопиюще. Неприемлемо! Здесь люди не просто так лежат. Они не здоровые, понимаешь ты это? Они не давали никакого согласия. У тебя-то с каких пор мозги не работают? Да хоть исколите всех бабок в округе – но только с их согласия, а не так вот, без спросу. Себя исколите – мне все равно. А тыкать иглами коматозников – это низко. Низко, говорю! Позор! Я от тебя – от тебя! – такого не ожидал.
Ромашова вознамерилась что-то сказать, но он не чувствовал в себе сил больше слушать.
– Свободна.
Ромашка фыркнула и мгновенно исчезла. Арсений тоже не смог больше оставаться в отделении и вышел, страшно зыркнув на притихших постовых медсестер.
У лестницы его окликнули.
– Извините! Арсений Сергеевич?
Пришлось снова подняться на пару ступеней. На лестничной клетке ждал молодой человек. Завидев Гаранина, он огладил аккуратно постриженные русые волосы и грустно улыбнулся. Его карие, широко расставленные глаза придавали приятное и располагающее выражение лицу, круглому и мягкому, при общей худощавости телосложения – такое бывает у склонных к полноте людей, усиленно держащих себя в форме.
– Здравствуйте. Меня зовут Станислав.
Теплое и спокойное рукопожатие.
– Чем могу помочь, Станислав?
– Да вот, видите ли… Мне сказали, у вас лежит моя сестра.
– Возможно. Кто она, как ее зовут?
– Хмелева, Евгения.
Арсений замер. Станислав, не заметив произведенного этим именем эффекта, ждал ответа и вынудил Арсения согласиться вслух:
– Да, есть такая.
– Можно мне ее повидать? – Карие глаза стали просящими.
– Я… Э… вообще-то у нас не разрешаются посещения.
– Да, я понимаю. Знаю. Просто… Мне не так давно сообщили.
– Я не знал, что у Жени есть брат.
– Да, в полиции тоже этого не знали. У нас мать… Знаете, она сильно пьет. Конечно, такое не принято говорить, но сейчас не та ситуация, чтобы умолчать. Я поэтому так долго не появлялся, не был в курсе, она толком ничего сказать не могла. Сам-то служу, в радиовойсках, контрактник, под Пензой… Приехал, как только смог.
– Понятно.
– Вы не пустите меня? Хотя бы на пару минут. Как представлю, что она одна…
– Вы очень близки?
– Ну как сказать «близки»… У нас с ней всего пара лет разницы, но, сами знаете, мальчишки и девчонки – всегда немного врозь.
– Да, наверное…
Появление Жениного брата обескуражило Арсения. Он никак не ожидал, что у нее есть кто-то родной, она всегда представлялась ему одиночкой, крохотной лодочкой в житейском море, которую вдруг закружил злой водоворот.
Станислав ждал от него решения, но Гаранин почему-то медлил. Ему не хотелось пускать этого человека к сестре. Вдруг в сердце кольнула и разлилась жгучая ревность. Он так свыкся с тем, что во всем мире только он сам – единственный человек, кому небезразлична ее судьба, что теперь, встретив Жениного брата, отказывался принимать этот очевидный факт: Станислав имеет право. Он имеет больше прав на Женю, чем сам Арсений, намного больше. Чтобы уяснить это, Арсению понадобится передышка.
– Пойдемте, прогуляетесь со мной. Вы ведь хотите знать, как обстоят дела с вашей сестрой?
– Конечно, – оживился Станислав. – Конечно, хочу, а как же?
IX
Довольно глупо было вести этого парня за собой по обычному маршруту.
«Надо было или пустить его к сестре, или отправить восвояси, но уж никак не тащить на прогулку, – твердил сам себе Арсений, спускаясь впереди Станислава по лестнице, пропуская пожилую хмурую санитарку, толкая дверь от себя. – Какая ржавая пружина… сколько помню, она всегда такая же, рыже-коричневая, растягивающаяся, похожая на прямую кишку, и в потеках белой краски…»
– Вам нужно сразу уяснить кое-что! – беспричинно резко начал он, когда они поравнялись с ромбом клумбы посреди двора, и от неожиданности плечи Станислава распрямились. – Она в коме. Сначала мы держали ее в медикаментозном сне, но неделю назад введение лекарств прекратили, и оказалось, что началась кома. Несмотря на то, что мне тут всякое говорят в последнее время, я хочу донести до вас, что… Первое, кома – это серьезно. Она может окончиться выходом из этого состояния, а может только углубиться. Если сестра ваша очнется, она никогда не будет прежней, но насколько сильны окажутся изменения и когда это случится – я сказать не могу. Даже предположить. И второе, это все равно ваша сестра, пока не выяснено обратное. Не в физическом, а в ментальном плане, я об этом.
Вышло как-то коряво. Арсений негодующе сжал губы при одном только мелькнувшем воспоминании о Веронике Баевой. С того самого разговора на повышенных тонах она больше ни разу не появилась в горбольнице. И молодец.
Станислав кивнул несколько раз, задумчивый и настороженный. Огладил светло-бежевую ветровку на груди, извлек из нагрудного кармана тонкую пластмассовую расческу с мелкими частыми зубчиками, между которых виднелись белесые следы кожного сала, и принялся медитативно расчесываться. Верно, это помогало ему восстановить присутствие духа.
– Понятно, – только и выдавил он из себя.
Гаранин продолжил. Он вкратце описал операции своей Джейн Доу, мысленно возвращаясь в то утро, когда ее привезли и он шел по коридору, а вокруг клубилась сонная усталость со вкусом слез, и на деснах мягко перекатывались крупицы кофейной гущи. Особенно подробно описал черепно-мозговую травму, она вместе с повреждением селезенки и почки имела больше всего последствий. Переломы срастались хорошо.
– Да. Она любила творог… – пробормотал Станислав, противно тренькая зубьями расчески и даже не замечая этого.
Гаранин перевел дыхание:
– Вы по образованию не медик. Я мог бы вам сейчас по пунктам описать все… Вам вообще нужно знать, какие у нее повреждения? Я имею в виду… все повреждения.
Расческа оказалась крепко стиснутой в кулаке.
– Н-нет. Я думаю, нет, – сдавленно проговорил парень. – Мне нужны ваши прогнозы.
– А прогнозов как таковых не будет. Я уже все сказал. Ждать и надеяться.
– А память… Если она очнется, она будет помнить все это? Я имею в виду то, что с ней случилось. – Станислав быстро облизал пересохшие губы. Заметно было, что каждое слово дается ему с трудом.
– Я не знаю, – признался Арсений понуро. – Она может очнуться и помнить все. Амнезия – не обязательный спутник травмы, хотя, скорее всего, в этом случае она будет присутствовать. Потому что память – процесс глобальный, она не хранится только в каком-то одном отделе мозга. Но дело даже не в этом. У вашей сестры могут быть трудности с выполнением бытовых задач. Одеваться, есть, пить… Понимаете, о чем я?
– Она станет овощем?
– Не обязательно. Будем надеяться, что нет. Скажем так, это худший из возможных прогнозов.
– Но лучший – что она проснется и будет помнить, кто я. Да?
Карие глаза требовательно впились в лицо Гаранина.
– Да, – признал тот.
Станислав пожевал губами, кивнул, задумчиво поскреб ногтями гладко выскобленный подбородок. Снова кивнул, энергичнее, словно приходя к какому-то решению. Глубоко вдохнул, глядя на высокий пирамидальный тополь, шелестящий серебристыми листьями. И спрятал расческу в нагрудный карман ветровки.
Они прошлись до фонтана, расходясь на узкой тропинке с другими гуляющими. Пациенты, которых в любом больничном дворе легко безошибочно вычислить по мятым футболкам, спортивным штанам и тапочкам, сидели на лавочках и болтали с родными, пили через трубочку сок, поедали булки, бананы, хрустели обертками шоколадок, вполуха слушали трескотню детей, пришедших их навестить, а перед обитателями педиатрического отделения их отцы и бабушки раскладывали сокровища в виде киндер-сюрпризов, машинок и кукол. Мимо ноги Арсения красным всполохом промчалось крохотное гоночное авто на дистанционном управлении, врезалось в щербатый бордюр, перевернулось и теперь вхолостую вертело колесами, барахтаясь в пыли, словно неловкий хрущ.
– Мы росли вместе. И я… я думал, что у нас никого нет, кроме друг друга. Поначалу, – улыбнулся Станислав. – Но девчонки и мальчишки играют в разных песочницах, даже когда кажется, что в одной.
– Да, наверное, – сказал Арсений, просто чтобы как-то поддержать беседу.
– У вас есть братья или сестры? – полюбопытствовал Станислав.
Арсений покачал головой:
– Нет. Я у родителей единственный. Мне иногда кажется, что и один – слишком много для них.
Хмелев (ведь фамилия-то у него с незамужней сестрой общая, так ведь?) с пониманием хохотнул:
– Бывает. А я вот мечтал о брате.
– Но сестра – это тоже неплохо.
– Да, конечно, неплохо. Это замечательно. Мы ходили в одну школу, постоянно общались. Мне не было одиноко. Ну, по крайней мере до тех пор, пока она не запирала меня в туалете.
Арсений улыбнулся, понимая, что Станислав шутит. Тот хитро скосил глаза и тоже ухмыльнулся.
– А потом… Женя… как-то быстро выросла. Мальчики-то ведь тормоза, девочки взрослеют куда быстрее, вы замечали? Вот и она тоже выросла. Такая красавица стала, ух! Она и раньше постоянно со своими подружками всюду таскалась, а теперь вокруг нее еще и парни появились. Прямо хоровод вокруг елки! Но немудрено, конечно, у нее и фигура, и лицо – все как надо.
Арсений вспомнил изуродованное лицо Жени Хмелевой – когда ее привезли и сейчас. К сегодняшнему дню опухоли и отеки уже спали, ссадины зажили, ушла гематома над сломанной костью скулы, и только шрамы красными полосами пересекали лоб и правую щеку. Предмет, которым ей полоснули по лицу, чудом не задел глаз.
Он не стал говорить об этом Станиславу. Не счел нужным. А тот продолжал вспоминать со странной кривой улыбкой, в глубине которой затаилась горечь:
– И эти ее волосы. Длиннющие, черные. Когда она стала готом, ей даже перекрашивать их не пришлось.
– Что? Женя была готом? – рассмеялся Арсений и тут же поперхнулся, боясь, как бы брат не расценил эту реплику как фамильярность. Никто из чужих не понял бы, как именно относится к Жене Хмелевой ее врач Арсений Гаранин. Да и не надо.
Но Станислав будто не заметил:
– Да, готом. Ей нравились все эти мрачности. Они ей очень шли. Мертвая принцесса. Помните песню? «Ты будешь мертвая принцесса, а я твой верный пес»[8]. Когда она выходила из ванной, при параде, с черными глазами и этими волосами… У меня волоски на руках дыбом вставали, честно.
И он перевел на Гаранина немного растерянный взгляд, словно прошлое, описываемое им, как-то не укладывалось даже в его голове.
– Теперь ваша сестра выглядит немного иначе. Не все переломы еще срослись. И шрам на лице.
– Да? – Станислав помолчал. – Это ничего… Не страшно. Главное, чтобы выздоровела, так ведь?
– И волосы ее, конечно, пришлось убрать. Нужен был доступ.
– Что? Вы обрезали ее волосы? – он встрепенулся. – У нее больше нет волос?
Кажется, это сообщение взволновало его куда больше всех предыдущих. Видимо, количество, наконец, достигло критической отметки и превратилось в качество.
– Нет, – Арсений развел руками. – Больше нет, сбрили. Знаете, как говорят, волосы – не зубы, отрастут.
– Ну да, ну да…
Обходя встречную группу людей, Гаранин приблизился к Хмелеву и почувствовал, как от него исходит нервозность, тщательно скрываемая. Кажется, разговор о больной сестре разбередил душу. Арсению стало жаль молодого человека. Станислав и сам это ощутил:
– Можно мне ее повидать, Арсений Сергеевич?
– Можно. Пойдемте.
X
В первый бокс Станислав зашел после Гаранина, чуть помедлив на пороге. Он сделал шаг к Баеву, но тут же понял ошибку и торопливо повернулся к лежащей на другой кровати сестре.
– Женя. О господи.
Арсений хотел сразу же оставить его и выйти, но что-то не давало ему двинуться с места. Какое-то внутреннее тяжелое чувство, будто ноги изнутри залило бетоном, будто он оказался в скафандре на поверхности Юпитера, и гравитация 9G мешает уйти. Он пытливо смотрел на Станислава, севшего на стул возле кровати, скользя взглядом по его ровно выстриженному затылку, чуть сутулым плечам, коричневому пятнышку на болоньевой ткани ветровки. Лица было не рассмотреть, а вслух парень ничего не говорил. И Арсений не двигался.
Наконец, Станислав кашлянул, прочищая горло, но все равно голос остался сиплым:
– Вы… Вы не оставите меня наедине с сестрой? Минут на пять. Спасибо.
У Гаранина не было причин отказать, и, согласившись, он прошел в свой кабинет. Тут же материализовалась Ромашка, прося несколько подписей и передавая, что его искала Борисовская.
– Да, спасибо. Потом перезвоню ей.
Он остался в кабинете один, и в груди у него тут же загудело. Он осторожно приложил пальцы к сонной артерии, настойчиво стучащей в шее. Так и есть, пульс сто сорок четыре. А ведь он бегун, у него выше сто сорока пульс и на пробежке-то не поднимается.
Что не так, Гаранин?
Было дурно, как будто он отравился или надышался угарным газом. Последний раз такое недомогание накрыло его на той, самой первой, операции Жени Хмелевой, сразу после ее госпитализации. Это все нервы.
– Нервы ни к черту, – произнес он вслух, словно собственный голос мог успокоить. – Пора писать заявление на отпуск.
А что? В самом деле, в отпуск он не ходил давно. Выудив из пачки бумаги один лист, Гаранин ровным почерком вывел: «Главврачу Шаниной Л. В…»
Странно. Арсений понимал, что брат знает сестру куда лучше, чем он – незнакомку, с которой никогда не перебросился ни единым словом. Но какая-то неслыханная уверенность твердила ему, что это не так. Что та Женя Хмелева, которая рисует на полях тетради ослиноухого человечка и мечтает испечь белый торт без корочек, не может одеваться в черный бархат и кожу и «красить губы гуталином». Какая-нибудь другая – да. Но не эта. Эта варит горячий шоколад, размышляет о смысле жизни, не хочет рожать детей от скуки и любит «Мэри Поппинс», попрыгунчики и ванилин.
Если бы в эту секунду Гаранина попросили привести веские аргументы, он бы отличился невиданным красноречием. Его мозг просчитывал вероятности, даже не облекая их в слова, на это ушло бы время, а Арсению казалось, что как раз времени у него-то и нет.
Что, Гаранин? Что не дает тебе покоя?
Так вот, если бы нужны были аргументы, а не предчувствия… Он ответил бы каждому спросившему, что еще Фромм – кажется, это был именно Эрих Фромм, – поделил всех людей по психотипу на биофилов и некрофилов. Нет, безо всякого сексуального подтекста или, по крайней мере, не ограничиваясь только им. Некрофилы любят силу и власть, коллекционирование, механизмы. Они говорят о болезнях, обсуждают на лавочках похороны и самоубийства, потому что вообще часто думают о феномене смерти, они мысленно возвращаются в прошлое, но почти никогда не глядят в будущее. Они сентиментальны, ибо зависимы от вчерашних чувств, и годами переживают эмоции, уже давно канувшие в небытие. Им свойственен закон и порядок. Некрофилы могут взаимодействовать, только владея, обладая. А биофилы смотрят в будущее и принимают жизнь в ее переменчивости, развитии и безалаберности. В рамках человеческой нормальности не встречается чистых, стопроцентно некрофильных и биофильных характеров (и то и другое – невроз и патология), но по склонностям определить все же можно, и Арсений Гаранин интуитивно определял Женю Хмелеву, свою Женю Хмелеву из оранжевой тетради в синюю полоску, очевидно биофильной. В то время как по рассказам Станислава она являлась глубинно иной. Как такое возможно? Неужели у нее раздвоение личности? Или он просто прикидывается?.. И тогда…
Что не дает ему покоя? Времени становится все меньше, и скоро оно совсем иссякнет. Течение секунд в запертом пространстве кабинета – где на столе статуэтка Анубиса и электронный циферблат, а на стене аналоговые часы, – ощущалось так же остро, как на дне океана, когда в баллоне за плечами заканчивается запас кислородно-газовой смеси.
Арсений зажмурился, что есть силы растирая брови и переносицу. Что? Что он так усиленно вспоминает? Что вертится прямо здесь, на самом острие его сознания, как балерина на музыкальной шкатулке?
Расческа.
Расческа лежала в нагрудном кармане справа. Расчесывался он левой рукой, ею же придерживал дверь. У Жени Хмелевой ранения лица справа намного серьезнее тех ссадин, что на другой половине лица. Ее мучитель был левшой.
Совсем как Станислав.
Это не она. Она – не его сестра, она его жертва.
Стул отлетел к самому окну, со стола хлынули бумаги, задетые рукой. Арсений несся по коридору, молясь только, чтобы успеть.
– Санитаров! – на ходу проорал он оцепеневшей медсестре, даже не рассмотрев, кто это был: безликий голубоватый костюм.
Он ворвался в первый бокс, точно зная, что сейчас там увидит. И даже не подумал, что произойдет, если он ошибется.
Он не ошибся.
Станислав стоял, нависая над Женей, и изо всех сил прижимал подушку к ее лицу. А она не сопротивлялась. Конечно, она не сопротивлялась. Она была далеко отсюда, там, куда этот человек упек ее еще раньше, на той железнодорожной насыпи, что вся пропахла кровью и креозотом, пропиталась отвратительным ядовитым духом человеческого страха и страдания.
Арсений бросился к нему через всю палату и буквально снес с ног вместе с подушкой. Забежавшая следом Ромашова уже хватала мешок Амбу[9], кто-то еще делал непрямой массаж сердца. Гаранин не видел.
Первый раз в жизни он дрался так, что не видел перед собой вообще ничего. Ни места, где находится, ни лица человека, в которое почти погружаются его кулаки. Все заливал нестерпимый, колючий, ярчайший свет, он начинался где-то в горле и заканчивался на другом конце развернутой, распахнутой и выпотрошенной Вселенной.
Когда его оттащили, мужчина под ним давно перестал отвечать на удары или закрываться от них. Он валялся на полу палаты без сознания, и линолеум вокруг был забрызган темной киноварью.
Гаранин пришел в себя, и Илья с Андреем разжали руки, выпуская его.
Арсений, шатаясь, поднялся на ноги.
– Пульс есть?
Вопрос касался Жени.
– Есть, – эхом отозвалась Ромашка.
– Дышит?
– Дышит.
Он оглядел свои кулаки, потом наклонился к избитому Станиславу и проверил пульс и у него. Жить будет. Сволочь. Конечно будет, куда ж он денется. В отделении реанимации у него просто нет других шансов.
В дверях уже сгрудились санитары, анестезисты, врачи и медсестры. Все таращились на Гаранина испуганно: не каждый день увидишь завотделением реанимации, избивающего человека в палате коматозников…
– Этому – оказать первую помощь, – отрывисто велел он. – Только к койке привяжите, пока не очухался. Он преступник. Пришел ее добить. Я звоню в полицию.
Он ополоснул руки, чувствуя лишь онемение в разбитых костяшках, и быстро созвонился с Грибновым, которому объявил, что задержал нападавшего на Евгению Хмелеву. Не отвечая больше ни на какие расспросы, он оборвал разговор и отправился в дальний конец коридора, где, привязанный запястьями к поручню кровати, уже приходил в себя Станислав. Носовое кровотечение успели остановить, лицо обмыли, так что вид у него оказался не такой пугающий. Левый глаз заплывал сиреневой гематомной подушкой, и Гаранин наблюдал за этим с садистским удовлетворением.
Кивком головы он отправил медсестру Валентину прочь и приблизился к Станиславу, мутным взглядом блуждающему по окружающей обстановке.
– Она жива. И будет жить дальше. Назло тебе, гнида, – прошипел Арсений, склоняясь к самому его уху. – Каким же выродком надо быть, чтобы сделать со своей сестрой такое.
– Ты ни хрена не знаешь, – прохрипел Станислав. – Ни хрена, понял? Дядя доктор. Она сама виновата. Она сама напросилась. Всегда напрашивалась. Когда измывалась надо мной. Когда заставляла меня свои сапоги облизывать. Я знал, что убью ее, я мечтал, что когда-нибудь убью эту тварь. По кусочку кожу ее сдеру поганую. Лоскут за лоскутком, осторожно. Подрезать, подцепить и начать срезать лезвием… Чтоб верещала, как свинья.
Арсений с трудом проглотил кислую слюну. Его кулаки снова сжались, теперь причиняя дискомфорт. Онемение проходило.
– А эти ее черные волосы, – продолжал шептать Станислав, и его глаза, точнее, единственный целый глаз загорался металлическим блеском восторга. – Знаешь, что она делала? Пихала их мне в глотку. Она сжимала пальцами мне челюсти, вот тут, по бокам, и жала до тех пор, пока я не начинал выть и не открывал рот. И тогда она засовывала мне свои волосы туда, прямо в горло, глубоко, чтобы меня стошнило. А когда я блевал на пол, она била меня по губам и заставляла убирать это все. А потом запирала в туалете, выключала там свет и шла на гулянки. А я оставался один… Но это было лучше, чем когда она звала своих дружков! Потому что они стояли за дверью и улюлюкали, дразнили меня или рычали и завывали, чтобы было страшнее. Там была такая щелка, прямоугольная, от старого шпингалета, который батя выворотил по пьяни. И я смотрел в эту щелку, потому что это был единственный свет. Так было не очень страшно… И когда ее приятели клали ее на кровать, я все видел. Я смотрел и смотрел, и не мог закрыть глаза, потому что тогда оказался бы в темноте. А я не хочу в темноту. Не хочу! Не хочу в эту долбаную темноту, понял ты?!
– Ты уже там. Урод.
– Ты тоже. Все мы… уроды. Но она, она хуже всех. Моя Соня.
Гаранин похолодел:
– Кто?
Станислав блаженно улыбнулся, словно вспомнил о чем-то очень приятном.
– Когда я убил ее, думал, что спасся. Что больше она меня не тронет. Но она ожила. Через месяц. А ведь я ее похоронил! Сам, своими руками швырял горстями землю в эту рожу. Но все не так просто, не-ет! Эта тварь ожила. Живучая мерзкая гадина, даже смерть ее не уняла. Мы снова встретились. Прикинулась, что не узнает меня, даже не откликалась на свое имя. Но она прекрасно знала, кто я, и боялась меня! Потому что однажды она уже умоляла меня и чувствовала, что будет умолять еще. И она кричала. Визжала. Плакала. А потом еще и еще. Это было как музыка. Как будто Боженька у меня прощения просил, пока она подыхала. Как будто музыка сфер звучала, пока она умоляла меня не добивать ее…
Не в силах больше выслушать ни слова из уст этого сумасшедшего, Гаранин вколол ему успокоительное и принялся ждать полицию. Как бы ни было велико его желание убежать подальше отсюда, скрыться в первом боксе и прирасти к кровати Жени, он не мог позволить себе оставить ее мучителя одного.
Через какое-то время все-таки появился капитан Грибнов, и долгое разбирательство и дача показаний затянулись на весь остаток дня и вечер. Пришедшего в себя Станислава забрали в отделение. Впрочем, кажется, Станиславом он оказался только для Гаранина, и его настоящее имя еще предстояло выяснить: никаких братьев и сестер у Евгении Хмелевой зарегистрировано не было, ни родных, ни даже двоюродных.
Из полиции Арсений снова поехал в горбольницу. Он не мог допустить, чтобы эту ночь Женя провела в одиночестве. Теперь Баев уже не казался ему хорошей компанией для девушки.
Августовские звезды из плохо освещенного больничного сада смотрелись россыпью сахарных крошек на черном полотне небесной скатерти. Для чего нужны черные скатерти, задумался Гаранин. Для ведьмовства, вызова дьявола или наведения порчи. Очень странные занятия, если посудить: в этот мир, до краев полный страданий, только безумец будет призывать еще беды.
Слушая поскрипывание мелкой гравийной крошки под ногами, Арсений думал о добре и зле. Он знал, что добро – понятие растяжимое. Вот вроде медицина – добро, лечить человека от хворей почетно. Медицина наделена благим побуждением, ибо ставит своей целью излечение, целостность и здоровье человеческого организма. Но резать его плоть, рассекать сосуды и мышцы, делая целое раздельным, причинять боль, даже просто вправляя сустав… Не говоря уж обо всяких экспериментальных ужасах наподобие мальчика в пузыре или позорного Таскиги[10]. Допустим, все это оправдывается благостью основного намерения исцелить. Но что есть изначальное добро? Сама природа, созидательная и вечная, по сравнению с мгновенностью людского бытия. Она пробуждает семечко раскрыться и вытянуться ростку к солнцу. Но она же зарождает убийственную волну в недрах океана. И если добро есть природа, естественное течение жизни, тогда медицина как нечто противоположное самой природе, идущее наперекор ее воле о том, кому жить, а кому заболеть и умереть, – медицина моментально становится противоположностью добра? Так, что ли? Именно об этом он говорил тогда в ординаторской. Его мало кто услышал. А услышал бы, так сразу начал задавать вопросы из разряда: «И что теперь, всем позволить помереть? Перестать пить анальгин и парацетамол и загнуться от банальной простуды, только чтобы угодить Природе?» У Арсения не находилось ответа, когда он начинал копать так глубоко. Он всегда утешал себя тем, что добро есть созидание. И противостояние разрушению, коль уж говорить о его профессии.
Но, как бы то ни было, он точно знал, что на свете существует Зло. Абсолютное. Не имеющее никакого отношения к потерявшему рассудок человеку, терзавшему другого человека на рыжей железнодорожной насыпи. Точнее, отношение было косвенное: Зло избрало того человека себе в инструментарий, как садовод берет в сарайчике тяпку или совок и оставляет потом до следующей весны – или навсегда – за ненадобностью. Это Зло существует, оно намного плотнее и осязаемее эфемерного добра, ровно разлитого по пространству. Злая сущность длится и не прекращается, она комковата, неоднородна и присутствует повсюду, потому что гнездится не только в темных переулках и дальних углах, куда не проникает свет божий. Нет, часто Зло сияет, неприкрытое, у всех на виду, и тем удивительнее, что его не всегда распознаешь. А распознаешь, так не ухватишь, не накажешь, не победишь. И его проклятые цветы распускаются по всей земле то тут, то там. Злодейство – вот самая темная и близкая тайна мира.
С крыльца звезд почти не было видно. Или их просто затянуло пеленой.
Арсений просмотрел отчеты по состоянию Жени Хмелевой за последние несколько часов и прошел к ней в палату. Он не знал, сколько времени ушло у него днем на размышления после появления Станислава, и, стало быть, он понятия не имел, сколько времени мозг девушки пробыл без кислорода. Может быть, всего несколько секунд. А возможно, счет шел на минуты, и тогда повреждения обширны и непоправимы. Если сложить ее прошлые травмы и нынешние…
Арсений знал, что это значит. Она живой труп, она безнадежна.
Он отвернулся от ее постели, прислонился лбом к прохладному оконному стеклу и до боли сжал пальцами выщербленный подоконник. Между двух рам, в пыльном углу, куда не достает торопливая тряпка санитарки, лежала давно иссохшая муха. Но какое-то движение привлекло взгляд Арсения, и он, сощурившись, увидел в тени большую бабочку, медленно водящую крыльями. Кирпично-красные крылья, кажущиеся почти черными в сумраке, сложились и снова открылись.
Гаранин подергал шпингалет, и присохшая рама со скрежетом подалась. Осторожно, стараясь не навредить, Арсений подставил палец, и бабочка, ничуть не суетясь, взобралась на него, цепко ухватившись шершавыми лапками. Когда вторая рама тоже распахнулась, он махнул рукой, и бабочка вспорхнула, тут же растворившись в ночи.
– Его больше нет, – внятно и спокойно произнес Арсений. – Он больше никогда не сможет тебе навредить. Женя. Ты слышишь? Никогда. Теперь ты можешь возвращаться, слышишь? Ты в безопасности, теперь точно.
Он обернулся.
У нее оказался прямой долгий взгляд.
Сердце Арсения подпрыгнуло до самого горла, перевернулось, как гимнаст на резинках, и ухнуло вниз. А сам он остался стоять, растягивая эту секунду до бесконечности и умея только чувствовать, но не думать…
Это новое чувство, разбуженное первым ее взглядом, было похоже на кота, внезапно возникающего на пороге. Оно толкает дверь и, распахнув ее пошире, замирает. Стоит и смотрит на тебя во все глаза, которым ведомы тайны крови и древних пылающих костров. И несмотря на то, что оно все еще на пороге, и ты еще тешишь себя надеждой, что можешь ведь и прогнать его прочь, и всех делов-то… Но нет, это чувство, в котором нет ничего от вкрадчивости и нерешительности, вдруг легкой поступью проходит в самую глубь твоей комнаты-души, ложится в желтой кляксе солнечного горячего света и начинает тарахтеть так громко, что не слышишь себя, одно только это мягкое властное урчание, сводящее с ума своей нежностью. И выставить его невозможно: оно будет скрестись, раздирая когтями все вокруг, пока не впустишь, полностью и безоговорочно капитулируя.
– А вот и ты, – выдохнул Арсений и шагнул к постели.
В следующее мгновение веки Жени Хмелевой медленно опустились, уже сомкнутые крепким сном.
XI
Из оранжевой тетради в синюю полоску (последняя запись):
«Время уже не то, давно не март, а начало июня. Но я все равно решила сделать марципан. Говорят, из него в Европе создают множество фигурок, и ко Дню святого Валентина, и на Рождество, и просто так в качестве забавы и сувениров. Я никогда не была в Европе (обязательно побываю!), и потому особенно здорово, что в моей власти приблизить ее хотя бы с помощью кулинарии. «Марципан» в переводе означает «мартовский хлеб». Я долго думала над этим. В моем воображении сказки Гофмана, Андерсена, Гауфа и братьев Гримм вдруг переплетаются с историей какого-нибудь бедствия в осажденном замке, в котором к марту закончилось зерно, и пришлось делать хлеб из запасов миндаля. Наподобие той легенды, согласно которой майонез родился во время осады, на Балеарских островах в городе Маон[11]. Кстати, приготовление майонеза неизменно заставляет меня восторженно ощущать свершение чуда прямо на моих глазах. А как иначе воспринимать тот факт, что растительное масло, взбитое с сырым желтком, уксусом и щепоткой приправ, вдруг становится чем-то плотным, вкусным и не похожим ни на что майонезом? Таким, который вкуснее любого покупного, особенно если добавить в него чуточку горчичного порошка, а вместо подсолнечного, более доступного у нас, взять оливковое. Я всегда замираю от удовольствия, наблюдая это преображение, и залезаю пальцем в эту желтоватую массу, которая только что была просто-напросто водянистым набором ингредиентов. Ну ведь настоящая магия превращений, трансфигурация из курса Хогвартса! Только вместо волшебной палочки – венчики миксера или погружной блендер.
Сама мысль о том, что во время осады можно лакомиться марципаном, заставляет меня улыбаться. Куда веселее, чем думать о грядущей сдаче города или гибели от меча врага…
Для марципана надо взять в равных частях сырого миндаля и сахарной пудры. Миндаль минутку отварить в кипятке, остудить и снять с ядрышек кожуру – после термической обработки она соскальзывает легче легкого, как перчатка, стоит только надавить на орешек пальцами. Потом чуточку подсушить на сухой сковороде, не допуская пригорания, и смолоть в кофемолке до состояния пыли. Смешать с сахарной пудрой и столовой ложкой воды (если брать по 150 г орехов и пудры). И вымешивать в пластилиновую массу. Какая же она пластичная! Работать одно удовольствие.
Часть массы я покрасила в красный и вылепила сердечки, часть чуть-чуть подчернила растертым активированным углем и сделала умильных мышек с хвостами из шерстинок. Не знаю, почему мыши, – просто так захотелось.
Говорят, марципан помогает от депрессии, грусти и нервных срывов. У меня ничего такого нет и в помине, но слопать пару сердечек, приманивая любовь, все равно приятно. А еще говорят, в немецком Любеке, на родине знаменитого любекского марципана, вместо обычной воды добавляют розовую, да к тому же пару капель миндального масла и горький миндаль, тот самый, который в больших количествах ядовит из-за синильной кислоты. Но его нужно совсем немного, по одному ядрышку горького миндаля на сотню обыкновенных. Якобы именно благодаря этому вкус марципана становится наиболее богатым и полным.
Вот только ума не приложу, где мне раздобыть горького миндаля…»
Часть четвертая. Марципан
I
Из комы не выходят подобно тому, как выпрыгивают из постели, проспав на работу. Гаранин отлично знал это и все равно не мог унять нетерпения.
Женя Хмелева приходила в себя поначалу всего на несколько минут, на час, полтора. Сперва ее взгляд еще блуждал, но вскоре начал фиксироваться на его лице и глазах. Она не понимала, где находится, не знала, что случилось, но помнила, как ее зовут, хоть и произнесла свое имя лишь на шестой день, с большим трудом, медленно, едва выговаривая звуки. У нее плохо получалось двигать левой рукой и не слушался голос.
На его глазах свершалось Чудо.
Арсений заходил к ней по нескольку раз в сутки. Заторможенная и вялая, она ничего не говорила, лишь отвечала на простейшие вопросы: как себя чувствуете, что болит, трудно ли дышать, сколько пальцев, хотите пить – и так далее. Он боялся испугать ее и подробно и обстоятельно, не зная, много ли она понимает сейчас, объяснял, что с ней происходит, сообщил, когда уберут катетер, как прошли операции, сколько потребуется времени на реабилитацию. Он показывал ей рентгеновские снимки, поднося их как можно ближе к глазам, как только офтальмологи заключили, что ее зрение также пострадало от травмы.
– Сейчас вам видно плохо, все будто в тумане. Так бывает после травмы головы, не переживайте, это не страшно.
Он намеренно избегал упоминаний о нападении на нее. А она не спрашивала. И невозможно было понять, помнит ли она произошедшее или нет, и если да, то насколько отчетливо. Капитана Грибнова Арсений к ней не допускал.
Ему никогда уже не забыть, какой надеждой наполнились ее глаза, когда здоровая рука впервые потянулась к лицу, перечеркнутому шрамом, и к бритой голове, на которой уже отрастал черный ежик, делая контраст с белыми повязками особенно броским. И как тихо и быстро заструились слезы, сбегая по вискам за уши.
– Зеркало не давать, даже если попросит, – наказал Гаранин Ромашке, выйдя после этого в коридор. – И остальным скажи, поняла меня?
– Да, Арсений Сергеевич.
Хотя давно пора было переводить ее в травматологию, Гаранин медлил и старался продержать Женю в своем отделении, под своим присмотром столько времени, сколько возможно.
Через несколько дней, после допроса, на котором Гаранину пришлось еще раз подробно изложить все факты, известные ему по делу Евгении Хмелевой (само собой, снова умолчав о собственном проникновении в ее квартиру), капитан Грибнов сообщил ему, что Станислав во всем сознался.
– Во-первых, конечно, никакой он не Станислав, а Виталий Мартынов. Проходил четыре года назад по делу об исчезновении своей старшей сестры Софьи, но тогда не было никаких доказательств.
– Это он, – Арсений подскочил со стула. – Он убил ее, я точно знаю. Он сам мне рассказал. Бредил, кажется, и не знал точно, говорит ли он про Женю или про Соню. У него все спуталось. Та Соня, которую он упоминал, – почти наверняка его сестра! Он убил ее и закопал где-то.
– Я тоже так считаю, – капитан ослабил тугой, несвежий уже воротничок рубашки. – Выбьем из него признание, это вопрос времени. Только бы психом не объявили… На завтра назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Гаранин стиснул челюсти так, что, кажется, затрещали зубы:
– Мне он показался вполне вменяемым. По крайней мере, я провел с ним полчаса и ни разу не усомнился в его… ментальном состоянии. Хотя нормальным это состояние не назову, теперь уже нет.
Полицейский угукнул. Арсений поколебался немного и все же спросил:
– Вы… вы видели ее фото? Сестры.
– Да. Вот она. – Грибнов порылся в папке и выложил на столешницу перед ним снимок довольно миловидной, хоть и неулыбчивой брюнетки, с бледной кожей, сильно подведенными глазами и распущенными вьющимися волосами по пояс. В широком скуластом лице сквозили едва заметно схожие с братом черты, но также и за родную сестру Жени Хмелевой ее можно было принять с легкостью. Теперь понятно, почему встреча с Женей взбудоражила больной мозг Мартынова.
– Так, значит… она его мучила… в детстве? Эта Соня.
– Понятия не имею. – Грибнов потянулся, наклонил голову в одну сторону, другую, и его шейные позвонки хрустнули. – Похоже, она мертва, и уже не спросить. Так или иначе у него пунктик на черноволосых. Мы проверили сводки по соседним областям. Есть еще три похожих случая, два – с летальным исходом. Все – длинноволосые брюнетки, возрастом до тридцати лет, найдены в лесополосе или заброшенном парке. Характер нанесения травм один и тот же: справа на лице – сигаретные ожоги, изнасилование, повреждения от обрубка трубы или другого…
– Хватит, – оборвал его Гаранин и добавил помягче:
– Я и так помню, спасибо.
– А, ну да. Хм. Не думал я, что наши врачи такие нежные, – пробормотал Грибнов.
Арсений пропустил это замечание мимо ушей, хотя ему уже изрядно осточертело, что все почему-то относятся к врачам, как к толстокожим носорогам, с которыми вовсе незачем деликатничать.
– Так это он звонил тогда? Помните анонимный звонок?
– Да.
– Но зачем? – Арсений действительно не мог понять.
– Ну как же! Он бросил ее умирать на насыпи, но потом узнал, что она выжила. Ему захотелось разыскать ее и добить. Или что там еще приглючилось его больному мозгу… Вот он и зашевелился.
– Так у вас есть свидетельница, которая сможет его опознать? – уточнил Гаранин. – Чтобы не дергать Хмелеву? Она не в том состоянии, чтобы сотрудничать со следствием.
– А в каком она состоянии? Опишите подробно.
Если бы он только мог знать наверняка… Этот вопрос свербел в его голове, стоял ли Арсений у операционного стола, смотрел ли на экранчик капнографа, шел ли до остановки или проводил утренний обход. Он постоянно думал только о том, как там Женя.
Только сейчас он осознал, что все недели, пока она была без сознания, он втайне, как ребенок на праздники, надеялся на волшебство, которого не мог допустить весь его врачебный опыт. Что вот она очнется, откроет глаза, а он скажет ей: «Привет», и… и все будет хорошо. Как именно – неясно, но будет хорошо. Что она его узнает, и окажется, что она оттуда, с другой стороны своего Космоса, слышала его голос и его истории, которыми он делился в ночной тишине палаты. Или что он просто покажется ей достойным доверия добрым доктором, и вскоре они сдружатся. Он очень верил, что девушка, открывшая глаза, будет той же самой, что делила свои мысли и сомнения с оранжевой тетрадью и жила в пропахшей выпечкой квартирке в доме-корабле. В то время, когда не было особенных шансов даже на ее пробуждение, не говоря уж о восстановлении моторики, рефлексов и мышления с памятью, он, как первостатейный дурак, мечтал о счастливом финале.
Заглянув однажды утром, после планерки, в первый бокс, он по своему обыкновению вскользь осмотрел недвижимого старика Баева и подошел к Жене.
– Доброе утро. Как ты себя сегодня чувствуешь, Женя?
Арсений опустил два пальца на ее запястье, привычным, почти неосознаваемым жестом, за долгие годы доведенным до автоматизма, и сильно вздрогнул, когда она внезапно отдернула руку.
Он сразу понял, что наступило улучшение. Память полностью восстановилась, это было видно по ее глазам за стеклами новых очков. За минувшую ночь Женя вспомнила все, что произошло на задах парка Пионеров-Героев.
– У… уйди… – через силу выдавила она.
Девушка больше не позволяла никому из мужчин, врачей или медбратьев, дотрагиваться до себя. Мычала, мотала головой, плакала. Только медсестры выполняли необходимый набор манипуляций, хотя и их прикосновения заставляли девушку всхлипывать и ежиться.
Еще через сутки Женю Хмелеву перевели из отделения интенсивной терапии, и она покинула владения Арсения навсегда.
II
Начались самые невыносимые дни. У Гаранина словно вынули изнутри какую-то важную деталь, без которой теперь все работало не так, как надо. Не развалилось, но разболталось, держась на честном слове.
Пришлось пустить в ход все влияние, обаяние и дар убеждения, чтобы выпросить для Хмелевой одиночную палату в травматологии (недавний конфликт с начмедом едва не вышел ему боком). Он знал, что девушке тягостно присутствие посторонних людей в комнате. Да и вряд ли выздоровление пошло бы скорее в окружении пяти соседок по палате, которые беспрестанно болтали, поминутно охали, делились секретами про мужей и сыновей, разгадывали судоку и обменивались рецептами майонезных салатов и затертыми детективами в мягких обложках, купленными кем-то до них в газетном ларьке внизу, у гардероба.
Она держалась молодцом. Научилась сидеть, держать ложку – хотя рука очень дрожала. Сглатывала пищу, не давясь. Арсений приплачивал процедурной медсестре Алине, чтобы та хлопотала вокруг нее усерднее. Женю никто не навещал, и все то, чем обычно занимаются родственники больных, взял на себя Арсений. Три раза в неделю приходила приглашенная им массажистка. Пару раз заглянула психолог, но Женя отказалась с ней говорить и вообще полностью проигнорировала. Она больше ни с кем не общалась, принимая любую помощь молча и нарушая безмолвие только тогда, когда это было нужно по сугубо медицинским причинам.
Зрение так и не вернулось к стопроцентному, но очки вряд ли стали главным из Жениных зол.
Он заходил утром и вечером. Зная, что она не хочет его приближения, Арсений садился на стул у самой двери.
– Тебе неприятно, что я захожу сюда, знаю. Но твоему мозгу нужно слышать человеческую речь. Так он лучше восстановится. Поэтому, если хочешь, не отвечай. Хотя, конечно, лучше, чтобы ты с кем-то общалась, настраивала заново речевой аппарат. Но я все равно буду приходить и говорить. Понемногу. Хорошо?
Сначала несмело, он вскоре вошел во вкус. Это оказалось почти привычно. Больница, палата, Женя на кровати, он на стуле. Только старика Баева больше не было рядом, а у Жени вместо сомкнутых сиреневатых век – прямой и настороженный взгляд. За дымчатой серостью глаз нет-нет да и промелькнет мысль, а это – почти ответ, почти слова. Так что два раза в день Арсений Гаранин был вполне счастлив. Он научился довольствоваться малым.
Он рассказывал ей о своем детстве, о Толике, бабуле Нюте и о родителях, о том, как в первый раз получил в глаз. Как свалился с забора, как воспитывал волю и позволил комарам искусать себя до полусмерти. Как готовился поступать в мореходку, но пошел в медицинский. Как на третьем курсе пил спирт в общаге, и потом его несли домой, но оставили у подъезда, потому что никто из однокурсников не рискнул появиться перед Сергеем Арнольдовичем Гараниным с его пьяным в дым сыном наперевес. Он вспоминал про Ирину, подробно, долго, впервые вслух, перед собеседником (пусть и таким молчаливым), размышляя о том, почему все случилось именно так, а не иначе. Даже поведал о Сане Архиповой, не забыв упомянуть о том, что после ее смерти приходил к кровати Жени и что уже рассказывал ей тогда все это.
Таким образом, он давал ей понять, что подобные беседы существовали и раньше, когда Женя была в коме. И никак не объяснял ей свою рьяную заинтересованность. Просто давал повод к дальнейшим размышлениям. Ох, как бы ему хотелось прочесть ее мысли!
Однажды он додумался и наконец-то принес ксерокопии ее оранжевой тетради (подумал было и о фотографиях, развешенных по стенам квартиры, но потом спохватился: стоит ли лишний раз бередить душу – женщины так зациклены на внешности). Осторожно приблизился и положил на покрытые одеялом Женины колени серые листы. Одеяло топорщилось на гипсе, в который была закована ее нога, и листы соскользнули на пол. Арсений торопливо принялся ползать на карачках по линолеуму:
– Это твоя тетрадь. Копия, конечно, ведь оригинал проходит в вещдоках по делу. Помнишь ее?
Собрав все страницы, он выпрямился и пригладил волосы:
– Если хочешь, я мог бы читать тебе понемногу. Чтобы ты… вспоминала.
Хорошо, что он не добавил: «Чтобы ты вернулась». Так или иначе Женя молча впилась в его лицо глазами, и он, как ни силился, так и не смог сообразить, каково ее мнение на этот счет. Тогда он устроился поудобнее и принялся читать вслух. Он читал старательно, с паузами, давая ей основательно, со всеми деталями восстановить перед мысленным взором обстоятельства того или иного дня, рецепта или размышления. Иногда Арсений поднимал голову, стремясь рассмотреть, какое впечатление произвела на Женю очередная запись, и неизменно наталкивался на ее взгляд, неотступно и изучающе следящий за ним.
Прощаясь с ней на ночь, он оставлял у кровати развивающие игры: эрудит, кубик Рубика, конструкторы, пазлы, головоломки из дерева и металла. Но лишь один раз он добился от Жени по-настоящему яркого отклика: когда принес ей крохотную музыкальную шарманку, похожую на ту, что стояла у нее дома. Девушка в первую минуту вертела ее в пальцах растерянно, но потом сообразила, как удобнее взяться за ручку, и, когда язычок пополз по тонким шишечкам рисунка на барабане, из коробка донеслись мелодичные, хотя и неровные, спотыкающиеся друг о друга звуки. Тогда она впервые улыбнулась, и ее глаза заблестели и быстро потемнели от расширяющихся провалов зрачков.
– Я рад, что тебе понравилось! – с облегчением пробормотал Гаранин и вдруг отчаянно покраснел.
Одним из долгих сентябрьских вечеров он столкнулся в дверях палаты с каким-то мальчиком. Сначала даже не узнал его, мало ли в больнице мальчиков на костылях. Но потом все же вспомнил эти всклокоченные волосы. Мальчик с рыболовным крючком. Сирота. Митя? Миша?
– Миша, это ты. Здравствуй.
– Здрасьте, – буркнул тот, бросив на Гаранина взгляд исподлобья, и заковылял без дальнейших разговоров прочь.
– А я и не знал, что у тебя бывают еще посетители кроме меня, – улыбнулся Арсений, закрывая за собой дверь.
– Да, – тихо проговорила она, и Арсений поспешно повернулся к ней, думая, что ослышался. Она и вправду поддержала разговор? Нарушила обет молчания?
– Я был на дежурстве, когда привезли этого мальчика. Мишу. Он, наверное, не рассказал тебе… Его родители погибли в аварии. У него совсем никого не осталось, к сожалению.
Арсений тут же прикусил язык, сообразив, что несет гадости. Ведь у Жени тоже никого нет, зачем лишний раз напоминать-то… Вот незадача.
Но девушка только отвела глаза и посмотрела в окно. Береза стояла целиком желтая, с тем легким и румяным яблочно-розовым оттенком, который Женя когда-то так ловко подметила в своей тетради.
Они долго молчали, и Гаранин вознамерился было снова затеять монолог, но Женя внезапно тихо спросила, не поворачиваясь к нему:
– Что будет… с Мишей? – Пауза. – Потом, после.
– Я точно не знаю. Этим занимаются в детском отделении. Если хочешь, я выясню. Скорее всего, ему подыщут место в детдоме.
– Он говорит… – Вдох. – Это он виноват в аварии.
– А это так? – уточнил Арсений, все еще вне себя от радости: она говорит с ним. Пусть трудно, с заминками, но говорит.
– Нет.
– Женя… Его чувство вины – это способ оправдать аварию. Найти ей объяснение, причину. Он не может понять, почему такое случилось с ними, и постоянно ломает голову, сходит с ума, но не находит никакого ответа, кроме того, что виноват он сам. Потому что он не может допустить, что виноват, к примеру, его отец, сидевший за рулем. Потому что отца-то больше нет…
Арсений дважды подумал, прежде чем продолжить:
– Детям такого не говорят, но… Иногда с хорошими людьми происходят плохие вещи. Просто так, без причины. Так что, если ты тоже терзаешь себя вопросом «почему», то перестань. И ни в коем случае не вини себя. То, что с тобой случилось…
– Уже случилось! – оборвала она его неожиданно сердито. Морщась, Женя села повыше на подушках, и кровь стала моментально приливать к ее щекам от этого усилия. Она смерила Гаранина презрительным взглядом, и тот опешил, нисколько не готовый к подобному повороту.
– Сколько можно ныть? А? Сколько можно вспоминать прошлое? – заговорила девушка небыстро, с паузами, тщательно подбирая слова, чтобы не перепутать похожие. После комы и без должной практики говорить ей было очень сложно, но она продолжала с прежним гневом. – Ты приходишь сюда каждый божий день и читаешь мне мой же дневник. О том, что было. И больше никогда не повторится. Потому что в этом и есть суть дневника и прошлого вообще. Зачем все это? Чтобы напомнить мне, какая у меня была жизнь? Спасибо, память уже восстановилась! А когда ты не читаешь мой, МОЙ дневник, то только и делаешь, что обсусоливаешь мое изнасилование. Постоянно возвращаешься к нему. Тебе так интересно, что со мной делал этот урод? Хочешь послушать? Я могу рассказать. А?
– Нет, Женя, что ты!
– А я могу. Потому что это тоже в прошлом. Оно уже случилось. И прошло. Какой сегодня день?
– Среда…
– Нет, я не про это. Какая там погода? – Из глаз ее текли слезы, которые она не вытирала и, возможно, даже не заметила. – Чем там пахнет? Есть облака? А какой они формы? А самолеты сегодня оставляют в небе след или нет? Что в городе интересного? А завтра что будет? Вот о чем нужно думать. О сегодня и о завтра, но никак уж не о вчера. И я намерена выздороветь и жить дальше, а не топтаться в этом дерьме следующие лет десять. Может, у меня нет десяти лет! Если я что и поняла, так это то, что могу помереть в любой день. И постоянно оглядываться я не намерена. Я смогу жить дальше, смогу. Ясно тебе? Ясно?!
– Да.
– Тогда раз и навсегда закрой свой рот. Пожалуйста. И перестань уже нести этот идиотский бред. Мне слушать тошно. А еще лучше – отвали от меня уже, а? Просто встань сейчас и уйди. И больше никогда не возвращайся.
Эта тирада далась ей нечеловечески тяжело: дыхание прервалось и сбилось, лоб блестел от испарины, больничная сорочка прилипла к груди, а пальцы и губы тряслись. Арсений вытаращился на нее, эту бритоголовую молодую женщину, похудевшую, с пепельной кожей, красным шрамом через щеку, белой повязкой и гипсовыми оковами. Он не верил своим глазам. Он знал ее изнутри, видел ее кости и кровоточащую плоть, знал рисунок ее сосудов на ангиограмме и остов ее скелета в рентгеновском излучении. Читал ее трогательные и веселые замечания, грустил вместе с нею, радовался ее лакомствам. Но к такому агрессивному напору новой Жени Хмелевой он оказался совершенно не готов.
Она прогоняет его.
Ветер за окном разметал облака, и яркий луч перечеркнул комнату, упав на ее постель. Женя зажмурилась, и под скулой у нее проступил желвак. Арсений сообразил, что девушка постоянно терпит физическую боль, а значит, острее реагирует на громкие звуки, резкие запахи, свет и прикосновения уже только потому, что нервная система истощена постоянными сигналами от рецепторов. Он аккуратно опустил жалюзи, чтобы хоть как-то облегчить ее участь, и только после этого покинул палату.
III
– А на что ты надеялся, милый мой? – фыркнула Лариса. – Что свеженькая и красивенькая Белоснежка вздохнет, откроет глазки, вылезет из хрустального гроба и кинется на шею принцу в белом халате, которому изрядно за сороковник? Так? Или она должна была проникнуться любовью к тебе после того, как ты выбил ей одиночную палату и психолога?
– Нет. Все совсем не так. Я вообще ничего не ждал. А она ничего не должна.
– Вот. Теперь замолчи и прочувствуй это. Она. Ничего. Не должна. И дело даже не в том, что она тебя не знает. Просто ее только что переехал трактор, и теперь как-то не очень есть дело до мотылька на синем цветочке. Потому как – трактор. А у тебя, дружочек, просто комплекс спасителя какой-то. Завязывай с этим уже, ладно?
– И что мне делать?
– Гаранин. Ты с ней спать собирался, что ли?
– Да не собирался я ни с кем спать. Я просто… хочу быть с ней. Хочу быть рядом, понимаешь!
Борисовская цокнула языком:
– И спать. В отдаленной перспективе. Но в этом ты, конечно, не признаешься, да и бог с тобой. Но насчет того, чтобы быть с ней, быть рядом… Будь. Кто тебе не дает? Если она не против, конечно. Потому что если она против, то через силу ты все равно ничего не добьешься: ей уже хватило насилия на всю жизнь вперед.
– Она меня выгнала. Потому что я читал ей дневник.
– Потому что ты читал ее дневник. Который она вообще-то не рассчитывала никому показывать. А ты внаглую взял и влез в чужую жизнь. И в ее квартиру, кстати, тоже. Хорошо, если она не в курсе. Гаранин, я тебе говорила, что все это до добра не доведет, а ты не верил.
– Лар… Что делать-то?
– Оставь ее в покое и не навязывайся. Потому что именно так поступают взрослые люди. Они живут своей жизнью, не жуют сопли и не обременяют собой никого. Не давят на жалость и не манипулируют. Скажи ей прямо все, что хочешь сказать. А потом дай время подумать. Вот и все, что ты можешь сделать.
Арсений долго корябал заусенец, и когда терпение иссякло, откусил его, хватив с лишком. Из ранки прямо у ногтя потекла сукровица. Он вздохнул:
– Ира тоже прогнала меня. По-другому, но прогнала. А потом бросила.
– Вы бросили друг друга, – выпалила Лариса, и сама испугалась этих слов. По крайней мере, во взгляде, обращенном к Арсению, прочиталось раскаяние.
Но он не рассердился и не обиделся, только закрыл глаза ладонью и несколько раз устало кивнул.
– Знаешь… – пробормотала Борисовская с улыбкой. – А Васька-то мой женился.
От неожиданности Арсений хохотнул, отнимая руку от лица:
– Да ладно!
– Я тебе говорю. Женился.
С развода Борисовских прошло два года. И хоть Васе Арсений всегда симпатизировал, но дружил он именно с Ларкой.
– Уф. На ком?
– Да уж нашлась краля. Ой, да ты ж знаешь Ваську. Его охмурить много ума не надо. А девка попалась вообще-то толковая, нормальная, ты не думай. Вчера на приеме у меня была.
– У тебя? Зачем? – не сообразил Арсений. Лара покосилась на него, развеселившись:
– А то не знаешь. Мои осмотры разнообразием не отличаются. А у нее уже и срок приличный, пять месяцев.
– Беременна… Вот оно что.
– Да. Пацан будет, – улыбнулась Лариса, и в ее низком голосе послышалось глубокое удовлетворение.
И в это самое мгновение Арсений осознал, что он – очень скверный друг.
Многие годы он дружил с Ларисой Борисовской. Он видел ее в дурном настроении, в хорошем, пьяной, счастливой, только что похоронившей мать, только что принявшей тройню. Слышал, как она материт медсестер и как спорит с мужем, и как чихвостит нерадивых пациенток. Видел, с каким трепетом берет на руки новорожденного малыша. Но ее собственную бездетность, даже когда они с Ириной сами мечтали стать родителями, он всегда воспринимал как нечто обычное, само собой разумеющееся. Он и представить-то ее не мог возле коляски, в окружении пеленок и ползунков, а Лариса никогда ни словом не обмолвилась, что хотела бы стать матерью. И почему-то Арсению было проще, или удобнее, думать, что она не особенно к этому стремилась. А если уж по правде сказать, он вообще об этом не думал. Как-то повода не выдалось. До сегодняшнего дня. Именно сейчас, когда она докурила и смяла о край бетонной уличной урны сигарету, шмыгнула носом и криво, залихватски ухмыльнулась, он пронзительно остро понял, как больно ей было все эти годы.
В конце сентября после сильного похолодания наступило бабье лето – рыжее, щедрое. Утром, по пути на работу, Арсений дышал зябким молочным туманом, но стоило взойти солнцу, как воздух становился прозрачным до хрустальности. Поблескивая и вздрагивая, полетели по ветру паутинки. Истончились на просвет липы и тополя, в горсаду пахло яблоками и стылой землей, ровно стриженные кусты барбариса вдоль дорожек покраснели и покрылись пурпурными ягодами, и все звуки – будь то гудки автомобилей, трамвайная трель, тоненькое мяуканье младенцев в колясках или собачье тявканье, – разносились как-то по-особенному звонко и были слышны дальше. У главных ворот больницы несколько старых сиреней с давно оголившимися ногами вдруг скупо зацвели, перепутав осень с весною, и Арсений переживал, как бы эти чахлые лиловые кисточки, почему-то совсем без запаха, не прихватил внезапный морозец. Но пока теплые и стеклянные дни еще длились. В один из них отделение интенсивной терапии выиграло в финале турнира больницы по настольному теннису. Что особенно приятно – у первой кардиологии, которую многие годы возглавлял Гаранин-старший.
Напевая себе под нос нехитрую песенку, Арсений выглянул в окно ординаторской и увидел, как по двору медленно передвигаются трое: медсестра Алина из травматологии толкала перед собой инвалидное кресло, в котором сидела Женя Хмелева. Рядом с ними, хромая и еще немного опираясь на костыль, шагал Миша.
Добравшись до первой в череде нескольких скамеек, они остановились, и после недолгого обсуждения Алина помогла Жене перебраться из кресла. Возле нее на скамейку тут же опустился Миша, а медсестра, удостоверившись, что все в порядке, отошла вглубь сада поболтать с кем-то из персонала больницы.
Со своего места Арсению не было видно Жениного лица, да и чтобы разглядеть Мишино, потребовалось сильно напрячь зрение. Они о чем-то довольно оживленно беседовали. Потом мальчик осторожно отставил костыль в сторону и прилег, положив голову на колени девушке.
В этот момент на аллее появился Максимыч в распахнутом тулупе. Привратник шел вразвалочку, закинув на плечо разлапистые веерные грабли, а рядом с ним трусила Берта. С удивлением Гаранин заметил, что Женя подняла руку в приветственном жесте: стало быть, они уже знакомы? Максимыч махнул в ответ, собака радостно гавкнула и бросилась вперед. Она встала передними лапами на скамейку и попыталась дотянуться до лица Жени, лакая длинным розовым языком воздух в явном намерении целоваться. И Гаранин с щемящим сердцем пожалел, что не имеет никакого права находиться рядом с этой странной компанией.
Теперь он видел их почти каждый день, особенно после того, как, отдавая Алине деньги, оценил вслух ее старания и поблагодарил.
– Да мне вообще совестно деньги у вас брать, Арсений Сергеич, – ответила медсестра, проворно пряча купюру в карман халата. – Такая уж Женька умница, вы бы знали!
Арсений улыбнулся:
– Я знаю.
Алина рассказала, что Женя тренируется с одержимостью. Она то учит скороговорки, то пересказывает прочитанные тексты, то рисует, то подбирает синонимы, или решает простенькие арифметические задачки из Мишкиного учебника, или играет с ним в «эрудит». Мишка под ее контролем занимается дыхательной гимнастикой, а она разрабатывает руку и восстанавливает моторику, собирая спички, складывая мозаики и сжимая эспандер. Они с мальчиком постоянно что-то зубрят или о чем-то спорят, и ее выздоровление от этого сильно ускорилось.
Однако вскоре Мишу выписали.
Гаранин узнал об этом только вечером, да и то случайно, и сразу примчался в педиатрию. Но на кровати Миши уже лежала молодая женщина, обнимавшая двухлетнюю малышку. На шум открывшейся двери женщина встрепенулась и тут же принялась похлопывать дочурку по попе:
– Тшш, солнышко, спи, спи.
– А где Миша Воронко? – поинтересовался Гаранин, вернувшись на пост медсестер.
– Так выписали же сегодня. Утром еще. А потом приехали из соцзащиты и увезли его.
IV
– Вовка – ювелир. Шрама почти не будет, – Борисовская одобрительно подмигнула Сорокину, и тот засопел, довольный похвалой.
Они втроем выходили из оперблока. Выдался редкий случай, когда Арсений повстречал Ларису у операционного стола: ее пациентку срочно госпитализировали из-за разрыва кисты.
– Да, Володя у нас мастер, – Гаранин хлопнул хирурга по плечу. Тот кивнул на прощание и зашагал по коридору.
Оставшись вдвоем, они с Борисовской переглянулись. На улице уже стемнело.
– Ты домой?
– Наверное. А куда еще?
– Подбросить тебя? – предложила она. Арсений согласился: почему бы и нет. Сегодня ему не особенно хотелось бродить в потемках, а с Ларисой, помимо дружбы, сейчас связывала только что проведенная операция. Это ощущение принятого вызова, с которым удалось справиться сообща, всегда объединяет коллег по операционной еще некоторое время: именно поэтому, с горя или с радости, врачи часто потом выпивают вместе. Но Ларка – за рулем, она заядлая автолюбительница, которая запросто может починить любую поломку в своей старенькой «пятнашке» цвета баклажана, похохатывая при этом, что уж она-то знает про женские внутренности все, а машина – тоже женщина. Это всегда восхищало Арсения, так и не сдавшего на права, хотя отец вечно твердит, что мужик, не умеющий водить машину, и не мужик вовсе. У отца вообще строгая система раздачи ярлыков.
Они договорились встретиться на улице, и Арсений поднялся в свое ОРИТ, чтобы переодеться. На лестнице не работали две лампы, и он, утомленный и рассеянный, не сразу заметил ее, стоящую в тени возле лифтов – как и полагается, двери реанимации были заперты.
– Арсений.
Разглядев, что перед ним, опершись на костыли, стоит Женя Хмелева, он опешил.
– Женя… Привет. Что случилось? Ты зачем здесь? Тебе, наверное, сложно стоять…
– Ты можешь мне помочь?
– Да, конечно, сейчас открою… – Он стал рыться в карманах в поисках карточки и, как назло, не находил.
– Нет. Не туда. Тебе придется пойти со мной, – она мотнула головой в сторону лестницы. – Прости.
– Да, конечно, – растерялся Гаранин еще больше. – Что стряслось?
– Мишка сбежал из детдома.
Они вместе спустились на этаж. Арсений не помогал ей, боясь нарушить границы и без того зыбкого личного пространства. Вместо этого он прокручивал в голове варианты развития событий и своих действий. Куда мог пойти мальчик? В свой прежний дом? На кладбище? Но он не знает, где похоронены родители. Наверное, не знает. А откуда Жене вообще известно о его исчезновении?
– Куда мы идем?
– В мою палату.
То ли это к вечеру он стал несообразительным, то ли просто не отличался умом… Арсений до самых дверей палаты не мог уяснить, зачем им туда идти. Женя прошла вперед, Арсений следом, и только когда дверь втиснулась в косяк, девушка вздохнула:
– Выходи.
Из-под ее кровати воровато высунулась вихрастая темноволосая голова.
– Так вот оно что… – только и смог пробормотать Гаранин.
Следующие сорок минут их объединили. Женя и Арсений стали сообщниками, уговаривая Мишу, тормоша его и объясняя, почему он должен согласиться поехать обратно в детский дом. То и дело на глаза девушки накатывали непрошеные слезы, и тогда она смахивала их, деловито отворачиваясь к окну, пока Арсений отвлекал внимание мальчика на себя. У него самого ком стоял в горле, но сейчас он чувствовал, что главенствует над всей ситуацией, и именно от него зависит ее исход.
– Мишаня… Можно тебя так называть?
– Нет.
– Хорошо, – согласился Гаранин терпеливо. – А как можно?
– Мишка, и все.
– Ладно. Давай заключим договор? По-настоящему.
– Какой еще договор?
– Будем исходить из того, кто из нас что может. Я не могу просто встать и уйти, потому что я врач, и у меня есть обязанности. Но я могу вам помочь и хочу этого. Вы с Женей хотите друг друга видеть, потому что вы друзья. Но Женя пока болеет и не может навещать тебя. Так? Значит, ты можешь навещать ее.
– Я могу быть тут с ней. Здесь же есть место. Я могу спать на полу! Или взять у Максимыча раскладушку, у него стоит в кладовке.
Женя взяла его ладони в свои:
– Миш. Ты не можешь тут остаться.
– Да почему нет-то? – взвыл он. – Я буду мыть полы, хочешь? И пыль вытирать? И никогда не буду больше ничего разбрасывать. Мама всегда говорила, что я похож на ураган. Но я больше не буду, обещаю. Честно-пречестно! Почему мне нельзя? Ну почему?
– Потому что тут болеют. А ты уже выздоровел.
Миша отбросил ее руки и с безнадежной злостью уткнулся лицом в подушку. Арсений постарался, чтобы его голос зазвучал как можно тверже:
– Миша, я тебе обещаю, что буду приезжать и забирать тебя оттуда, чтобы ты смог навестить Женю. Идет?
Наконец Мишка поднял от подушки красное зареванное лицо. Его неровное дыхание сотрясало худенькую грудь. Шмыгнув носом, он стиснул кулаки, глубоко и горько вздохнул – и кивнул. Арсений, как никто другой, прекрасно знал это чувство. Мальчик просто устал спорить с двумя взрослыми и сдался.
Втроем они дошли до дверей отделения, и Мишка отлучился в туалет.
– Ты ведь ему не соврал? – Глаза ее были серы и тревожны.
– Нет.
– А это вообще законно? Разве его могут отпускать оттуда с незнакомыми? То есть ты, конечно, врач, и все такое, но все же чужой ему человек.
– Я разберусь.
Арсений вызвал такси и только потом спохватился, что Борисовская, наверное, все еще ждет в машине. Но, выйдя на парковку, ее баклажановой «пятнашки» уже не увидел.
Он отвез Мишу в детский дом и переговорил с директрисой. Скрепя сердце и только после упоминания имени заместителя мэра она согласилась отпускать мальчика дважды в неделю. Гаранин предпочел не задаваться вопросом, всегда ли чужой мужчина может уговорить директора детского дома отдавать ему ребенка на время. В кои-то веки человеческая халатность могла послужить на благо.
И за всем этим, как звезда над горизонтом, сияла мысль, согревающая самые далекие уголки гаранинской души. Женя обратилась за помощью именно к нему. Да, конечно, у нее ведь больше никого нет. И все-таки она пришла к нему, и это показывает, что и она признавала тот факт, что никого у нее нет, а Арсений – есть.
V
Только одного они не учли: горбольница не могла держать вечно и саму Женю. Курс лечения подходил к концу, состояние ее стало вполне удовлетворительным, и перелом ноги явно не являлся достаточным основанием для дальнейшего пребывания в стенах травматологии. Физиолечение, массаж и ЛФК можно было проводить амбулаторно.
Женя лично сообщила об этом Арсению, и уже не в первый раз за последние недели у него возникло чувство растерянности и собственной бесприютности. Как будто все рассыпалось в руках и обращалось в пыль, а пыль, песчинка за песчинкой, разлеталась с ветром.
– Это хорошая новость, – грустно улыбнулся он. – Выписываться все же лучше, чем наоборот.
Женя неопределенно хмыкнула.
– И куда ты поедешь?
– Домой.
– К матери? – он внезапно испугался, что это и есть конец, что она уедет в свой родной поселок, и они уже не смогут видеться часто. В ответ Женя нахмурилась:
– Нет. Туда я больше не вернусь. Я уехала однажды, зачем наступать на те же грабли?
– Значит, ты имеешь в виду квартиру в доме-корабле…
– Дом-корабль? Так его зовут? – оживилась она, и ее лицо осветилось, будто пятна солнечного света скользнули по глазам.
– Да, так называют… Только, Жень… Я думал, ты знаешь. Хозяйка сдала твою квартиру. Тебя не было почти четыре месяца, она и решила, что ей невыгодно ждать. Мне в полиции об этом сообщили, они ведь с ней связывались. А вещи твои у нее в кладовке лежат, их можно забрать, когда тебе удобно. Она сказала, что это не к спеху.
Женя упрямо поджала губы:
– Вот как. Ладно.
– Если хочешь… – он едва не предложил переехать к нему, но вовремя опомнился. – Я мог бы подыскать тебе новую квартиру. И снять ее на пару месяцев. Кое-какие сбережения у меня есть, так что без проблем… А ты потом отдашь, когда-нибудь.
– Нет. Не надо.
По тону он понял, что настаивать не нужно.
К удивлению и вящей радости Гаранина, после выписки Женя поселилась в сторожке у Максимыча. Это было даже удобно, ей не придется ездить через весь город на процедуры. А сам Арсений мог каждый день видеть ее на прогулке в обеденный перерыв. Он смущался и отчитывал себя длиннейшими внутренними отповедями, думая, что, должно быть, выглядит смешно, ежедневно изобретая новый предлог для случайной встречи, но ничего не мог поделать с собой. Каждый день около полудня его охватывало такое воодушевление, что вслед за ним веселели даже санитарки. Он воспользовался своей привилегией заведующего и перестал выходить на ночные дежурства, только бы не проспать ни одной обеденной прогулки.
Так в город пришла зима.
Гипс с Жениной ноги сняли, и она рьяно принялась разрабатывать ее, превозмогая боль и наворачивая круги по больничному саду. Максимыч еще тщательнее, чем прежде, чистил дорожки, чтобы нигде ненароком не образовалась наледь. Перед дождем или снегопадом Женя страшно мучилась мигренью, а свежие переломы ныли, и тогда Максимыч клал ей на лоб и глаза мокрое полотенце, а Арсений просил Ромашку сбегать в сторожку и поставить болеутоляющий укол. Сам он к Жене не притрагивался.
Из обрубков рябины, спиленной после смерти Сани Архиповой, Максимыч вырезал фигурки. Для Мишки он смастерил свистульку, которая издавала оглушительно-пронзительный звук. Случайность или нет, Арсений отметил, как метко привратник подгадал с подарком, ведь после травмы мальчику было полезно тренировать легкие дыхательной гимнастикой. Жене досталось тоненькое рябиновое колечко на мизинец – взамен того латунного, с которым ее когда-то привезли на «Скорой» и которое девушка теперь не надевала. Кроме этого, Максимыч подарил ей два резных гребня:
– Это тебе на будущее, впрок. Отрастишь косы, будешь носить.
– А вдруг я решу оставить короткую стрижку? – девушка коснулась отрастающих во все стороны черных волос. Оттенок у них оставался прежний, птичий, почти с отливом в синеву. Женя постепенно становилась похожа на растрепанного галчонка. В ней будто смешивались испуг, настороженность и любознательность, вероятно, присущая от природы.
– Ну нет уж, не оставишь. Я тебя знаю, – заявил Максимыч, и его смуглое, широкое и плоское, поросшее седой щетиной лицо сморщилось от плутоватой улыбки.
Арсений собирал и хранил эти мимолетные и хрупкие, как подснежники, приметы ее выздоровления: кокетливый жест, которым она сейчас коснулась головы, или шутку, оброненную дней пять назад, или еще тихое мурлыканье, – Женя пела про себя, о чем-то размышляя, и перекатывала по ладони крепкие бурые желуди. Эти проблески были редки, и большую часть времени Женя хранила молчаливую задумчивость.
Для самого Гаранина Максимыч вырезал из рябины четыре фигурки обезьян. Правда, если бы не характерные жесты (одна из них закрывала лапами глаза, другая – уши, третья – рот, а четвертая – живот), Арсений принял бы их, скорее, за упитанных медвежат.
– Вы, Максимыч, мало того что художник, еще и философ! – поразился Арсений. Привратник языком переложил папиросу из одного угла рта в другой:
– В мое время, Арсений Сергеич, всякий уважающий себя дворник был минимум интеллигентом и максимум философом.
– А не уважающий?
– А не уважающий, как всегда, – просто алкашом.
Арсений поставил обезьянок на подоконник в кухне. Он смотрел на них по утрам, допивая кофе, и все думал об их значении. Удивительно: Максимыч знал, что изначально обезьянок было не три, как всем известно, а четыре, включая прикрывающую живот обезьянку Сидзару. Тогда он, верно, знает и их истинное значение? Западные люди часто воспринимают обезьянок из Никко как эдакого страуса, мол, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу, и вообще я в танке, не трогайте меня, и я вас не трону. Но восточная философия Пути, Дао вкладывала в них иной смысл. Совет не допускать зло в свои глаза и уши, не говорить неправедного и не творить зла, ибо все это есть осознанное решение самого человека, а не обстоятельств и судьбы. Осознано ли Максимыч нес ему свое послание через четвертую обезьянку?
«Не делай зла».
Незадолго до праздников Арсений встретил ее на дальней аллее одну. Точнее, он целенаправленно искал ее по всему саду, пока Максимыч, сгребавший мокрый липнущий снег (из такого только снеговиков катать) на подъездной дорожке, не указал нужное направление. Арсений подошел к ней в ту самую минуту, когда Женя, склонив голову набок, рассматривала старый фонтан. На макушке каменного паренька сидела ворона и каркала, сварливо и однообразно. Женя живо обернулась на звук шагов, и ворона, гулко захлопав крыльями, перелетела на ветку тополя.
Они поздоровались, обменялись привычными любезностями, Арсений расспросил ее о самочувствии. Женя отвечала уклончиво и рассеянно, и когда поток его вопросов иссяк, решительно повернулась к нему, опираясь на здоровую ногу и воткнув костыль покрепче в сугроб.
– У тебя такой вид, будто ты что-то задумала. Говори, – велел Арсений, внутренне замирая.
Она послушалась.
– Ты хороший человек, Арсений. И я очень ценю то, что ты для меня сделал. Я понимаю, что ты поступал так только из добрых побуждений, потому что не обязан был… вообще. И ты меня спас, спас мою жизнь… несколько раз. Я хочу, чтобы ты знал – я это понимаю. Правда, понимаю. Но я…
Она вздохнула и посмотрела на Арсения умоляюще. Ее руки сцепились в замок и побелели от напряжения, а брови сошлись над переносицей.
– Арсений… – она вздохнула еще раз.
– Говори, Женя. Договаривай.
– Ты так ходишь за мной! Я постоянно чувствую, что ты… как будто следишь! И я понимаю, что ты просто присматриваешь, заботишься. Но ничего не могу поделать. Мне постоянно кажется, что это не ты, а… он. Следит за мной. Я ведь чувствовала, что в тот день за мной кто-то идет. Но…
– Мартынов в тюрьме. Ему дали пожизненное.
– Я знаю, – прошептала она.
Арсений потоптался на одном месте. Поднял с дорожки влажный, полуистлевший лист клена, покрутил его за черенок, бросил.
– Спасибо, что ты говоришь это и не пытаешься свыкнуться из вежливости. Прости меня. Я совсем не подумал, что может показаться, будто я тебя преследую.
– Наверное, так и не показалось бы. Нормальной женщине, – она с горечью кусала нижнюю губу.
– Но ведь Максимыч… его ты не боишься?
– Я и тебя не боюсь. Просто Максимыча я узнала уже после всего. Тот психолог, которую ты приводил… Это я с ней не общалась, а она со мной – очень даже. И она кое-что интересное мне посоветовала. Она сказала, что иногда жертвам изнасилования становится легче, если общаться с мужчинами, просто так, с каждым понемногу. Чтобы удостовериться, что они не дикие звери, что они такие же люди. Но здесь не так уж много мужчин. Так что я выбрала Максимыча, а Мишка сам прилип. Но ты… ты слишком связан со всем тем, что было. Понимаешь меня?
Женя договорила и принялась пристально вглядываться в него, стараясь ничего не упустить.
А он… Ему надоело притворяться. Держать лицо, страшась, кто что подумает. Большая часть его жизни, возможно, уже прошла, и почти впустую. Стоит ли продолжать поступать, как положено: с оглядкой, со страхом? Он вздохнул и решил признаться. В конце концов, что он теряет?
– Ты стала мне очень дорога, Женя. Здравый смысл велит мне оставить тебя в покое, но… Я не могу перестать думать о тебе.
– Почему?
Он крепко задумался и стал говорить медленнее:
– Знаешь… Она всегда казалась мне ненастоящей. Моя жена. Как будто придумала то, какой будет, и до последнего играла свою роль. С той самой минуты, когда впервые увидел ее, – помнишь, я рассказывал? – сидящую за прялкой, я подумал, что не хватает только пляшущего зайца. Пожалуй… Да, я все-таки скажу. Пожалуй, настоящей она была только перед самой смертью. Когда у нее слиплись вены, а от отеков на коже оставались вмятины, если надавить пальцем. Только тогда у нее был полностью осмысленный взгляд. Безнадежный, сдавшийся. Но по ней сразу было видно, что она полностью понимает, что происходит, и отдает себе в этом отчет. А ты…
– А я сразу предстала такой. Изуродованной.
– Настоящей. Ты дышала, и твоя кровь, твое сердце, когда вставало в «Скорой», и его снова запускали… Все это не лгало. Может показаться, что я говорю чушь, бред, как ты мне уже заявила однажды, но… Мне кажется, что ты вышла из комы не просто так. Это случилось лишь после того, как арестовали Мартынова. Как будто твое тело только тогда дало себе приказ оживать. Даже в этом ты не солгала. И сейчас ты такая же, нисколько не кривишь душой. Такая, какая есть.
– Ты что, извращенец? Тебе нравится видеть людские страдания?
– Нет. Нет, вряд ли. Хотя теперь уже не знаю, я ведь реаниматолог. Я лучше других вижу, что, пока человек страдает, он все еще жив. А мне нравится знать, что человек жив. Так что сама разбирайся.
– Нет, ты точно псих. Ладно. Знаешь, что? Мне ты можешь говорить что угодно. А вот имя жены больше не трепи. Оставь ее. Она уже ничего не может сказать, чтобы объясниться. Оправдаться. Да и ты… шанс поговорить с нею ты упустил, сам. Прими это, тебе с этим жить, а не ей. Она уже отмучилась. И я уже отмучилась, кстати.
– Только она умерла, а ты очнулась.
– Да.
Погруженный в себя, Арсений добрел до служебного входа. Дверь в котельную оказалась приоткрыта. Он машинально бросил туда взгляд и обомлел, узнав и мужчину, и женщину, соединенных в эту секунду страстным поцелуем. Олег Лискунов вжимал в стену возле котлов Ромашку.
Она с тихим смешком вырвалась из объятий:
– Мне пора бежать. Вечером, да?
– Да.
Арсений незаметно прикрыл дверь, чувствуя себя совсем разбитым.
Ромашка обогнала его на лестнице.
– Вера, – окликнул он. Медсестра обернулась:
– Да, Арсений Сергеич?
В ее лице еще таяли приметы любовного восторга, и поверх них восстанавливалась маска профессиональной вежливости. В другое время, прежде, он мог, наверное, попросить ее не смешивать работу и удовольствие или потребовать обещания, что служебный роман никак не отразится на выполнении ее должностных обязанностей. Сейчас он просто хотел взвыть: «Вера, милая, да ведь это прохвост Лискунов! Его жена Катя снова будет страдать, а ты сама не раз умоешься слезами, и из-за кого? Из-за этого? Все же знают, что женщинам с Лискуновым связываться нельзя… И ладно другие, но ты, Вера…»
– Нет… Ничего.
Больше он не выходил гулять в обед. Два раза в неделю он ездил за Мишкой и виделся с Женей только вместе с мальчиком. А на новогоднюю ночь взял дежурство и до утра простоял на операции: ампутировали руку, развороченную неудачно взорвавшимся фейерверком. В полпятого, еще чувствуя в носоглотке сладость фторотана, а в коленях закостенелость от долгого стояния, он вышел на улицу. Порхал снег, и фонари с оранжевым свечением вокруг были похожи на большие диковинные зимние одуванчики. Гаранин прошел до сторожки привратника, оставляя на свежевыпавшем снегу одинокую цепочку следов, и долго смотрел в единственное, темное еще оконце.
Это забытое чувство… Он думал, что никогда больше уже не почувствует такого. Как будто кто-то набрал лопатой пепельно-красных угольев из самой сердцевины костра и ссыпал ему запазуху. Или куда-то глубже, так, что не проглотить и не выплюнуть. Не в желудок. Скорее, в легкие, потому что больно дышать, все внутри жжет, особенно на вдохе. Вспомнилось не к месту, как двадцать один год назад профессор Вдовин, смешной старичок, преподававший оперативную хирургию, поведал, безуспешно дергая фрамугу рассохшегося окна, что смерть от утопления считается одной из самых болезненных: в легкие затекает вода и ощущается при этом, как тяжелый, неподъемный бетон в груди, только нестерпимо горячий… Вот и у Гаранина чувство было схожее, только тонуть он не собирался, и легкие разворачивались раз за разом, наполняя воздухом каждую альвеолу. Он знал, что так болит от тоски по любимому человеку, только почти забыл, каково это.
VI
– Держись-держись! – подбадривал Гаранин. – Не откидывайся, корпус только вперед! И колени согни.
Мишка впервые в жизни стоял на коньках. Они с Арсением держались за руки, и глаза у обоих были сумасшедшие и совершенно восторженные.
Позади были долгие уговоры («Не пойду!» – «Почему не пойдешь?» – «Не пойду, и все! Не хочу» – «Как ты можешь не хотеть того, чего не пробовал?» – «Это что, обязательно?»), изнурительные сборы и даже покупка новой шапки. Женя, одетая в два свитера под куртку и замотанная красным шарфом так, что видно было лишь глаза и нос, наблюдала за ними с той стороны бортика, иногда отходя посидеть на скамейке в теплой раздевалке.
– Смотри, я еду! Ты видела, видела? – верещал ей Мишка, со всей дури влепляясь в бортик и хватаясь за него руками, чтобы не упасть.
– Мишка, ты почему без варежек? – напускалась она на него.
– Жарко!
Его новая шапка давно съехала на самый затылок, волосы прилипли к вискам, а физиономия горела огнем. Он выискивал глазами Гаранина и следил за ним, приоткрыв рот от восхищения. Едва переведя дух, мальчик снова пускался в бой, сражаясь с непокорным льдом, на котором разъезжались ноги. За время его передышки Арсений успевал намотать пару кругов. Он боялся, что за долгие годы перерыва растерял все навыки, но с облегчением осознал, что это не так. Мастерство никуда не делось, на то, чтобы его освежить, понадобилось десять минут, и теперь он подлетал к Мишке, эффектно тормозя боком лезвия и останавливаясь с резким поворотом. Из-под конька вырывался сноп снежных искр.
Первые коньки ему купила бабуля Нюта, заметив, с какой увлеченностью Арсений болел за хоккейную сборную. Проведя несколько выходных на городском катке с утра до ночи, он сам записался в спортсекцию по хоккею и через пару лет уже играл за юношескую сборную района. В то время ему отчаянно хотелось увидеть своих родителей на трибунах. Но они не пришли даже на финал, когда его команда стала чемпионом города. Придя домой после той игры, он получил только тарелку рассольника и просьбу сесть за уроки и вести себя тихо: папа устал на работе. Медаль Арсений тем же вечером засунул в щель за платяным шкафом и с тех пор не видел.
– Научи меня так тормозить! – изнывал Мишка. Гаранин показывал, Мишка пробовал и, нырнув рыбкой вперед, падал.
– Эй, друг. Всему свое время. Сперва надо держать равновесие и укрепить ноги. Все дело в мышцах. Погнали десять кругов!
И они, помахав улыбающейся из-под шарфа Жене, отъезжали от бортика. Пока Мишка осторожно семенил по льду, Арсений петлял вокруг него, потом принимался катиться спиной вперед прямо перед мальчиком, прокладывая ему путь.
Да, отчасти он красовался. Да не мог он не покрасоваться! Лед доставлял ему удовольствие, но куда большим наслаждением было видеть восхищение в большущих распахнутых глазах Мишки. Ради этого взгляда Арсений готов был начать прыгать тройные аксели, если б был хоть один шанс, что это получится. Мишка заливался звонким смехом, какой бывает только у детей, и в эти минуты на свете не существовало ни горя, ни болезней, ни общей детдомовской спальни с холодной водой в умывальнике, с забиякой Витькой на кровати слева и мычащим Саввой на кровати справа, – лишь матовый блеск свежего льда и горящие на морозе глаза.
Вечером этого дня Гаранин приехал к своим родителям.
На пенсии Сергей Арнольдович сильно постарел. Несмотря на то, что он еще преподавал в институте на полставки, на него вдруг навалились стариковские хвори, и мать теперь то и дело кипятила травяные чаи, готовила припарки для больных суставов и промывала наконечник для клизмы. Сам Гаранин-старший проводил дни, читая районную газету и перещелкивая телевизионные каналы, и норовил при случае втянуть сына в политические дебаты. С Еленой Николаевной он дела в стране не обсуждал, считая, что у женщин не хватает на это ума.
После ужина Арсений зашел в кабинет отца и притворил за собой дверь. Здесь все осталось так же, как и прежде, во времена его далекого детства: тот же кожаный диван, уже изрядно потрепанный, тот же абажур настольной лампы. Отец покосился на сына поверх очков.
Арсений стоял посреди комнаты, зная, что не может сесть в кресло. Иначе ничего не значащие разговоры отвлекут его, как уже было не раз, и он не скажет самого главного, за чем и приехал сегодня.
– Пап. Я тебя люблю.
Сергей Арнольдович ничего не ответил. Только поджал губы и продолжил смотреть поверх очков, словно дожидаясь чего-то действительно важного. Вопроса или известия. Но у сына не было для него никаких новостей.
Помолчав, Арсений кивнул и вышел.
Елена Николаевна проводила сына до остановки. Она сильно располнела в последнее время и плохо ходила из-за обострившегося варикоза, но отказывалась его лечить, как и большинство врачей ослепляемая мнимым бессмертием.
В поздний час троллейбусы ходили редко, и она замерзла в худеньком пальтишке. Арсений отдал ей свои перчатки, а сам сунул руки в карманы.
Вот и сменилось поколение, думал он. На это ушло много лет, но никто и не заметил, как именно все произошло. Хотя должны были.
– Ира однажды призналась мне, что… – пробормотал он негромко, зная, что мать слушает. – Она спросила тебя, почему ты никогда не целовала меня, когда я был маленький. Не обнимала. Помнишь, что ты ей ответила?
Мать дернула плечами:
– Ты это к чему?
– Так. Просто. Ты ответила, что мальчиков нельзя много ласкать. Чтобы у них не возникало раньше времени полового влечения. Так ты ей ответила?
– Не знаю! К чему вообще этот разговор?
Из-за поворота показался троллейбус. Арсений повернулся к матери и крепко обнял. Ее плечи казались костяными.
– Я люблю тебя, мама. Ты знаешь?
– Что-то случилось? Арсений, что такое?
– Ничего. Просто я тебя люблю.
– Конечно. Я тоже тебя люблю. Смотри, твой троллейбус, – засуетилась она.
Телефон зазвонил около двух часов ночи. Гаранин разлепил глаза, боясь, что сейчас вызовут в больницу и придется вылезти из нагретой постели, – хотя внутренне уже был к этому готов.
Но звонила мать. Арсений сел на кровати, прислонившись спиной к холодной стене.
– Мама?
– Привет. Слушай. Что ты такое сказал отцу?
– А что?
– Просто признайся, что ты ему сказал?
– То же, что и тебе.
– Наверное, было что-то еще, Арсений, подумай хорошенько. Он был в ужасном состоянии после твоего ухода! Кричал весь вечер. Все у него кругом были виноваты. На меня сорвался, к соседям пошел разбираться, почему шумят… Потом подскочило давление, гипертонический криз. Пришлось колоть папаверин.
– Как он сейчас?
– Полегчало, спит. Что ты ему сказал?
– Мам, я не сказал ему ничего, что могло бы его рассердить.
– Ты уверен в этом?
– Абсолютно. Спокойной ночи, мама.
Наутро Арсений первым делом отправился в детский дом и попросил позвать Мишку. Мальчик вышел к нему в растянутой майке, из-под которой торчали косточки ключиц, и Гаранин понял, что этот юный человек, возможно, впредь всегда будет относиться к неожиданным появлениям своих знакомых настороженно, опасаясь дурных новостей.
– Миш… Я хочу тебя кое о чем спросить. Ты хотел бы жить со мной? Не здесь, а у меня?
– Ты хочешь забрать меня к себе?
Мишка залез пальцем в нос, выковырял оттуда козявку, деловито обследовал со всех сторон и съел. А потом с вызовом взглянул Арсению прямо в глаза, мол, ну, что скажешь на это, взрослый серьезный дядя?
– Хочу. Если ты не против.
Мальчик заколебался. Он обернулся на дверь, за которой скрылась воспитательница.
– И ты что, будешь моим новым папой, что ли?
Арсений покачал головой:
– У тебя уже есть один папа. Я не могу его заменить. Ты его сын, у тебя его фамилия, и так будет всегда. Но я хочу заботиться о тебе.
– Тогда ладно, – важно кивнул Мишка. И взглянул вопросительно.
– Ты уверен? – пришлось уточнить.
Мальчик кивнул еще раз. А потом отвернулся и тихо всхлипнул. Арсений опустился рядом с ним на колени и крепко-крепко прижал к себе.
VII
На оформление опеки над Мишкой ушло больше времени, чем можно было надеяться. Каждый раз, возвращая его обратно в приют, Арсений едва мог уговорить себя уйти.
С Женей они встречались по-прежнему только втроем.
Чем больше Арсений узнавал настоящую Женю Хмелеву, тем больше росло его уважение к ней и его нежность тоже. Когда-то, стоя над ее кроватью, он представлял, как тяжело ей будет входить в колею нормальной жизни, и часть его страшилась, что девушка никогда не сможет восстановиться. Он и сейчас не знал, что творится внутри нее, но то, с какой осознанной целеустремленностью она шла вперед, его завораживало.
Использовав жизнь в сторожке Максимыча как передышку, она при первой возможности сняла новое жилище (хватило только на комнату в общежитии завода «Электроприбор»), перевезла туда вещи из дома-корабля и на следующий же день, опираясь на тросточку, отправилась на работу в кофейню. Но к вечеру уволилась:
– Там меня впервые встретил этот… Мартынов. Я помню, за каким столиком он пил свой ромашковый чай. Не хочу там больше работать.
Теперь Гаранин замечал, как тщательно она выполняет все предписания психолога: не замалчивать, не стыдиться, не жить прошлым, не винить себя. Не прошло и недели, как она отыскала новое место в кафе-мороженом «Василек», что располагалось на площади. В общежитии кухня была общей на этаж, так что девушка с утра до ночи сидела в «Васильке» и экспериментировала, как сумасшедший ученый в лаборатории. Директор кафе, Алевтина, души в ней не чаяла, сразу раскусив, что этот человек – настоящая находка для заведения.
Когда Арсений привозил туда Мишку, Женя выставляла перед ними несколько металлических вазочек:
– Ну-ка пробуйте. И честно говорите, что да, что – нет.
И ее серые глаза пытливо смотрели, смотрели, смотрели!
Откуда у нее хватало фантазии? Это был новый мир вкуса и холода. Лавандовое мороженое с изюмом и черникой, мятное мороженое с белым шоколадом, крем-брюле с малиной, банановое с миндалем, кокосовый пломбир и даже мороженое с пармезаном и перцем. Жаренные в кукурузных хлопьях шарики пломбира произвели на кухне фурор. Основным блюдом к ним шел черничный суп.
– Кто сказал, что жизнь быстротечна? – шутила она, облизывая ложку. – Мороженое – вот что быстротечно!
Они виделись по средам и воскресеньям. Мишка уплетал мороженое, Женя требовала от него объяснений, почему одно нравится ему больше, а другое меньше, и тот удивлялся и хохотал:
– Просто одно вкусное, а другое – так! Вообще у меня вот это любимое, со вкусом огурца.
Оба черноволосые, они оказались одной крови.
Когда креманки были выскоблены, а в случае с Мишкой – и вылизаны, они втроем с Гараниным просто сидели за столиком и болтали. Мишка увлекся динозаврами, и Арсений рассказывал каждый раз что-то новое – то о трицератопсах, то о трилобитах. Он настаивал, что узнал все это из институтского курса зоологии, но Женя подозревала, что для этих импровизированных палеонтологических экскурсов ему приходится готовиться накануне по книгам. И с улыбкой оставляла свои догадки при себе.
В первое воскресенье марта она тоже ждала Арсения с Мишкой. Обычно они приходили около двух, но часы на площади пробили четверть третьего, потом половину, а их все не было.
При взбивании сливки почему-то свернулись и отсеклись от жидкости неприятными творожистыми хлопьями.
– Черт!
Женя отпихнула миску и сунула венчики под воду. Еще несколько раз выглянула в зал, прошла до входной двери и поискала их снаружи, по ту сторону стеклянной витрины. Но ни высокой фигуры Арсения, ни Мишкиной шапки с помпоном на площади видно не было.
Когда в кафе послышались три удара уличных часов, Женины руки уже подрагивали, а в голове больно стучали молоточки. Она выпила таблетку, не сумев сразу проглотить из-за тугого узла, свившегося под ребрами.
Что-то стряслось.
А может быть, ничего не произошло, и это еще хуже. Может быть, они просто забыли про нее. Арсению надоело сдувать с нее пылинки, и он решил, что и так уже много сделал и теперь вполне обойдется без Жени Хмелевой. И ведь правда – обойдется! Тем более она ведь теперь уродина, с этим штопаным черепом, шрамом во всю щеку, с которого еще не сошла свежая краснота, и в очках, потому что руки не слушаются пока настолько, чтобы вставлять контактные линзы. У Арсения есть все основания забыть о ней, как о страшном сне.
Словно в подтверждение ее страхов, зеркальная панель в зале отразила ее целиком, растерянную, опирающуюся на тросточку, измученную… Насмешка над природой, а не человек.
На ее глаза навернулись слезы. Жене стало вдруг так страшно, так ужасно тоскливо, что она бросилась в кабинет Алевтины, только бы не оставаться наедине со своими мыслями.
– Женька, ты чего белая как смерть? Болит что?
– Нет-нет, все в порядке.
Она не знала, что сказать.
– Аля, можно я уйду пораньше?
– Сейчас?
– Да. Если можно. Голова болит.
Хозяйкины брови поползли вверх:
– Ты же только что сказала, что ничего не болит…
Женя смутилась, чувствуя, как внутри нарастает паника – словно снежный ком, несущийся с горы, на который налипает всякая гадость.
– Ну да, голова болит.
– Иди.
Она выскочила на улицу, едва запахнув пуховик. В эту секунду город казался ей незнакомым, она впервые видела эти улицы, эту площадь. Куда идти?
Она закусила губу, но все равно не смогла сдержаться. Перед глазами все плыло, и казалось, будто мостовая выгибается горбом и вот-вот ноги заскользят и свалятся с ее круглого края.
Тогда Женя побежала. Она неслась что есть сил, хромая, чувствуя, как ноет кость, как скользит наконечник трости по гололеду, но боясь хотя бы чуточку сбавить шаг. Только бы успеть. Только бы не опоздать. А вдруг он уехал? Уволился и уехал. А что, ведь это очень возможно, она сама однажды бросила все и отправилась на поиски лучшей жизни! И что из этого вышло?
Подбегая к горбольнице по знакомой дорожке, Женя тряслась и чуть не подвывала. Она почти уверила себя, что Арсений Гаранин уехал, и она никогда больше не поймает его спокойного голубого взгляда, от которого ничто не укроется, не увидит, как мудрено он завязывает шнурки и как трет от усталости переносицу. Что Мишка никогда не засмеется перед ней, запрокинув голову на тоненькой шее…
– Арсений Сергеевич Гаранин, где он?!
Медсестра, выходящая из реанимации, от неожиданности схватилась за сердце:
– Господи. Зачем пугать-то? Я не знаю, где он. Нет его сегодня.
«Нет его сегодня», повторила про себя Женя, еще больше утверждаясь в самых страшных подозрениях. И, едва не оступившись, побежала по лестнице вниз.
Перепуганная трель дверного звонка разорвала дремоту квартиры. Арсений, тщетно пытавшийся сосредоточиться на книге, вздрогнул в кресле.
Это было плохое воскресенье. Два дня назад детский дом, где все еще вынужден был жить Мишка, закрыли на карантин из-за вспышки краснухи. Сам мальчик не заболел, но без него Арсений не мог увидеться с Женей. Хуже всего было бы снова выслушать от нее просьбу оставить ее в покое. Так что Гаранин просто слонялся по дому, не имея ни малейшего представления, чем себя занять. Пока дверной звонок не захлебнулся в панической атаке.
Арсений поспешно прошел в коридор, долго возился с замками и, наконец, распахнул дверь.
На пороге стояла Женя. Без шапки, в распахнутом пуховике. С дрожащими губами, которые никак не могли выговорить ни слова.
– Женя?
Вместо ответа она всхлипнула и, перешагнув через порог, уткнулась лицом в его грудь.
– Я думала, ты ушел. Что тебя больше нет. Что никого больше нет, – прорыдала она с отчаянием.
– Я здесь. Ну что ты, родная, я рядом. И всегда буду.
Когда-то он просил Саню Архипову не давать воли слезам. Это не помогло. И теперь Арсений осторожно обвил руками содрогающиеся Женины плечи и прошептал, ткнувшись губами в покрасневшее от мороза ухо:
– Поплачь… Поплачь, станет легче.
И она плакала, а он обнимал ее, чуть покачиваясь из стороны в сторону.
Минуты через три, когда Женя затихла и отстранилась, вытирая лицо, Арсений взял с тумбочки небольшой бумажный кулек.
– Подставь ладони.
Женя осторожно сложила ладони лодочкой, и из шуршащей бумаги выскользнуло несколько зерен горького миндаля.
– Это нам. Для настоящего марципана.
– Надо подождать Мишку. Будем делать все вместе.
– Да. Обязательно.
Ракушка с розовым, зефирным нутром. Он осторожно приложил ее к уху. И там, за привычным шумом гудящей крови, вдруг расслышал лепет далекого океана, сонно набегающего на берег, волна за волной, волна за волной. Арсений слушал морское дыхание и чувствовал, что впервые за всю жизнь слышит правильно.
А потом, осторожно вернув ракушку на место, прилег рядом с Женей, затаив дыхание. Только расстегнул верхнюю пуговицу на своей рубашке, чтобы ворот не сжимал горло.
Он очень боялся ее разбудить. Она лежала в одежде, завернутая в покрывало, как гусеница в кокон. Ее кожа побледнела от сна, рот был чуть-чуть приоткрыт, а ресницы, светлые на кончиках, едва заметно вздрагивали от проживаемых под ними видений. Он смотрел на ее лицо и не мог перестать смотреть, и вдруг подумал о том, что человек без человека – ничто, пустышка, потому что все люди на земле – свидетели. Свидетели бытия друг друга. Как зеркала, которые просто куски стекла с амальгамой, пока в них не отразится чье-нибудь лицо.
Примечания
1
Имеется в виду ургентное состояние здоровья человека, т. е. критическое (прим. ред.).
(обратно)2
ОРИТ – аббревиатура: отделение реанимации и интенсивной терапии (здесь и далее прим. автора).
(обратно)3
Иосиф Бродский, «Часть речи» («Я родился и вырос в балтийских болотах…»)
(обратно)4
А. С. Пушкин, из стихотворения «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…».
(обратно)5
Стихотворение Н. И. Рыленкова.
(обратно)6
Варган – музыкальный инструмент, при игре на котором губы и ротовая полость служат резонатором.
(обратно)7
Психопомп (греч. «проводник душ») – в мифологии и религии термин для обозначения существа, ответственного за сопровождение душ умерших.
(обратно)8
Строчка из песни «Опиум для никого» группы «Агата Кристи».
(обратно)9
Мешок Амбу – ручной аппарат для искусственной вентиляции легких.
(обратно)10
Имеются в виду 2 медицинских случая: эксперимент в городе Таскиги, Алабама (США) 1932–1972 гг., вследствие которого многие пациенты не получали лечения от сифилиса, заразили своих жен и детей и умерли; и жизнь Дэвида Веттера (1971–1984), страдавшего от редкого заболевания и прожившего всю жизнь в стерильной среде. Существует мнение, что врачи еще до рождения Дэвида знали о наличии заболевания и невозможности ребенка жить в обычной среде, и уговорили родителей пойти на медицинский эксперимент.
(обратно)11
Испания (прим. ред.).
(обратно)

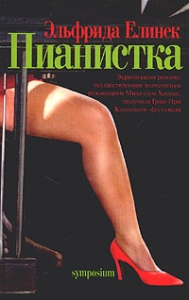




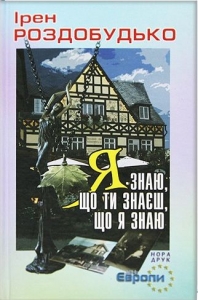
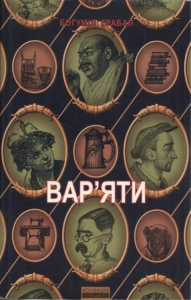


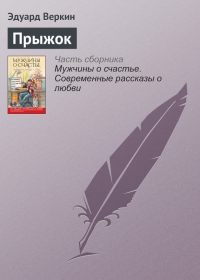
Комментарии к книге «Десерт из каштанов», Елена Вернер
Всего 0 комментариев